Часть первая ОБРЕТЕНИЕ ЛИЧИНЫ
1. Самострел против лука
В кузне до того было жарко, так остро пахло гарью, окалиной, еще чем-то едким, проникающим в горло, даже в легкие, что любимый Владигором дружинник Бадяга Младший то и дело дергал себя за вышитый красной нитью ворот нарядной рубахи, дул на свою волосатую грудь, желая хоть немного охладить себя, проводил по мокрому затылку рукой. Казалось, еще минута, и он, знатный, смелый воин, выходивший в бою один против десятерых, упадет здесь замертво от жары, вони и частого, громкого стука молотов.
Младшим Бадягу прозвали еще в отрочестве, потому что нужно было отличить парня, уже не раз показавшего себя в сражениях, от отца, которого, так уж получилось, тоже звали Бадягой. К тридцати годам Бадяга Младший, когда уже не было на свете Бадяги Старшего, превратился в коренастого, даже толстоватого мужа с густющей бородой, с шишковатым носом и страшным рычащим голосом, а поэтому прозвание Младший казалось многим совсем неподходящим для могучего, свирепого в бою дружинника. Но тот сказал однажды строго, обращаясь к пытающейся шутить над именем его ратной братии:
— Не замай. Как отец прозвал, так и будет!
И вот сейчас стоял Бадяга в кузне, пыхтя и отдуваясь, и никак не мог понять, зачем он позван сюда Владигором. Сам же князь, раздетый по пояс, но с кожаным фартуком, прикрывшим грудь, с блестящей от пота кожей, под которой гуляли, бугрились мышцы, с волосами, перехваченными тесемкой, все ковал и ковал с тремя подручными наконечники для стрел, не желая замечать страданий Бадяги.
Дружинник же видел, что наконечники выходят какими-то чудными — вроде бы и для стрел, но совсем другого вида: тяжелые, почти как для дротика, иные — изогнуты, как полумесяц, с рогами, выгнутыми в направлении полета стрелы, другие — будто срезаны ножом, тупорылые, но с острой по кругу кромкой. Никогда раньше не видел таких чудных наконечников Бадяга. Зачем такие?
Владигор же все ковал и ковал без устали. Выхватит из горна клещами раскаленную болванку, прошепчет что-то, отвернувшись в сторону, положит на наковальню — и пойдет охаживать молотом раскаленную докрасна железку так, что искры летят. Поворачивает направо и налево, вверх и вниз, мнет ударами металл, и глядишь, через малое время в клещах и не болванка вовсе, а новый наконечник.
На поддон его бросает — тут уж наконечник клещами берет подручный, снова к огню несет, вновь раскаляет докрасна железо и для закалки опускает быстро в чан с какой-то жидкостью. Испаряясь, задымит она, вони в кузне прибавляя, и только после этого готовый наконечник кладется в большую глиняную мису, заполненную уж до половины.
Вдруг Бадяга, к великой радости своей, услышал, как один подручный виноватым голосом сказал:
— Господине, вышли уж болванки, нет боле…
Владигор сурово на него взглянул, сказал:
— Что, лоботрясы, поленились больше заготовить? Мало ж наковали! Вот попробуют в другой раз ваши спины каши березовой! Ну ладно, нет так нет. Огонь гасите в горне.
Увидев вспотевшего, чуть не валившегося на земляной пол кузни Бадягу, улыбнулся широко и не без лукавства:
— А, Младшой Бадяга здесь! Нарочно тебя позвал, чтоб видел, как князь работать умеет. Победа-то в бою здесь куется. Все, выходим.
Бадяга едва ли не бегом пустился прочь. На подворье княжеского дворца, где и была устроена кузница, он долго и тяжело дышал, похожий на огромного сома, вытащенного из воды. К Владигору же подошли два отрока-слуги. Один нес большой кувшин с водой, другой — льняное полотенце. Князь долго умывался, фыркал, шлепал по телу руками. Вытерся и, передавая полотенце отроку, сказал:
— А теперь бегом — неси мне кружку квасу, да смотри, налей побольше. А дружиннику Бадяге — пива крепкого, ледяного. Он запарился у нас маленько.
И подмигнул Бадяге.
Дружинник, выпив пива, ожил. Ладонью бороду утер, усы, заговорил:
— Не то худо, княже, что запарился, а тем недоволен я, за прямоту прости, что видел господина Синегорья за черной, срамотной работой. Да что ж ты, простолюдин какой, чтоб пустяками такими заниматься? Мог кому и поручить работу, коль нашла на тебя такая блажь — наконечники для стрел ковать.
Владигор посмотрел на Бадягу, наклонив голову к плечу, с сожалением, как на полоумного. Немного погодя сказал:
— Младшой, а ведь еще отец мой, Светозор, мечи ковал, заговоры знал…
— Мечи — не стрелы, дело княжеское, — махнул рукой Бадяга. — А острия для стрел в Синегорье и мальчишки делают. Эка невидаль.
Бадяга был прав. Стрельбу из луков в Синегорье любили. Даже мальчики, не износившие и первой пары штанов, такие выделывали луки и стрелы, что и взрослому воину не зазорно было из них стрелять. Деды, отцы долгом своим считали обучить сыновей рукомеслу этому. Луки делали гнутые, клеенные из нескольких полос древесных, причем до трех пород дерева шло на лук: сверху — полоса березовая, средняя — ракитовая, нижнюю же клали липовую. Мочили склейку, а после выгибали над огнем. Рукоятку делали удобной, по руке, а над нею — канавку, чтоб стрела по ней бежала.
Не меньше труда требовалось при изготовлении стрел. Городские кузнецы за небольшую плату ковали мальчишкам наконечники, но зачастую юные умельцы делали их из кости или даже из осколков кремня. Главным считалось материал для лука найти, и лучше липы или березы не было древесины — щепили полешки, выбирая те, что без сучков, потом тщательно круглили ножом и камнем, до блеска натирали сухим хвощом. Изготавливали стрелы и из тростинок крепких.
Лучше перьев сороки для стрелы не придумаешь, но годились и галочьи, и вороньи, и от всякой другой крупной птицы. Вставив перья в прорезь, крепили их рыбьим клеем, а то и просто бечевкой тонкой прикручивали.
Лук и стрелы жители Ладора готовили прежде всего для дел военных. У каждого в дому висел такой лук с полусотней стрел да с десятком запасных тетив из сухожилий бычачьих, которые хранились в особом месте, где не могли они пересохнуть или, напротив, отсыреть. Но для охоты пользовались другим луком, хоть и изготовленным подобно боевому. Дичи в лесах, что окружали столицу Синегорья, водилось видимо-невидимо, а поэтому глухарь, тетерка, заяц, кабан, косуля нередко украшали стол ладорцев.
А еще очень любили ладорцы стрелять из лука в цель. Состязания лучников, по обычаю, назначались в один из дней после сбора урожая. В умении каждого ладорца отлично стрелять из лука Владигор видел залог успеха при отражении набегов со стороны враждебных княжеств. Поэтому состязаниям придавалось большое значение, по этому случаю на поле за городской стеной ставились скамьи для зрителей и помост для князя с дружиной. Не скупился Владигор на богатые призы, главными из которых были скакун при седле и сбруе и меч. Но не только награды привлекали тех, кто стремился отличиться в меткой стрельбе, — восхищенные возгласы женщин и девушек, встречавшие каждый удачный выстрел, заставляли сильнее биться сердце лучника. И это было дороже всех наград.
— Я не для лука стрелы делаю, неужто не догадался? — похлопал по плечу Бадяги Владигор.
— А для чего же? Оно и видно, впрочем, — для таких тяжелых наконечников древки что у дротика быть должны…
Князь не ответил. Он, уже облаченный в длинную, украшенную по вороту цветными бусинами рубаху из тонкого холста, размышлял, стоит ли отвечать Бадяге, но вот, будто решившись, хлопнул по его плечу так, что дружинник покачнулся, и коротко сказал:
— Пошли!
Дворец правителей Синегорья был большим и сложным по устройству сооружением, с башнями-повалушами в три и больше этажей, с островерхими куполками, с сенями-балконами, с разноцветными кровлями, которые к тому же были самых причудливых очертаний. В обширных сводчатых, похожих на лабиринт подвалах хранились запасы пищи на случай долгой осады. Стоял дворец на холме, издалека привлекая внимание всех, кто подъезжал к Ладору. О богатстве, славе и могуществе правителей Синегорья свидетельствовал этот прекрасный дворец.
Владигор и Бадяга долго шли по переходам дворца. Шли молча. Наконец князь остановился напротив двери из толстых дубовых досок, обитой полосами из кованой меди. Толкнул ее, сам в помещение вошел и сказал Бадяге весело:
— Ну заходи. Такое здесь увидишь, чего отродясь не видел.
Бадяга, посмеиваясь про себя, вошел в большую горницу. Свет полуденного солнца лился сюда через слюдяные оконца, поэтому не нужно было и свечей, чтобы увидеть, что у больших столов хлопочут три человека — все те же подручные, что помогали Владигору в кузне. При появлении князя они оторвались от своих занятий и приняли почтительные позы.
— Наконечники, что ковали сегодня, успели насадить на древки? — спросил князь строго.
— Заканчиваем работу, господин, — ответил один из мастеров.
Владигор, подтолкнув Бадягу, сказал ему:
— Пройди вдоль стен да посмотри.
Дружинник повиновался. На дощатых стенах висело, как он сразу догадался, какое-то оружие, издалека похожее на распластанную птицу. Этих «птиц» было здесь не меньше дюжины, и все они подобны были друг другу. Бадяга руку протянул, дотронулся, пожал плечами, повернулся к Владигору:
— Не понимаю: вроде на лук похоже, только маленький какой-то, а тетива, наоборот, слишком толстая. Какой же величины зазубрину на стреле делать надобно? И зачем, скажи на милость, к луку этому деревянная колобаха присобачена? Прости, толку в таком творении не вижу никакого — безделка, сущая безделка, баловство ребячье.
И Бадяга с сожалением подумал, что Владигор, славный князь и воин, каких нигде не сыщешь, совсем одурел от безделья за последний, мирный для Синегорья год.
— Ошибаешься ты, Младшой Бадяга, — сказал князь серьезно. — Не баловство ты видишь и не безделку, а самострел. Его рисунок я как-то увидал в книге, где изображены предметы другого, будущего Времени и Мира. Книга эта — моего учителя Белуна…
Бадяга последнее сообщение прослушал без внимания и все рассматривал самострел, рассматривал с неодобрением и даже с легкой насмешкой.
— Самострел! — сказал он и усмехнулся пренебрежительно. — Что ж, он вот так сам по полю боя побежит, сам тетиву натянет и стрелку наложит, во врага прицелится да и стрельнет? А в тебя, княже, не угодит случайно?
И Бадяга, очень довольный шуткой, громко засмеялся, не боясь, что Владигор обидится. Князь и в самом деле не стал обижаться на Бадягу, он лишь дождался, покуда воин насмеется вдоволь, а после снял со стены один из самострелов и, держа его в руках, заговорил:
— Нет, Бадяга, сам он в поле не побежит, человек здесь нужен, который бы из него стрелял. Ну, гляди внимательно. Луковище таким коротким потому сделано, что из кованого железа оно, и если его согнуть, тетиву натягивая, то стрела силу для полета обретает необычайную.
— Да кто ж такую тетиву натянет одной рукой? — с сомнением спросил Бадяга. — Ну-ка, дозволь мне, княже, силу свою испытать на оном самостреле.
Бадяга взял в руки самострел и, уперев приклад в толстый живот, попробовал потянуть за тетиву, но она не поддалась, и луковище вовсе не согнулось. Бадяга побагровел то ли от натуги, то ли от смущения. Владигор с улыбкой сказал обескураженному дружиннику:
— Лук о пол упри, стопами луковище прижми и тяни теперь, да только двумя руками, не одной!
Сделав все в точности так, как велел князь, Бадяга вцепился пальцами обеих рук в тетиву, крякнул и потянул ее на себя, но лишь на полпяди продвинулась пеньковая, крученая тетива и совсем немного согнулось луковище. И снова крякнул Бадяга, не веря в то, что этот маленький, как будто для детей изготовленный, лук не поддается ему, но теперь тетива почти совсем не продвинулась, зато на рубахе дружинника затрещали швы, и, рассерженный, он бросил самострел на пол.
— Да заколдован твой самострел, Владигор! Уж если я тетиву эту не натянул, кому такое под силу?
Князь рассмеялся:
— Не огорчайся! Смотри, из какой толстой полосы выковано луковище. Немудрено, что ты его не согнул. Без особого приспособления тут не обойтись, ворот нужен…
— Да что за ворот, что за ворот? — бормотал совсем сбитый с толку Бадяга. — Стреляли всю жизнь из луков, а теперь, гляди-ка, самострел!
У Владигора между тем в руках появился странный предмет: луковище железное, короткое, и крепился к нему деревянный приклад, вдоль которого двигалась железная полоса с крюком, и вот крюк за тетиву зацепился и обратно пополз, ее натягивая, — и все потому, что Владигор ручку крутил, приводя в действие ворот. Не упирался Владигор ногами в луковище и даже, казалось, не прилагал никаких усилий, а лук между тем сгибался, повинуясь какой-то немыслимо могучей силе, и Бадяга с изумлением, к которому примешивался ужас, следил за движением тетивы, будучи уверен, что Владигору помогают то ли боги, то ли нечисть. Тетива же доползла до костяного выступа в прикладе и зацепилась за него.[1]
— Ну, видишь, Бадяжка, что делать можно, коли разумом врага захочешь одолеть, а не только силой?
— Н-да-а… — только и ответил дружинник.
Владигор продолжал:
— Оружие мое готово к бою. Хочешь посмотреть, на что оно способно?
— Обидишь, ежели не покажешь.
— Ну так ступай за мной.
Владигор, держа самострел в одной руке, двинулся к двери. Дорогой взял со стола стрелу короткую и толстую, как заметил Бадяга, и с деревянным оперением. Толкнул дверь ногой, — и вот дружинник, пройдя вслед за князем, очутился в мрачном, неосвещенном зале.
— Свечи поскорей зажгите! — крикнул Владигор, обращаясь к подручным.
Послышалось чирканье огнива, через минуту с горящими лучинами прибежали трое подручных — в дальнем конце зала одна за другой стали загораться свечи. Бадяга вскрикнул от удивления, когда в дальнем конце помещения замаячили какие-то белые фигуры, — безрукие, безликие, они стояли в ряд у противоположной стены, шагах в сорока от Владигора и Бадяги. Их было не меньше десяти, безмолвных и страшных.
— Что за чудо?! — спросил Бадяга, указывая рукой на фигуры.
Князь улыбнулся:
— Не пристало такому витязю, как Бадяга, страшиться истуканов глиняных. Я велел поставить их там, чтобы испытывать свое оружие. Увидел я в книге учителя Белуна картинку, которая подарила мне основную мысль, все же остальное: устройство механизма спуска тетивы и ворота, что служит для ее натягивания, — все пришлось самому додумывать. Правда, мои подручные мне помогли немало. Но больше всего хлопот доставили стрелы. Не знал я, какого веса быть они должны. Сила у лука железного немалая, и легкая стрела здесь не годится. Пришлось испытывать, стреляя то одной, то другой стрелой, то третьей, то четвертой. Вначале вкривь и вкось они летели, покуда не выбрал я правильного соотношения между тяжестью наконечника и древка. Оперение тоже свое придумал. Не из пера оно — вырезано из той же деревянной чушки липовой, что и древко.
— Больно долго, княже, говоришь, — пробурчал Бадяга, которому не терпелось взглянуть на стрельбу из невиданного оружия. — Хорошо бы к делу перейти…
— Можно и к делу, можно, — ответил Владигор и, уперев конец приклада в правое плечо, поднял самострел на уровень подбородка.
Целился князь недолго. Легко надавил на рычаг спуска — толстая пеньковая тетива, толкнув стрелу, взрезала воздух с шумным хлопком. Стрела унеслась и через миг чмокнула, угодив в вязкую, еще не затвердевшую глину.
— Вроде бы попал! — с радостью, будто он сам стрелял, воскликнул Бадяга. — Вот бы глянуть!
Опережая Владигора, дружинник вразвалку, как медведь, потрусил к фигурам. Подошел к одной, к другой, быстро осмотрел всех болванов, даже ощупал их руками, а потом насмешливо сказал, поворачиваясь к Владигору:
— Видать, зря тратил время, княже. Криво твой самострел стреляет, даром что железный!
И загоготал, довольный, что самострел оказался никудышным и князь потерпел поражение, доказывая превосходство нового оружия над луком.
— Не спеши, Бадяга, самострел ругать, — спокойно заметил Владигор. — Как же ты мог на этом вот болване дырку не заметить?
Князь шагнул к одной фигуре и пальцем указал на отверстие там, где на глиняной голове должен был бы находиться глаз.
— В самом деле, дырка, — сказал Бадяга и даже засунул в глубокое отверстие палец. — Да только что с того? Эту дырку прислужники твои заранее могли проделать. Ты мне стрелу подай!
— А вот она. — Владигор прошел за фигуру. Туда же шагнул и Бадяга. Дружинник увидел, что стрела вонзилась в деревянную стену до середины наконечника. Попробовал, дернув, вытащить — не смог. Повернулся и увидел, что торчит стрела как раз напротив головы болвана, в затылке которого тоже дырка чернеет.
— Неужто насквозь пробила? — спросил недоверчиво.
— Насквозь. А что такого? Двух, пожалуй, таких болванов запросто прострелит.
Но тут Бадяга удивляться перестал, опять насмешливым и дерзким сделался.
— Княже, — сказал он с вызовом, — а не велишь ли ты своим людишкам обычный лук принести? Тогда я с тобой мог бы силенками помериться…
— Воля твоя, — ответил Владигор и крикнул в сторону открытой двери: — Понька, беги за старым луком моим, и два десятка стрел к нему тащи в колчане! А ты, Кныш, к самострелу неси все стрелы да ворот. Сам Бадяга самострел перестрелять решил!
В горнице, что служила мастерской, послышалась возня, суетливый топот ног, и скоро у князя и дружинника имелось все необходимое для состязания. Владигор поставил слева от себя берестяной короб, из которого оперениями вверх торчали стрелы. Бадяга перекинул через плечо ремень колчана так, чтобы стрелы находились у левого бедра. Пробуя лук Владигора, он, нахмурясь, дергал двумя пальцами за тетиву, порой отпускал ее, и воловья жила коротко гудела.
— Не знаю, право, как мы с тобой и соревноваться будем, — сказал Бадяга наконец.
— А просто, — ответил князь. — Пусть Кныш по моей команде зажжет лучину, и, покуда она горит, будем стрелять: ты — в пятерых правых болванов, я же возьму на себя левых. Когда Кныш нам крикнет, что лучина догорела, пойдем и поглядим, кто стреляет лучше.
— Ладно, будь по-твоему, — пробурчал Бадяга, и князь тут же прокричал:
— Кныш, зажигай лучину! Стреляем!
— Уже зажег! — послышался ответ из мастерской.
Бадяга, не глядя, правой рукой выдернул из колчана оперенную плотным лебединым пером стрелу. Чуть наклонив лук и уперев взгляд в крайнего болвана, привычной рукой нашел прорезь на стреле — тетива мгновенно легла в нее. Поднимая лук, Бадяга одновременно натягивал его.
Руки у дружинника были хоть и толстые, но коротковатые, — чтобы полностью растянуть княжеский лук, ему пришлось отвести тетиву до самого уха, так что четырехгранный наконечник оказался у самой рукояти луковища. Прикидывая в уме, что стрела в полете потеряет силу, он поднял лук чуть выше головы болвана и, разогнув пальцы, отпустил тетиву, больно ударившую его по запястью левой руки, что держала лук.
Стрела прошелестела оперением, и зоркий глаз Бадяги увидел, что вонзилась она прямо в «сердце» глиняной фигуры.
«Добре, — подумал Бадяга, довольный пробным выстрелом. — Теперь и побыстрее можно». Не глядя на противника и слыша слева от себя лишь неприятный скрежет ворота да редкие хлопки тетивы самострела, Бадяга быстро выхватывал из колчана свои боевые стрелы и посылал их одну за другой в цель. Дружинник представлял, что видит перед собой врагов Синегорья, и это помогало ему целиться точнее и без заминки. Одно смущало его: где-то там, впереди, но слева, время от времени что-то грохотало, и этот шум немного отвлекал Бадягу.
— Лучина догорела! — послышался голос Кныша, и Бадяга, положив было руку на колчан, с удовлетворением ощутил, что колчан пуст — он расстрелял все двадцать стрел.
— Ну что ж, Бадяга-друг, пойдем посмотрим, что мы с тобой натворили, — предложил Владигор, опуская на пол самострел.
Дружинника не нужно было упрашивать — он сгорал от нетерпения, желая узнать результаты состязания. В своей победе он не сомневался. Вот подошли к фигурам, по которым стрелял Бадяга, и он, волнуясь, стал показывать:
— Ну, княже, посмотри: одна, вторая, третья… А эта прямо в глаз угодила. Не хуже получилось, чем у тебя.
Из двадцати стрел Бадяги пятнадцать угодили в цель. Правда, не все из них вонзились в голову или в грудь болванов, но все же Бадяга был доволен собой. При такой спешке результат был очень даже неплохим.
— Что ж, молодец, Меньшой, — похлопал Владигор Бадягу по спине. — Недаром я плачу тебе за службу серебром. А теперь давай поглядим, как я разделался со своими…
Они пошли налево, и в свете двух десятков горящих свечей Бадяга увидел картину, потрясшую его. Такого ему не случалось видеть даже на поле боя: все пять болванов были обезглавлены! Глиняные их головы валялись на полу.
— Княже… да как же это? Не возьму в толк…
— Пойди к стене и посмотри, какими стрелами стрелял я, — велел Владигор.
Из досок торчали самострельные древки, и Бадяга, с трудом вытащив стрелу, увидел, что она имеет наконечник в виде полумесяца с рогами, направленными вперед.
— Вот этими-то серпами я и срезал головы болванам, — молвил Владигор. — Такова убойная сила моего железного лука, что одной стрелой можно пронзить навылет двух, а то и трех облаченных в доспехи воинов, если, конечно, будут они стоять друг за другом.
Бадяга, однако, быстро оправился от изумления, и прежняя насмешливость, хоть и замаскированная почтительностью, вернулась к нему.
— Так ведь, княже, покуда ты двух своих одной стрелою будешь убивать, я трех положу! Уж больно долго ты жернов свой железный крутишь! — сказал он.
— Есть у меня и другие самострелы, без ворота, — те руками можно натянуть, — быстро возразил Владигор. — Но не показал я тебе еще одну стрелу, последнюю мою придумку. Увидишь — убедишься в полном превосходстве самострелов над обычным луком. — И прокричал, обернувшись в сторону двери, что к мастерам вела: — Ребята! Щит железный в палец толщиной сюда тащите!
Минуты не прошло, как послышались шаги подручных Владигора. Два крепких парня несли лист железа с дверь величиной. Судя по тому, как тянуло к земле их руки, весил он немало.
— К стенке прислоните, — приказал Владигор и, когда подручные ушли, вынул из-за пояса стрелу и показал ее Бадяге: — Такую не видал?
Дружинник взглянул на стрелу. В самом деле, он видел уже этот тупорылый, но с острой по кругу кромкой наконечник, когда его ковали, и удивлялся: для чего он может сгодиться?
— Если бы раньше увидел, то никогда б не догадался, что это наконечник для стрелы. Неужто полетит? Да и нужда какая в нем?
— Увидишь.
Владигор пошел туда, где оставил самострел, неспешно натянул тетиву и выстрелил. Послышался все тот же хлопок, а вслед за ним звонкий удар железа о железо, резкий и короткий.
— А теперь пойдем посмотрим, друг Бадяга, — предложил Владигор, и когда дружинник встал рядом с железным щитом, толщина которого была не меньше мизинца, то увидел в нем сквозное отверстие.
Бадяга обескураженно крутил своей коротко стриженной башкой:
— Видно, сам Перун тебе помог, княже. Ежели б своими глазами не видел, не поверил бы. Точно глину прошила!
Владигор, довольный впечатлением, которое произвел на Бадягу давешний выстрел, поспешил его уверить:
— Да, без высшей силы здесь не обошлось. Боги, наверно, внушили мне мысль помочь Ладору новым оружием. Наконечник же мой и впрямь необычен: так выкован, что кромка острая просекает железо, а не рвет его, как стрела. Наконечники такие крепче быть должны, чем… чем доспехи врагов Ладора. Я же секрет открыл, как сделать железо крепким, и заклинания особые узнал от чародея одного. Теперь, Бадяга, во дворце своем десять кузниц заведу, чтобы дружину самострелами снабдить, а если понадобится, то и всех ладорцев. Неприступным наш город станет, и Борея, доведавшись, что мы обладаем столь страшным оружием, к союзу мирному подвигнется. А теперь, дружище Бадяга, пойдем в мою горницу да выпьем сыченого меду, духовитого, как скошенная трава полевая. За славу Синегорья выпьем да в честь Сварога и веселого Ярилы!
И князь, обняв любимого дружинника за плечи, повел его к себе в чертоги. Но не ведали ни Владигор, ни Бадяга, что за соревнованием их наблюдали. Наблюдатель притаился в дворцовой кухне, вернее, в одном из ее закутков, отведенном для хранения посуды, где дощатая стена покоробилась и рассохлась, образовав многочисленные щели. Этот некто приник глазом к щели и затаив дыхание следил, как Владигор расправляется с глиняными истуканами. Нет, он не спешил рассказать об увиденном товарищам по кухонному ремеслу, и вовсе не из боязни, что те донесут князю: мол, какой-то поваренок сует нос не в свои дела. Этот еще довольно молодой человек считал себя обиженным судьбой: был он низкого рода, тщедушный и невзрачный. Звали его Солодуха. С детства мечтал он сделаться богатым, купаться в роскоши, иметь власть над людьми, но до сих пор не продвинулся выше должности поваренка. И вот случилось ему нечаянно подслушать разговор Владигора со старшим дружинником, случилось стать причастным к тайне государственной. И тотчас решился он на черное предательство — лишь бы начать наконец продвижение к заветной цели…
2. Сети для Владигора
Владигор не любил борейцев, с которыми ему не раз приходилось сражаться, не любил за наглость и неуемное стремление воевать ради грабежа и крови, но отказать посланнику одного из самых могущественных борейских племен он не мог. Бореец входил в его дом без оружия, как гость, а прогнать гостя в Синегорье считалось поступком столь же недопустимым, как и бежать с поля битвы.
Извещенный о приближении борейского посла еще до того, как тот въехал в ворота Ладора, Владигор стоял у оконца и смотрел через прозрачную слюду на подъезжающую к городу кавалькаду. Все всадники были облачены в начищенные доспехи и держались в седле горделиво.
«По этим бы зерцалам[2] да из самострелов…» — подумал невольно князь, но тут же прогнал от себя эту мысль: обстоятельства требовали проявлять спокойствие, если не учтивость. Владигор приказал:
— Живо готовьте обед на двух человек!
Он знал, что представитель племени игов, одного из самых сильных в Борее, захочет говорить с ним с глазу на глаз, потому что не что иное, как дела наиважнейшие, могло заставить князя Грунлафа отправить посла во враждебное Синегорье. В красной мантии, в окружении виднейших дружинников, бывших к тому же и политическими советниками князя, Владигор ожидал гостя в палате для приемов. И вот раздался звук рога, и вошедший в зал отрок-герольд торжественно доложил, что князя Синегорья просит о приеме Хормут, посланник Грунлафа.
Владигор велел впустить его.
Хормут был высоким, могучим с виду. Длинные усы свисали ниже подбородка, брови изогнуты гневливо, будто прибыл он в Ладор не с миром, а с объявлением войны. Но Владигор знал, что борейцы всегда нападали без предупреждения, а поэтому грозный вид посланника не вызвал у него беспокойства. Бореец, согласно правилам, оставил меч за пределами палаты, но на согнутой левой руке нес свой яйцевидный шлем и, когда до Владигора оставалось шагов пятнадцать, с достоинством поклонился.
— Многих лет жизни и процветания желает князь Грунлаф, правитель игов, князю Владигору! — не проговорил, а прорычал он, не умея, видно, говорить по-другому.
— Желаю того же князю игов Грунлафу и хотел бы знать, чем вызвано желание Грунлафа отправить ко мне посла, благородного Хормута? — спросил Владигор.
— О цели посольства мне велено говорить с правителем Синегорья лишь наедине.
— Что ж, тогда уединимся…
Долгое время Хормут поедал все, что приносили с кухни, забыв о Владигоре, который сидел за столом напротив и лишь из вежливости прикасался к еде. Сидеть рядом с этим грубым человеком князю было неприятно. А Хормут, казалось, не замечал Владигора, он ни разу не поднял кубок за здравие хозяина, зато со звериной жадностью поглощал пищу, чавкал и даже рычал, разжевывая мясо поросенка или зайца, и вливал в себя так много хмельного меда и пива, что Владигор засомневался, в состоянии ли будет посланник говорить о деле.
Наконец, звучно рыгнув и утерев ладонью капли меда с длинных усов, Хормут осоловевшими глазами посмотрел на Владигора и сказал:
— А теперь о деле, князь. Здесь, думаю, нам будет покойно?
— Да, вполне покойно, — ответил Владигор.
— Ну так слушай, князь, — молвил Хормут, вытирая руки о волосы, длинными прядями свисавшие на плечи. — Да будет тебе известно, что Грунлаф желает заключить с тобой союз. Ведь Борея по-прежнему неспокойна. Иги, гаруды, коробчаки, плуски непрестанно воюют меж собой. Мы, иги, разумеется, сильнее всех, но и нам не удается умиротворить враждующие племена. Вот и послал меня славный Грунлаф к тебе за помощью. Всем известно, что синегорцы ненавидят Борею, особенно игов, а те в свою очередь на дух не принимают твоих подданных и готовы перебить их всех до одного. Вот Грунлаф и вознамерился положить конец давней вражде. Если Синегорье объединится с игами, тогда и в Борее воцарится мир. Когда Поднебесной будут править двое — Грунлаф и Владигор, другим племенам придется им подчиняться. На много-много лет вперед ты, князь, своим согласием обеспечишь спокойствие своей державы.
Владигор молчал. Предложение Грунлафа, злодея и едва ли не разбойника, собравшего в своем дворце огромные богатства за счет набегов на слабых соседей, явилось для князя неожиданностью. Нужно было что-то отвечать, но слов не находилось…
— Что же ты молчишь? — снова изгибая брови, сурово спросил Хормут.
— Молчу, потому что знаю: если я заключу союз с Грунлафом, мне придется воевать со всей Бореей. Вот уже два года минуло, как Синегорье живет в спокойствии, люди отдыхают от войны, кругом кипит работа — в мастерских ли, на полях ли. Женщины без страха детей рожают, повсюду слышатся смех и песни. Союз же с игами Синегорью сулит одни лишь беды: едва мы встанем за Грунлафа, как гаруды, коробчаки, плуски ополчатся против нас, и если раньше мы воевали с каким-нибудь одним из борейских племен, то ныне на нас пойдут все сразу. Вот потому-то я и молчал, посланник Хормут.
Бореец громко расхохотался, до того слова Владигора показались ему нелепыми:
— Кто вооружится против Синегорья, если уже не будет ни гарудов, ни плусков, ни коробчаков? — Посланник замолчал, из ковша серебряного отхлебнул, снова усы утер и, привстав, как будто то, что он собирался сообщить, имело особенное значение, заговорил: — Знай, Владигор, что славный Грунлаф велел мне сообщить тебе: залогом вечной дружбы между игами и синегорцами станет… станет твой брак с дочерью Грунлафа, прекраснейшей Кудруной! О, видел бы ты ее прелести! — Хормут даже облизнулся, его глаза заблестели. — Высока, стройна, волосы черны и вьются, точно хмель. Она чиста, как свежевыбеленное полотно, но все в этой девственнице уже пылает жаром любви, желанием зачать ребенка. А ведь ты, Владигор, давно не юноша, тебе нужны наследники. Стрела на поле брани, нож или отрава подосланного убийцы могут в одночасье прекратить твое земное существование. Кто станет наследником? Сестра? Согласен, Любава способна продолжить твое дело, но ведь и она невечна. К тому же я знаю, что Любава бесплодна. Вот и некому будет править Синегорьем, а ты же знаешь, сколь небезопасно для любого государства даже на короткий срок остаться без правителя. О князь, соглашайся! Брак с Кудруной — порука долгому и прочному миру. Ты станешь счастливейшим из всех мужей Поднебесной, когда Кудруна снимет с тебя сапоги и омоет твои ноги![3]
Владигор молчал. Давно уже его сердце томилось в ожидании любви к единственной, той, что смогла бы даровать ему сына и наследника, но он полагал, что поскольку он является защитником своего народа, все в его жизни должно подчиняться этому главному делу, и при выборе невесты следует ему быть осмотрительным. Ведь Кудруну сватали ему те, с кем он еще совсем недавно скрещивал мечи на поле брани. К тому же Владигор был уверен, что Хормут преувеличивает прелести Кудруны. Итак, Владигор молчал…
Но вот он поднялся, решительно одернул мантию и, не глядя на посланника, сказал:
— Передай Грунлафу, что его предложение мне лестно, но… я вынужден отказаться от союза с игами из соображений безопасности моей страны. Скажи еще, что я не желаю им зла и первым никогда не переступлю пределы их земель. Еще… еще хотел бы я послать подарки Грунлафу и дочери его. Пусть они станут залогом мира между двумя князьями.
Владигор заметил, как побагровело лицо посланника, как опустились еще ниже его усы. Князь трижды хлопнул в ладоши, вызывая прислужника, которому велел проводить посла в сокровищницу, где уже были приготовлены для вручения драгоценные дары. Но Хормут быстро встал и, глядя на князя Синегорья с откровенной злобой, сказал:
— Грунлаф так богат, что не нуждается в подарках! Если бы ты видел его сокровищницу, то был бы куда сговорчивей.
Владигор улыбнулся:
— Я не падок на чужие богатства. Мне и моего хватает…
Он продолжал улыбаться и тогда, когда Хормут, не прощаясь, зашагал к выходу, всем своим видом демонстрируя обиду. Но ни князь, ни посланник не знали, что разговор их подслушивал все тот же кухонный работник, который незадолго перед этим наблюдал через щель в стене стрельбу владетеля Ладора из самострела. Пока Хормут с дружиной, отяжелевшие после обильного угощения и выпивки, спускались по лестнице во двор, этот человек лишь одному ему известными ходами покинул дворец, стремясь поскорее выбраться за пределы столицы Синегорья.
Вскоре под аркою городских ворот простучали копыта лошадей, на которых рысью скакали борейцы.
— Пусть лесная нечисть заведется в этом проклятом Ладоре! Пусть боги разрушат его стены! — прокричал Хормут, оборачиваясь в сторону города, но находясь от надвратной стражи уже на таком расстоянии, что его слова никак не могли быть услышаны ею и переданы потом Владигору.
Однако лишь только иги выехали на дорогу, что вела к Борее, как на их пути, внезапно вынырнув из кустов, появился какой-то человек.
— Что это за сволочь задерживает наше движение? — грозно спросил Хормут у ехавшего рядом с ним дружинника.
— Должно быть, нищий клянчит милостыню, — отвечал тот.
— Милостыню?! — заревел обозленный на все Синегорье посланник Грунлафа. — Сейчас он получит ее сполна!
И Хормут уже начал вытаскивать из ножен свой длинный меч, собираясь выместить гнев на беззащитном оборванце, но тот, предупреждая его намерение, бросился перед ним на колени прямо в дорожную пыль и воскликнул:
— Славный, благородный Хормут, посланник Грунлафа, князя Бореи! Конечно, ты можешь убить меня, но тогда ни ты, ни Грунлаф, ни племя игов никогда не узнают одной очень важной тайны, а это может обернуться для всей Бореи величайшими бедами!
Хормут натянул поводья, но правая его рука продолжала сжимать рукоять меча. Он смотрел на уродца с изумлением, не веря, что этому мозгляку в самом деле может быть известно что-нибудь важное.
— Послушай, ты, навозный жук, что ты мне голову морочишь? Лучше уйди с дороги по-хорошему, иначе плохо тебе придется.
Хормут вновь собирался выхватить меч, готовый изрубить дерзкого синегорца, но его товарищ шепнул ему:
— Постой, Хормут, а вдруг он на самом деле знает тайну, способную хоть в чем-нибудь стать полезной Грунлафу? Выслушай его и, если рассказ покажется тебе не стоящим потраченного времени, тогда и разделайся с мерзавцем.
Хормут важно кивнул:
— Ладно, синегорский скот, рассказывай, что ты там знаешь, да только побыстрей, времени у тебя совсем немного!
Синегорец, уже явно жалея, что преградил дорогу посланцу Грунлафа, залепетал, спеша и сбиваясь:
— Благороднейший Хормут! Я — поваренок по прозвищу Солодуха, работаю на дворцовой кухне. И вот узнал я, что князь Владигор изобрел такое сильное оружие, стрелы которого способны с расстояния в тысячу шагов пронзать по три воина, закованных в железные латы, каждая! Головы глиняных истуканов срезаются стрелами, точно кочны капусты ножом крестьянина! О, я видел действие этих стрел — оно ужасно! Лук против этого оружия — ничто! Владигор измыслил свое оружие для войны с Бореей!
Хормут недоверчиво покрутил головой:
— А не врешь ли ты, поварешка? Где это видано, чтобы стрелы летели на тысячу шагов и убивали сразу трех человек? И не подослан ли ты самим Владигором, чтобы запугать Грунлафа?
— Нет-нет! — Солодуха вцепился в узду Хормутова коня, страшно боясь, что ему не поверят и немедленно лишат жизни.
В разговор вмешался дружинник, что ехал подле Хормута. Он был умнее посланника и догадывался, что поваренок не лжет, хотя поверить в страшную силу невиданного прежде оружия он тоже не мог.
— Скажи-ка, приятель, а как выглядит этот… лук? Что толку рассказывать нам о стрелах… Поведай лучше о самом оружии. Ты видел его?
— Нет, господин, не видел. Не разглядел! Свечи освещали лишь ту часть палат, где стояли глиняные болваны. Я только слышал звук, который издавала тетива, такой громкий, будто хлопал пастуший кнут.
Хормут рассвирепел. То обстоятельство, что поваренок даже не видел загадочного оружия, о котором говорил, окончательно уверило его в том, что рассказ о стрелах, летящих на тысячу шагов, — военная хитрость Владигора, придуманная им с целью испугать посланца, да и самого правителя игов, — знайте, мол, что война с Синегорьем окончится неудачей.
— Кнут, говоришь? — вскричал Хормут. — А звук от пощечины, которую я тебе сейчас влеплю, не громче ли будет?
И со всего размаху он смазал Солодуху по лицу, да так, что тот отлетел на три шага и покатился в дорожную пыль.
— Верьте мне! — закричал Солодуха, тотчас вскочив на ноги. — За скромное вознаграждение вы найдете во мне верного помощника! Я могу провести во дворец Владигора любого, кто пожелает, и каждый убедится в том, что я не лгал и что это страшное оружие действительно существует!
Хормут, однако, не желал более его слушать и взмахнул мечом, решив прикончить уродца, но дружинник вновь удержал его:
— Нет, погоди! Парень, вижу, за что-то ненавидит Владигора не меньше, чем ты, так зачем же убивать этого хорька? Понятно, что он мерзавец и заслуживает смерти, но нам он может пригодиться. Давай захватим его с собой. Или нет, постой! Пусть возвращается во дворец и попытается узнать подробней, что это за оружие, которое стреляет на тысячу шагов и пробивает латы сразу трех воинов. — И, уже обращаясь к Солодухе, проговорил: — Слышал? Иди к своим и будь глазами и ушами славного Грунлафа! Узнай как можно больше не только о новом оружии Владигора, но и обо всех его планах. Вот задаток…
Дружинник, сунув руку в седельную суму, достал оттуда слиток серебра и бросил его под ноги Солодухе. Всадники, ударив в бока лошадей каблуками сапог, помчались по дороге в сторону Бореи.
Грунлаф, князь игов, ничем не выразил своего негодования, он не бил Хормута по щекам и не поносил его позорными словами. Оскорбленный отказом Владигора до глубины души, он сидел, крепко сцепив на коленях руки и опустив на грудь голову, украшенную уже поседевшей гривой длинных, все еще густых волос. Его борода, доходившая чуть ли не до пояса, стягивавшего стройный стан пятидесятилетнего властелина игов, вздрагивала — так сильно билось его сердце. Хормут же, повествуя о своей беседе с князем Синегорья, изрядно преувеличивал свои заслуги, — по его словам, он едва не сорвал голос, убеждая Владигора, что союз с игами сулит синегорцам немалые выгоды, а также расписывая прелести княжны Кудруны.
— И это не помогло? — не выдержал Грунлаф и поднял на Хормута печальные глаза.
— Не помогло, мой повелитель! — всплеснул руками Хормут.
Грунлаф хотел что-то сказать, но вдруг дверь, что вела в палату, распахнулась, и на пороге появилась Кудруна. Ее вьющиеся волосы не были на девичий манер покрыты покрывалом — она носила лишь головное украшение из тонкой сетки с жемчужными подвесками, спускавшимися на лоб. Сжатые кулаки и пылающие глаза, метавшие в Хормута молнии, красноречиво свидетельствовали о том, что она разгневана, но ни посланник, ни сам князь не понимали причины ее гнева. Кудруна меж тем подступила к Хормуту, который и без того был сильно смущен, и, размахивая руками, закричала:
— Ах ты мешок с навозом, свиной послед! Так-то ты просватал дочь Грунлафа за какого-то там синегорца?! Владигор не стоит даже моего мизинца, а ты, клок овечьей шерсти, не сумел описать мою красоту, богатство моего отца, не смог соблазнить ничтожного князишку выгодами союза с нами! Да теперь вся Поднебесная станет презирать славного Грунлафа, а тем более — меня, отвергнутую тем, с кого я постыдилась бы снять сапоги перед браком!
Отец смотрел на Кудруну с изумлением. Он знал ее горячий нрав, но никогда девушка не вмешивалась в дела правления, в вопросы войны и мира с другими княжествами и землями. Хормут же был обижен выше меры:
— Княжна, я сделал все, что мог, и уже поведал славному Грунлафу, как восхвалял перед Владигором твою красоту. Думаю, причина того, что синегорец отверг честь быть твоим суженым, кроется не в косноязычии моем, зря ты обижаешь меня и ругаешь перед господином.
— А в чем же дело? — надменно спросила Кудруна. Втайне она любила Владигора, о котором давно была наслышана. О его подвигах по всей Борее ходили легенды и пелись песни, хотя борейцы издавна были врагами Синегорья. Девушка даже не очень стремилась увидеть героя, боясь, что его внешность придет в противоречие с образом, созданным ею заочно. Этот образ был таким ясным, зримым, что она не желала никого другого, кроме прекрасного синегорского князя, который бесстрашно боролся за свою землю и побеждал в единоборстве самых сильных противников. И когда Кудруна узнала, что отец отправил в Синегорье посла с предложением заключить родственный союз, она с трепещущим сердцем ожидала возвращения Хормута. Едва он вошел в горницу к Грунлафу, девушка встала за дверью, чуть приоткрыв ее, но, услышав весть о том, что сватовство оказалось неудачным и даже унизительным, не выдержала и отворила дверь настежь.
— Так в чем же дело? — повторила она свой вопрос. — Почему Владигор отказался?
Хормут вздохнул:
— Знайте, что Владигор измыслил новый вид оружия и собирается идти против Бореи.
В мельчайших подробностях Хормут передал Грунлафу и Кудруне все, что услышал на дороге от синегорского поваренка.
— Повелитель, если ты мне не веришь, то можешь расспросить каждого, кто был в моем отряде, — все слыхали, — так завершил он свой рассказ.
Кудруна хотела что-то сказать, но в дальнем углу просторной горницы послышались легкие шаги. Все повернули головы в ту сторону — едва касаясь дубовых досок босыми ногами, точно скользя по ним, к Грунлафу, Кудруне и Хормуту приближался человек в коричневом ветхом плаще до пят. Он был совершенно лысый, и на лице его не было ни бровей, ни ресниц, что сразу вызвало у Грунлафа отвращение.
— Кто ты и как сюда вошел? — с негодованием спросил он, встав с кресла. — Только не вздумай меня уверять, что ты подкупил стражу! Это еще никому не удавалось!
Незнакомец усмехнулся:
— Прости, повелитель игов, Красу не нужны двери — это слишком ненадежная преграда для чародея, учившего черной магии самого Ареса. Просто я давно уже хотел встретиться с тобой, потому что… потому что тоже недолюбливаю Владигора. Не знаю, чем уж приглянулся он тебе, если ты даже отправил к нему столь важное посольство.
Казалось, Грунлаф стал ниже ростом, плечи его поникли, и он ответил тому, кто назвал себя Красой, заискивающим тоном:
— Иги воюют против других племен Бореи, вот я и подумал, что было бы полезно заручиться поддержкой Владигора…
Крас, выпростав из-под плаща худую руку, сделал пренебрежительный жест и сказал:
— Неправда! Можно обойтись и без давнего врага Бореи, а значит, и твоего врага. Не ведаешь ты, князь, что всему виною — твоя дочь, Кудруна. Она влюблена в синегорского князя и помимо твоей воли внушила тебе идею родственного союза. Ее страсть к врагу Бореи возобладала над твоей рассудительностью.
Кудруна шагнула к Красу. В ее руке блеснул кривой кинжал, который она выхватила из складок широкого платья. С перекошенным от бешенства лицом она замахнулась, намереваясь вонзить смертоносное жало в грудь чародея, но неизвестно откуда взявшаяся полупрозрачная паутина десятками, сотнями нитей в считанные мгновения опутала ее, насмерть перепугав, и вот уже она стояла перед Красом спеленутая и беспомощная, будто червь-шелкопряд в своем коконе.
Грунлаф и Хормут в страхе смотрели то на княжну, то на чародея. Наконец отец не выдержал и взмолился:
— Чародей, прошу тебя, освободи ее! Дочь задохнется…
Крас победно улыбнулся, и паутина, упав к ногам Кудруны вместе с кинжалом, превратилась в кучу червей, которые, извиваясь, тотчас исчезли в щелях пола.
— Девушка, — сказал Крас, — твое оружие — красота, а не кинжал. Кинжалами пусть орудуют мужчины, а ты приобретешь гораздо больше, если опутаешь любимого тобой человека сетью, совсем как я опутал тебя. Ведь удалось же тебе тайно повлиять на отца? Не надо этого стыдиться, но следует поступать так, чтобы твои собственные интересы совпадали с интересами отцовскими. Итак, ты любишь Владигора?
— Да, — покорно, словно и не размахивала она только что кинжалом, ответила Кудруна. — Но только он меня не любит…
— Полюбит, дитя мое, полюбит! — успокоил ее, прохаживаясь по горнице, чародей. — Теперь же я обращусь к славному Грунлафу: князь, Хормут не лгал, когда говорил тебе о новом оружии Владигора. Синегорец узнал о нем в книгах моего врага Белуна, повествующих о будущем. Мне, признаюсь, подвластно прошлое. Порой мне кажется, что я вечен и никогда не умру. Но ближе к делу: я хочу подарить Кудруне Владигора, а тебе, Грунлаф, союзника вместе с новым оружием. Пусть крепнет твоя держава назло соседям. Вы опутаете Владигора сетями моих чар и тем самым очень сильно огорчите моего врага Белуна. Хе-хе, у меня с ним старые счеты…
— Но как же тебе удастся добиться согласия Владигора на брак с Кудруной? — недоумевал Грунлаф.
— Ни о чем не беспокойся. Отправь меня послом в Ладор. Конечно, я явлюсь туда не с лысой головой и без бровей, а благообразным старцем. И захвачу с собой одну вещицу, которая мне заменит слова, способные описать прелести Кудруны. — Повернувшись к девушке, Крас с суровым видом спросил: — Дева, ты готова дать мне немного своей крови?
Кудруна вспыхнула:
— Ради того, чтобы стать супругой Владигора? О да!..
— Вот и прекрасно. — Крас, взяв чашу со стола, подошел к девушке.
Он протянул княжне руку, пристально глядя ей в глаза, и она послушно подала ему свою. Чародей произвел какие-то манипуляции над запястьем девушки, и тотчас брызнула кровь, струйкой побежавшая в чашу. Кудруна без страха следила за действиями чародея. Когда чаша наполнилась до краев, Крас на миг прикоснулся к ране, и вот уже только едва заметный шрам виднелся на запястье девушки.
— Но зачем тебе кровь моей дочери? — негодуя, спросил Грунлаф. — Не собираешься ли ты, колдун, принести ей какой-нибудь вред?
— О, никакого вреда, правитель, — одно лишь счастье! — усмехнулся Крас. — Этой кровью я оживлю краски, которыми хочу изобразить лицо Кудруны, и не будет мужчины, способного устоять перед этим изображением.
И Крас такой же скользящей походкой, как прежде, удалился в дальний угол зала и бесследно исчез, словно растворился в воздухе.
В пещере, где жил колдун, со свода свисали пучки трав, связки сморщенных сухих грибов. Скелетики змей, лягушек и мышей тоже были нанизаны на нити. В это место пещеры в полнолуние проникал бледный свет луны, и именно сюда Крас принес глиняную плошку с бурым порошком, что получился после того, как на медленном огне была выпарена вся влага из крови Кудруны.
Забравшись в лесную чащобу, Крас долго выкапывал из земли корни нужных ему растений, бормоча при этом заклинания, а на каменистом холме собрал камни, способные дать краску, если их истолочь в порошок. Покуда корни сохли вблизи очага, чтобы потом под действием песта превратиться в цветные порошки, он занялся приготовлением основы, на которой собирался сделать изображение Кудруны. На липовую дощечку длиною в три ладони и шириною в полторы нанес поочередно несколько слоев мела вперемешку с клеем. После того как мел засох, долго тер поверхность дощечки сухим хвощом, покуда она не залоснилась и не стала гладкой, ровной. После приступил к приготовлению красок.
Нужно было сделать их такими, чтобы возможно было передать всю красоту лица Кудруны. Из корня драгомиры, растерев его в медной ступке, он сделал ярко-желтую краску. Корень сваны дал ему зеленую, цир-корень — красную, а кумара — коричневую. До двенадцати цветов набрал колдун, растирая корни, а десять ему дали камни с холма. Не смешивая их пока с конопляным маслом, каждую краску он собрал в отдельный мешочек. Без кистей он также обойтись не мог, — из меха двух белок, пойманных в лесу, сделал семь разновеликих кисточек, упругих и мягких одновременно.
— О Владигор, как ты ни упрям, но настает твой час! — с торжеством в голосе сказал Крас после окончания работы. — Не Кудруны ради работал я, но ради того, чтобы посрамить Белуна, твоего наставника. Для меня что ты, что та, которая по тебе страдает, — все мошки. Я вечен, вы же смертны, а потому и суетны. Вечность делает человека мудрым, спокойным и уверенным в себе. Держись, Белун!
Когда во дворце Грунлафа Крас поведал наконец, каким способом он хочет заставить Владигора влюбиться в его дочь, князь тотчас вызвал Кудруну и сказал:
— Завтра мудрейший Крас будет делать твое изображение. Постарайся хорошенько убрать свои волосы и побогаче украсить их.
Услышав это, колдун рассмеялся:
— Правитель, сколь ты наивен! Я собираюсь пленить синегорца не блеском драгоценных камней, которых у него не меньше, чем у тебя, а красотою твоей дочери. Пусть же прелести ее лица не мешают какие-то мертвые камни.
На следующий день в одной из самых освещенных горниц дворца колдун на особом столике расставил все нужные для работы вещи. Краски уже были смешаны с маслом, а перед этим в каждую из плошек с порошком Крас добавил по равной для всех цветов доле крови. Кудруна, не слышавшая прежде о том, что можно в цвете делать изображения людей, которые получаются как бы живые, воссела перед Красом с надменным выражением лица, но колдун сказал ей:
— Княжна, если ты хочешь понравиться тому, кто тебе так мил, сделай свое лицо приветливым и добрым, будто ты уже готова быть заключенной в его объятия.
Кудруна представила себя в объятиях того, кого не видела ни разу, — могучий, бесстрашный воин возник перед ее глазами, — и лицо ее стало ласковым и мягким.
Когда на белой поверхности доски стало появляться изображение, девушка заметила, что колдун то и дело отходит в сторону, отворачивается от картины и что-то бормочет про себя, а чем ближе к окончанию продвигалась работа, тем чаще он отворачивался, и странные слова срывались с его губ, уже различимые для постороннего уха.
— Мудрейший, что означает это бормотание? — не выдержала девушка.
— Княжна, — отвечал Крас, — вот доказательство силы моих чар — я сам становлюсь пленником обаяния, исходящего от портрета, и мне необходимо время и некоторые заклинания, чтобы отогнать от себя чувство, пробуждаемое во мне твоим изображением.
Девушка обиделась. Ей было неприятно слышать, что кто-то может бояться ее лица.
— Почему же ты страшишься этого чувства? Боишься полюбить меня?
— Боюсь, — прямо отвечал Крас, продолжая работу. — На этой доске появляется лицо, в котором я попытался вместить всю красоту женщин, когда-то живших на земле, — ведь я видел многих.
— Значит, изображение будет не похоже на меня? — встрепенулась и даже привстала Кудруна.
— Нет, княжна, будет, только в жизни ты совсем не такая, ты всегда в движении, а истинная суть твоей души и красоты — для меня эти понятия едины — скрыта за мимолетным гневом, озабоченностью или, наоборот, веселостью. Какая ты на самом деле, знают только Вечность и я, живущий вечно. Я боюсь смотреть на твой портрет потому, что Красота и для меня явилась лишь сейчас в своем обнаженном виде, словно солнце, способное спалить любого, кто приблизится к нему. Лишь тебе одной да Владигору я покажу свою работу.
— А отцу?
— Никогда! Страшная сила власти, заключенная в портрете, его погубит так же, как и любого другого мужчину. Впрочем, на миг я все же приподниму перед Грунлафом покрывало над твоим изображением, чтобы благородный князь был уверен, что я не обманул его. О, будь уверена, Кудруна, Владигор покорится твоей красоте!
Когда портрет Кудруны был закончен, девушка, никогда не подозревавшая, сколь она прекрасна, увидев его, подумала: «А стоит ли Владигор того, чтобы я стала его суженой, рожала ему детей и вечно страшилась за его жизнь?» Но тут же она прогнала от себя эту мысль, припомнив слова колдуна, что в настоящей жизни она не столь пленительна, как ее изображение, вобравшее в себя красоту всех женщин, когда-либо живших на земле.
Увидел портрет и Грунлаф, и хотя чародей показал ему его лишь на мгновение, князь тотчас с жаром обнял дочь и трижды поцеловал ее, радуясь тому, что боги подарили ему бесценное сокровище.
— Крас, давай же скорее собираться! Я дам тебе в сопровождение своих лучших дружинников на самых красивых скакунах. Сам выбери подарки для Владигора, да не забудь и про его сестру Любаву. Ах, каким же неосторожным я был, посылая в Ладор этого неуклюжего дурня Хормута. Но смотри: если и у тебя ничего не получится, вторичного позора я не переживу — нет, скорее я всю Борею двину на Синегорье! Смерть, огонь, разорение станут платой за обиду.
Крас, укладывая портрет в деревянный ящик, сказал:
— А что мы будем делать с таинственным оружием Владигора? Ты о нем забыл?
— Нет, не забыл. Когда Владигор станет моим зятем и заключит со мной союз, он сам мне его покажет.
Крас, растягивая в улыбке свои пергаментные, желтоватые губы, возразил:
— Совсем не обязательно. Он увезет к себе Кудруну, а союзы как заключаются, так и расторгаются. Князь, у меня другое средство найдется. Владигор сам привезет в твой город свое оружие!
Грунлаф с недоверием посмотрел на колдуна:
— Да, привезет, но если полностью лишится рассудка.
— Именно! Портрет Кудруны лишит Владигора этого дара богов, поэтому тебе нет надобности подыскивать драгоценные подарки для синегорца и его сестрицы. Я явлюсь от тебя как посол с приглашением прибыть на праздник по поводу сбора урожая, который уже не за горами. Я сообщу князю, что благородный Грунлаф устраивает состязание стрелков из лука. Князья из всей Поднебесной и их дружинники будут оспаривать руку прекрасной Кудруны — твоя дочь станет главной наградой победителю. Владигор же, известно, один из лучших стрелков. Влюбленный в твою дочь после того, как увидит портрет, он несомненно согласится прибыть на состязание. Я же намекну ему, что допускается любое оружие, мечущее стрелы. О, поверь, ослепленный любовью, Владигор забудет всякую осторожность и приедет к тебе со своим изобретением!
Кудруна слушала разговор отца и Краса, и ее нежное, как мякоть спелой дыни, лицо то и дело покрывалось пятнами. Едва колдун замолк, она с жаром сказала:
— Крас, мне Владигор нужен даже и без своего хитрого оружия! И знайте: если он приедет на состязание, но не будет первым, я все равно стану его супругой.
Сказала — и выбежала из зала.
3. Стрельба в свою душу
Не в драном коричневом плаще, а в нарядной пурпурной мантии с золотой запоной на плече, в желтых сапогах из самой лучшей кожи и верхом на буланом жеребце отправился Крас в Синегорье. Совсем его было не узнать: вместо голого, как яйцо, черепа — грива седых волос под шапкой с бобровым околом. Длинные усы и борода скрывали бритый подбородок. Длинный меч в сафьяновых ножнах, отделанных золотыми бляшками, висел на левом его бедре. Сидел на коне он гордо и ладно, точно с детства приучен был к верховой езде, поводья небрежно держал левой рукой, облаченной в расшитую рукавицу, правой же придерживал кожаный мешок, что приторочен был к луке седла, — в мешке том вез колдун чудесный портрет Кудруны.
Как и обещал Грунлаф, дал он в сопровождение Красу лучших своих дружинников. Три десятка воинов в кольчугах и рогатых железных шлемах ехали следом за Красом, в сумах переметных везли еду на неделю пути: печеный хлеб, жито, ячмень, пшено, чтобы кашу варить в дороге, вяленое мясо да сушеную рыбу, а еще баклаги с пивом и брагой.
Крас, зная нравы дружинников, приотставал частенько, потешал воинов грубым рассказом, и историй этих, видели все, было в запасе у неизвестного прежде вельможи с избытком — не избудут за все время пути.
Так и ехали, останавливаясь во встречающихся по дороге деревеньках или разбивая легкие шатры прямо на лесной поляне. Балагурили, в котелках варили похлебку, ели кашу, пили брагу, пели боевые песни, вспоминали былые сражения, говорили о сражениях грядущих, к которым всегда были готовы.
Перебрались через Велонь-реку, и однажды уже под вечер дружинник, что Грунлафом был назначен старшим над остальными, подъехав к Красу, сказал:
— Господин, к Гнилому Лесу подходим, место нехорошее. Вот бы здесь переночевать, а то, как говорят, неладные там дела творятся. Мы хоть и неробкого десятка и никогда не отступали в схватках ни с воинами, будь они и семи пядей во лбу, ни со всякой нечистью, но уж больно дорога там узкая. В такой теснине нас из засады побить нетрудно будет…
Усы Краса шевельнулись в улыбке, колдун похлопал дружинника по плечу и молвил:
— Торун, что говорить о старых победах? Новые-то впереди…
Ничего не понял из этой фразы дружинник, в замешательстве вернулся к своим. Поехали дальше. Солнце зашло уже за макушки сосен, до леса совсем близко оставалось. В лес въехали, который сразу же, словно жернова зерно, зажал людей со всех сторон, но и двухсот шагов они по лесу не смогли проехать, как спереди и сзади упали разом несколько деревьев, дорогу людям отрезая. Дикий рев со всех сторон раздался, пронзительный и страшный, будто заголосило сразу медведей полтора десятка. Дружинники опешили, закружились на конях, осматриваясь, ища врага, ища дорогу к отступлению или к побегу. Но Торун нашелся быстро:
— Мечи из ножен! Щитами всем прикрыться!
Кто успел круглые свои щиты со спины на грудь перекинуть да просунуть левую руку под кожаный ремень, ненадолго смерть отсрочил свою: рев да свист утихли, зато со всех сторон запели стрелы. Находя себе дорогу между веток, понеслись к дружинникам, жаля их кого в горло, кого в глаз или находя уязвимое место между пластинок их панцирей. Хрипели в предсмертных судорогах люди, кони. На небольшом пространстве лесной дороги вскоре лежали вповалку те, кто еще совсем недавно похвалялся ратными подвигами, напивался брагой. Только один из въехавших в лес по-прежнему красовался на буланом коне — то был Крас.
Из леса, точно муравьи из муравейника, облитого водой, на дорогу выбежали люди — с луками, палицами в руках, одетые в медвежьи, козьи шкуры. Бросились они со звериным воем к поверженным дружинникам, но грозный окрик остановил их:
— А ну-ка, лесная сволочь, замри на месте! Кто раньше времени велел соваться?
Крас увидел, что к поваленным деревьям не торопясь подъезжает какой-то всадник в кожаных, правда, доспехах, но с хорошим шлемом на голове, с копьем, положенным на холку лошади, и дорогим мечом. Лишь три поваленных дерева отделяли его от Краса, который взирал на главаря лесных разбойников (это колдуну сразу понятно стало) весело и дружелюбно.
— А этого почему не положили? — прорычал разбойник, наконечником копья указывая на Краса, возвышавшегося над лежавшими вповалку воинами.
Люди в шкурах так и замерли от удивления, глядя на колдуна.
— Велигор, прости, но… ведь упал же этот человек, а после вот поднялся и стоит… — недоумевая, пожал плечами один из одетых в шкуры людей, с усаженной шипами палицей в руке, — было ясно, что только прикажи — и бросится он к человеку, обманувшему всю шайку, и размозжит ему голову!
— Падал? — даже подпрыгнул в седле атаман. — И снова поднялся? Ну так больше не поднимется!
Мгновения хватило Велигору, чтобы вскинуть над головой копье, чуть завести его назад и метнуть прямо в грудь старику. Все видели, что с локоть длины оставалось пролететь копью до невозмутимого старца, но вдруг оно словно натолкнулось на какую-то невидимую преграду, и увидели все, что серпом изогнулся железный наконечник и от страшного удара обо что-то твердое надвое переломилось древко.
Все охнули. Страх обуял диких людей. Не чем иным, как только чудом, никто из них не мог объяснить происшедшее.
— Сам Перун оберегает его! — воскликнул кто-то. — Бежим, братья, не то он всех нас накажет за обиду, что человеку этому причинили!
Люди в шкурах с искаженными от ужаса лицами уже хотели было броситься в чащу леса, но Велигор остановил их суровым окриком:
— А ну стоять, поганки! Пусть сам этот никудышный старикашка, дохлый козел, который не способен даже хорошенько навонять, скажет мне сейчас, какая сила оберегла его! Я на всех богов плевал и ни единому жертву не принес, так что же, я стану бояться какого-то Перуна?
Красу, видно, понравилась речь Велигора, в которой тот столь смело выказал свое презрение к богам, и колдун сказал:
— Храбрый витязь, сам не знаю, что произошло с твоим копьем, но и думать не хочу, что здесь какой-нибудь Перун замешан или Стрибог. Сам же зри очами: я хилый и хворый, и впрямь старый козел, как ты сказал. Отпустил бы ты меня, уж очень нужно мне скорее поспеть в Ладор.
Витязь хмыкнул:
— В Ладор? А за какой же надобностью ехал ты в Ладор, к Владигору, с такой охраной и откуда?
Крас смущенно опустил взгляд, дрогнувшим голосом ответил:
— Ах, витязь Велигор, не спрашивай меня об этом, иначе мне придется предать интересы одной владетельной особы из Бореи…
Эта уклончивая речь лишь возбудила интерес Велигора к миссии старика, и витязь заорал:
— Ты, находящийся в моей власти, смеешь не отвечать на вопросы Велигора, князя Гнилого Леса? Да знаешь ли ты, недожаренный индюк, что молодцы мои пригнут веревками к земле две молодые осины, привяжут твои ноги к их макушкам да и отпустят? Случалось тебе видеть разорванного на две части человека? Одна половина — на той осине, другая — на второй!
И Велигор, уперев руки в боки, захохотал так громко, что эхо пошло гулять по лесу. Он уже не боялся человека, которого вначале принял за охраняемого Перуном. Лесные люди вторили ему хриплыми голосами, и лес гудел, точно над ним проносился ураган. Но Велигор перестал смеяться так же неожиданно, как и начал. Нахмурившись, князь Гнилого Леса сказал:
— Ну, раз ты не устрашился такой казни, я иную придумаю тебе, старый гриб! — И, обращаясь к разбойникам, прокричал: — Хватайте его, братцы, не бойтесь! Да и убитыми пора заняться — кольчуги, брони, шлемы, мечи, все прочее, что ценно, забирайте да в городище несите наше! Победу славную отпразднуем сегодня пиром!
Рев сорока или пятидесяти глоток заглушил последнее слово Велигора, и люди в шкурах бросились к Красу и убитым дружинникам. Колдуна, словно и не был он способен защитить себя, стащили с лошади. Крас, однако, не выпустил из рук мешок с портретом. Его повели четверо свирепых лесных людей, глядевших на него с опаской, ибо они все еще верили, что Перун покровительствует этому тщедушному старцу. Нагруженные богатой добычей, разбойники двинулись вслед за предводителем, ехавшим на коне гордо, словно он был воеводой, победившим вражеское войско в открытом поле. Пронзительные, дикие вопли оглашали лес, покуда перед Красом, покорно шедшим подле стремени атамана, не открылась просторная поляна с признаками человеческого жилья.
Некое подобие вала опоясывало низкие постройки, наверное полуземлянки. Какие-то люди копошились на валу, и едва они заметили подходивших к лагерю победителей, как сразу же на валах вспыхнули костры, будто подготовленные нарочно, чтобы отпраздновать военную удачу. Заголосили писклявые рожки, загремели бубны, барабаны, затрещали трещотки, и под этот гром и вой разбойники вошли в свой лагерь.
Потрясая трофеями, радостно крича, они приблизились к жилищам, откуда навстречу им повылезали десятка полтора оборванных и грязных женщин да с десяток малых ребят. Жены бросились обнимать своих мужей, и судя по тому, как они плакали от радости, Крас понял, что жители этого разбойничьего городища далеко не всегда возвращались домой целыми и невредимыми. Разбойники похвалялись перед женами собственным удальством, уже успев надеть на свои кудлатые головы шлемы с рогами, от чего выглядели совершенной нечистью, но, несмотря на это, женщины глядели на них с восхищением.
— Все, братцы, хватит обниматься-целоваться! — прогремел вдруг голос Велигора. — Тащите на круг дрова, зажигайте побольше костров! В центре круга мы сложим трофеи, и я каждого награжу по заслугам. Хватит нам размахивать палицами да из луков постреливать — мечи обрели добрые, копья, шлемы, кольчуги. Всем достанется! Туда же, в середину круга, поставьте и этого хитрого старца. Посмотрим, что он за шустрый ежик, которого голыми руками не возьмешь. А после пир устроим!
Тотчас закипела работа. Люди, воодушевленные предстоящим праздником, сновали по городищу, словно муравьи по муравейнику, тащили бревна и дрова. И вот запылали костры, бросая отблески пламени на сложенное в центре оружие. Близ него поставили и Краса, так и не выпустившего из рук мешок. Стоял он спокойно, и только густые усы да борода, да еще и сумерки мешали разбойникам видеть усмешку на его губах.
— Ну, старый пень, — заговорил Велигор, когда разбойники, сидя на корточках подле горящих костров, замолкли, — если не хочешь, чтобы я с тебя живого кожу содрал, выкладывай поскорей, кто ты таков и куда направлялся. По одежде твоей судя да по отряду, что ехал с тобой, птица ты важная. Отвечай поскорей! Не видишь разве, как заждались товарищи мои, ожидая раздачи наград и веселого пира?
В подтверждение этих слов разбойники заулюлюкали, застучали палками о палки. Велигор, статный, усатый, бритоголовый — только единственный клок волос свисал у него чуть ли не до плеча, — поднял руки, и крики стихли.
— Право, отвечай скорей — некогда нам!
Все видели, что старик всем своим видом выказывает смущение, оглядывается по сторонам, словно в поисках сочувствия, обеими руками прижимая к груди что-то плоское, находящееся в мешке.
— Великий князь Гнилого Леса, — трепещущим голосом наконец заговорил Крас, — не потому скрываю я от тебя, откуда еду, что не боюсь смерти, — очень боюсь! Не знаешь ты разве, что на самом деле старцы сильно привязаны к жизни…
— Брось нести всякий вздор, — прервал его князь, — говори дело!
— Говорю, говорю, только не казни. Знай, что еду я из Бореи, от государя могущественнейшего племени игов, Грунлафа, и везу в Ладор портрет его дочери — то есть изображение ее лица, сделанное красками на дереве. Благородный Грунлаф хочет выдать свою дочь замуж за Владигора, но тот не видел лица княжны. Если Владигор не согласится взять в жены прелестную Кудруну, то после сбора урожая Грунлаф устроит состязание стрелков из лука, и тот, кто победит, получит в качестве награды его дочь. Ах, славный князь Гнилого Леса! Отпусти ты меня с миром. Что толку тебе от изображения лица какой-то там девицы? Ведь если я не довезу портрет, то Грунлаф казнит меня. Видишь, как я с тобою откровенен…
Велигор и все разбойники с интересом слушали речь старика. Всем им ужасно захотелось взглянуть на изображение той, что зовется Кудруной и является дочерью Грунлафа, о набегах которого на соседние княжества они слышали.
— А ну-ка, покажи мне эту самую Кудруну, — потребовал Велигор.
— Что ж, князь, я покажу ее тебе, потому что ты этого достоин, — ответил Крас, залез в мешок и достал оттуда плоский ящичек с портретом. Ключиком, что висел у него на шее, колдун отпер ящичек, положив его на землю, с благоговением извлек доску с изображением княжны и, склонив седую голову, подал ее Велигору.
— Эх, плохо вижу, подойду к костру, — сказал князь Гнилого Леса, подошел к ближайшему костру, и все увидели, что едва он взглянул на портрет, как вскрикнул, будто пронзенный стрелой, и застыл с раскрытым ртом и странно округлившимися глазами.
Разбойники, что были ближе всех к Велигору, пытались заглянуть через его плечо, и те, кому это удавалось, так же вскрикивали и уходили прочь, держась за голову, а иные продолжали неотрывно смотреть на портрет через плечо своего предводителя.
— Дайте и нам посмотреть! — раздались отовсюду голоса. — Мы, Велигор, тоже в нападении участвовали! Право имеем!
Вот уже чья-то дерзкая рука вырвала доску из рук оцепеневшего Велигора, и пошел портрет гулять по рукам людей, одетых в шкуры, косматых, грязных, с грубыми, точно кора старого дуба, лицами, и едва они бросали взгляд на лицо девушки, как тотчас замирали, подобно Велигору. Слышался восхищенный шепот:
— Какая красавица!
— Жизнь свою за нее положил бы!
— Руку бы сейчас отсек по плечо, только бы прикоснуться к ее платью!
— Везет же Владигору — такую невесту ему предлагают, а он еще нос воротит. Растерзал бы его!
Долго они пребывали в замешательстве, стеная, охваченные незнакомым им прежде чувством. Наконец, словно какая-то неведомая сила внушила им эту мысль, разбойники потянулись к Красу, со скрещенными на груди руками смотревшему на очарованных портретом лесных людей.
— А скажи нам, добрый человек, — заговорил один из разбойников, — всех ли допустят к состязанию или только людей знатных — князей, важных дружинников?
Крас покачал головой:
— Нет, кого попало благородный Грунлаф не пустит. Вдруг придет какой мужик, свинопас или дровосек, отлично стреляющий из лука, да и победит? Что же, выходит, такому прекрасную Кудруну отдавать, зятем своим такого делать?
Послышались стоны, возгласы печали, разочарования.
— А ведь мы и впрямь стрелки отличные, за сто шагов в птаху мелкую попадаем, и в бою страху никогда не знаем… — молвил кто-то.
Крас мягко ответил:
— Что ж, вижу я, что каждый из вас прекрасным бы дружинником в войске Грунлафа был, а раз дружинник, значит, право на руку Кудруны уже имеет. Но благородному князю нужен самый лучший, самый красивый, самый отважный. Договоритесь между собой, кого ко двору князя игов отправить. Ну, кто пойдет?
Разбойники молчали, ревниво поглядывая друг на друга. Тогда Крас, усмехаясь, сказал:
— Вижу, что не в силах вы лучшего выбрать, тогда пусть мечи ваши решат. Разберитесь по парам и бейтесь до смерти. Убивший противника своего против другого победителя выйдет, и так погибнут самые слабые, покуда не останутся в круге двое, самые сильные. И вот когда лишь один боец останется в живых, его-то я и представлю Грунлафу, привечающему храбрейших, самых ловких и умелых воинов!
Радостным ревом пятидесяти глоток поддержали разбойники предложение Краса. Раздались крики:
— Так и будет!
— Один останется!
— Им буду я!
— Нет, я!
Распаленные любовью к Кудруне, желанием служить Грунлафу, попасть на состязание лучников, победить в поединке товарища, а может быть, и нескольких, с которыми еще несколько часов назад они хлебали из одного котла, бросились разбойники разбирать оружие, хватали мечи, какие попадали под руку, пытались было натягивать на себя кольчуги, но Крас, заметив это, строго сказал:
— Нет, без кольчуг и панцирей биться будете, как отважным воинам полагается. Да и дров в костры подбросьте — что-то темновато стало!
Еще ярче запылали костры, освещающие круг, на котором, разобравшись по парам, вперившись в противника взглядом и страстно желая его убить, застыли тридцать человек — те, для кого хватило мечей. Отблески пламени играли на их рогатых шлемах и на клинках мечей.
— Все готовы? — спросил Крас.
— Готовы! — раздалось в ответ.
— Ну так начинайте! — прокричал колдун и хлопнул в ладоши.
Тут же раздался звон клинков, блики пламени заметались на них, описывающих круги, пытающихся разить справа, слева. Разбойники кричали, стараясь устрашить один другого, ибо каждый хотел быть победителем. Вскоре стали слышны предсмертные стоны и победные крики, некоторые бойцы корчились на земле, и не было им пощады…
Убитых за ноги оттаскивали за пределы круга те, кому не терпелось завладеть мечом убитого. Победители радостно вопили, но бойцы, пришедшие на смену убитым, набрасывались, еще полные сил, на изрядно уже уставших, и те, в свою очередь, падали под ударами мечей. Скоро за пределами круга уже не осталось лишенных оружия бойцов, там стояли теперь только жены разбойников и их дети, такие же грязные, некрасивые, в звериных шкурах. Многие из них, припав к груди убитых мужей и отцов, рыдали, рвали на голове волосы, срывали с себя одежду. Иные женщины бросались в середину круга, чтобы вытащить оттуда сражающихся мужчин, пытались их разнять, молили дерущихся прекратить бессмысленную бойню, но те, воспламененные любовью к Кудруне, продолжали рубиться и гнали жен то пинками, то ударами мечом плашмя, а совсем уже озверевшие и возненавидевшие своих жен даже рубили или кололи их.
Скоро вся площадка, заключенная в огненном круге, была залита кровью, и уже некому было вытаскивать за круг убитых. Две оставшихся в живых пары, спотыкаясь о тела поверженных товарищей, продолжали сражаться, но вот уже только два разбойника, самых сильных, упорных, хотя и безумно уставших, размахивали мечами на заваленной трупами площадке, озаряемые пламенем догорающих костров.
— А ты почему не сражаешься? — спросил Крас у Велигора, бесстрастно наблюдавшего за бойней. — Разве тебе не хотелось бы принять участие в состязании лучников?
— Не мне же биться со всей этой сволочью! — ответил князь.
— Значит, поедет к игам один из этой пары, если… если они оба не будут убиты, — с ехидством заметил Крас.
— Я убью победителя, — твердо сказал Велигор.
— Возможно, но лишь в том случае, если он не убьет тебя, — он же самый ловкий и сильный из пятидесяти. Наверное, мне его придется взять с собой…
— Этого не будет! Кудруна будет моей! — сквозь стиснутые зубы проговорил Велигор.
Его слова были заглушены предсмертным стоном одного из двух бойцов, упавшего на землю с рассеченной грудью.
Победитель, тяжело дыша, весь окровавленный, перешагнул через труп убитого товарища и, держа меч острием вниз, пошел к Велигору. Он знал, что идет звать на поединок того, кому еще совсем недавно подчинялся беспрекословно, кого любил, даже боготворил. Но теперь князь являлся для него лишь соперником, которого нужно было убить.
— Выходи! — сказал разбойник, обращаясь к Велигору как к равному, — они на самом деле были сейчас равны в своей любви к Кудруне.
О, это был очень сильный боец! Ростом выше Велигора почти на голову, да и шире в плечах; его обнаженный торс бугрился мышцами и блестел от пота, из колотых и рубленых ран на кожаные штаны струилась кровь, но его лицо выражало полное презрение к смерти и лютую ненависть к противнику.
— Придется выйти, — со смешком сказал Велигору Крас. — Стыдно отказываться князю.
И князь Гнилого Леса, быстро развязав ремешки, что скрепляли две половины его кожаного панциря, сбросил его на землю, снял с себя рубаху и лишь после этого выхватил из ножен меч. Не сводя с противника прищуренных глаз, Велигор выставил вперед меч, имевший большую крестовину для защиты руки, с чуть загнутыми вперед концами. Он ждал, когда разбойник первым нанесет удар.
— Не спеши, Гноище, отдышись вначале, — сказал он почти дружелюбно, — ты же долго сражался, убил пятерых, устал. Но ничего, сейчас ты отправишься к праотцам на вечный отдых, а я поеду добиваться руки прекрасной Кудруны!
Эти насмешливые слова произвели на разбойника, имевшего прозвание Гноище, именно то впечатление, которого и добивался Велигор. Крикнув: «Ты сам отправишься к своим предкам!», Гноище со всей мощью своей огромной руки размахнулся, и его меч, прочертив в воздухе дугу, пронесся у самого горла успевшего отклониться назад Велигора. Однако второй, более удачный удар разбойник нанести уже не успел — Велигор, сделав выпад, пронзил его грудь острием своего меча. Гноище с выражением невероятного удивления на лице широко раскрыл глаза, охнул и упал ничком, увлекая вместе со своим грузным телом застрявший в его груди меч Велигора.
Князь Гнилого Леса с деловитым видом перевернул труп на спину, извлек из него свой меч и тщательно вытер клинок о мех шкуры, валявшейся у него под ногами. Лишь потом он подошел к Красу и спросил у него:
— Так я могу ехать вместе с тобою к Грунлафу? Видишь, я оказался самым сильным из них. — И Велигор острием меча указал на площадку, заваленную телами разбойников.
Крас, словно сомневаясь в чем-то, озабоченно провел рукой по длинной своей бороде:
— Даже и не знаю, что тебе ответить, благородный Велигор. Ты и впрямь оказался лучшим бойцом, но, думаю, этого мало, чтобы оспаривать в состязании право на руку прекрасной Кудруны.
— Что я слышу, старик? — вскричал Велигор с гневом. — Не ты ли давеча говорил: поедет к Грунлафу самый сильный и умелый воин! Кто же этот воин, по-твоему? Не я ли?
Крас, сделав вид, что испугался гнева князя Гнилого Леса, залепетал:
— Ты, ты, Велигор, я не спорю! Но разве я могу представить тебя князю игов?
— Что же помешает тебе сделать это?
— А то, что ты страшно оскорбил посла Грунлафа, то есть меня. Ах, как позорил ты меня перед теми, кто лежит сейчас там, в круге. И вонючим старым козлом называл, и поганкой, и пнем. Да, гневлив ты, Велигор, и неучтив, крайне неучтив. А зачем метнул ты в меня свое копье? Что сделал я тебе дурного? Ну ладно, не уважил ты моей старости, так хотя бы имей уважение к миссии моей! Нет, не могу я ходатайствовать перед Грунлафом о тебе, поверь, никак не могу. Не примет он моего ходатайства!
Лицо Велигора исказилось злобной гримасой, он весь затрясся от бешенства и уже поднял меч, собираясь обрушить его на голову колдуна, но Крас, спокойно подняв вверх руку, коснулся ею запястья Велигора. У разбойника тотчас разжались пальцы, тяжелый меч упал на землю, и князь Гнилого Леса ошалело уставился на свою ладонь.
— Что со мной?! Что со мной?! — закричал он дико, видя, как вытягиваются пальцы его, делаясь плоскими и неестественно белыми. — Что ты сделал со мною, старик?
Крас молчал и лишь улыбался, наблюдая за тем, как рука Велигора покрывается вначале пухом, а потом и белоснежными перьями. Она меняла и форму свою — становилась тонкой, локоть выгибался вперед, и скоро стала она широким лебединым крылом, не имевшим ни человеческой кожи, ни кисти.
Велигор, ошеломленный, подавленный, молчал: превращение руки в лебединое крыло, той самой руки, без которой он теперь не мог бы сражаться, потрясло его душу. Ведь он верил прежде лишь в силу мышц, презирал богов и все, что лежит за пределами обычных вещей и обыденного разума.
Крас, уже без насмешки, с укоризной в голосе, заговорил:
— На кого ты поднял руку, жалкий, слабый смертный человечек, несчастный червяк, живущий лишь с утренней зари до заката? На чародея Краса, живущего вечно и презирающего вас, людей, за вашу недолговечность, суетливость, злобу, жадность! Велигор, я не прощаю обид, а поэтому наказал тебя. Везде ты будешь гоним, каждый примет тебя за оборотня, все отвернутся от тебя. Знай также, что, если левая твоя рука когда-нибудь коснется рукояти меча, она тоже превратится в лебединое крыло. И вдобавок страстная любовь к Кудруне будет пожирать твое сердце всю жизнь, словно червь, грызущий сердцевину плода, но никогда ты не утолишь страсть свою, потому что нет у тебя, урода, никакой надежды на взаимность.
Страшный стон, похожий на вой волка, вырвался из горла Велигора, обхватившего голову левой рукой и крылом, закрывшим все его искаженное мукой лицо. Крас рассмеялся:
— Велигор! Ха-ха-ха-ха! Гордое имя, очень похожее на имя князя Синегорья. Да только не тебе, а ему достанется Кудруна! Он красив, богат, он лучший витязь в Поднебесном мире!
Крас на удивление легко вскочил в седло. Насмешливым взглядом окинул лежавшие вповалку тела разбойников, перебивших друг друга лишь потому, что так захотелось ему, всемогущему, пожелавшему испытать силу своих чар. Колдун был доволен собой. Над телами разбойников причитали женщины, не понимавшие, почему их мужья скрестили мечи в поединках. Уже выезжая из городища, залитого бледным лунным светом, колдун крикнул им:
— Знайте, что они дрались за честь любить прекрасную Кудруну, дочь благородного Грунлафа!
И страшный раскатистый смех, смех существа, ненавидящего людей и богов, вместившего в себя все пороки и слабости когда-либо живших на свете, слился с топотом копыт хорошо отдохнувшего коня. Велигор тоже двинулся к лесу, спеша покинуть городище. Еще недавно мужественный, гордый, привыкший повелевать, он шел наугад, склонив на грудь голову с длинным клоком волос, и вдоль правого его бедра колыхалось белоснежное лебединое крыло, совсем не нужное человеку.
В рабочей горнице, склонившись над планом Ладора, Владигор вместе с мастером Яном за большим столом долго обсуждал, какие башни стоит перестроить, какие вовсе снести и заменить новыми, какой материал для строительства укреплений будет наилучшим. За последние годы Ладор похорошел — князь не скупился в помощи тем, кто сносил старый, обветшавший дом и сооружал новый из чистого, ровного леса, с резными подзорами, коньками, наличниками, сенями. Серебро таким хозяевам давал, конечно, в долг, на три, а то и на четыре года, но ростов[4] не брал, потому что ростовщиков терпеть не мог и гнал из города, если забредали в Ладор из чужих земель или заводились вдруг свои, доморощенные.
Устроили в Ладоре и водопровод — вода от источников, что били у подножия Дворцового холма, текла по врытым в землю глиняным, обожженным до крепости необыкновенной трубам прямо в нижние кварталы города, в подол и в слободы. Всякий, захватив из дому деревянные ведра, мог без труда набрать чистой, как слеза младенца, ледяной воды.
А вот оборонительные сооружения Ладора в последнее время сильно беспокоили Владигора. Построенные еще при прадеде его, сильно обветшали они, кое-где обвалились. Князь сердцем чуял, что грядут лихие времена и стены с башнями нужно обновлять немедля, потому-то он полдня и просидел с городовым мастером над чертежом Ладора, искусно выполненным на пергаменте ладорской выделки.
— Чего тебе? — резко обернулся Владигор, заслышав чье-то осторожное покашливание, и увидел безусого отрока Хлада, челядника, что служил вестником при дворце.
— Осмелюсь обеспокоить, князь, — тихо заговорил Хлад, — но у дверей уже довольно долго вас ожидает какой-то человек. Из Бореи, говорит. Кто его впустил во дворец, не ведаю, да и привратники сказали, что неизвестных не впускали, — врут, наверно, — улыбнулся отрок, — не мог же сей человек пролезть в окошко или пройти сквозь стену.
— Отчего же… — задумчиво молвил Владигор. Он был недоволен тем, что ему помешали, но при слове «Борея» встрепенулся. Ведь именно со стороны Бореи он и ожидал нападения после того, как оскорбил Грунлафа отказом жениться на его дочери. И вот снова Борея «стучалась» в его дверь, но с чем же на сей раз?
— Спросил, откуда из Бореи прибыл этот человек?
Отрок снова кашлянул в кулак, сказал:
— Говорит, что из страны игов…
— Впусти! — сам не понимая, почему он так спешит увидеть человека, пришедшего из страны Грунлафа, сказал Владигор, а потом, обращаясь к Яну, мягко проговорил: — Мастер, продолжим завтра. Приходи ко мне пораньше.
Ян поклонился и пошел к дверям, Владигор же, вовсе не желая, чтобы кто-то из борейцев видел план крепостных стен и башен, поспешно свернул пергамент. Едва успел он это сделать, как дверь, только что закрывшаяся за Яном, распахнулась и в покой проскользнул человек с ярко-рыжей бородой, весь закутанный в мантию серого цвета. Он тут же пал на колени и трижды стукнулся лбом о доски пола, потом воздел руки и проговорил с восторгом:
— Великий Сварог, многосильный Перун, благодарю вас за то, что не воспрепятствовали мне лицезреть благороднейшего князя Поднебесного мира, храбрейшего из храбрых, мудрейшего из мудрых, славного Владигора!
И вновь тремя ударами лбом об пол засвидетельствовал он глубокое почтение, а потом, не вставая с колен, пополз к Владигору, то и дело стуча лбом об пол. Князю уже стало досадно, что разрешил допустить к себе борейца, неведомо как проникшего во дворец. Бореец же, преодолев расстояние от двери до стоявшего у стола Владигора, обхватил его сапоги и с жаром принялся их целовать. Этого синегорец уже стерпеть не мог. Резко подняв ногу, Владигор с гадливостью высвободил ее из объятий рыжебородого и решительно потребовал:
— Довольно! Хватит! Говори, кто ты такой, как проник во дворец и что тебе нужно от правителя Синегорья?!
Рыжебородый медленно, с трудом поднялся с колен. Его некрасивое горбоносое лицо с коричневатой кожей выражало радость.
— Вот я у твоих ног, Владигор, и если бы знал ты, кем послан я, то не стал бы пихать меня ногами и дал бы облобызать твои сапоги, сапоги благороднейшего и умнейшего…
— Отвечай на вопрос! — прервал его Владигор, уже готовый приказать, чтобы стража выгнала этого несносного и подозрительного человека.
— Сейчас отвечу, храбрейший из отважных, — закивал бореец, приторно улыбаясь. Потом, будто не надеясь на то, что княжеская горница — безопасное для него место, оглянулся назад, зачем-то приложил руку ребром к краю рта и приглушенно заговорил: — Благороднейший, есть в Поднебесном мире одна дева, которая не спит ночами, проплакала все очи, похудела, и все из-за страстной любви к тебе. Уверен я, что ты не удивился, услышав об этом, — знаю, многие мечтают пусть не о браке с тобой, а хотя бы о том, чтобы ты хоть ненадолго разделил с ними ложе.
Владигор поморщился. Он на самом деле знал об этом, а поэтому был разочарован, подозревая, что к нему явился обычный сводник, зарабатывающий серебро на устройстве браков, а то и просто любовных свиданий.
— Ты говоришь так долго и так… скучно, — сказал Владигор пренебрежительно.
Бореец испугался:
— Ах, Стрибог Великий! Короче буду говорить! Знай, что не просто дева тоскует о тебе всечасно, а… а прекрасная Кудруна, дочь Грунлафа, князя игов.
Владигор не ожидал такого поворота дел. Правда, он никогда не видел Кудруны, но сердце его вдруг забилось — приятно было сознавать, что княжеская дочь сгорает от любви настолько, что ее чувство стало достоянием посторонних лиц. Впрочем, Владигор быстро справился с волнением, скрыв его за напускной строгостью:
— А, так ты от Грунлафа! Одному не удалось улестить меня браком с Кудруной, так другой явился? Передай же Грунлафу, что никогда…
Владигор не успел договорить. Рыжебородый вцепился в его руку, и не успел князь отдернуть ее, как она была осыпана поцелуями.
— Нет, великолепный, нет, блистательный! — скороговоркой заговорил бореец. — Не Грунлаф, а сама Кудруна, более не имея сил сдерживать чувства свои и уже готовая пронзить себе прелестную грудь кинжалом, послала меня тайно, велев передать, что если Владигор вторично откажет ей в союзе брачном, то лишь могила сможет прекратить ее страдания, ставшие нестерпимыми. Ах, как мучается девушка, князь! Целыми днями сидит она у окошка и смотрит на дорогу, что ведет к Синегорью, ожидая, не покажется ли всадник, дорогой ее сердцу? То целыми днями плачет Кудруна, нет, рыдает, то вдруг начнет, словно безумная, кататься по полу, приговаривая: «Ах, Владигор, Владигор! Зачем ты разбил мое сердце? Сколько прекрасных князей сватались за меня, но всех я прогнала ради тебя одного!» Поверь, Владигор, нет в Поднебесном мире человека более несчастного, чем Кудруна!
Сильное смущение охватило сердце Владигора, доброе от природы: «Неужели я явился причиной несчастья девушки? Я, преисполненный любви к людям, не желающий никому зла?» Бореец, как видно, уловил настроение князя и, живописуя мучения Кудруны, все с большим жаром рассказывал о ней, а когда увидел, что Владигор даже рукой провел по вспотевшему лбу, даже, отвернувшись, согнал с глаз невольно навернувшиеся слезы, то, придав своему голосу особое, таинственное звучание, добавил:
— Нет, не одни слова печали и горячего призыва к любви привез я в Ладор, князь Синегорья, не одни!
И, приподняв полу мантии, в которую был закутан от плеч до щиколоток, бореец снял с пояса кожаный мешок. Видя, что князь внимательно следит за его движениями, уже неторопливо развязал ремешок, что стягивал верх мешка, и вытащил из него плоский деревянный ящичек. Щелкнула пружинка замка, и вот уже была откинута крышка… Но перед тем как показать Владигору содержимое ящичка, рыжебородый торжественно сказал:
— Благородный князь! Разве могут слова о любви Кудруны тронуть твое сердце?! Нет, вряд ли. Вот поэтому прелестная княжна велела показать тебе, желанному, изображение лица своего, исполненное красками на деревянной доске. Лицезрей его, но знай, что в жизни Кудруна еще краше.
И Крас, ибо рыжебородым борейцем был не кто иной, как колдун, придерживая портрет за края, чтобы не закрывать изображение, показал его Владигору.
Владигор взглянул на портрет — и вздрогнул. Никогда прежде не видел он изображений людей, сделанных разноцветными красками, да еще так искусно. Разум ему подсказывал, что перед ним всего лишь деревянная доска, покрытая красками, но чувства отказывались принимать доводы рассудка. «Нет, — говорил он себе, — это живая и очень красивая девушка! И несомненно, что в жизни она точно такая же, какая явилась нам нарисованной на доске».
Владигор был ошеломлен. Да, если Кудруна и впрямь была такой, как изобразил ее неизвестный мастер, то краше женщины, чем она, князь в жизни не встречал. Душа молодого мужчины, неотрывно глядевшего на портрет, была притянута к образу никогда не виданной им девушки, и чары, подобные невидимым нитям, уже стали опутывать сознание Владигора. На миг ему почудилось, что без Кудруны он больше жить не сможет…
Но вдруг Владигор увидел, как глаза девушки, глядевшие на него прежде добро и открыто, прищурились, выражая сладострастие, и на губах, чуть обнаживших мелкие зубы, заиграла плотская страсть. Но и этого мало — нежная, как у младенца, кожа вдруг покрылась рябью, и из пор выступили капли крови. Вначале чуть заметные, они становились все крупнее и вот уже не могли удерживаться на поверхности доски и побежали вниз, оставляя багровые дорожки.
— Что это?!! — в ужасе прошептал Владигор, до того неожиданным было превращение красавицы в отвратительное существо. — Откуда эта кровь?!
Он даже провел рукой по поверхности доски, взглянул на ладонь — и точно: кровь, человеческая кровь, которую Владигору приходилось видеть на своих руках десятки раз, а не краска обагряла его ладонь.
— Кровь!! — вскричал он и отбросил от себя портрет.
Крас, изображая на лице сильный испуг, бросился к портрету, поднял его, сам провел по лицу Кудруны рукой, вернулся к Владигору.
— Какая кровь, князь? Где она? — вопрошал колдун, показывая Владигору картину. — Тебе показалось!
Князь взглянул на Кудруну снова — все то же прекрасное лицо, открытое и ясное, в котором светилось отражение мудрости и любви к людям, взирало на него.
«Да что же это я? — с досадой подумал Владигор, проведя рукой по лбу. — Не отнял ли Сварог у меня разум? Неужели брежу я, принимая красавицу за блудницу, нечестивую и грязную?» Но, опустив взгляд и нечаянно взглянув на свои пальцы, он увидел, что они запачканы кровью, уже начавшей подсыхать. «Неужели кто-то советует мне остерегаться этого рыжебородого посланника Кудруны?» — пронеслось в уме Владигора. Резко отвернувшись от Краса, Владигор сказал:
— Бореец, удались! Немедленно удались! Мне не нужна Кудруна!
Он не видел, как исказились черты лица колдуна. Злоба, уже не прикрытая желанием льстить, выразилась в том, что кожа Краса из коричневатой превратилась в зеленую, глаза вылезли из орбит и заняли пол-лица, зубы удлинились и вылезли изо рта, истекающего слюной. Если бы Владигор внезапно обернулся, то непременно возникло бы у него желание пронзить мечом это безобразное, гадкое существо. Впрочем, колдун быстро овладел собой, глаза и зубы его приняли прежние размеры, и лишь угодливость да еще печаль по поводу судьбы Кудруны изображались теперь на горбоносом лице рыжебородого.
— Ты все еще здесь? — через плечо спросил у него Владигор.
Колдун заскрежетал зубами, что было принято князем за скрип половиц.
— Я удаляюсь, всемилостивейший князь, — проблеял Крас, — но если ты надумаешь ответить на призыв Кудруны, то ищи меня в квартале, где живут иноземные купцы.
И, пятясь, колдун дошел до двери и скрылся за ней. Владигор остался наедине со своими думами. Он воскрешал в памяти образ Кудруны, столь поразивший его вначале, и это было приятно, но сразу же вспоминалось и существо с гадким лицом блудницы, испещренным оспой. «Как могло случиться это превращение и откуда взялась кровь? Выходит, изображение делалось не без помощи злого колдовства! Но какая же на самом деле эта Кудруна, и любит ли она меня так страстно, как об этом говорил посланник? Ах, если бы неподалеку был Белун! Он бы научил меня, как быть и что делать! Теперь же я в полном замешательстве и не способен своими силами выбраться из плена, в который заманило меня это дивное, божественное лицо! А может быть, мне просто показалось, и не менялось выражение лица Кудруны, и не выступала кровь? Ведь не увидел же я ничего такого, когда рыжебородый вторично подал мне доску».
Так рассуждал Владигор, и больше не думалось ему сегодня ни об устройстве Синегорья, ни о перестройке крепостных стен, ни о стрельбе из самострела. Размышления о Кудруне изгнали из его сознания все, что не было связано с ней.
Крас, покинув горницу, где принимал его Владигор, прошел мимо отрока-вестника и так глянул на него, что юноша часто-часто заморгал и не двинулся с места, хотя ему следовало проводить гостя до самого выхода из дворца. Уверенно, будто он был хозяином дворца или по крайней мере служителем князя, Крас пошел по сложным переходам жилища Владигора. Ему навстречу попадались челядники, стражники, другие слуги, но колдун не обращал на них внимания. К его поясу, как раньше, был привязан мешок с портретом Кудруны. Мысли колдуна полнились злобой. Никогда за многие тысячелетия своей жизни колдун не испытывал такой обиды. «Как могло случиться, — думал он, — что мое искусство не сработало в полной мере, так, как мне хотелось? Владигор выгнал меня, отказался от предложения Кудруны! Неужели кто-то помог ему? Но кто? Похоже, тот, кто сильнее или, во всяком случае, не слабее меня. А что, если Владигор такой же сильный, как я? Да нет, быть того не может — это букашка, жучок, хоть и красивый и зубастый, но все-таки жучок. Ну что же, берегись, Владигор! Прежде я хотел лишь посрамить тебя и Белуна, твоего наставника, теперь же… Нет, убивать я тебя не стану. В жизни я так много убивал, что мне наскучило это занятие. Я придумаю что-нибудь позабавнее. Ты будешь жить, но существование твое станет мукой для тебя и твоих родных. Все будут желать твоей смерти, но я не подарю тебе скоро это избавление от страданий! Впрочем, вот я уже и пришел…»
Кухонные запахи привели Краса туда, где он надеялся найти нужного ему человека.
— Послушай-ка, приятель, — обратился он к одному из поваров, — где бы мне найти Солодуху?
— Солодуху? Да вот он, потрошит курей! — указал повар деревянной ложкой в сторону копошащегося над куриными тушками неказистого поваренка.
Крас подошел к Солодухе, перед которым на столе уже лежала дюжина ощипанных кур. Колдун, не говоря ни слова и даже не касаясь куриных животов, прочертил пальцем над ними короткие линии, и птицы оказались разрезанными от шеи до гузки. Солодуха в изумлении поднял глаза на стоявшего перед ним Краса, а колдун дружелюбно сказал:
— Видишь, я помог тебе в твоей работе. Помоги и ты мне, Солодуха. Когда-то ты клялся, что не откажешь в помощи посланнику Грунлафа…
Солодуха заморгал бесцветными ресницами и поднялся с табурета.
Они прошли в темный угол кухни, где их никто не мог не только слышать, но и видеть, и Крас, резко изменив тон речи — у Владигора он подобострастно мямлил, теперь же говорил жестко и властно, — заговорил:
— Пришло время, кухонный таракан, проверить, сколь справедливы твои слова о том, что синегорский князь владеет каким-то диковинным оружием. Не ты ли говорил об этом?
Солодуха торопливо закивал:
— Я, господин, я! Сущая правда, владеет!
— Знай же, что Грунлаф не потерпит лжи, и я послан им затем, чтобы удостовериться, сколь справедливы твои речи. Ну, покажи мне, как и где мог ты наблюдать за княжеской стрельбой.
Солодуха, весь покрывшийся потом, потянул Краса за мантию, увлекая за собой.
— Вот здесь! — прошептал он, когда его рука дотронулась до досок стены.
— Где здесь? Я ничего не вижу! — недовольным голосом сказал Крас, ощупывая стену. — Ты что же, задумал обмануть самого Грунлафа?
Солодуха трепещущей рукой ощупывал стену, сквозь доски которой не проникало в каморку и малой толики света, и бормотал:
— Верьте мне, господин, там, за стеной, стоят глиняные болваны! По ним-то и стреляет князь Владигор из своего оружия! Я это видел! И слышал, что он собирался ополчиться против Бореи!
Крас приложил ладонь к дощатой стене:
— Здесь, говоришь?!
— Да, здесь, здесь, я не вру!
— Не врешь? Ну а что ты хочешь за то, что показал мне эту стену?
Глаза Солодухи замаслились, он уже ничего и никого не боялся, надежда на щедрое вознаграждение заставила его сердце забиться еще быстрее.
— Что? О, это так просто будет для вас! — прошептал он, заискивающе дергая край мантии колдуна. — Я хочу быть вечно сытым, проворным и сильным — никогда я прежде не был таким.
— Ну, продолжай, что еще? — торопил его Крас.
— Хочу быть тепло одетым, иметь свой дом. Хочу быть богатым! Хочу, чтобы мне подчинялись такие… как я!
Солодуха не видел зловещей улыбки колдуна, но едва поваренок закончил, Крас серьезно сказал:
— Все желания твои будут немедленно удовлетворены.
— Неужели?! — захлебнулся от восторга поваренок.
— Без всякого сомнения. Но только скажи мне, кто там пищит и скребется в углу?
Солодуха хмыкнул:
— Да это же крыса!
— Ах, крыса! — Колдун повернулся в сторону, откуда раздавался крысиный писк. — Крыса — это чудесно!
Нагнувшись, он взял в руку крысу, тотчас присмиревшую, едва его пальцы коснулись ее шерстки. Вернулся с ней к Солодухе, резким движением прижал зверька к груди поваренка и сказал голосом повелителя, жестко и громко:
— Пусть две твари станут одной! Две шкуры пусть срастутся! Двигайся, плоть, ты живешь уже, проворная, сытая, довольная всем!
Тотчас крик ужаса раздался в каморке. Боль пронзила все члены Солодухи, будто кто-то сотнями зубов вгрызался в его грудь, лицо, руки и ноги. Он помимо воли встал на четвереньки, вытянул шею, хотел было закричать, но изо рта вырвался жуткий вой, который странным образом становился все тоньше и тоньше, покуда не превратился в писк. И тело его, чувствовал Солодуха, становится каким-то чужим и удивительно маленьким. Вдруг он увидел перед собой огромные сапоги. Тогда только ему стало понятно, что с ним сотворил незнакомец. Он хотел что-то произнести, но вместо привычных слов услышал писк, вырвавшийся изо рта.
— Ну, ты доволен? — раздался над ним человеческий голос. — Ты хотел быть сытым? На кухне ты будешь сытым до смерти! Хотел быть тепло одетым? Я подарил тебе шубу! Хотел повелевать подобными себе? Ну так ты будешь крысиным князем, ибо я оставил нетронутым твой ум, довольно слабый для человека, но достаточно сильный, чтобы позволить тебе считаться самой умной крысой! Прощай, я ухожу! Помни, что сделал тебя счастливейшей из крыс вечноживущий Крас.
Колдун, шагнув к стене, приложил ладонь к щели, через которую Солодуха наблюдал за стрельбой Владигора, и щель широко раздвинулась. Крас беспрепятственно прошел в зал, где, как говорил поваренок, князь испытывал свое оружие.
Темнота прятала от взора колдуна все, что находилось в зале, но это его ничуть не смутило. Приподняв край мантии, он вынул из кожаного мешочка горсть светляков и, держа их на раскрытой ладони, осветил себе дорогу. Да, Солодуха не солгал — рядом со стеной выстроились в ряд десять глиняных болванов. После каждого испытания самострела Владигор приказывал менять фигуры, поэтому Крас, пройдя мимо каждой из них и хорошенько рассмотрев их, к своей досаде, не увидел на глине никаких следов от наконечников стрел и подумал было: «А не соврала ли крыса? Где же здесь снесенные глиняные головы? Задушить, что ли, сребролюбивого лгуна?» Присмотревшись к деревянной стене, что находилась за фигурами, Крас увидел, однако, в толстых досках глубокие отверстия, как будто железный бурав просверлил их с неизвестной целью.
«Интересно! — с любопытством ощупывал Крас эти дырки в тусклом мерцании светляков. — Лук не способен придать стреле такую силу удара. Из чего же стрелял Владигор?»
Но размышлять об этом долго Красу не хотелось. Ему не было дела до нового оружия Владигора. «Пусть Грунлаф выясняет, чем правитель Синегорья может грозить его стране, мне же необходимо лишь одно — посрамить Белуна, унизив, растоптав, уничтожив его ученика. Что до вмешательства в дела людей, то такими безделками Крас не занимается уже давно!»
Не желая терять времени, колдун извлек из ножен кинжал с тонким лезвием и, начав с крайней фигуры, стал чертить на груди глиняных болванов лишь одному ему понятные знаки. Ромбы, треугольники, круги, зигзаги располагались на каждой из фигур, соединяясь между собой прихотливым рисунком, повторявшимся без изменений. При этом Крас бормотал:
— Глина, холодная глина, оживи, одухотворись, вмести в себя то, чего в тебе прежде не было, стань Владигором, будь, как он, теплым, живым! Цвет кожи князя тебе придаю, мозгом наполню голову твою! Жизнь обретай, обретай!
И после того, как на истуканах были начертаны знаки, после того, как были произнесены заклинания, Крас видел, как изваяния, лишенные лица, рук, начинали шевелиться, словно и не глина, а человеческая плоть послужила материалом для их изготовления. И вот уже десять фигур, похожих на человеческие, шевелились, на короткий срок оживленные колдуном.
— Ну вот и прекрасно! — Крас был доволен своей работой. — Теперь, Владигор, у тебя десять братьев-близнецов. Можешь стрелять сколько угодно — стрелы пронзят твою собственную душу, ибо я вселил ее в этих болванов!
Взглянув еще раз на шевелящиеся фигуры, колдун проскользнул в каморку поварни, а потом его рука так соединила разошедшиеся доски, не оставив и узкой щели, что никто и никогда не сумел бы догадаться, что отсюда кто-то мог наблюдать за стрельбой князя Владигора.
Как бы сильно ни впечатлил правителя Синегорья образ дочери Грунлафа, как бы ни хотелось Владигору разыскать рыжебородого борейца, чтобы еще раз отдать себя во власть чар, исходивших от дивного изображения, однако прошел день, другой — и повседневные заботы настолько захватили князя, что он и думать о Кудруне перестал. На третий день Владигор, проснувшись утром в отличном расположении духа, со свежей головой и желанием работать, вспомнил, что два дня назад мастера, помогавшие ему делать самострелы, сообщили: готов к испытанию новый образец, изготовленный по чертежу Владигора.
«Позавтракаю быстро — и сразу же стрелять!» — подумал Владигор и соскочил со своей скромной, узкой постели.
То, что он увидел в мастерской, примыкавшей к залу для стрельбы, не слишком порадовало его. Этот последний самострел был тяжелым и громоздким уже в замысле своем: тетива натягивалась здесь сложным по устройству воротом с блоками. Однако Владигору очень хотелось испробовать этот тип оружия, чтобы или обнаружить его преимущества в стрельбе очень тяжелыми стрелами, или отказаться от такого самострела навсегда.
Новый самострел и ворот к нему показались князю изготовленными неудачно: ручки ворота скрипели, и зуб не сразу захватывал толстую, с палец толщиной, тетиву. Неудобен был и крюк спуска. Но Владигор, догадываясь, что причиной неудачи послужил неясно выполненный им чертеж, не стал бранить мастеров и велел им лишь зажечь свечи в той части зала, где стояли болваны. Сам же с самострелом и кожаным колчаном, полным стрел, торчащих вверх оперениями, встал к черте, откуда всегда вел стрельбу.
Свечи загорались одна за другой, и вдруг князь услышал встревоженные голоса мастеров, что возились со свечами.
— Что там, ребята? — крикнул Владигор, которому уже хотелось стрелять. — Что возитесь?!
Оба мастера подбежали к князю, один испуганно заговорил:
— Повелитель, сами не понимаем, что там такое! Мы свечи зажигаем и вдруг слышим, что болваны-то глиняные…
— Ну, ну говори! — нетерпеливо потребовал Владигор. — Что с болванами? Снова плохую глину для них взяли?
— Нет, княже, отменная глина! Какую ты любишь, такую и сыскали. Только… услышали мы, что будто кряхтят они да маленько пошевеливаются! Нечисто дело! Может, не стрелять тебе?
Владигор презрительно рассмеялся:
— Вы, братцы, видно, вчера вечером хмельной бражки перебрали! Чтобы болванам шевелиться! Идите в мастерскую, я стрелять начну!
Рога тугого железного лука были согнуты тетивой. Подняв тяжелое оружие, Владигор прицелился, плавно нажал на спуск, раздался громкий хлопок, и короткая, но толстая стрела понеслась вперед.
Вонзилась она в то самое место, куда целил Владигор, и едва тяжелый наконечник вошел в тело фигуры, как необъяснимая сладость охватила все существо Владигора — от сердца, словно круги по воде от брошенного камня, потекли во все части его могучего тела волны нежной истомы. Разум Владигора, однако, сразу же овладел этим внезапно нахлынувшим чувством.
«Это у меня от радости по случаю хорошего выстрела!» — мелькнула мысль, и вот уже князь вновь крутил ручки ворота, сгибая железное луковище самострела.
Вторая стрела угодила тоже в «сердце» глиняного чучела — и опять потекли, разбегаясь от сердца Владигора по всему его телу, сладостные волны неги, но теперь уже чувство победило рассудок. Кудруна вспомнилась Владигору как-то внезапно, будто нечаянно. Он даже увидел ее прекрасное лицо где-то рядом с горящими свечами, между болванов. Владигор догадался: чувства неги и радости, радости предстоящей любви, каким-то образом связаны с его стрельбой. Оставив ворот, он натягивал тетиву одними руками и торопливо посылал стрелы в глиняные фигуры, покуда все они не были поражены.
И чем больше он стрелял, тем сильнее жгло его это невыразимо приятное чувство. Владигор знал, что оно спешит сообщить ему о любви, такой сильной, такой всевластной, что нет сил сопротивляться ее чарам и нужно всецело подчиниться ей, чтобы не сгореть в пожаре бесполезной борьбы с нею.
«Бореец сказал, — вспомнил Владигор, — что найти его можно в квартале иноземных купцов. Я пошлю за ним немедля! Нет, я сам пойду туда сейчас, побегу! Я хочу во что бы то ни стало вновь увидеть портрет Кудруны, услышать от борейца о ее любви ко мне! Бегу! Я не боюсь унижения! Разве может унизиться влюбленный страстным желанием видеть лицо возлюбленной!»
Так думал Владигор, быстро шагая по переходам дворца. Изумленная стража увидела, как правитель Синегорья выбежал из дворца без мантии, шапки и меча — в одной лишь опоясанной рубахе, без коня, свиты. Прохожие останавливались, узнавая в бегущем по городу человеке боготворимого всеми князя, но он не замечал никого, глаза его горели и были устремлены только вперед.
Наконец он остановился у ворот подворья, отстроенного для временного приюта приезжающих в Ладор купцов. Здесь они спали, готовили пищу, хранили товары и держали лошадей. Распахнув ворота, Владигор буквально влетел на подворье и бросился к группе купцов, мирно о чем-то беседовавших:
— Бореец… такой рыжебородый… — только и сумел проговорить задыхающийся от волнения и бега князь.
— А ты, собственно, кем будешь? — строго спросил князя один купец, оглядев с ног до головы человека, весьма похожего на сумасшедшего. — Кто таков?
— Кто?! — вцепился в его свиту[5] Владигор. — Я — князь Синегорья! Не узнаешь?
— Ты — князь? — засмеялся купец. — Тогда я — сам Перун! Шел бы ты отсюда, князь, покуда по загривку не нащелкали!
Сильный удар, нанесенный Владигором, пришелся купцу прямо в челюсть. Он завопил, обращаясь к своим товарищам:
— Братья купцы, не позвольте всяким бродягам над вашим товарищем издеваться! Бейте этого оборванца!
Владигора тотчас обступили купцы, считавшие себя полными хозяевами подворья. Князь отбивался как мог, трое нападавших уже валялись в пыли со свернутыми набок носами, однако и ему досталось — губы разбиты, глаз заплыл. Меж тем из дома, что служил приезжим гостиницей, уже бежали слуги с палками, чтобы постоять за своих хозяев.
Вдруг чей-то громкий крик остановил их:
— Люди, что же вы делаете?! На правителя Синегорья руку подняли! Все казнимы будете!
Все посмотрели в ту сторону, откуда раздался крик, — человек с огненно-рыжей бородой, стоя на коленях, простирал к небесам худые руки. Потом, не поднимаясь с колен, он пополз к тому, кто называл себя князем, продолжая бить поклоны, ударяясь лбом о землю, от чего очень скоро его лысая голова стала черной от грязи. Обхватив сапоги князя, он стал их целовать, и все смотрели на эту сцену в смятении, а некоторые уже и в страхе.
— Так ты на самом деле… Владигор? — утирая кровь, текущую из носа, спросил купец, обидевший князя.
— Правда сущая! — без злобы, забавляясь испуганным видом купца, ответил повелитель Синегорья. — Прикажу — и сегодня ж ты с товарищами на казнь пойдешь!
Купцы все, как один, рухнули на колени и принялись молить Владигора о пощаде, но князю и дела не было до них — он поднял с колен Краса и отвел его в сторону.
— Ну, бореец, — зашептал Владигор, — теперь я к тебе на поклон пришел! Веди меня к себе, показывай доску с лицом княжны Кудруны!
Колдун, трясясь от восторга и едва сдерживая желание завыть по-волчьи от радости, забормотал:
— Идем, княже, идем! Вдоволь упьешься небесной красотой — хоть захлебнись ею! А что, проняла-таки тебя Кудруна, проняла дева?
— Не то слово, бореец! Ну, веди же к себе!
Когда Крас с Владигором прошли в каморку, занимаемую колдуном, тот долго возился в углу, якобы не находя ящичка с портретом, а на самом деле испытывая терпение князя, на которого то и дело посматривал с высокомерной насмешливостью, чувствуя, что Владигор теперь полностью в его руках.
— Ну вот, нашел, — сказал он наконец, протягивая князю доску. — Смотри! Краше лика не найдешь, хоть весь Поднебесный мир объедешь!
Владигор с жадностью прильнул к портрету взором: лицо Кудруны не изменилось к худшему, оставаясь все таким же прекрасным.
— Значит, ты говоришь, что и Кудруна любит меня? — спросил наконец князь, продолжая смотреть на портрет.
— Да, но этого мало… — как-то небрежно ответил Крас.
— Что значит «мало»? — встрепенулся Владигор. — Она любит меня, я люблю ее, к тому же Грунлаф желает, чтобы мы соединились в браке.
Крас позволил себе чуть презрительно рассмеяться, отвечая:
— Ты ошибаешься, князь. Так было раньше, теперь же, после того как ты отказом своим оскорбил его, он и видеть тебя не хочет. Знай, что благородный Грунлаф разослал повсюду гонцов и зовет князей и видных дружинников принять участие в состязании стрелков из лука. Тому, кто выиграет, достанется в жены Кудруна. Таково его решение…
— И Грунлаф не позвал… меня? — растерянно спросил Владигор.
— Не знаю, право, какие виды у благородного Грунлафа на тебя, но полагаю, что, если ты приедешь, князь игов не сможет тебя прогнать. Я и Кудруна уговорим его не гневаться и допустить умнейшего и храбрейшего Владигора до состязаний. О, приезжай! Состязание состоится на празднике после сбора урожая. Уверен, блистательнейший, что ты победишь, ведь всем известно: Владигор — лучший стрелок в Поднебесном мире. Кстати, — Крас зачем-то оглянулся, — ты бы мог показать свое искусство, поражая цели из… твоего нового оружия. Прости, но в Ладоре много говорят об этом. Если все увидят, что твое изобретение превосходит обычные луки, Грунлаф будет счастлив стать твоим тестем. Ну так решил? Что я передам Кудруне и ее отцу?
Владигор с вызовом посмотрел на Краса и сказал:
— Скажи, что князь Синегорья Владигор приедет! — и добавил: — Пусть все, кто думает добиться руки Кудруны, страшатся меня!
Князь, взглянув еще раз на изображение Кудруны, направился к выходу, но Крас остановил его:
— Повелитель! Ты что-то оставил здесь.
— Что же? — повернулся Владигор.
— Портрет Кудруны. Княжна прислала его тебе в подарок.
Спрятав портрет в ящичек, Крас с поклоном передал его Владигору. Прижав к груди драгоценную ношу, князь, счастливый и гордый, вышел из каморки колдуна.
Оставшись один, Крас долго трясся от смеха. Колдун не испытывал к людям ненависти, он просто презирал их, с виду таких сильных, отважных, умеющих строить дома и ковать оружие, сеять хлеб, выращивать овощи и сладкие плоды, но таких глупых и слабых, когда любовное чувство вдруг охватывало их.
— Ты мой, Владигор, мой! — шептал Крас. — Никогда тебе уже не избыть любви к Кудруне, а вернее, к ее портрету. Смотри на него, любуйся им. Скоро ты отправишься к Грунлафу, и Ладор останется без повелителя и защитника. Мы встретимся в Пустене, столице благородного Грунлафа, и уж там я тебя окончательно погублю!
4. Дорога копий и мечей
Не сразу Владигор сказал своей сестре Любаве, куда собрался ехать он после того, как с полей Синегорья будет собран урожай. Проницательная Любава замечала, что с братом происходит что-то странное. Делами Синегорья он занимался с меньшим тщанием, пиры и охота его не привлекали, зато стрельба из лука и какого-то нового оружия стала единственным его увлечением.
— Ты собираешься идти на войну? Но против кого? — спросила она как-то раз. — Разве в Поднебесном мире вот уже несколько лет подряд не царит радостное для всех затишье?
Владигор не ответил, лишь загадочно улыбнулся, поцеловал сестру и ушел в свои покои.
Любаву беспокоило, что брат стал каким-то неровным в поведении. Он то скрывался ото всех, подолгу был задумчив, то, напротив, проявлял бурную веселость даже тогда, когда обстановка требовала серьезности, — например, во время приема иноземных посланников. Он, видела Любава, чаще стал выказывать гнев по самым пустячным поводам, и, что казалось наиболее странным, перестал выносить присутствие рядом с собой представителей пола, к которому она сама принадлежала, — он почти ненавидел всех женщин, делая исключение лишь для нее одной.
Кончалось лето, был собран урожай, и вот однажды Любава была призвана Владигором в его горницу. Князь был серьезен и, стараясь почему-то не смотреть на сестру, сказал:
— Через три дня я отправляюсь в Борею, к Грунлафу, князю игов. Правительницей Синегорья за меня ты остаешься.
— Надолго ли? И что зовет тебя к поездке в немирную еще совсем недавно Борею? — спросила удивленная Любава.
— Я… без памяти влюблен в Кудруну, дочь Грунлафа. Я должен вернуться с нею или… не вернуться никогда. Теперь ступай. Мне нужно идти в сокровищницу, чтобы подобрать подарки для Кудруны.
Но Любава не спешила уйти. Слезы заструились по ее щекам, она бросилась перед братом на колени, схватила его руку и, покрыв ее поцелуями, заговорила:
— Брат, милый, молю тебя, не езди к Грунлафу! Ведь еще совсем недавно ты отверг брак с его дочерью, то есть нанес ему страшное оскорбление, хоть и поступил честно. Что же влечет тебя к нему теперь? Кто внушил тебе любовь к Кудруне, если ты даже не видел ее?!
— Нет, видел! — твердо заявил Владигор, подошел к поставцу и снял с полки портрет. — Вот она, смотри! Самая прекрасная на свете!
Любава взглянула на портрет. Сила власти, заключенная Красом в изображение Кудруны, распространялась лишь на мужчин, поэтому Любава осталась к нему равнодушной, хоть и видела, что оно действительно красиво. Да, оно было притягательно даже для Любавы, но чем дольше она смотрела, тем больше на этом лице проступало черт, начинавших ей не нравиться. Вот уже и нос перестал быть точеным, и глаза излучали не доброту, а ехидство и лукавство, и губы кривились в похотливой улыбке. Кожа спустя минуту покрылась оспинами, сквозь которые проступила какая-то темно-красная жидкость. Любава, уже готовая упасть в обморок, увидев превращение, успела-таки провести пальцем по портрету…
— Да это же кровь! — вскрикнула она и отбросила в сторону портрет, как это сделал совсем недавно и сам Владигор. — Брат, ты во власти злых чар!
— Сестра, ты все врешь, опомнись! — кинулся Владигор к портрету, чтобы поскорее убедиться в том, что Любава его обманула. Он с облегчением смахнул со лба мгновенно выступивший пот — с портрета на него смотрели добрые, лучезарные глаза любимой девушки, и не было на ее лице никаких следов крови.
К путешествию в Пустень, столицу Грунлафа, все было готово уже через три дня. На прощание Любава поцеловала брата, с тоской взглянула в его глаза и пошла прочь, закрыв лицо краем убруса.[6]
Все ладорцы вышли из своих домов, чтобы проститься с князем. Весть о том, что их правитель отправился за невестой, да не в братские Ильмер, Ладанею или Венедию, а к разбойнику Грунлафу, в Борею, облетела город, хотя Владигор о цели путешествия говорил лишь самым близким людям. Кое-кто из провожающих плакал, не чая, что князь возвратится домой живым, — жалели его и предчувствовали неисчислимые беды для Синегорья. Другие кричали:
— Ну и молодец у нас князь! К самому злодею Грунлафу не побоялся поехать!
— Возьми его дочку за грудки нежные да и приведи в Ладор! Будет тебе за то больше славы в Поднебесном мире!
Владигор, не слезая с седла, с улыбкою поклонился всем провожающим у городских ворот да и махнул рукой, указывая следовавшим за ним дружинникам, куда путь держать, и скоро дорожная пыль скрыла от горожан их князя.
С собою Владигор взял лишь тридцать человек, но зато самых лучших, проверенных в боях, сильных и красивых. Сам выбрал он для них и вооружение: брони и шлемы легкие, но надежные; выкованные в княжеских кузнях мечи, не длинные, но и не короткие, чтобы с седла удобно рубиться было. У каждого на правом боку — кинжал в красивых, с тиснением, кожаных ножнах. Луки с колчаном, полным стрел, а у некоторых — еще и по три коротких дротика. Щиты у всех круглые, сколоченные из крепких дубовых досок, толстой воловьей кожей обтянутые. Сумы переметные с подарками, что вез Владигор Кудруне, с провизией, шатрами были, помимо седоков с оружием, изрядной тяжестью даже для крепких, приученных к походам дальним, коней из княжеской конюшни. Сам же князь, облаченный в одну кольчугу, без шлема, вез в кожаном, нарочно пошитом для случая такого чехле самострел и полсотни стрел к нему.
— Все ж таки не понимаю, княже, — подъехал к стремени Владигора Бадяга, тоже взятый князем в поход, — из самострела ты в тайне большой от всех стрелял, силой сего оружия Синегорье укрепить хотел, страшась борейцев. Теперь же едешь в волчье логово, чтобы стрелою невесту себе сыскать, да и везешь диво свое с собою! Или, извини за простоту, ум твой любовь к той девке совсем отшибла?
— Не девка она — княжна! — метнул Владигор на дружинника грозный взгляд. — Признаюсь, что и впрямь жизни без нее не чаю, самострел же потому везу, что верю крепко: станет Грунлаф моим тестем, и никогда уж между Синегорьем и Бореей войны не будет.
Бадяга присвистнул и сказал:
— Союз с Бореей — что белка на дереве. Прыг-скок, с ветки на сучок, сейчас здесь — через мгновение там. Прадеды еще с борейцами воевали, мы воюем, и правнукам нашим с этими разбойниками войны не избежать.
— Не будем больше воевать! — нахмурился Владигор. — Мой брак с Кудруной конец вековечному раздору положит!
Бадяга промолчал, хоть и был уверен в том, что князь не прав и скоро сам в этом убедится.
Ехали быстро, поэтому через восемь дней пути вышли на берег Велонь-реки, нашли брод и перебрались на берег левый. Большая луговина открылась перед ними, а за нею — черной стеною лес дремучий.
— Смотрите-ка, дорога! — указал один из всадников на неширокую, едва заметную в траве дорогу, что шла от брода к лесу.
— Не нравится мне дорога эта, — прищурился Бадяга. — Здесь, я знаю, справа есть дорога побольше да поизвестней — купеческая, в обход леса. С четверть дня пути до нее. Эта же куда-то в лес идет…
Но Владигор уж в бока коня каблуками ударил, крикнул через плечо:
— Бадяга, тебе ли бояться леса? Здесь путь короче! Айда за мной, ребята!
По лугу ровному кони скакали резво, но, немного до леса не доехав, увидел Владигор, что из-за деревьев появился всадник. Медленно коня направил к Владигору, и во всем облике его князь узрел угрозу для себя. Был тот всадник в кожаных доспехах, но шлем был на нем железный, с защитною личиной, что закрывала пол-лица. Не на левой, а на правой своей руке имел он большой щит с верхом круглым, но заостренным низом — наподобие березового листа; из-за спины его выглядывали белые оперения стрел, в левой же руке наготове держал он тяжелое и длинное копье.
— Владигор, сейчас умрешь ты! — только и промолвил всадник и тотчас, ускорив бег коня, направил его к Владигору.
Не понимая, кто и ради чего покушается на его жизнь, и совершенно не желая умирать, Владигор перекинул со спины на грудь свой круглый щит и крикнул, не оборачиваясь и лишь подняв вверх руку с раскрытой ладонью:
— Копье мне! Скорее!
Сейчас же один из дружинников бросил ему копье. Владигор на лету поймал его и выставил наконечником вперед. Если б хоть на мгновение запоздал — плохо бы ему пришлось. Копье неизвестного противника угодило прямо в крепкий Владигоров щит и сразу же переломилось пополам от сильного удара, чуть не выкинувшего князя из седла. Но и противник, на всем скаку налетев на копье Владигора, был отброшен назад и, не удержавшись в седле, скатился на землю.
Князь теперь мог бы легко убить его, но приканчивать беззащитных, а тем более безоружных, было не в правилах Владигора.
— Поднимайся, сумасшедший, неизвестно ради чего бросающийся на людей с копьем! Продолжим бой на мечах! — сказал Владигор, спешившись и вынимая из ножен меч.
Неизвестный, услышав предложение Владигора, поднялся с земли и, обратясь к дружинникам, следившим за поединком, с мольбой воскликнул:
— Будьте милосердны, дайте мне палицу или секиру! Дайте скорее!
Его просьба показалась дружинникам до того странной, что некоторые из них рассмеялись: какой-то разбойник мало того что напал на их господина, но еще и просит у них же оружие, чтобы продолжить начатое злое дело.
— Дайте ему меч, — с улыбкой сказал Владигор, и тотчас Бадяга, которого тоже весьма забавляло происходящее, потянул из ножен меч со словами:
— Возьми мой клинок, о храбрый витязь, чьи мозги выдул из головы могучий Стрибог!
Дружинники захохотали, но неизвестный закричал еще громче. Теперь в его голосе слышался вопль отчаяния и даже безнадежной скорби:
— Не надо меча! Палицу дайте или копье!
Владигор, продолжая улыбаться, убрал свой меч в ножны и легко вскочил в седло:
— Все, братцы, заезжаем в лес. Не биться же мне с каждым полоумным! Этак и до Бореи к сроку не доберемся!
Отряд с хохотом снова двинулся в путь, но долго еще за спиной слышались истошные крики человека, оставленного ими на лугу:
— Владигор! Все равно не видать тебе руки Кудруны! Она моею будет, моею-у, по-мни-и-и!!
Князь молча ехал по лесной дороге, погруженный в мечты о встрече с возлюбленной своей, когда его догнал Бадяга. Дружинник, тревожно озираясь, заговорил:
— Не по нраву мне, господин, этот лес. Не Гнилым ли его зовут? Да и этот богами обиженный, что затеял драться с тобой, откуда он только взялся? Что ему от тебя было нужно?
Владигор с грустью ответил:
— Не столь он, полагаю, сумасшедший, каким кажется. Слышал, что кричал он о Кудруне? Эх, брат, догадываюсь я, что он той же стрелой поражен в самое сердце, как и я. Не пойму только, почему отказывался он от меча?
Бадяга махнул рукой:
— Чего тут непонятного, княже? Не держал он никогда в руках меч, вот и вопил: дайте булаву, дайте булаву! Мужик, одним словом, сволочь, смерд! Хватит о нем вспоминать — не стоит он того! Давай лучше вот о чем порассуждаем: как в состязании тебе первым выйти, коль уж победить вознамерился…
Витязи ехали по узкой дороге, и ничто в этом красивом дремучем лесу, полном запахов, птичьей и звериной возни, не настораживало их, не говорило об опасности. Но едва они заехали в чащобу, Владигор вдруг перестал внимать болтливому Бадяге, натянул поводья, останавливая коня, и поднял руку, требуя от остальных сделать то же самое. Навстречу отряду бежала простоволосая и босая женщина в нищенской одежде. Подбежав к Владигору, она повисла на узде его коня и, видно догадываясь, что он глава отряда, заговорила, глотая слезы:
— Там… там на нашу деревушку напали разбойники! Все жгут, уводят скот, поубивали много наших! Помогите, господин, а то они всех, всех перебьют!
— Но где же деревушка? — удивился Владигор, не видя впереди ни поляны, ни хотя бы широкой просеки.
— Недалеко, я покажу вам! Там дорога! Помогите!
Бадяга, наклоняясь к уху Владигора, проговорил:
— Не советую я тебе, княже, слушать эту проходимку. Места здешние — нехорошие места. Гляди, нарвемся на беду…
Если бы дружинник не дал такого совета, Владигор, возможно, оставил бы без внимания просьбу женщины, появившейся на лесной дороге так неожиданно, будто она давно уже караулила всадников. Но дух противоречия, который в последнее время все чаще давал себя знать, заставил князя крикнуть:
— Посмотрим, что там за разбойники! Оружие держите наготове!
Подняв женщину, он посадил ее позади себя, велев обхватить его за пояс и указывать дорогу. Всадники двинулись по дороге рысью. Женщина велела Владигору свернуть направо, потом налево, и вот обширная поляна открылась неожиданно перед всадниками.
Несколько строений, окруженных валом, виднелось впереди, и все они были окутаны дымом. Мало того, женские крики, вопли, крики о помощи неслись оттуда, так что сомневаться в том, что в деревушке творится неладное, не приходилось.
— Мечи из ножен! Вперед! — отдал приказ Владигор и первым поскакал туда, где виднелся узкий проезд между валами.
На резвом своем коне он мигом проскочил валы и влетел в селение. Но Владигор ошибался, предполагая, что увидит сейчас кровавую картину погрома, — на площади посредине селения не было ни души, все дома пребывали в целости, а густой дым валил, вероятно, от костров, разведенных за ними. Он хотел было обратиться к женщине с вопросом, что все это значит, но вдруг почувствовал, что она слезает с коня и одновременно тащит из ножен его меч, а из-за пояса кинжал. Спрыгнув на землю и забежав немного вперед, женщина, кривляясь и размахивая перед Владигором похищенным у него оружием, заорала, и как же теперь не похож был ее голос на тот, каким она молила князя о помощи:
— Что, съел, витязь? Перехитрила я тебя, ласкового! Ага, будешь впредь осторожней в лесу! Ха-ха-ха!
И тут все дружинники и сам Владигор увидели, что из-за домов выбегают воины в рогатых шлемах, в кольчугах и чешуйчатых бронях, с мечами на поясе, — у каждого в руках натянутый лук и по две готовых к бою стрелы зажаты в зубах.
Вдруг из-за одного из домов вышла женщина в красивом платье и с распущенными волосами.
Она остановилась шагах в пятнадцати от Владигора и с улыбкой сказала:
— Витязи, вы во владениях княгини Каримы. Если подчинитесь моей воле, то вам не причинят вреда. В противном случае всех вас пронзят стрелы моих воинов. Выбирайте: или вы спешитесь и станете на одну ночь моими гостями, или — немедленная смерть.
Владигор, не любивший подчиняться чужой воле, поигрывая концом поводьев, насмешливо сказал:
— О прекрасная Карима! Уж не медвежьи ли берлоги и не волчьи ли логова будут служить покоями для князя Синегорья Владигора и его дружинников? А может быть, эти вот грязные лачуги? Что ж, честь, оказанная нам тобою, велика! Благодарим, благодарим!
И Владигор с явной издевкой поклонился Кариме. Женщина, насупив брови, мрачно проговорила:
— Что ж, ты выбрал второе. Ну не жалей тогда…
Вдруг конь под Владигором взвился на дыбы, пронзительно заржал и рухнул наземь, увлекая за собою князя, не успевшего заметить, что в грудь его скакуна едва ли не по оперение вонзилась пущенная кем-то стрела. Выбираясь из-под мертвого коня, князь подумал: «Всех перебьют! Эх, попали в западню!»
Встал на ноги, увидел стрелу, что пронзила лошадь, и сказал:
— Хорошо, прекрасная Карима, принимаю приглашение твое. Надеюсь, не мясом моего Лиходея ты станешь нас угощать?
Карима сдержанно улыбнулась:
— У меня найдется, чем угостить вас, витязи.
Князь махнул дружинникам рукой — спешивайтесь, дескать, сам же первым делом отвязал от седла обвитый кожей самострел, мешочек с самыми ценными подарками для Кудруны и подошел к Кариме.
— Ну, княгиня, — проговорил он с улыбкой, не веря, что эта женщина может принадлежать к какому-либо княжескому роду, — веди в свои покои. Посмотрим, как примешь ты Владигора. Покамест ты была негостеприимна. Любимого коня убили…
— Моя конюшня, может быть, и не столь богата, как у тебя, Владигор, но замену твоему скакуну найду, не беспокойся. Следуй за мной. — И величественным жестом Карима указала Владигору дорогу.
Они обошли убогие полуземлянки, за которыми все еще дымили костры, разложенные, как понял теперь Владигор, чтобы обмануть доверчивых путников. Князь оглянулся: его дружинники шли следом, но воины в рогатых шлемах и с луками наготове сопутствовали им, и странным показалось Владигору, что все, как один, они были безбородыми, хоть и имели довольно грубые, мужественные лица.
— Вот мой дворец, — указала Карима на деревянный одноэтажный дом, довольно большой в длину, с оконцами, закрытыми слюдой, но совсем простецкий. — Он хоть и не такой прекрасный, как твой, наверно, но мне нравится.
— Мне тоже, — постарался скрыть улыбку Владигор.
Карима, распахивая дверь, пронзительно заскрипевшую, громко сказала, обращаясь уже ко всем то ли пленникам, то ли гостям:
— Милости прошу, славные витязи, проходите в мои покои! Вы убедитесь в том, что и в лесной глуши есть места, способные дать приют благородным мужам!
Владигор вошел в просторную горницу, освещенную множеством горящих лучин, — пол ее был покрыт шкурами: медвежьи, волчьи, рысьи, оленьи, они лежали возле низких столов, сколоченных из чисто струганных досок. Шкурами были обиты и стены помещения, а между ними крепились ветвистые рога оленей и лосей, и казалось, что животные, обступившие дом со всех сторон, ударили рогами в тонкие стены и прошибли их, желая покарать хозяйку за ее страсть к охоте.
— Располагайтесь как вам заблагорассудится, почтенные гости, — показала Карима на шкуры, — а я отдам указание подать вам угощение.
Плавной походкой хозяйка дома удалилась. Бадяга тотчас же шагнул к Владигору и прошептал ему на ухо, еле сдерживая смех:
— Если бы мне раньше сказали, Владигор, что Бадягу Младшего, да еще при оружии, бабы пленят, никогда бы не поверил!
— Как — бабы? — поразился Владигор. — Воины же луки на нас нацелили! В шлемах, в кольчугах, при мечах!
— Что с того, что в шлемах да при мечах! Рассмотрел я, покуда вели, какие они воины, — бабы с титьками, из-под кольчуг выпирающими! Нет среди них мужиков! Сами что хотят, то и делают! Разбойницы, короче!
Владигор, пораженный открытием дружинника, не знал, что и ответить ему. В раздумье опустился он рядом с Бадягой на шкуру, но не возлег на нее, как другие, а сел, скрестив ноги. Было ему стыдно, что не распознал подвоха, что не отдал приказа дружинникам вырваться из селения с боем, — ушли бы. Не поздно было сделать это и сейчас, но все еще удерживался Владигор от решительных действий — хотелось узнать, что нужно Кариме.
«Что-то ей нужно, и, верно, не сокровища, не товары. Для грабежа заманивать в деревушку нет смысла. Легче было бы там, на узкой лесной дороге, всех нас перебить из луков. Здесь что-то другое…»
Вдруг мысль ярче молнии озарила сознание Владигора: «Она готовит нам угощение! Ради этого и позвала в этот убогий дворец. Стало быть, нужно быть осторожным!»
Всегда на поясе носил Владигор мешочек с противоядием — порошок тот был подарен ему давно самим Белуном, на случай если в походах придется пировать у незнакомых людей. Раз пять всего-то и пользовался этим снадобьем Владигор, поэтому мешочек был полон. Быстро князь снял его с пояса, немного порошка отсыпал себе на ладонь, Бадяге передал, тихонько сказав:
— Щепотку отсыпь себе, подмешай ее в первую чашу, не то, подозреваю, нас здесь уморить собрались. Каждый пусть отсыпет себе толику и передаст другому! Ну, быстрее!
Не успел мешочек обойти сидевших по кругу воинов, как явилась Карима, а следом за нею чередою стали входить женщины с глиняными кувшинами и чашами в руках. Все они были облачены в короткие платья из шкур, все улыбались, и длинные распущенные волосы у них были гладко расчесаны гребешками, а у некоторых даже украшены веночками из скромных лесных цветов.
— Княже! — прошептал Бадяга восхищенно, наклоняясь к Владигору. — Эти же бабы в шлемах да кольчугах были! Ей-ей, я вон ту чернавку признал. Ишь ты, как угощать собрались!
Владигор все более мрачнел, потому что был не в силах понять, что нужно от него и дружинников княгине леса, а Карима меж тем заговорила:
— Вы наши гости, витязи, и чтобы ничто не мешало вкушать вам наши угощения, снимите с поясов мечи и передайте их моим прислужницам.
— Нет, княгиня, — почти гневно возразил Владигор, — в моем княжестве оружие гостя не уносится во время пира, а снимается с пояса и кладется подле него. Дозволь уж нам соблюсти обычай моей страны.
Было видно, что Кариме неприятно возражение Владигора, но она, немного поразмыслив, кивнула:
— Что ж, вы — мои гости, и я во всем обязана вам угождать.
Владигор махнул рукой, и дружинники, поняв его знак, поснимали с поясов мечи и положили возле себя, хотя и знали, что такого обычая в Синегорье нет, просто не принято являться на пир вооруженным — вот и все.
А женщины, встав каждая близ одного из возлежащих мужчин, наполнили их чаши медом, духовитый запах которого тут же поплыл по помещению. Руки дружинников, соскучившихся в пути по вкусному хмельному напитку, невольно потянулись к чашам, но Владигор сказал:
— Благородная княгиня, есть в Синегорье еще один обычай: перед первой чашей все мужчины наши добавляют в брагу или мед немного целебного снадобья, которое придает бодрости, ума и силы. Дозволь и здесь не отступать нам от обычаев родимых мест.
Эта просьба, похоже, оказалась больше по душе Кариме, чем первая, и она с улыбкою кивнула:
— Охотно дозволяю, витязи. Вкушайте мой мед с вашим зельем. Пусть оно вселяет в вас отвагу, мужество и силу. Нам, женщинам, все это не может не нравиться.
Владигор и дружинники растворили в чашах лекарственное снадобье и, не тревожась больше ни о чем, подняли их за здравие хозяйки дома.
Мед, брага, пиво полились рекой. Женщины то и дело уходили, чтобы принести новые кувшины, а также горшки с едой. Дружинники, орудуя деревянными ложками, ели похлебки с лосиным мясом, с зайчатиной, с мясом глухарей и тетеревов. Затем на огромных блюдах им было принесено жаркое из оленины и медвежатины. Не прошло и получаса, как захмелевшие от меда и браги, да и от присутствия молодых женщин, дружинники забыли о том, какие обстоятельства привели их на этот званый пир. Хохот, громкие разговоры, жир, текущий по подбородкам, хруст разгрызаемых костей, плеск разливаемых напитков, жадные взоры, бросаемые мужчинами на тех, кто приносил им еду и питье, а потом присаживался рядом с ними на шкуры, порою даже смелые объятия — все это видел и слышал Владигор, сам почти не прикасавшийся к чаше и еде. Он догадывался, что за всем происходящим скрывается не просто гостеприимство лесной княгини, но и какой-то умысел, пока неведомый ему.
Карима сидела рядом с Владигором, готовая подлить меду или браги ему в чашу. Князь видел, что женщина красива, даже очень красива, но образ Кудруны, являвшийся тотчас, едва он смотрел на Кариму, сразу же затмевал красоту лесной княгини. Видел он еще, что она смотрит на него с лаской, почти с любовью, и порой как бы невзначай поглаживает его могучую, обнаженную до локтя руку.
— Твоим людям нравится здесь, — сказала она. — Разве они не захотели бы остаться с этими красавицами навсегда? Все они одиноки и жаждут любви.
— Как? — притворно удивился Владигор. — Разве у вас нет мужей? А кто же тогда целился в нас из луков?
Карима насмешливо улыбнулась:
— У нас нет мужей, а целились в вас вот эти женщины, только прежде они были облачены в доспехи, теперь же на них обычная одежда.
Владигору все стало ясно: эти полудикие и отчего-то одинокие женщины заманили их сюда, чтобы сделать своими мужьями.
— Карима, — недоверчиво начал Владигор, — ты хочешь убедить меня в том, что и олень, и лось, и даже медведь убиты твоими подданными, или подругами, не знаю, как правильнее их называть…
— Ну да! Что тут странного? Ведь они живут в лесу, вот и приходится жить охотой. Правда, и овощи мы выращиваем тоже, а за хлебом иногда выбираемся в деревни, что находятся у леса. Но главное для нас, конечно, охота! Все мы превосходно стреляем из луков, я — лучше всех! — с гордостью сообщила женщина.
— И неужто у вас не было мужей?
— Нет, были, — нахмурилась княгиня леса, — но прошло уж больше месяца с тех пор, как их не стало. Все они… поубивали друг друга.
— С какой же стати? — насторожился Владигор.
Карима вздохнула:
— Однажды на лесной дороге наши мужья разбили один отряд, так, наживы ради, и привели с собою старика, который показал им какую-то раскрашенную дощечку, после чего все мужчины словно потеряли разум. Схватив мечи, они с криками «Кудруна! Кудруна!» стали драться друг с другом и сражались до тех пор, покуда не пали мертвыми один за другим. Мой муж, князь Велигор, тоже обезумел и тоже дрался за эту неведомую Кудруну… Я же ушла рыдать, потому что муж для меня был теперь потерян…
— Его убили?
— Нет, среди убитых его тела я не нашла, но где он сейчас, не знаю. — И тут Карима, сжав пальцы в кулаки, со сверкающими глазами вскочила на ноги и закричала: — Я бы растерзала эту негодную Кудруну! Я бы ногтями разорвала ее грудь, вырвала бы ее сердце и бросила бы его собакам! Как мы любили своих мужей! Как я любила Велигора! Теперь же по вине Кудруны мы всего лишились! О, горе нам, горе!
Обессиленная криком, она опустилась рядом с Владигором. Он спросил:
— Что же мог показать мужчинам тот старик? Что заставило их драться?
Карима раздраженно пожала плечами:
— Откуда я знаю! Теперь мне все равно…
Тут она три раза хлопнула в ладоши, и женщины, что возлежали рядом с дружинниками, повернули к повелительнице головы. Карима дважды щелкнула перстами — сразу десять лесных охотниц поднялись и заняли пространство между столами, составив круг, а у сидящих женщин откуда ни возьмись в руках появились бубны с бронзовыми бляшками на ободах. Словно кто-то дал команду, раздался одновременно грохот полутора десятков бубнов. Ладони и пальцы охотниц ударяли в натянутую кожу, и танцовщицы стали двигаться по кругу, в такт движению и музыке восклицая гортанно: «Э-хох! Э-хох!» Они резко двигали руками, и обнаженные ноги тоже ступали резко, будто женщины пытались раздавить на полу что-то лишь им одним видимое.
Гром бубнов, крик, топот ног становились все громче, все быстрее двигались по кругу танцовщицы, взметывая вверх руки, отбрасывая назад головы так, что их длинные волосы бились о спины. Тела женщин, гибкие, как у ящериц, извивались, бедра двигались вправо-влево, руки мелькали в воздухе подобно веткам дерева, которые треплет ветер. Дружинникам, никогда не видевшим такой дикой пляски, казалось, что сам Стрибог ворвался в дом и закружил в бешеном, неудержимом вихре этих женщин. Они поднимали колени так высоко, что на мгновение обнажались ягодицы и самые запретные для глаза места. И вот уже вскочил со шкуры один воин, ворвался в этот хоровод и понесся вровень с одной из женщин, обнимая ее за талию, за ним последовали другой, третий, четвертый, пятый, покуда едва ли не половина дружинников Владигора не оказалась в круге, созданном опьяненными танцем женщинами, и все они также кричали: «Э-хох! Э-хох», и лица их выражали восторг, хотя в Ладоре они имели и жен, и возлюбленных, куда более пригожих, чем эти грубые охотницы.
— Смотри, Владигор, — шептала Карима князю, завороженному видом пляски, — смотри, как радуются твои воины! О, они будут счастливы здесь, они забудут обо всем! Чем плох лес? Здесь мы хозяева! Оставайся и ты здесь, Владигор! Я буду любить тебя так, как никто не любил тебя! Ты будешь князем леса!..
И Владигор уже тянулся к Кариме, уже обнимал ее, ему хотелось вбежать с ней в круг и так же, как его воины, отдаться безумной пляске, но тут облик Кудруны снова возник перед мысленным его взором, и он оттолкнул от себя Кариму:
— Довольно! Оставь меня и моих людей! Мне нужно ехать к князю Грунлафу, где меня ждет прекрасная Кудруна! Она не чета тебе!
Ярость рыси, рвущей тело жертвы, вспыхнула в глазах Каримы. Она резко поднялась, три раза хлопнула в ладоши, — бубны и топот ног разом стихли. Мужчины и женщины, замерев в нелепых позах, с выражением откровенного недовольства посмотрели на Кариму, а она сказала властно:
— Садитесь по местам! Мужчины устали!
И все, притихшие и огорченные, вновь возлегли на шкуры. Карима, глядя прямо в глаза Владигору, сказала:
— Я знала, что ты едешь к Кудруне. Все вы помешались на ней. Но я успела приготовиться, Владигор: в напитки, которые вы пили, было подмешано приворотное зелье. В самых укромных уголках леса, когда светила полная луна, я собирала травы, известные лишь мне одной. Я сушила их на ярком солнце, а после, когда толкла их в ступке, проговаривала заклинания. Знай, что никогда уже ни ты, ни твои дружинники не смогут забыть тех женщин, что подносили вам напитки с моим любовным снадобьем. Богиня любви Лада и заступница всех женщин Мокошь мне помогали. Видишь, не одна Кудруна может увлекать мужчин, но и я, Карима!
Владигор усмехнулся и тоже поднялся:
— Напрасно ты старалась, кудесница. Порошок, который был всыпан нами в чаши, — надежная защита от всех снадобий. Но за угощение спасибо. Теперь же нам надо ехать. Ты обещала мне коня…
Отчаяние исказило черты лица Каримы. Она схватила Владигора за руки, приблизилась к нему и зашептала:
— Останьтесь хотя бы до утра! Витязи, ну что вам стоит? Наши женщины хотят любви, детей, так неужели вы будете столь жестокосерды и не даруете нам это?
— Нет! — не раздумывая, ответил Владигор, в сознании которого все ярче светился образ Кудруны. — Нужно ехать! — И, обращаясь к дружинникам, сказал: — Выходим!
— Никуда вы не уйдете, никуда! — дико прокричала вдруг Карима. — Ты оскорбил меня своей любовью к Кудруне, ну так поплатишься за это! Мечи-и-и!!
Тотчас тридцать женщин вскочили на ноги, и в руках у каждой был меч дружинника. Владигор увидел, что ему прямо в горло Карима нацелила острие его собственного меча.
Она рассмеялась зло и совсем не по-женски, потом сказала:
— Тебя я не удерживаю, Владигор, — можешь ехать к своей ненаглядной Кудруне, а вот дружинников ты мне оставишь. Из их числа я и выберу себе мужа, другие же станут супругами этих женщин.
Владигор печально улыбнулся:
— Неужели ты не понимаешь, что воин никогда не подчинится воле женщины? Не было такого в Синегорье, чтобы женщины силком принуждали к браку того, кто носит меч.
— Мы тоже носим мечи и не хуже, чем вы, владеем ими, поэтому вправе требовать от вас стать нашими мужьями! Хочешь, мы покажем свое искусство? Выстави дружинника на круг, а я против него поставлю свою дружинницу. Если победу одержит твой воин — уезжай! А если, — Карима прищурила глаза в недоброй усмешке, — если победит моя воительница, то все вы, тебя включая, должны будете остаться здесь, в моих владениях. Согласен?
Владигор хотел было возразить, мол, никто из его дружинников не опозорит свой меч схваткой с женщиной, но, увидев суровые, безжалостные лица готовых на все женщин, коротко сказал:
— Бадяга, будешь драться!
— Княже! — с мольбой в голосе воскликнул дружинник. — За что такой позор? С бабой драться? Да никогда!
— Будешь!! — повторил Владигор. — Повелеваю, ты мой слуга!
Лишь тяжкий вздох Бадяги был ему ответом. Меж тем Карима обратилась к одной из воительниц:
— Млада, надень кольчугу, шлем и выходи на двор. Покажешь этим городским крысам, что девы леса сражаются не хуже их! Убей его! Остальные пусть держат мужичков на острие меча, а то, глядишь, и сбегут, как зайцы! Ха-ха-ха!
Владигор и дружинники увидели, что к выходу из горницы с равнодушным видом направилась охотница, покатые плечи которой, полный стан, толстые шея и руки свидетельствовали о ее недюжинной силе. Не взглянув на княгиню, она вышла на двор, и скоро Владигор сквозь слюду оконца увидел ее уже в рогатом шлеме на голове и в кольчуге. Млада деловито помахивала мечом, разминаясь перед поединком, и было слышно, как гудит рассекаемый клинком воздух.
— Вперед, Бадяга! Дайте ему меч! — приказал Владигор, и сразу женщина, которая ухаживала за Бадягой, подала ему его оружие.
Проходя мимо Владигора, Бадяга недобро на него взглянул и процедил сквозь зубы:
— Ну и удружил ты мне, княже. Век помнить буду!
Владигор же вслед ему шепнул:
— Жалеть не надо…
Когда Бадяга вышел, Карима произнесла, обращаясь к Владигору:
— Пройдем и мы на двор. Будем судьями наших поединщиков.
На ровной площадке перед домом стояли двое — мужчина и женщина, оба крепкие телосложением, в кольчугах, обтягивавших их торсы. Женщина, широко расставив ноги и положив клинок на плечо, казалась совершенно невозмутимой. Ее, как видно, не пугала ни собственная смерть, ни то, что человек, с которым она только что пила мед и плясала, будет ею убит.
Бадяга же заметно волновался. Воин то чертил что-то своим длинным мечом на земле, то сгибал едва ли не в дугу клинок отличной ладорской ковки. На противника, вернее, противницу дружинник не смотрел — слишком уж было горько, неприятно сражаться с «бабой».
Карима сказала повелительно:
— Млада, если ты хочешь, чтобы у твоих подруг были мужья, убей его!
Владигор, не видя иных путей к освобождению, кроме победы Бадяги, произнес:
— Бадяга! Ради своих товарищей, ради моей любви к Кудруне убей ее!
— Начинайте! — прокричала Карима, взмахнув рукой, и тотчас могучая Млада, с громким криком оторвав клинок от плеча и сделав широкий выпад своей толстой босой ногой, обрушила меч на Бадягу, не ожидавшего такой прыти от женщины, весившей даже больше, чем он сам.
Бадяге удалось отклониться в сторону, и меч Млады, описав в воздухе сверкающую дугу, вонзился в землю острием едва ли не на две ладони. Дружинник, опытный боец, видел: чтобы выдернуть меч из земли, охотнице понадобится ровно столько же времени, сколько ему для ответного удара, способного прикончить противницу. Но хоть и был дан ему приказ убить ее, Бадяга не мог на это решиться. Он часто убивал, но убивал лишь врагов, врагов своей земли, а эту толстуху даже его суровая душа ратника все же отказывалась принимать за врага. Как бы ловко ни размахивала мечом эта «баба», она для Бадяги не могла не быть всего лишь женщиной, да еще посланной на поединок по принуждению.
Млада между тем, выдернув клинок из земли, бросилась на противника с такой прытью, которой от нее трудно было ожидать. Она без устали нападала, и меч в ее руке крутился так, что невозможно было углядеть направления клинка, который пытался найти дорогу к телу дружинника и сверху, и справа, и слева. Млада нападала, не давая Бадяге взмахнуть своим мечом, старалась обойти дружинника сбоку, чтобы заставить его потратить время на маневр. Вдобавок она билась левой рукой, что и вовсе было неудобно для дружинника. Казалось, сил для боя в ее могучем теле имелось неистощимое количество, огромные груди прыгали под кольчугой, заставляя ее переливаться подобно рыбьей чешуе, но на лбу воительницы, как ни странно, не выступило ни капли пота.
Чем дольше смотрел Владигор на затянувшийся поединок с неясным пока исходом, тем сильнее жгло его желание, чтобы Бадяга убил эту женщину, и князь не испытывал стыда за столь неблагородные мысли, ради Кудруны он был готов на все.
— Да убей же ты ее, убей! — закричал он неожиданно для себя. — Не то она убьет тебя! Давай!
Но не этот крик, а обретенное в поединке понимание, что перед ним действительно враг, а не просто женщина, заставило Бадягу собраться и дать самому себе дозволение на убийство противника. Раньше он лишь отбивал удары или ловко уходил от них, теперь же, заметив, что превосходит Младу быстротой движений, дружинник, дождавшись, когда она нанесет очередной удар, сделал ловкий выпад в направлении ее правого, незащищенного, бока и со всей силы рубанул мечом по трепещущему под кольчугой телу. Железные кольца раздвинулись, пропуская к живой плоти холодное железо меча, брызнула кровь, Млада вначале изумленно, а потом со страхом взглянула на свой бок, покачнулась и, издав страшный вопль, рухнула на землю ничком.
— Он победил! — восхищенно сказал Владигор. — Ты видишь, княгиня леса, он победил, и если ты на самом деле княгиня, то сдержишь свое слово и отпустишь моих воинов, или… или меч, ранивший твою рабыню, пронзит и твою грудь! Бадяга, ты слышал? Исполнишь это!
Карима сказала, горько улыбнувшись:
— Я не боюсь смерти, но, если ты убьешь меня, мои подданные перебьют твоих. Зачем так много крови? Уезжайте! — А потом прибавила: — Владигор, я хотела подарить тебе свою любовь! — И вдруг, потрясая кулаками, она в остервенении закричала: — Владиго-о-ор, не езди к Грунлафу! Там погубят тебя! Ты уже в цепях Кудруны! Я видела, как резали друг друга наши мужья! Ради нее резали! Не любовь зовет тебя к ней, а приворожен ты! Останься, сниму с тебя порчу и стану любить, как никто не любил! Ты будешь мой Ладо! Останься!
Что-то дрогнуло в душе Владигора, мимолетное сомнение в необходимости поездки к врагу его страны приложило к его сердцу свою раскаленную докрасна печать, но тут же милое лицо Кудруны вновь озарило сознание, подобно выглянувшему из-за тучи солнцу, и Владигор решительно помотал головой:
— Нет, не останусь! Дай мне коня!
…Все тридцать дружинников во главе с Владигором уезжали из селения, а женщина с распущенными по плечам волосами, обхватив руками колени, сидела на валу и смотрела им вслед. Так сидела она довольно долго даже после того, как всадники скрылись в лесу, но потом резко поднялась и быстро пошла к своему неказистому дворцу. Тяжело раненная Млада уже была унесена с площадки перед домом, а ее кровь присыпана песком. Несколько женщин-воительниц, ожидая приказаний, стояли у входа, и приказ последовал незамедлительно:
— Рагуда, Хмеля, волосы остричь немедленно, как носят мужики! Штаны наденьте, сапоги, рубахи, свиты, а поверх — кольчуги. Шлемы не забудьте. Из оружия — мечи, кинжалы длинные и луки. Стрел возьмите по три десятка, еды дней на пять пути и коней седлайте. Все, пошли!
Отдав приказ, Карима прошла в дом. В горнице своей платье с себя сбросила — из тонкой шерсти, с рукавом широким, — ради Владигора надевала, да не пригодилось. Обнаженная, острый нож взяла, левою рукой на затылке волосы в пучок собрала, и упали на пол змеями густые пряди. После порты мужские, из полотна, надела, нижнюю рубаху, поверх нее — нарядную, с воротом расшитым. Свиту Велигорову надела, поясом драгоценным, с золотыми бляшками, стан обвила. Сапоги натянула красные, на подошве тонкой. Кольчуга черненая свиту праздничную чешуей своей закрыла, пояс боевой, широкий, весь в заклепках бронзовых, ее стянул. Меч в ножнах сафьяновых, тоже Велигора, сквозь ремни продела, что к поясу крепились, кинжал в железных ножнах под пояс просунула, но шлем с кольчужной бармицей покамест надевать не стала.
Лук Велигоров не был слишком туг для сильных рук ее. Лишь запасные семь тетив, в кожаный мешочек с тщанием уложенные — чтобы не отсырели вдруг, — да колчан с прекрасными, любовно сделанными стрелами оставалось взять Кариме. Напоследок в зеркало из полированного серебра взглянула и узнать не смогла себя — витязь молодой, безусый и красивый в зеркале отражался. Улыбнулась и сказала:
— Нет, не будет больше негодница Кудруна смущать мужей! Не будет! — А потом, погрустнев, вымолвила тихо: — Ах, помоги мне, Мокошь-заступница, запрети мукам нас изводить да тревожить, ведь мы сестры твои! — Но тут же брови ее изогнулись, ноздри хищно раздулись, и громко сказала Карима: — Нет, не Мокошь я помочь заклинаю, а Перуна, стрелоносителя! Пусть пособит мне в деле задуманном!
…Три всадника в шлемах с плещущими по плечам бармицами, в развевающихся плащах выехали из селения и направили коней к лесной дороге, по которой совсем недавно отправились на запад три десятка воинов с князем Владигором во главе. Владигор же в это время ударами каблуков понукал подаренного Каримой каурого коня, и совсем не потому, что плох был конь, — нет, просто Владигор спешил, боясь, что потерянное время помешает ему поспеть в Пустень, к Грунлафу, в срок.
Думы князя были нерадостными. Любовь к Кудруне ничуть не угасла, она-то и заставляла гнать коня, но поселилась в сердце его какая-то тоска, и причину ее Владигор видел в том, что он, прежде такой независимый и гордый, послушный лишь приказам долга и чести, превратился ныне в невольника. Еще совсем недавно он радовался, чувствуя, что любит Кудруну, не замечая тяжести этих оков, теперь же представлял себя рабом каких-то смутных сил, заставивших его полюбить дочь Грунлафа, рабом, похожим на тех разбойников, которые ради нее поубивали друг друга и были счастливы умирать с ее именем на губах.
— Нет! — вдруг, неожиданно для ехавшего рядом Бадяги, сказал Владигор. — Я не невольник! Я — воитель, свободно распоряжающийся самим собой, я князь! Не Кудруна мне нужна, а борьба за нее! У меня есть мой самострел, и я всем докажу, что лишь меня одного достойна дочь Грунлафа!
5. Получи свою маску!
Грунлаф со скрещенными на груди руками ходил по горнице взад-вперед, изредка останавливаясь возле окна, и каждый раз досадливо проводил рукой по лбу, не увидев за пределами комнаты ничего для себя интересного. Горница располагалась в верхнем этаже башни его дворца, и отсюда хорошо была видна дорога, ведущая с востока к Пустеню. По ней порой проезжал крестьянин, везущий в город овощи на своей дрянной телеге, скакал посланный куда-то гонец, шли из города в ближайшую деревню смерды, купившие что-то на рынке, но никаких признаков княжеского отряда или по крайней мере одинокого всадника, похожего на Владигора, не было видно.
— Он не приехал, не приехал! — топнул ногой, обутой в мягкий сапог, князь Грунлаф. — Ты, чародей, слишком много возомнил о силе своего искусства! Зачем-то выцедил из тела моей дочери целую чашу крови, потом замучил ее, когда малевал на доске! И чего ты добился? Что прикажешь мне делать? Все витязи и князья уже устали ждать, когда начнутся состязания, они едят мои хлеб и мясо, опустошают мой погреб, а напившись допьяна, бродят по городу и обижают женщин! Ссоры, драки, угрозы сжечь мой дворец! И ведь, не забывай, каждый приехал с дружинниками, с холопами, даже с наложницами! Что мне делать? Скажи!
Крас, сменивший рыжую бороду на черную, окладистую, сидел у стола, закинув ногу на ногу, и маленьким ножом сосредоточенно срезал кожицу с яблока, которая длинной спиралью свисала вниз.
— Что делать, спрашиваешь? Отвечу: ждать, ждать и ждать, — спокойно сказал он. — Владигор в твоих руках, говорю тебе, благороднейший. Он выглядел умалишенным, когда в одной рубахе, весь потный и красный, прибежал ко мне в каморку. Портрет обладает великой сверхъестественной силой. Помнишь, я рассказывал тебе, как полсотни разбойников перебили друг друга мечами ради того, чтобы кто-нибудь из них мог приехать на состязание?
— Помню, — немного успокоился Грунлаф, — но только почему же я не вижу его в Пустене? Не случилось ли с ним что-нибудь в дороге?
— Брось, Грунлаф! — презрительно махнул рукой Крас. — Сам знаешь, что о его силе и мужестве по всему Поднебесному миру ходят легенды, о нем поют песни, слагают сказы. А этим витязям и князьям, всей этой собравшейся здесь мелкоте скажи, что Кудруна занемогла, а поскольку без нее состязание проходить не может, вот и пришлось отложить ненадолго. Гляди-ка, пива да браги для гостей пожалел! Не думал я прежде, что ты такой скупердяй, Грунлаф. Может быть, тебе и яблок этих жаль для меня?
Но ответа Крас не получил, зато увидел, что Грунлаф замер у окна, словно приглядываясь к чему-то, и вдруг взволнованно спросил:
— Скажи, какой родовой знак Владигора?
— Ну, кто же этого не знает — меч и две скрещенные стрелы!
— Вот! — вытянул вперед свою руку Грунлаф и с восторгом сказал: — Я вижу меч и стрелы на красном щите! Это Владигор! Ах, Крас, твоя тайная наука помогла!
— Иначе и быть не могло, — равнодушным тоном ответил Крас, впиваясь зубами в яблоко. — Только пусть радость не помешает тебе быть осмотрительным — ни в коем случае не выказывай ее перед Владигором. Ведь он оскорбил тебя отказом, и ты должен ответить ему тем, что не выделишь его из толпы хорьков, лакомых до чужих закромов. Размести его вместе с остальными, в домах твоих дворовых людей.
Было видно, что Грунлафу хотелось принять Владигора совсем иначе, ведь он мечтал сделать его своим зятем и союзником, но ослушаться всеведа Краса князь не решался.
— Будь по-твоему, — кивнул он. — Я даже не выйду встретить его. Довольно и вестника, чтобы показать, где ему разместиться и откуда брать еду и питье. Ну вот, я почти у цели! Пойду сообщу Кудруне!
И Грунлаф, любивший свою дочь больше всего на свете, поспешил на ее половину, а Крас остался в горнице, — он все так же медленно очищал яблоки и ел их, чему-то тихонько посмеиваясь.
Дворец Грунлафа был не меньше, а может быть, и больше, чем дворец Владигора. Если бы синегорец захотел проехать туда, где князь игов разместил приехавших на состязание, без провожатого он бы этого сделать не сумел.
— Бадяга, протруби-ка в рог три раза! — приказал Владигор, гарцуя у дворцовых ворот, оказавшихся закрытыми. Стражники, что караулили на особой надвратной площадке, отказывались кого-нибудь впускать без особого на то дозволения князя Грунлафа.
Бадяга, надувая щеки так, что казалось, будто они вот-вот лопнут, исполнил приказание Владигора, и тотчас, словно за воротами только и ждали этого, они распахнулись, и важный седовласый вестник, учтиво поклонившись, произнес:
— Кто посмел потревожить покой князя игов, благородного Грунлафа?
— Князь Синегорья Владигор! — с достоинством отвечал синегорец.
— Следуйте за мной, — сказал вестник. — Я покажу, где тебе и твоим дружинникам предназначено разместиться.
Медленно проехав по множеству пустынных дворов, узких проходиков и даже крытых галерей, Владигор со свитой очутился там, где жизнь кипела вовсю. Здесь люди сновали, стояли, беседуя о чем-то, громко смеялись, стреляли из лука в цель, сидели за столами, вынесенными на улицу, спорили, пили из огромных чар и ковшей, переводили куда-то лошадей. Владигор сразу понял, что это и есть его соперники.
Когда его и дружинников разместили по маленьким каморкам с деревянными кроватями и соломенными тюфяками, он, приказав Бадяге позаботиться о лошадях и пище для воинов, решил прогуляться по дворам, чтобы присмотреться к соперникам, с которыми ему предстояло сражаться за руку Кудруны. Вначале он, конечно, пошел к тем, кто стрелял в намалеванный на широкой доске круг. Было видно, что все стрелки серьезно заняты подготовкой к состязанию. Луки натягивали они не спеша, целились так долго, что руки начинали дрожать. Это, знал Владигор, обычно и губило стрелка из лука. И действительно, в центр круга попадали далеко не все, хотя стреляли всего с каких-то тридцати шагов.
Сердце Владигора радостно забилось, едва он увидел «успехи» соперников. В иных обстоятельствах князь мог бы, конечно, подсказать им, как нужно правильно натягивать лук, как целиться, но сейчас он открыто радовался тому, что стреляет лучше всех. Кудруна благодаря его умению стрелять становилась его добычей, он уже почти обладал ею. Но вдруг одна мысль уколола его: «Что же за радость победить этих неумелых стрелков? Неужели среди них не найдется достойного соперника? Как же я предстану перед Кудруной? Ведь она вправе будет сказать мне: „Владигор, я думала, что ты сильный, ловкий, бесстрашный, а теперь вижу, что ты слывешь таким всего лишь потому, что все вокруг тебя хилые и неумелые!“»
Нахмурившись, Владигор отошел от стреляющих.
Тут его слух резанула громкая фраза, произнесенная голосом хмельного человека:
— Да что мне Кудруна! Мало ли я на своем веку всяких Кудрун повидал!
Владигор не спеша направился к столу, из-за которого донеслись эти слова. Там сидели шесть подгулявших витязей, двое из них по пояс голые, остальные — в нижних полотняных рубахах, залитых то ли пивом, то ли брагой.
— Вот я и говорю, господа витязи! — продолжал усатый длинноволосый мужчина, отхлебывая из ковша. — Кудруна Кудруной, но пиво куда лучше, хоть оно у Грунлафа и кислое, а вот бражка, что ни говори, славная, на хмеле, на липовом медку, густая. Я бы и не приехал сюда никогда, если б носом не чуял запах крепкой браги, которой здесь — пей сколько влезет!
Ему вторил другой витязь:
— Верно говоришь, брат Злень! Погостим да уедем. Нам ведь еще и Кудруны-то этой Грунлаф не показывал, только слух пущен, что красавица писаная. А какому отцу свою дочку в девках до старости держать хочется? Вот и выдумал это состязание. Я же полагаю, что коль уж он ее за кого хотел отдать — не отдал и готов выдать просто за победителя в состязании, пусть даже за урода, то не много в ней прелестей.
В разговор вступил третий витязь:
— Правду сущую ты глаголешь, Гривна! Выстрелишь славно, а потом тебе на шею сядет такая кикимора, что хоть в болото головой кидайся. Нет, я или вовсе стрелять не буду, или нарочно промашку дам.
Четвертый витязь, казавшийся самым трезвым, урезонил товарищей такой речью:
— Э, пустое болтаете, братья! Ну и что вам с этой Кудруны? Ладно, пусть она кикиморой окажется, — вам-то что за печаль? Девок аль молодок у вас, кроме нее, не будет, что ли? Зато у Грунлафа-богатея такое приданое выторговать можно, что до смерти будешь как сыр в масле кататься. Кудруну ж эту можно в башню под замок посадить — пусть полотно ткет, прядет или вышивает.
Все загоготали, потому что нашли мнение товарища очень дельным, оправдывавшим всю канитель с приездом в Пустень и с предстоящими состязаниями.
Владигор, поняв, что ничего нового для себя он здесь больше не услышит, подошел к другой компании, отличавшейся от выпивох серьезностью лиц и чистотой одежды, богатой и нарядной.
— Да кому это по нраву будет? — говорил осанистый бородатый муж в драгоценной мантии, наброшенной на плечи. — Собрались по его зову, а ни Кудруны не показывают, ни состязаний не начинают. Неучтиво поступает с нами Грунлаф! Еще день — и уеду отсюда, но уж вернусь по весне со своей дружиной, чтобы переведаться с невежей в поле!
— И впрямь, непруха какая-то выходит, — кивал другой, тоже важный то ли князь, то ли витязь. — А все, бают люди, оттого проволочка, что ждет не дождется Грунлаф Владигора Синегорского, без него состязание начинать не желает. А о чем это говорит, други? Да о том, что ему лично хочет Кудрунку он свою отдать, а все стреляния эти да пуляния так, для отвода глаз придуманы. Ему, Владигору, предназначена Кудруна!
Тут раздался протяжный, громкий звук рога, и все повернулись туда, откуда он донесся. Вестник, тот самый, что провел Владигора с дружинниками по закоулкам дворца, появился перед гостями Грунлафа в сопровождении отрока-трубача и, едва убедился он, что все готовы ему внимать, торжественно заговорил:
— Благородные князья и храбрые витязи! Слушайте, что велел передать вам благороднейший князь игов Грунлаф! Завтра, сразу после полудня, ждет он вас в своей гостевой палате, где всех вас ожидает славный пир со скоморошьими потехами! Там узрите вы прекраснейшую дочь Грунлафа Кудруну, и там же будут объявлены вам правила состязаний, что состоятся на третий день после пира! Веселитесь, гости дорогие! Славный Грунлаф желает вам крепкого здравия!
Когда глашатай умолк, раздались дружные крики гостей, радовавшихся, что все прояснилось и скоро они увидят ту, ради которой приехали издалека. Были довольны и мужи, рядом с которыми стоял Владигор, но, как только он отошел от них, чтобы прогуляться по другим дворикам родового гнезда Грунлафа, к ним подошел какой-то человек, закутанный в черный плащ, и заговорил тоном подобострастным и льстивым:
— Ах, славные князья, прошу покорнейше простить, что помешал беседе вашей. Сам я тоже решил попытать счастья и натянуть лук ради руки Кудруны, хоть и немощен уж по причине…
— Ты долго говоришь, приятель, — оборвал его один из мужей. — Чего тебе от нас надобно?
— Нет, вовсе ничего, просто мне известно стало, что Грунлаф на самом деле давно уже мечтал выдать дочку за Владигора из Синегорья, да тот по гордости своей ему отказал. Вот и задумал Грунлаф эти состязания, но, представьте, Владигор тоже сюда явился, тоже будет стрелять из лука. Ну и сообразите, рад его приезду Грунлаф или не рад? Рад, уверен! Да только ведь теперь и судьба Владигора зависит от его удачи, а стрельба из лука — дело очень непростое. Вдруг ветерок не в ту сторону подует или рука дрогнет? Вот и придумал Грунлаф такую штуку: Владигору победу обещает в любом случае, выйдет он первым или нет. Судить-то станут Грунлафовы людишки…
Князья вначале просто хмурились, а потом слушали человека в черном плаще уже с негодованием. Один из них сказал взволнованно:
— Ну и хитрый лис этот Грунлаф! То-то тянул с началом состязаний! Выходит, всех нас побоку, а Владигора…
— Правда истинная! — закивал человек в черном.
— Да я его на поединок вызову — на мечах рубиться! — пылая гневом, проговорил другой муж. — Я ли, князь плусков Иргин, стану мучиться, стрелять из лука, в то время как победа заведомо Владигору достанется!
— Верно, верно! — продолжал кивать Крас, ибо это он, и никто другой, давал советы князьям. — Верно, но… можно поступить и по-другому. Завтра будет пир, где, как вам сказали, огласят условия состязаний, так вот… вам, властительнейшие и благороднейшие князья, нужно будет встать и заявить, что…
И Крас, понизив голос и оглянувшись по сторонам, что-то зашептал князьям, а те слушали его со всем вниманием, одобрительно кивая и оглаживая с ухмылками бороды.
Пиршественный зал дворца Грунлафа был великолепен. Владигор, будучи не беднее князя игов, не имел, однако, во дворце своем такого большого помещения, со стенами, украшенными затейливой росписью, со множеством светильников по стенам и одним огромным, утыканным множеством горящих свечей, который можно было на цепи опускать пониже или поднимать повыше, чтобы пирующие видели, какой драгоценной посудой владеет Грунлаф и какие замечательные блюда принесены из кухни, а заодно лишний раз напомнить им, сколь богат и щедр владелец дворца.
Грунлаф и в самом деле расщедрился в этот день. Жареные два оленя, кабан, несколько баранов, каплуны, утки, зайцы, куры без счета, осетры, лососи, карпы из дворцовых прудов, похлебки многих видов, пироги с различными начинками, сладости медовые — все эти яства украшали стол сегодня, а большие братины с медами, настоянными и на вишне, и на малине, и на морошке, и на клюкве, духовитые и пьяные, бочонки с пивом, брагой, что стояли прямо на столе, помогали яствам легко проскакивать в желудки охочих до еды и выпивки гостей, славивших Грунлафа.
Сам князь, с Хормутом по левую руку и Красом по правую, восседал в центре стола, к концам которого были приставлены два других стола, так что каждый гость мог видеть хозяина и, когда того хотел, поднимал за его здоровье ковш. Грунлаф, также поднимаясь с места, благодарил гостя за здравицу и делал глоток из своей большой серебряной чаши.
Веселье в зале царило довольно сдержанное, потому что гости пили осмотрительно — не терпелось им увидеть ту, ради которой они сюда приехали. Но Грунлаф почему-то не спешил показывать дочь искателям руки ее — так посоветовал поступить Крас, утверждая, что следует распалить гостей, разогреть их чувства медами. Но вот один из них, тот самый, кого Владигор видел за столом во дворе, пошатнувшись, поднялся и произнес, держа ковш в руке:
— Благороднейший и щедрейший князь! За твое здоровье пили мы уже много раз. Думаю, теперь ты проживешь на свете лет двести, а то и триста. Однако нам не терпится, поверь, пожелать здоровья и дочери твоей, Кудруне. Будь милостив, пригласи ее сюда.
Грунлаф, нарочито помедлив, кивнул, посмотрел в сторону прислужника и щелкнул пальцами. Тот, видно, уже знал, что нужно делать, — исчез за дверью. В зале все притихли, повернули головы в сторону двери, за которой скрылся прислужник. Те, кто держал ковши, поставили их на стол, кто жевал, тот так и остался с недожеванным куском во рту.
Владигор сидел ни жив ни мертв. Сердце у него замерло и, казалось, не стучало. Больше всего боялся он, что девушка окажется не такой красивой, как на портрете. Тогда он никогда не простил бы себе, что безумно влюбился в мертвое изображение. Он пообещал себе немедленно отправиться в Ладор и не участвовать в состязаниях, потому что приданое, получаемое вместе с рукой Кудруны, его мало интересовало, точно так же, как и военный союз с Грунлафом.
Дверь отворилась. В зал вошла девушка. Грунлаф взял ее за обе руки, подвел поближе к столу, но никто не увидел лица Кудруны — легкое покрывало из полупрозрачной, привезенной издалека ткани было наброшено на ее голову.
— Ничего не видим, Грунлаф! — прокричал кто-то из самых нетерпеливых гостей.
— Сейчас увидите! — сказал Грунлаф и, осторожно приподняв покрывало, снял его с головы дочери.
Вздох восхищения раздался в зале, а потом воцарилась такая тишина, что было слышно, как где-то в углу скребется мышь. Владигор, как и все, не сводил глаз с лица Кудруны, покрывшегося густым румянцем. Девушка, оказавшись впервые в обществе такого множества мужчин, которые к тому же пристально ее рассматривали, невольно даже поднесла руку к щеке, потупилась, и капельки жемчуга, висевшие на нитке, пересекшей ее открытый лоб, подрагивали — так сильно билась жилка на ее виске.
Сначала у Владигора возникла уверенность, что он видит совсем другое лицо. Лишь отдельные черты напоминали ему девушку с портрета, которую он так сильно полюбил. Но чем дольше смотрел он на живую Кудруну, тем больше нравилась она ему. Тогда — Владигор теперь твердо это знал — кто-то заставил его полюбить мертвое изображение, и поэтому в последнее время он не доверял своему чувству, но теперь получалось так, что старое чувство оживало под действием зарождающейся страсти к этой совсем не похожей на портрет девушке, и оба чувства сливались, рождая что-то новое, куда более теплое и сильное, чем прежняя безумная страсть.
Тишину нарушил кто-то из гостей, проговорив:
— Хозяин, по старинному обычаю, не мешало б девице гостям по ковшу поднести, да с поцелуем…
Все гости разом заволновались, послышались голоса:
— Надо бы, князь!
— Полагается, по старине!
Кудруна зарделась еще сильнее, а Грунлаф, поколебавшись для видимости, тронул Кудруну за плечо и что-то шепнул ей, а потом махнул рукой прислужнику. Вскоре тот явился с подносом, на котором стоял серебряный вызолоченный ковш, как видно с медом, девушка приняла его и пошла вдоль стола, останавливаясь напротив каждого гостя и кланяясь ему. Гость, привстав, отпивал из ковша глоток, целовал Кудруну в губы, и девушка шла дальше.
Вначале ей было страшно, очень страшно! Никогда еще губы мужчины, помимо отцовских, не касались ее губ, хотя в тайных мыслях своих она уже давно этого желала. Краем глаза сейчас Кудруна замечала, что те, кому она подносила ковш, были или слишком стары, или излишне худы, или, напротив, тучны. Многие были некрасивы, иные как-то неприятно улыбались, приближая к ней свое лицо. Никто из них, конечно, не мог сравниться с Владигором, о котором говорили, что он красавец, высокий и широкоплечий.
«Да где же он? — думала Кудруна, переходя от гостя к гостю и не видя среди них того, кто хоть в чем-то мог походить на желанного. — Я знаю, что ты приехал, но, может статься, ты почему-то не пришел на пир? Ах, как дурно ты поступил тогда! Неужели же ты не поцелуешь меня сегодня, возлюбленный мой!»
Владигор с бешено бьющимся сердцем ждал, когда Кудруна подойдет к нему. Вот уже только пять человек оставалось ей до него, и он лютой ненавистью проникался к каждому из них, имеющему право целовать его возлюбленную. Три человека отделяли Кудруну от Владигора, два, один…
Кудруна встала перед ним и, широко раскрыв свои прекрасные глаза, прямо смотрела ему в лицо. Он поднялся, отпил глоток пьяного меда. Она увидела его вьющиеся светло-русые волосы, глаза цвета базилика, короткую бородку курчавую и вдруг почувствовала твердую уверенность, что перед нею именно Владигор, желанный, милый, столь похожий на того, кого она уже любила в своих грезах. Да, но если Владигор приехал на состязание, значит, и он ее желает и любит?
Владигор прикоснулся губами к ее дрогнувшим розовым губам и почувствовал, что она трепещет так же, как он. Это продолжалось мгновение…
Потом Кудруна справилась с собой и двинулась с подносом дальше, а Владигор, ошеломленный, опустился на лавку. Ноги у него дрожали, перед глазами все расплывалось.
После «поцелуйного» обряда обстановка в зале разрядилась. Многие гости уже и тем довольны были, что узрели прелестную Кудруну, и о том, сколь хороша она, велась за столами шумная беседа, и кто-то из подгулявших довольно громогласно клялся, что краше девицы «в жизни не видел». Мед, пиво, брага снова потекли рекой, иной грозился победить всех прочих в состязании, но тотчас слышался и возглас соперника:
— Спервоначалу научись стрелять!
— В дверь, поди, с пяти шагов не попадешь? Пуп надорвешь, тетиву натягивая!
— Это я-то надорву? Сам, смотри, в штаны не наложи, когда за лук возьмешься.
Из-за столов уже повскакивали, уже и лай пошел, и ругань, и за грудки, и за бороды хватание, недолго уж было и до драки, до сраму, но голос глашатая, сумевший перекрыть весь этот гам, восстановил спокойствие:
— Гости дорогие, меткие стрелки из лука, лучшие во всем Поднебесном мире! Сейчас вам придется выслушать правила, что установлены для состязаний! Будет говорить благородный витязь Хормут!
Все притихли, и заговорил Хормут:
— Благороднейшим Грунлафом, князем игов, решено все состязания разделить на три дня. В день первый каждый сможет показать свое умение и тем приблизить счастливый час брачного соединения с Кудруной, если будет первым в стрельбе по нарисованным на широких досках кругам. В самой середине — метка размером с яблоко…
Гости слушали затаив дыхание. Многим хотелось стать супругом красавицы Кудруны, но не каждый был уверен в мастерстве своем. Хормут же продолжал:
— На второй день вам предстоит попасть в деревянные катящиеся шары. Десять шаров будут пущены по желобу, и со ста шагов, как и в первый день, поразить должны вы наибольшее количество шаров.
Глухой ропот пронесся по столам. Гости переглядывались, перешептывались, качали головами — многие и не слышали прежде об испытании таком. Хормут, дождавшись тишины, продолжил:
— На третий день предстоит вам отличиться в самом трудном испытании: нужно будет подстрелить трех голубок, которые слетят с руки княжны Кудруны.
Последние слова Хормута должны бы были вызвать восторг у сидевших в зале князей и витязей, но этого не случилось — наоборот, почти все они крепко призадумались. Одни теребили бороды, другие почесывали затылки, третьи без дела постукивали ложками по ковшам да чашам. Чрезмерно сложными показались всем состязания такие, и никому не хотелось ронять свое достоинство, а потому-то и молчали. Но вот поднялся с места один осанистый мужчина и заговорил:
— Грунлаф благородный, состязания, тобой придуманные, довольно-таки трудны, но не это меня заботит. Не обессудь и выслушай. Прошел между нами слух, что ты, князь, усердствуешь в пользу одного из нас, не стану говорить, в чью пользу, сам знаешь…
Ропот послышался среди присутствующих. Многие не понимали, о чем ведется речь. С места своего поднялся и Грунлаф, строго глядя на говорившего, сказал:
— Гость, мне твои намеки не ясны. Говори прямо. Откуда у тебя право упрекать меня в каких-то кознях?
— Не в кознях, а в предпочтении князя Владигора всем другим, — ответил гость. — А поэтому мы, посовещавшись, решили предложить тебе такое вот условие: пусть всякий, кто осмелится выйти на состязание, наденет на себя личину. Она должна закрыть лицо от глаз до подбородка. Понятно, глаза и рот открытыми останутся. Личина помешает твоим судьям судить криво, в пользу одного из нас.
Грунлаф молчал. Он и не помышлял о том, чтобы подсуживать в пользу Владигора. Ему было очень неприятно, что кто-то его пытается уличить в нечестности. Грунлаф, будучи устроителем состязаний, мог и отказать гостям в их предложении, — только он один вправе был устанавливать или менять правила стрельбы. Грунлаф, однако, боялся, что, не согласись он с требованием гостей, слух о его нечестности пойдет гулять по всем ближайшим и даже дальним княжествам.
— Ладно, — кивнул он, — будь по-вашему. Только я не пойму: если все вы будете в личинах, как судьи смогут делать каждому зачет? Маски, что ли, будут разными?
— Да пусть личины, — отвечали Грунлафу, — будут, какие Перун на душу положит. А судьи твои смогут выстрелы считать по признаку особому. Пусть каждый на спину нашьет свой знак из ткани. Этот вот — орел, другой — заяц… Можно медведя вырезать из полотна или сукна, вепря или цветок какой-нибудь. Так и будут судьи твои смекать: здесь заяц три раза промахнулся, а тут медведь в цель попал. И никак нельзя будет определить, Владигор ли или кто другой скрывается под тем или иным значком.
Говоривший помолчал, а потом, усмехнувшись в бороду, добавил:
— Только, князь, договоримся: ежели заметим, что ты стакнулся[7] с кем-нибудь из стрелков, отвечать тебе придется перед всем Миром Поднебесным. Лады?
Грунлаф, заметно помрачнев оттого, что так много хлопот выпало на его долю, едва он захотел выдать дочь свою за человека достойного, способного укрепить его державу, глухо молвил:
— Все будет по-вашему. Одно лишь я вам хочу сказать. Благородный Хормут забыл вам сообщить, что стрелять вы можете из всевозможных видов луков, какие у кого имеются, лишь бы они метали стрелы, а не камни. Согласны?
Некоторые гости рассмеялись — до того им показалось странным и излишним условие такое. Послышались возгласы:
— Где ж ты видел, князь, чтобы из луков камнями в цель стреляли?
— Иль, может, боишься, чтоб мы бабьи веретена на луки не возложили?
Грунлаф, не желая замечать насмешек, поклонился гостям и вышел, сопровождаемый Хормутом и Красом, а в зале после его ухода поднялся шум. Гости, теперь уже без стеснения вливая в себя духовитые пьяные меды и брагу, громко обсуждали условия предстоящих состязаний. Многие открыто заявляли, что не стоит и стараться победить, нужно, повеселившись вдоволь, ехать к себе домой, другие же, напротив, воодушевленные такими разговорами, помалкивали, веря в свои силы, третьи ругали Грунлафа за придуманные им невыполнимые правила стрельбы, четвертые сцепились с теми, кто предложил стрелять в личинах.
— Мыслимое ли дело, — кричали противники личин, — целиться из лука, надев на лица хари скоморошьи?!
— Истинно, княжеская забава! Вы сами, наверно, в своих землях харь скоморошьих не снимаете, жрете в них да спите с женами своими, нам же личины в новинку! Позор они для нас и неудобство! Как тут в шар катящийся угодишь или в голубку, будь она неладна!
Владигор слушал перебранку с чувствами противоречивыми. Он не постыдился бы надеть личину, хоть и не делал этого ни разу прежде, но ему стыдно и неприятно было состязаться с этими людьми, которые были не способны следовать правилам состязания, бранились, как рыночные торговки, радовались дармовщинке и совсем не горели желанием овладеть Кудруной, интересуясь лишь ее приданым.
Прислушиваясь к расшумевшимся гостям, Владигор не заметил, как красивый и молодой, с узкой полоской едва пробившихся усов, витязь поднялся с места и подошел к одному из слуг, уходившему из зала с подносом, заваленным обглоданными костями и опорожненными блюдами. Витязь этот, в нарядной свите, с богатым поясом, что перетягивал его стройный стан, что-то шепнул слуге и положил ему на поднос слиток серебра. Глаза слуги алчно блеснули, он кивнул гостю, предлагая ему следовать за собой. Когда они оказались вне зала, юноша сказал:
— Получишь еще серебра, если укажешь мне дорогу к княжне.
Слуге очень хотелось получить вознаграждение, но он опасался гнева Грунлафа.
— Господин, — бормотал он, — если князь узнает, что я показал вам дорогу к княжне Кудруне, он вздернет меня на дворцовой стене для острастки другим прислужникам.
— Дурень, — возразил витязь. — Он ничего не узнает, если ты сам не проболтаешься ему об этом. Да и с дочкой Грунлафа ничего не случится — я лишь молвить хочу ей пару словечек, и тотчас назад. Ну, берешь серебро?
Спустя минуту юный витязь смело шагал по коридорам дворца, а слуга, поставив поднос с объедками на пол, бережно прятал за пазуху два серебряных слитка.
— Кудруна, прекрасная Кудруна! — проговорил витязь приглушенно, остановившись напротив двери, ведущей в покои дочери Грунлафа, и осторожно постучав в нее. — Прошу тебя, поговори со мной совсем недолго!
Молчание было ответом витязю, и ему пришлось постучать снова. Но вот за дверью послышались шаги, и девичий голос произнес:
— Кто стучится ко мне так поздно? Ты, непрошеный гость, видно, хочешь, чтобы я позвала стражу, которая тебя лишит жизни уже за то, что ты имел дерзость ломиться в мои покои!
— Нет, я не собирался нарушить твой сон дерзким вторжением! — страстно и умоляюще заговорил юноша. — Но я один из тех, кто приехал, чтобы добиваться твоей руки!
— Вот и добивайся ее на состязаниях, — строго ответила Кудруна. — Похоже, ты не больно-то в себе уверен, если пытаешься склонить меня к свиданию прежде, чем доказал, что луком владеешь так же хорошо, как языком.
— Что ты, Кудруна, что ты! — шептал витязь, приблизив лицо к щели между дверью и косяком. — Лук не дрогнет в моих руках, а глаз мой столь зорок, что не голубку, выпущенную из рук твоих, а малую синицу я сумею сразить, почти не целясь.
— Так что же тебе мешает завладеть мною, победив других гостей? — дрогнул голос Кудруны.
— Просто я опасаюсь, что Грунлаф, даже если и стану первым я, не отдаст тебя мне, витязю неродовитому. Все твердят, что Владигор станет твоим супругом.
— Что же, Владигор — известный князь и храбрейший витязь. Я бы с великой радостью сняла с него обувь перед постелью брачной!
— Но ведь ты его не знаешь! Видела ли ты его лицо? О, это почти урод! Злые глаза выглядывают из-под косматых бровей, волчьи клыки торчат из вечно мокрого, сочащегося зловонной слюной рта, уши, как у рыси, стоят торчком, а волосы — как щетина кабана!
— Но… но, — заволновалась Кудруна, — я такого страшного не видела сегодня среди вас! Ты лжешь мне, витязь!
— Нет, не лгу! Просто Владигора не было сегодня! Посмел бы он явиться! А на состязаниях все наденут личины, вот и не увидишь ты Владигора прежде, чем Грунлаф, желая союза с ним, не соединит ваши руки. Не отвертишься потом! Ты же, дверь немного приоткрыв, на меня взгляни — увидишь, как красив я и строен, как нежны мои щеки, как пылают мои глаза! Ну же, посмотри!
Заскрипела щеколда, и дверь приотворилась. Кудруна с выражением крайнего любопытства на лице выглянула в коридор. Тотчас в правой руке юноши блеснуло жало длинного и узкого ножа, а левая его рука ухватилась за кромку двери. Еще мгновение — и он, с силой рванув дверь на себя, ворвался бы внутрь… как вдруг чьи-то еле слышные шаги заставили юношу резко повернуться и вскрикнуть. Перед ним стоял необыкновенный старик — глаза его исторгали языки пламени. Дверь мгновенно захлопнулась, а витязь так и остался с раскрытым от изумления ртом, не в силах оторвать взгляд от страшных глаз старика.
— Прекрасная Карима, что ты делаешь во дворце Грунлафа, да еще в наряде витязя? — зашептал Крас на ухо «юноше», когда, взяв за руку переодетую княгиню леса, отвел ее, покорную, подальше от горницы Кудруны. — Неужели ты тоже решила попытать счастья на состязаниях стрелков из лука?
Карима, выдержав взгляд колдуна, ответила:
— Нет, не руки дочери Грунлафа я хотела добиваться, а, пробравшись во дворец, зарезать ту, кто стала причиной гибели всех наших мужчин! Ведь они умирали с ее именем на устах!
Крас тихо рассмеялся, глаза его потухли:
— Спрячь кинжал, Карима. Не Кудруну нужно винить, а меня, чародея Краса. Ведь это я показал разбойникам ее изображение. Но не для их взоров оно предназначалось, а лишь для Владигора, плененного красотой Кудруны. Я знаю, ты тоже Владигора полюбила, подобно дочери Грунлафа. Хочешь, он станет твои супругом?
— Да, хочу! — твердо ответила Карима, все еще сжимая кинжал. — Помоги мне в этом, Крас, и я навеки стану твоей служанкой! Знай, что я сама постигла тайную науку, сама научилась отыскивать травы, что способны делать человека послушным. Владигор отведал моего зелья, но противоядие, принятое им перед этим, убило силу отвара!
Крас кивнул:
— Хорошо, Карима, хорошо. Мне ничего не стоит влюбить в тебя Владигора, но и ты должна потрудиться.
— Ну, говори скорее, что мне нужно делать? — уже трепетала от нетерпения Карима.
— Во-первых, тебе придется метко стрелять. В этом я помогу тебе. Во-вторых…
Карима перебила колдуна:
— Но для чего же мне стрелять? Чтобы получить Кудруну в жены?
— Нет, — улыбнулся Крас, — только лишь затем, чтобы Владигор не стал первым и тем самым не сделался женихом Кудруны. Во-вторых, я хочу, чтобы у тебя и у Владигора были одинаковые личины. В первый день состязаний он выйдет в своей личине, ты — в своей, а на второй день сделай такую же, как у него. На третий день мне нужно, чтобы на Владигоровом лице была твоя личина, — постарайся как-нибудь незаметно поменяться с ним. Но прежде дашь мне свою ненадолго.
Карима не понимала, что задумал Крас, но слушала его очень внимательно.
— Для чего все это? — спросила она.
— На третий день, решающий, Владигор явится в той личине, на которой моей рукою будут начертаны особые знаки и письмена, незаметные, понятно, для его глаза. О, с их помощью он станет посмешищем — не только Грунлаф его возненавидит, но и Кудруна, в воображении которой Владигор являлся прежде лучшим витязем всего Поднебесного мира. Осмеянный, он упадет в твои объятия — об этом я тоже позабочусь.
Карима заулыбалась, ее ноздри хищно раздувались, глаза сверкали. Она взмахнула кинжалом и сопроводила этот решительный жест словами:
— Все сделаю, все! И стрелять буду без помощи твоей лучше всех этих пустобрехов-пьяниц! И маски, если надо, подменю, чтобы мой любимый был осмеян всеми! Лишь бы с ним вместе оказаться, лишь бы стал он князем леса, а я — его княгиней!
Спрятав кинжал под полу свиты, Карима удалилась, а Крас, насмешливо покачав головой, опустился на корточки, оперся о стену спиной и скрестил на груди руки.
«Ах, люди, люди! — думал он презрительно. — Все-то вам неймется, и нет покоя душам вашим. Отчего же вы носитесь по кругу своих страстей, точно лошадь на привязи, погоняемая кнутом наездника? Как научить мне вас презреть свои страсти? О, жестокой покажется вам эта наука — вам, Владигор, Кудруна, Карима и Грунлаф!»
6. Стрелок с безобразным лицом
К вечеру первого дня состязаний из доброй сотни князей и витязей осталась лишь половина, и князь игов был немало этому рад. Он хотел лишь одного — чтобы победа досталась Владигору. Грунлаф еще на пиру хорошо рассмотрел синегорского князя, и если раньше, затевая этот брак, он думал лишь об интересах государственных, то теперь, как любящий отец, совершенно искренне желал выдать Кудруну за этого красавца богатыря, небезосновательно в себе уверенного и благочестивого.
Для состязания выбрали большое поле неподалеку от стен столицы, Пустеня, — выкосили траву, установили скамьи для именитых горожан (простонародье должно было следить за стрельбой, сидя на стожках уже подсохшей травы). Понятно, что ожидалось скопление народа: не бывало еще такого во всем Поднебесном мире, чтобы властитель княжества при выборе жениха для своей единственной дочери принимал во внимание лишь умение лучше всех стрелять из лука. В Пустене много говорили об этом, и в общем все пришли к выводу, что их Грунлаф, отличавшийся прежде мудростью, или немного повредился рассудком, или уж замыслил такую хитрость, на которую мог быть способен лишь сам Сварог, умнейший из всех богов.
Не одна лишь стрельба из лука ждала собравшихся — вначале были намечены конные ристалища, для чего заранее оповестили всех горожан, и те, кто имел хороших лошадей, не могли не соблазниться возможностью покрасоваться на дорогом скакуне, а то и выиграть награду: позлащенное седло, а к нему вдобавок — вся конская сбруя.
После ристалища всех желающих приглашали сразиться с медведем, но выйти против него не с рогатиной, а лишь с большим ножом. Метание в цель ножей, борьба, кулачные бои, лазанье по гладкому, намазанному жиром шесту, к верхушке которого были привязаны красные сафьяновые сапоги, даровое угощение простонародья некрепким пивом, пряниками и фруктами — все это придумали устроители состязаний, чтобы память о таком событии осталась в народе надолго и слава о щедрости Грунлафа пошла гулять по Поднебесному миру.
Но вот настал черед соревнованиям стрелков из лука. Загудели охотничьи рога, завыли трубы, затрещали барабаны. Все, вытягивая шеи, повернулись в сторону городских ворот, откуда выехали на конях те, кто должен был оспаривать честь стать супругом княжны Кудруны. Всадники приближались к месту состязаний, и все слышнее становились удивленные и даже испуганные возгласы, летевшие из толпы:
— Батюшки, да никак оборотни едут!
— Не иначе вурдалаки!
— Ах, щур, спаси и сохрани!
— Бежать бы отсюда надо, бежать!
Горожане, крестьяне, смерды заволновались, уже готовые броситься врассыпную, волнение грозило давкой, смертью, но тут раздался голос Грунлафа, перекрывший гул толпы:
— Остолопы! Куда бежать собрались?! Это же мои гости в личинах едут, не тронут они вас!
Слова Грунлафа не сразу успокоили толпу — люди жались друг к другу, в страхе глядя на приближающихся всадников. И впрямь многие гости постарались: кожаные, берестяные, суконные личины закрывали их лица от корней волос до подбородка, открыты были только глаза и рот. Вдобавок некоторые размалевали личины краской разноцветной, прикрепили к ним козлиные уши и рога. Иные всадники украсили свои хари пышными усами или бородами, использовав для этого конский волос, так что люди, не знавшие об уговоре таком, просто диву давались, покуда тех, кто был попьяней, не разобрал смех, а вскоре стали смеяться и остальные прочие, и вот уже до слез, до икоты, до падения на землю хохотала вся толпа, и всадники этим были немало оскорблены — проезжая мимо, били смеющихся плетьми, пинали их ногами, стремились грудью коня толкнуть. Но вот подъехали к коновязи, стали спешиваться, и народ увидел, что на спине у каждого особый знак нашит.
— Гляди-кось, — неслось из толпы, — вон гусь!
— А тот вон, с красной харей, вроде вепрь!
— Да не вепрь он, а медведь — не видишь разве медвежью морду?!
С любопытством разглядывали ротозеи стрелков, примечая среди приехавших и «лебедя», и «оленя», и «лося». Были среди гостей Грунлафа и «ястреб», и «баран», и «лиса», и «барсук», но некоторые для себя избрали знаки не из лесного мира — украсились изображениями чары, ковша, другие — яблока, человеческого черепа, солнца, полумесяца.
Вокруг спешившихся уже крутились княжеские судьи, переписывали знаки каждого стрелка, помечая их на особых дощечках. Оказалось вскоре, что приехали два «вепря» и три «оленя». Таким, чтобы путаницы не было, предложили срочно знаки заменить, и они в сторонке, при помощи слуг, отпарывали свои нашивки, отчаянно бранясь, — кому приятны лишние хлопоты?
А на поле, на расстоянии ста шагов от черты, откуда должны были лучники вести стрельбу, уже поставили дощатые щиты с намалеванными на них кругами. В середине — метка, с яблоко величиной. Готовые к состязанию стрелки уже ходили близ черты, примеривались, носом водили в разные стороны, определяя направление и силу ветра, качали головами, сомневаясь в успехе, присматривались к оружию соперников, натягивали, пробы ради, тетивы своих луков.
Луки же у каждого были особенные — не нашлось бы и двух одинаковых. Небольшие, но тугие, из двух соединенных вместе рогов оленьих; луки чуть ли не в человечий рост, из тиса или вяза; одни кожей обвитые, другие — с резьбой затейливой, с росписью, прежде никем не виданной; клееные луки, составные, с хитрыми прицелами, с тетивами из крученой пеньки, воловьей жилы, сыромятной кожи или плетеных конских волос.
Но ни один из луков не вызвал у толпы такого интереса, как тот, что был в руках человека в черной кожаной маске без всяких прикрас, ушей или рогов, — стрелок этот на спине своей имел изображение коня. Держал же он в руках лук маленький и, по всей видимости, железный, и был тот лук приделан к деревянному поленцу, украшенному искусной росписью. С палец тетиву имел, а на поленце — зуб какой-то да еще кой-что, совсем уж непонятное. Стрелки судили да рядили, как можно из лука этакого стрелять.
— Витязи, — говорил один, — я бы этим луком так воспользовался: в бою стал бы им как палицей работать. Направо да налево бы сей железиной крутил. Ох, сколько врагов бы вокруг меня полегло — тьма-тьмущая!
— Нет, несподручно с такой штуковиной в бою, — с поддельной серьезностью возражал другой витязь, к маске которого было прикреплено петушиное перо. — Взять бы этот лук да отдать какому-нибудь смерду. Пусть им землю рыхлит, точно мотыгой!
Тут затрубили рога, призывая всех к вниманию, и заговорил сам Грунлаф, сидевший вместе с дочерью под сенью:[8]
— Витязи, начнем же наше состязание, и пусть Кудруна достанется тому, кто станет победителем. Условия равны для всех, и меня совсем не тревожит то, кем окажется лучший стрелок из лука, так пусть же сам Перун поможет вам в борьбе! Подходите к корзине со жребиями и тащите метку с цифрой. Она-то и подскажет судьям ваше место в очереди!
Витязи чинно и не спеша брали из корзины, что стояла у ног Грунлафа, кожаные, свернутые в трубочки метки, разворачивали их. Иной морщился, досадуя на то, что придется стрелять в числе первых, другой — радовался, потому как жребий отсылал его в самый конец и можно было приглядеться к стрельбе других, поучиться на ошибках соперников. Но были и такие, кто оставался совершенно спокоен.
Безучастным к жребию был и Владигор. Продолжая держать самострел на плече, он даже не смотрел в сторону щитов с кругами. Цели, что поражал он в своем дворце, были куда менее уязвимыми, чем эти огромные, на его взгляд, круги, — в них мог попасть, почти не целясь, любой синегорский подросток. Владигор лишь бросал короткие взгляды на Кудруну, которая тоже поглядывала в его сторону. А порой девушка склоняла голову и что-то спрашивала у отца, и если бы Владигор стоял рядом с ней, то, наверное, сумел бы услышать:
— Отец, скажи, кто из них Владигор? Не тот ли широкоплечий витязь с конем на кафтане? Он еще держит в руках такой причудливый с виду лук…
Грунлаф, лукавивший, когда заявлял, что ему безразлично, кем окажется его зять, давно уже узнал в витязе со странным оружием Владигора и теперь не отрывал от него взгляда. Он уже успел шепнуть сидевшему с ним рядом Красу, чтобы тот как можно лучше присмотрелся к луку чужестранца, запомнил, как выглядит каждая его деталь, а после сделал для него рисунок необычного приспособления для метания стрел. Впрочем, Грунлаф все еще сомневался в том, что это оружие окажется лучше обыкновенного лука.
— Ты спрашиваешь, Владигор ли он? — переспросил у дочери Грунлаф. — Да, полагаю, это и есть князь Синегорья. Посмотрим, как он будет стрелять.
— Но говорят, — шептала Кудруна, — что он уродлив, даже страшен. Это правда?
— Нет, — улыбнулся Грунлаф, — на его прекрасном лице боги запечатлели ум, мужество, честность, добросердечие, верность. Уверен, он станет твоим мужем, дочка, потому что человек с таким лицом, как у Владигора, не может не быть первым!
И Кудруна, счастливая, успокоенная, принялась с нетерпением ждать, кто окажется наиболее удачливым в первой части состязаний.
Вот вновь завыли трубы, и судьи вызвали к черте первых трех участников соревнований. Они должны были выпустить каждый по десять стрел. Витязи долго притаптывали землю подошвами своих сапог, желая встать поустойчивей; приложив к тетиве стрелы, вглядываясь в круги мишеней, раз по десять дергали за тетивы, не решаясь натянуть их для начального выстрела. Наконец тетивы одна за другой взвизгнули, рассекая воздух, и стрелы понеслись к дощатым щитам. Замершие зрители увидели, что ни одна из них не вонзилась в центр круга.
Послышались возгласы досады, даже ругань стрелков, в сторону мишеней уже бежали те, на ком лежала обязанность вести учет каждого выстрела. И вновь летели стрелы в направлении щитов с кругами, и все азартней становились крики толпы. Простолюдины, собравшиеся посмотреть, сколь успешной будет стрельба тех, кто считал себя выше их и достойнее, часто охотились в лесах близ Пустеня, не раз принимали участие в походах Грунлафа, могли бы выступить на состязании не хуже, а то и куда лучше этих витязей. В сердца некоторых зрителей даже закралась дерзкая мысль: «А что если выйти к черте и попытаться стать зятем самого благородного Грунлафа, грозы Бореи, богатого повелителя всего княжества игов?»
Когда пришла очередь человека, имевшего на своем лице черную кожаную маску, толпа на миг притихла. Все давно уже ждали выхода к черте обладателя необычного оружия. Среди зрителей послышались приглушенные споры, кое-кто бился об заклад, что стрела, пущенная из такого маленького лука, и до мишени-то не сможет долететь, не то что попасть в самый центр ее.
Но вот стрелок поставил кожаный колчан на землю у самой черты, потом все увидели, что толстую тетиву своего лука он зацепил за крюк, что был надежно прикреплен к его широкому поясу, затем вставил ногу в железное стремя, приделанное в том месте, где лук крепился к концу приклада, надавил ногой, оттягивая вниз, к земле, свое оружие, и тетива, влекомая крюком, пошла вверх, сгибая железное луковище, пошла к тому месту, где торчал белый костяной зуб, надежно захвативший ее.
Насмешливые возгласы не переставали раздаваться, пока Владигор готовил к стрельбе свое оружие, однако он даже не обернулся в сторону. Быстро приспособив на прикладе толстую стрелу, синегорец, почти не целясь, нажал на рычаг спуска. Раздался громкий хлопок, похожий на удар бича, но никто не услышал пения стрелы, зато удар тяжелого наконечника, пронзившего самый центр круга мишени, прозвучал так быстро вслед за этим хлопком, что зрители от неожиданности охнули. Полет стрелы был поистине молниеносным.
Одну за другой посылал Владигор стрелы прямо в середину круга мишени. Иные стрелы сбивали или расщепляли уже вонзившиеся, другие вонзались рядом с прежними, и скоро черное пятно мишени ощетинилось подобно ежу. Теперь каждый выстрел Владигора сопровождался одобрительным гомоном толпы — никто из присутствующих не смог бы поразить каждой из десяти стрел центр мишени, а поэтому все восхищались искусством стрелка и возможностями невиданного оружия.
— Это не по правилам! Не по правилам! — раздался вдруг чей-то крик, когда Владигор, отстрелявшись и отвесив поклон Грунлафу и Кудруне, пошел прочь, небрежно положив на плечо самострел. — Он стрелял не из лука! — кричал какой-то участник состязаний с орлом на груди.
— Как это — не по правилам? — прорычал Грунлаф, поднимаясь со скамьи. Он был потрясен зрелищем поразительно точной стрельбы из необычного оружия, а поэтому отстранение Владигора от состязаний представлялось ему не только нежелательным для его княжества, но и просто вредным. — Кто сказал, что этот стрелок нарушил правила? Не я ли вас предупредил, что в соревнованиях может участвовать любое оружие, пускающее стрелы?! И вы не возражали мне тогда, выторговав лишь условие, согласно которому каждый стреляет в масках!
Слова Грунлафа прозвучали столь убедительно, что недовольный витязь лишь проворчал нечто нечленораздельное себе под нос и умолк, едва труба призвала к черте трех других участников.
Один из них был в берестяной маске, изображавшей морду какого-то лесного зверя. Через прорезь для рта все увидели, что зубы стрелка как-то странно оскалены, будто он на кого-то сильно обозлен. Его правая рука была прикрыта мантией, полы которой скреплялись на левом бедре. Казалось, стрелок нарочно закрыл свою правую руку или просто не имел ее, а поэтому, чтобы не оскорблять своей ущербностью взора той, кто предназначалась в награду победителю, повязал плащ столь необычно.
— Да ведь он же безрукий! — раздался чей-то возглас.
— Нет, просто однорукий! — поправили из толпы.
— Но как же он будет стрелять?! Тетиву-то натянуть нечем! Ногою, что ли? Ну и муженек достанется княжне!
Народ захохотал, но смех стих быстро. То, что увидели зрители, оказалось не менее удивительным, чем стрельба из маленького железного лука. Витязь, держа лук в левой руке, двумя пальцами этой же руки выдернул из колчана стрелу, и она, повинуясь какой-то невидимой силе, уперлась зазубриной в тетиву, — пальцы стрелка уже придерживали ее на выступе рукояти лука. Потом случилось то, чего зрители и вовсе не ожидали увидеть: подняв лук, витязь схватил тетиву зубами, держа зубами же и кончик стрелы возле самого оперения. Его рука пошла вперед, позволяя луку сгибаться, а стреле скользить по гладкой рукояти лука до тех пор, покуда ее четырехгранный наконечник не приблизился к руке стрелка.
И вот зубы витязя разжались, и стрела устремилась вперед, еще через миг она вонзилась прямо в середину круга.
Зрители просто-таки завыли от восторга, испытывая явную симпатию к стрелку, который, несмотря на очевидное увечье, оказался в числе первых. Никто не сомневался, что таким ловким и находчивым его сделала любовь.
А витязь, чувствуя поддержку зрителей, выдергивал из колчана новую и новую стрелу, и, как и прежде, переворачивалась она под действием неуловимого движения пальцев, зубы стрелка хватали тетиву, и стрелы летели прямо в цель. Лишь одна стрела, последняя, десятая, немного вышла за пределы круга.
Зрители были вне себя от восторга. Несколько парней не удержались, подбежали к черте, подняли витязя на руки, внесли в толпу, и вот уже со всех сторон к стрелку потянулись руки с деревянными ковшами, в которых плескалось душистое пиво из погребов Грунлафа.
— Князь, а хотел бы ты иметь зятем такого удальца? — скривив губы в насмешливой улыбке, шепнул, наклоняясь к Грунлафу, Крас. — Смотри, как он стреляет!
Но Грунлаф в страхе отшатнулся от чародея, представив, что однорукий может обыграть Владигора.
— Нет, не хотел бы! — пробормотал князь. — Ты можешь сделать так, чтобы этот урод дал бы завтра не меньше трех промахов?
— Я все могу, только… только он отнюдь не урод. О, если бы ты знал, кто скрывается под этим плащом, то, возможно, не говорил бы о нем столь пренебрежительно.
Грунлаф хотел было спросить, что означают недомолвки Краса, но уже новые стрелки целились в щиты, и стрелы, пущенные одним из них, тоже летели одна за другой прямо в цель.
Было заметно, что толпе очень нравится этот юный, судя по стройной фигуре, витязь, тонкая талия которого изящно перетягивалась богатым княжеским поясом. Все было изящно в нем! И то, с какой легкостью выхватывал он из колчана оперенные пестрым совиным пером стрелы, и то, как без торопливости прикладывал их зазубрины к тетиве красивого, из гнутого оленьего рога, лука, и то, с какой плавной мощью натягивал тетиву. И пела тетива, и шелестело оперение стрелы, и с ярким, сочным звуком вонзалась она в дерево мишени, уже изрядно разрушенной предшественниками. Зрители, наблюдая эту красивую стрельбу, отзывались на каждый выстрел возгласами радости. Им нравился этот стрелок, и каждый мужчина-зритель по-хорошему завидовал ему, не имея возможности попробовать себя в соревновании за право стать мужем Кудруны, зятем Грунлафа.
Но что сказали бы эти зрители, если бы узнали, кем любуются они? Сколь велико было бы их изумление, если бы юный витязь расстегнул на груди свою нарядную свиту с изображением кукушки на спине. Не могли ведать зрители, что нисколько не хотелось ему получить в награду за свою стрельбу прелестную Кудруну и что лишь желанием опередить Владигора было наполнено сердце его. Возможно, именно поэтому все десять его стрел угодили в черный круг, и витязь, не поклонившись в сторону князя и княжны, ушел туда, где стояла его лошадь.
На следующий день состязания зрителей пришло еще больше. Люди приезжали не только из Пустеня, но из ближайших деревень, благо урожай был собран и можно было немного поразвлечься. Теперь не только стожки сена, но и возы служили сиденьем для всех желающих увидеть, кто будет первым в стремлении стать зятем князя игов. Число зевак прибавилось, зато ряды соревнующихся поредели. Многие, не видя проку в соревновании с такими молодцами, что пускают стрелы из невиданных луков или стреляют при помощи всего одной руки, натягивая тетиву зубами, испугались и больше силы свои показывать не хотели. Других же судьи, признав стрельбу их никуда не годной, сразу отстранили, приказав им немедля сниматься с дворцового подворья и убираться вон. Грунлаф сильно сожалел о растраченном запасе из погребов и ледников. Так что на второй день желающих соперничать за право стать мужем княжеской дочери стало уже значительно меньше.
У зрителей уже были свои любимцы: витязь с самострелом (так окрестили люди невиданное ими прежде оружие, а самого стрелка называли Конем по причине соответствующего изображения на свите); другим любимцем, конечно, был стрелок, натягивавший тетиву зубами, с медведем на спине; третьим же являлся юный витязь с кукушкой на кафтане. Перед началом состязаний уже бились об заклад, ставя то на Коня, то на Медведя, то на Кукушку, не боясь потерять кто шапку, кто кинжал или даже меч, а кто и коня со сбруей. Над толпой неслось:
— И не клянись ты, Болотень, Перуном, что твоя Кукушка побьет Медведя, — кишка у нее тонка!
— Правда, правда! Вчерась-то по неподвижной цели били, и Кукушка долго целилась, теперича же по шарам катящимся стрелять будут, вот и победит всех Конь, ибо с его прикладом, видно по всему, стрелы по бегущим целям пущать куда сподручней!
— Врете вы все! Медведь зубастый всех сильнее будет, ежели зубы вчерась не обломал!
— Такой не обломает! Я приметил, что зубы-то у Медведя из железа — блестели, точно клинки кинжалов. Я на Медведя телегу уж свою поставил супротив кожуха овчинного — мой будет!
Вот под гудение труб, рогов, под барабанный бой из городских ворот выехали всадники в личинах, приблизились к месту ристалища, и, после того как спешились они, Грунлаф возгласил:
— Витязи! Многие из вас вчера явили мастерство отменное в стрельбе по цели неподвижной. Сегодня же придется вам показать искусство в метании стрел по катящимся шарам, кои будут пущены по желобу, покуда льется из кувшина тонкой струйкою вода. Десять шаров должны вы поразить!
И впрямь — вместо деревянных щитов с кругами на расстоянии ста шагов были устроены три желоба, для каждого из трех стрелков по одному. Их невысокие борта не закрывали шаров, которые должны были бросить специально поставленные слуги, что прятались за надежными укрытиями, во избежание попадания в них стрелы. Кувшин же с водой был закреплен поодаль, и текшей из него струей распоряжался судья. Особенностью кувшина было то, что количество находящейся в нем воды показывалось стрелкой, соединенной с поплавком, что плавал на поверхности воды, так что и слуги, пускавшие шары, и стрелки могли следить за тем, как скоро новый шар должен выкатиться в желоб.
Вновь витязи тянули жребий, и снова первые трое топтали ногами землю у черты, и видели зрители, как из-под их личин от волнения струится пот. Теперь время торопило стрелков, и никто не был вправе целиться сколь угодно долго.
И вот судья открыл отверстие внизу кувшина. Тонкая струйка брызнула, и тут же с шумом по желобам покатились деревянные шары, взвизгнули тетивы, полетели стрелы, но ни одна из них не попала в цель. Стрелы втыкались в доски желобов, опережая шары, или били позади них.
Вторая тройка витязей выступила столь же неудачно. После того как еще трое стрелков пустили свои стрелы мимо цели, среди ожидавших своей очереди участников состязания поднялся ропот.
— Не хотим таких правил! — загудел кто-то, и его тут же поддержали:
— Со ста шагов в шар попасть — видано ль такое?
— Ты, князь, наверно, и вовсе дочку замуж выдать раздумал, коли такое испытание придумал!
Ворчание слышалось не только в толпе дружинников, слуг, витязей и князей, но и за спиной Грунлафа, где теснилось человек с полста отборных воинов, призванных охранять его, — и вот даже они черной руганью крыли хитрого князя, неведомо для чего устроившего столь трудное испытание. Уже залязгали в ножнах мечи, заколыхалась толпа витязевых дружинников. Уже хотел Грунлаф подняться с увещеваниями или даже Хормуту шепнуть, чтобы коней готовил для бегства в город, но вдруг раздался над толпой чей-то звонкий голос. Все посмотрели туда, откуда он донесся, — витязь молодой с кукушкой на спине кричал, изготовив стрелу на луке:
— Что, драные хвосты, косоглазые стрелки, лежебоки толстозадые, не по силам вашим по шарам стрелять?! Ну так как же вы решили за Кудруною приехать? Разве вам, старым, немощным, справиться с ее телом молодым, девичьим?! — И, обращаясь к судьям, что отвечали за движение шаров, прокричал: — А ну пускай шары!
Снова струйка водяная выбежала из кувшина, вновь загрохотали деревянные шары, а витязь с кукушкой на плече, выхватывая стрелы из колчана, пускал их молниеносно, и хоть и не все его стрелы попали в цель, но четыре шара оказались пронзенными.
Крик одобрения вырвался из сотен глоток, когда витязь, отстрелявшись, резко повернулся и отошел в сторону. Кудруна, еще вчера признав в Кукушке того, кто приходил к дверям ее спальни, тоже не смогла сдержать возгласа восторга. Да, это был не Владигор, — иначе зачем он стал бы убеждать ее в том, что князь Синегорья — отвратительный урод? Сердце девушки, однако, не могло не воспылать сильным чувством к этому красивому юноше, смело оборвавшему речи недовольных стрелков и поразившему четыре шара из десяти. Но, взглянув на своего отца, Кудруна увидела, как погрустнел он, совсем не радуясь успеху Кукушки. Грунлаф, впрочем, счел нужным подняться и, обращаясь к гостям, с достоинством и одновременно обидой в голосе сказал:
— Видите, князья и витязи, что правила, установленные мною, нельзя признать неисполнимыми. Потому-то и выдуманы они, что я слишком ценю свою дочь, которую пожелал отдать лишь самому достойному из вас.
Сел, и тотчас рога протрубили сигнал, приглашающий к черте очередных стрелков, но зрители увидели, что вызванные три новых витязя дружно помотали головами, замахали руками, один из них прокричал:
— Пусть, Грунлаф, другие в твои шары стреляют, а мы уезжаем восвояси…
— Ну и скатертью дорога! — с насмешкой молвил Грунлаф, не поднимаясь с места. — Отправляйтесь же отсюда поскорей, чтобы не мешать другим! — И, обращаясь уже к кучке оставшихся претендентов на руку Кудруны, сказал: — Может быть, вы тоже боитесь промахнуться? Вам тоже безразлична моя дочь?
Послышалась приглушенная брань, раздался глухой ропот, зазвенели кольчуги, загрохотали кожаные и берестяные колчаны. Не ответив Грунлафу, около десятка витязей решительной поступью поспешили к своим лошадям, и скоро в сторону ворот Пустеня поскакали они в сопровождении дружинников и слуг, а народ провожал бежавших с состязания свистом, хохотом и язвительными шутками:
— Стрелы свои дорогой не растеряйте, а то дома с девками нечем воевать будет!
— Да у них и нетути стрел, оттого так быстро и едут, — уже порастеряли дорогой!
— Куда им, таким, до Кудруны!
Трубы и рога заглушили шум толпы, приглашая к черте оставшихся на ристалище витязей. Грунлаф же, стараясь не выдавать своего волнения, вглядывался в их личины — боялся, что уехал и Владигор. Но нет, самострел синегорского князя все так же, как и вчера, лежал на широком плече рослого стрелка. Выходить к черте, однако, князь не спешил, зато вместе с двумя соперниками стрелять по шарам собрался Медведь, встреченный народом обнадеживающими возгласами:
— Эй, однорукий, победи, победи!
— Хватит тебе и одной руки, чтобы Кудруну обнимать!
Витязь в плаще, скрывавшем правую часть тела, резко повернулся в сторону кричавших и так грозно оскалил зубы, так блеснул глазами в прорезях личины, что все сразу стихли, испугавшись.
И опять полилась вода, и снова покатились по желобам шары. Ловко поворачивались стрелы в пальцах левой руки Медведя, державшей в то же время лук, и зубы его мгновенно впивались в тетиву, и летели стрелы одна за другой. Кудруна в это время молила богиню Мокошь, чтобы та отвела стрелы этого страшного витязя от цели, но, наверное, Мокошь не слышала ее мольбы, потому что шесть шаров из десяти сорвались с желоба и упали на землю, пораженные меткими стрелами Медведя. Никто из соперников не смог попасть ни в один из шаров.
— Живи и здравствуй, Медведь! — орала толпа, а кто-то в ней голосил:
— Ох, и станет же Грунлафова дочурка Мед-ве-ди-хой! Ох, и народит же Кудрунка мед-ве-жа-то-чек!
И опять, как и вчера, почитатели ловкого стрелка подхватили его на руки и понесли к себе, чтобы угостить пивом и медом. Грунлаф, видя ликование толпы и уже сильно недовольный собой за то, что согласился провести эти состязания и отдать свою единственную дочь победителю, злобно прошептал сидевшему рядом Красу:
— Я разве не просил тебя сделать так, чтобы этот урод промахнулся?
Крас с притворно-удивленным выражением на лице повернулся к Грунлафу:
— Князь, я ведь исполнил даже больше, чем ты просил: ты заказывал, чтобы урод сделал три промаха, а он промахнулся четыре раза. Что поделаешь, ежели собрались такие скверные стрелки. Но не бойся — победит Владигор!
Едва он это сказал, как подошел витязь с изображением коня на спине и самострелом на плече. Огромная сила чувствовалась не только в его статной фигуре, широких плечах и мускулистых руках, но и в каждом шаге, в гордо откинутой назад голове, в том, как уверенно он занял место рядом с двумя другими стрелками, поставив перед собою колчан с короткими стрелами. Спокойно он взвел тетиву, приспособил на ложе самострела стрелу, уперев приклад в живот, стал ждать, когда покатится первый шар. Зрители говорили между собой:
— Нет, за Медведем Коню не угнаться, куда там!
— Точно! Не успеет он вовремя свой самострел перезарядить и проиграет! Лучше б лук взял!
Но вот вода полилась, покатились шары, засвистели стрелы витязей, что стояли рядом с Владигором. Он тоже выстрелил, едва приложив к плечу приклад, а потом, не глядя, попал в шар или нет, опустил самострел, мигом вдел ногу в железное стремя и поставил тетиву в положение нужное для стрельбы. Покуда его соперники выхватывали из колчанов новые стрелы, Владигор уже стоял с самострелом наперевес, готовясь выстрелить во второй шар.
Лишь по звуку догадывался он, что каждая его стрела достигала цели: деревянные шары под действием тяжелого наконечника, набиравшего в полете огромную скорость, разлетались в щепки.
Все десять шаров поразил Владигор, после чего учтиво поклонился Грунлафу и Кудруне. Витязи-неудачники, из которых никто ни разу не сумел попасть в катящийся шар, кричали:
— Грунлаф, нельзя засчитывать его стрельбу! Мы все стреляли из лука!
— Пусть и нам дадут такое оружие, тогда мы тоже попадем в шары!
— Князь! — вопил один витязь, к маске которого были приделаны коровьи рога. — Посади этого стрелка в застенок, выпытай, кто он такой! От нечистой силы его мастерство! Его лук заколдован!
Но Грунлаф, очень довольный тем, что Владигор оказался непревзойденным, ответил:
— Я не нарушу установленного вами же правила — каждый стреляет из своего оружия. А что до нечистой силы, так с нею мы после разберемся, когда состязания закончатся! Итак, витязи, завтра мы будем следить лишь за стрельбою трех лучников: Коня, Медведя и Кукушки. Все прочие, уж не обессудьте, больше не вправе называть себя участниками состязаний! — И добавил, улыбнувшись: — Учитесь стрелять, богатыри!
Зрители захохотали, до того удачными показались им слова Грунлафа, а витязи, обиженные, считая, что их достоинство унижено, пошли прочь. Немало перепало оруженосцам оплеух от разъяренных, досадующих на неудачу стрелков.
На дворцовом подворье, отведенном для приезжих, царила суета, слышалась брань, понукание лошадей, приказания господ слугам, спешно собиравшим в сумы и мешки дорожный скарб. К молодому витязю, все еще не снявшему черной маски, подошел белобородый старик и льстиво забормотал:
— Ах, витязь, ты стрелял отменно, гораздо лучше всех этих господ! И все же далеко тебе до Владигора! — И сокрушенно покачал головой.
Карима, а это была она, не узнавая Краса, ответила раздраженно:
— Кто ты такой? И почему знаешь, что это именно Владигор стрелял сегодня лучше всех? Ведь все были в масках!
— На то я и чародей, чтобы знать больше других людей. Разве не узнала ты того, кто заставил лесных разбойников перебить друг друга?
— Да, узнала! — с надеждой вцепилась Карима в руку старика. — Прости, что тогда, рядом со спальней Кудруны, сказала, что мне не нужна твоя помощь! Сделай завтра так, чтобы Владигор стрелял хуже меня! Пусть он ни разу не попадет в летящую голубку!
Крас с деланным сочувствием на лице зашептал:
— Конечно, Карима, конечно! Ведь я это и имел в виду, предлагая свою помощь. Дай же мне свою маску!
Княгиня леса сорвала с лица личину, и колдун, тотчас спрятав ее в складках плаща, быстро пошел в дальний угол подворья. Карима проследовала за ним, точно прочная цепь связывала ее с чародеем. Опустившись на колени, Крас положил личину на землю, достал бутылочку с какой-то жидкостью и небольшой кинжал. С остекленевшими глазами бормоча непонятные Кариме слова, Крас, обмакнув палец в жидкость, помазал ею края маски, потом острием кинжала стал чертить на внутренней ее стороне какие-то чудные знаки, переплетенные между собой и составляющие прихотливый узор. Карима с ужасом видела, как коробится кожа личины, морщится и покрывается пупырышками. Княгиня леса, дрожа от неодолимого ужаса, готова была бежать подальше от чародея, и лишь любовь к Владигору и ненависть к Кудруне удержали ее от этого шага.
На следующий день из Пустеня выехали всадники: Владигор с дружинниками, где первым был Бадяга Младший, Карима со своими прислужницами, облаченными в доспехи, и витязь с медведем на спине, одинокий и мрачный. Стражники еще не успели закрыть за ними ворота, а к Владигору уже подскакал витязь с кукушкой на свите, лицо которого было закрыто маской, очень похожей на его собственную.
— Эй, витязь! — обратилась Кукушка к Владигору смело и открыто. — Ты так хорошо стреляешь из своего самострела, что тебе, наверно, все равно, какая на тебе личина. Понимаешь, моя мне немножко великовата. Может, обменяемся с тобою?
Было видно, как губы Владигора в вырезе маски растянулись в улыбке:
— У нас в Синегорье, витязь, в таких случаях говорят: «Плохому плясуну кой-что мешает». Впрочем, не обижайся — вот тебе моя маска, примерь. Подойдет ли? И дай мне свою! А то Грунлаф, узнав во мне давнего врага Бореи, отменит состязания. Мне же ох как хотелось бы заполучить то, ради чего я и предпринял путешествие в Пустень!
Владигор не заметил, как сверкнули глаза Каримы, когда она услышала эту фразу. И вот уже личина со знаками, нарисованными Красом, была на его лице, а Кукушка завязывала на затылке тесемки от маски Владигора. Всадники, пришпорив коней, понеслись туда, где их уже дожидались Грунлаф с Кудруной и приближенными, а также прибавившие в числе зрители.
Когда Конь, Медведь и Кукушка спешились и, поклонившись правителю княжества игов, встали напротив него, ожидая распоряжений, Грунлаф сказал:
— Витязи, вы оказались первыми, но и среди первых есть вторые и третьи. Судьи, народ и я, Грунлаф, без сомнения отдаем первенство на день сегодняшний витязю с конем на одежде. Вторым идет Медведь, третьим — Кукушка. Посмотрим, витязи, как будете вы стрелять по голубкам, выпущенным из рук моей дочери Кудруны. Каждому придется стрелять трижды. Ну, тащите жребий из этого кувшина!
У ног Грунлафа стоял кувшин, и стрелки один за другим достали из него по свернутому лоскутку кожи. Оказалось, что первым предстоит стрелять Кукушке, вторым шел Медведь, а последним — Владигор, краем глаза заметивший, с какой надеждой и любовью смотрит на него княжна Кудруна. Он был уверен, что победит, хотя никогда прежде не стрелял по летящим птицам из самострела — не для охоты предназначалось его оружие. Видел князь Синегорья, что и Грунлаф следит за ним с отцовским умилением на лице, подчас еле заметно кивает ему, ободряя и словно говоря: «Ну-ну, князь, не робей, пусть будет тверда твоя рука, а уж я сдержу свое слово!»
…И вот крышка клетки, в которой сидели голубки, была снята. Кудруна взяла одну из птиц, подняла ее над головой и разжала пальцы. Голубка, почувствовав себя свободной, с шумом взмахнула крыльями, — в ярких солнечных лучах на фоне небесной лазури они трепетали подобно бьющимся на ветру лоскуткам хорошо выбеленного полотна. Зрители, задрав головы, следили за птицей и вдруг увидели, что голубка, кувыркаясь в воздухе, понеслась к земле, а стрелок с кукушкой на спине опустил к бедру руку с зажатым в ней луком.
— Убита! — сообщил зрителям судья, поднимая над головой пронзенную стрелою птицу. — Пусть же выпустят вторую голубку!
Кудруна, сохраняя на лице улыбку, но уже страшась того, что витязь с кукушкой сумеет поразить всех птиц, подняла голубку над головой, но теперь постаралась даже подтолкнуть ее, побольнее уколов ногтем брюшко, чтобы птица взмыла в небо и поскорее удалилась от стрелка. Но не успела голубка набрать высоту, как просвистевшая в воздухе стрела сразила ее, пробив насквозь.
— И вторая убита! — сообщил судья. — Выпускайте третью!
«Только улети, улети! — незаметно шепнула Кудруна голубке, думая, что та услышит ее мольбу. — Прошу тебя, улети!»
Птица взмыла вверх так стремительно, что стрела Каримы пронеслась мимо, даже не коснувшись ее белоснежного оперения. Карима, увидев, что ее постигла неудача, в отчаянии бросила лук на землю, и кое-кто из зрителей заметил, что слезы заструились из-под маски на гладкий подбородок юного витязя.
Приготовился стрелять Медведь. Толпа, испытывая к нему большую приязнь, кричала:
— Не промахнись, Медведь! Застрелишь этих голубок, после будешь другую голубку лелеять!
Медведь, оскалив зубы, ждал вылета голубки.
Но лишь двух птиц, первую и третью, удалось ему сразить. Витязь, однако, не подал виду, что огорчен, считая, вероятно, что борьба еще не завершилась.
— К черте приглашается последний витязь, с конем на одежде! — торжественно возгласил судья. — Если этот стрелок сумеет поразить голубок хотя бы дважды, то по сложении всех его предыдущих удачных выстрелов с теперешними он будет признан победителем. И тогда благороднейшему Грунлафу решать, как вознаградить его! Выпускайте птицу!
«Родная, не спеши! — шевелились едва заметно губы Кудруны, когда она выпускала голубку, забывая о том, что приговаривает птицу к смерти. — Ну что тебе стоит?»
Голубка полетела, но, не сделав и десяти взмахов крыльями, была просто-напросто разорвана тяжелым наконечником Владигоровой стрелы, и вслед за рухнувшими на землю останками птицы посыпались легкие белые перышки, похожие на лепестки яблоневых цветов, сорванные сильным порывом ветра.
Зрители были в восторге — столь прекрасным показался им выстрел Коня.
— Давай еще, давай! — кричали из толпы, забыв, что еще совсем недавно желали победы Медведя.
— Разорви еще одну голубку, а то домой поедешь со своею железякой, землю ею будешь ковырять!
Владигор, спокойный, уверенный в себе, чувствуя на себе взгляд Кудруны, подготовил к бою самострел.
И вот трепещущее белое пятно уже взлетело над толпой, — руки Владигора резко поднялись, двинулись, сжимая приклад самострела, хлопнул выстрел, и тотчас белое пятно замерло на фоне голубого неба… Птица, кувыркаясь, рухнула на землю под одобрительный вой собравшихся на поле людей.
Машинально, словно забыв о том, что он будет победителем, поразив даже двух голубок, Владигор взвел тетиву, приспособил на ложе стрелу, зажал ее, чтобы не упала, костяной пружиной, и приготовился выстрелить в третий раз, но тут услышал чей-то резкий выкрик:
— Да не достанешься ты никому!
Толпа охнула, кто-то взвизгнул от страха. Владигор повернулся в ту сторону, откуда послышался угрожающий крик, и увидел, что витязь с кукушкой уже натянул свой олений лук и стрела, готовая вот-вот сорваться с тетивы, направлена в Кудруну. Князь Грунлаф приподнялся и плечом пытался прикрыть свою дочь, но пропела тетива, и стрела полетела в заданном направлении.
Одного лишь мига хватило Владигору, чтобы вскинуть самострел, найти глазом полоску летящей стрелы и нажать на спуск. Стреле оставалось пролететь шагов тридцать, но тяжелая стрела самострела настигла ее быстрее. Раздался легкий треск, посыпались на землю щепки…
Некоторое время на поле царила тишина. Лишь тихое ржание лошади нарушало ее. Но вот резко поднялся со скамьи и срывающимся голосом заговорил Грунлаф:
— Схватите этого злодея, посмевшего нарушить покой хозяина, принявшего его в свои чертоги!
И тут же стражники Грунлафа бросились к витязю с кукушкой на спине. Карима, выхватив из-под свиты кинжал, встретила первого, кто подбежал к ней, ударом клинка в живот, но остальные воины быстро повалили ее на землю. Ее гибкое тело билось и извивалось, точно змея. И каково же было изумление воинов и всех, кто наблюдал за короткой схваткой, когда из-под разорванной свиты мелькнули округлые женские груди.
— Повелитель! — воскликнул один воин, когда Кариму подвели к Грунлафу. — Да это и не витязь вовсе, а… баба!
Грунлаф, поначалу лишившийся дара речи от изумления, молчал, поглядывая то на лицо Каримы, уже лишенное маски, то на ее грудь, а потом молвил:
— Ты хотела убить… меня?
— Нет, твою дочку! — дерзко выпалила Карима.
— Что же дурного сделала тебе Кудруна? Ради чего ты приехала на состязания?
— Чтобы или победить, и тогда Кудруна, в которую все влюблены, не досталась бы никому, или убить ее, если будет первым Владигор!
Грунлаф нахмурился. Впервые в жизни видел он такую страстную женщину.
— Выходит, — спросил он после глубокого раздумья, — ты любишь Владигора?
— Да, так же сильно, как любит его твоя дочь! Пусть же будет проклята она богами за то, что стала соблазном для мужчин!
Грунлаф снова задумался. Его сердце прониклось сочувствием к этой несчастной женщине, решившейся сменить платье на мужскую одежду и принять участие в состязаниях лишь ради того, чтобы Кудруна не досталась Владигору или вовсе никому не досталась. Но законы его княжества, главным судьей которого был он сам, требовали строго наказать покушавшуюся на жизнь дочери правителя.
— Ты будешь казнена, — коротко сказал он и взмахнул рукой, давая стражникам знак, чтобы Кариму увели. Ошеломленная толпа с суеверным трепетом смотрела на женщину в мужском кафтане. Все полагали, что без колдовства здесь не обошлось, ведь какой же «бабе» придет на ум, нарядившись витязем, явиться на состязание стрелков из лука! Да еще и стреляет она так ловко, едва ли не лучше всех!
— Жаль, если Грунлаф велит отрубить ей голову, — произнес кто-то негромко, когда Кариму увели в город.
— Да, жаль, — кивнули говорившему в ответ. — Добрым бы дружинником была эта девка…
Но зазвучали трубы и рога, забили барабаны, будто стремясь стереть память о неприятном событии, и после того, как стихли они, заговорил судья:
— Люди! Все вы были свидетелями, что соревнования судились нами честно и беспристрастно! И вот настало время назвать победителя! Вот он, смотрите! Это витязь с конем на кафтане! Теперь же пусть сам благороднейший князь Грунлаф выкажет ему свою приязнь!
Грунлаф поднялся, царственным жестом оправил пурпурную мантию, громко, чтобы слышали все, заговорил:
— Подойди ко мне, благородный витязь! — И когда Владигор, держа самострел на плече, встал напротив князя игов и Кудруны, взиравшей на него с нескрываемой любовью, продолжил: — Ты, кто оказался непревзойденным в состязании лучников, ты, кто своим метким выстрелом спас от смерти мою дочь, достоин ее руки! — Потом, еще более возвысив голос и обращаясь уже к зрителям, среди которых были еще не уехавшие витязи и князья, сказал: — Видят боги, что я до сих пор не ведаю имени победителя — оно мне безразлично, потому выполняю я свой обет, отдавая дочь свою за лучшего стрелка. Подойди к Кудруне, витязь, не снимая пока своей личины!
Владигор, трепеща от восторга, подошел к Кудруне.
— Возьми ее за руку! — приказал Грунлаф, и Владигор робко протянул к руке Кудруны свою большую ладонь. — Скажи, согласен ли ты взять в супруги дочь Грунлафа, правителя княжества игов? — вопросил князь игов.
— Согласен! — громко сказал Владигор и удивился, что голос его почему-то прозвучал непривычно резко и хрипло.
— А ты, Кудруна, дочь Грунлафа, согласна ли стать супругой витязя, победившего всех других в состязании лучников?
— Согласна, — для приличия помедлив, ответила Кудруна, и этот миг казался девушке самым счастливым, самым радостным в ее жизни. Грунлаф, вновь обращаясь к зрителям, спросил:
— Все видят, что я соединил их руки, не ведая, кто скрывается под личиной?!
И со всех сторон раздались крики:
— Ты действуешь справедливо, Грунлаф!
— Никто не посмеет упрекнуть тебя, князь игов!
Грунлаф, услышав эти возгласы, сказал:
— Ну а раз так, пусть же витязь, соединенный навечно с дочерью моей, Кудруной, снимет свою личину, назвав перед этим свое настоящее имя.
Владигор твердо, но все тем же чужим, хриплым голосом произнес:
— Я — Владигор, князь Синегорья!
И, продолжая держать в правой руке руку Кудруны, левой он сорвал с лица маску.
Кудруна вскрикнула, ее прелестное лицо исказилось гримасой ужаса, глаза широко раскрылись, щеки покрылись пепельной бледностью, а губы посинели и мелко задрожали. Она поднесла к лицу руку, словно желая заслониться от какого-то страшного видения, но руки ее плетями повисли вдоль тела, и девушка рухнула на доски помоста.
Владигор видел, что Грунлаф, вместо того чтобы броситься к дочери, тоже в страхе смотрит на него, да и все окружающие застыли в позах насмерть перепуганных людей.
— Да что вы так смотрите на меня?! — вскричал Владигор, недоумевая. — Я — Владигор, говорю вам! Я — князь Синегорья!
Кудруну успели подхватить на руки два воина и унесли ее поспешно куда-то, сам же князь игов, не сводя глаз с Владигора, выхватил из ножен меч и закричал:
— Нет, это не Владигор! Этот урод убил Владигора, завладел его оружием, одеждой, личиной, чтобы завладеть Кудруной! Убейте его!
Владигор не понимал, почему Грунлаф отказывает ему в праве быть князем синегорцев и почему называет уродом. Видя, однако, что к нему бросились сразу пять стражников с обнаженными мечами, он сам выхватил меч и, с быстротой молнии парируя удары нападающих, двоих ранил, а троих заколол.
Зрители, опасаясь за свою жизнь, бросились с места ристалища прочь кто куда, зато витязи, князья, дружинники, размахивая мечами, обступили кольцом Владигора. Бадяга, который видел князя Владигора сегодня утром, вообще не понимал, что происходит: произносят имя Владигор, соединяют руку витязя, стрелявшего из самострела, с рукой Кудруны, и вдруг выясняется, что никакого Владигора здесь нет, и какой-то страшный урод поражает мечом княжеских стражников.
Расправившись с пятерыми нападавшими, Владигор, видя, что правитель княжества игов зовет подкрепление, закричал:
— Грунлаф, остановись! Не надо лишней крови! Что случилось, зачем ты хочешь убить меня после того, как соединил мою руку с рукой твоей дочери?
Но в ответ прозвучали суровые слова Грунлафа:
— Ты — не Владигор! Ты — самозванец!
Продолжая стискивать в руке окровавленный меч, Владигор, уже догадываясь, в чем дело, провел левой ладонью по лицу — и вздрогнул! Не гладкой, опушенной шелковистой бородкой щеки коснулся он, нет! Щека была какая-то бородавчатая, шероховатая на ощупь, словно не обработанная усмарем[9] кожа матерого вепря.
Владигор встал на колени перед телом одного из убитых стражников, на груди которого был железный панцирь, начищенный до зеркального блеска. Приблизил к поверхности панциря лицо, взглянул на отражение и, невольно вскрикнув, отпрянул в испуге, — потом взглянул на отражение вновь и теперь уже не смог сдержать слез, покатившихся из его глаз.
Из зерцала на него смотрело совсем чужое лицо, и каким же уродливым было оно! Низкий, изборожденный глубокими морщинами лоб, надбровные дуги нависли над маленькими, как у свиньи, злыми глазками, широкий короткий нос расплюснут, перекошенный рот расползся чуть ли не от уха до уха, и из него торчат клыки, на скошенный подбородок сочится слюна, щеки изрыты бороздами, будто после какой-то тяжкой болезни…
— Это не я, не я!! — закричал Владигор громко и протяжно, закрывая ладонями лицо. — Меня заколдовали! Бадяга, Бадяга, где ты?! — обратился вдруг Владигор к единственному человеку, который здесь, в стране чужих людей, мог бы помочь ему.
Бадяга неспешно вышел из толпы, сделал несколько шагов по направлению к человеку, столь похожему фигурой и одеждой на его князя. Остановился.
— Бадяга, Бадяга! — бросился Владигор к дружиннику, стал трясти его за плечи: — Бадяга, ну скажи ты Грунлафу, что я и есть Владигор, что меня просто околдовали! Неужели и ты мне не веришь?!
Дружинник с трудом пересиливал желание оттолкнуть урода.
— Нет, ты — не Владигор! — наконец сказал Бадяга и, вырвав из рук Владигора удерживаемую тем руку, зашагал прочь.
Грунлаф же, внимательно следивший за этой сценой, грозно сказал, обращаясь к Владигору:
— Ты, называющий себя Владигором, совсем не похож на него! Подчинись сейчас же моей воле! Я — князь игов, на земле которого ты находишься, властелин и главный судья! Я обвиняю тебя в убийстве князя Владигора! Брось меч и предоставь мне вершить справедливый суд, если не хочешь умереть как собака!
Князь Синегорья, опустив на грудь голову, некоторое время размышлял, потом осторожно положил меч в двух шагах от себя и сказал:
— Я готов отдаться тебе, Грунлаф. Будь же честен в своем суде и помни о гневе Перуна!
— Я всегда о нем помню! — кивнул Грунлаф и, повернувшись к стражникам, сказал: — Возьмите меч и самострел Владигора, его коня отведите в мою конюшню. Человека, называющего себя Владигором, отведите в темницу. В самом скором времени я решу, что с ним делать.
Владигор не сопротивлялся, когда воины Грунлафа связывали ему за спиной руки. Он понимал, что Грунлаф имеет основания обвинять его в убийстве князя Синегорья. Но как доказать, что он на самом деле является Владигором, повелитель синегорцев пока не знал. Впрочем, сейчас ему было все равно: Кудруна, ради которой он приехал сюда и которую все еще безумно любил, Кудруна, его супруга, теперь не могла принадлежать ему!
Когда все разошлись с ристалища, один из витязей поднял с земли черную кожаную маску, что валялась в пыли, долго вертел в руках, приглядываясь к непонятным знакам, которыми была испещрена внутренняя ее сторона. Недоуменно покачав головой, он вздохнул, сунул личину за пазуху и пошел к своему коню.
Часть вторая ПУТЬ УРОДА
1. Допрос
Бадяга затягивал подпругу долго и сосредоточенно, и вовсе не потому, что это дело было для него непривычным. Просто в Пустене больше нечего было делать, но уезжать в Ладор без Владигора Бадяга не мог, он считал, что поступить так — означало бы проявить малодушие. Три дня он пытался разыскать следы своего господина, которого считал или убитым, или похищенным, его допрашивали у Грунлафа по поводу исчезновения князя, но что он мог сказать тем, кто расследовал обстоятельства внезапного появления перед Грунлафом страшного урода? Только то, что еще утром, в последний день состязаний, видел его в прежнем обличье. Рассказал он еще о том, что витязь с кукушкой на спине обменялся с Владигором личинами у ворот Пустеня, но во время обмена Бадяга лица князя Синегорья не видел, а поэтому не мог сказать, выехал ли с дворцового подворья настоящий Владигор или же на коне уже сидел урод.
«Эх, говорил же я ему, — с досадой думал Бадяга, возясь с подпругой, — не езди в Борею! Борейцы — самый плутовской народ во всем Поднебесном мире, и Грунлаф все эти состязания затеял, чтобы заманить тебя к себе, да еще с твоим самострелом. Нет, не послушал меня, вот и получил свое».
В глубине души Бадяга подозревал, что причиной исчезновения Владигора является сам Грунлаф, позволивший князю сначала победить, а после подменивший его на урода, чтобы всем показать свою непричастность к делу исчезновения повелителя враждебной Борее страны. К тому же Грунлаф сумел завладеть самострелом, и теперь, вооружив каждого своего воина новым видом оружия, наверняка пойдет на Синегорье войной.
О многом успел передумать Бадяга за эти три дня, но своих подозрений никому не высказал, спеша уехать из Пустеня побыстрее, — нужно было спешить в Ладор, чтобы предупредить Любаву о грозящей Синегорью опасности. И как же тяжело было на сердце у Бадяги! Он представлял себе убитую горем княжну, и как разгневается она на него, оказавшегося неспособным сохранить для Синегорья любимого всеми князя. Стыд мучил Бадягу, но вместе со стыдом в сердце жило и другое чувство, а именно страх, страх за себя, за свою голову. Вот поэтому-то и был задумчив и нерешителен Бадяга, затягивая подпругу на животе своего каурого жеребца.
В полном воинском облачении, со щитами за спиной выехали дружинники Владигора из ворот Пустеня, долго ехали молча, и никто из них ни разу не оглянулся, чтобы бросить прощальный взгляд на башни города, в котором потеряли они своего князя. Каждый чувствовал себя виноватым, у каждого на душе лежал камень, поэтому дружинники понуро клонили головы и не горели боевым задором их глаза.
Оброн, второй после Бадяги по силе и по своему значению в отряде, после долгого молчания сказал, поигрывая концом поводьев:
— Слышь, Бадяга, а ведь не сносить нам голов в Ладоре, всех казнят…
— Думаешь, не простит Любава? — мрачно спросил Бадяга.
— И-и, простит?! Князя не уберегли, хоть и были к нему как раз для того и приставлены. Если и не посрубают всем нам головы, так сгноят в застенке, в подвалах дворцовых. А разве виноваты мы? Супротив колдовства с мечом да луком не попрешь!
Бадяга и сам подозревал, что без колдовства в случае с Владигором не обошлось, и ответ держать перед Любавой за чьи-то козни ему не хотелось — как тут оправдаться?
— Оброн, ты не темни, — строго приказал Бадяга, — говори яснее, чего придумал?
— Чего-чего! — пробурчал Оброн. — Подходили уже ко мне и Плуг, и Варка, и Мечислав, другие тоже подходили. Короче, не желают дружинники в Ладор возвращаться. Они люди вольные, кому хотят, тому и служат, а на свою погибель отправляться в Синегорье считают делом совсем не умным. Просили с тобой переговорить о том, чтобы направиться в другое место, где заживут они вольготно, сытно и безопасно.
Бадяга на Оброна вскинул взор:
— Что ж это за место?
— Сам знаешь… — был уклончив дружинник.
— Не знаю, говори! — потребовал Бадяга, хотя и догадывался, где сыскали дружинники сытное и безопасное место.
— В лесу, где ты победил в поединке ту толстую бабешку. Чем не место? Там каждому достанется по женке, и так нас там станут холить да ласкать, что лучше жизни не надо. Случись какому купчишке, витязю или князю проезжать мимо — заставим поделиться серебром, одеждой, конями, пищей…
Бадяга вспыхнул, речь Оброна прервал:
— Разбойниками, вижу, быть вам захотелось! Понятно, дружинниками-то трудненько быть, хлопотно, за проступки перед князем ответ держать нужно, да и небезопасное ремесло-то — на поле брани живот свой под чужой меч или копье подставлять! Из засады сподручней, ловчее!
— Князем у нас будешь! — коротко сказал Оброн. — Поживем в лесу год-другой, а там или Владигор отыщется, или Любава нас простит, отходчива. Сейчас ехать в Ладор на смерть верную никто из нас не желает. Не поедем! Если силой нас принудить к тому захочешь, зубы обломаешь, Бадяжка, о наши синегорские клинки. Все, решайся!
Бадяга посопел, пофыркал, злясь скорее на себя, что уговорить не смог Оброна, и сказал, не глядя в глаза дружиннику:
— Хорошо, поедем в лес. Буду вашим князем, уговорили!
Дружинники, которых мигом облетела радостная весть о том, что в Ладор они не едут, пришпорили коней. Каждый вспоминал теперь, как хорошо им было в лесном городище, когда охотницы поили их душистым медом, кормили вкусным мясом и танцевали перед ними.
Железные кольца обхватывали запястья Владигора плотно, потому что заклепка, пропущенная через отверстия на их концах, была расплющена кузнецом сноровисто, в горячем виде, тяжелым молотом. К кольцам этим крепились две толстые цепи, поднимавшиеся к сводчатому потолку подвала, где другие кольца, вмурованные между каменных плит, прочно удерживали их, так что, повисни на этих цепях десять мужчин, подобных Владигору, они бы ни за что не оборвались.
Напротив подвешенного на цепях Владигора сидели за столом Грунлаф, Хормут и Крас, и их лица были освещены свечами, что торчали из трех глиняных подсвечников. Самострел и меч Владигора лежали на столе, и все трое пристально изучали клинок и рукоять меча, то и дело бросая на закованного в цепи урода подозрительные взгляды.
— Ну, поведай нам, урод, называющий себя Владигором, где добыл ты этот меч? — обратился Грунлаф к синегорскому князю, потратив достаточно времени на осмотр меча.
Хриплым голосом, слышать который было ему самому противно, Владигор проговорил:
— Этот меч ковался еще моим отцом, Светозором. Он часто был в моей руке, когда я дрался с врагами Синегорья, и я взял этот меч, Грунлаф, когда отправился к тебе на состязания лучников. На нем увидишь ты наш родовой знак.
Грунлаф с издевкой улыбнулся:
— Действительно, на мече есть родовой знак синегорского князя, но такого знака нет на тебе самом. Кто подтвердит, что ты и впрямь властелин Синегорья? Может быть, мои советники, благородные Хормут и Крас?
Грунлаф вопросительно посмотрел на сидевших рядом советников.
— Нет, какой же это Владигор! — хмыкнул Хормут. — Я разговаривал с князем Синегорья в Ладоре, и между красавцем Владигором и этим страшилищем нет никакого сходства.
Потом слово взял Крас:
— Я тоже видел Владигора, это был поистине красивый мужчина, совсем не похожий на урода, который здесь клянется, что является синегорским правителем.
Грунлаф задумался, подперев подбородок рукой:
— Та-ак, получается, что или в Пустень приехал не Владигор, а некое чудовище, выдавшее себя за Владигора, или этот урод в последний момент каким-то образом занял его место на состязаниях. Но как же это могло случиться? Я допрашивал дружинников Владигора — все они утверждают, что еще утром видели князя живым и невредимым. На ристалище их господин не снимал маску до самого конца, и они не могли сказать, кто стрелял из самострела: их князь или кто-нибудь другой. Во всяком случае, в этом уроде они признать своего властелина отказались.
Грунлаф, казалось, в самом деле был озадачен. Он так хотел выдать свою дочь за героя Владигора, благородного, мужественного красавца. Теперь же получалось, что Кудруна, по его воле, будет принадлежать отвратительному на вид существу, — просто даже смотреть на этого урода было противно не то что юной девушке, но и ему, Грунлафу, стойкому в боях мужчине, не раз видевшему ужасные раны, уродливые лица, обезображенные смертью тела.
— Грунлаф, — произнес неожиданно Владигор, чем вывел князя игов из состояния задумчивости, — ну кто же, кроме меня, Владигора, мог приехать к тебе с новым оружием, с самострелом? Кто, как не я, каждый день в одном из залов своего дворца посылавший из этого самострела в глиняных болванов тяжелые стрелы, сумел бы поразить все цели и даже сбить летящую в твою дочь стрелу какого-то сумасшедшего! Только мне одному удалось подсмотреть в книге кудесника Белуна, моего учителя, секрет изготовления этого сильного оружия, превосходящего по мощи и меткости любые луки! Да, возможно, я наказан какими-то злыми силами именно за то, что ослушался совета Белуна и решил показать людям оружие другого Времени и Мира. Но за что же сковал ты меня цепями? Разве я не добровольно положил на землю меч? Разве я причинил кому-либо зло? Кто-то заколдовал меня, изуродовал мое лицо, покуда я находился в маске, но, клянусь честью, своим отцом, отчими богами, Владигора я не убивал, потому что тогда мне бы пришлось убить самого себя. Ты видишь перед собой Владигора, князя Синегорья!
Грунлаф потер лоб, потом спросил у Краса:
— Мудрейший, что говорит твоя наука о возможности превращения красивого лица в уродливое, да еще за короткое время? Кто мог совершить такое превращение, кому это могло быть нужно?
Крас, изображая на своем лице недоумение, развел руками:
— Благороднейший, моя наука не способна на такие превращения, но в словах урода ты найдешь ответ на свой вопрос. Разве не сообщил он тебе, что нарушил запрет кудесника Белуна и открыл всему миру новое оружие, описанное в каких-то тайных книгах? Вот и поплатился он за это, во что я охотно верю. Впрочем, Владигор перед тобою или нет — для тебя, благороднейший, теперь нет разницы. Неужели ты позволишь этому уроду приблизиться хотя бы на расстояние выстрела из этого оружия к постели своей дочери? Нет, конечно!
Грунлаф вскочил с места. Он был в полном отчаянии.
— Ну дай, дай мне, урод, называющий себя Владигором, какие-нибудь доказательства того, что ты на самом деле не убивал князя Синегорья, не похищал его ради того, чтобы стать моим зятем! Меч, самострел, перстень с печаткой князя Синегорья, снятый с твоего пальца, — все это не убеждает меня в твоей невиновности! Если я буду уверен в том, что ты и впрямь Владигор, я, по крайней мере, не казню тебя! Мы найдем твоего Белуна, уговорим или заставим его вернуть тебе прежнее лицо! Ну же, говори, говори!
Владигор, не боявшийся смерти, но страшившийся за судьбу Синегорья, заговорил:
— В горнице, где поселился я в твоем дворце, должен находиться кожаный мешочек. В нем я привез драгоценности дочери твоей, Кудруне. Я так был уверен в своей победе, что приготовил для супруги свадебный подарок. Пусть принесут мешочек, если он, конечно, не похищен кем-нибудь из дворцовых служителей. Он запечатан восковой печатью казначейства Владигора, сама же медная печать осталась у Любавы, правительницы Синегорья на время моего отсутствия. Когда сюда доставят драгоценности, я смогу подробно рассказать тебе, что находится в мешке. Мог бы самозваный Владигор сделать это? Не думаю!
Грунлаф оживился. Доверие к этому уроду возрастало в нем с каждой минутой. Он не мог забыть, как рыдал урод, увидев свое лицо в начищенном до блеска панцире убитого воина. К тому же именно этот несчастный своим метким выстрелом защитил Кудруну.
— Хормут, распорядись сейчас же принести мешок, а если его там нет, допроси с пристрастием всех слуг, кто убирал в горнице, отведенной Владигору!
Хормут тут же удалился, а Владигор продолжал говорить:
— Еще я смог бы нарисовать план моего дворца. Хормут, когда был с посольством у Владигора, наверняка запомнил, как его вели по помещениям от входа во дворец к тому залу, где я принимал его. Только… только тебе нужно будет приказать снять оковы хотя бы с одной моей руки.
Грунлафу и это предложение показалось дельным, он тут же, вызвав колокольчиком слугу, распорядился принести чистый лист пергамента, а также позвать кузнеца с зубилом и молотком. Скоро одна рука Владигора была свободна. Остро заточенный кусочек ивового уголька позволил Владигору, перед которым слуга держал на доске пергамент, изобразить план переходов его ладорского дворца.
Хормут долго не возвращался, и подозрение, что урод его пытался обмануть рассказом о драгоценностях, уже закралось в сердце Грунлафа. Он спросил у Краса:
— Скажи, умнейший, ты бы смог, не раскрывая кожаного мешка, увидеть в нем то, что никогда не клал туда своей рукой?
Крас улыбнулся. В его планы не входило убеждать Грунлафа, что урод не является в действительности Владигором, поэтому кудесник ответил прямо:
— Даже не потрясая находящимися в мешке вещами, я, ощущая тепло, исходящее от них, уверенно сказал бы, из какого материала изготовлены они, но описать их форму, увы, не сумел бы. Не думаю, что это чудовище опередило меня в своих способностях. Впрочем, мы пока не видим никакого мешка…
Тут дверь отворилась, и вошел Хормут с кожаным мешком в руках.
— Государь, твои слуги настолько честны, что даже не посмели прикоснуться к вещам того, кого называли Владигором! — возвестил он.
Крас поправил советника Грунлафа:
— Не от избытка честности проистекало это, благородный Хормут. Просто слуги Грунлафа, зная о том, что произошло в последний день состязаний, побоялись воспользоваться имуществом страшного оборотня.
— Не будем спорить! — оборвал Краса Грунлаф. — Где же здесь печать? Хормут, посвети!
Хормут поднес свечу поближе к мешку, и Грунлаф воскликнул:
— Так и есть, печать казначейства Синегорья на месте! — И, уже обращаясь к узнику, сказал: — Ты, кто называет себя Владигором, опиши-ка эту печать!
— Справа на ней вырезан волк, положивший на сундук передние лапы, — ответил Владигор, — а слева — родовой знак князей Синегорья.
Грунлаф одобрительно кивнул головой. Потом, заслонив своим телом стол, Грунлаф вывалил содержимое мешка поблизости от подсвечников и восхищенно произнес:
— Ого! Богатые дары вез благородный Владигор моей дочери! Они достойны княжны Кудруны!
И вот Владигор по требованию Грунлафа стал перечислять все предметы, что были положены в мешок, и поскольку отбирал он подарки для той, которую любил, тщательно, желая вызвать у нее чувство благодарности, то помнил каждое украшение, каждую его деталь, и ему было нетрудно описать их подробно и точно.
— Что ж, человек, называющий себя Владигором, — с удовлетворением сказал Грунлаф, когда покончили с драгоценностями, — это испытание ты выдержал. Пусть же теперь мой благородный Хормут посмотрит на план, что ты нарисовал, а также выслушает твое описание покоев, где принимал его Владигор.
Хотя Хормут и не слишком хорошо запомнил расположение покоев и коридоров дворца, но, рассмотрев чертеж, нарисованный на пергаменте, уверенно кивнул головой — план показался ему вполне правдивым, равно как и описание зала, в котором было принято посольство Грунлафа.
— Государь, — шепнул он Грунлафу, — сдается мне, что это страшилище не врет. Может быть, он на самом деле… околдован кем-то?
Грунлаф, не зная, что ответить своему советнику, вызвал колокольчиком слугу:
— Пусть снова придет кузнец! Скажи ему, чтобы снял цепь и с левой руки этого человека. Сегодня я подыщу ему другие покои в своем дворце…
Пока Грунлаф, Хормут и Крас в сопровождении двух воинов поднимались по узким винтовым лестничкам из подвала, служившего застенком, на половину князя игов, князь говорил советникам:
— Думайте, думайте! Вы должны ответить прямо, что делать с этим уродом. У меня нет сомнений в том, что мы допрашивали князя Синегорья, и я не хочу вызвать гнев Любавы, которая способна со своей дружиной и ополчением выжечь все мое княжество в поисках пропавшего в Пустене брата. Думайте, думайте!
Пришли в горницу Грунлафа, и князь тут же обратился к Хормуту:
— Ты первый говори!
Хормут провел рукою по длинным усам, нахмурился, словно собираясь с мыслями, и заговорил:
— Не пристало нам, княже, бояться каких-то синегорцев. Мы их и раньше-то бивали, а теперь, когда у них нет Владигора, побьем и подавно. К тому же в наших руках теперь их секретное оружие. Давай наделаем таких самострелов, чтобы хватило на тысячу или даже на три тысячи дружинников, и будем ждать, когда Любава пойдет на нас. Мы-то чем перед нею провинились? В противном случае тебе придется признать, что брак Кудруны и этого урода, пусть он хоть трижды Владигор, скреплен твоим твердым словом. Ты обещал выдать княжну за любого, кто победит на состязании стрелков. Победил урод, ну так давай, веди Кудруну в его опочивальню, пусть снимает с его ног сапоги!
Хормут говорил так убедительно, что Грунлаф, слушая его, то и дело кивал головой, но когда советник закончил, князь игов решительно ударил ладонью по столу и отчеканил:
— Не бывать тому!
Раздался блеющий, заискивающий голос Краса:
— Государь, позволь и мне словечко молвить.
— Ну говори, умнейший. — Грунлаф был недоволен, что ему приходится выслушивать еще и речь колдуна, в то время как он уже согласился с Хормутом.
— Ах, князь, — гундосил Крас, — благородный Хормут говорил так умно, так толково, что я страшусь твоего гнева, если что не так скажу. Но все-таки предлагаю тебе сделать по-другому: не разлучать Кудруну с уродом Владигором нужно, а, напротив, соединить. Ведь как-никак они супруги, и слово княжеское ты должен держать крепко.
— Нет, никогда того не будет, чтобы дочь моя…
— Послушай, — уже твердо, жестко перебил Грунлафа Крас, — тебе совсем не надо вести Кудруну в спальню этого урода. Мы с Владигором договоримся полюбовно: ты-де не рвись к Кудруне, покуда с тебя не сняты чары, и ее тем самым успокоим. Пусть они покамест будут лишь по названию супруги, пусть вместе отправятся в Ладор, где Владигор, конечно, убедит Любаву, как и нас, что он уродство свое обрел по прихоти какого-то колдуна. Впрочем, о его уродстве до поры до времени далеко не всякий и знать-то будет. Но когда-то и узнают…
— Когда же? — недоверчиво глядел на Краса Грунлаф.
— А когда захочешь ты стать через дочь свою правителем всего Синегорья.
— Каким же это образом удастся мне сделать Ладор своим? — недоумевал Грунлаф.
— Очень просто! В один прекрасный день я всем открою, что под личиной, которую наденет Владигор, скрывается не их давнишний князь, а занявший его место оборотень. Вот тогда и начнется дело! Синегорцы прогонят урода вон, а место его займет супруга Владигора, то есть Кудруна. По законам нашим, да и синегорским, жена умершего или пропавшего без вести князя имеет куда больше прав на престол, чем его сестра. Вот и будешь ты через Кудруну владеть всем Синегорьем. После мы ей ладного муженька подыщем, и род Грунлафов в Синегорье не прервется во веки веков! Ну, признай, княже, что мой план куда расчетливей, чем план благородного Хормута, хоть и тот хорош, не спорю…
По лицу Грунлафа от волнения, овладевшего им во время речи Краса, текли струйки пота, которые он даже не старался утереть рукой, — не до того было. Когда колдун умолк, властелин игов некоторое время сидел в оцепенении, не зная, что сказать. Наконец дрожащим голосом он произнес:
— Недаром я называю тебя умнейшим. Все сделаю, как ты велишь. Только б урод согласился в Ладор с Кудруною поехать.
Крас махнул рукой — пустое-де говоришь:
— Он согласится, согласится!
Владигор, прикованный в подвале цепями к потолку, не знал, что неподалеку от него, тоже в застенке, сидит Карима, полюбившая его так сильно, что любовь заставила ее на время превратиться в мужчину да еще и выстрелить в Кудруну.
И Карима не знала о том, что рядом с нею заключен Владигор. Впрочем, если бы ей показали этого ужасного видом узника, она ни за что бы не поверила, что перед нею тот, кого она полюбила столь страстно.
Ничто уже не волновало Кариму, кроме воспоминаний о красавце князе, — ни плохая пища, ни шуршание крыс по углам, ни предстоящая казнь, обещанная ей Грунлафом. Об одном она печалилась: обидно ей было умирать, так и не обняв любимого.
«Зря я стреляла в Кудрунку, — думала Карима с досадой, — нужно было застрелить Владигора, чтобы он никогда не достался дочери Грунлафа. Но теперь уже все равно, все равно. А как хорошо было жить в лесу, на воле! Вот бы вернуться сейчас в городище и… увидеть в моем доме перед вертелом, на котором шипит уже порозовевший вепрь, этого богатыря Владигора…»
Карима, уже представившая себя сидящей рядом с князем Синегорья, была возвращена в мрачный мир застенка скрипом засова. Желтая полоса света упала на пол из-за приоткрывшейся двери, неяркий свет масляного фонаря приблизился, и Карима различила человеческую фигуру, остановившуюся шагах в пяти от нее. Темный убрус, плотно затянутый под подбородком, черная мантия, наброшенная на плечи, почти сливались с мраком подземелья, но вот фонарь поднялся чуть выше, осветив лицо вошедшего, и Карима с удивлением увидела, что к ней пожаловала сама Кудруна. Дочь Грунлафа стояла и молчала, неотрывно смотря на сидящую на соломе узницу.
— Зачем ты пришла? — не выдержала Карима. — Хочешь подразнить меня, рассказать, какая ты счастливая? Ну давай, расскажи, как вы там с Владигором!..
— Молчи! — строго приказала Кудруна. — Ты хоть и будешь казнена за то, что стреляла в меня, но я… завидую тебе. Ты куда счастливее меня!
Злой хохот Каримы, удваиваемый эхом, раскатился под сводами подвала. Вдоволь нахохотавшись, княгиня леса с ненавистью сказала:
— Прочь отсюда, притворщица! Уж не хочешь ли ты уверить меня, что жрать черный хлеб с водой и отгонять от себя крыс приятнее, чем обнимать такого витязя, как Владигор?
Теперь уже голос возвысила Кудруна:
— Да кто тебе сказал, что Владигор красавец? Ты видела его когда-нибудь?
— Если бы я не видела Владигора, мне незачем было бы стрелять в тебя, смазливую дуру!
— Нет, ты видела кого-то другого, только не Владигора! Знай, что, когда его попросили снять личину, я лишилась чувств от страха: человек, назвавший себя Владигором, оказался гадким, отвратительным уродом! Ты, бедная, или и впрямь спятила, если не разглядела его уродства, или кто-то с красивым лицом, но совсем не Владигор, назвал себя его именем!
Карима не знала, верить ей словам Кудруны или нет. Картины недавнего прошлого, чьи-то фразы, как косяк рыб, попавших в сеть, теснились в ее голове, мелькали, менялись местами. Княгиня леса была уверена, что там, в лесном городище, она видела Владигора, и никого иного. Кроме того, когда в последний день состязаний возле городских ворот она менялась с Владигором личинами, мельком взглянув на него, — он, как и прежде, был красив, безумно красив. Так когда же князь синегорцев успел стать уродом? Кто был тому виной?
И вдруг все в ее голове встало на свои места, и страшное прозрение, как вышедшее из-за горизонта солнце, внезапно озарило ее ум. Вспомнилось, как чертил Крас на коже маски какие-то узоры и фигуры, как мазал по краям каким-то колдовским составом, говоря, что, надев эту личину, Владигор просто-напросто не попадет в цель. Но в цель-то синегорский князь попал без промаха, зато…
— Колдун, ты обманул меня!! — закричала Карима, понимая, что явилась виной происшедшего с Владигором несчастья.
Кудруна хотела было спросить Кариму, о каком колдуне говорила она, но не успела — узница повалила ее на земляной пол и сунула ей в рот большой пук соломы. Резким движением Карима завела Кудруне руки локтями назад и поясом стянула их так крепко, что у девушки не было никакой возможности не только пошевельнуть руками, но даже подняться.
Мантия и убрус Кудруны оказались Кариме впору. Оставив на полу потухший фонарь, княгиня леса бросилась к выходу из подвала. В коридоре ее ждали два стражника с факелами в руках — не ее, а Кудруну. Карима, вырвав из рук одного воина факел, грозно приказала:
— Идем к советнику Красу!
Следуя за первым стражем, несшим факел, Карима шла по каменным плитам дворца Грунлафа, и сердце ее горело так же, как факел, который она несла в руке. Когда воин, что шел впереди, остановился возле одной из дверей, Карима выдернула меч из его ножен и толкнула дверь плечом.
Колдун сидел за столом, переворачивая страницы огромной, лежащей на подставке книги. Едва женщина вошла, он повернул к ней свою обритую голову и широко заулыбался:
— Как, сама Кудруна пожаловала ко мне в столь поздний час? Какой нуждой вызван твой визит, княжна?
Карима, все еще скрывая свое лицо в полумраке комнаты, приблизилась к колдуну, пряча меч за спиной. Когда она подошла к Красу настолько близко, что удар мечом мог достигнуть цели, она осветила свое лицо пламенем факела, все еще зажатого в левой руке.
— Кудруна? Ха-ха-ха! Какая я тебе Кудруна! — со злобным смехом сказала Карима и тут же услышала громкие всхлипывания, — это Крас, сложив молитвенно руки на груди, готов был разрыдаться:
— Ах, Карима, прости, я вначале не узнал тебя! Конечно, тебе так неприятно находиться в подвале, но, сама понимаешь, тебя сгубила страсть, чем же я мог тебе помочь? Я только потворствовал твоей страсти! Ну прости же меня, прости!
Карима, ничуть не обескураженная плаксивой речью чародея, возвысила голос:
— Лесной змей, пожиратель муравьев, навозный жук, блоха, поселившаяся в гнезде малой птицы, не ты ли говорил мне, что личина с твоими письменами лишь отклонит стрелу Владигора от цели?! Нет, не для того просил ты меня подменить личины! Тебе нужно было изуродовать лицо Владигора! Как же ты посмел надругаться над моей любовью?
Карима замолчала, не находя слов, чтобы выразить свое негодование. Миг — и меч сверкнул над головой Краса как молния. Карима увидела широко раскрытые от ужаса глаза чародея, когда клинок расколол его голый череп на две половины. Карима невольно попятилась, опасаясь измарать одежду хлынувшею кровью, но раздвоенный череп чародея оказался пуст, вернее, он был наполнен черным, бездонным воздухом. К тому же Крас даже не покачнулся от удара мечом, напротив, его рот криво ухмылялся, а глаза — каждый на своей половине рассеченного черепа — глумливо щурились.
Вдруг его руки медленно поднялись, и ужас охватил Кариму при виде небывалой картины: Крас взялся за разъединенные половины черепа, прижал одну к другой — и вот уже перед ее глазами сморщилось в ехидном смехе лицо Краса, будто и не раздвоила она только что мечом голову ненавистного колдуна.
— О, прекрасная даже в гневе Карима! — задвигались губы чародея. — Меня в моей долгой жизни убивали не раз и не два. Однажды, кажется в Китае, я был изрезан на мелкие кусочки. Но до чего же глупы люди, желающие убить зло. Сколько же можно доказывать им, что если бы не было меня, то и добра не было бы тоже! Ну, представь: сегодня ты болеешь — тому я виной, — завтра ты здорова и радуешься своему выздоровлению. Так не я ли причина твоей радости? Я! Я! Так зачем же убивать добро?
Карима, обескураженная, не решаясь поднять меч во второй раз, глядела на Краса словно завороженная. Вдруг глумливо-насмешливое выражение на лице колдуна сменилось злым, жестоким. Его глаза ушли куда-то вовнутрь черепа, губы, и без того тонкие, совсем исчезли, но из черной щели, которая образовалась на месте рта, послышалось какое-то неясное бормотание. Рука Краса потянулась к столу, где рядом с раскрытой книгой сидела черная кошка с желтыми глазами. Чародей погладил кошку, что-то ей ласково нашептывая на ухо, а потом резко бросил ее на грудь Каримы и уже громко и даже торжественно сказал:
— Вот была ты женщиной, обуреваемой страстями! Будь же кошкой, такой же похотливой, как все вы, женщины! Бог дал вам разум, вы же пренебрегли им во имя страсти, называемой вами любовью!
Кошка всеми четырьмя лапами вцепилась в грудь Каримы. Меч и факел выпали из рук княгини леса, завороженной речью и взглядом колдуна, и тут почувствовала она, что ее тело начинает сжиматься, что все ее внутренности горят, и хотелось ей кричать от боли, но не могла она издать ни звука. Кошка, вцепившаяся в грудь Каримы, словно проваливалась в глубину ее тела, в то время как сама княгиня леса стремительно уменьшалась в росте. Укорачивались и руки, и ноги ее. Вот она уже стояла на корточках, вытянув вперед голову. Черные волосы пробивались сквозь одежду, которая рваными лоскутьями падала на пол. Откуда-то сзади стало расти что-то черное, превратившееся скоро в длинный, подвижный хвост, и вот уже у ног чародея мурлыкала большая черная кошка, глаза которой светились в полумраке, как две луны на ночном небе.
— Люди, — торжественно проговорил Крас, узрев, что сила его искусства проявилась без всяких помех, — как часто я давал вам советы: не будьте столь любвеобильны, берите пример с меня, и тогда Природа вознаградит вас сторицей. Вы мечетесь по миру в поисках любви, вы обуреваемы страстями, я же — спокоен, как камень. Ну так знайте — я буду жить вечно, а вы, несмышленыши, глупые птенцы, комары, один раз напившись крови-любви, исчезнете вечером того же дня, в который и родились!
Еще раз посмотрев на кошку, Крас погрозил ей пальцем и сказал:
— Карима, будешь пребывать в таком обличье до тех пор, пока не перегрызешь шею такой же, как ты, человекоподобной твари. И покуда не перегрызешь тысячу тетив, натягивать которые ты была такая искусница!
Подняв с пола все еще горящий факел и меч стражника, Крас вышел из горницы к воинам, покорно дожидающимся у дверей княжны.
— Ну, истуканы, полно спать! — сказал он им. — Ступайте в подвал и освободите от пут дочь князя Грунлафа. Так-то вы следите за ее безопасностью!
Бросив меч и факел на каменные плиты пола, Крас вернулся в свою комнату, но, поискав глазами Кариму, превращенную в черную кошку, он не нашел ее. Пожал плечами и вновь принялся за чтение книги, стоявшей на деревянной подставке.
2. Человек с лебединым крылом и чародей Острог
Витязь, который вышел на состязание лучников с медведем на одежде, тот самый, что стрелял натягивая тетиву зубами и всем казался одноруким, был не кто иной, как князь Гнилого Леса Велигор. Не имея возможности сражаться на мечах, потому что Крас, заколдовав его правую руку, запретил левой рукой когда-либо брать меч, Велигор мог биться лишь копьем или стрелять из лука. В поединке с Владигором он потерпел поражение, но не был намерен сдаваться. Победить в соревнованиях лучников стало для витязя-разбойника целью жизни, потому что пламя любви к Кудруне сжигало его сердце.
Но и в стрельбе из лука Велигор не сумел превзойти синегорского князя. В тот миг, когда Грунлаф уже собирался вложить руку своей дочери в руку Владигора, Велигор стоял всего шагах в тридцати от своего счастливого соперника. Ему хотелось броситься к победителю и крепкими своими зубами перегрызть ему горло, хотелось выхватить из колчана стрелу и, в мгновение ока натянув тетиву, как и прежде, единственно доступным ему способом, пронзить ею сердце ненавистного удачника. Левая рука Велигора, все еще державшая лук, потянулась уж было к колчану, но вдруг замерла — победитель снял маску, и все, в том числе и Велигор, увидели мерзкую харю какого-то урода.
Нет, стрелять в него Велигор не стал. Во-первых, уродливый стрелок совершенно точно не был Владигором, а во-вторых, князь Гнилого Леса не сомневался: Грунлаф не отдаст свою дочь за урода, кем бы тот ни был. И значит, можно было надеяться, что когда-нибудь ему, Велигору, все же удастся добиться благосклонности Грунлафа или соблазнить Кудруну, склонить ее к побегу из княжеского дворца. В лесу, близ селения, где владычествовал Велигор, в пещерах, только ему одному известных, были припрятаны немалые сокровища, и, согласись Кудруна на побег, она ни в чем не нуждалась бы в будущем.
Но одновременно с радостью по поводу того, что Владигор внезапно превратился в урода, в сердце Велигора нашли место и другие чувства. Ему казалось странным это необыкновенное превращение, и, когда все покинули ристалище, Велигор поднял с земли личину Владигора, сунул под полу плаща и отправился с нею в Пустень.
Дорогой его сердце стесняло какое-то то ли смущение, то ли сожаление. Он вспоминал, как рыдал стрелок с лицом урода, увидев свое отражение в панцире, и в нем крепла уверенность в том, что с Владигором в самом деле случилось какое-то превращение и никакой подмены князя Синегорья на урода во время состязания не было.
Велигор вернулся в домик богатого ремесленника, в котором поселился незадолго до начала соревнований, заперся в горнице, зажег свечи и принялся со всех сторон рассматривать личину. Странно, но этот кусок черной кожи с прорезями для глаз, носа и рта, с тесемками для крепления на затылке, притягивал его взгляд и вызывал невольную тревогу, будто и не кожа это была телячья, а самое настоящее лицо, смотревшее на него пристально и вопрошающе: зачем-де на меня уставился, неучтивый?! Даже тепло исходило от маски, едва ли не жжение.
Вдруг Велигору захотелось примерить личину. Он взял ее в руки, хотел уж было прижать к лицу, но заметил, что вся она испещрена какими-то непонятными знаками, хитро переплетенными между собою. Чувство тревоги, такое сильное, какого он не испытывал даже в минуты смертельной опасности, охватило Велигора. В ужасе он отбросил маску и трясущимися руками обхватил голову. Мысли, как залетевшие в комнату ласточки, метались в его голове.
«Вот оно в чем дело! Личина заколдована! Владигор ее надел, как видно, не по своей доброй воле. Ему ее подсунули! Что ж, трудно ли подменить один кусок кожи другим?! И снимал он личину эту перед Грунлафом и Кудруной, перед всеми нами, не зная, что предстанет в обличье урода. Иначе как же посмел бы он явиться на глаза той, которую любил, столь гадким и отвратительным? Но кому же понадобилось это: неумелому в стрельбе сопернику, мечтающему о Кудруне? Нет, ни один витязь не поступил бы так бесчестно, да и не искусны воины в колдовстве…»
Так думал Велигор, хотя до случившегося с князем Синегорья ему, казалось бы, и дела-то не должно было быть. Но в сердце его уже возникло сочувствие к Владигору, желание помочь ему…
— Послушай, Звенислав, — заговорил Велигор, входя в покои своего хозяина-ремесленника, — я в Пустене никого не знаю, приезжий я, так подскажи, сделай милость, есть ли в вашем городе колдун, да чтобы получше, посильнее был.
Велигор задал этот вопрос с некоторой робостью, ведь никто не обязан рассказывать чужестранцу, неизвестно откуда взявшемуся, где найти человека, который волею богов обладает чудесной силой.
— Заболел ты, что ли? Знахаря нужно? — недоверчиво насупил брови сидевший за вечерней трапезой Звенислав, жестом предлагая витязю сесть напротив.
— Да не то чтоб заболел… — замялся Велигор, а потом нашелся: — Сам знаешь, век витязя короток. Вечно мы в боях да в разных потасовках, ну вот и захотелось судьбу свою узнать. Что на роду написано, знать хочу…
— А, ну так бы и говорил! — провел пальцами по заляпанной похлебкой бороде Звенислав. — Это тебе в старую слободу идти нужно, да осторожно так, за небольшую плату, спросить, где Острог-старик живет. Может, и доберешься до него. Он, говорят, колдун хороший, ведун изрядный и целитель. Только уж больно норовистый — коль не понравишься ему, так и говорить с тобой не станет, срамными словами от себя погонит.
Поклонился Велигор хозяину и поспешил в старую слободу.
Над Пустенем тянулись желтые полосы зари, когда Велигор въехал в слободу, где жил старец. У одного, другого прохожего спросил, где можно найти Острога, но шарахались от всадника люди, заслышав, кто нужен ему, не прельщаясь даже его серебром. Наконец у одной сгорбленной, беззубой бабки узнал князь Гнилого Леса, куда нужно ехать, но прошамкала старушка ему вослед:
— Эк чего надумал молодец — к самому Острогу на ночь глядя прется!
Домик колдуна оказался совсем уж неказистый, того и гляди развалится, весь покосился под камышовой крышей. Велигор смело соскочил с коня, одной рукой привязал узду к столбику, толкнул дверь. Несколько плошек с плавающими в масле фитилями освещали убогий покой, и поначалу никого не увидел Велигор, спросил:
— Эй, есть тут кто?
Вдруг некто маленького роста, весь взъерошенный, косматый, с торчащими в разные стороны клоками свалявшейся седой бороды, в длинной рваной рубахе, выскочил из угла. Глаза с ненавистью смотрели на вошедшего, два последних зуба обнажились, налезая снизу на верхнюю губу.
— Кто такой? Зачем пришел?! — заорал дед визгливо, взмахивая перед носом Велигора стиснутыми кулачками, и не успел князь Гнилого Леса рассказать колдуну о цели своего прихода, как старец забормотал, то и дело взвизгивая: — Ну, Морок, Морок по тебе уж точит ножик! Мара, Мара, черная Мара к тебе с серпом идет, будет шею, шею тебе серпом сечь! Зеленчук, Зеленчук уж с колом до тебя добирается, хочет кол свой острый прямо в сердце твое вогнать! Зачем пришел, говори, человек с лебединым крылом, а с сердцем наполовину волчьим, наполовину овечьим! Говори, говори!
Велигор остолбенело смотрел на колдуна, испуганный его причитаниями и диким блеском его желтых глаз. И еще поразился он, как это угадал старик, что под плащом его прячется лебединое крыло.
Велигор низко поклонился старику и сказал:
— Со смирением и без лукавства говорю, что я, князь Велигор, пришел к тебе, чтобы показать…
— Личину Владигоришки, а? — перебил его колдун, растягивая губы в улыбке. — Такого же хвастливого и глупого, как ты и все прочие, кто собрался до самой Кудрунки через стрельбу из лука добраться?
Велигор только развел руками:
— Зачем же я, старче, вам и говорить-то буду, коль вы все и без слов моих знаете.
— Знаю, знаю! — хвастливо вскинул лохматую голову Острог. — Да только не все! Знаю, что народ о Владигоровом уродстве болтает, а ты, видно, тот, кто зубами тетиву натягивал?
— Да, верно…
— И не поломал зубы-то, дуралей? — со смехом спросил Острог. — Не такой беззубый, как я, стал? — И оттянул пальцем губу вверх, показывая два желтых своих зуба.
— Нет, не поломал, — смиренно отвечал Велигор, не обижаясь на чародея. — Но дозволь все ж таки о личине у тебя спросить. Вот она.
Велигор вынул из-за пазухи маску Владигора, протянул ее с поклоном старику, который схватил ее поспешно, бросился с нею к плошке с фитилем, принялся вертеть ее в руках, приблизив глаза почти вплотную к коже, качал головой, цокал языком, причмокивал губами, будто в жизни своей не видел ничего интереснее.
— Личина эта, кажется, виновата в том, что Владигор… — начал осторожно Велигор, но тот раздраженно замахал рукой:
— Да знаю, знаю, все знаю, молчи уж! Все лицо его исказила, безобразным сделала. Вот и письмена здесь чародейские прописаны, да и мазью колдовской намазана.
— Кому же это нужно было делать? — решил открыть рот Велигор.
— Кому? — вскинулся колдун. — А кому нужно было твою руку в крыло превращать, знаешь?
— Ну, посланнику Грунлафову, который ехал через мой лес с ликом Кудруны, дивно так на доске намалеванным. Красом будто его зовут.
— Верно, Красом! Разве ты его, когда из лука стрелял, не приметил средь приближенных к Грунлафу?
— Нет, не приметил, да и некогда мне было придворных князя рассматривать. Не о том думал.
Продолжая рассматривать личину, Острог бормотал:
— Да если и надумал бы Краса признать, ни за что бы у тебя это не получилось. Обличья свои менять умеет, будто тучи, что по небу в бурю несутся. А зачем он Владигора заколдовал, догадываюсь: Владигор — ученик Белуна, врага всех черных колдунов. На самого Белуна у Краса управы нет, а вот на ученика нашлись силенки. И потому сие случилось, что очень уж сильную страсть подпустил к своему сердцу Владигор, к Кудрунке страсть. Еще гордыня его немало обуяла — не только самострелы делал, Белуном до времени людям запрещенные, но и, чтобы меткостью стрельбы из них похвалиться и добраться до Кудрунки, в Пустень, к своим заклятым врагам, приехал. Обо всем том я тебе так твердо говорю, что еще до его приезда в Пустень я о том, что с ним случится, предзнаменование имел, по воску, в воду вылитому.
Велигор молчал. Ему вспомнилось, как страшно смотрел на него Крас перед тем, как превратить его руку в крыло. Нечеловеческая сила чувствовалась в этом взгляде, поэтому решиться на борьбу с советником Грунлафа Велигор не мог: не знал, с какой стороны и подступиться-то к чародею. И все же было ему жалко Владигора, и жалость пересилила страх перед колдуном. Он спросил у Острога:
— Но кто же поможет Владигору прежнее лицо вернуть?
— Сам не знаю! — явно досадуя на свое бессилие, вскричал старик. — Мне ли спорить с Красом? Я предвидеть могу, в суть человеческую с первого взгляда проникаю, лечу травами и заговорами, а вот черной силы колдовской нет у меня. Иди-ка ты, молодец, к Белуну-чародею. Он поможет.
Велигор горько усмехнулся:
— Да где же я отыщу Белуна? Тебя-то вот насилу нашел!
— А я почем знаю? — сердито буркнул старик. — Не мое это дело знать, где чародей Белун обитает, у меня и в Пустене дел по горло!
Велигор повернулся было к выходу, чтобы идти прочь, но услышал примирительное:
— Эй, витязь, не держи на сердце злобу. Острог — человечек маленький, да и неученый, темный. Куда мне до Красов с Белунами! Шел бы ты сейчас к Рифейским горам, там отыщешь пещеру с той стороны, где солнце восходит. Живет в той пещере чародей Веденей, колдун белый. Я как-то на него набрел, и меня он кой в чем наставил. Веденей этот водил когда-то дружбу с самим Белуном.
Велигор кивнул:
— Спасибо, старче. — А потом спросил: — За серебро мог бы судьбу мою открыть? Долго ли жить буду?
Острог теперь улыбнулся куда приветливее:
— Тяжело тем живется, кто судьбу свою знает. Разве не правы были мудрецы, что говорили: счастливы человеки, ибо не ведают и завтра своего. А ежели узнаешь, что завтра от меча аль от стрелы падешь?
— Ну так постелю соломку загодя, чтоб мягче падать было! — пошутил Велигор.
Острог, внимательно взглянув в глаза витязя, кивнул:
— Ладно, поведаю тебе судьбу твою, только уж не обессудь, витязь.
Сняв с полки глиняный горшок, Острог пошел с ним к очагу, где уже не было огня. Железной лопаткой разгреб он пепел, и под серым его слоем засветились угольки. Насыпал их в горшок, после его на стол поставил, окружив плошками с маслом и фитилями. Из большого сундука, обитого полосами железа, извлек коробочку, к горшку вернулся и высыпал из коробочки на угли что-то в порошок измельченное. Мигом вспыхнуло снадобье колдовское, но тут же огонь пропал, лишь дым повалил из горшка, наполняя всю комнату.
Дым тот Велигору неприятным по запаху не показался. Напротив, едва вдохнул его в себя, как почувствовал, что по телу растеклась истома, нега, стало радостно, спокойно на душе, и в то же время знание какое-то, будто он сам был колдуном, способным предсказывать судьбу, явилось его сознанию.
Острог стоял у стола неподвижно, потом вдруг взмахнул руками, указывая на что-то видимое лишь одному ему, взволнованно заговорил:
— Вон, вон, видишь, витязь, как шествует твоя душа, что на время тело твое покинула! Смотри, грядет, грядет!
Велигор следил за движением руки Острога, и теперь ему казалось, что он и впрямь видит в клубах дыма, пронизываемого то здесь, то там сиянием дрожащего на фитилях пламени, какую-то фигуру, очень бледную, но схожую очертаниями с его собственной фигурой. Вот и собственное лицо мелькнуло, а старик все говорил:
— Десять, двадцать, тридцать раз явится тебе весна, а после скроется твоя душа в тенистой дубраве на Чурань-реке. Долго будешь жить, витязь. Но вижу я рядом с твоей душой и душу, что ты спасешь, родственную тебе душу, душу брата твоего родного, единокровного. Но чтобы спасти его, придется тебе натянуть лук и выстрелить прямо в сердце ему, иначе он не спасется и погибнет. И ты тем самым спасешься.
Ничего не понял Велигор из темной речи Острога, а тот все говорил:
— Еще вижу я подле тебя женщину прекрасную, супругу твою. С ней проживешь ты тридцать лет, до самой смерти твоей…
Больше ничего не смог сказать Острог. В изнеможении опустился он на колени, а после неслышно упал ничком. Велигор же, преодолевая желание также пасть на пол и заснуть, наклонился и тронул старика за плечо:
— Эй, старче, очнись! А имени той женщины ты не знаешь?
Велика была надежда Велигора на то, что именно Кудруну увидел чародей в клубах пахучего дыма, но так и не добудился он Острога и покинул его избенку, оставив рядом с еще дымящимся горшком слиток серебра.
Выйдя на улицу, уже совершенно пустынную, освещенную лишь ущербной луной, взял коня под уздцы и пошел с ним по слободе, размышляя над словами Острога.
«Какого такого брата должен я спасти, убив его вначале? Почему в том и для меня спасение? Нет у меня никакого брата, безродный я совсем».
Но твердое намерение ехать сейчас же в сторону Рифейских гор, искать Веденея, уже гнало его в ночную темень. И теплилась в душе надежда, что где-то там, в тех краях, встретится ему прекрасная женщина, которая целых тридцать лет будет его женой. Князь Гнилого Леса почему-то был уверен, что зовется эта женщина Кудруной.
3. Шлем с личиной из железа
Не с ничтожным по количеству бойцов отрядом выезжал из Пустеня Владигор, облаченный в дорогие, надежные доспехи, подаренные ему Грунлафом, а с целою дружиной: триста всадников, следуя на лошадях попарно, сопровождали Владигора, дорогого зятя правителя игов.
Но не одни лишь конные воины, на щитах которых изображен был родовой знак синегорских князей, ехали с Владигором в Ладор, — жена его, Кудруна, в легком крытом возке, восседая на подушках, направлялась к столице Синегорья. Еще и Крас, и Хормут ехали в Ладор, и необходимость их присутствия, как заверил Владигора Грунлаф, была продиктована желанием сделать церемонию въезда князя Синегорья с супругою в столицу более пышной. К тому же советники Грунлафа могли толково объяснить княжне Любаве и всем ладорцам, что случилось с их князем.
Владигор поверил в искренность намерений Грунлафа. Синегорский князь был прекрасным полководцем и отличным устроителем жизни своих подданных, но неумение вести интриги, творить козни, нежелание хитрить в общении даже с заклятыми врагами Синегорья делали его безоружным перед чужой хитростью. Выезжая из Пустеня, он не сомневался, что Грунлаф отпускает дочь в дом победителя состязаний лишь потому, что верен своему слову. Другое смущало Владигора — как добиться взаимности той, которую он не переставал любить?
Владигор не мог забыть выражение ужаса, появившееся на лице Кудруны, когда он сорвал с лица маску. Конечно, он на правах супруга мог войти в спальню к девушке и не спрашивая ее разрешения. Но, с одной стороны, сам Грунлаф намекнул ему, что не стоит до поры до времени добиваться от Кудруны выполнения супружеских обязанностей, — пусть она-де попривыкнет к его внешности. С другой стороны, Владигор понимал, что нельзя требовать от девушки невозможного. Глядя на свое отражение в зеркале из полированного серебра, он всякий раз в отчаянии хватался за голову, не представляя, как ему жить дальше.
Чтобы не вызывать ни у кого невольного отвращения, Владигор закрыл лицо маской из мягкой заморской ткани, а одна из дворцовых мастериц украсила ее изящной вышивкой. Маска эта оставляла открытыми только глаза и рот.
Но разве можно было скрыть изменившийся голос, хриплый, грубый, резкий? Владигор пытался придать ему прежнюю мягкость и не говорить отрывисто, но это ни к чему не привело, поэтому он вообще старался больше молчать. Да и с кем ему было разговаривать? Лишь с Грунлафом, готовившим его и дочь к отъезду, со слугами, один раз с Хормутом, спросившим, как будет правильнее изобразить на щитах воинов его родовой знак. Однажды, правда, и Кудруна была приглашена к столу, за которым сидели Грунлаф и Владигор, уже облаченный в маску. Почти не притронувшись к блюдам, ни разу не взглянув на супруга, Кудруна пожаловалась батюшке на нездоровье и поспешила прочь из горницы.
…И вот теперь Владигор ехал с женой в столицу своего княжества, и тяжкими были его думы. Как встретят его ладорцы, Любава? Нет, сестра, конечно, его поймет, поверит ему, в этом Владигор не сомневался, и все же сердце его ныло от нехорошего предчувствия.
Но если бы Владигор мог заглянуть в возок с Кудруной, оконца которого были занавешены, то увидел бы свою супругу с катящимися по щекам слезами, услышал бы, как утешает княжну, нет, теперь княгиню молоденькая прислужница:
— Ах, госпожа, да полноте вам убиваться! Ну и что с того, что муженек ваш не совсем красивым оказался. Стать-то у него какая, а под личиной-то уродства его и не видно совсем. Зато уж богатырь какой, славный во всем Поднебесном мире! Вот приедете в Ладор и станете там второй после князя Владигора. Кем вы были у отца-то, благороднейшего Грунлафа? В горнице своей сидели, пряжу пряли, полотно ткали, вышивали и никого почти не видали. Теперь другая у вас жизнь начнется, важная! — Она наклонилась к самому уху Кудруны и зашептала: — А надоест на харю его смотреть, так можно тишком добра молодца подыскать, только платочком махните, толпой повалят. Нет, завидую я вам, госпожа!
И прислужница, не ожидая ответа Кудруны, с мечтательной улыбкой откинулась на подушки.
Однажды вечером, когда остановились лагерем близ широкой реки и разбили шатры, Владигор решился подойти к шатру Кудруны. Полог он, однако, не откинул, а лишь позвал девушку:
— Не выйдешь ли ко мне хоть ненадолго, милая супруга?
Некоторое время ничего не было слышно, потом раздался шепот:
— Да иди же ты, госпожа, иди! Зверь он, что ль, какой?! Иди, не искусает!
С накинутым на голову убрусом Кудруна вышла из шатра, потупив взор, остановилась в двух шагах от Владигора, теребя в руках платок.
— Ну вот, я перед вами, — сказала она тихо. — Вы позвали — и я пришла, ведь я теперь ваша послушная раба.
Владигор, с закрытым маской лицом, поспешно шагнул к Кудруне, забыв в любовном порыве, что он урод. Схватил затрепетавшую Кудруну за руку, хрипло зашептал, стараясь приблизить лицо к лицу девушки:
— Нет, ты не раба моя, а жена, супруга! Разве не из любви к тебе я отправился в Пустень со своим новым оружием, не боясь открыть свою тайну всему Поднебесному миру! Только потому, что я любил тебя сильнее других, удалось мне стать победителем. А что со мной случилось, я не знаю. Приедем в Ладор, узнаешь от моих подданных, каким был Владигор до отъезда. Всякий ответит: хорош собой, высокий и совсем не урод. Так не гони же ты меня! Приеду в столицу, разыщу чародеев, целителей, ведунов — верну себе прежнее лицо. Впусти же меня в свой шатер, дай хоть рядом посидеть, не гони!
Но горячая речь Владигора не тронула Кудруну. Она-то в мечтах своих видела себя женой героя, красавца, о котором шла слава по всему Поднебесному миру, а мужем ее стал какой-то жалкий урод. Если бы не отец, заставивший ее поехать в Ладор, она бы скорей перерезала себе горло кинжалом, чем отдала чудовищу то, чем дорожила и что берегла для Владигора, — свою красоту и девственность.
— Впустить тебя в мой шатер? — ледяным тоном спросила Кудруна, смело глядя в прорези маски. — Ну что же, ты — мой господин и волен делать со мной все, что захочешь, но не жди от меня страстных объятий и пылких ласк! Вначале пусть предо мною предстанет настоящий Владигор, которого я поцеловала в губы на пиру, а потом уж берет меня, настоящую его супругу!
Владигор с горечью поглядел на пылающую гневом Кудруну, повернулся и пошел к своему шатру.
Когда проезжали через Гнилой Лес, к Владигору подъехал Крас. Отлично справляясь со своей норовистой кобылой, он с ехидной улыбкой проговорил:
— В этом лесу по пути из Пустеня в Ладор сопровождавший меня отряд был поголовно уничтожен лесными разбойниками. В наказание я заставил их биться друг с другом на мечах, обещая, что победитель удостоится чести бороться за руку Кудруны. Все они погибли, и с тех пор в лесном городище нет мужчин, а Кудруна досталась тебе, Владигор! — И Крас, расхохотавшись дерзко и нагло, дал шпоры лошади.
Владигор хотел уж было схватить старикашку за шиворот и сбросить с седла, несмотря на его возраст и чин посланника, но скрип, треск, грохот падающих на дорогу огромных деревьев отвлекли его. Стоны раненых людей, хрип лошадей, неистово бьющих копытами в предсмертных судорогах, глушили свист летящих со всех сторон стрел. Воины Грунлафа, прикрываясь щитами, повыхватывали из ножен мечи, но не видели пока своих противников.
Когда уже около пятидесяти человек было убито, из зарослей на дорогу выскочили, размахивая мечами, воины в кольчугах и шлемах. Их лица, как и лицо Владигора, были закрыты берестяными, размалеванными суриком личинами. Молча и бесстрастно они принялись рубить опешивших от неожиданности воинов Грунлафа.
Владигор выделил среди нападавших одного, коренастого, рубившегося лучше других, который был, судя по всему, главарем. «А не женщины ли это, оставленные мной когда-то?» — мелькнула у него мысль. Лиц нападавших хоть и не видно было, но сложением своим они, однако, от женщин отличались.
Впрочем, некогда было гадать, кто скрывается под размалеванными берестяными масками. Держа меч в обеих руках и разя им направо и налево, Владигор стал приближаться к главарю. Тот был облачен в хорошую броню, шлем, имел железную личину, выкованную так искусно, что издали можно было принять ее за лицо человека, если бы не блестел металл.
И вот уже скрестились их мечи, и Владигор сразу почувствовал, что коренастый — опытный боец. Но кто же мог сравниться с князем Синегорья в умении сражаться на мечах? Миг — и меч разбойника, выбитый из его руки ловким, резким ударом, уже валялся в дорожной пыли. Второй удар Владигор нанес по шлему и сбил его с головы разбойника. Хотел уж было Владигор рассечь главарю череп, но вдруг замер от изумления: перед ним, уже готовый принять смерть, стоял Бадяга!
— Ты?.. — только и сумел воскликнуть Владигор, опешив от неожиданной встречи в таком месте да при таких-то обстоятельствах, но быстро овладел собою и закричал страшным голосом: — Останови своих людей, Бадяга! Не то зарублю!
Бадяга, сунув два пальца в рот, свистнул пронзительно и длинно, и разбойники, услышав сигнал, разом застыли с поднятыми для удара мечами. Владигор, тяжело дыша, подошел к Бадяге вплотную. Дружинник хоть и оробел, но виду не подавал, не зная, с кем имеет дело.
— Что, Бадяга, разве не узнал моего удара?! — насмешливо спросил Владигор.
— Чьего это удара? — недоуменно пучил Бадяга глаза на стоящего перед ним человека — ничего в нем не было знакомого для дружинника: ни доспехов, ни голоса, а лица он и вовсе не мог увидеть из-за маски.
— Как — чьего? — разозлился Владигор. — Не видишь разве, чей знак родовой на щитах изображен? Владигора! От него-то удар получить ты и сподобился.
Но Бадяга продолжал недоуменно пожимать округлыми могучими плечами, скрежеща при этом пластинками доспеха:
— Знак, говоришь, родовой? А что мне знак-то? Его всякий бездельник намалевать может. Ты мне лучше лицо свое открой, прежде чем Владигором называться. Покуда я в тебе ничего Владигорова не примечаю. Голос, к примеру, у тебя скрипучий, что колеса у телеги несмазанной. У моего хозяина другой был…
Владигор молчал, не зная, что ответить. Если бы он снял маску и открыл Бадяге свое лицо, то упрекать дружинника в том, что он напал на своего господина, Владигор не имел бы права. Но вот родовой знак…
— Послушай, Бадяжка! — Владигор постарался придать своему голосу как можно больше теплоты. — Ты ведь знаешь, что случилось со мной там, на ристалище. Зачем же мучишь, велишь снять личину? Да, очень страшен я стал, сам на себя смотреть не могу, но в душе-то я прежним Владигором остался, другом твоим! Для чего ты поступил как изменник, для чего оставил меня одного, зачем не в Ладоре у Любавы служишь, а здесь по лесам разбойничаешь?
Лицо Бадяги стало серьезным, даже злым:
— Уж много ты мне вопросов задал, витязь, не знаю, как тебя величать! Но отвечу. Оттого я Пустень покинул, что три дня искавши в нем своего господина, там его не нашел. Собрался было в Ладор, да дружинники мои возразили: для чего ехать, коли ждет нас там верная казнь. Давай, говорят, в лесное городище поедем да станем свободными, ни перед кем ответа держать не желающими мужами. Вот и стали разбойниками. Но если ты и впрямь Владигор и в Ладор путь держишь, то прими от дружинника своего верного Бадяги совет: ждут там не страшилище, которым стал ты, а их прежнего князя. — Помолчав немного и не слыша ответа Владигора, Бадяга с жаром продолжал: — С кем возвращаешься? С борейцами, с ненавистниками синегорцев?! Да ты большим изменником перед Синегорьем стал, чем я перед Владигором! Слушай, оставайся ты у нас, княже! Нашли мы здесь в лесу сокровища немалые, те, что еще от прежнего князя оставались. Город закладывать будем, дружину сильную из окрестных смердов соберем, я тебе свое княжение отдам, как прежде тебе служить буду, хоть и уродом ты стал. Только не возвращайся в Ладор — не сносить тебе там головы!
Владигор, рассмеявшись, похлопал Бадягу по плечу:
— Не с борейцами возвращаюсь в Ладор, а со своею супругой, Кудруной, за которой ездил в Пустень и которую ты, мерзавец, чуть деревом не придавил! А с разбойниками лесными мне якшаться негоже! Уйди с дороги, Бадяга! А то знаешь ты меня — всех вас на куски изрублю, да на такие мелкие, что и лисе нечего подобрать будет! Быстро чтоб деревья с дороги убраны были!
Бадяга, расслышав наконец в изменившемся голосе князя прежние властные интонации, закричал своим «ребятам», среди которых, приметил Владигор, и впрямь были женщины — те, что обхаживали его и дружинников в своем лесном дворце:
— А ну, братцы, расчистим князю дорогу!
Тут же закипела работа. Стволы деревьев, мертвые люди и лошади были с дороги убраны, товарищи убитых борейцев и сами разбойники рыли могилы, снимали с бездыханных тел доспехи, увязывали в узлы и крепили их к седлам. Скоро путь был свободен, и Владигор, даже не попрощавшись с Бадягой, приказал борейцам двигаться дальше.
— И кто же это не верил, что ты — настоящий повелитель Синегорья? — услышал Владигор приторный голос Краса. — Так биться мог лишь синегорский князь! О, Синегорье может быть спокойно — к ним возвращается истинный Владигор!
Владигор в ответ лишь сверкнул из прорезей маски глазами и отъехал в сторону от Краса.
Кудруна же, видевшая, как сражался Владигор, как командовал он потом разбойниками, впервые задумалась: «А может быть, витязю, князю и не нужно иметь красивое лицо? Этот урод, выдающий себя за Владигора, очень смел и горд, совсем как настоящий князь».
4. Изгнание
Долго ехали по осенним убранным полям, пересекали вброд реки с уже студеной водой. Наконец показались сторожевые башни и кровли княжеского дворца Ладора.
— Вот она, моя столица! — не удержался от восклицания Владигор. Крас промолвил со своей обычной издевкой:
— Твоя, конечно, твоя, Владигор. Вот будет славно, если нам удастся посетить ее. Нас пустят?
— Что за вздор ты несешь, старик! — возмутился Владигор. — Кто же посмеет не пустить в Ладор меня, князя Синегорья? Поскорей же подъедем к воротам!
Оправив княжескую мантию, сняв с головы шлем и держа его на согнутой левой руке, Владигор первым подъехал к воротам ладорской крепости. По обе стороны от него — Крас и Хормут, тоже принаряженные, за ними — возок Кудруны с впряженными в него двумя прекрасными белыми жеребцами. Двести пятьдесят воинов в блестящих доспехах попарно ехали за главными лицами процессии.
Из окон надвратной башни на них смотрели три стражника. Ворота были закрыты. Владигор снял с пояса рог и трижды протрубил сигнал, который в Ладоре все знали. Он ожидал, что стражники тотчас бросятся отворять ворота.
Однако стражники оставались неподвижными, они с холодным любопытством приглядывались к костюмам, доспехам и лицам всадников, но не двигались с места. Их бесстрастность наконец разозлила Владигора:
— Эй, олухи, пни дубовые, вы что там, заснули? Не видите, что ли, кто к вам вернулся?
Один из стражников, пожилой уже воин, зевнул и спокойно ответил:
— И кто же это к нам вернулся? Чтой-то не разберу. Гость какой-то заморский и, судя по всему, из Бореи, страны, Синегорью совсем-таки не дружелюбной.
Владигор, свирепея от ярости, закричал:
— Какой я тебе гость заморский?! Ты что, не слышал разве, что я тебе княжеский сигнал проиграл? Не видишь разве и знак мой: две стрелы перекрещенных и меч, что на щитах намалеваны?! Кудруну, супругу свою, за которой ездил в Борею, тебе, дуралею, показать, что ли?
Стражник отвечал Владигору все так же бесстрастно:
— То, что ты на роге сигнал Владигора играл, так это мне безразлично: любой из ладорцев, да и из приезжих, разучить его мог да сыграть. И на щиты воинов своих не указывай мне — знак этот тоже любой намалевать сможет. А Кудруну твою я отродясь не видел, так что признать не смогу, а если б и признал — что с того? Ну приехал к нам какой-то бореец с Кудруной. Ты лучше отвечай, по какому делу прибыл, к кому и надолго ли. К тому ж, господин, не называй ты, пожалуйста, себя Владигором — у князя нашего голос совсем другой.
Лучше взял бы да снял свою личину, показал бы, каков ты есть князь. У нас тут слух идет с недавнего времени, что пропал наш князь в Пустене, будь он пуст, город этот проклятый.
И стражник даже плюнул вниз, чуть ли не под ноги Владигорова коня.
Этого Владигор уж никак не мог снести. Сорвав с луки притороченный к ней самострел, вдел уж было ногу в его стремя, чтобы мигом тетиву натянуть да наказать нахала, но Крас удержал его, мягко сказав:
— Князь, что вести беседу с этим пусторечивым дуралеем? Попроси его позвать Любаву. Скажи, чтоб передали ей, будто есть у тебя неопровержимые доказательства, что принадлежишь ты к ее славному семейству, то есть являешься братцем ее милым.
Владигор, подумав, согласился. С Любавой, он знал, договориться можно было бы куда скорее, чем со стражником, вот только теперь князь сомневался, что сестру позовут, а если и позовут, придет ли она на башню. Однако все, что было нужно, Владигор стражнику сказал, и тот, поразмышляв немного и почесав в бороде, кому-то отдал приказание, а потом повернулся к Владигору и крикнул, чтобы тот не думал, будто княжна Любава так и прибежит на его борейский зов.
— Князь, — обратился к Владигору Хормут, подергав себя за длинный ус, — распоряжусь-ка я, чтоб спешились дружинники. Устали ведь дорогой…
— Пусть спешатся, — махнул Владигор рукой, — только коней не расседлывайте. Я знаю, сейчас придет Любава.
И в самом деле недолго пришлось всем ждать. В бойнице башни мелькнуло знакомое лицо, белый вышитый платок.
— Кто вы, борейцы? Зачем приехали? — певучим голосом, но строго и властно спросила княжна.
— Любавушка! — закричал счастливый уж оттого, что видит сестру, Владигор. — Брат твой в Ладор вернулся, с женой, с Кудруной! Там она, в возке сидит.
Кудруна, желая убедить Любаву в справедливости его слов, вышла из возка и низко ей поклонилась. Княжна синегорская, однако, даже не кивнула в ответ, ответила холодно:
— Кудруны, дочери Грунлафа, я прежде не видала, зато брата своего помню, так что, мил человек, сними личину, дай убедиться в том, что ты и впрямь князь Синегорья. Пока же по голосу твоему сужу, что самозванец ты…
— Сестра! — хрипло, с тоской в голосе воскликнул Владигор. — Не могу я снять сейчас личину, сердце твое поразить боюсь, изменилось сильно лицо мое, прости. Ты бы впустила меня во дворец, там и поговорили бы мы с тобой, там поведал бы я тебе обо всем, что со мной приключилось. Впусти, прошу тебя!
Но скорбная речь Владигора не вызвала в сердце Любавы сочувствия. Несколько дней назад вернулся из Пустеня один ладорский купец и пустил по Ладору слух, что-де Владигор то ли пропал, то ли убит и какой-то неизвестный выдает себя за Владигора. Поэтому и не поверила словам Владигора Любава и ответила ему так:
— Не понимаю все ж таки, почему не хочешь ты снять личину. Как же ты после-то с сестрой разговаривать будешь, коль сейчас боишься?
Владигор медлил с ответом, зато вместо него заговорил Крас:
— Великая княжна, целомудреннейшая дева Любава! Оттого не решается князь Владигор снять личину, что все лицо его покрыто ранами, еще не зажившими. А раны сии получил он в честном поединке на мечах, в Пустене. Не так ли, благородный князь синегорский?
— Да, это так, — неохотно кивнул Владигор, не любивший лгать, и добавил: — Любава, я могу показать тебе княжескую печать на перстне и меч, выкованный еще нашим отцом, Светозором.
— Все это еще не доказывает, что ты — Владигор, — по-прежнему твердо возразила Любава. — Перстень и меч можно было отнять у брата… убив его перед этим. А где, скажи, дружинник Бадяга с воинами, что отправлялись с князем Владигором в Пустень? Не вижу никого из них среди вас.
Владигор вздохнул:
— Бадяга оказался изменником, он покинул меня в трудный час и ныне разбойничает в Гнилом Лесу. Впусти меня, Любава! Хочешь, я войду во дворец один и перед закрытой дверью расскажу тебе, что находится в той или другой горнице, опишу все, что там хранится. Если ты уверишься в том, что я на самом деле твой брат, то пустишь и всех тех, кто приехал со мной. Только пусть во время нашего обхода дворца с нами будет Кудруна. Ей, я уверен, очень хотелось бы увидеть свое новое жилье.
Любава помолчала в раздумье, потом кивнула:
— Будь по-твоему. Приказываю открыть ворота! Проезжайте в город!
Тяжелые дубовые ворота, укрепленные железными полосами, заскрипели, и Владигор первым проехал в Ладор. Здесь его уже поджидала Любава на коне, со свитой. Не говоря ни слова, она подъехала к Владигору, окинула его внимательным взглядом и жестом указала, куда нужно ехать, будто и не брата встретила она, а какого-то иноземца. Кудруна, вышедшая по просьбе Владигора из возка, пересела на прекрасного тонконогого скакуна вороной масти, и кавалькада двинулась по улицам Ладора.
Весть о возвращении правителя Синегорья облетела город с быстротою ветра, и все ладорцы кинулись туда, где можно было увидеть их любимого князя. Остаться без Владигора, опоры, надежды, защиты всего княжества, не хотел никто. Неужели ложными оказались слухи и действительно вернулся в Ладор обожаемый ими Владигор?
Но почти все, кто видел проезжающего по улицам князя, провожали его разочарованным взглядом. Да, на коне сидел ладный, могучий по телосложению молодец и горделиво держал на левой руке дорогой шлем, да, висел у его левого бедра Светозоров меч, а к луке седла был приторочен самострел, но многое казалось ладорцам странным в его поведении, хоть и кричал он то и дело:
— Вот, вернулся я к вам, мои возлюбленные соплеменники! С Кудруной, дочерью благороднейшего Грунлафа, к вам вернулся, с супругой своей!
Однако же ладорцы, проводив глазами кавалькаду, так говорили меж собой:
— Соседи, а что ж это княже наш в личине едет? Али осы его дорогой покусали, все лицо распухло?
— Да и голос у него сиплый какой-то, будто простыл он в пути…
— И вот что непонятно, други мои, — уезжал наш князь с ладорской дружиной, Бадяга там был, Любенич, Милослав, другие витязи, а теперь-то не приметил я средь воинов этих храбрецов.
— Ох, не нравится мне все это! — понижал голос четвертый. — А вдруг борейцы, князя нашего пленив, другого нам хотят подсунуть, чтоб через него весь Ладор занять, а потом и все Синегорье. С них станется!
Встревоженные расходились жители славного Ладора по домам, и в каждом зрело желание допытаться правды и, если надо, покумекать, как избавиться от беды, которая, чувствовали они, вот-вот постучится в двери их полуземлянок, изб и красивых теремов.
Процессия между тем приблизилась к воротам княжеского дворца, и Любава строго сказала Владигору:
— По уговору — только ты с женой со мной пойдешь. Все прочие пусть поодаль ожидают зова моего!
Ворота приоткрылись, пропуская Любаву со стражей и Владигора с Кудруной.
— Ну, с чего начать тебе, сестра дорогая, рассказ о дворце моем? — прохрипел Владигор.
Любава с печалью в голосе ответила:
— Да с чего хочешь, с того и начинай. Мне все безразлично с тех пор, как потеряла я брата…
Владигор, будто и не было рядом Любавы и весь осмотр дворца затеял он лишь ради любимой своей жены, повел Кудруну по подворью, показал постройки хозяйственные, амбары, солодовни, мельницы, пекарни, поварни, мовницы,[10] прачечные, домики для челяди, погреба, ледники с тушами битой скотины, с птицей, бочками пива, помещения, где хранился мед — малиновый, вишневый, имбирный и всякие другие. Потом во дворец ее провел, вначале по гридницам, светелкам, где хлопотали девицы-мастерицы, пряхи, ткачихи, вышивальщицы. После к жилым покоям перешли: столовую свою показал, спальню, горницу, где с помощниками своими обсуждал планы государственного устройства Синегорья, строительства городов и крепостей. Затем перешли в палаты парадные, в которых принимал послов или устраивал пиры для дружинников своих, лучших ладорских жителей, гостей заморских.
За ними следом ходила и Любава. Слушала хриплый, незнакомый голос и удивлялась: «Да кто же это к нам явился? Что прячет он под личиной? Говорит-то как складно, все верно называет, не забывает и о малой мелочи сказать, но чувствую: не тот это Владигор вернулся, если он и впрямь Владигор. И уж не борейцами ли подослан? Что мне делать, что делать? Кто поможет?»
А Владигор уж вознамерился идти в княжескую свою сокровищницу, чтобы похвалиться перед Кудруной собранными там богатствами. Сказал сестре:
— Тебе я, уезжая, ключи от казны своей оставил. Дай мне их, сестра.
Но тут уж Любава возразила с решительностью такой, которая сомнений не вызывала в том, что рано еще вернувшемуся князю свободно в сокровищницу заходить:
— А вот с этим погодим, братец. О дворце ты все верно рассказал, так и быть, впущу я твоих… борейцев, а о казне, покуда личину свою не снимешь, и не помышляй.
Сказала и пошла отдать распоряжение, чтобы впустили борейских послов и всадников.
Те, разобиженные на плохой прием, уставшие с дороги, въезжали на подворье мрачные, переругиваясь между собой, и в душе бранили Грунлафа за то, что послал их к проклятым синегорцам, давним ненавистникам борейцев. И не заметил никто, что прошмыгнула на подворье какая-то черная тень и юркнула в приотворенную дверь одной из служебных построек. Не знали борейцы, что тень эта сопровождала их в пути от самого Пустеня, останавливалась с ними вместе на привалах, мчалась за кустами вдоль дорог следом за вереницей всадников, стараясь оставаться невидимой по крайней мере для одного из направляющихся в Ладор людей.
Но не одна Любава внимательно следила за Владигором, когда он ходил по своим владениям, показывая их своей супруге. Все еще сомневающаяся в том, что ее мужем стал действительно князь Синегорья, Кудруна делала вид, что осматривает дворец, но одновременно приглядывалась к этому странному уроду в личине, прислушивалась к его голосу и манере говорить и в конце прогулки была абсолютно уверена, что с ней рядом был истинный властелин Синегорья. Это ее обрадовало, но в то же время и огорчило: в глубине души она надеялась, что отыщется когда-нибудь тот красавец, которого поцеловала она на пиру во дворце ее отца. А покуда оставалось примириться с участью быть женою урода. Лишь нечаянная смерть супруга в бою или от болезни могла принести ей освобождение. Только в этом случае Кудруна имела право снова выйти замуж. Но не ждать же годы, когда умрет нелюбимый муж.
«А может быть, извести его зельем каким? — порой приходила ей на ум страшная мысль, которую не так-то просто было отогнать. — К колдуну пойти, что ли, какому или к знахарю? Такое снадобье раздобыть, которое подействует не сразу, и все будут думать, что заболел урод!»
Но потом желание убить урода, как ни странно, пропало, и Кудруна сама этому дивилась.
Был у нее и еще один выход из положения. Догадывалась она в глубине души, что можно и не ждать смерти мужа, а просто… просто полюбить его. Хоть и помнилось то первое, жуткое впечатление, которое произвел на нее Владигор, сняв маску, но с тех пор накопилось в душе немало новых чувств.
Не могла не видеть Кудруна, что муж ее умен, горяч, властен и в то же время добродушен, не кичлив и мягок даже с челядью, не говоря уже о воинах простых. Видела она, что всегда он спокоен, но за спокойствием этим — огромная сила воли, скрытая до времени, но готовая расправить крылья, когда придет нужда. Силу эту ощущала Кудруна в каждом его шаге, резком и широком, в каждом движении рук его и плеч, в гордом повороте головы и невольно тянулась к нему, когда невзначай забывала о страшном его лице.
— Ну вот, благороднейший князь, как все устроилось прекрасно! — за ужином говорил Владигору Крас, обсасывая косточки куропатки. Любава не могла посметь отказать приехавшим в большом приеме. — И это потому, что наградили тебя боги большим государственным умом. Дальше все пойдет словно по маслу — живи и правь, я же, если не прогонишь, стану советником твоим, а благородный Хормут будет дружиною твоею повелевать. В ратном деле он толков!
Владигор ответил тихо, но твердо:
— Поживете еще два или три дня — и отправитесь восвояси, ты и Хормут. Да воинов своих в дорогу захватите. Не хочу, чтобы по Ладору ходили слухи, будто я из борейцев дружину себе набрать решил.
Крас осуждающе головой покачал, облизнул покрытые жиром губы:
— Ай-ай, благороднейший, нехорошо, нехорошо! Зачем же тебе борейцев сторониться да ими брезговать? Ты же родичем борейца стал, супругой княжну борейскую сделал. Дружить нам надо, любить друга друга, а ты друзей гонишь. Ай, нехорошо, нехорошо!
Отужинали и спать отправились рано, потому что все с дороги очень устали. И приметила Любава, весь вечер не спускавшая с Владигора внимательных глаз, что не в спальню молодой жены прошел он и Кудруна тоже не спешила проследовать туда, где собрался ночевать супруг. Это обстоятельство смутило Любаву даже сильнее, чем маска на лице приехавшего брата.
«Как же так? — думала она, бродя по коридорам дворца, освещенным факелами. — Не может быть, чтобы супруги так скоро друг к другу охладели. Видно, и не муж с женой они или только притворяются ими, а на самом деле…»
Размышления Любавы были прерваны легким прикосновением чьей-то руки к ее плечу. Резко обернулась она — старик посланник, что прибыл с Владигором, переминался перед нею с ноги на ногу, как будто не решаясь заговорить.
— Чего тебе? — была готова прогневаться Любава за неучтивое поведение посланника.
— Осмелюсь, благороднейшая княжна, слово молвить, только вот не решаюсь все…
— Ну говори! — потребовала, отчего-то начиная волноваться, Любава. — О Владигоре что-нибудь?..
— О нем, о нем. Только не изволь гневаться на меня, княжна. Я о внешности его хочу сказать. Понимаешь, лицо Владигора столь изуродовано ранами, что трудно сказать, на кого он сейчас похож. Сердце у него болит из-за того, что ты в нем родного брата не признаешь, вот и надел личину он. Ах, страшные раны те, ужасные!
Сердце Любавы забилось так сильно, что показалось ей — сейчас лишится она чувств, падет на плиты пола. Силы все собрала в кулак, сказала:
— Хочу… на лицо его… взглянуть!
— Когда заснет, взглянешь… — с готовностью ответил Крас, попятился и скрылся в темноте.
Долго еще ходила Любава по переходам дворца. Страшно было идти к Владигору — боялась причинить боль и ему, и себе. «Может, — думала, — и не надо колупать болячки, а то больно будет, ой как больно! Ну живет себе в личине, да и пусть живет. Что мне в том? Я ему не мать, не отец, приказать не смею. Доказал уж он, что не самозванец. Не надо смотреть, не надо!»
Но доводы рассудка разбивались вдребезги, едва наваливалась на них глыба, название которой женское любопытство. Любаве интересно было знать, что же случилось с лицом брата, что за раны такие необыкновенные получил он в бою, зачем скрывает их далее от своей сестры. Наконец она решилась.
В горнице своей взяла свечу, зажгла от факела, прикрыла сверху чашей. Так и пошла по переходам дворца к двери, что в спальню вела Владигора. Толкнула тихонько дверь — не заперта, по полу, устланному мягкими шкурами, тихо двинулась туда, где стояла кровать, боясь, что найдет брата с маской на лице.
Ровное, сильное, но спокойное дыхание свидетельствовало о том, что Владигор спит. Сердце Любавы колотилось так, что казалось — оно своим стуком разбудит спящего. Любава подошла совсем близко, можно было уже и чашу со свечи снять…
Сняла. Взглянула и не закричала, не забилась в рыданиях. Только так затряслись у нее руки, что чашу глиняную выронила… Упала на пол чаша и со звоном разбилась вдребезги.
— Кто здесь?! — проснулся Владигор, руку сразу протянул к изголовью, где Светозоров меч висел, сестру увидел, белое ее лицо в свете дрожащего пламени свечи. Рука уже не к мечу поспешила, а к маске, лежащей на скамье, рядом с постелью, хотел поскорее лицо прикрыть, но понял — поздно.
— Кто ты? — едва шевельнулись губы помертвевшей от ужаса Любавы.
Владигор, с трудом пересилив желание броситься на грудь Любавы, чтобы выплакать свое горе, надел личину и сказал холодно, отчужденно:
— Вот, потрудился чародей какой-то над братом твоим. — А потом уже гораздо мягче: — Не послушал тебя, Любавушка, туда поехал, где, как теперь понимаю, только и ждали моего приезда, чтоб испоганить меня. Ну… и испоганили.
Любава, не глядя на Владигора, задумчиво проговорила:
— Потеряла я брата, а народ синегорский — князя…
— Да что ты говоришь такое! Как — потеряли? — вскричал Владигор, приподнимаясь на постели.
— Мне брата с таким лицом не нужно, — твердо ответила Любава. — Прежде в лице твоем видела я умерших матушку и батюшку, теперь же ты кикиморам одним да прочей нечисти подобен. Не примет тебя народ ладорский!
Сказала так и, свечку рукою затушив, быстро к выходу пошла.
На следующий день к княжескому дворцу со всех сторон Ладора и даже из слобод стали стекаться люди. Купцы, ремесленники, водоносы, хлебопеки, бортники, голытьба ладорская, — шли они по улице угрюмой, молчаливой толпой, и тем, кто высовывался из окон, объясняли в двух словах цель своего похода, после чего любопытствующие немедленно к ним присоединялись.
Вот пришли. Застучали в ворота двое выбранных, богатый купчик и ремесленник-оружейник.
— Чего вам? — вопрошали стражники из-за ворот.
— Отворяйте, к Любаве-правительнице пройти хотим! Разговор к ней есть! — голосом густым и важным говорил купец.
— Открывайте! — вторил тонким дискантом ремесленник. — Не то силой ворота отворим — нас тут тьма-тьмущая! А по какому делу к ней пришли, токмо ей одной и скажем. Но пусть всех на двор впустит, всех! Дело ладорское решать будем!
Стражники отвечали так:
— Какая такая тебе правительница Любава?! Не знаешь разве, что князь Владигор вернулся в город?
— Знаем, знаем! — басил купец. — Токмо нам твоего борейского выродка не надобно — подавай Любаву! Пусть впускает!
Через некоторое время заскрежетали засовы, ворота отворились, толпа ввалилась во двор, причем не обошлось без поломанных в давке ребер.
— Любаву нам! Любаву! — неслось из толпы, вставшей напротив парадного княжеского крыльца.
— Правительницу нам давай!
— Слово ей молвить хотим!
— А выродка борейского нам не надобно!
Любава вышла на крыльцо, величавая и важная, окинула собравшихся строгим взором. Опираясь руками на перила, помолчала, потом спросила грозно:
— Это кто же здесь длинный да ядовитый такой язык имеет, который смеет брата моего родного борейским выродком называть? Ты, Брон-купец? Или ты, Засядко-оружейник? Признавайтесь!
Брон низко поклонился Любаве, но ответил прямо и смело:
— Я про выродка слово молвил, но виноватить себя не собираюсь, Любава, потому что не брата твоего, Владигора, позорным именем назвал, а борейского ставленника, коего за брата твоего выдают. Где же это видано, чтобы князь, из дальних земель воротясь, в личине перед своим народом являлся, внешность свою скрывал? Да знаем доподлинно мы, что никаких ран на лице его нет, но представляет оно собой богомерзкую, чудовищную харю. Где ж тут лицо Владигора, красавца писаного, на которого мы молиться готовы были, как на изваяние Перуна?
Любава не смогла не зардеться — откуда это народу известно стало? Ненадолго потупила взор, но вскоре совладала с замешательством, еще более гордо и строго посмотрела на собравшихся перед ней людей:
— Что мелешь, Брон! Кто дал тебе право поносить вселюдно князя? Неужто думаешь, что я смогла бы во дворец борейского урода допустить, вместо брата потчевать его, целовать и принимать как родного? Или, полагаешь, боги разум у меня отняли?
— Не ведаю, что они там с тобой сотворили! — гудел Брон, имея, как видно, сведения верные об уродстве Владигора. — Но не князь наш милый с борейцами приехал — урод борейский!
Долго бы еще спорили Любава и Брон, но вдруг двери, ведущие из дворца на крыльцо, распахнулись, и высокий, широкоплечий человек в маске появился за спиной Любавы.
— Зачем пришел? — негромко, но с недовольством спросила Любава. — Без тебя с ладорцами договорилась бы!
— Сам хочу им слово молвить, — мягко, сколь мог, проговорил Владигор и обратился к народу: — Дети мои, ладорцы! Недаром почуяли вы сердцем, что к вам беда грядет, а со мной уже случилась. И впрямь — не ранами, в бою полученными, покрыто лицо мое. Испоганил его какой-то злой колдун. Но знайте, что с прежней душой Владигор ваш перед вами стоит, князь ваш к вам возвратился с неугасшей любовью к подданным своим! Зачем поносите меня мерзкими словами? Привез я вам из Бореи вечный мир с Грунлафом, который когда-то грозой Синегорья был, и залогом мира этого стал приезд Кудруны, дочери Грунлафа и любимой моей супруги! Никуда теперь не уеду от вас, а внешность прежнюю себе верну непременно, снимут ведуны и знахари порчу с моего лица! Верьте мне, ладорцы!
Горячая эта речь у многих жителей Ладора вызвала сочувствие, они согласно кивали и на князя смотрели с прежним удовольствием и даже весельем на лицах. Но раздались и голоса недоверчивые:
— А ну-ка сними сперва личину, посмотрим, как испортили тебя!
— Может, ты и не испорченный вовсе, а токмо придуриваешься!
— На самом же деле ставленник борейский!
Владигор вдруг закричал на говоривших это с остервенением и яростью:
— Что, князю своему не верите?! Зачем видеть мое лицо хотите?! Чего добиваетесь?! Несчастными быть хотите?!
Но на него уже махали руками те, кто упрямо добивался, чтобы лицо его непременно было показано народу:
— Не станем несчастными! Снимай личину!
— А то стащим тебя с крыльца да и сами сорвем, твоего разрешения не спросим!
— Ну так глядите! Глядите! — пронесся над толпой страшный крик оскорбленного недоверием Владигора, и, дернув за тесемки, князь сорвал личину.
Тотчас общий вздох удивления, перемешанного со страхом, был исторгнут из нескольких сот разинутых ртов. Те, кто стоял к крыльцу ближе других, в ужасе отпрянули, продолжая как зачарованные смотреть на уродливое лицо Владигора, который в ярости выглядел еще более ужасным, чем был.
Раздался в одном, другом месте ребячий плач, и ему вторили заголосившие женщины, и в причитаниях их было больше страха за судьбу Ладора и Синегорья, чем боязни перед уродом.
— Батюшки, не Владигор это, а оборотень, оборотень! — закричал кто-то визгливо, и многие его тут же поддержали:
— Оборотень!
— Оборотень явился!
— Вурдалак это, а не Владигор!
— Гнать его нужно из Ладора! Гнать!
Возмущение и ненависть к уроду пересилили страх перед ним. Народ угрожающе двинулся к крыльцу, к Владигору потянулись руки, кое-кто, изловчившись, даже схватил его за одежду, мелькнули и дубины, поднявшиеся над головами.
— Не гнать, убить его надо, вурдалака этого!
— Кол осиновый в грудь ему вогнать, собакам тело поганое бросить!
Любава, в чьем сердце любовь к брату пересилила отвращение к его ужасному лицу, кричала людям:
— Это не бореец, не вурдалак! Не гоните его! Брат это, брат мой, ваш Владигор!
Кричала и закрывала его своим телом, разведя в разные стороны руки. Владигор, которому невыносимо было слушать оскорбления в свой адрес и видеть попытки достать до него дубиной, издав звериный рык, спрыгнул с крыльца во двор и ударами кулаков уложил сразу трех или четырех захлебывавшихся злобой ладорцев. Другие, кто с дубьем, а кто и с мечом, смело бросились на него, но Владигор не стал ждать, покуда чей-нибудь клинок рассечет ему голову, сам выхватил из ножен меч и, стараясь поранить лишь руки или ноги нападавших, отбил все попытки расправиться с ним.
Вкладывая меч в ножны, Владигор, с трудом переводя дыхание, сказал:
— Ладорцы, вы жестоко оскорбили меня! Я хотел быть вашим защитником, отцом вашим, теперь же, какие бы беды ни постигли вас, я не приду к вам! Вы отвергли меня, а я отвергаю вас! Сегодня же меня не будет в Ладоре!
И, быстро взойдя на крыльцо, он скрылся в черном дверном проеме.
Ладорцы долго стояли и молчали. Многие ощущали себя неправыми, а поэтому и переминались с ноги на ногу, вздыхали. Молчала и Любава, не зная, что сказать. Первым молчание нарушил Брон-купец. Снова поклонившись Любаве, он заговорил, и голос его звучал несколько смущенно:
— Любава, мы тут с лучшими людьми посовещались и бьем тебе челом — будь ты вместо Владигора правительницей нашей, защитницей и матерью, а то нам без власти княжеской как-то неловко, неуютно.
Любава, стараясь не смотреть на Брона, молчала долго. Негоже, думала она, соглашаться быть правительницей такого большого княжества, как Синегорье, когда жив настоящий князь, отказавшийся от власти лишь из-за обиды. Ведь и ладорцев можно понять — кому охота считать такого урода своим князем?
«Ладно, — решила она про себя, — может быть, передумает Владигор, вернется или и впрямь обретет прежнее свое лицо при помощи чар колдуна какого-нибудь. Сейчас же нужно соглашаться, ибо княжество без власти долго не живет…»
— Хорошо! — крикнула Любава. — Буду правительницей вашей, коль вы хотите, только…
Договорить она не успела. Крас со всегдашней своей насмешливой улыбкой появился из-за ее спины и, обращаясь то ли к княжне, то ли к народу, заговорил, удивленно всплескивая руками:
— Как же так, княжна Любава? Как же так, благородные ладорцы? Неужто вы забыли законы своей страны? Не боитесь стать посмешищем в глазах всех княжеств Мира Поднебесного?
Раздался сдержанный ропот — ладорцы не понимали, почему могут они стать посмешищем.
— Не понимаем речей твоих, чужестранец! — сурово вопросил Брон. — Что ж такое мы учинили, осмеяния достойное? Какие законы Синегорья забыли? Дай-ка ответ нам поскорей!
Крас снова всплеснул руками:
— Тем, несмышленые, нарушили вы древние законы, что не по праву власть передать вознамерились сестре Владигора, которого изгнали, но который за родного брата самой княжной Любавой был принят. Разве, спрошу, не говорила здесь Любава, что брата ее родного, Владигора, видите вы перед собой? Отвечай, Любава, не лукавя!
Любава тяжело вздохнула и сказала, уже понимая, куда бореец клонит:
— Да, говорила я такое, признаю…
— А раз признала ты в отъехавшем или только собирающемся отъехать из Ладора Владигоре брата родного, значит, согласишься и с тем, что княгиня Кудруна, дочь Грунлафа, за мужа будет властвовать, повелевать всем Синегорьем, ибо первенство супруги перед сестрой князя в вопросе этом на старинных законах зиждется и могла бы ты, сестра, владычествовать, если б у князя не было супруги. Или не так я говорю?
Любава понимала, что советник Грунлафа говорит истинную правду, но вдруг вспомнила, что вчера вечером, когда бродила она по переходам и коридорам княжеского дворца, он-то и намекнул ей, что на лицо Владигора можно ночью посмотреть. И значит, не случайно был послан с братом из Пустеня этот сладкоголосый человек, не случайно и Кудруну отправили с уродом Владигором, хоть и знали наверняка, что потерял уж он былую красоту свою.
«Да, говорила я Владигору: не езди в Пустень, — нет, не послушал он меня, вот и получили мы все подарок…» — глотая слезы, подумала Любава и, не отвечая Красу, во дворец пошла.
Граждане Ладора, никак не ожидая такого поворота дела, потоптались еще немного, поугрюмились, но, не решаясь покамест вынести ясный приговор всему случившемуся, когда и сама княжна Любава уклонилась от спора с чужестранцем, стали расходиться.
Дома они, сидя за полбой с вареной курятиной, за деревянной кружкой браги, вспоминали происшедшее возле княжеского крыльца, и далеко не всем казалось, что с уродом намеревались они поступить правильно, предлагая его прогнать, убить, вогнав в грудь ему кол осиновый.
— Худое дело сотворили сегодня, — признавались они женам своим. — Князя Владигора изобидели.
Жены хотели слышать в подробностях, что случилось, а потом укоризненно качали головами:
— Вот бы вас самих, козлов в портах, взять бы да и проткнуть колами, чтоб языки ваши поганые из пасти повылазили! Эк чего надумали, князя вурдалаком ругать! Князь на то и князь, чтобы ему харю иметь какую захочет. У вас-то, леших, рожи благолепны, что ли? Лесовики вы немытые, мохнорылые!
В тот же день, не успело еще солнце зайти за лес, раскрылись ворота княжеского дворца и на улицу выехал всадник. В кожаном чехле, справа от седла, приторочено что-то было похожее на птицу. Со стороны другой — сума с провизией, легкий шатер из плотного холста, скатанный в тугую трубку. Меч драгоценный в ножнах сафьяновых стучал при конском шаге о правое бедро наездника. Шлем блестящий, с бармицей, плескавшей по плечам витязя, надежно закрывал чело, а панцирь чешуйчатый — грудь и спину.
Те из ладорцев, которых дорогой до городских ворог встречал наездник, пристально глядели на него, но все по-разному провожали. Иные смеялись даже, показывали пальцем, кричали ему вослед, что-де не борейскому уроду править Синегорьем. Другие, в безмолвии провожая фигуру всадника, с сочувствием качали головами, а третьи кланялись ему учтиво, утирали слезы, но ни на кого не обращал внимания витязь, маской лицо закрывший. К запертым воротам подъехал. Стражник строго у него спросил:
— Кто таков? Куда путь держишь?
Глухо ответил всадник:
— Князь ваш, Владигор, уезжает из Ладора, навсегда уезжает…
Стража не посмела и слова поперек молвить — столько скорби было в хриплом голосе князя. В поле за ворота выехал, и долго еще смотрели воины, как ехал он не спеша куда-то в сторону заката, покуда совсем не скрылся в темноте. После ворота заперли надежно, в мыслях к Стрибогу, к Перуну обратились, чтобы даровали боги отчие удачу изгнанному князю, обиженному своим народом. Потом в избушке, что служила для них ночлегом близ городских ворот, за бадейкой с пивом, потолковали тихо о том о сем да и прикорнули, не разоблачаясь, на копья опираясь, на лавках, прислонивши покрытые железом головы свои к бревнам стен.
А в это время в княжеском дворце плакали навзрыд две женщины. Одна, которой уже лет сорок было, в горнице своей богатой слез не могла унять, жалуясь на судьбу, отнявшую у нее и у Синегорья брата, князя Владигора. Несчастней последней нищенки она себе казалась.
Но не ведала Любава, что двадцатилетняя Кудруна, волею сил темных превращенная в правительницу славного Синегорья, тоже не спала и ее обшитая мягким куньим мехом подушка тоже не просыхала.
«Зачем не приласкала я его ни разу? — корила себя Кудруна. — Почему не удержала, когда сказал он мне, что уезжает и никогда уж боле не увидит меня? Неужто я не понимала, что он и есть настоящий Владигор? Не все ли равно, какое у тебя лицо, когда ты в каждом жесте, слове, движении, поступке — витязь, князь?! Ах, Владигор, я тебя бы и уродом полюбила, только бы вернулся ты ко мне! Вот сразу и я осиротела, и вся страна моя!»
Но не все в княжеском дворце в тот вечер и в ту ночь были охвачены отчаянием. В одном из пиршественных покоев веселились борейцы. Все две с половиной сотни воинов посадил за длинные столы победитель Крас. С ним же рядом и довольный Хормут восседал. Напившись хмельного меду, он пересказывал кудеснику то, как безуспешно пытался уговорить Владигора пойти на союз с Грунлафом.
— Я предлагаю Владигору брак с Кудруной — он ни в какую! Союз с Грунлафом — не соглашается! Что делать? Если бы не ты, мудрейший Крас, не знаю даже, как смог бы князь Грунлаф обуздать такого норовистого скакуна, как Владигор! А теперь, смотри, — князь изгнан, Любава — не у дел, и княжна Кудруна — я по-прежнему ее считаю только княжной — распоряжается всем Синегорьем! Ах, как здорово ты все придумал, умнейший Крас!
Чародей, ничего не пивший, лишь усмехался, слушая льстивые речи Хормута, и с презрением глядел, как хмелеют воины-борейцы, ненасытно вливающие в свои глотки крепкий мед и пиво.
— Хормут, я слышал, что ты мастер махать в бою мечом, но в государственные дела тебе лучше не соваться, — наконец сказал он снисходительно. — Подожди немного, может быть, придется и тебе постоять за честь Бореи с оружием в руках — тогда-то ты и покажешь свою прыть. Сейчас же — мой час настал. Не думаю, однако, что с двумя с половиной сотнями воинов ты сумеешь противостоять ладорцам, если им придет в голову посадить на синегорском престоле Любаву. Не видел разве, как горели их глаза, когда я объявил, что Ладором и всем княжеством станет править супруга Владигора?
Хормут, осоловело глядя на колдуна, сказал:
— Хочешь, я завтра же поеду в Пустень, чтобы привести оттуда тысячу, а то и две дружинников? К тому же и Грунлаф ждет, когда мы сообщим ему, как был занят главный город Владигора.
— Нет, пока рано отправляться в Пустень, — возразил Крас. — И еще уверен я, что моих сил довольно, чтобы добыть дружинников для охраны нашего дворца и здесь, в Ладоре!
Хормут, утирая рукой залитые медом усы, громко рассмеялся:
— Что ж, станешь платить ладорцам?
— Нет, не стану. Пойдем сейчас со мною, я покажу тебе, как можно добыть дружину в столице твоего врага.
Хормут, недоумевая, тяжело поднялся. Воины, продолжая поглощать ковши и братины хмельного меда, пива, браги, даже и внимания не обратили на то, что их начальники ушли из-за стола. Когда Крас и Хормут вышли из покоя, колдун с презрением сказал:
— Доверить судьбу Ладора, нашу судьбу, судьбу Бореи этим пьяницам? Нет, никогда! Какой-нибудь проворный повар или ключник может в одночасье лишить нас этого глупого стада, подсыпав в мед или еду настой болиголова!
Хормут, сразу протрезвевший, спросил робко:
— Куда ты меня ведешь?
— А вот как раз на дворцовую поварню, благородный, но неудачливый посланник!
Судя по тому, что все сильнее ощущались запахи приготовляемой пищи, они действительно приблизились к кухне дворца, но туда, где сновали повара и разносчики блюд, Крас Хормута не повел, — они зашли в закуток, и колдун сказал, показывая на дощатую стену:
— Вот за этой стеной Владигор выстрелил из самострела в свою собственную душу, и стрела до сих пор сидит в ней.
— Для чего же ты это делал, ученейший? — удивился глуповатый Хормут.
— Как — для чего! — воскликнул чародей. — Я наполнил душу Владигора страстью к женщине и тем самым погубил его. Хочешь, благородный витязь, испытать силу этих сладостных чар?
— Обереги меня от этого Сварог! — не на шутку испугался Хормут. — Говори лучше, зачем ты меня сюда позвал?
— Сейчас узнаешь, сейчас! — Дрожа от нетерпения пустить в ход свои чары, Крас подошел к стене и легким движением руки раздвинул доски. Они вошли в темное помещение, где уже не слышались звуки кухонной возни.
— Я боюсь тебя, Крас! Зачем привел ты меня сюда? — в страхе схватился Хормут за рукоять меча. Крас, не отвечая ему, достал из-под полы плаща мешочек, раздернул завязки, достал из него горсть чего-то ярко светящегося, взмахнул рукой, подбрасывая вверх этих то ли светляков, то ли мелкие камешки, и они прилипли к потолку, осветив зеленовато-желтым светом просторный зал. Вдоль стены его стояли десять глиняных истуканов, которых Хормут вначале принял за живых людей и поэтому даже вытащил наполовину из ножен меч.
— Где мы? Кто это?! — вскричал он, абсолютно протрезвев и готовясь отражать нападение.
— Когда-то на этих болванах Владигор учился стрелять из самострела, а сколь прекрасно он это научился делать, ты мог судить на ристалище в Пустене. Сейчас поймешь, зачем я тебя сюда позвал. Смотри и слушай! — Крас трижды громко хлопнул в ладоши и проговорил: — Эй, ты, кого я сделал постоянно сытым и способным повелевать другими, — выходи!
Тотчас раздался шорох, и к Красу подбежала крыса. Хормут не видел прежде таких огромных крыс, она была величиной с кошку. Крыса в подобострастной позе, встав на задние лапки, застыла перед Красом.
— Солодуха! Солодуха! — воскликнул Крас. — Приказываю тебе привести пятьсот самых сильных и проворных крыс! Сейчас же!
Тотчас крыса опустилась на все четыре лапы и исчезла в темном углу зала, а колдун сказал Хормуту:
— Приятно повелевать людьми, но нужно давать эту возможность и другим. Мне нужны крысы, потому что в них столько беспощадной злобы ко всем, кто им противен, что лучше воинов, чем эти четвероногие, не сыщешь.
И вот уже во всех углах зала послышалось громкое шуршание, раздался скрежет зубов, прогрызающих доски, и скоро бурыми, серыми, черными потоками к ногам чародея устремились стаи крыс. Они замирали перед Красом в раболепных позах, сотни и сотни крыс, а над ними, такой же неподвижный, возвышался Солодуха.
— Воины мои, слуги! — громко заговорил кудесник, простирая над крысами руки. — Вы удостоились чести стать людьми, оставаясь по-прежнему кровожадными и безжалостными. Восстаньте и служите мне!
Хормут увидел, что животные вдруг скорчились, как будто от страшной боли, иные падали на спины, катались по полу, но в то же время росли, их лапы вытягивались, головы становились крупнее и делались округлыми, лишаясь вытянутых вперед морд. Но самым неприятным во всем этом превращении было то, что на крысах начинала лопаться шкура, обнажалось розовое мясо и куски шкуры рваными лоскутами опадали на пол.
На глазах у Хормута зал заполнялся голыми людьми, которые извивались в каком-то жутком танце и вдруг замерли, будто ожидая приказа повелителя.
— Солодуха! — прокричал Крас. — Во дворце найдется немало одежды и доспехов, чтобы приодеть и вооружить моих верных воинов. Но этого мало — завтра ты приведешь ко мне еще пятьсот крыс. Тысячи нам хватит вполне, чтобы уберечь дворец, а значит, и весь Ладор от попыток наших недругов вернуть Владигору его собственность, если он попытается это сделать. Но и это еще не все — я хочу вооружить моих слуг новым оружием Владигора, самострелами, способными крушить любую броню и убивать врагов с большого расстояния. Рядом с этим залом находится мастерская, где князь Синегорья создавал свое оружие. Солодуха и Хормут, займитесь изучением всех самострелов, которые там имеются, и лучший вид сразу же отдайте мастерам, кузнецам и изготовителям луков. У каждого из моих воинов будет самострел, и пусть здесь, в этом зале, на этих глиняных истуканах учатся они стрелять! О, тщеславие Владигора сыграло с ним дурную шутку. Нельзя быть слишком умным, умней других! Менее умные, менее красивые никогда не прощают превосходства над собой! Вам сказочно повезло! Еще совсем недавно вы были мерзкими тварями, теперь же стали моими воинами и, значит, скоро будете властвовать над всем Поднебесным миром!
И голые люди, стоявшие плотной толпой, плечом к плечу, с горящими от радости глазами, ответили колдуну дружным протяжным приветствием, воздев вверх правую руку. Повара, что стряпали совсем неподалеку, услышав донесшийся до них гул, подумали было, что это раскаты грома, но, выглянув в окно, не только не увидели дождя, но не заметили на небе даже облачка.
5. Ладья смерти, Путислава и Веденей
Долог был путь от Бореи до гор Рифейских, но чем дольше ехал туда Велигор, пересекая широкие реки, минуя деревушки и городища, тем крепче становилась в нем уверенность, что добиться встречи с чародеем Веденеем он обязан во что бы то ни стало.
Все, что совершал он прежде в жизни своей, казалось ему теперь вредным для людей: грабил, беспощадно убивал тех, кто не желал своею волей расставаться с добром, не почитал богов, потому что, кроме силы человеческой, никакой иной силы в окружающем его мире признавать не хотел. Если над ним светило солнце, то он и задумываться не хотел, зачем оно светит и кто его зажег. Лес с могучими деревьями, оживающими весной, звери, птицы казались ему созданными лишь для его надобностей: из деревьев можно дом построить, можно, убивая зверей и птиц, быть сытым. Дети, на взгляд Велигора, рождались тоже лишь для его блага — становились либо сподвижниками в разбойничьих делах, либо теми, кого он грабил, а женщины всегда служили для его любовных утех, и в них Велигор не видел прежде ничего, что могло бы уравнять их в правах с мужчинами, хотя в лесном городище жили женщины сильные, смелые, умело сражавшиеся рядом со своими мужьями.
Своих родителей Велигор не знал. Лесная ведунья подобрала его младенцем на дороге, запеленутого, лежащего в берестяном коробе. Только перед своею смертью открыла она ему, что зовут его Велий, имя это было начертано на золотой подвеске, надетой на шейку младенца. Рассмотрел подросток Велий ту подвеску, признал в ней вещь дорогую, и сердце его гордостью и честолюбием преисполнилось.
«Княжеской я породы! — воскликнул он. — Только брошен посреди леса или утерян кем-то! Буду князем! Хочу, чтобы люди слушались меня, подчинялись мне!»
Но ничего лучше не придумал Велий кроме того, как выйти на проезжую дорогу да и ограбить проезжего купца. Стражников его убил, обзавелся не только товаром знатным, но и оружием хорошим. Трех бродяг уговорил разбойничать с ним вместе — дело пошло на лад, товаров и казны прибавлялось, а жили они в лесных полуземлянках.
Шайка Велия, который из гордыни придумал себе имя Велигор, чтобы громче оно звучало, росла от года к году. Мало показалось Велигору так называть себя, — товарищам своим открыл однажды, что княжеского он происхождения, подвеску золотую показал, и на круге разбойничьем все общим голосом решили, что стоит именоваться их главарю князем Гнилого Леса, ибо промышляли они в Гнилом Лесу. И все бы ладно было для Велигора и его ватаги, если б не чары Краса, из-за которых лишились жизни сподвижники князя Гнилого Леса, а сам он превратился в человека с лебединым крылом.
Как-то раз, по дороге к Рифейским горам, заглянул Велигор в одну худую, грязную корчму, чтобы прикупить там хлеба да вяленого мяса. Корчма стояла в слободе города Поскреба, сидели в ней за долбленными из липы чарами подмастерья, мелкие торговцы, водоносы, золотари, люди всяких надобностей строительных. Пьяные и озорные уже сидели, а поэтому, когда близ них уселся человек с гордым, красивым лицом, но без меча, в простом плаще, имевший усталый вид, воззрились на него дерзко, как обычно встречают в простонародье чужаков.
Хозяйка поставила перед ним целую жареную курицу да ковшик меда дорогого, и тогда уже и недовольство выразилось на лицах работящего поскребского люда.
— Гляди-ка, какой ерш приплыл! — отважился воскликнуть один из мастеровых. — Курятину уплетает, а мы тут хлебушком пиво заедаем…
— И кулаком загрызаем! — подхватил другой.
— Ерш ершом, а держит себя точно лещ, а то и голавль! Откель же такой явился?
Велигор, не обращая внимания на возгласы соседей по столу, с жадностью продолжал есть, держа курицу одной рукой, а голытьба глумилась:
— Нет, ты погляди, каков! Жрет, как свин, которого хозяйка к празднику Стрибога зарезать захотела, а нам не предлагает!
И вдруг кто-то из подгулявших слобожан заметил:
— Братва, а поглядите-ка, управляется-то он все одной рукой, другая у него хламидкой прикрыта.
Чего ж он там такое прячет? Может, оттяпали ему руку?
Но это предположение успеха не имело. Слобожане один за другим предлагали свои объяснения: мол, чужак держит под плащом меч и всех их намерен мечом этим крушить; или, может, прячет он там какое-то ценное добро, показать которое прилюдно боится; другие даже решили, что у свиты приезжего рукав оторвался, а показать голую руку на людях ему совестно — засмеют.
Наконец один из слобожан, самый шустрый, поднялся с места, на цыпочках, крадучись, подошел к Велигору и вздернул над правым его бедром свесившуюся до пола мантию.
И тотчас возгласы ужаса раздались в полутемной горнице корчмы. Все увидели большое лебединое крыло на месте правой руки незнакомца, повернувшего к людям голову и спокойно смотревшего на них.
— Ну что, собачьи кишки, бабьи последы, удовлетворили свое любопытство? — сурово спросил Велигор, продолжая дожевывать курицу.
Все молчали, привстав с лавок и выпучив от страха глаза, покуда один из мастеровых не закричал, схватив со стола длинный хлебный нож:
— Земляки, дак это ж оборотень! Бросайтесь на него, режьте, не то всех он нас заворожит, всех испортит!
Призыв его вселил в слобожан уверенность, что расправиться с крылатым чужаком нужно во что бы то ни стало, и вот кто нож из-за пояса достал, кто подхватил кочергу, стоявшую рядом с очагом, кто ковшик — и все стали наступать на Велигора, не сомневаясь в своей победе.
Князь Гнилого Леса вскочил на ноги, хотел было выхватить кинжал, не боясь того, что заклятие Краса распространяется и на этот род оружия, но что-то вдруг дрогнуло в его душе, и не захотелось ему почему-то проливать чужую кровь. Поднялось над головой его белоснежное крыло, зашумев широкими перьями, будто взлететь хотел над землею Велигор, и с губ его слетело:
— Остановитесь! Не оборотень я! Такой же, как вы, человек, на вашем же языке говорящий!
И странно — замерли слобожане, уставясь на лебединое крыло, как завороженные глядели они на белые перья, и из рук их падало на дощатый пол оружие — ножи, кочерга, глиняный ковшик. Сам Велигор не понимал, как могло произойти такое странное и быстрое превращение одного чувства в другое: гнев и ярость сменились безволием и покорностью, хоть сейчас бей слобожан или вяжи, все так же, верно, стоять будут…
Не опуская крыла, вышел Велигор на улицу, вскочил в седло, и лишь после того, как отъехал от избушки, из нее вывалились, как горох из мешка, слобожане, в облике и намерениях которых не было уже ничего мирного и спокойного. С прежним оружием в руках, с бранью и громкими криками бросились они вдогонку за Велигором, крича на ходу:
— Оборотня держи!
— Хватай нечисть!
— Пускай к приличным людям не заходит, в гноилищах место ему да на болоте!
— Кол осиновый вбить! На куски посечь!
Но Велигор уже скакал прочь от корчмы и все никак не мог понять, как же сумел он остановить слобожан, — ведь всего-то поднял над головой крыло, которое так долго скрывал от всех, надежно закрывая плащом. Никогда прежде не пытался он поднять его даже наедине с самим собой, так неприятно было сознавать себя уродом, каким-то получеловеком. И вдруг вид крыла так заворожил ожесточенных, жаждавших крови людей, что оружие выпало у них из рук и лица их на миг подобрели…
Он все гнал и гнал коня в сторону Рифейских гор. Миновал Велонь-реку, реку Ледовую. Городищ или просто деревень в местах этих встречалось меньше, леса становились гуще, и хоть дороги связывали все княжества Поднебесного мира, но во времена междоусобиц дороги зарастали кустарниками, терялись в высокой траве. Отношения между княжествами давно были далеки от мирных, поэтому и дорогу постоянно приходилось искать, а то и пробираться наугад заросшими ивняком, заболоченными низинами. Но когда, будто чистое небо среди туч, появлялась дорога, Велигор не щадил коня и все скакал и скакал на восток, желая поскорей отыскать близ Рифейских гор Веденея, который знал, где можно встретить всемогущего и премудрого Белуна.
Однажды, пробравшись бродом через одну из речушек, увидел Велигор на невысоком холме обнесенное высоким и крепким частоколом городище, перед которым и ров был вырыт, и вал насыпан. Кровли домов, высоких и основательных, виднелись, княжих хором башенки.
«Вот уж запасусь здесь пищей, понапихаю в суму еды!» — подумал Велигор, три дня не евший хлеба, но имевший еще довольно серебра, чтобы купить все нужное в дороге. От реки пришлось проехать балку, и здесь увидел он столпотворение людское и услышал причитание чье-то горькое и до того тоскливое, что сердце его невольно заныло.
Паренек какой-то мимо пробегал к реке, и Велигор его остановил вопросом:
— Эй, малец, хоронят там, что ли, кого-то? Почему так громко воют бабы?
— Хоронят, господин, хоронят, — стал низко кланяться подросток, — князя нашего, почившего десять дён назад, отправляют в мир иной, чтобы душа его к предкам отправиться могла. Тело же сжигают…
— Вот как! — поразился Велигор, знавший о старом обычае таком, но никогда не видевший, как все это происходит, потому что в Синегорье, где лес Гнилой стоял, да и у ближайших к Синегорью соседей давно уж мертвых погребали. — Ну-ка, малец, поведай поскорее, как все это делают у вас. Я из мест иных, у нас усопших в землю зарывают.
Мальчонка охотно и обстоятельно рассказал, как здесь хоронят знатных, Велигор же его рассказу внимал с большим интересом. Оказывается, в здешних местах покойного на десять дней в пеленах в яму зарывали, а сверху клали большую крышку дубовую.
— Зачем же так надолго? — поинтересовался Велигор.
— А как же? Ведь в продолжение десяти дён будут шиться для князя погребальные одежды, в которые его и обрядят перед погребением, то есть… сожжением.
— Ну а дальше…
— Что ж дальше? Сожгут его в ладье, как сжигают у нас всех знатных. На ту богатую одежду, слышал, уходит чуть не треть богатств умершего, треть остается его семье, а на оставшееся покупают пиво, чтобы угостить всех, кто пришел покойного в путь последний проводить…
Мальчишка как-то странно улыбнулся и сказал:
— Девчонку уж выбрали, чтобы она вслед за хозяином пошла…
— Куда пошла? — удивился Велигор.
— Известно куда — с ним. Одежды шила для будущего мужа своего, никуда ее не отпускали. Сегодня с князем нашим к предкам уплывет…
Больше не стал Велигор расспрашивать мальчика о том, как будет вершиться погребение. Коня направил к людям, которые на берегу реки хлопотали.
Подъехал, спешился и привязал коня к стволу склонившейся над речкой вербы. Подошел к толпе, через головы заглянул, чтобы увидеть, как отправляют умершего в мир нездешний.
Никогда не верил Велигор, что в человеке есть душа и что в голове живет она. Смеялся он над теми, кто говорил, что после смерти друга или брата, погибшего на поле брани, отрезали ему голову, чтобы на родине предать ее земле с почестями должными. Все было просто для Велигора: человек — это сплетение мышц и сухожилий, сочетание зорких глаз, умелых рук и быстрых ног. Лишь благодаря воле и силе своей, желанию страстному победить способен человек добиться превосходства над другими, — так думал Велигор, и не ощущал он в себе присутствия души. Поэтому и погребения умерших считал смешными, полагая, что человека нужно предать земле лишь для того, чтобы не смердело от разложения тело…
Вот и теперь, глядя, как в богатую украшенную ладью укладывали тело умершего князя, он только улыбался. Странным ему казалось, что труп, десять дней пролежавший в яме земляной, почерневший, обезображенный смертью, облачили в богатые одежды, на которые можно было прокормить в течение года целую деревню. Удивлялся Велигор и тому, что усадили князя, или то, что от него осталось, на скамью ладьи в позе живого человека, а у ног его сложили плоды земли, будто были необходимы они ему в дороге.
Тут раздалось ржание коня и перед ладьей явились два конюха, державшие под уздцы невиданной красы гнедого скакуна. Острый нож одного из конюхов мгновенно перерезал горло лошади, и она, упав на передние ноги, захрипела в агонии, поливая землю кровью, и упала на бок. Так же поступили и с быком, а потом трупы их топорами разрубили на мелкие части, мечом разрубили и собаку, и все в ладью сложили, где уже оружие лежало князя и плоды земли.
После этого один седобородый старец, облаченный во все белое, громко сказал одно лишь слово:
— Ведите!
И Велигор увидел, как из толпы плачущих, рвущих на себе одежду, царапающих ногтями лица женщин вывели простоволосую, облаченную в одну лишь домотканую рубаху девушку, на лице которой был запечатлен не просто испуг, но ужас. Заметил Велигор, что девушка едва передвигала ноги, но ее под обе руки вели к ладье две старухи. Вот подвели…
— Что видишь ты?! — громко возгласил старик, и голос его был строг и властен.
— Вижу… — еле шевеля губами, залепетала девушка, — вижу господина… моего… сидит он рядом с отцом и… матерью своею…
— Зовет ли он тебя? — еще более возвысил голос старик, делая два шага по направлению к трепещущей девушке, и Велигор увидел, что губы у нее шевелятся, но с них не срывалось ни единого слова.
— Спрашиваю тебя, Путислава, зовет ли он тебя к себе? — уже кричал старик, приступая вплотную к дрожащей девушке.
— Нет, не зовет! — вдруг неожиданно твердо ответила девушка и даже решительно мотнула головой.
Все, кто следил за происходившим, разом охнули — до того, видно, отказ Путиславы был неожиданным, не соответствовал продуманному до последней мелочи старинному обряду, но больше всех изумился старик жрец, за поясом у которого торчал кривой широкий кинжал. Старец затрясся, его изборожденное морщинами лицо исказила гримаса ненависти к приговоренной сопровождать князя в далекий путь. Он было воздел вверх свои костистые руки, желая обрушить их на голову несчастной девушки, но тут же правая его рука скользнула вниз, к поясу, и Велигор понял, что еще мгновение — и девушка будет зарезана широким клинком жреческого ножа.
Наверное, стрела из лука не летела бы к цели с такой скоростью, как князь Гнилого Леса, бросившийся к старику, уже выхватившему нож из-за пояса. Рука Велигора стиснула запястье старика с такою силой, что тот даже вскрикнул от боли, повернув к Велигору гневное лицо: кто смеет мешать свершению освященного веками порядка?
— Она же не хочет умирать! — сказал Велигор. — Отпусти ее, слышишь?
Хватая беззубым ртом воздух, жрец от изумления не находил слов. Нож выпал из его руки, но гнев его на неизвестно откуда взявшегося защитника требовал выхода:
— Убейте его, дети мои! Изрубите мечами! Его и ее! Они нарушили наши вековые законы!
Велигор увидел, что к нему быстрым шагом, вынимая из ножен мечи, направляются мужчины, спеша исполнить волю хранителя отчих святынь. Нельзя было и помыслить о каком-нибудь сопротивлении, ведь у Велигора, кроме ножа, не имелось при себе никакого оружия. Даже лук со стрелами остался при седле.
И вдруг что-то словно толкнуло Велигора, ясная мысль, посланная, как почувствовал он, свыше, подсказала, что нужно делать, чтобы не быть убитым самому и спасти приговоренную к смерти.
Он откинул плащ, и белоснежное лебединое крыло взмыло над его головой, и сразу же мечи, занесенные над Велигором, замерли в воздухе, и те, кто держал их, в оцепенении уставились на крыло. И все собравшиеся возле ладьи люди тоже притихли, и не было в их сердцах не только ненависти к помешавшему совершить обряд, но даже и тени недоброжелательства.
Велигор, уже ощущая себя хозяином положения, взял изумленную Путиславу за руку и, не опуская крыла, медленно пошел с ней к коню. Он помог девушке сесть в седло так, чтобы держать ее во время езды впереди себя, забрался на коня и сам, каблуками сапог ударил по лошадиным бокам, а крыло так и белело над его головой, как символ умиротворения и добра, которым все сильнее проникалась его черствая прежде душа. И когда собравшиеся близ ладьи с мертвым телом люди очнулись и, подобно диким зверям, закричали, завыли, униженные тем, что неизвестный пришелец посмел безнаказанно вмешаться в их святое действо, когда кинулись они седлать лошадей, чтобы броситься в погоню, Велигор уже был далеко.
Вечером у костра, над которым жарился на вертеле убитый Велигором поросенок, сидели двое — витязь с крылом, которое он уже не скрывал, и молоденькая девушка, обхватившая руками поднятые к подбородку колени.
— Почему ты… такой? — неожиданно спросила Путислава. Ей уже давно хотелось расспросить ее спасителя о крыле. — Ты… оборотень?
Велигор хмыкнул:
— Что, не нравится, что я такой урод?
— Нет, почему же! — поспешно ответила Путислава. — Ведь ты спас меня от смерти. Мне так не хотелось идти вслед за нашим мертвым князем. И все-таки, почему ты такой?
— Однажды я поднял меч на одного колдуна, и он наказал меня… Если я возьму меч в левую руку, то с ней случится то же самое. Можешь не смотреть на меня, если я тебе противен.
— Нет, я уже сказала тебе, Велигор, что ты мне не противен. Знаешь… — девушка приблизила лицо к коленям, — знаешь, я даже могла бы сегодня ночью спать с тобою под твоим плащом, в знак благодарности. Ты был бы моим первым…
Велигор ткнул поросенка ножом, проверяя, изжарился тот или нет, и ответил девушке насмешливо:
— Оставь свое богатство для другого! Я люблю лишь Кудруну, дочь Грунлафа, и никогда не изменю этой любви!
Путислава не обиделась, но спросила:
— Так почему же ты не с ней? Зачем странствуешь по полям и лесам? Или ты именно к ней и спешишь?
— Нет! — зло ответил Велигор. — Я еду туда, где живет колдун, знающий другого колдуна, а тот знает средство, как избавить от уродства мужа этой Кудруны!
Путислава рассмеялась совсем по-детски:
— Какой ты… непонятный! Думаю, ты должен был бы убить мужа твоей Кудруны, а ты вот едешь куда-то, хлопочешь ради него!
— Я в своей жизни только и делал, что убивал! Мне надоело это занятие! — Велигор сам удивился, каким теплым стал его голос: — Когда я увидел, что Владигор, победив меня в состязании и получив Кудруну в жены, стал уродом, то… не знаю, как сказать, мне стало очень жаль его, гораздо больше, чем себя. Вот я и еду…
Отрезав большой кусок поросятины, истекающий жиром, Велигор порывисто протянул его на ноже Путиславе и уже грубо, потому что застыдился своей откровенности, сказал:
— На, ешь! И не спрашивай больше ни о чем! Если хочешь, отправляйся со мной. Все равно к своим тебе теперь не вернуться.
После трапезы Велигор стал готовить постель. Нарезал еловых сучьев, положил в изголовье седло и лег, накрывшись плащом, не заботясь о том, как устроится на ночлег Путислава. Он уже засыпал, когда почувствовал, как к его спине прижалось худенькое тело девушки. Велигор, посмотрев на небо, усеянное бисером ярко горящих звезд, повернулся к Путиславе и накрыл ее своим широким крылом.
Но настал день, когда предстали перед Велигором и Путиславой Рифейские горы. Оказавшись у цели, князь Гнилого Леса остановился в нерешительности.
Да, он подошел именно с той стороны, откуда советовал приблизиться к ним чародей Острог, — со стороны, откуда восходит солнце. Но легче, наверное, было найти иглу в стоге сена, чем отыскать пещеру Веденея. К тому же перед предгорьем, резко возвышавшимся над долиной, протекала быстрая река, и Велигор сразу понял, что этот бурный, стремительный поток не преодолеть им ни вплавь, ни вброд.
Держа под уздцы коня, на котором сидела Путислава, Велигор смотрел с высокого, крутого берега реки на предгорья, где обитал чародей, и горечь разочарования точила его сердце.
«Зачем пришел я сюда? Для чего привел в эти дикие места Путиславу? Мне ли горевать об уродстве Владигора? Да я лишь радоваться должен был…»
Но горькие терзания оставили Велигора, едва он услышал голос девушки, сказавшей с уверенностью:
— Велигор, ты перенесешься через эту реку, на крыльях перелетишь!
Велигор рассмеялся. Он услышал в словах Путиславы, которая, он знал, уже успела до самозабвения его полюбить, лишь желание подбодрить его.
— Нет, не смейся, не смейся, ведь у тебя же есть одно крыло. Застрели лебедя, из его перьев смастери крыло и для левой руки, оттолкнись от берега и — полети.
— Ты что, рехнулась? — разозлился Велигор. — Разве эти крылья удержат меня?
— А ты попробуй. Я знаю, Стрибог поможет тебе, ведь ты делаешь правое дело. Попробуй, Велигор!
…В лесу, на небольшом тихом озере, Велигор застрелил двух лебедей. Их нежное мясо вполне годилось в пищу, которой хватило бы на несколько дней, но ему нужны были лишь перья птиц.
Основу для крыла Велигор сделал из ивы, сплел прутья так, как плетут корзины, только не очень плотно. В лесу отыскал дерево с клейким, густым соком. Много лет назад ведунья, что подобрала его на дороге, научила мальчика отыскивать такие деревья, и потом, когда Велигор стал делать луки, сок, добытый из них, позволял склеивать деревянные пластины лука столь прочно, что даже осетровый клей не мог сравниться с этим соком.
Нацедив его в берестяную корчажку — сам сделал, — стал наклеивать на ивовую основу лебединые перья. Старался сделать крыло похожим на лебединое, где перышки одно к одному ложатся ровно. Все наклеил наконец, дал крылу просохнуть. Были уж заготовлены и ремешки, чтобы крыло надеть на руку. И все это время Путислава не отходила от него, следила за каждым движением милого ей человека.
Оставшись в одних портах, даже без рубахи, не говоря уже о сапогах, Велигор пошел к обрыву. Путислава шла рядом. Вот уже и край обрыва. Внизу — кипит, стремится куда-то бурлящий поток. За ним — предгорье, где пещера Веденея.
Встал на краю. Крыльями взмахнул, пробуя их силу, — зашумели, вселяя в Велигора надежду. Путислава шептала:
— Любый мой, Стрибогу помолись, поможет! Поднимет тебя, перенесет через реку!
Упрямо ответил Велигор:
— Нету Стрибога никакого! Верю только в силу свою!
Так сказал и, оттолкнувшись от края обрыва, с напряжением великим замахал крыльями своими, направляя тело вперед, уподобляясь стреле или аисту, ноги в полете вытягивающему, и казалось ему сначала, что летит он, и радость великая чуть не разорвала сердце его, сердце человека, уподобившегося птице. Горы желанные уже видел он, но вдруг покачнулись они, приблизились резко, а потом стали отдаляться, и вот уже в глазах замельтешили барашками волны бурной реки, все быстрее и ближе, так что ветер в ушах засвистел…
Обожгла его тело ледяная вода и хлынула в рот, и лишь тогда понял Велигор, что не долетел до берега. Стал биться о воду крыльями своими, на поверхность выбраться удалось, голову высунул, но рукомесленное его крыло успело намокнуть, в глубину тянуло, и не было сил сбросить его, прочно привязанное к руке ремешками. А поток все нес его, крутил, и не видел и не слышал Велигор, как рыдала Путислава над обрывом, как заламывала руки, потому что никого еще столь сильно не любила девушка, как спасителя своего с лебединым крылом. И темнеть стало в глазах Велигора, и зазвенели в ушах колокольцы…
Глаза открыл и голову приподнял — увидел, что лежит на камне, поросшем мхом. Вдруг лицо над ним явилось: приветливо, но без улыбки смотрели на него чьи-то почти бесцветные глаза. Раздался голос:
— Очнулся?
— Да, очнулся, — молвил Велигор, еле шевельнув губами. — Не утоп, выходит?
— Выходит, не утоп, — ласково улыбался старичок с реденькой бородкой, безусый, правда.
— Как же выплыл?
— Да я тебе помог. Видел, как ты с обрыва сиганул, крылами своими, точно подбитая ворона, замахал да и камнем в воду. Перевернулся еще, пока летел. Я ж тебя потом, как плыл ты на меня, успел за крылышко-то и ухватить, а не поспей, так и лежал бы ты где-нибудь на дне реки, за камень подводный зацепившись. — Старичок усмехнулся: — Что ж тебя подвигло, витязь, птице уподобиться? Али ты природу человеческую, слабую и тварную, перегнуть в свою сторону решил? Ась, не слышу? — И старичок руку лодочкой к уху приложил.
— Сильным себя ощутил, думал, что все могу… — вздохнул Велигор.
— Сильным! — махнул рукой старик. — Слабым себя чувствовать должен, тогда всех перехитришь. Я вот с рождения тщедушен был, каждый меня бивал, щелкал да обижал, а я терпел, терпел, да и сюда ушел, в пещеру. Науку тайную изучил, ведовство — недаром Веденеем зовусь…
— Веденеем?! — воскликнул Велигор, приподнимаясь на постели.
— Ну да, Веденеем, и все-то я знаю, оттого и сильным себя считаю, и крыльев на руки свои цеплять не стану, хе-хе-хе!
Велигор был рад. Он далее не чувствовал огорчения от несчастливого своего полета, но захотел немедленно проверить, точно ли Веденей силен своей наукой.
— Ну а коли ты такой всемудрый, то скажи, как я крылом лебединым обзавелся? — спросил он старика.
— Как? — даже обрадовался вопросу Веденей. — А Крас-чародей за обиду тебя им наградил. Спросишь еще, что ты в Пустене делал?
— Спрошу!
— А Кудруну, дочку Грунлафову, стрелами своими завоевать хотел, да не получилось, Владигору она досталась.
— Все верно, — был поражен Велигор. — Ну а зачем же я к тебе поехал, и кто меня к тебе послал?
— Острог послал, знахаришка жалкий, травник, — его маленько я как-то поучил. А вот зачем ты ко мне поехал, не пойму. Зачем собрался сопернику своему помочь, продолжая сердцем терзаться по Кудрунке? Проясни мой сирый ум, будь добр!
— Вот именно, «добр»! — проговорил глухо Велигор. — Добро в себе почуял вдруг, жалость к Владигору. Раньше я душегубом был, мучил людей до смерти, лишь бы имуществом их завладеть.
Веденей, уперев руки в боки, закатился долгим мелким смехом. Насмеявшись вдоволь, нагибаясь низко к Велигору, вкрадчиво заговорил:
— Право, рыбья голова у тебя, рыбья. Добро! Где ж вышло-то добро? Истерзал себя в дороге, чуть не утоп — было бы тебе добро. Вот раньше, когда жил ты в своем лесу да грабил, вот это, понимаю, и было для тебя добром. Знаю, сколько ты добра насобирал! Так что ж за мысль шальная в голову твою забралась, коль ты, добро свое презрев, кинулся с головой в омут? Нет, попал ты, Велигор, из князи-то в грязи, и никакого в том тебе добра нет, ошибся ты!..
Велигор, пьянея от сладкозвучной, ровной речи старца, согласно кивал, а старец все говорил, и вот уж рука его, мягкая и прохладная, лежала на горячем лбу Велигора, и так сладостно было витязю, и не хотелось ему никуда идти, и глупой уже казалась мысль помочь Владигору обрести свое прежнее лицо.
«Зачем шел я сюда? Ведь он же мой соперник, — думал Велигор, слушая баюкающий голос Веденея. — Убить его просто нужно было, а я все шел и шел, крыло зачем-то делал…»
А Веденей все лил на сердце Велигора елей своих речей:
— И Белун тебе не нужен, не тому делу служит Белун. Я же Краса помощник, он-то знает, что такое добро, и ты узнаешь это, если у меня останешься. Учеником моим тебя сделаю. Научу многому, сильным будешь, и не на руки свои полагаться станешь, а на знание тайное. Оставайся у меня, Велигор, оставайся…
Медленно поднялся с постели Велигор и преклонил колени перед стариком, и поцеловал его желтую руку, и слезы умиления готовы были пролиться из глаз его. А Веденей гладил его по голове и говорил:
— Умным станешь, сильным. А крылья человечкам малым да хилым не нужны. Хитростью змеиной они сильны, а потому кто понял это, власть огромную над другими имеет…
А в это время на противоположном берегу реки над обрывом ходила взад-вперед девушка. Видела она, как старик вытащил Велигора из воды, как потащил безжизненное тело куда-то к предгорью. Долго рыдала она, не зная, жив ли возлюбленный ее или захлебнулся в волнах. Плакала она и потому, что через бурный поток никак не могла перебраться. Но вот слезы у нее иссякли, не иссякло, однако, желание увидеть милого вновь. Надела на себя Путислава кольчугу Велигора, его штаны и сапоги. Из лука хорошо она стрелять умела, в белку попадала с тридцати шагов. Вскочила на коня и погнала его туда, где можно было найти место для переправы.
А Велигор тем временем сидел напротив Веденея, и блаженная улыбка блуждала по его лицу. Он все слушал, слушал…
6. Владигор и нечисть
Подъезжая к воротам Ладора, чтобы покинуть его навсегда, не знал еще Владигор, куда направится он, но едва замкнулись за ним тяжелые ворота, как вопрос этот все сильнее стал мучить его. Вначале думал Владигор: «Ах, уехать бы поскорей отсюда, где меня так ненавидят, уехать куда глаза глядят!» Ну вот уехал, а дальше-то что?
Не понукая коня, опустив поводья ехал Владигор, и мрачные думы теснились в уме его. Понимал он, что даже в братских княжествах, в Ладанее, Ильмере, Венедии он тоже не сумеет доказать, что действительно является Владигором Синегорским, и не найдет он там пристанища, даже если предложит правителям тех княжеств служить им простым дружинником.
Отправиться в Гнилой Лес, к Бадяге? Но мысль о том, что ему придется стать разбойником, вызывала у него чувство тошноты. Вспоминался Бадяга, рубивший сплеча людей, не сделавших ему ничего плохого, и Владигор жалел, что не убил дружинника, предавшего своего господина и ставшего вором.
Конечно, можно было отправиться в Пустень, где Грунлаф знал, что он — Владигор. Но приехать к тестю, будучи изгнанным, потерявшим былое могущество, казалось Владигору позором. Правда, дорога в Пустень предоставляла ему еще и способ разыскать виновника его несчастья, но в успех поисков чародея, околдовавшего его, Владигор совсем не верил.
Вот поэтому и ехал он по уже темным полям, перелескам не разбирая дороги, и низко опустилась на грудь его голова, ибо не знал Владигор, куда ему податься, уверенный, что теперь он никому не нужен, хоть и очень хотел продолжать служить людям, быть их защитником. Потеря дворца, нажитых им и его предками богатств его не смущала — он во дворце жил просто и скромно, — но лишившись подданных, которым был отцом, покровителем, защитником, Владигор словно потерял самого себя, ибо не видел теперь нужды ни в своей силе, ни в мудрости, ни в доброте. А еще он думал о Кудруне, с которой так и не простился и которую не чаял еще когда-нибудь увидеть.
Проведя в седле всю ночь и проделав довольно большой путь, Владигор встретил зарю на околице небольшой деревушки. Пять-шесть домов под камышовыми крышами с хлевами для скотины да амбарами. Странное зрелище заставило Владигора остановиться: какие-то люди с громкими криками метались от дома к дому, они тащили за руки вопящих, облаченных в одни нижние рубахи женщин, а мужчин, которые пытались защитить своих жен и дочерей, пронзали сверкающими в лучах восходящего солнца клинками. Женщинам вязали руки и ноги, поднимали их и швыряли поперек седел.
«Ну вот, нашлась мне работа!» — с радостью подумал Владигор, высвобождая из кожаного чехла самострел.
Продев в его железное стремя ногу, в одно мгновение потянул на себя тетиву, тотчас захваченную костяным зубом. Наложив стрелу, пришпорил коня и рысью поскакал в направлении бесчинствующих похитителей. Приблизился он к ним быстро, те, не ожидая появления всадника в доспехах да еще с каким-то странным, по форме напоминающим птицу, оружием, опешили, но и Владигор пока не собирался нападать на них, только спросил:
— Кто вы? Каким таким промыслом промышляете на землях князя Владигора?
— Владигора? — с веселым удивлением переспросил один из похитителей. — Да нет больше Владигора, сгинул он в Борее! Бескняжие теперь у нас!
Вперед вышел высоченного роста детина, важный, пузатый, в кольчуге доброй, палица болталась на ремешке, привязанном к запястью, точно детская бирюлька. Громовым голосом сказал:
— Ты, парень, нас не замай, а дуй отсюда побыстрее, покуда пятки тебе не припалили огоньком!
Тотчас обступили Владигора со всех сторон человек десять разбойников — каждый с мечом или с палицей, в бронях чешуйчатых или в кольчугах, иные со шлемами на головах, злые, свирепые, готовые на все. Поодаль — лошади их со стонущими, лежащими поперек седел женщинами. И почувствовал Владигор, что уж приставлен клинок к его не защищенной щитом спине, потому что успел он на левую руку перекинуть крепкий свой, обтянутый воловьей кожей щит. Резко повернувшись в седле, выстрелил из самострела прямо в рожу того, кто напал на него сзади.
Замертво упал разбойник, и теперь уж Владигору нечего было бояться удара с тылу. Меч выхватил князь и одного за другим зарубил двоих нападавших справа, но тут сразу три клинка вонзились в грудь коня его, взвившегося на дыбы с громким жалобным ржанием. Ловко спрыгнул Владигор на землю, покуда не придавил его рухнувший конь.
Трое сразу набросились на него, размахивая клинками, но знал Владигор, что если уж трое на одного нападают, то вдвое сила у каждого из них теряется, потому что мешают они друг другу, развернуться не дают. Легко справился с ними Владигор, меч его мелькал в воздухе со свистом, разя и острием своим, и кромкой.
Та же участь постигла и трех других разбойников, бывших поосторожней, поувертливей, но все же полагавшихся на силу свою тройную против одного меча врага и тоже мешавших друг другу наносить удары.
Когда же со стонами упали они, обливаясь кровью, удалец с палицей на ремешке, следивший за схваткой, сказал примирительно и добродушно:
— Ладно, малый, вижу, удалец ты из наипервейших. Хочешь, поделим с тобою баб, девчонок. За них у купцов, что промышляют на ладьях у моря Борейского, получишь немалый куш. Это хорошо ты сделал, что всех товарищей моих перебил, — нам одним добыча достанется.
Ярость застлала глаза Владигору. Стоя посреди лежавших вповалку мертвых тел, испытывал он отвращение к главарю разбойников (а это был, несомненно, главарь), ни о чем, кроме наживы, не помышляющему. Все же сдержался Владигор, попробовал договориться с главарем по-хорошему.
Не убирая в ножны окровавленный меч, спросил Владигор насмешливо:
— Из какой же доли предлагаешь мне с тобой идти на сделку?
— Да пополам поделим девок, малой, — отвечал разбойник ухмыляясь.
Владигор рассмеялся:
— Что, с половины только стану с тобой сговариваться я? Сколько девок да баб на седлах?
— Десять.
— Ну так две тебе достанутся лишь, а мне восемь. Кони тоже моими будут.
Живот разбойника, сотрясаемый смехом, заколыхался, блистая кольчугой.
— Ой, лопну я сейчас от смеха! Ой, не могу! Восемь из десяти! Подумать можно, что это ты крутил им руки, бил их мужиков, кормил коней, что повезут этот товар купцам на берег моря Борейского! Ты, как я погляжу, очень жадный, парень!
Вне себя от ненависти к этому человеку, Владигор сказал:
— Ну а если предложение мое принять не хочешь, спор наш давай решим честным поединком, на мечах. Кто первым будет в схватке, тот все и получит. И вот еще какое условие: победитель пусть имеет право труп побежденного так истерзать мечом, чтобы и ворон, мимо пролетая, мерзость такую за пищу принять не пожелал.
На широком косоглазом лице разбойника изобразилось замешательство, неприличное бойцу. Пытался он сообразить, к чему клонит странный незнакомец в личине, да туповат был, не понял, поэтому вмиг разъярился и руку короткую и толстую, которая палицу держала, быстро назад отвел и с замахом резким, с гортанным криком оружие свое пустил прямо в грудь Владигора.
Точно в грудь шаром своим палица летела, шипастая, начищенным железом сверкающая, способная пробить не только доспех тонкий, который на Владигоре был, но даже доску дубовую в пол-ладони толщиной. Но успел Владигор подставить свой крепкий щит углом, и палица, щит проломив, в сторону отлетела и упала на землю, зарывшись в нее наполовину.
Наступил черед сделать удар Владигору. Медленно пошел он навстречу обезоруженному, совершенно растерявшемуся разбойнику, на лице которого один лишь страх изображался, страх тупой, животный.
Видя, с кем имеет дело, и понимая, что преступлением перед человечеством было бы пощадить этого отъявленного негодяя, Владигор с размаху рассек от плеча до бедра жирное тело торговца живым товаром. Не издав ни единого звука, упал тот на землю, а Владигор, обтерев клинок о его штаны, вложил меч в ножны.
Едва расправился он с последним разбойником, как из всех домов выбежали их обитатели — мужчины, старики, старухи, малые дети. Первым делом стали снимать с лошадей связанных девушек и женщин, причитали над двумя убитыми односельчанами, вступившимися было за честь жен. А потом все сгрудились вокруг Владигора, низко кланялись ему, плакали, благодарили неистово, целовали руки и даже сапоги. Сгорбленный старик, опиравшийся на суковатый посох, скрипучим голосом заговорил, желая выразить благодарность от имени всех односельчан:
— Спасибо тебе, витязь, да хранят тебя боги! Самим Перуном, видно, был ты нам сегодня послан, а то не видать бы нам наших жен и дочерей! Как ястребы, люди эти, — показал он рукой на убитых разбойников, — летали по всей округе нашей, сколько деревень разорили, и все одним промышляли — увозили женщин наших! Мы уж и не ходим нигде без мечей, луков, а все равно врасплох нас они застали. Сегодня утром, когда мы еще спали, ворвались они, выломали двери во всех домах да и пошли проказить! Что деется на белом свете! Раньше такого не бывало!
Поклонившись, вступил в разговор красивый чернобородый мужик. Огладил бороду и молвил:
— Думаю, оттого все это происходит, что потеряла земля Синегорская князя. Сгинул в дальних странах Владигор, вот и не стало у нас защиты, покровительства не стало. Что делать?
Владигор, не снимая личины, возвысил голос:
— Не кручиньтесь, отыщется ваш Владигор, а покуда я вам защитником буду! Всю округу вашу стану охранять, никого в обиду не дам!
Жители деревни снова низко кланяться стали, снова потянулись к руке Владигора, облаченной в толстую боевую рукавицу.
— Вот спасибо тебе, защитник!
— Если бы не ты, погибли бы мы от этих стервятников!
Так говорили они, а потом чернобородый, опять же с поклоном, спросил:
— А как тебя звать-величать? Назови имя свое. Да и на лицо бы твое взглянуть хотелось. Помнить желаем того, кто уберег нас от лихой беды.
Владигор смутился, но тут желание поделиться хоть с кем-то своим горем возобладало над смущением, и он заговорил:
— Владигор я, князь ваш, но изгнан я из Ладора своим народом! Не признали они меня за своего, потому что… изменился я очень лицом. Сами смотрите!
И Владигор сдернул маску.
Как он надеялся на то, что найдет у этих людей сочувствие! Он бы полюбил их куда больше, чем прежде, отдал бы всего себя делу служения им, их защите. Неужели же не мог он рассчитывать на их снисхождение за прошлые свои заслуги?
Владигор снял маску, и все разом отшатнулись от него. Женщины прикрыли руками глаза своих малышей, заплакали, мужчины же насупились, опустили готовы, молчали, не зная, что сказать. Но вот, глубоко вздохнув, заговорил сгорбленный старец:
— Мил человек, Владигором ты себя не называй, да и иди восвояси. Жен ты наших спас — ну и спасибо тебе за это. Прости, но честно тебе скажу: ежели останешься с нами, чувствую я, что больше мы лиха хлебнем, чем с разбойниками этими…
Не крик, а рев вырвался из горла Владигора, рев подраненного медведя, угрожающий и в то же время жалкий. Лицо его, отображая боль души, стало еще безобразнее и страшнее, будто не пожаловаться хотел людям урод на судьбу свою горькую, а наброситься на них с намерением растерзать.
— А-а-а-а-а!! Не любите меня?! За что не любите?! Что дурного сделал я вам?! Может, убить мне себя, чтобы вы убедились: я такой же, как вы!
И Владигор, выхватив из ножен кинжал, задрал кольчугу, — решил он, что если взрежет грудь свою, то люди поймут, что их доверие ему дороже жизни.
— Не надо, — услышал он спокойный голос старца. — Ну зарежешь ты себя, и что? Ничего ты не докажешь нам. Знаю, чистая у тебя душа, но покуда не изменишь лицо свое, не жить тебе вместе с людьми. Знаю я, что совсем недавно ты стал таким. Но если замешкаешься и не вернешь себе прежнее обличье, то и душа твоя черной станет, поганой. Ищи того, кто смог бы тебя сделать нашим…
Владигор с горечью покачал головой и сказал:
— А я-то думал, что по поступкам людей судят!
Он поднял самострел, от седла убитого коня отвязал суму с едой, свернутый шатер и колчан со стрелами. Щит его был разбит палицей разбойника, поэтому он брать его с собой не стал. Поднял с земли личину и, не прощаясь с селянами и не разбирая дороги, пошел прочь.
«Старик сказал, что если я не сумею возвратить себе лицо, то вскоре и душа моя черной станет… Ой нет! Рано вы по моей душе тризну вершить хотите! — думал дорогой Владигор. — Что с того, что я ныне урод? Сердце чисто мое, оно ищет одного лишь добра, и никогда я не стану злыднем!»
К вечеру добрался он до другой деревни. В осенних сумерках, синих и тихих, оконца, затянутые промасленной холстиной, светились тусклым желтоватым светом, и мягкий этот свет так притягивал к себе Владигора, что мочи не было удержаться. Представлял уж он, как ляжет на широкую крестьянскую лавку, а то и на печь заберется, как накроется плащом или хозяйским овечьим зипуном. Казалось ему, что слышит он уже песню бабки, которую поет она прижавшемуся к ней малютке, шепот да повизгивание девок, застыдившихся прихода незнакомого мужчины. На сердце у него потеплело, и он ускорил шаг. Постучал в дверь избушки, что первой стояла на дороге. Шлепанье босых ног послышалось так скоро, будто прихода Владигора или кого-нибудь другого ждали. Дверь со скрипом отворилась. Мужик в рубахе, в одних портах, широко улыбаясь, проговорил певуче:
— Ну-у, долго ждали-и-и, проходи, прохожий, гостем будешь!
Ах, таким родным и близким показался Владигору этот приветливый голос, теплый и родной! Со дня отъезда из Ладора в Пустень не слышал он таких добрых голосов.
Зашел в горницу с глинобитным, но чистым полом, с большим столом, за которым сидели трое — старушка, молодуха с волосами, перехваченными повойником, да ребятенок, толстощекий и румяный. Все трое из деревянных мисок деревянными же ложками черпали, наверно, борщ или крупяную похлебку. На вошедшего поглядели с улыбками, будто пришел в их дом хороший, давний знакомый. Засуетилась молодуха, забегала, гостя устраивать стала, чтобы поужинал со всеми вместе.
Владигор, стесняясь того, что может объесть крестьян, обед которых был скуден, сразу полез в мешочек, что на поясе висел, гривну серебра достал и, аккуратно на стол положив, сказал:
— Это за гостеприимство вам да и за то, ежели мне поутру снеди в суму положите немного. Переночевать-то смогу у вас?
Хозяин, мужчина дородный, краснолицый, так и засверкал глазами при виде серебра, стал кланяться, быстро-быстро говорил;
— Господин, одно лишь нам удовольствие доставишь, ежели останешься у нас. Покойно тебе будет. Там тебе накроем, — показал рукой, — в горнице особой. А теперь садись-ка с нами снедать.
И Владигор сел за стол, и таким вкусным казалось ему кушанье, которое подали ему в деревянной миске, такими красивыми, милыми и добрыми представлялись ему хозяин, его мать, жена и сын, что не хотелось ему никуда идти дальше и лишь одного он желал — остаться здесь, вдалеке от Ладора, от необходимости доказывать, что он — настоящий Владигор. Князь совсем не обиделся на хозяина, когда тот поинтересовался как бы невзначай:
— А личину-то свою что ж не снял-то?
Ответил так:
— Да изранено в бою лицо мое. Ранами своими пугать вас не хочу…
— Ну ладно, воля твоя, настаивать не смеем… — отвечал хозяин и почему-то, приметил Владигор, усмехнулся.
Уложили Владигора, как он и мечтал, на широкой лавке, в отдельной каморке, подстелив мягкую овечью шкуру, близ самого окошка уложили. Свиту с себя скинул, штаны, не говоря уж о кольчуге. Так приятно ему было здесь, где пахло теплым домом, печью, сухими травами. Где-то в углу скрипев сверчок, мышь шебуршала, за окном, в лесу, поухивал филин, а в овине негромко похрюкивала свинья. Скоро не стало слышно и возни хозяев и даже храп послышался мужской, и вот уж тяжкой дремой налились веки, в голове закружились воспоминания прошедших дней, сон накатывал неодолимой волной, и Владигор не гнал его — только торопил…
Скрип двери расслышал он сквозь дрему, уже застилавшую плотной пеленой его сознание. Чьи-то легкие шаги услышал, неторопливые. Кто-то на лавку его присел легонько, нежно стал гладить руку, все выше поднимаясь, к плечу, к шее. И нежное поглаживание это казалось Владигору таким приятным, усыпляющим, что еще сильнее захотелось спать. Но не заснул он — сила какая-то или знак, посланный ему неведомо кем, заставили открыть глаза.
Рядом на постели сидела молодая хозяйская жена. Еще за ужином приметил Владигор, что очень хороша бабенка, но только слишком уж горяча, порывиста, так и метала молнии черными глазами, жгучими и острыми. И вот сейчас она сидела рядом с ним, и видел Владигор в мареве лунного света, пробившегося через промасленную оконную холстину, что не только страстным было выражение ее лица, а каким-то жутким, будто обуяло женщину преступное желание, непреодолимое и требующее немедленного утоления.
«Эк баба-то проворная, при муже…» — подумал Владигор, но молодку гнать не стал, сквозь веки приопущенные следил за ней, причем сердце его неробкое вдруг страхом стало наполняться.
Рот молодки делался все шире, чуть не до ушей расползся, торчали изо рта длиннющие зубы. И вот уж и не красавица перед ним была, а какое-то хищное животное, страшное, свирепое, тянулось мордой своей к его шее, и не было сил отвести рукой видение это.
Лежал без маски он, и лицо его крылось в темноте. Но вдруг заметил, что не одна только молодица в горнице его. Это сам хозяин приближался к его постели, да и старуха мать появилась, и даже ребятенок, и все они шли к нему, руки вытянув, и у каждого рот был разинут от уха до уха.
Все они сгрудились вокруг него, кто на постель взобрался, кто, на корточки присев, рядом на полу примостился, гладили, и все ближе тянулись к нему их морды с оскаленными зубами. И понял наконец Владигор, к кому попал он: семейство упырей приняло его в свой дом, чтобы напиться крови человеческой. Но понял он также, что облик его нынешний ничуть их не краше, и не за мечом, что в изголовье лежал, потянулся, а холстину с окна сорвал, на постели привстав, и повернулся к упырям лицом своим, исказив его, и без того уж страшное, ужаснейшей гримасой.
И тотчас отшатнулись упыри. Мигом рты их приняли прежние размеры, клыки исчезли. Он же, рыча звериным рыком, вскричал:
— Что, кровососы, не поняли, кто я таков? Вам ли, вурдалакам, дело со мной иметь?!
Освещенные зеленоватым светом, упыри отпрянули от постели Владигора, но так и остались на пороге, не решаясь без его дозволения покинуть горницу. Он же, ноги с постели свесив, встал во весь свой могучий рост, за бороду хозяина схватил и так дернул книзу, что на колени упал упырь.
— Владыко, не гневайся на нас, не распознали сразу, кто ты есть такой! — залепетал он. — Где ж узнать, коли на тебе личина!
Владигора слова эти только в ярость привели. Вначале думал он просто вурдалаков попугать, теперь же оказывалось, что приняли они его за своего и даже за господина.
— А ну-ка, душегубы, говорите, сколько испили крови? Право имею у вас спросить это! — закричал Владигор, хватая упыря за горло.
Вурдалак, думая, что признанием откровенным потрафит тому, кого господином своим считал, забормотал:
— Много, хозяин, много! Деревенька наша на большой стоит дороге, так что почти кажный день постоялец у нас бывал — то купец, то витязь, то калика перехожий, по своим делам бредущий. Всех, всех губили, никому проходу не давали. В этой вот каморке и пили их кровушку сладкую!
Владигор сурово допытывался:
— Ну а тела-то бездыханные прятали куда?
— А куда? — хохотнул упырь. — А в огороде зарывали! После на нем такая репа росла — с голову твою!
— Ну а знали о вас в деревеньке вашей?
— А как же не знали — знали! Токмо завидовали очень, что мы удачливее всех, на обочине дороги расположились, все к нам идут. У нас же в деревеньке все такие, одной семьей живем, одним миром. Так-то вот. И ты, родимый, оставайся с нами, за старшего у нас будешь, а то ведь мы чуть было недавно не передрались между собою из-за путника одного…
Больше не стал Владигор слушать вурдалака, вывел упырь его из терпения. Мало того что пили они кровь человеческую, — ну уродились они такими, что тут поделаешь, — так еще и его, князя Синегорского, своим посчитали!
Меч, что стоял у изголовья, выхватил из ножен. Одним махом располовинил мужика-упыря, второю молодица полегла, изрыгая перед смертью хулу на всех богов. Не пощадил меч Владигоров ни старухи-упырихи, ни маленького упыренка. Вынес из избы самострел, колчан, все боевое снаряжение свое и мешок с едой. В очаге нашел с горстку углей горящих, от них зажег соломы пук. Вначале запалил сарай, где хранилось высушенное сено, а потом от избы к избе ходил, вначале подпирая кольями двери, чтобы не выбежали упыри, а после поджигая пристройки. Весело огонь бежал от сарайчиков и клунь, от амбаров и клетей, чтобы пожрать всех тех, кто Владигора посмел принять за своего, за упыря.
Стоя посреди черного ночного поля, смотрел он на догорающую деревню, довольный, что совершил дело доброе, благочестивое. В сердце его зрело убеждение, что не так уж безобразно новое его обличье, что можно и с таким лицом прекрасно с людьми уживаться, если хочешь творить добро.
Ободренный подвигом своим, брел Владигор по ночному полю, молчащему, немому, покуда не обступили его деревья. Куда идти, было ему безразлично, поэтому лес, становившийся все гуще, не пугал его. Потеряв дом, родных, любимую жену, он видел свое будущее в служении добру. Он решил стать странствующим витязем, и ничто иное не представлялось ему достойным его будущей судьбы. Верный меч и самострел, тридцать стрел в колчане, висевшем на поясе, кинжал, кольчуга, шлем да небольшой шатер — вот и все, что нужно, чтобы бороться со злом. А о лице своем он больше не думал.
В темном густом лесу радостно было Владигору сознавать, что никто не может упрекнуть его в уродстве. Дикость, запустение, отсутствие людей, способных изругать его, прогнать. Только хрипло где-то кричал коростель да ухал филин, но их крики не смущали Владигора. Нравилось ему идти вперед куда глаза глядят. Был он здесь хозяином себе, и счастья такого никогда не ощущал прежде, даже в те годы, когда княжение его в Ладоре тихим, мирным и спокойным было. Свою личину оставил он в сгоревшем доме упырей, и теперь, идя с лицом открытым, просто-таки забыл о своем уродстве. И не было вокруг никого, кто мог бы ему напомнить об этом.
Все гуще становился лес. Вот уже стало топко под ногами, увязали сапоги в трясине, приходилось за стволы дерев держаться, вонью болотною дыша, и понял Владигор, что дальше идти не следует — лесное озерко лежало перед ним, черное, тихое. Только редкий всплеск рыбы слышался теперь во мраке.
Прислонившись к дереву, присел на кочку в надежде скоротать время до рассвета. Комары роились вокруг, но Владигор их не замечал, легкий свой шатер, чуть расправив, под себя подсунул, а самострел поставил между ног.
Как в этом месте было хорошо ему! Свободу полную он ощутил сейчас, ту, которая ему и не снилась никогда. «Зачем же, — думал он, — был облечен я княжеским достоинством? Что получил я от этого? Одни невзгоды! Приходилось убивать других людей, хлопотать о казне, заключать договоры с соседями, отстраивать стены Ладора, мирить горожан, когда бедные поднимались на богатых. Пусть же всем этим занимаются сейчас другие, а я буду бродить по свету, помогая страждущим повсюду, а не только в Синегорье, и скоро никто не будет обращать внимания на мое лицо. Добрые поступки уверят людей в том, что я достоин жить с ними вместе!»
Так думал Владигор, уже погружаясь в дремоту, и не видел, не слышал, как смоляная гладь озера вдруг всколыхнулась и вынырнули из воды чьи-то головы. Волосы мокрые, зеленоватые ниспадали жидкими прядями на плечи существ, явившихся из вод. Существа эти, грудь которых выдавала их женское начало, тихо вышли из воды. Струйки искрившейся в лунном свете воды стекали по их обнаженным бедрам, едва прикрытым длинными прядями волос. Две девы вышли на берег, другие остались в озере, по пояс в воде. К Владигору, уже уснувшему, подошли они тихонько, подсели к нему, стали ласкать, и пальцы на их руках были стянуты перепонками. И так говорила одна из дев голосом нянюшки, баюкающей младенца:
— Спи, красавец наш, усни, усни покрепче! Спящий, ты поднимешься сейчас, с нами пойдешь в жилище наше! Воды не бойся, добрая она. Примет она тебя, точно мягкая перина. В ней уснешь ты, и мы с тобою будем спать, твоими женами мы станем. Будем тебя холить и лелеять. Сколько сказок чудных от нас услышишь ты. А после родим тебе младенцев, таких же прекрасных, как ты сам! Ну же, вставай, вставай, пойдем в жилище наше!
Сквозь пелену дремы сладостно было Владигору слушать шепот озерных дев. И прикосновение их прохладных рук обещало ему долгие годы счастья, неги и любовного восторга. Он открыл глаза, голову повернул направо, налево, увидел перед собой два лица зеленокожих, волосы спутанные, как тина, которую порой весло выносит на поверхность, если его поглубже опустишь в воду, глаза большие, выпуклые, как у лягушек. И не моргали те глаза, но с лаской и любовью смотрели на Владигора. И рты их лягушачьи в пол-лица улыбались приветливо. И говорили девы, перебивая друг друга:
— Ах, какой красивый ты! Первым красавцем в озере нашем будешь ты!
— Да, самого дядьку Водяного заткнешь за пояс. Его прогоним мы, ты же станешь нашим господином.
— Ну, так пойдем, пойдем, не медли! Уложим тебя мы на постель из водорослей, из мягкой тины. Как сладко ты будешь почивать!
Завороженный речью дев, Владигор поднялся, за плечи обеих обнимая, опираясь на них, шагнул в воду, преисполненный радостью:
«Вот, красивым называют, женами моими предлагают быть. Выходит, не страшен я им. И кто говорил, что я уродлив? Нет, я красивый!»
В озеро смело шагнул он, в сапоги мигом натекла вода, но чем глубже погружался в воду, тем спокойнее становились его мысли.
«Да кто же это? — уже пугался он того, что происходит с ним. — Что за девы? Русалки, что ли?»
— Эй, остановитесь! — закричал он, когда вода ему уже до подбородка дошла. — Куда вы меня ведете? Кто вы? Кикиморы? Русалки?
— Да что тебе за разница, кто мы такие? — пел ему прямо в ухо дивный голос. — Иди, иди с нами. Девы мы озерные, ты же станешь нашим озерным мужем. Ну, смелей, смелей!
Но остановился Владигор, находясь в воде по шею. Будто кто-то свыше дал приказ — дальше ни шагу. Девы же, плавая вокруг него, все уговаривали его, обещая блаженство, которое ни с кем бы не сумел изведать он. Но, увидев, что тщетны уговоры их, вдруг разом обхватили его за голову, за шею, ногами гибкими обвили его ноги, стали тянуть под воду и еще кричали:
— Сестры, сестры! Скорее к нам плывите! Уходит от нас гость желанный, не хочет быть нам супругом!
Вода озерная стала уж в горло, в нос Владигору попадать. Еще б минуту, и захлебнулся бы он совсем, но сила необыкновенная рук его воспротивилась погибели. Стал он, как пиявок, отдирать озерных дев от своего тела, но наседали они, за волосы его хватали, за руки, за ноги. Тут уж не на шутку рассвирепел он. Баламутя воду, отшвыривал от себя зеленых дев, ломая шеи им, хребты, и вой поднялся страшный над всем озером ночным.
Но вот вспучилась вода, забурлила. Нечто зеленое, как камень-валун, покрытый мхом, над водою показалось. Голова ужасная, жабья, с усами, как у сома, с рачьими громадными глазами! Руки с перепонками между пальцев по воде шлепали! Приблизился Водяной к месту, где Владигор от дев озерных отбивался.
— Наш ты, наш! — разевая широкий жабий рот, басил Водяной, вылупив на Владигора страшные глаза. — Не уйдешь от нас, любезный, ибо красивей всех людей ты, и станешь мужем дочерей моих!
Из последних сил рванувшись, освободился наконец Владигор от объятий дочек Водяного, выбрался на берег, выхватил из ножен меч свой, что прислонен был к деревцу, под которым прикорнул он, и только стало выходить из воды чудо озерное, все в тине, с раками, вцепившимися в его бугорчатую кожу, с пиявками, присосавшимися к телу его, рубанул со всего размаху мечом по жабьей морде Владигор, и брызнула из жабьей головы гниль болотная, зловонная, замарав с головы до ног Владигора. Разведя в стороны перепончатые лапы, рухнуло чудище в воду и больше не шевелилось.
Владигор, с брезгливостью глядя на плавающие в воде тела зеленых дев, на тушу водяного, даже мыться в этом озере не стал. Быстро собрал свои пожитки, взял оружие да и побрел дальше. И долго еще мучил его вопрос: «Так неужели ж стал я так похож на всю эту лесную нечисть, что за своего принимают они меня? Но ведь я же человек, с душою человеческой, с желанием творить добро. Ах, как несправедливо обошлись со мною!»
Но тут же утешил себя Владигор мыслью, что даже с уродливым лицом он всем сможет доказать и делами подтвердить право на жизнь среди людей и тогда его полюбят, невзирая на уродство.
Отмылся он от зловонной слизи в чистом и холодном ручье и при свете восходящего солнца вышел из леса на большой сжатый луг. Вдалеке увидел он дымки, поднимающиеся из труб, — то ли большая деревня, то ли небольшое городище. Подошел ближе — догадался: так и есть, городище, стоит на мысу, омываемом неширокой речкой. Высокий частокол, вал, ров, но крепкие ворота отворены настежь. Не успел войти, как услышал громкий плач.
На площади собрались, вероятно, все жители городища. Они толпились вокруг какой-то женщины, которая кричала:
— Доченька ты моя-а-а! Дитятко родное-е-е! Нет уж у меня ребеночка, единственный был! Загрыз его волк лютый, беспощадный! И не найдется-то на него управы-ы-ы! И не сыщется-то на него копья-а-а! И не заточен-то на него острый меч! Нет на волка того каленой стрелы-ы-ы!
Так кричала, даже выла женщина, и Владигор протиснулся к ней поближе. Женщина стояла на коленях, лицо ее было исцарапано, она воздевала руки к небу и то принималась рвать распущенные свои волосы, то наклонялась над девочкой лет десяти, голова которой лежала у нее на коленях. Шея девочки истерзана была то ли чьими-то зубами, то ли ножом, губы запеклись, а глаза закрыты. Бабы и мужики, глядя на нее, вздыхали, утирали слезы, безнадежно махали рукой.
— Что с девочкой? — спросил Владигор, спросил так, будто право имел спрашивать, и все, кто был рядом, почувствовали, что этот безобразный с виду человек, неведомо откуда появившийся, не простого происхождения.
— Волк, волк ее загрыз, не видишь, что ли?! — закричала женщина, обезумевшая от горя. — Ночью проснулась я, — одна живу, муж бортничать пошел, — слышу, хрипит, урчит, над постелькой дочурки моей взгромоздился, а она уж и голоса не подает! Заорала я, кочергу схватила, бросилась на волка, а он, зубами щелкнув, в угол — прыг да и был таков!
— Да как же он в дом-то твой залез? — удивился Владигор.
В разговор вмешался степенный, серьезный, видно, пользующийся общим уважением мужчина:
— Господин, не первый уж раз волк этот к нам приходит. Пятерых загрыз, все больше малых ребяток убивает. В дома же пролезает вот как: лапами, зубами ли подрывает землю под нижним венцом избы или даже бревно выгрызает, вот и проникает в покой.
Владигор нагнулся над трупом ребенка, присмотрелся к ранам. И впрямь — следы зубов на нежной шейке проступали явственно, но странным показалось Владигору, что не насытиться хотел он мясом жертвы, а просто убивал ее, прокусывая шею.
— Что ж, и все другие так же убиты были? — спросил у мужика. — Не пожирал их разве зверь?
Житель городища отрицательно головой покачал:
— Нет, только перекусывал им шею, будто и вовсе не голодный был.
Как мог утешил Владигор рыдающую над трупом дочери поселянку. Уже горел он желанием людям этим помочь во что бы то ни стало.
Тут молодец один, лет двадцати, красивый, щеголеватый, в расшитой узорами рубахе, помахивая концом пояска нарядного, что перетягивал его стройный стан, к Владигору подошел, сказал с улыбкой:
— Витязь, извини великодушно, имени твоего не знаю, тут вот какая закавыка, о ней все в городище знают, да токмо тебе, неведомо откуда сюда забредшему, не всякий скажет…
— Ну говори! — потребовал Владигор, не желая проволочек.
Молодец, уловив властные интонации в голосе незнакомца, скороговоркой заговорил:
— Господин, три раза луна меняла облик свой с тех пор, как община выгнала из городища Криву-бочара. Дознались, что Крива пытался осквернить одну из жен, всеми чтимую Рогану. Она сама, когда собрался круг, это подтвердила. По законам нашим Криву следовало забить камнями, но заступились за него старейшины, и бочар был просто изгнан. Теперь живет он в лесной избушке, четверть дня ходьбы от городища…
— Ну и что с того? Речи твои темными мне кажутся! — перебил Владигор рассказчика.
— Нет, постой, не торопи! — оглядывался по сторонам молодец. — Приметили уж некоторые, что волчьи следы, те самые, которые потом встречаются у лазов, им прорытых, начинаются от той тропинки, что ведет к избушке Кривы-бочара.
Догадка мелькнула в уме Владигора. Хотел он было спросить у парня, уж не оборотень ли этот самый Крива, но не решился. Только и попросил показать тропинку ту, что от городища ведет к избушке Кривы, что молодец охотно сделал, попутно рассказывая:
— Не знаю, господин, как ты с волком этим управишься. Говорят, он такой огромный, что и пять наших мужиков с рогатинами побоялись бы с ним схватиться.
— Ладно, ступай, — сказал парню Владигор, но тотчас остановил его: — Послушай, а если он прошлой ночью в городище приходил, когда его ждать снова, не знаешь?
Парень в задумчивости головою покачал:
— Верно, дней через семь он к нам придет, так уж повелось. А может, раньше… Он мне о своих приходах в городище знак не дает. — И рассмеялся, довольный шуткой, потом, на Владигора внимательно взглянув, пошмыгал носом и сказал: — Ты, господин, прости — такая харя у тебя, что сам волк испугается. Мню, победишь ты его! — Снова захохотал и, помахивая концом нарядного пояса, пошел восвояси.
Не стал Владигор на парня сердиться. Весь он уже горел желанием найти волка-детоубийцу и уничтожить его, чтобы спокойно спали люди в этой деревне. Чувствовал Владигор, что добрые поступки облагородят его внешность и уродство исчезнет, если светлее и чище от добрых дел станет душа.
Владигор начал изучать волчьи следы возле дома, где нынче ночью волк побывал. И впрямь увидел прорытый им лаз: нижнее бревно острыми зубами было прогрызено едва ль не до половины, точно бобры трудились.
Держа самострел на плече, пригибаясь, подошел Владигор к частоколу. Бревна заостренные, впритык друг к другу врытые, хорошенько рассмотрел и ни единой даже царапины от когтей не заметил.
«Неужели волк перемахнул через частокол? — изумился Владигор. — Какого же он роста должен быть?»
Перелез через палисадник и снова следы увидел. Теперь уж пошел по ним, но чуть-чуть в сторонке, чтобы волку охоту не перебить в следующий раз идти старым своим путем. Вот уж и тропинка, что парень указал. Вела она, по его словам, к избушке изгнанного из городища Кривы-бочара. Удивлялся Владигор, каким огромным был след — едва ль не с конское копыто. Долго шел по лесу, наконец почуял запах дыма.
Стал осторожнее, пошел медленнее, не забывая на следы смотреть. На полянке избушка неказистая стояла, без трубы, топившаяся, видать, по-черному. Дверь распахнута была, и чад очага из нее валил. Приметил Владигор, что как-то странно стали петлять волчьи следы, будто кружился зверь на одном месте, и тут же виднелись следы сапог, словно человек боролся с волком и натоптали они тут вместе, а ближе к избушке уж вовсе не видно было волчьих следов.
Притаился Владигор, стал из-за кустов наблюдать за домом, из которого слышалось бряканье посуды и чье-то негромкое пение. Долго ждал, но наконец дождался. На порог вышел невзрачный с виду человек с ушатом, помои вынес, выплеснул их прямо у входа в дом, назад вернулся, и подумал Владигор: «Неужто этот мозгляк плюгавый, гриб-сморчок может превращаться в волка? Нет, что-то здесь не то. Не оборотень он. А может, держит волка у себя, приручил его да и посылает по ночам душить детей?»
Вдоль тропинки лесом пошел он в городище, дорогой думая, как бы того волка изловить. Вырыть яму? Силок поставить? С мечом возле тропы сидеть? Наконец придумал. В городище купил крепких сыромятных ремешков, провизией запасся, не обращая внимания на недоброжелательные взгляды жителей, — некоторые не могли сдержать гримасы отвращения. Никому не говорил Владигор о цели своего пребывания в городище.
Снова отправился он на тропу, что вела к жилищу Кривы-бочара. Вначале поставил свой шатерчик, утвердив его на шесте высоком. Ветками и сучьями обложил его, чтобы со стороны тропы не так заметен был. После мечом срубил осинку, вырезал колышки и вкопал их в землю в двух шагах от тропки, за жиденьким ореховым кустом. Самострел на колышках пристроил так, чтобы стоял неподвижно на расстоянии в локоть от земли и чтобы пущенная им стрела угодила прямо в голову или брюхо волка. Когда начало темнеть, взвел тетиву самострела, на ложе стрелу уложил, а к спусковому крючку привязал тонкую, но крепкую бечевку, перекинул ее через тропу и на другой стороне привязал к стволу березы, — всякий, кто коснулся бы бечевки, немедленно был бы пронзен стрелой. Но человеку, если тот вздумал бы ночью по тропе гулять, стрела только в ногу бы угодила, волка же сразила бы насмерть…
Но ни в первую, ни во вторую, ни даже в третью ночь никто не прошел по тропе. Владигор терпеливо ждал, сидя в своем шатре. Днем снимал бечевку, опасаясь, что кто-нибудь из случайных путников наткнется на нее и будет пронзен стрелой, а вечером вновь натягивал ее с упорством охотника, желающего во что бы то ни стало ценной дичью завладеть. С мечом и ремнями наготове не спал, прислушиваясь к каждому шороху лесному.
Но прошла еще одна ночь, минул еще один день, и все больше беспокоился Владигор, что не там устроил он засаду, что волк, учуяв его присутствие, другой дорогой побежит в городище, в обход, а он, как охотник-недотепа, останется ни с чем.
Настала пятая ночь. Небо тучами затянуло, луны не видно было, и дождь накрапывал, стучал по натянутой холстине шатра, мешая слушать звуки леса. Но дыхание бегущего зверя и тихие удары тяжелых лап о землю Владигор все-таки услышал. Приближались эти звуки, слышнее становились. Волнуясь, Владигор взял в руки ремни, чуть полог шатра приоткрыл. Вдруг хлопок самодельной тетивы раздался, а вслед за ним и страшный волчий вой.
Бросился он из шатра на тропку, на которой, корчась от боли, каталось, дрыгало что-то черное, огромное. По лязгу зубов определил, где морда волка, тотчас на нее накинул кожаную петлю и сразу затянул покрепче. После ремнями стянул лапы волчьи, и вот уж неподвижно волк лежал на дороге. Провел рукой по шкуре его густой и от крови липкой, стрелу нащупал, что угодила волку прямо в шею. Вынимать ее не стал, поднял зверя и положил его себе на плечи, а сердце так от радости и билось, и не от охотничьей радости, а от предчувствия, что скоро, как только в городище вернется, все его полюбят и назовут спасителем, героем.
Шел долго по узкой ночной тропинке, и казалось ему, что все тяжелее становится его ноша, чудилось, что и не лохматится под руками волчья шкура, будто глаже она стала. Вот наконец к воротам городища подошел. По времени ночному были заперты они, но не хотелось Владигору дожидаться, покуда стража отворит ворота в положенное время. Закричал:
— Эй, лентяи, отворяйте! Волка вам принес, который детей ваших кусал!
Возглас этот был услышан тотчас. Ворота заскрипели, отворились. На площади, где жители обычно собирались, замелькали факелы. Все, несмотря на время ночное, возбужденно и радостно кричали, передавая один другому радостную весть. На площадь стали сбегаться обитатели городища с криками:
— Где? Где волк?!
— Кто его убил?
— А, говорят, тот пришлый витязь, с уродливым лицом, страшила!
Владигор, все эти разговоры слыша, не обижался. Ношу свою на землю не опускал, так и держал на плечах ее, а когда обступил его народ, сказал, гордясь собственным успехом:
— Вот, горожане, зверь, который ваших детей губил!
Но смотрели люди на тело, которое опустил он на землю, не с ненавистью, а с какой-то жалостью, с сочувствием. Вырвав факел из рук стоящего рядом человека, приблизил пламя к телу, — не волк, а человек это был! Руки и ноги стянуты ремнями, кожаная петля охватывала от подбородка до темени голову, из-под мышки стрела торчала, кровь сочилась оттуда.
— Да это же Крива-бочар! — воскликнул кто-то.
— Ну точно Крива! — подтвердил другой. — Неужто он и есть тот волк?
Народ, разглядывая лежащего на земле жителя городища, хоть и изгнанного, но совсем не заслуживавшего казни, недоверчиво покачивал головой:
— Да нет, ну куда там Криве волком быть! Хлипкий он такой, откуда у него силы по домам в волчьем обличье шастать да детей кусать!
— Настоящего надобно искать волка, а при чем здесь Крива-бочар?
Владигор, слушая все эти разговоры и не умея сдержать раздражения, закричал:
— Следы волка до самой избушки Кривы этого шли! Много следов! Часто волк от дома Кривы в городище бегал, а после снова возвращался. Я же на полпути от его избушки к городищу засаду устроил, самострел зарядил, протянул бечевку, пять ночей караулил, и вот сегодня наткнулся волк, бежавший в ваше городище, на ту бечевку, самострел стрелу пустил — вот она торчит! Связал я лапы волку, морду ему петлей стянул, чтобы не кусался, на себя его взвалил да и понес. Сам не понимаю, как он дорогой в человека превратился, но не иначе как оборотнем был ваш бочар!
Но горячая речь Владигора всех равнодушными оставила. С сочувствием смотрели все на Криву, кто-то нагнулся, петлю снял с головы его, знахарь местный стрелу вытащил, тут же на рану наложил холщовую повязку. Бочар был жив, только тяжело дышал, и слышалось Владигору в его дыхании хрипение волка, которого тащил он на плечах своих.
Зашевелились губы раненого бочара:
— Не… я… это он — обо-ро-тень, тот, кто меня… убил… На… ли-цо… его смот-ри-те…
Сказал — и умер, так и застыв с открытым ртом. А жители городища на Владигора уставились в страхе. Всем казалось, что человек с таким лицом и не может не быть убийцей.
Мужик чернобородый, тот самый, что пользовался уважением у горожан, строго проговорил:
— Вот что, витязь! Откуда ты пришел сюда и зачем, нам неведомо! В наши дела соваться мы тебя не просили. Думаешь, у нас нет мужей, способных мечом и копьем владеть? Влез ты не в свое дело, вот и получилось… — На мертвого Криву показал. — Ступай, откуда пришел, там верши суд и чини расправу, а мы по своим законам живем, и ты мешать нам не смеешь. К тому же… — усмехнулся он, — рожей ты малость не вышел. Уходи от нас!
Владигор слушал его и не верил ушам своим. Он ждал от людей благодарности за то, что избавил их селение от оборотня, убивавшего их детей, они же не только не хотели благодарить его, но и обвиняли в убийстве соплеменника. И догадывался Владигор, что не верят они в добрые намерения его только потому, что он был уродом.
— Да поверьте же вы мне! — вдруг прокричал Владигор протяжно и хрипло, как зверь, попавший в яму охотника. — Поверьте! Я такой же, как вы, зачем же гоните меня?! Я готов служить вам, охранять ваше городище! Вот подстрелил я сегодня огромного волка, а он превратился в человека! Кому поверили вы? Оборотню этому, обозлившемуся на всех вас за то, что изгнали его? Жалеете его? Не надо его жалеть! Выройте яму поглубже, бросьте в нее проклятого, вгоните в грудь его кол осиновый, тогда не будет больше к вам ходить! Не сделаете этого, по ночам вурдалаком к вам являться станет, кровь вашу начнет сосать, вот тогда попомните меня! Лицо мое вас смутило! А про душу-то вы забыли? Другая она, не похожая на лицо.
Молчание, воцарившееся на площади, нарушил голос женщины. Говорила та самая мать, что пять дней назад оплакивала убитую волком дочку:
— Не может такого быть, чтобы при уродливом лице душа доброй была! Уходи от нас, сами с волком справимся, а ежели ты останешься у нас, то еще больше горя хлебнем!
— Уходи!
— Прочь отсюда!
— Не нужен ты нам такой! — раздавались со всех сторон гневные восклицания, иные горожане даже размахивали кулаками. Владигор же, побледнев от внезапного осознания, что он и впрямь не такой, как все, и никакими добрыми делами не вернуть ему любовь и доверие подданных своих, низко опустив на грудь голову, стараясь не глядеть на гневные лица жителей городища, побрел к воротам. Двинулся в сторону леса по той самой тропе, откуда недавно шел с волком на плечах.
Войдя в лес, он упал на колени, точно пригнула его к земле неведомая сила. Громкий крик вырвался из его горла:
— А-а-а-а! Отец мой Сварог! Перун Громовержец! Мокошь, Мать родная! Зачем вы позволили злым силам сделать меня таким? Почему допустили, что стал не нужен я никому? Что ж, проклясть мне вас, возненавидеть?! Нет, не сделаю я этого, хоть и нет на свете человека несчастней меня! Нет, не прокляну я вас, но лишь себя, уродство свое проклинаю!
Он достал из ножен кинжал, пальцем кончик потрогал — острый, как шило. К большой сосне подошел. Вначале ладонью провел по шершавой теплой коре. После кольчугу, рубаху задрал, рукоять кинжала в ствол дерева упер, на острие кинжала грудью навалился — хотел, чтобы вошел клинок в грудь в том месте, где билось сердце его. Почувствовал, как кровь полилась тонкой струйкой.
«Ну еще немного, ну чуть-чуть надавить, и кончатся все страдания мои! Ну что ж ты медлишь, Владигор? Или боишься?» — так говорил он себе. Еще мгновение, и вошел бы острый кинжал в его грудь, пронзив сердце, так любившее людей. Но тут новая мысль пришла ему в голову. И закричал от злой радости Владигор, и опустил кольчугу, и вложил кинжал в ножны. Весело пошел он по тропке туда, где был шатер его, где оставил самострел, и теперь, как никогда в жизни, необыкновенно остро ощущал он все запахи лесные, чуял, как где-то вдалеке прилегли на ночлег три лося, как где-то справа зарылся в палую листву кабан, по запаху находил и волчьи следы, по которым шел, и сладостным, каким-то родным и близким казался Владигору этот запах. Хотелось ему опуститься на четвереньки и побежать по тропке, подобно волку, и так хорошо было на душе его, будто новый мир перед ним открылся, мир диких зверей, таких понятных ему теперь.
Шатер скрутил в плотный сверток, самострел собрал, стрелы и вперед пошел. Добрел до избушки, в которой жил Крива-бочар. Кроны деревьев уже порозовели от солнечных лучей. Отворил он дверь. Все здесь было как в обычном бедном доме: очаг без дымохода, оконце выдвижное, лавка для сидения и для сна, покрытая шкурой — волчьей, рассмотрел. Грубый стол, полка с нехитрой глиняной посудой.
«Здесь буду жить! — с радостью подумал Владигор, садясь на лавку и вытягивая уставшие от ходьбы ноги. — Криву собою заменю! Его изгнали, и меня изгнали тоже. Его за дела срамные, меня — за убийство. Выходит, я его страшнее?»
Такие мысли мучили Владигора, когда вдруг почувствовал он, что неудобно ему сидеть на лавке. Встал, лег на пол возле лавки. Лежа на боку, согнул спину, голову положил на руки, вытянутые вперед, лежавшие вниз ладонями. Все шорохи лесные слышал, хоть и казалось ему, что спал он. Вспоминал отца и мать, Любаву и Бадягу, Грунлафа и Кудруну, но ни одно из лиц, что всплывали в памяти его, не вызывали уже в нем ни любви, ни даже сочувствия.
На четвереньках вышел на порог, дверь была открыта. Подняв голову и вытянув трубочкой губы страшные свои, завыл он по-волчьи, жалея себя, прощаясь со всем человеческим, что еще оставалось в нем, но что не желали признавать те люди, к добросердечию которых он этой ночью тщетно взывал.
Часть третья ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛИЦА
1. Кудруна, кол осиновый и волк
Вначале Крас и Хормут делали вид, что относятся к Любаве с почтением. Кланялись, встречая ее в коридорах дворца. Но уже через несколько дней после отъезда Владигора борейцы недвусмысленно дали ей понять, что они здесь, в Ладоре, хозяева и не намерены ни в чем считаться с сестрой того, кто пропал без вести, будучи, по слухам, испорчен каким-то чародеем настолько, что ни родные, ни приближенные не могут признать в уроде прежнего властелина Синегорья.
Любаву отстранили от всех государственных дел. Дворец заполнили борейские воины, не желающие признавать ее правительницей. С утра до ночи упражнялись они на подворье в бое на мечах, стреляли в цель из самострелов, причем день ото дня все лучше и лучше. Понимала Любава: участь Ладора предрешена, равно как и сочтены месяцы, а может быть, и недели, и дни ее пребывания во дворце. Синегорье, не сделав ни единой попытки хоть как-то защитить себя, пало под натиском борейцев, натиском бескровным, но не менее губительным, чем в те времена, когда на поле брани выходили против них рати синегорцев и один лишь Перун решал, кто победит.
Вначале Любава пыталась спрашивать у Краса, у Хормута, с какой стати дворец заполнили борейские воины и каким образом попало им в руки секретное оружие Владигора. Крас с обычной своей издевательской усмешкой отвечал:
— Государыня, а разве могло быть иначе? Посуди сама, ладорцы отказались признать уродливого Владигора своим правителем, прогнали его. Уверен, такая же участь постигла бы и тебя. Вот я и решил пополнить твою дружину новыми силами. О, взгляни! Все эти воины прекрасно обучены! А как они любят тебя! Если, паче чаяния, во дворец ворвется чернь, они тотчас займут места у бойниц и любое нападение будет отбито. О Любава, положись на меня! Теперь Борея, где самым могущественным является князь игов, благороднейший Грунлаф, породнилась с Синегорьем. Так чего же тебе, Любава, так беспокоиться? Мир, вечный мир будет результатом брака Владигора и Кудруны!
Любава не верила ни единому слову Краса, но что могла она сделать одна в Ладоре? Жители и к ней самой относились недоверчиво с тех пор, как она перед всем честным народом пыталась представить урода своим братом, князем Владигором. Даже если бы попыталась дочь Светозора тайно собрать людей, способных подняться против поселившихся во дворце борейцев, немногие пошли бы за ней. В столице бродили слухи, что княжна Любава служит борейцам, исконным врагам Синегорья, которые готовят что-то страшное и непотребное для всего Ладора, Кудруна же, объявленная правительницей, по молодости лет в управлении делами государства ничего не смыслит, и правят за нее советники Грунлафа, Крас да Хормут.
Уныние и тоска повисли над Ладором, как тяжелые, готовые пролиться дождем облака, и не было в сердцах ладорцев ни радости, ни надежды. Собираясь на базарах, кляли они тех, кто изгнал урода Владигора. Им казалось, что пусть бы правил ими человек с уродливым лицом, но с именем Владигора, чем повелевали б ими приспешники борейцев.
Любава невестку свою Кудруну уже ненавидела, понимая, что девушку выдали за обезображенного брата и привезли в Ладор для того, чтобы от ее имени управлять всем Синегорьем. Однажды, улучив момент, проникла Любава в горницу Кудруны, дозволения не спрашивая у прислужниц. Увидела она княгиню с пяльцами в руках, сидела девушка близ оконца и вышивала.
— Над чем трудишься, княгиня? — подойдя к Кудруне, спросила Любава.
Дочь Грунлафа посмотрела на золовку затравленно, сказала просительно:
— Ах, сестрица, не называй ты меня княгиней! Ну какая я княгиня? Так, название одно! А вышиваю я рубашку для Владигора.
— Да, недурно получается, — с ненавистью взглянула на вышивку Любава, не веря в искренность Кудруны. — Думаешь, вернется Владигор?
— Вернется, обязательно вернется! — уверенно произнесла Кудруна.
— Да нет, вряд ли. Что ему здесь делать? Прогнал его народ, а Владигор гордый. Ты-то вот, я слышала, и не пыталась удержать его. Да и как тебя винить? Разве таких уродов любят?
Кудруна зарделась. Ей было неприятно слышать такие слова от сестры супруга. Не говорила никому Кудруна, что давно уж к человеку, с которым ее свела судьба, она на самом деле питает чувства очень нежные. Видела Кудруна, как страдает Владигор от уродства своего, и хотела приласкать его, утешить, да не успела: ушел он, а куда ушел, никто не знал.
— Не поверишь ты, Любава, — тихо молвила Кудруна, и на глазах ее блеснули слезы, — но я брата твоего… люблю и… жалею его очень. Вот если б разыскать его…
Но Любава Кудруне не дала договорить. Пяльцы с вышивкой вырвала из рук невестки, швырнула их в угол горницы. Вся пылая гневом, заговорила:
— Да врешь ты все, стерва борейская! Твоим бы языком да патоку лизать! Знаю, что затем вы с отцом Владигора зазвали в Пустень, чтобы на тебе оженить, испортив перед этим его лицо! Знал твой отец, что тебе одной достанется все Синегорье, а Владигора с лицом дурным никто в Ладоре уж не примет — прогонит его народ. Чего же притворяешься? Ладно, радуйся, борейская змея, да только помни — час расплаты близок, не потерпит люд синегорский, чтобы ими борейцы, враги исконные, повелевали!
Сказала так и вышла, а Кудруна, давно уже сообразив, что стала орудием в руках своего отца и советников его, долго плакала. Девушка вовсе не стремилась к власти, она просто хотела быть верной и достойной женой Владигора, поэтому упреки Любавы были ей особенно обидны. Когда настала ночь, позвала Кудруна в горницу прислужницу, ту самую, с которой ехала из Пустеня в Ладор. Велела ей узелок собрать с одеждой, еды дня на три приготовить и на конюшне отдать приказ седлать двух лошадей.
— Куда же едешь, княгиня, на ночь глядя? — недоумевая, спросила прислужница.
— Еду мужа своего искать. Знаю, погибнет он без меня…
Голос правительницы Кудруны без труда отворил ворота как дворца, так и городские. Спросила Кудруна, легко и справно сидевшая в седле, у стражников, не помнят ли они, в какую сторону поскакал князь Владигор, или, чтобы поняли вернее, человек в личине. Указали Кудруне дорогу, и поскакала княгиня в сторону леса, что черною стеной на фоне густо-синего ночного неба возвышался. Но не было ей страшно, лишь о том думала, как тяжело сейчас Владигору, всеми на свете гонимому.
В деревеньку, стоявшую неподалеку от леса, насчитывавшую пять-шесть домов, Кудруна со своей служанкой въехала, как и Владигор, на утренней заре. Поселяне уже не спали и, заслышав топот копыт, вышли из избенок.
— Вот так-так! — удивлялись, обступив двух молодых наездниц. — Девки на конях, да еще в господских платьях! Ну и чудеса творятся на земле Синегорской с тех пор, как лишилась она князя!
— Видно, скоро бабы вместо нас пойдут, ежели война с борейцами начнется!
— Эх, не стало Владигора, вот и пошло все кувырком!
Кудруна, удерживая поводьями горячего коня, на крестьян взглянула строгим княжеским взглядом, сурово сдвинув брови, сказала:
— А ну-ка цыц, смерды! Не вам судить да рядить о делах государственных. Сказали бы лучше, не проезжал ли через деревню вашу витязь в личине!
Крестьяне переглянулись. Прогнав витязя, спасшего их жен и дочерей от продажи в рабство, они и сами понимали, что поступили с ним несправедливо.
И вот надо же, спонадобился он княжеского вида девицам. «Эге, — подумали крестьяне, — не вышло бы нам какой-нибудь неприятности за наше скверное поведение, потому что ведь называл себя тот витязь Владигором, изгнанным из собственной столицы». Стояли и молчали, покуда согнутый, как кочерга, старик не проскрипел, к Кудруне обращаясь:
— Госпожа, верно, проезжал недавно некий витязь через деревню нашу. Сильно к тому же он нам помог, порубив десятерых разбойников, которые женщин наших похитить хотели. Владигором-князем называл он себя, но, когда снял свою личину да открыл лицо нам свое, немало удивились мы, до того страшным оказалось оно, мочи не было на него смотреть. Не поверили мы, что Владигор он, синегорский князь, вот и прогнали, хоть и обещал он всей округе нашей быть надежнейшим защитником. Прости уж нас, умом обиженных. Токмо своим глазам и доверяем…
Кудруна вспыхнула: как могли прогнать эти люди человека, которого она любила за сердце его, за ум, за смелость? Не разглядели в нем все эти качества? Лишь уродливую внешность увидели!
Сказала с презрением:
— Истинно, слабы вы умом, крестьяне! Князя своего прогнали вы, ну так не сетуйте, ежели, как саранча, враги Синегорья на земли ваши налетят!
Молвила и хотела пришпорить коня, однако передумала и, натянув поводья, спросила:
— А в сторону какую поехал он?
Старец махнул рукой:
— Туда поехал. Вернее, пешим побрел — закололи разбойники под ним коня.
Хотел он еще что-то сказать Кудруне, но стук копыт слова его заглушил, и проводили крестьяне смущенными взглядами двух поскакавших прочь наездниц.
Где бы ни проезжала Кудруна со своей служанкой, нигде даже не слышали о витязе в личине, но однажды легло у них на пути пепелище. Вся деревня, домов десять, сгорела то ль по воле Перуна, молнией спалившего ее, то ль в результате каверзы людской, то ль по чьей-то неосторожности. Трубы в небо глядели черными глазницами дымоходов, повсюду обвалившиеся, обугленные бревна, стропила…
Спешившись, к крайнему дому подошла, по трескучим головешкам ступая, и дрогнуло от природы неробкое сердце ее: скрюченные, черные, как смоль, лежали здесь вповалку четыре трупа, среди которых даже маленький был мальчик. Отвращение преодолевая, присмотрелась к телам Кудруна, хоть девушка-служанка, от брезгливости изнемогая, тянула ее за рукав, умоляя скорее ехать дальше. Заметила Кудруна, что, прежде чем огонь коснулся тел, были изрублены мечом крестьяне эти, едва ли не располовинил каждого чей-то острый, жестокий, удальской клинок. Вдруг привлекло ее взгляд что-то ниткой пестрою расшитое. Наклонилась и вытащила из-под бревна часть обгоревшей личины, в которой сразу признала личину Владигора.
— Был здесь Владигор, был здесь мой муж! — воскликнула Кудруна и зарыдала.
Служанка взглянула на личину:
— Точно, его! Неужели… — и рот поспешно прикрыла ладонью, не желая причинить страдание госпоже предположением о гибели супруга ее.
Кудруна снова склонилась над телами, боясь признать в каком-нибудь из трупов тело Владигора, но никто из мертвых не походил ни ростом, ни сложением на ее супруга, и с облегчением вздохнула она, догадавшись, что меч, порубивший всех этих четырех, был Владигоровым.
«Только за что же он всех их посек? — думала Кудруна с тяжелым сердцем. — Даже женщин и ребенка не пощадил. Неужели стал он извергом, изуродован будучи чарами волшебника?»
После ходила она от дома к дому и везде натыкалась на обуглившиеся в огне тела, лежавшие под обгоревшими кровлями, стропилами и бревнами, и неотступно преследовала ее мысль: «Не Владигора ли это дело? Не он ли здесь бесчинствовал? Я-то думала, что Владигор — добрый и великодушный, а он, вероятнее всего, совсем не такой! Не может человек с безобразным лицом быть незлобивым и честным».
Дальше поехала Кудруна. День ехала, а ночью спала в лесу. Холодно уж было. Листва в лесах давно уж облетела, и стояли голыми и печальными деревья, ожидая, что скоро украсятся они другим нарядом, белым и пушистым. Только тем и спаслись в ту ночь Кудруна с прислужницей, что непрестанно подбрасывали сучья в большой, жарко пылающий костер.
На следующий день, выехав из леса, городище увидели они. Въехали в ворота и на площади толпу застали. Причитали, выли женщины, мужчины, на копья опираясь, ждали чьего-то знака — все напряжено было в лицах их и позах.
— Что у вас случилось? — спросила Кудруна, не покидая седла.
С искаженным от страдания лицом, шатаясь, подошел к ней чернобородый осанистый мужик:
— Госпожа, нет мочи говорить! Никак не изловим мы волка, кусающего до смерти детей наших.
Был тут недавно один пришелец, чужак, вызвался было волка того убить, а вместо этого нашего жителя убил, Криву-бочара. Пришелец тот таким уродливым был, что просто страх. И вот сказал он, что на лесной тропе волка застрелил, а после, когда в городище на спине его принес, оказалось — Крива! Прогнали мы того урода, и поселился он, говорят, в лесной избушке, где Крива раньше жил. Уходя от нас, оборотнем Криву назвал и советовал кол осиновый в грудь мертвецу вогнать. Не послушались мы его и Криву похоронили как всех прочих, по обычаю. Но волк сегодня снова к нам пришел и… — не смог сдержаться чернобородый, сморщился, слезы заструились по щекам, — и сына моего, Климушку, задушил, прямо в избе и задушил!
Захлебнулся мужик рыданиями, на корточки присел, голову обхватил руками, а толпа, от всего сердца сочувствуя горю отца и понимая, что с каждым может случиться беда такая, заволновалась:
— Сейчас идем! Поднимем урода на копья!
— Мечами его на мелкие куски изрубим!
— Тело его поганое предадим огню, а прах по ветру пустим! Идем, идем рубить урода!
Кудруна поняла, что речь идет о Владигоре и жители городища решительно настроены сотворить задуманное. Гарцуя между ними на скакуне своем, по-княжески властно закричала, поднимая руку:
— Властительницу Синегорья Кудруну видите вы, супругу Владигора! Уймитесь! Не ведаете вы, что тот урод — это князь синегорский, Владигор, и если уж советовал он вам кол осиновый в грудь оборотню вогнать, так послушать вы его должны бы были! Не урода Владигора вы должны поднимать на копья, а идти сейчас к могиле Кривы вашего да и посмотреть, как он там лежит! Если спокойно тело, недвижно, то думать нужно, как волка изловить! А поднимать на копья князя, крошить его мечами — это преступление, за которое дружина, мною из Ладора вызванная, все городище ваше предаст огню, а вас, бесстыдников да ослушников, сказнит без всякой милости!
Впервые в жизни Кудруна говорила с народом так властно, так жестоко, такими карами грозила. Но не видела девушка иного способа усмирить разъяренную толпу, собравшуюся убить ее любимого супруга. И строгость ее слов многих отрезвила. Волк, детей кусавший, не казался горожанам столь страшным, как дружина, присланная из Ладора, чтобы всех их казнить.
— А что, и впрямь надо бы на Криву поглядеть… — робко высказался кто-то.
— Дело говоришь, — отозвался другой, — пойдем, разроем его могилу. Ведь и до появления в наших краях урода… Владигора то есть, бегал же волк по городищу.
Народ зашевелился. Послали за лопатами, и скоро принесли не меньше полудюжины деревянных лопат, железом обитых по острой рабочей кромке. Тотчас пошли к могиле Кривы-бочара, которого похоронили там же, где хоронили всех умерших горожан, близ рощи липовой, на холме, за валом. Когда же разрыли землю, уже разрыхленную какую-то, встревоженную кем-то, увидели все, что покойник не в пеленах лежит, как хоронили всех, а нагой, и не на спине, а ничком, уткнувшись носом в землю.
— Да кто же его могилу-то переворошил? — шептали озадаченные горожане.
Кудруна, заглянув в яму, вокруг которой сгрудились не знавшие что и сказать горожане, приказала:
— Переверните его навзничь!
Охотников прикасаться к мертвецу вначале не нашлось, но, боясь, что разгневается княгиня, все ж таки перевернули его на спину, и тут возглас ужаса раздался, мигом из могилы вылезли те, кто переворачивал тело. Увидели все, что изо рта покойника волчьи клыки торчат.
— Ну, чего еще надобно, чем вас еще убедить?! — торжествующе проговорила Кудруна. — Живее кол осиновый несите! Больше не станет оборотень к вам ходить! — И прибавила: — А витязя, князя вашего, лишь за одно его лицо жизни лишить хотели! Эх, бесстыжие!
Горожане заторопились исполнять волю княгини. Застучал в роще топор, с шумом на землю повалилась осинка молодая. Заострили кол так усердно, что, когда кузнец по прозвищу Бугай, поплевав на руки да хорошенько размахнувшись, вонзил его в грудь оборотня, кол в землю глубоко вошел за Кривиной спиной. И выгнулось тело, и пробежала по нему дрожь, и лязгнули волчьи клыки, и рык раздался, глухой, утробный, и не шевелился больше мертвец. Забросали землей могилу, хорошо ногами утоптали и навалили на нее валун огромный. После же кланялись Кудруне:
— Спасибо, матушка правительница!
— Видим теперь, кто был виноват!
— Чуть было крови невинной не пролили, за одно лишь уродство человека невинного сказнить хотели!
Нашлись охотники проводить княгиню к лесной избушке, где жил изгнанный из городища Владигор.
Но Кудруна лишь попросила указать дорогу и в сопровождении служанки, давно уж ставшей ей подругой, поехала туда.
Когда конь ее вышел на поляну, где стоял неказистый домик, крытый лыком, сказала служанке, спрыгивая с седла, Кудруна:
— Здесь обожди меня, — и, предчувствуя еще более страшную беду, чем та, что уже случилась с Владигором, робея, на порог взошла. Дверь приоткрыта, повсюду кости, начисто обглоданные, вонь, грязь. Когда глаза Кудруны к темноте привыкли, увидела она: кто-то в углу затаился. Пригляделась — это был Владигор без личины. Шагнула к нему — зарычал с угрозой. Не просто уродлив был он, а страшен в уродстве своем: оборванный и грязный, стоял он на четвереньках, куча обглоданных костей перед ним лежала.
— Владигор! Владигор, мой милый! — протягивая руки к звероподобному существу, воскликнула Кудруна.
Владигор зарычал, не узнавая Кудруны, волосы вздыбились на его голове, как шерсть на звере. Но девушка уже подавила в себе страх и отвращение. Жалость, нежность и любовь к этому потерявшему привычный облик человеку овладели ею сейчас.
Она присела на корточки рядом с ним, обняла его за шею, привлекла к груди безобразную голову, и затрясся в рыданиях Владигор, и слезы полились из глаз его.
— Милый мой супруг, — шептала Кудруна, гладя его жесткие, как шерсть волка, волосы, — поедем со мной в Ладор, там тебя признают, там ты снова будешь князем, а я твоей верной женой. Поедем, у меня есть конь! Ты въедешь в Ладор правителем. А личину больше не надевай. Все полюбят тебя таким, какой ты есть, потому что ты храбрый, ты защитник и отец своего народа!
Так говорила Кудруна, и Владигор, перестав плакать, слушал ее, жадно глядя в ее глаза. Потом, с трудом ворочая языком, сказал:
— Нет… не в Ладор… таким туда я не… приду. В горы со мной… пойдем. Там, в чистых водах… горных потоков… увидишь ты… настоящее мое… лицо. Горы мне… покровительствуют…
Кудруна с помощью служанки принесла воды из ближайшего ручья. Они сняли с Владигора одежду, и Кудруна впервые увидела его нагое тело, но не было смущения в глазах ее. Матерью она была сейчас этого большого несчастного ребенка. Она омыла его чистой ключевой водой, уложила в постель, укрыла привезенной с собой одеждой, и, покуда просыхало его платье, она сидела с Владигором рядом, держа в своих руках его большую руку. Он скоро перестал лицо прятать от ее взгляда, и мягкое, спокойное выражение, вызванное чувством Кудруны, хотя и не сделало это лицо менее уродливым, но зато пролило на него свет человечности и доброты.
2. Гнев Любавы
В ту же ночь, когда Кудруна оставила Ладор, уехала из столицы Синегорья и княжна Любава. Она отобрала самых лучших скакунов для двадцати верных Синегорью воинов, готовых хоть сейчас погибнуть в неравной схватке с ненавистными борейцами. Воины эти входили когда-то в княжескую дружину, но теперь, когда дворец был полностью в руках борейцев, они остались не у дел и часто жаловались Любаве на свое незавидное положение, грозились даже уехать на службу хотя бы в Венедию или Ладанею, но Любава умолила их остаться — без них она была бы точно лягушка в муравейнике рыжих лесных муравьев. И воины остались, хоть и подвергались едва ли не ежедневно насмешкам борейцев. Но в эту ночь поняли они, что и им нашлось дело.
С четырьмя прислужниками, тоже хорошо владевшими мечом, копьем и луком, и с двадцатью облаченными в брони, на прекрасных выносливых конях дружинниками, радовавшимися тому, что обожаемая их повелительница наконец решилась на что-то важное, выехала Любава из Ладора. Но когда один из дружинников, уже седеющий и многоопытный в боях Прободей, осторожно спросил у нее, куда держат путь они, Любава резко ответила ему, даже головы не повернув:
— Не твоего ума дело, Прободейка! Не хочешь ехать, возвращайся в Ладор. Без тебя управимся!
И понял Прободей, что уж если обычно смирная и негневливая княжна так вспылила, то дело, на которое собиралась она, действительно серьезное и нечего докучать ей вопросами — нужно просто гнать коня, куда укажут, да и дело с концом. Так покойней, да и проще.
И отъехал от княжны дружинник, ничуть обиды не держа на Любаву. Княгиня, чувствуя, что излишне резко одернула того, кто старшим в ее маленькой дружине был, похлопала примирительно по железному плечу его облаченной в расшитую рукавку[11] рукой, сказала мягко:
— Ладно, не сердись на бабу, Прободей, — вздорные все мы. Скажу тебе одно: едем в Лес Гнилой, ибо хочу я Владигору отыскать замену. Покамест больше ничего не скажу тебе…
Прободей, едучи рядом с товарищами своими по лесной дороге, задумался над словами Любавы: «И зачем собралась она в Гнилой Лес? Известно же, что худое это место, разбойничье. Слышал даже, что Бадяга-изменник там воровским народцем хороводит. Уж не его ли она прочит на замену Владигору?»
Ничего путного не придумал Прободей, плюнул да и перестал голову ломать, положившись на ум и трезвость Любавы.
В городище, где раньше жили разбойники, порубившие друг друга в поединках за право ехать на состязания стрелков из лука, рядом с княжеским домом стояла бочка пятидесятиведерная, дубовая, обитая железными обручами, Если бы в эту бочку человек залез, то, присев на корточки, ушел бы в воду с головой, и была устроена внутри удобная скамеечка, чтобы сидящий в бочке не утоп и только одна голова его торчала бы, если б захотел он перед помывкой просто погреться да понежиться.
Бочку эту четыре дружинника Бадяги наполняли часа два, не меньше, бегая с деревянными ведерками к ручью с такой чистейшей водой, что казалась чище воздуха она. Неподалеку от бочки другие воины разожгли костер и на огне долго раскаляли булыги,[12] а когда вода немного до кромки бочки не доходила, здоровенными железными клещами стали брать булыги и окунать их в ледяную воду. С громким шипением, в клубах пара, опускались в воду камни.
Когда вода нагрелась, о чем сообщил один дружинник, засунув в воду руку, рядом с бочкой появились женщины, прежде разбойницы, теперь же счастливые жены живших в городище молодцов Бадяги. Из глиняных бутылочек, кувшинчиков и плошек стали лить они в воду настой зверобоя и чистотела, девясила и ромашки, и ландыша, и еще бог весть чего, чтобы водичка для купания не только целительной была, но и пахла приятно.
Когда же все приготовления к купанию были завершены, одна из женщин вошла в княжеский дом, где за столом в одних портах да нижней рубахе, с кружкой духовитого меда в руке сидел Бадяга. Баба низко поклонилась ему и сахарным голосом сказала:
— Пожалуй купаться, касатик ты наш, князюшка! Сокол ты наш яснокрылый!
Бадяга, не стесняясь женщины, лениво стащил с себя рубаху и порты. С тех пор как поселился он в лесном городище и отыскал сокровища Велигора, обрюзг Бадяга. Не было ему нужды размахивать мечом, грабя путников на большой дороге. Если раньше был он широк и плотен, но не жирен, то теперь пузо его бурдюком свисало, опустились плечи, груди жирные похожи были на бабьи титьки. Весь он колыхался, когда шел к бочке, где уж поджидали его три бывших разбойницы, теперь наложницы его. Другие в ряд стояли в стороне, руки на груди сложив.
— Ну, орел ты наш могучий, ястреб остроклювый, полезай-ка, полезай! — елейным тоном обратилась к Бадяге одна из баб, приставив к бочке: коротенькую лесенку.
Поддерживая под обе руки, женщины поднимали Бадягу, а он, осторожно ступая по перекладинам лестницы, говорил им строго:
— Глядите, вороны, не уроните меня!
— Не уроним, ястребок, не уроним! — успокаивали его. — А упадешь, так на наши белые ручки!
Добравшись до края бочки, Бадяга неуклюже перевалился через ее край, выплеснув чуть ли не половину всей воды и обрызгав стоящих рядом женщин. Наконец устроился он на внутренней скамеечке, а уж ему несли большой ковш темного, густого хмельного пива. Осушив его, Бадяга крякнул, сказал: «Эх, добре!», а потом махнул рукой:
— Пойте!
Женщины, выстроившись в ряд, тонкими, высокими голосами затянули:
Сокол ясный в небе порхал, Притомился молодой. Пусть скорей на землю грянет Да омоется водой! Мы водицу ключевую Приготовим для него И омоем ему перья, Клюв и ноженьки его-о-о!Песельницы все голосили, а уж Бадяга мановением руки подал знак другим женщинам, а они уже знали, что им делать. Вначале к бочке подступила та, что держала горшочек с мылом. Приготовлено было оно из бобрового жира, на настое ночной фиалки. Вылив на голову Бадяги содержимое горшочка, принялась она волосы его и бороду мыть-скоблить. «Князь» фыркал, отдувался и время от времени бормотал:
— Ах, хорошо, воронушки мои, ах, ладно!
Когда с головой было покончено и Бадяга, привстав в бочке, промыл глаза и разлепил их, то увидел не обмывальщиц тела своего, нет!.. Правда, тоже женщину узрел он, но долго понять не мог, как появилась она здесь и что понадобилось ей от него, властелина Гнилого Леса.
— Сядь, Бадяга, в воду! — с презрением сказала Любава, когда убедилась, что дружинник узнал ее. — Сядь, стыд свой укрой, не срамись перед княжной. С девками своими ты, замечаю, совсем стыд потерял!
Бадяга, скорей не приказу княжны Любавы повинуясь, а от изумления так и плюхнулся в воду, зад себе отбил, неловко на скамеечку сев, но боли не почувствовал. Глаза широко раскрыв, моргая, спросил:
— Откуда ж ты взялась, Любава?
— Из Ладора, вестимо! — с ненавистью ответила княжна. — А теперь я у тебя спрошу: что же ты, дружинник, клявшийся Владигору верою и правдою служить, до Ладора не доехал? Али в полон тебя, вояку, эти девки взяли, чтобы в срамотном виде купать?
— Ну, зачем же… в полон, — шмыгал носом Бадяга, смущенно отводя глаза.
Любава, от злости покраснев, закричала:
— Изменщик ты подлый! Брата моего в Пустене бросил, одного оставил, вынудил его дружину из борейцев нанять, когда он в Ладор возвращался! За такие проделки, Бадяга, на стенах крепостных вешают вниз головой!
Бадяга, пряча глаза, проворчал:
— Ты меня не хули, Любава. Три дня я искал Владигора, к тому же сильно был удивлен, когда заместо него на ристалище урод объявился. Побоялся я твоей расправы, дружинники уговорили здесь, в лесу, остаться. Так и живем с тех пор. А Владигора видел я, когда сквозь лес проезжал. Напал я тогда на него, за борейцев отряд их принял. Уговаривал в Ладор не ездить, говорил, что не примут его там…
— «Не хули»! — чуть смягчилась Любава. — Да умная охулка лучше похвалы дурацкой! Как мне тебя не ругать? Вот если бы приехал в Ладор да все мне рассказал, что случилось, иное я бы отношение к брату имела, крепче б стала его защищать. Что ж, на твоих глазах был испорчен князь?
— О том и речь, — виновато бубнил Бадяга. — Утром был красавцем, потом личину надел, чтобы в последний раз состязаться, а как снял ее — урод уродом стал, страшилой, каких свет не видывал. Испортили князя! Но ты уж, княжна, меня извини — сильно мы с дружинниками гнева твоего опасались…
— Не думала, что ты такой криводушный! — с горькой усмешкой сказала Любава. — Ну давай, вылезай из бочки своей! Сидишь в ней, как водяной бесстыжий, а девки перед тобой русалками скачут!
И, отвернувшись, дала Бадяге возможность выбраться из бочки, что сделал он при помощи лесенки, опущенной в воду, кряхтя и отдуваясь, а когда спустился на землю, тут же был принят женщинами, постаравшимися укутать его потеплее, ибо время уж было осеннее, прохладное. Вскоре предстал он перед Любавой в красивой вышитой свите, в синих широких штанах, а на голове его сидела набекрень шапка с богатым куньим околом.
Провел Любаву в дом, где стол ломился от угощений, которые и не во всяком княжеском дворце можно было увидеть: рыбка осетр, оленина, лосятина копченые, глухари, тетерева, лебеди, журавли, хоть и холодные — заготавливали впрок, — но такие нежные, что мясо их просто таяло во рту. Были на столе и медвежьи лапы, и тонко нарезанное мясо кабана — окорок копченый, сочный, нежный. Запить же яства Бадяга предложил Любаве медом отборным — давно уже не грабить, а бортничать посылал Бадяга молодцов своих, посему запасов меда собралось в городище количество немалое. Пива целый жбан поставил, лучшую велел достать посуду.
— Вот, Любавушка, попотчую тебя, чем боги нас за послушание отблагодарили, — широко развел Бадяга своими толстыми руками, предлагая гостье угощение. — Ешь да пей.
Любава, косо глядя на яства, спросила:
— Промыслом разбойным богатство такое добываешь?
— Ах ты, княжна! — наклонил набок щекастую, румяную голову свою Бадяга. — Давно уж живу по чести, собственным хозяйством (о найденных сокровищах решил не говорить). — Ты вот что, о деле говори. Чует мое сердце, прогнали Владигора? Так ли?
Потупилась Любава:
— Прогнали.
— Говорил же я ему…
— Речь не о том! — перебила его Любава. — Синегорье у борейцев в лапах. Кудрунку правительницей в Ладоре посадили, да правят за нее советники Грунлафа!
Бадяга, не потчуя уж Любаву, сам взялся за еду, за копченый бок кабаний, запивая мясо большими глотками пива. Раздувая жирные щеки, сказал как бы невзначай:
— Ну и что с того?
Любава вспыхнула:
— Да, не зря я на тебя охулку положила! Уж ты, Бадяга, ползучий уж! Ведь служил Владигору, едва ль не другом его считался, а теперь — «что с того»! Зажрался ты здесь, Бадяга, честь и совесть потерял! Князем, слышала, тебя бабы величают! Но не корить тебя я собралась, не затем я здесь! Слушай…
Любава умерила свой гнев, понимая, что укоры делу не подмогой станут, а только ожесточат Бадягу.
— Слушай, пришла к тебе за помощью Любава. Хочу правление законное в Ладоре восстановить, иначе борейцам без боя он достанется и будут синегорские враги в нем править по все дни, до скончания века.
— Ну говори, кого задумала князем посадить? — хрустя кабаньими хрящами, спросил Бадяга.
— А вот кого… У Светозора, Владигорова отца, был еще один сынок, но не от нашей с Владигором матери, а от рабыни. Моложе Владигора, но Светозор, как знаю, его любил не меньше, чем старшего. Если первого он Владием назвал, то второму придумал имя Велий. Однажды с няньками, с кормилицей — года не было ему — Велия повезли в Поскреб, чтобы рос там Велий, а после Поскребом как уделом своим владел. Да вот беда — охрану, что сопровождала няньку, побили лесные тати. Она потом нам говорила, что, страшась за судьбу малютки, бросила его вместе с колыбелью в кусты, близ дороги.
— Ну и что с того? — с прежней невозмутимостью спросил Бадяга, прихлебывая пиво. — Понятно, погиб младенец.
— Нет, не погиб! — возразила Любава. — Слышала я, что в Гнилом Лесу живет разбойник и имя носит Велигор!
Бадяга пожал плечами. Безразлично ему было все то, о чем говорила сейчас Любава.
— Велий, Велигор — как вяжутся между собой два этих имени, ума не приложу. Не пойму я также, чего тебе надобно от меня, Любава? Хочешь, чтобы я обшарил весь Лес Гнилой, Велигора твоего нашел? Да больше дела мне нет! Ну найду я какого-нибудь разбойника, которого так кличут. Что ж, прикажешь мне его покликать на княжение? От чьего же имени? Кто примет его в Ладоре? Кто докажет, что он сын Светозора? Пустое ты затеяла. Да и не в радость мне обременять себя хлопотным таким занятием. Что я тебе, слуга? Нет, я вольный человек. Хочу — сегодня служу тебе, завтра — ушел к другому. Мне что Владигор, что Велигор — без разницы. Богатств у меня немерено, я вот город задумал строить, а ты меня от великого дела отвлечь хочешь. Не докучай мне со своим Владигором!
Может быть, по-бабьи Любава поступила, но иначе не могла она: схватила в сердцах ковш густого меда да и запустила им в голову Бадяги, сказав при этом:
— Да чтоб на этот мед осы слетелись да мухи! Дерьмо со всякой поганью должно дружить!
И быстро вышла из княжьего «дворца». Неподалеку ждали уж ее дружинники во главе с Прободеем, к ним и направилась Любава, но тут кто-то ее окликнул полушепотом. Обернулась — стоит женщина, уже не молодая, прикрывает лицо платком да рукой подманивает — дескать, подойди ко мне. Любава вначале мимо пройти хотела, но потом передумала, подошла.
Женщина, посмотрев по сторонам с опаской, заговорила быстро:
— Отойти бы нужно, княжна Любава. Ей-ей, услышишь кой-что занятное.
Они зашли за куст жимолости, а там, оставив вдруг рабскую вкрадчивость свою, заговорила женщина смело, глядя княжне в глаза:
— Ты прости, Любава, но уж больно громко ты с Бадягой разговаривала. Все я слышала, что ты о Велигоре вещала князю нашему.
Любава брови вскинула:
— Ты подслушивала? А не знаешь, что таких мерзавок плетями бьют!
— Ну побей меня, побей, да только выслушай, — не сробев, сказала женщина. — Знай, что младенца Велия мать моя, ведунья, подобрала и жила я с ним, как сестра с братом, до тех пор, покуда шестнадцать лет не исполнилось ему. Говорила мне мать, что нашла на груди его младенческой знак серебряный и, стало быть, княжеского происхождения тот младенец, а Велием величать его. Позднее стал он разбойниками верховодить, называя себя Велигором, но вот час дурной настал…
— Что за час? — волнуясь, спросила Любава.
— А час такой, — отвечала женщина. — Мать моя умерла, и Велигор меня по доброхотству своему принял в городище, где обитали разбойники лесные. Однажды напали они на отряд один. Из Бореи он следовал в Ладор, как помню. Был среди того отряда человек один седобородый…
И поведала названая сестра Велигора обо всем, что на глазах ее происходило в ту ночь, когда дрались между собой разбойники: и как спорили князь Гнилого Леса и борейский посланник, и как этот старец не хотел представить Велигора Грунлафу, и как поднял Велигор над старцем меч, а рука его вдруг безжизненно повисла и превратилась в белое лебединое крыло, и после этого ушел старец, и Велигор тоже покинул городище. Все это происходило на глазах женщины, и Любава чувствовала, что она не лжет.
— Да куда же он ушел, куда?! — закричала княжна, понимая, что от ответа этой женщины зависит судьба Синегорья, столь нуждавшегося в правителе законном.
— Куда? — переспросила разбойница. — А я почем знаю. Наверно, туда поехал, где счастье свое хотел сыскать, к Кудруне. Все мужчины наши, как только лик ее, на доске намалеванный, увидели, спятили, схватились за мечи. Вот и Велигор…
Любава со слезами на глазах сказала:
— Так, значит, и Велигору был тот лик показан! Не красотою женской обольстили, а очаровали доской бездушной.
Мгновенно слезы высохли на глазах ее. Решительной походкой снова в дом княжеский прошла, где Бадягу над ушатом две девки обмывали от прилипшего к его волосам и бороде густого меда. Ругался дружинник по-черному, проклиная гневливую Любаву, но тотчас умолк, когда вошла княжна.
— Бадяга, червь поганый, — заговорила Любава, — скажи-ка мне, не видел ли ты на состязании стрелков в Пустене такого витязя, который бы имел вместо руки… крыло?
Бадяга, жмурясь от заливавшей лицо воды, ответил:
— Я, княжна, сроду таких людей не видывал, чтоб были крылатыми. Впрочем, говорили мне бабы в городище, что будто чародей какой-то князю прежнему руку в крыло превратил, но я вранью тому не верю.
Любава призадумалась, а потом ее осенило.
— Ну, а может, видел на ристалище, чтобы кто-то из витязей или князей как-то по-особенному стрелял? — спросила она.
— Это как же так? — не уразумел Бадяга.
— Ну так, будто не было у него одной руки.
Княжна уверена уже была, что если брат Владигора собрался принять участие в стрельбе за честь быть мужем дочери Грунлафа, то отсутствие руки ему не помешает натянуть свой лук.
Бадяга, обтираемый полотенцами из прекрасно выбеленного полотна, малость поразмышляв, сказал:
— Знаешь, Любава, а ведь и впрямь был там один такой. Руку правую, будто и не было у него ее, плащом прикрывал, левой лук держал, пальцами той же руки стрелы выдергивал из колчана, ну а натягивал он тетиву зубами. Такого я сроду не видал. Но, скажу, стрелял тот витязь превосходно — вторым после Владигора был, а на одежде знак имел — медведь.
Любава так и затряслась — все сходилось. Ясно, что натягивающий зубами тетиву безрукий витязь был братом Владигора. Но спрашивать Бадягу о том, куда мог поехать после ристалища тот стрелок, Любава посчитала делом бесполезным. К своей дружине подбежала, сама, без посторонней помощи, в седло взлетела, крикнула дружинникам:
— Вперед, в Борею! Навестим родню мою, князюшку Грунлафа!
Лишь на короткое время ночью, когда ни зги было не видно, останавливалась Любава со своим отрядом на привалах. Коротали время под открытым небом, даже шатров, что в Ладоре захватили, не разбивали. Грелись у костров, завернувшись в плащи и рогожи, а то и попонами укрывались, потому что ночи холодными были. И чуть светлело, седлали лошадей и скакали на запад, в Борею. Когда же, как предположил всезнающий Прободей, находились они уже на землях Грунлафа и Пустень был недалеко, наткнулся отряд Любавы на заслон: в рогатых шлемах, с копьями, со щитами, повешенными, как для боя, на руку левую, стояли дозором тридцать, а то и чуть поболе всадников.
Не разбойники то были. На щите у каждого было солнце изображено, пронзенное Перуновой стрелой, что было знаком родовым Грунлафа.
Чуть выехав вперед, один из воинов в рогатом шлеме спросил у Любавы, которую, по пурпурной мантии, признал за важную персону:
— Кто такие и по какому делу свободно передвигаетесь с большим отрядом людей вооруженных по землям благородного Грунлафа?
Любава не смогла сдержать усмешку:
— С большим?! Ну и сказал! Или у Грунлафа столь мало осталось стоящих мужей с мечами, что и два десятка синегорцев ему страшны? Знай, что видишь перед собой княжну Любаву, родственницу князя твоего! Еду сейчас к нему по делу личному!
Предводителя борейского отряда имя Любавы оставило совершенно равнодушным. Еще более суровым голосом он сказал:
— Мне дан наказ синегорцев к Пустеню не пропускать! Не знаю, кто ты такая, Любава или нет, но людей с мечом и стрелами на щитах я должен гнать вон, а если не подчинятся моему приказу, убивать! Прочь уезжайте!
Любава вспыхнула:
— Как гнать?! И это после того, как брат мой, князь Владигор, стал супругом Кудруны, дочери Грунлафа?
Воин криво усмехнулся:
— Женщина, разве не ведаешь ты, что еще в Пустене Владигор исчез, а урода, назвавшего себя именем его, уже изгнали из Ладора? Прочь, говорю, иначе я дам приказ воинам своим напасть на вас!
Любава, к которой никто никогда не обращался столь неучтиво, закричала в гневе воинам своим:
— Синегорцы, не дайте княжну свою в обиду! Защитите!
Прободей с самого начала понял, что без кровопролитной схватки эта встреча не обойдется, скомандовал:
— В копья!
Дружинники тотчас с копьями наперевес пустили коней сначала рысью, потом в средний галоп, а после и во весь опор и нанесли борейцам столь неожиданный удар, что те не успели даже выставить против синегорцев свои копья, лишь прикрылись щитами. Но щиты, будто сделаны были они из бересты, не спасали их от отлично закаленных наконечников синегорских копий. Лишь троих синегорцев успели ранить борейцы мечами, да и то защитники Любавы остались в седлах и, взявшись за мечи и боевые топоры, в ближнем бою довершили дело. Сбитых с коней борейцев убивали без пощады, вкладывая в каждый удар всю ненависть к иноземцам, вознамерившимся сначала хитростью, а потом и силой поработить Синегорье. А Любава, испытывая к врагам родной земли те же чувства, что и ее воины, кричала:
— Секите их! Никому пощады не давайте! Они княжну Любаву, видишь ли, в Пустень не хотели пропустить!
Скоро с борейцами было покончено. Лишь четверо, истекая кровью, сумели ускакать в сторону Пустеня, но за ними уже не гнались.
Убитых хоронить не стали, только забрали мечи и палицы, шлемы и кольчуги. Прободей, когда вновь двинулись в путь, сказал Любаве:
— Дерзко ты себя ведешь, честно скажу тебе, княжна. Думаешь, простит тебе Грунлаф то, что посекли его дружинников?
— Дела мне до этого мало! Не впустит в Пустень, кто-нибудь из вас туда пройдет. Очень я хочу дознаться, где единокровный брат мой, — вздохнула Любава. — Да, не везет Ладору! Владигор уродом стал, да и Велий не лучше — лебединое крыло имеет!
Прободей не проронил ни слова, но в душе он очень сомневался в необходимости поисков какого-то Велигора, сына Светозора и рабыни. «И его тоже прогонят из Ладора. А борейцы уж наверняка откажутся признать в нем законного правителя. Так и оставят Кудруну за княгиню. Эх, не повезло Синегорью! Говорили же Владигору — не езди в Пустень!»
Наконец подъехали к воротам столицы княжества Грунлафа. Прободей трижды в рог протрубил, и между зубцами надвратной башни появился стражник, тоже в рогатом шлеме. Спросил, кто такие едут и по какому делу.
— Синегорская княжна Любава к благороднейшему Грунлафу! — отвечал дружинник. — К родственнику своему! Вели-ка князю сообщить, чтоб принял княжну с почестями, ее особе приличествующими!
Но стражник громко рассмеялся:
— Почести, говоришь? Заготовлены у нас тут для вас почести немалые: стрелы, камни, смола еще имеется, чтоб на головку ей вылить! Не велел благороднейший Грунлаф ее в город пропускать! Проваливайте, покуда из луков вас не перестреляли! За побитую дружину могут запросто сказнить ее!
Любава так и обмерла, все у нее внутри похолодело, хотела крикнуть стражнику, обругать его нещадно, но поняла, что воин этот ни в чем не виноват. Только и сказала Прободею, с трудом разжимая губы:
— Да, прав ты был. Нужно ехать прочь…
Коней по ее приказу поворотили, но до ближайшей рощицы лишь доехали. Там приказала дружинникам Любава спешиться и расседлать коней. Шатры разбили, утеплили их как могли сучьями еловыми, с луками углубились в чащу леса, скоро вернулись кто с глухарем, кто с тетеревом, кто с кабаненком, а один убил косулю.
— Ладно, Любава, — подошел к княжне Прободей — сидела на пеньке княжна, — едой разжились, а дальше-то что делать станем? Может, в Ладор возвернемся, покуда нас не выследили борейцы да не порубили вместе с тобою? Слышала же, что Грунлаф…
Любава Прободею не дала договорить, с пенька вскочила, заговорила быстро:
— Знаешь, ни о чем так не болит душа, как о Синегорье! Покуда Велигора не отыщу, не вернусь в Ладор. Мне не от борейцев согласие на княжение брата нужно получить, а от своего народа. Он Владигора прогнал. Пусть же примет другого… Знаю, воин он не хуже изгнанного брата.
Потом попросила Любава купить ей в какой-нибудь ближайшей деревеньке одежду огнищанки,[13] корзинку с творогом и маслом принести, и Прободей, кляня в душе женскую упрямую природу, поплелся исполнять приказ княжны.
Наутро другого дня, когда ворота Пустеня отворялись для того, чтобы впустить торговцев всяким съестным товаром, вместе с крестьянами, ведущими на городскую бойню быков, овец, свиней, везущих на телегах овощи и фрукты, а в больших глиняных корчагах молоко, сметану, сыр, прошла со своим лукошком в город и Любава. Впервые нарядилась она в простенький наряд крестьянки, и непривычно было ей в рубахе из грубого холста, в поневе и простой опояске. По времени прохладному на плечи ее накинут был нагольный тертый тулупчик, а ноги Любава и вовсе оставила босыми.
Без придирок пропустили ее в город. Там, побродив немного по базару, пошла по улицам Пустеня ходить, расспрашивая у горожан, не знают ли они, где останавливался витязь, что на ристалище стрелков тетиву зубами натягивал. Многие кивали головами, с восторгом вспоминая дни состязаний, все, кто был там, помнили «безрукого» стрелка, но никто не знал, кто тогда пустил на постой витязя с медведем на спине.
Видно, не к тем обращалась со своими вопросами Любава. Но вот, увидев стражника с солнцем на щите, прободенным Перуновой стрелой, она, сунув ему в руку слиток серебра, спросила о том же. Стражник, с изумлением посмотрев на слиток, шепнул:
— Идем!
Недолго шли они и скоро очутились близ, как поняла Любава, ворот Грунлафова дворца. Стражник кого-то окликнул, и ворота приоткрылись. Видела Любава, что воин показал кому-то серебро, что-то проговорил скороговоркой. Двери надолго затворились, но стражник, глядя на Любаву, все время заговорщически ей подмигивал, давая, видимо, понять, что готов сделать для нее что угодно, если ему, конечно, хорошенько заплатить.
Но вот ворота приоткрылись. Кто-то невидимый что-то шепнул стражнику в образовавшуюся щель, и снова створки ворот закрылись.
— Ну вот что, — заговорил стражник, — твой витязь жил в доме ремесленника Звенислава. К нему иди. Это недалеко, только свернуть направо, а потом мимо поилки для коней. Дом о двух этажах, на каменном подклете.
Недолго пришлось идти Любаве. Вскоре остановилась возле высокого забора из бревен, так плотно друг к другу поставленных, что ни единой щелки не имелось, чтобы заглянуть во двор и позвать кого-нибудь. К воротам подошла, постучала кольцом висячим.
— Кто стучит? — послышался из-за забора голос.
— К хозяину, к ремесленнику Звениславу, — ответила Любава.
— Кто такая?
— Только ему и скажу.
Ворота приоткрылись, чей-то глаз придирчиво Любаву с ног до головы оглядел.
— Проваливай отсюда! — был приказ. — Нищим не подаем!
Любава, разъяренная грубостью привратника, громко вскрикнула, и столько власти, гнева было в ее словах, что и сама-то испугалась:
— А ну-ка отворяй, пес шелудивый! Княжна Любава, сестра Владигора Синегорского, хочет с хозяином твоим поговорить!
Мигом ворота распахнулись. Привратник, дюжий мужик в неподпоясанной рубахе, пропуская во двор Любаву, часто и низко кланялся, бормоча:
— Прости, государыня, не признал, не прогневись, по одежке судим.
— Веди к хозяину! — только и сказала ему Любава и скоро уж входила в сени просторные и чистые, две горницы, ведомая привратником, прошла и остановилась возле запертых дверей.
Осторожно постучал привратник:
— Господин, а, господин!
— Ну чего тебе? — голос послышался сердитый.
— Гостья к тебе пришла, называет себя княжной Любавой, сестрой князя Владигора из Синегорья. Впустишь ли?
— Ну что ты за дурак, Бронька! Спрашиваешь еще — скорей пусть входит!
Прошла в покой Любава. Хозяин в сторону куски кожи отложил — отбирал лучшую для пошива сапог. Из-за стола поднялся, но только взглянул на бедно одетую Любаву, как насупился, руки на груди сложил, гмыкнул:
— Хм-м, это ты-то княжна Любава? Сестрицей зятя князя нашего зовешься, Владигоровой сестрой? Что-то не похоже!
Любава не смутилась. Перстень, на шее у нее висевший, с синегорской печатью перстень, из-за пазухи достала, Звениславу показала:
— Вот, гляди — печать князей Ладорских. А в рубище потому к тебе я пришла, что князь твой самым наглым образом проезд в Пустень для меня и моей дружины закрыл. Вот и пришлось мне огнищанкой нарядиться. К тебе же, Звенислав, я по делу, помоги.
— Ну садись, — указал Звенислав на лавку, покрытую дорогим сукном. — Угощение сейчас доставят, поговорим. Помогу тебе, княжна, если это в моих силах.
— Угощения не надобно, — проговорила женщина, присаживаясь у стола, — спешу я очень. Скажи мне только, не ведаешь ли, куда отправился тот витязь, который был на постое в твоем доме, когда стреляли на ристалище из луков. Безрукий, говорят, он был, зубами тетиву натягивал.
Звенислав заулыбался:
— Что ж, помню такого, помню! Велигором его звали, по нраву был мне тот витязь. А в последний раз видел я его, когда пришел он ко мне, чтобы узнать, где в Пустене можно колдуна сыскать.
— Ну и что же ты ему сказал? — не терпелось поскорей узнать Любаве, куда отправился единокровный брат ее.
— В старую слободу его послал, к Острогу-чародею. Ступай к нему… — И прибавил, глаза отводя: — Если не боишься. Разное бают об Остроге.
Любава отблагодарила Звенислава и словами, и низким поясным поклоном. По добротно вымощенной улице пошла, расспросив прохожего, в старую слободу. Придя туда, долго, как и Велигор, искала дом чародея. Недружелюбно на нее смотрели те, у кого спросить хотела, как пройти к Острогу, молчали, старались поскорее отойти, но нашелся-таки один слобожанин, путь Любаве указал.
Вот пришла к избушке с покосившимися стенами. Дверь не заперта, постучала. Никто ей не ответил, толкнула дверь. Из темного угла вдруг явился, точно призрак, низенький взъерошенный старичишка с двумя торчащими изо рта зубами, зыркнул на Любаву недобрыми глазами, с надрывом заговорил:
— Что, кобылка, жеребчика своего искать пришла? Знаю, знаю!
— Чего пустое мелешь? — рассердилась Любава.
— Не пустое, дура! — погрозил ей кулачком старик. — Чародей Острог все знает, все! Ты, Любавка, Велигора ищешь, человека с крылом лебединым, да только трудно тебе будет его найти, ой, трудно, кобылица!
Любава, увидев, что перед ней в самом деле ведун изрядный, примирилась с грубыми речами старика. Ласково заговорила:
— Старче, помоги ты мне! Знаю, что приходил к тебе витязь, у которого было лебединое крыло вместо руки. Скажи, куда отправился он после того, как у тебя побывал?
— Да, был у меня твой Велигор, которого Крас, советник Грунлафа нашего, крылом-то и наделил. Личину приносил он колдовскую, с письменами чародейскими, составом колдовским мазанную. Владигора та личина-то и сгубила, страшилищем сделала.
— Неужто Краса проделки? — не удержалась от восклицания Любава. — Ах он аспид!
— Сущий аспид, сущий! — подтвердил Острог. — С ним никто, кроме Белуна, не совладает. А где сейчас Белун, который Владигора предупреждал, чтоб не баловался он изготовлением самострелов — не того, дескать, времени затея? Нет, не послушал Владигор, вот и сгубило его тщеславие да славолюбие. А еще краса Кудрункина сгубила, да токмо краса-то колдовская: чародеем Красом изображение Кудруны с таким расчетом делалось, чтобы поглядевший на него страстью проникался сильной к дочери Грунлафа. И Владигор, и Велигор, и многие другие — все этим недугом заболели, и токмо смерть Кудруны от чар этих освободит их.
Любава тяжело вздохнула, сказала, чуть не плача:
— Как же Владигору прежнее лицо вернуть?
— Велигор уж об этом знает, говорил я ему. Только не знает он пока, кто брат его. Чую, тянется он сердцем к брату, жалеет его, но ты должна ему глаза открыть.
— Но где же мне искать его? Где Велигор? — умоляла Любава.
— Где? Не ведаю! Отправил его к горам Рифейским, где чародей Веденей живет. Глянуть надо, что делает сейчас твой брат единокровный.
Взял Острог горшочек, наполнил его горящими углями, которые под пеплом в очаге тлели. На стол его поставил, снадобий каких-то бросил на угли, и тотчас дым голубоватый поднялся из горшочка, пряный, ароматный, и скоро стало рябить в глазах Любавы, сон накатывал, и нега охватила все члены ее тела, проникая в сердце. Так приятно ей стало, что хотелось улечься прямо на пол и больше не вставать. Но из состояния полудремы вывел Любаву голос Острога испуганный:
— Смотри, княжна, смотри на дым! Ничего не видишь?!
Нет, ничего не видела она, только клубы дыма, меняя то и дело форму, напоминая то людей, то зверей диковинных, переплетались, смешивались друг с другом и поднимались к низкому закопченному потолку избенки и там висели плотным облаком.
— Смотри, смотри, не видишь разве? — еще более настойчиво прокричал Острог, указывая на дым рукой.
И впрямь — теперь увидела Любава какого-то человека. Велигора никогда не видела она, но почему-то уверена была, что это и есть сын Светозора, брат ее единокровный. Видела она, что злобой перекошено его лицо, но сидит он у ног какого-то старца, прижавшись головой к его коленям, а тот гладит его по волосам и что-то ему говорит. И услышала Любава, что старец Велигору говорит: «Разве добро ты затеял, когда собрался сопернику своему помочь, Владигору? Убить тебе его нужно, урода этого, тогда и Кудруну заберешь. Добро только тогда и может быть добром, когда тебе от него приятность одна выходит. А покамест ты кривой идешь дорогой!»
— Нет, врешь, старик! — закричала Любава дико. — Не посмеет Велигор брата своего убить!
Прокричала — и упала на глинобитный пол без чувств, а когда очнулась, уже не было ни дыма, ни фигур человеческих, увиденных ею сквозь клубы дыма, и рядом с ней лежал чародей Острог, недвижный и бесчувственный. Но зашевелился старик, приподнялся, полубезумным взглядом посмотрел на Любаву, будто никогда не видел ее прежде, жалобным голосом сказал:
— Напрасно я брата твоего к Веденею послал. Черному делу служит Веденей. Как пса, посадил он Велигора на цепь в своей пещере, и как спасти его, не ведаю. Большой силой тот чародей обладает, куда мне до него. Иди к Рифейским горам, Любава. Чистая ты, может, пересилит чистота твоя черную науку Веденея. На восточном склоне гор его пещера.
Любава наклонилась, поцеловала желтую, сморщенную руку Острога и выбежала из избушки, чтобы до захода солнца покинуть Пустень и вернуться к своей дружине.
3. Конец Веденея
Как видно, чуял приближение смерти чародей Веденей, а иначе с чего бы это нужно было ему передавать секреты науки своей Велигору? Уже на следующий день после того, как пришел в сознание Велигор, пришлось ему постигать все то, что вкладывал в него учитель. Скоро уже над самим собой смеялся Велигор: «Да что же за чудак я! Потащился в такую даль, чтобы найти какого-то Белуна, Владигора пожалел! Да убить мало этого урода. Гляди-ка, какое счастье привалило — рожа, как у страшилища лесного, а Грунлаф ему Кудруну отдал в жены!»
Как сорняки забивают на грядках ростки плодов полезных, нужных людям, так зло на Владигора, а потом и вообще на всех людей заполняло душу Велигора, убивая в ней все доброе, что начало прорастать в ней за последнее время, когда бывший князь разбойников решил жить по-другому, честно, праведно. Веденей, однако, учил его не только тому, как нужно понимать добро и зло. Много вещей, полезных для жизни человека, вставшего на путь добывания добра лишь для самого себя, познал у Веденея Велигор.
Научился прекрасно гадать он, узнавая будущее по трещинам на костях, надолго брошенных в огонь, по внутренностям животных, по полету птиц, по тени, которую оставляла на стене фигурка из воска, и по форме вылитого в воду расплавленного свинца.
Научился добывать из растений яды, способные убить человека в одно мгновение, или такие, что вызывали болезнь: отравленный угасал как будто от какого-то недуга, и никто из близких не догадывался, что он — жертва злодеяния.
Овладел искусством черной магии. Черные маги прокалывают иголкой голову, или живот, или руку глиняной фигурки с изображением лица того, кого вздумалось погубить, причиняя избранной жертве невероятные страдания. Посредством этих манипуляций можно свести человека с ума — и будет он безумен до тех пор, покуда из фигурки не извлекут иглу.
Учил Веденей и тому, как слышать чужие мысли и, напротив, как укрыть от постороннего свои собственные, чтобы никто, даже самый мудрый и прозорливый, не проник в них. Рассказывал ученику, как можно сглазить, испортить человека, заговорам его учил, умению составлять лекарства, но так, чтобы науку эту применять лишь для самого себя, если заболеть случится. И все посмеивался над Велигором:
— А то крылья себе хотел устроить, воспарить над потоком, на силу свою надеялся! Нет, парень, сила не в руках и ногах, а в голове. Я вот слабый был совсем, каждый меня…
Велигор как зачарованный в который уж раз слушал рассказ колдуна о том, как он, обиженный людьми, ненавидимый ими и ненавидящий их, ушел в горы, чтобы постичь тайную науку. Еще рассказал Велигору чародей, как, желая испытать силы свои, вернулся в родное селение, как испортил всех тех, кто обижал его когда-то: больными сделал, уродами, бессильными, безумными.
— Вот когда, парень, не было у меня времени счастливей! Осознал я свою силу, всем отомстил! И ушел после того снова сюда, в предгорье гор Рифейских, и тайную свою науку довел до совершенства. Но не вечен я, решил тебе знания передать, чтобы жил я в тебе, ибо дух и ученость старца продолжают жить в теле молодом.
И с благодарностью целовал Велигор учителя, и помыслами был далеко от пещеры, где жили они. Рядом с Владигором был, рядом с Кудруной. Уничтожить Владигора, сделать его совсем уж жалким, ничтожным человеком и, главное, лишить его Кудруны стало для Велигора заветной мечтой.
А Путислава, долго бродившая по высокому берегу реки и так и не нашедшая брода, горько плакала, считая себя виновницей смерти любимого. «Ведь это я предложила Велигору сделать второе крыло! Я уверяла его в том, что он сумеет полететь! Как же я была глупа, неосторожна! Погубила я Велигора».
Но надежда все еще жила в ее сердце. Не могла забыть Путислава то, что видела, — как вытаскивал бесчувственного Велигора на противоположный берег старик какой-то, и поэтому все ждала она: вот покажется на том берегу любимый Велигор. Шалаш построила, в котором ей тепло и уютно было. Даже стойло для Велигорова коня устроила, чтобы не мерз он во время холодных ночей осенних. Сама добывала себе пищу, стреляя на озере лесном уток, журавлей, собиравшихся в стаи перед перелетом.
Куда деваться было Путиславе? В родном городище ее ждала смерть за ослушание, еще более мучительная, знала она, чем та, на которую обрекли ее старейшины селения, когда умер князь.
Однажды, когда коротала она время подле костра и добрый конь Велигора, поглядывая умным круглым глазом на всполохи пламени, лежал поодаль, вдруг повернул он голову свою в сторону леса, весь напрягся, будто почуял запах приближающегося волка.
Путислава, никогда не расстававшаяся ни с луком, ни с кинжалом Велигора, стрелу пернатую вытянула из колчана, к тетиве приладила ее, но голос мягкий, добрый ее тут же успокоил:
— Отложи, девица, лук. Не со злом к тебе иду. Дай только обогреться страннику возле огонька, да и пойду своей дорогой.
Из темени лесной, полуночной, явился старец. Борода — как отбеленное полотно, как снег. Опирается на посох. Волосы долгие, ниспадающие на плечи, ленточкой охвачены. Суконный армячок поверх рубахи, сапоги короткие, штаны в полоску синюю в них заправлены, а на голове — шапка-колпачок.
— Присаживайся, дедушка, — предложила Путислава страннику место на попоне подле себя. — Вот, хочешь, лебедятины кусок, от ужина моего остался, грибы, клюквы насобирала. Чем богаты…
Но отказался старец от всего, что предложила Путислава. Так сказал:
— Не затем я здесь, девица. Знаю, что возлюбленный твой сгинул в водах.
— Сгинул? — упавшим голосом спросила девушка, не оставлявшая надежды, что жив Велигор.
— Хуже, чем сгинул. Лучше бы утоп, — странно как-то отвечал ей странник.
— Да как же… лучше? Неужто?
— А правда. Ведь ко мне он шел, чтобы Владигору лицо вернуть, а очутился там, где учат его Владигора погубить.
Путислава изумилась:
— К тебе он шел? Говорил мне Велигор, что хочет найти Белуна, Владигорова наставника. Он-де поможет уродство снять с него. Так неужто?
— Да, я и есть Белун, — просто ответил старец. — Только я не в силах вернуть ему лицо. Дай-ка личину, которая в суме у тебя лежит. Знаю я о ней.
Путислава, пораженная проницательностью старца, сбегала в шалаш, из сумы достала личину, ту самую, которая была на Владигоре в последний день соревнований. Старец, поднеся ее к пламени костра, долго разглядывал, поворачивая и так и этак, потом головою покачал:
— Крепко околдован Владигор. Столько зла вложили в личину эту, что только сильное противоядие сможет яд этот разрушить. Но слушай же, девица Путислава, и хорошенько все запоминай. Завтра брод я покажу тебе, по которому ты сможешь перебраться на другую сторону реки. С Веденеем только нужно справиться тебе, иначе…
И тому, как можно одолеть злого Веденея, тоже научил Белун Путиславу. Знал он, что больше жизни любит девушка витязя с крылом, а поэтому так ей наутро говорил:
— Знай, девица, что кровь женщины, страстно в кого-нибудь влюбленной, противоядием является против всех злых чар. И излечивать ею любимого можно, и тех побеждать, кто любви препятствует.
Не убьет простая стрела Веденея, а если наконечник ее кровью твоей смочить, то сразит наповал. Протяни же ко мне правую руку свою, а перед этим стрелу подай.
Когда держал Белун в руке своей стрелу, пальцем другой руки запястья Путиславы коснулся, будто острым ножом по нему провел, и тотчас брызнула из пересеченной вены кровь Путиславы, омочила вовремя подставленный Белуном каленый наконечник стрелы. Потом же лишь пошептал Белун над раной что-то, и остановилась кровь, и только белый, едва заметный рубец напоминал о том, что была на этом месте недавно кровоточащая рана.
— Вот стрела, которая убьет Веденея. В твоих руках это дело, и сотвори его без трепета. Не сотворишь, много зла принесет чародей, с которым и я-то справиться не мог. Но слушай дальше. Не ради тебя, девица, и Велигора одних стараюсь я. Владигора надобно спасать и Синегорье. Помни, лишь тогда вернет он прежнее свое лицо, когда в изображение его, на камне высеченное, двое выстрелят из самострела Владигора. Один человек братом должен быть ему единокровным, другой же больше жизни своей должен его любить, ибо смертью своей спасет его. А когда стрелять станут, пусть заклинание произнесут. Ну иди же. Пойдешь налево, брод в ста двадцати шагах отсюда. Теперь же заклинание запомни…
Сказал и пошел в глубь леса, а Путислава, покуда Белун не скрылся за деревьями, как зачарованная глядела ему вслед, и легко так было у нее на сердце, точно избавилось оно от постоянной ноющей боли.
Ведя за собой коня Велигора, спустилась к реке в том месте, где советовал переходить поток Белун.
И впрямь — вода здесь хоть и бурлила, и пенилась, и неслась стремительно, но мелко было. Выбрались на берег противоположный, и тут уж пошла Путислава к тем камням, за которыми скрылся старик с телом Велигора.
Пройдя немного, вышла на площадку, поросшую кустами. Смотрит из-за них и видит в полусотне шагов черный вход в пещеру. Видит двух людей, старого и молодого. В последнем сразу же признала Велигора. Ходил он крыла своего не закрывая, но лицо его угрюмо было: рот плотно сжат, брови сдвинуты. Что-то делал он подле котла, висящего над костром горящим, травы в него бросал, а старик что-то подсказывал ему.
Недолго следила Путислава за ними из своего укрытия. Конь Велигора, хозяина узнав, коротко заржал. Вскинули головы учитель и ученик, посмотрели в ту сторону, где притаилась Путислава, и поняла она, что больше нельзя ей медлить. Вышла из-за кустов. Лук и стрела с омоченным ее кровью наконечником были в ее руках, и не трепетало от робости сердце девушки, потому что верила она в правое дело свое. Только прокричала перед тем, как натянуть тетиву:
— Веденей, готовься к смерти! Больше не будешь людей калечить!
Успел Веденей рассмеяться, не веря в кончину свою, перед тем, как сорвалась с тетивы меткая, губительная для него стрела. Прошелестела оперением, вонзилась чародею прямо в горло, и захрипел он, падая на землю. И с каждым мгновением, как будто истаивая под лучами солнца, корчилось тело колдуна, превращаясь в нечто рыхлое, бесформенное, но живое. Подошла Путислава поближе и видит: от человека не осталось и следа, и лишь куча зловонного навоза, в котором кишат черви и жуки, возвышается на том месте, где упал Веденей.
И Велигор неотрывно смотрел на эту кучу, но не было отвращения и гадливости на лице его. Одну лишь жалость увидела Путислава, поэтому спросила:
— Чего жалеешь, милый? Сам видишь, не человек он был, а куча дерьма.
Но Велигор, гневно засверкав глазами, повернулся к Путиславе и по щеке наотмашь ее ударил, вскричав:
— Кого убила?! Учителя моего убила! Следом за ним сейчас пойдешь!
На поясе у девушки кинжал висел. Вырвал Велигор его из ножен, занес уж было над Путиславой, готовый пронзить ее, не мешкая ничуть, но задержался с ударом — смотрели на него глаза ее доверчиво. Одна лишь нежность светилась в них, и опустилась рука с кинжалом.
— Что ж, убивай, — тихо сказала Путислава. — А все равно моим любимым будешь.
Велигор кинул кинжал на землю, сказал, отвернувшись:
— Убивать тебя не стану — другая забота есть. Но со мной ты больше не ходи. Не нужна ты мне, не люблю тебя, противна ты мне после убийства Веденея! Коня можешь себе оставить, кольчугу, лук. Не надобно мне теперь все это. Не оружием силен я, а тайным знанием. Кудруну я люблю, моею она будет, но сначала… — оскалил зубы в злой улыбке, — сначала от урода Владигора нужно избавить землю! Ведаю я еще, что в горах он где-то, неподалеку от меня, с Кудруной!
И рассмеялся, и смех его был страшен, и хрипло звучал его голос, и походил он почему-то на голос урода Владигора. Пыталась уговорить его Путислава, убедить, что не жизни лишать Владигора надо, а попытаться вернуть ему лицо былое. Но снова засмеялся Велигор и ответил:
— Соперникам не помогают, а убивают их! Добро ли я сделаю себе, вернув ему лицо? Нет, один только вред. Так неужто совсем я разума лишился? Нет, мудрый Веденей наставил меня на путь истинный! Теперь никогда я не сойду с него!
Сказав это, он прошел в пещеру, откуда вскоре вернулся в плаще из домотканого серого сукна, в такой же шапке. За плечами у него был мешок, а опирался он на суковатый посох. С Путиславой не прощаясь, быстро пошел он в сторону гор, царапавших вершинами своими свод голубого неба. А Путислава смотрела, как легко он перепрыгивает с камня на камень, и по щекам ее катились слезы жалости, но не к себе, а к нему.
4. Злая игла
Чем ближе становились горы, тем радостней и легче было на сердце у Владигора. Рядом с ним была Кудруна, она ехала на коне, а он шел подле нее, держась за луку седла. Служанку княжна давно уже отослала в Ладор, потому что больше не нуждалась в ней: Владигор, супруг ее, служил своей жене и госпоже, которая теперь смотрела на него без всякого отвращения, привыкнув к его внешности. Кудруна не задумывалась, почему уродливая внешность супруга перестала вызывать у нее отвращение, но если бы она попробовала разобраться в своих чувствах, то поняла бы, что любит Владигора за страдания, в которые ввергло его внезапное превращение. Она видела, как мучается он от своего уродства, от того, что не принят сестрой, изгнан своим народом. Ей так хотелось сделать Владигора хоть чуточку счастливей! Если бы обстоятельства потребовали от нее ради полного счастья Владигора расстаться с жизнью, она бы ни минуты не колебалась.
А Владигор, приближаясь к Рифейским горам, и не вспоминал, что княжил в Синегорье. Народу, который когда-то называл его своим отцом, защитником, он оказался не нужен, — ну что же, теперь и Владигор не нуждался в отрекшемся от него народе. «Пусть Любава правит княжеством», — думал Владигор, и чем дальше уходил он с любимой своей женой от мест, где селились люди, тем свободнее чувствовал себя, потому что никто теперь не мог упрекнуть его в уродстве, заподозрить в зловредности, способности приносить беду.
Однажды, уже в горах, он опустился на колени, чтобы напиться из прозрачного, как хрусталь, ручья, и вдруг Кудруна услышала возглас радости, в котором слышались и восхищение, и благодарность.
— Подойди ко мне, Кудруна! — позвал девушку взволнованный Владигор, и когда она приблизилась, князь сказал ей: — Посмотри на отражение мое в воде!
Кудруна посмотрела и тоже вскрикнула: с поверхности чуть покоробленной рябью текущей воды смотрело на нее прекрасное лицо — большие, осененные густыми бровями голубые глаза, нос прямой, рот спокойный, мужественный, щеки и подбородок опушены бородкой русой, лоб высокий, чистый. Лицо, прекраснее которого трудно и сыскать. Вспомнила Кудруна, что видела уже когда-то это лицо — на пиру во дворце ее отца.
— Вот ты какой на самом деле, Владигор мой милый! — прошептала она восхищенно, не имея сил оторваться от отражения, плавающего на поверхности воды. — Понимаю я теперь, что и впрямь покровительствуют тебе горы, раз облик прежний вернули. Давай здесь и будем жить, в горах. Каждый день сюда мы будем приходить, чтобы я могла тобой, милый, любоваться!
И счастливая Кудруна, продолжая смотреть на воду, впервые обняла супруга своего и прижалась к его плечу со всей страстью неутоленной любви к нему.
Отыскав сухую, просторную пещеру, поселились они в горах. Первым делом Владигор в пещере очаг устроил из камней, обмазав их глиной, которой много повсюду было. Наделав кирпичей, подсушил их на еще довольно теплом солнце, печь сложил для обжига, налепил посуды и хорошенько ее обжег. Пользуясь одним мечом, стол изготовил, две лавки для сидения и одну, широкую, для сна. Повсюду много диких коз водилось, поэтому, имея самострел, немало подстрелил их, чтобы на зиму заготовить мяса: частью провялил, прокоптил, частью засолил в глиняной большой корчаге (солью-то запаслись Кудруна с Владигором в том самом городище, где волк-оборотень бесчинствовал). Шкуры козьи умело обработал, так что ложе супружеское теперь теплым, уютным стало, но хватило шкур и для того, чтобы сшить телогрейки и шапки. Но не одним лишь козьим мясом питались молодые. В горных речках немало водилось рыбы, и Владигор, сделав лесу из волос конского хвоста, а крючки из крепких сучков терновника, немалый приносил домой улов, пользуясь наживкой из козьих потрохов. Еще и птиц повсюду было много, а Кудруна научилась отыскивать сладкие коренья, так что не опасались супруги, что предстоит голодная зима.
Однажды, когда собирали они ужин, чья-то высокая фигура выросла в проеме входа в пещеру. Голос густой, но ласковый произнес:
— Пусть боги не забудут этот дом, пусть в нем всегда горит очаг, а закрома будут полны!
Владигор, не видя лица незнакомца, все-таки ответил:
— За добрые слова тебе спасибо. К нам проходи, к огню, поешь того, что и мы едим.
Незнакомец подошел поближе, и разглядели хозяева, что статен он, лицо имеет гордое, красивое, борода окладистая закрывает щеки и подбородок, но одежда его проста, если даже не убога, а в руке — посох суковатый. Мужчина, однако, Кудруне учтиво поклонился, чем доказал, что он не какой-нибудь смерд-невежда, с женщинами умеет обращаться.
— За приглашение спасибо, — сказал пришелец, — тем паче давно уж не ел я горячей пищи. Велигор меня зовут, купец я. Корабль мой с товаром от Карса-острова к устью реки Угоры правил, да в бурную погоду налетели мы на камни, что неподалеку от берега незаметные для глаза в воде торчали. Кто сумел, до берега добрался, кто потонул, я же, товар жалея, на корабле остался. Когда буря стихла, вижу, лодки от берега ко мне поплыли. Думал, помощь ко мне идет, ан ошибся. Народец местный, чуя поживу, к кораблю спешил. Мне надавали тумаков, весь товар на ладьи свои переложили, даже одежду мою забрали, я же на палубе остался, гол как сокол, холодный и голодный. Потом решился вплавь до берега добраться. Люди добрые дали мне ветхую крестьянскую одежду, накормили, но долго жить у них постеснялся — чем мог я их отблагодарить? Вот и пошел горами в Ладор. Там у меня товарищи-купцы живут. Может, чем и помогут. А что же, князь Владигор из Пустеня еще не возвернулся?
Владигор, оставаясь во время рассказа Велигора в тени, хмуро отвечал:
— Возвернулся, да не таким, каким уезжал из Ладора. Взгляни на меня — Владигора ты видишь, изгнанного из столицы своим народом. Так что, Велигор, мы с тобой одинаково несчастны: ты корабля с товарами лишился, я же — княжеского достоинства и подданных своих. С супругою своей, Кудруной, которой ты так учтиво поклонился, будем покамест жить в горах, перезимуем здесь. Если хочешь, с нами поживи, а то не сегодня завтра снег пойдет. Замерзнешь ты в горах в рваном своем плаще.
Тут приметил Владигор, что пришелец правую руку свою с тщанием немалым закрывает полою плаща. Без обиняков спросил:
— А с рукой-то у тебя случилось что?
И так ответил ему пришелец, ничуть не смутившись:
— Во время кораблекрушения руку я сильно повредил. Берегу ее теперь от холода.
— Дай взгляну на рану, — ласково Кудруна предложила. — Есть снадобье целительное у меня. Из Ладора его везла, поможет.
— Не трудись, княгиня, — пробормотал Велигор, покраснев от смущения. Растрогали его чуть ли не до слез ласковые слова Кудруны. — Заживет само собой.
Владигор же, на вертеле поворачивая истекающий жиром большой кусок козьей туши, сказал шутливо:
— А если и не заживет и придется руку твою больную от тебя отделить, не обижайся на богов, руки тебя лишивших. Был я в Пустене на состязании стрелков, где сыскал себе наградой дочь Грунлафа, Кудруну, так видел на ристалище одного стрелка, который тоже вроде безруким был. Так сей удалец, левой рукою лук держа, ловко стрелы пальцами той же руки выхватывал, накладывал на тетиву, которую, чем думаешь, натягивал?
— Чем же? — пожал плечами Велигор. — Неужто ногою?
— Ногою! — усмехнулся Владигор. — Нет, ногою неловко было бы. Зубами!
— Вот это новость! — Искренним выглядело удивление пришельца. — Что же, и удавалось попадать?
— Еще как удавалось! — гордясь чужою ловкостью, будто своей, радостно ответил Владигор. — Вторым по меткости оказался, вторым после меня! Я и сам когда-нибудь попробовать хочу так пострелять!
— Постреляешь, еще успеешь… — как-то неопределенно сказал Велигор, и Кудруна женским чутьем уловила кривинку в словах пришельца.
За стол уселись наконец, козье мясо, вареные корни лесных растений, ягоды мучнистые, хлеб заменившие, орехи, молоко, надоенное Кудруной у приведенной Владигором козы, недавно, похоже, разродившейся козленком, ели хозяева, ел и гость. Рассказам о путешествиях его по делам торговым не было конца. И мимолетно, но с желанием понять, что это за человек сидит, смотрела на него Кудруна. Иной раз на себе ощущала его взгляды, тяжелые, точно кто ладонь прикладывал к ее лицу. И чудилось ей, что видела она когда-то этого человека. Нет, не лицо припоминалось ей, а то, как он держался, как поворачивал голову. Даже волосы пришельца казались Кудруне знакомыми…
Вдруг все в голове ее встало на свои места. Мысленно личину узрела она, закрывающую лицо их гостя, лук в руке его здоровой увидела, пальцы, ловко выхватывающие из колчана стрелу за стрелой, и все ясно Кудруне стало. Улучив мгновение, на зубы мужчины она взглянула — крепкие, большие, белые. И испугалась Кудруна своего прозрения, прихода этого мужчины в их жилище испугалась.
Спать уложили Велигора на лавке, на которой он сидел во время трапезы. Дали шкуру козью, чтобы укрылся. Владигор очень рад был появлению в пещере гостя. Сильно соскучился он по общению мужскому, по прямому разговору, по рассказам о делах мужских. К тому же гость очень приятным показался Владигору. Было что-то в нем привлекательное, зазывное, каким-то близким казался Велигор хозяину, хоть и был купцом. Правда, купцу не меньше, чем витязю, нужно бояться нападений, поэтому, знал Велигор, каждый торговый человек не хуже витязя владеет копьем, мечом, стреляет из лука. Витязю всего дороже жизнь, купцу же, кроме жизни, нужно заботиться о сохранности товара — основы благополучия всей семьи его.
Когда улеглись Владигор с Кудруной, услышали, как Велигор сказал:
— Пойду пройдусь немного, Сварогу хочу вознести молитву за то, что на столь добрых людей навел.
— Пройдись, да только, гляди, не заплутай в темноте ночной. Да и волков здесь немало бродит, — предупредил гостя Владигор, а тот откликнулся беспечно:
— Не беспокойся, хозяин. Все ладно будет.
Когда он ушел, Кудруна, весь вечер сгоравшая от желания открыть супругу свои догадки, зашептала:
— Ах, Владигорушка, не по нраву мне этот человек!
— С чего бы это? — удивился Владигор. — И приветлив, и знающ, и смел, и ловок. Чего надумала!
— Да не за того он выдает себя, не за того! — еще тише Кудруна зашептала. — Признала я в нем стрелка, что на ристалище тетиву натягивал зубами, врать не стану! А если это так, то будет он стремиться не удачной стрельбой из лука мною овладеть, а способом каким-нибудь другим. От тебя попробует избавиться! Что ему стоит ночью взять да и проколоть сердце твое кинжалом или горло перерезать? А потом что захочет он со мною сделать здесь, в глуши, то и сделает. Не надо будет и батюшке моему кланяться, в мужья набиваться!
Но Владигор речь супруги прервал решительно:
— Замолчи-ка! Вижу, волос у тебя долог, да ум короток! Я негодяя и сам бы распознал, у Белуна мудрости учился. Здесь же вижу я в человеке одну приятность и прямоту. Не клевещи ты на невинного!
Так рассердился на жену, что отвернулся от нее, запахиваясь поплотнее козьей шкурой. Но Кудруна, промолчав, мнения своего о пришельце не изменила. Только и попеняла мужу в сердце: «Эх ты, мудрости учился! Здесь не мудрость, а бабий приметчивый глаз нужен, душа женская, у которой очи зорче, чем у всякого ума мужского…»
Велигор же, выйдя из пещеры, не Сварогу стал возносить молитву. Совсем иным он занялся делом. Из-под плаща достал мешочек, что висел на поясе, зубами развязал тесемку, глины комок из него достал. Была та глина укатана и смочена водой так, что вязкой, густой стала. Из такой глины гончары для малых ребят лепят петушков, лошадок, свистульки всякие, а после обжигают, чтобы после росписи на базаре продавать.
Но не детские игрушки принялся лепить из глины Велигор. К луне повернувшись, принялся одной рукой, но быстро, ловко делать фигуру человека. Скоро не только руки, ноги, тулово готовы были, но и голова. Острием ножа изобразил он на лице и нос, и глаза, и рот. На том месте, где сердце должно бы находиться было, начертил родовой знак князей синегорских, меч и две скрещенные стрелы. Со злобной улыбкой шепча заклинания, из мешочка иглу достал и проткнул ею глиняную голову.
Ко входу в пещеру возвращался он повеселевшим, за спиною держа фигурку на тот случай, если вдруг случайно повстречает Кудруну или Владигора. Глиняного человечка с иголкой в голове запрятал поглубже в расселине между камнями, прошел в пещеру и лег на лавку и, лежа неподалеку от той, которую уж представлял в своих объятиях, посмеивался над простоватым Владигором, зная, что наука Веденея начала свою неслышную работу.
Утром другого дня проснулся Владигор, и не только невеселым показалось Кудруне его лицо, но каким-то злым и отчужденным. Мрачно посмотрел он на жену и сказал недобро:
— Дурно ты выспалась, наверно. Хоть бы водой умылась ключевой да волосы гребенкой расчесала. Точно кикимора болотная ходишь…
Кудруна так и обмерла, услышав такое. Никогда прежде супруг не говорил ей слов обидных, хотя за время скитаний по лесам зачастую выглядела она растрепанной и умывалась раз в день, а то и реже.
— Все сделаю, прости, — кротко ответила Кудруна, объясняя для себя упрек супруга тем, что стыдно ему перед посторонним человеком за ее действительно несколько неряшливый вид.
Приготовила обед. Наряднее обычного явилась перед мужчинами. Платье нарядное из дорогой заморской ткани, которое прихватила с собой, из Ладора уезжая, подвеску налобную с крупным, как первые весенние сосульки, жемчугом, со смарагдами, вышитые бисером чеботы — все, что имела, надела на себя, да и кушанье, на время и на труды не поскупившись, приготовила отменное. Но даже и не взглянул на красоту Кудруны Владигор. Едва к губам поднес ложку деревянную, своими руками резанную, отплевываться стал, браниться:
— Что, руки поотсыхали?! Или разницы не видишь между едой для витязей, князей и кормом для скота?!
Миску глиняную с похлебкой, над которой с усердием с самого утра хлопотала Кудруна, рукой отпихнул, на пол упала миска, разлетелась в черепки. Владигор же на Велигора посмотрел, и вина изобразилась на лице его:
— Прости, мой друг. Понял я теперь: чем больше холишь кобылицу, тем она брыкастей делается.
Велигор молчал невозмутимо, боясь улыбкою радостной открыть заветные мечтания свои. Молчала и Кудруна. Тем объясняла она гнев Владигора, что обрел-таки в себе он прежние властные привычки, вновь правителем себя почуял. К тому же явился посторонний, перед которым захотелось ему выказать княжескую спесь свою. Простила в тот день Кудруна Владигору все грубости его, только и сказала перед сном:
— Князь, мог бы и вспомнить ты, что я тоже из княжеского рода.
Думала она, что завтра образумившийся Владигор спокойнее станет, но не тут-то было. С новой силой, точно сильным ветром раздуваемое пламя, закипело в их жилище лихо. Будто и не любил никогда Кудруну Владигор, точно и не была она его супругой, с утра до вечера, придираясь к мелочам, мучил ее попреками, понукал, словами шпынял злыми, глядел на нее волком, и не узнавала в этом злосердечном человеке Кудруна прежнего ласкового, нежного мужа.
На попреки его она не отвечала, не оправдывалась, все пыталась делать, как он велит, только лишь иногда, покрывшись краскою стыда, когда при госте начинал бранить ее супруг, тихо урезонивала его:
— Ну, Владигорушка, ну, любый мой! Да смири же ты свое сердечко. Почто собачишься? Ведь люблю я тебя, все для услады сердца твоего исполню.
Но не смягчался гнев Владигора. С каждым днем все сильнее разгорался. Иногда хватался он за голову, лицо его от какого-то скрытого недуга делалось еще безобразнее, стонал он:
— Ах, болит, болит! Точно гвоздь железный в голову мне вбили!
Прижимала Кудруна голову его к своей груди, но отталкивал Владигор от себя жену, гнал прочь, называл ее виновницей всех бед своих, а однажды так и заявил:
— Ах, стерва, если бы не ты, так не мучился бы я сейчас, не страдал, не сидел бы в этой норе, а правил Синегорьем, как и прежде!
Размахнулся и ударил своей тяжелою рукой Кудруну по лицу.
Такого сраму, тем более на глазах у постороннего человека, Кудруна стерпеть уж не могла. Топнула ногою, в сердцах вскричала:
— Так оставайся же ты, урод, один!
Коня, который содержался в особой маленькой пещерке, оседлала сама, собрала в суму кой-какую снедь, козью кацавейку на себя надела и, не прощаясь, уехала от жилья, в котором надеялась прожить счастливо вместе с любимым человеком до конца жизни. Проехала немного. Слезы заструились по щекам. Стало жаль Владигора, стыдно за то, что назвала его уродом. Даже причиненные им обиды уже готова она была простить. Спешилась. На камень села, рыдая, не зная, что делать дальше. Первый снег пошел, легкий и пушистый, и снежинки ложились на непокрытую голову ее, не тая, но Кудруна, подавленная горем, не замечала снега.
Вдруг конский топот и голос, произнесший:
— Девушка, как забрела ты сюда? Почему сидишь под снегом? Смотри, замерзнешь! — вывели Кудруну из глубокой задумчивости.
И такими добрыми, заботливыми показались Кудруне эти слова, что слезы мигом перестали струиться из глаз ее. И увидела Кудруна: из-за скалы выехала наездница в кольчуге, в мужских штанах. Лук и стрелы из-за спины торчали. Подъехала, спешилась, рядом на камень села. Кудруна тоже была удивлена немало: откуда здесь, в горах, в диком месте, взялась эта молодая девушка? Что привело ее сюда? Не замешкалась с вопросом:
— А ты как сюда попала?
— Долго рассказывать, ну да все поведаю тебе! — вздохнула девушка в кольчуге. — Путиславой меня зовут…
Долго рассказывала она Кудруне о том, как старейшины городища, в котором она жила, после смерти князя выбрали ее за красоту сопровождать в загробный мир почившего владыку, о том, как спас ее витязь с лебединым крылом, как стремился он к Рифейским горам, где жил кудесник, способный помочь ему вернуть князю Владигору прежнее лицо.
Едва услышала об этом Кудруна, как тут же вздрогнула, за руку схватила Путиславу:
— Владигору?! Да ведь я его жена, княгиня Кудруна! Чтобы добиться моей руки, в Пустень он приехал, на ристалище стрелков из лука.
— Так ведь и мой возлюбленный, Велигор, там был! Все время говорил он мне, что лишь тебя и любит!
Сердце у Кудруны учащенно забилось от сильного волнения, она закрыла лицо руками и стала раскачиваться из стороны в сторону, причитая:
— Боги, Перун и Мокошь! Проклинаю тот день, когда Красу-колдуну позволила кровь мою взять, чтобы в краски добавил он ее, когда изображение лица моего на доску переводил! Что натворила я! Скольких наделила страстью, нет, тяжким недугом! Да лучше бы я уродлива была, как Владигор!
Путислава, обняв княгиню, прервала рыдания ее:
— Не время плакать! Велигор уже не желанием Владигору помочь полон, а местью — надоумил его Веденей, черный колдун, убить соперника и тобою завладеть! Ищу я его повсюду, чтобы уговорить не делать этого. Успеть бы, не то сгубит он Владигора при помощи науки тайной!
Похолодела Кудруна, поняв, кто сумел вызвать беспричинный гнев Владигора, и вспомнила, как старательно прятал руку под плащом их гость Велигор. И стало ей страшно за мужа.
Она резко поднялась. Все лицо ее пылало, губы дрожали, а прекрасные зеленые глаза помутнели от боли за судьбу любимого супруга.
— Идем скорее! Велигор твой у нас в пещере! Ушла сегодня я от Владигора, потому что неожиданно жестоким стал он, злым. Даже ударил меня, княгиню! Теперь понимаю, что это злые козни Велигора тому причиной. Сгубит он его, если не поспешим!
Женщины вскочили в седла, торопливо непослушными от волнения руками натянули поводья и поспешили к пещере, где остались их любимые мужчины. Но не заметили они, что следом за ними двинулась группа всадников, внезапно появившаяся из-за скалы.
Велигор же в это время, будучи не на шутку встревожен тем, что его магия подействовала так скоро и что Кудруна, не стерпев грубости супруга, попросту ушла от него в неизвестном направлении, урезонивал Владигора:
— Нет, скажу тебе откровенно: дурно ты поступил. Она ведь все-таки княгиня, княжеского рода, а ты ею как простой крестьянкой помыкал. Вернул бы ты ее. Не ровен час, сорвется со скалы. Гляди-ка, снег идет…
Владигор, в сердце которого все еще бушевала беспричинная злоба, криво улыбаясь, отвечал:
— Ничего, вернется, куда денется! А не захочет, так и пусть себе бредет куда глаза глядят. Сама же путь свой избрала. Баб, приятель, только рукой железной и надобно держать, чтоб не баловались…
Он хотел еще что-то сказать, но не успел, — в пещере неожиданно появились Кудруна и Путислава. Владигор, довольный тем, что его предположение о неизбежном возвращении жены оказалось верным, победно улыбнулся, зато Велигор не смог скрыть испуга, ведь Путислава знала о его желании убить Владигора!..
Княгиня быстрыми шагами подошла к Владигору, встала на колени, припала губами к его руке и зашептала:
— Прости, любимый, не ведала я, что в гневе своем не ты виноват.
Краем глаза заметила она на столе кинжал Владигоров. С колен поднявшись, рысью метнулась она к столу, кинжал схватила, левою рукою под подбородок Велигора подхватила, правой точеное лезвие кинжала к горлу его приставила, прокричав:
— Не скажешь, чем испортил Владигора, тут же перережу горло! Не позволю мужа моего губить!
Такого оборота не ожидал никто — ни сам Велигор, ни Владигор, ни Путислава. Велигор не знал, что и сказать: признаться в злом колдовстве своем означало для него навсегда потерять Кудруну, которая, оказывается, урода мужа любила больше жизни, не признаться — дать согласие на смерть, потому что Кудруна, было видно, не шутила.
— Говори, Велигор! — не выдержала Путислава, боясь за жизнь любимого человека. — Она убьет тебя!
Еще несколько мгновений промедления могли закончиться для Велигора смертью. Лезвие кинжала все сильнее вдавливалось в кожу, но властный голос, громко прозвучавший где-то у самого входа в пещеру, заставил Кудруну отдернуть руку, державшую оружие:
— А ну-ка брось кинжал, Кудруна! Не лишай Синегорья законного правителя и князя!
Все, даже Велигор, все еще удерживаемый Кудруной за подбородок, повернули головы. В пещере стояли Любава и несколько дружинников с обнаженными мечами. Сестра Владигора быстро подошла к Кудруне и, решительным движением вырвав из ее руки кинжал, сказала:
— Не знаю, за что ты хотела убить сына Светозора, но сделать тебе я это не позволю!
Каждый, кто был в пещере, был словно громом поражен, услышав о том, что Велигор — сын Светозора. Все молчали, но сильнее всех был удивлен сам Велигор. Понимая, что без объяснения не обойтись, Любава, устало опустившись на лавку, заговорила:
— Да, у Светозора был еще один сын, от рабыни. Когда малютку Велия везли в Поскреб, лесные тати перебили всю охрану, и кормилица бросила малютку в кусты. Там и нашла его потом ведунья. У нее княжий сын жил до отрочества, а после… сам стал татем. И потому я здесь, что Ладор уж занят борейцами. Ладорцы изгнали Владигора. Что же делать? Но у княжества есть прямой наследник Светозора. Это — Велигор! Оттого-то я и здесь — звать на княжение тебя пришла. А ты уж, Владигор, прости меня за это. О Синегорье печалуюсь…
И Любава, поднявшись с лавки, низко поклонилась брату.
Все смотрели на Велигора и видели, что скорбным стало его лицо. Какие-то мысли боролись в нем одна с другой. Нахмурясь, он потирал лоб, по щекам текли капли пота. Затем медленно полез он за пазуху, достал висевший на шнурке круглый серебряный знак. Как бы размышляя вслух, пробормотал:
— Да, меч и две перекрещенные стрелы. Ну, видно, сам Перун разум у меня отнял!
Сказал — и вышел из пещеры, но отсутствовал недолго. Вскоре вернулся, и все увидели, что держит он в своей руке глиняную фигурку человека. С ней подошел он к Владигору, спросил:
— Разве не понял ты, когда три дня бранил жену свою, что делаешь это против своей воли, по воле злых чар?
— Нет, не уразумел, — ответил тихо Владигор.
Велигор пристально, глядя брату прямо в глаза, сказал с болью и тоской:
— Не знаю, простишь ли ты меня, когда узнаешь, что я тебя, брата моего, извести хотел?
— Прощу, ты же брат мой, — по-прежнему тихо и так же глядя в глаза брату, молвил Владигор.
И увидели все, как выдернул из глиняной головки Велигор железную иголку, и тут же за голову свою схватился Владигор и застонал, лицо же его при этом стало еще более страшным. Но вот уродливые черты лица прояснились, руку от головы Владигор убрал, и улыбка ненадолго осветила ужасное лицо.
— Все, нет больше боли, и злобы тоже нет, — сказал он. — Прежним стал!
Обеими руками князь обнял брата и трижды поцеловал его.
5. Исчезновение урода
Пришла зима, и скалы покрылись снегом, который скрадывал их очертания, напоминавшие прежде то вставшую на дыбы лошадь, то голову великана.
Дружинники Любавы нашли пещеры для жилья неподалеку от места, где обитали двое мужчин и три женщины: братья, Кудруна, Любава и Путислава. Всем им предстояло коротать время у костров, покуда не кончится снегопад и они не спустятся в долину, чтобы начать движение к Ладору. Зверья повсюду было много, и люди не голодали. Тяжелее приходилось лошадям, потому что единственным кормом для них была пожухлая трава, которую дружинники откапывали из-под снега.
Владигор и Велигор часто уходили вдвоем в уединенное место и рассказывали друг другу случаи из своей жизни, этих рассказов у каждого имелось в запасе столько, что, казалось обоим, не хватит и зимы, чтобы все их выслушать. Велигор порой краснел и отворачивался, чтобы скрыть смущение, потому что внезапно вспоминал о своем желании убить Владигора, причем сделать его смерть долгой и мучительной. Но помнил он и о чувстве жалости, которым проникся некогда, увидев обезображенного победителя состязаний. Велигор поведал брату о том, как поднял с земли его личину, как пошел с нею к чародею Острогу, ученику Веденея, и как тот сразу же признал в письменах, начертанных на ее внутренней стороне, работу колдуна Краса, советника Грунлафа.
— Так вот кто испортил мое лицо! — с горечью воскликнул Владигор. — А я ему так доверял! Я же покинул Ладор, оставив на его попечение Кудруну и Любаву!
— И теперь Ладор в руках борейцев! — подхватил Велигор. — Знаешь, мнится мне, что и ты, и я, полюбив Кудруну, тоже стали жертвами чар Краса. Он тебе показывал ее изображение на деревянной доске?
— Ну да! Я помню, что был поражен ее красотою…
Велигор помолчал. Он по-прежнему любил Кудруну, но теперь она не могла ему принадлежать, потому что отбирать жену у брата, по мысли Велигора, было бы таким бесчестным делом, равное которому по мерзости трудно и сыскать.
— Скажу еще, — продолжал Велигор, — что этот чародей Острог сказал мне так: спасешь душу брата единокровного, если, лук натянув, выстрелишь прямо в его сердце.
Владигор расхохотался:
— Вот уж загнул этот твой Острог! Ну давай стреляй, попробуй! Может, и впрямь душа моя, от тела отделившись, расстанется с моим уродством!
Смутился Велигор. Не стоило, подумал он, вздор этот пересказывать. О другом заговорил. Сказал, что если и примут его в Ладоре люди за князя своего, то будет он править вместе с Владигором — во всем будет слушаться советов брата.
И обнялись братья тепло и дружески, доверяя один другому, как самим себе.
Любава с Кудруной тоже жили дружно, совсем не так, как в Ладоре, когда сестра Владигора подозревала невестку в том, что она лишь ради того, чтобы завладеть властью в Синегорье, согласилась выйти замуж за урода. Теперь же, когда узнала она, что девушка отправилась на поиски супруга, когда поведал ей Владигор и о том, как возвращала ему Кудруна человеческий облик в лесной избушке, как не побоялась уехать вместе с ним в горы, готовая здесь, в пещере, жить сколь угодно долго, поняла Любава силу ее любви, искренней и чистой. И часто целовала она Кудруне руки, благодаря за эту любовь.
А Путислава не переставала любить Велигора, хоть и догадывалась, что он все еще более чем неравнодушен к жене своего брата. Но знала она также, что никогда не попытается Велигор оспорить право Владигора на Кудруну, а поэтому надежда теплилась в ее сердце. Надеялась она, что когда-нибудь Велигор излечится от страсти к дочери Грунлафа и тогда…
У Путиславы имелось средство, способное еще сильнее отдалить Велигора от Владигора и Кудруны. Часто вспоминал князь синегорский своего учителя Белуна, вздыхал при этом, говоря:
— Вот если бы я смог разыскать своего учителя! Он обязательно снял бы с меня чары Краса. Но Белун, я знаю, сейчас находится в другом Пространстве и во Времени другом. Надо ждать… А Путислава, слыша эти речи, думала: «Вот если бы Владигор вновь стал красивым! Тогда Кудруна полюбила бы его даже сильнее, чем любит сейчас. И тогда влюбленный, до сих пор влюбленный Велигор окончательно отказался бы от каких бы то ни было попыток вызвать в ней ответное чувство!»
Вспоминала Путислава то, что говорил ей Белун: «Лишь тогда вернет Владигор прежнее свое лицо, когда в изображение его, на камне высеченное, двое выстрелят из самострела. Один человек братом должен быть его единокровным, другой же больше жизни должен его любить, ибо смертью своей спасет Владигора!»
«Но кто же любит его больше жизни своей? — рассуждала Путислава. — Может быть, Кудруна? Или Любава? Могу ли я передать им слова Белуна, ведь таким образом я поставлю их перед выбором: умереть или видеть мужа, брата всю жизнь уродом!»
Долго молчала Путислава, не решаясь поведать о своем разговоре с чародеем, но однажды, когда Владигора не было в пещере — охотился в горах, — сказала вдруг Путислава так, чтобы слышали ее Любава, Кудруна и Велигор:
— А ведь средство есть, как князю Владигору прежнее лицо вернуть…
Все повернулись к ней. Думали, что продолжит, объяснит, но она молчала.
— Ну говори же, говори, что за средство? — нетерпеливо воскликнула Любава.
— Кудесника Белуна, наставника князя Владигора, повстречала я в лесу недавно…
И слово в слово передала она все то, что говорил ей чародей Белун, не забыв упомянуть и о заклинании, но покуда не произнесла его, хоть и помнила его прекрасно.
— Да ведь то же самое мне и чародей Острог в Пустене сказал: «Спасешь душу брата, если из лука прямо в сердце его выстрелишь!» Тогда не уразумел я смысл слов этих, бредом показались мне они, но вот ведь и Белун, к которому я шел, то же говорит!
Женщины молчали. Каждая понимала, что первое условие возвращения Владигору прежнего лица нетрудно выполнить — Велигор был его единокровным братом… Но кто из них двоих, сестра или жена, любит урода столь сильно, что сможет ради него пожертвовать жизнью?.. И вот Кудруна сказала:
— Мне жизни своей не жаль, если это поможет Владигору обрести лицо. Пусть он будет счастлив…
Любава недобро рассмеялась:
— Он будет счастлив, потеряв тебя? Да он и дня не сможет прожить, если узнает, какой ценой ему вернули былую внешность! Нет уж, я люблю его не меньше, чем ты, и выстрелю в его каменное изображение, и рука моя не дрогнет! Не только ради брата я так поступлю, но и для блага Синегорья!
Кудруна печально покачала головой:
— Нет, золовка, не настолько сильно ты любишь брата своего, чтобы могло сбыться предсказание Белуна. Не ты ли отказалась признать в уроде Владигора? Если бы сумела сердце его согреть тогда, пожалеть, защитить от гнева толпы, так не ушел бы он из Ладора! Я буду стрелять! Знаю к тому же, что излечится он от страсти ко мне, как только умру я. Не меня любил он, а чары Краса, изображение мое бездушное, изготовленное при помощи крови моей.
— Хорошо, невестушка моя. Если спор у нас такой зашел, то пусть суд Божий нас с тобой рассудит. Жребий бросим! Пусть Велигор заготовит две лучинки — одну короткую, другую подлиннее. Тот, кто вытащит короткую, пусть знает — жизнь его укоротится скоро. Ну, согласна?
Поначалу не хотела Кудруна соглашаться. Чувствовала всем существом своим, что выстрел Любавы, если достанется ей короткая лучинка, безрезультатным будет. Но настаивала на жребии Любава, и кивнула наконец Кудруна:
— Ну будь по-твоему. Готовь лучинки, Велигор.
Велигор, следивший за спором женщин с большим волнением и в глубине души надеявшийся на то, что Любава сумеет убедить Кудруну, до сих пор им любимую, с камнем на сердце пошел ломать лучины. Когда протягивал он свою руку женщинам, в которой два куска лучины зажаты были так, что снаружи виднелись концы одинаковой длины, то молился Мокоши, покровительнице женщин, чтобы короткая лучина Любаве досталась.
— Кто тащит? — спросил он угрюмо.
— Ты тащи, Любава! — молвила Кудруна. — Ты жребий бросить предложила, тебе и тащить лучину.
Смело Любава протянула руку, не ведала она страха смерти, ибо судьба Ладора зависела сейчас от нее, и вытащила длинную лучинку. Велигор раскрыл ладонь, на которой осталась лучинка, длина которой вмещала сейчас судьбу Кудруны, без памяти любившей своего супруга. С победным видом взяла Кудруна короткую лучинку, Любаве показала:
— Ну, золовка, видишь? Я спасительницей Владигора и Синегорья стану! Так уж, видно, боги распорядились!
Любава, ревниво губы поджав, отвернулась, быстро вышла из пещеры — негодовала на судьбу. Велигор же голосом молящим, но негромко проговорил:
— Княгиня, в пользу Любавы откажись! Не вынесет Владигор твоей кончины. Или хочешь погубить его?
Кудруна улыбнулась горько, Велигора обняла, в губы поцеловала:
— Стыдно тебе должно быть, брат мужа моего! Не к Владигору любовь говорит в тебе сейчас, а ко мне. Но избавитесь, знаю, вы от наваждения этого, едва меня не станет. Иди, Велигор, высекай изваяние брата, да так это делай, чтобы он не знал.
Шагах в ста от пещеры нашел Велигор скалу. Попробовал, от снега очистив, острием кинжала — рушит песчаник каленое железо. Присмотрелся Велигор к камню, вначале контур человеческой фигуры острием клинка обвел, примерно в рост Владигора и ему под стать шириною плеч. После стал врубаться в песчаник смелее, отваливая куски большие, осыпая себя крошевом. Постепенно на скале, будто вылезая из нее, начал появляться каменный человек с опущенными вниз руками.
Медленно работал Велигор, зная, что чем скорее он закончит, тем быстрее Кудруна покинет мир, где ее любили по крайней мере два человека. Иной раз даже плакать начинал, присаживаясь на корточки и спиною о скалу опираясь. Но вновь вставал, чувствуя себя не вправе начатое бросить. Знал, что многие в Синегорье были бы рады возвращению их князя, и ничуть не жалел, что лишается возможности сделаться правителем Ладора.
Несколько дней трудился Велигор над изваянием. Даже уродливые черты лица постарался изобразить, но к полному сходству не стремился. Памятуя уроки Веденея, понимал Велигор, что важно другое. В том месте, где у человека сердце, кончиком кинжала начертил солнечный круг с расходящимися лучами, и стрелу Перунову изобразил, пронзающую солнце. Знал Велигор, что родовой знак Кудруны именно так выглядит. Справа вырезал знак князей синегорских. Получалось, что знак Владигора наделял изваяние частицей его души, а знак Кудруны символом являлся любви его к ней. Вот потому и нужно было изгнать ее из сердца князя стрелой, пущенной сразу двумя людьми: близким по крови Велигором и близкой по душе Кудруной.
— Все готово, княгиня, — сообщил Велигор Кудруне, вернувшись однажды в пещеру. — Ты не передумала?
Кудруна встрепенулась радостно:
— Передумала? Я только и жду того часа. Завтра же утром и пойдем. Только как нам самострел добыть?
— О том не беспокойся. Попрошу у брата, скажу, что птиц пострелять хочу.
И отошел он от Кудруны, еле передвигая ноги.
Утром следующего дня Велигор поднялся рано. Владигор еще спал. Бывший князь Гнилого Леса тихо тронул Кудруну за плечо, та проснулась мигом, поняла, кивнула, ноги сбросила с постели. Самострел, колчан со стрелами стояли у изголовья рядом со Светозоровым мечом. Любава все видела, все поняла. Подошла к Кудруне, на колени перед нею встала и, не говоря ни слова, поцеловала обе руки ее.
По скрипучему снегу пошли к изваянию. Солнце поднималось из-за гор, играя на их заснеженных вершинах то розовыми, то голубыми, то оранжевыми всполохами. Кудруна задержала взгляд на этой красоте, которую ей больше никогда уж не суждено было увидеть, потом, ежась от морозца, сказала твердо:
— Готовь стрелу!
Велигор, луковище самострела прижав к земле, стопами придавил его. Одной рукой взялся за тетиву, стал тянуть. Сильной была рука, но согнуть толстый короткий лук стальной оказалось делом непростым. «Да неужто не натяну? — подумал с тревогой и стыдом. — Нет, нельзя не натянуть!» Посильней рванул — пошла тетива вперед, к зубцу, зацепилась за него надежно. Стрелу Велигор наложил на приклад, лапкой костяной сверху ее прижал, чтоб не свалилась, — видел часто, как управлялся с самострелом Владигор. Потом сказал Кудруне:
— Ну, готово. Теперь иди ко мне…
Край приклада к плечу приложил, стал целиться прямо в центр солнца, сказал:
— А тетиву ты спустишь, вот здесь нажмешь, — и показал на рычаг спуска.
Стояли рядом Кудруна и Велигор. Точно кончик стрелы направлен был в то место, где у каменного Владигора должно было находиться сердце, вмещавшее в себя сейчас часть души Кудруны. Мелькнула шальная мысль у Велигора: «А если промахнуться», — но поздно об этом подумал он. Пальцы Кудруны уже нажали на спуск, хлопнула тетива, стрела мгновенно превратилась в удаляющуюся точку. Расстояние до цели было таким коротким, что вслед за хлопком тотчас и звук удара раздался наконечника о песчаник…
Тотчас вскрикнула Кудруна, схватившись рукой за сердце, и, как подрубленное дровосеком тоненькое деревце, рухнула на снег.
Велигор упал на колени, рукой и крылом одновременно приподнял Кудруну, но она уже не дышала.
Поднял ее и понес, и все смотрел на ставшее строгим прекрасное лицо, но не хотелось ему плакать, спокойно и легко было почему-то на душе у него.
Он принес ее в пещеру и увидел, что там стоит русоволосый, голубоглазый мужчина, к которому прижалась плачущая Любава.
— Он уже все знает, — сказала княжна Велигору. — Я рассказала…
Владигор принял на свои руки тело Кудруны, осторожно опустил мертвую на ложе. И целый день простоял на коленях неподвижно возле нее, держа в своих руках холодную руку той, которая любила его больше жизни своей.
А на том месте, где утром Велигор стрелял в каменное изваяние, так и лежал брошенный самострел и валялись лебединые перья, а из центра солнечного круга на груди истукана, пронзенного стрелой, стекала, замерзая на морозе, струйка крови.
6. Разведка Бадяги
Погребли Кудруну на том самом месте, где стреляла она в каменное сердце истукана. Обрядили в платье богатое, нарядное, то самое, в котором вышла она недавно к Владигору, когда в беспричинной злобе корил и бранил он ее. Поднизь[14] жемчужная лоб ей закрывала, и всем казалась живой Кудруна, когда опускали ее в могилу.
Козу молодую с козленком зарезали рядом, в ногах положили, тетерева с тетеркой — туда же, горшок с вареными кореньями поставили, с орехами горшочек. Накрыли тело шкурой козьей и засыпали землей. Холм над могилой сделали из валунов, тризну справили, и осталась лежать Кудруна, охраняемая изваянием того, кого так любила.
После погребения супруги Владигор, на которого Любава все насмотреться не могла, велел всем собираться. Судьба Синегорья звала его к стенам столицы княжества, откуда теперь никто не мог его прогнать, кроме врагов-борейцев, коварством ее занявших.
— Куда спешишь? — урезонивала его Любава. — Давай весны дождемся. В горах-то да по снегу — опасно!
— Опасно не опасно, все равно поедем! — настаивал князь синегорский. — Мешкать будем, волынить — не только Ладора лишимся, но и княжества всего. Но сперва… сперва в Лес Гнилой хочу завернуть, к дружку Бадяге…
Любава даже рот приоткрыла от изумления, а потом насмешливо спросила:
— Может статься, хочешь, чтоб и тебя девки-разбойницы в бочке вымыли, медом напоили да песню-здравицу спели?
— Может быть, — уклончиво ответил Владигор и позвал Прободея, чтобы узнать, седлают ли коней дружинники.
С великой осторожностью, держа коней под уздцы, спустились они с заснеженных, оледеневших местами предгорий к незамерзающему потоку. Путислава брод указала. Счастливо на левый берег перешли и с остановками короткими во встречающихся по дороге деревеньках поскакали на юго-запад, к Гнилому Лесу, как требовал того Владигор.
Прежде и не ведал о самом себе Бадяга Младший, что он большой охотник до еды и крепкой помывки банной. Даже странно казалось ему сейчас, когда стал он полновластным князем Гнилого Леса, что можно было прежде пренебрегать такими удовольствиями, как сытная и вкусная жратва да горячая баня с чистыми, гладко оструганными лавками, с душистыми вениками и клюквенным квасом, с девками, которые моют, чешут, щиплют тебя, хлещут с незлым остервенением по телу твоему, а ты лежишь и думаешь, как хорошо быть князем, и со скорбью вспоминаешь былое хлопотное и опасное время боевой службы какому-то князю, до которого тебе и дела-то нет и все интересы которого чужды тебе.
И во времена Велигора в лесном разбойничьем городище имелась банька, но Бадяга, во вкус войдя, решил, что его нынешним запросам эта развалюха совсем-таки не подходит, и велел дружинникам своим, давно уж ставшим его челядниками, построить новую, просторную баню, с хорошим кованым котлом. И вот за считанные дни выросла едва ль не в самой середке городища новая добротная баня, а котел для нее выковали в кузне ближайшей к городищу деревни, куда часто обращались подковать лошадей, починить оружие, доспехи.
Охая, кряхтя от наслаждения, лежал Бадяга на широкой лавке в пропаренной до густого плотного тумана бане, а три голые бабы работали над растекшимся по желтому выскобленному дереву телом «князюшки». Две из них, то и дело окуная веники в шайки с квасом, хлестали по мягким телесам Бадяги так, что листья во все стороны летели. Третья работала руками, то колотя ребрами ладоней, то шлепая ими так, что шлепки эти можно было принять за громкие хлопки пастушьего бича, то щипала, выкручивала толстую, жирную кожу. Зная, что Бадяга не видит выражения ее лица, делала она такие страшные рожи, что казалось, будто и не добра она желает господину своему, а стремится принести ему мучения.
— Да полегче ты колоти, Маланья! — взмолился наконец Бадяга. — Так и хребет переломить недолго!
Маланья отвечала мужским, очень низким голосом:
— Потерпи, касатик, потерпи, ненаглядный! Хочешь здоровым да крепким быть, прими на себя всю удаль рук моих! Я, бывало, и прежнего нашего князюшку таким удовольствием баловала, так терпел он молча, и ты, соколик, терпи!
Но, видно, терпению князя Гнилого Леса пришел конец, потому что, громко крякнув, сполз он вначале с лавки на пол, на карачках добрался до двери, поднялся и вышел во двор. Здесь, рядом с баней, загодя был уж наметен большой сугроб, в который бухнулся Бадяга всем своим красным, распаренным телом, крикнув пронзительно и дико:
— Ай, спасите! Ай, жжет!
Оказалось, однако, что спасители нашлись: топот конских копыт послышался внезапно, и не успел Бадяга выбраться из сугроба, как был окружен лесом лошадиных ног, рывших снег копытами. Вначале ничего не мог он понять: откуда взялись здесь кони? Руками смахивая с тела снег, взглянул на ближайшего к нему всадника — и обмер, отпрянул в изумлении, чуть снова не бухнулся в сугроб: прежний Владигор, красивый, голубоглазый, величественный, властно смотрел на него!
— Ну, беги оденься, друг мой любезный, а то, не ровен час, застудишь ножки, — сказал он насмешливо.
Бадяга уже отвык выслушивать чьи бы то ни было приказы и хотел было рот открыть, чтобы воспротивиться, сказать, что здесь, в городище, только он может повелевать, но почему-то рот его так и остался закрытым, а голова сама собой стала согласно кивать. Колыхаясь жиром, побежал он в предбанник, где уж была приготовлена для него чистая одежда.
Вернулся он скоро и по причине спешки одет был кое-как: одна порточина заправлена в сапог, другая — навыпуск, поясок не застегнутой на вороте рубахи весь перекошен под свисающим вниз пузом. Улыбаясь приторно, затараторил:
— Вот уж радость так радость! Перуну, видно, надо жертву богатую принесть, посочнее да потучнее!
Владигор склонился с седла, играя поводьями, спросил:
— Да уж не тебя ли самого, Бадяжка? Сочнее да тучнее тебя во всем Синегорье не сыщешь. Ну да ладно, не взыщи за шутку. В дом скорей веди меня с Любавой да с братом моим единокровным, Велигором. Когда-то он в этом городище княжил, покуда Крас-колдун его не испортил так же, как и меня. С ним еще и Путислава, которую он от заклания спас. Для всех обед готовь, да дружинников моих не позабудь. Да живо, живо!
Все в городище зашевелилось. Точно горох из мешка, повыкатывались из домов на дворы дружинники Бадяги, потерявшие давно боевой свой облик — неряшливые, раздобревшие, с лицами испитыми, в синяках, потому что часто досуг свой проводили в попойках, кончавшихся ссорами и мордобитием. Бегали суетливо по городищу, сталкивались со своими женами, отталкивали их, бранясь. Весть о прибытии в городище истинного Владигора, прежнего князя Синегорья, всех страшно напугала. Хоть и вольными были они людьми в ту пору, когда служили князю Владигору, но уж коль нанялся служить, так и отслужи данное тебе серебро, не изменяй, не будь лытушником,[15] а тем паче князя не бросай в беде. За провинности такие и жизни можно было бы лишиться.
Наконец всех прибывших устроили с ночлегом, хорошенько накормив. За столом ни словом, ни недружелюбным взглядом, ни резким жестом не выказал князь синегорский Бадяге своей обиды. Но после ужина, когда уединились в особой горнице мужчины, Владигор со всего размаху тяжелой своей рукой смазал дружинника по толстой лоснящейся щеке, сказав при этом:
— Это тебе, Бадяжка, за твою измену задаток малый…
Бадяга, морщась, потирая горящую щеку, прогундосил:
— А далее что же?
— Далее отслужить ты должен будешь мне. Хорошо отслужишь, все тебе прощу. Нет — на себя пеняй. Я сам в жизни никого не предавал, а посему предателей не люблю.
Владигор, чуть откинувшись назад, разглядывал Бадягу. При женщинах не хотел он смеяться над опустившимся воином, теперь же дал насмешке излиться вольно. Одеться велел по-ратному. Бадяга долго отыскивал кольчугу боевую, на наложниц-прислужниц своих кричал — куда-де кольчугу задевали, чем вызвал смех у Владигора. А потом, когда одна из женщин принесла ему кольчугу, сказав, что на чердаке ее нашла, — всю в помете птичьем, в паутине, заржавевшую местами, — попытался натянуть ее Бадяга на себя, но дальше жирных, отвисших грудей кольчуга не полезла.
Владигор же все улыбался, улыбался, а потом посуровел:
— Ладно, не мучь себя, Бадяга! Да и кольчугу тоже не терзай, порвешь ненароком, а она еще кому-нибудь сгодиться может, воину настоящему, который не тебе чета.
Бадяга, красный от смущения, бросил железную рубаху на лавку. Владигор продолжал:
— Теперь слушай, Бадяга. Ладор в руках борейцев. Меня, когда являл я собой урода, горожане признать не захотели…
— Ну говорил же я тебе, — вздохнул Бадяга.
— Молчи и слушай! Борейцы, которых я ввел в Ладор, Любаву властительницей не признали. Кудруна, жена моя, стала править, хотя на самом деле советники Грунлафа всем заправляли. Бежала вслед за мной Кудруна, потому что… любила меня сильно, даже уродом меня любила. За то, чтобы я вернул себе лицо свое, от чар избавился, жизнь отдала свою. Теперь же еду я Ладор спасать. Мог, конечно, обратиться за помощью к братским княжествам — к Ильмеру или Ладанее, но быть обязанным кому-то не люблю. Сами возьмем Ладор, хоть и говорила мне Любава, будто во дворце столько борейцев развелось, совсем как мышей в амбаре!
Бадяга слушал Владигора и тосковал. Прощай, покой, безделье, нега! Им на смену снова приходили невзгоды, опасности. Но в то же время проснулись в нем прежние его задиристость и отвага, и подавить эти свойства противоречивой своей натуры Бадяга не мог, даже если бы захотел.
— Ну а от меня-то чего ты хочешь? — роясь в длинной бороде, спросил дружинник. — Воинов моих с собой позвать? Бери! Да только они такие же… как я. Хоть бы им маленько учения ради мечами помахать, из луков пострелять, копьями чучела поколоть. Вот тогда и будут у тебя три десятка дружинников отменных.
— Ладно, даю три дня на подготовку. Ты же, Бадяга, себя не беспокой и не тревожь.
— Это почему же? — фыркнул Бадяга, удивляясь. — Проку от меня уж не чаешь получить?
— Нет, чаю. Только прок от тебя иной я ожидаю. Хочу тебя в Ладор отправить первым, в разведку, в самое осиное гнездо, во дворец ладорский.
Велигор, молча слушавший разговор князя с дружинником, не скрывал презрения к тому, кто заменил его в городище. С сомнением в голосе он сказал:
— Эх, брат, непутное дело ты затеял. Какой из этого бочонка пивного разведчик выйдет?!
Но Владигор руку на плечо Велигора положил, с улыбкою сказал:
— Не спеши, брат, судить, покуда замысел мой не узнал. Нужен мне такой тайный посланник, который бы на воина и не был похож совсем. Оденем его челядником дворцовым, и никто из борейцев не усомнится в том, что это какой-нибудь, скажем, разжиревший на ворованных харчах повар — все ведь, знаю, у меня воруют, — а не переодетый лазутчик. Покуда не разведаем, как и кем охраняется дворец, нет нам туда ходу. Любава говорила, что борейцев во дворце не меньше тыщи. Вот Бадяга пусть и проверит это да на ус свой долгий намотает.
Дружинник, обрадованный тем, что сумеет перед Владигором свою вину загладить, поспешил с вопросом:
— А как же я в Ладор проникну, тем более во дворец? Кто ж пустит меня туда? Надо думать, борейцы стражникам строгий приказ отдали никого в Ладор не пропускать.
Владигор усмехнулся и негромко ответил:
— Не тревожься. И спрашивать ни у кого не станем дозволения в Ладор пройти.
Дружинники Бадяги должны были за три дня обрести прежнюю силу. Разминаясь упражнениями с мечом, луком или копьем, становились они с каждым часом все сильнее, ловчее, одним словом — теми, кем были раньше, и удивлялись, как это сумели женщины сделать из них разжиревших, неповоротливых увальней, ежедневно напивающихся до полусмерти.
«Это все бабы! — думали они. — Вот и Владигор тоже ведь пострадал из-за любви к Кудруне. Нет, дело мужчины — война, бой, кровь, звон мечей, а теплый дом близ печи и мягкой телом, услужливой жены — наша смерть! Так уж лучше погибнуть в сражении!» Дружинники уже не помнили, сколь сладко жилось им, когда всецело вверили они себя заботам женщин, умеющих бить зверя, бортничать, валить лес и в случае опасности защитить городище.
Коней тоже успели подкормить, почистить перед дальним переходом, и, когда через три дня Владигор на площади городища устроил своим силам смотр, перед ним на разномастных, но готовых к походу лошадях сидело пять десятков хорошо вооруженных воинов в доспехах, в шлемах, с мечами, копьями, у иных и по нескольку дротиков имелось, и уж у каждого был лук с запасными тетивами и пятьюдесятью стрелами в колчанах.
Каждого осмотрел Владигор, даже в сумы приседельные заглянул. Кой-кому сказал, чтобы потеплее взял с собой одежду, — от кольчуг в мороз телу зябко, а без кольчуг нельзя, всякое в дороге случиться может. Даже на Бадягу, подобравшего-таки себе доспех под стать дородности своей, посмотрел князь с одобрительной улыбкой, а потом громко, чтобы все слышали, сказал:
— Идем возвращать Ладор, все Синегорье — земли князей, отчичей и дедичей моих. Возьмем — всех награжу щедрою своей рукой. Нет — вместе поляжем, я и вы, на поле брани. Ехать будем спешно. Замерзшие болота дают нам возможность добраться самым коротким путем к Ладору. Ну да и пусть Сварог с Перуном нас в деле правом сопровождают!
Дружинники, разгоряченные речью, выхватили мечи из ножен и, ударяя клинками по щитам, прокричали длинно и страшно:
— И-и-и-хох! И-и-и-хох!
И через минуту уж были вложены мечи обратно в ножны. Владигор рукою показал в сторону прохода между валами и первым направил туда коня. Любава, Велигор и Путислава ехали вслед за ним, но когда дружинники Бадяги тронулись с места, разобравшись по двое, жены их, многие из которых были уже с животами, распустив нарочно волосы и царапая лица ногтями, завыли, запричитали, понимая, что больше никогда не увидят своих мужей. Они хватались руками за поводья, за ноги всадников, целовали им сапоги, молили не уезжать. Иные, потрясая кулаками, проклинали Владигора, виновника разлуки с любимыми. Будто не замечая их стенаний, подобные каменным изваяниям, сидели в седлах воины, а кое-кто из них, не сдержавшись, даже пинал женщин ногами, и те падали на истоптанный копытами, смешанный с конским навозом снег, не понимая, что плохого сделали они тем, кого любили, холили, лелеяли, точно малых детей. Лишь немногие из них смирно стояли в стороне, глядя на уезжающих с печалью. Они понимали, что не вернуть им их любимых, потому что чувство долга и стремление отдать себя до остатка делу брани, делу общего спокойствия и мира для мужчины превыше всего.
Подъезжали к Ладору не по главной дороге, что вела из Бореи в Синегорье, а лесами, чтобы никто из случайных попутчиков не принес в столицу весть о приближении отряда вооруженных всадников с родовым знаком князей Ладора. Остановились в сосновой, тихой по зимнему времени роще. Здесь из-за стволов деревьев были видны кровли княжеского дворца. Владигор приказал всем спешиться.
Но не одно лишь желание подойти к Ладору незамеченными побудило Владигора до времени спрятаться в лесу. Пока дружинники утаптывали снег на полянке, расседлывали и укрывали лошадей рогожами, доставали припасенный в дороге корм для них, сено и овес, он с мешком за спиной подозвал к себе Бадягу и Велигора и велел взять им топоры. Утопая в снегу чуть ли не по пояс, двинулись они, ведомые князем Синегорья.
Шли недолго. По пути Владигор приглядывался к деревьям, что-то искал. Наконец вышли на поляну, где стояла одинокая сосна с толстенным стволом, облаченным в панцирь изжелта-красной грубой коры. Вначале ногами, а потом мечом стал расчищать Владигор место рядом с деревом, пока не показался слой земли с еще не успевшей пожелтеть и пожухнуть травой. Острием меча тыкал в землю то тут, то там. Наконец о что-то твердое ударился клинок, и Владигор радостно воскликнул:
— Здесь! Нашел! Сдирайте дерн!
Бадяга и Велигор, послушные воле князя, принялись кинжалом и мечом рыхлить, взрезывать промерзшую землю, и на глубине в две ладони скоро открылась их взорам каменная плита. Владигор поторапливал:
— Поспешайте! Края плиты очистить надо!
Поработали еще немного. Вот уж и края квадратной плиты видны.
— Что ж дальше делать? — Велигор спросил.
— Плиту эту надобно поднять. За топоры беритесь, — последовал приказ Владигора, и острые лезвия боевых топоров с обеих сторон врезались в промежуток между камнем и землей, в которую плита, видно давно уж не тревожимая людьми, вросла крепко. Но расшатали-таки ее. Заскрипела, будто не желая расставаться со своим покойным ложем, а уж сильные мужские руки, подхватив ее с одной стороны, подняли, и открылся ход куда-то в глубь земли.
Встав на корточки, заглянул туда Бадяга — черно, как в печке, но видны ступеньки каменные.
— Эхма! — сказал он, шлем рукой придерживая. — Куда ж ведет сия нора?
— А в Ладор ведет, — ответил Владигор. — Еще прадедом моим была прорыта от самого дворцового подворья на случай, если обороняться от врага сил не хватит. Потому и говорил я тебе, Бадяга, что воротами городскими мы не воспользуемся.
— Выходит, я туда полезу, в эту дыру? — спросил дружинник, с опаской поглядывая на провал в земле.
— Выходит, что так. В том-то служба твоя и заключаться будет.
Владигор снял со спины мешок, достал оттуда серый кафтан крестьянский, старый овечий кожушок и шапку-колпак, суконную, дырявую. Бадяге протянул одежду:
— В такой одеже во дворец порой приходят те, кто на поварню хочет отдать припасы. Ход этот приведет тебя в конюшню. Конец пути узнаешь по ступенькам, что вверх поведут. Крышку деревянную тебе поднять придется — поднатужься, да не бойся, если прямо в стойле окажешься. Из конюшни выйдешь с этим мешком, в котором три глухаря лежат, — подстрелил, дескать, дорогой, — по всему подворью прогуляйся, а потом иди во дворец, только не по княжеским покоям, а коридорчиками, где обычно ходит челядь. Позаглядывай туда-сюда, повыведывай, узнай, что за силы у борейцев, остались ли прежние стражники или их всех уж на борейцев заменили. Если остановит кто-нибудь, птиц покажи, скажи, что на поварню идешь к повару Худиславу. Ну, понял все?
Бадяга вздохнул, почесал затылок:
— Да вроде все. Только…
— Ну, что еще?
— Только дозволь ты мне хоть кинжальчик взять с собой, вот этот, махонький.
И Бадяга показал на прицепленный к поясу кинжал с клинком довольно внушительной длины. Владигор взглянул, подумал и кивнул:
— Бери. Только подальше его в штаны запрячь. Ну, переодевайся!
Бадяга, кряхтя и пыхтя, при помощи Велигора снял с себя кожаный, с нашитыми стальными бляхами доспех, где части, прикрывавшие спину и грудь, ремешками были сцеплены. Владигор покуда на сосне несколько зарубок сделал, из которых скоро потекла живица,[16] топором срубил две толстые ветки, от сучков очистил их. Все из того же мешка достал пук льна, намотал его на палки и густо пропитал живицей. Бадяга меж тем переоделся и выглядел теперь как обычный крестьянин. Глядя на его огромный живот, невозможно было усомниться в том, что на княжеской кухне он бывает часто и у главного повара в чести.
Владигор осмотрел Бадягу со всех сторон — все как будто было в порядке, и ничей, даже самый пристальный, взгляд не признал бы в этом мужике старшего дружинника, бесстрашного когда-то рубаку.
— Ну, пусть боги тебе дорогу счастливой сделают, — сказал князь синегорский. — Помни, от твоей разведки многое зависит: сумеем ли сами взять Ладор или нужно к братским княжествам на поклон идти. Вот факелы, зажги пока один, а на пути обратном другой зажжешь.
Бадяга из мешочка, что на поясе висел, кремень достал, кресало, трут. От ветерка закрываясь, ловко высек искру, раздул огонь, скоро и факел запылал. С мешком за спиной полез Бадяга в жерло подземного хода, осторожно ставя ноги на оледенелые ступеньки. Вот уж он оказался в самом низу и пошел вперед по коридору с полукруглым сводом в два роста человеческих высотой, обложенному кирпичом. На века, как видно, выкладывался этот свод, с надеждой, с уверенностью даже, что не обрушится от просочившейся воды. И даже вымощен был камнем, поэтому шел Бадяга быстро.
Факел потрескивал, заливая пространство вокруг медовым светом.
Хорошо было идти Бадяге. Все внутри него напружинилось в ожидании дела опасного. Хотелось ему к тому же искупить перед Владигором свою вину, и думал он весело:
«Ну вот, схожу я, значит, во дворец, все разузнаю, посчитаю, сколько там борейцев, где они стоят, и быстренько назад. А потом…»
И Бадяга представлял, как ночью проберутся они во дворец, как нападут на спящих, как станут крошить врагов коварных, словно капусту, не жалея, как Владигор займет престол князей ладорских, а он, Бадяга, будет воеводой. С ухмылкой подумал и об обещанной Владигором награде, с удовольствием подумал, решил, что надо бы потом и женой обзавестись.
Но чем дальше шел Бадяга по подземному ходу, тем мрачнее становился. Уже не о награде думал, не о женитьбе, а о том, что разведка его весьма опасна.
«Ну, — думал, — выйду я из конюшни, и если там меня не словят конюхи, выйду, значит, на подворье и тут же, как карась в мережу, в руки борейцев да и попаду. „Кто, — скажут мне, — такой?“ Я, конечно, отвечу, как Владигор велел, но они мне не поверят, в застенок поведут, обыщут, кинжал найдут, станут пятки каленым железом жечь, кожу со спины сдирать, ногти вырывать. Знаю я их повадки волчьи…»
Как представил Бадяга картину возможных своих мучений, так потом покрылся, ноги заплетаться стали, отяжелели, будто гири к ним подвесили. Остановился, прислонился к холодной стене, дальше идти не хотелось. Вдруг видит, что на расстоянии десяти шагов, там, куда свет факела еще достигал еле-еле, замаячила фигура, пока вся черная.
Хоть и не был Бадяга трусом, но, никого не чая здесь встретить, да еще мыслями подогретый своими, так вдруг испугался, что замер на месте ни жив ни мертв. Человек же ближе подошел, тут уж свет факела открыл Бадяге его лицо, и то удивило воина, что было лицо подошедшего на кого-то похоже сильно: широкое, скуластое, со щек и подбородка на грудь длинная борода свисает. Шапка-колпак на нем, на плечах — кожушок крестьянский. Но глядел незнакомец на Бадягу с лаской, с любовью даже, миролюбиво по плечу его похлопал, улыбнулся и заговорил, и едва услышал Бадяга звук его речи, как одно с другим соединилось в голове его и чуть не рухнул в беспамятстве Бадяга, потому что хлопал по плечу и говорил с ним человек, на него самого похожий, как похожи друг на друга два лесных ореха.
— Ну, Бадяжка, горемыка, здравствуй!
— 3… з… здрав… ствуй, — пролепетал Бадяга.
— В далекий, вижу, путь собрался! — бодро говорил похожий на него мужик. — Мешок, гляжу, за плечи повесил, кожух надел бараний. Ой не замерзнешь! Токмо от другой беды сильно можешь пострадать. Не знаешь разве, что Крас-колдун во дворце живет, который сквозь землю видеть может? Он-то и послал меня, чтоб я сказал тебе: шел бы ты назад, Бадяга!
— Да как же… я… пойду? Там ведь… Владигор…
— Так и что ж, что Владигор? — с хохотком сказал мужик. — Ты ли не свободный человек? Зачем же ярмо на шею себе надел? Вот вылезешь ты в конюшне, а там уж ждут тебя. Только голову высунешь свою дурную, как тут же ее отрубят, и покатится она по конскому дерьму, коль сама дерьмом набита, а не умными мозгами. Иди назад, Бадяга! Владигору скажешь, что, как ни бился, заслонку, наверх ведущую, не сумел открыть, сил не хватило. Ну пожурит он тебя, да и отстанет.
Задумался Бадяга: такой находчивый ответ ему в голову не приходил.
— А и впрямь… — сказал он и заулыбался широко, счастливо.
— Впрямь, впрямь! — кивал ему мужик. — Возвращайся, браток, откуда пришел, целее будешь!
И уж хотел было, поблагодарив близнеца своего, идти назад Бадяга, но вдруг очень ему стыдно стало. «Да как же я назад пойду? — подумал, подавив желание скорей назад бежать. — Позор навеки на себя приму, род Бадяжий от эдакого позора никогда отмыться не сумеет. Не могу идти назад!»
Подобно быку рассерженному, голову упрямо наклонил Бадяга, скрипнул зубами, процедил:
— А ну, не знаю, как звать-величать тебя, дорогу уступи! Вперед пойду!
Похожий на него мужик отпрянул, но после из-под кафтанишка выдернул кинжал размерами и видом точь-в-точь как у Бадяги, резко замахнулся на Бадягу. Успел отпрыгнуть Бадяга, и это спасло его — рядом с горлом сталь кинжала молнией мелькнула. Но и дружинник не растерялся, прямо в рожу близнецу ткнул факелом. В глаз, правда, не попал, зато бороду спалил, щеку.
Завыл мужик, схватился рукой за опаленное место, и, мгновение улучив, выхватил свой кинжал Бадяга, врага пырнул им со всего размаху, прямо в живот угодил, а после сразу и повторил удар свой. Рот широко открыв, выронил кинжал и, схватившись руками за живот, грохнулся мужик ничком на плиты пола, растекаясь по нему зловонной бурой жижей, будто и не тело человека упало на пол, а содержимое бадьи, которой золотарь[17] вычерпывает из нужников дерьмо.
Не обращая внимания на запачканные сапоги, поспешил Бадяга дальше, понимая, что все это проделки нечистой силы, желающей его остановить. Лишь мельком подумал он: «А может, привиделось мне это? Может, тот близнец мой — это сам я со своими мыслями дурными? Эх, слаб человече!»
Спотыкаясь, шел по коридору, но вот увидел, что надо повернуть, и лишь свернул, как женщину увидел, боком к нему она стояла. Лица не разглядеть — руки ладонями раскрытыми к стене приложила, в них лбом уперлась, вздрагивает, будто плача. Повернулась к Бадяге резко, и увидел он, что мать его перед ним стоит с лицом заплаканным. На голове — платок, вся в черном, смотрит на Бадягу с упреком горьким:
— Что ж ты, сыне, брата своего убил родного? Или на то я тебя в муках рожала, чтобы ты дитя мое родное жизни лишил?
Бадяга опешил, не знает, что и сказать. Откуда взялся брат у него, да еще и близнец? И как мать его, давно уж схороненная, здесь оказалась? А ведь и впрямь мать, не спутаешь, да еще и сыном его называет…
— Матушка, — пробормотал Бадяга, — так ведь он на меня с ножом…
— Так и что ж, что с ножом?! — в порыве гнева шагнула к нему мать. — Разве не прав он был, когда уговаривал тебя вернуться? Что дурного брат может посоветовать? Вот и я молю тебя, касатик мой, — сменила гнев на просьбу ласковую, — вертайся ты, иди назад. Сгубишь голову свою, что же я делать-то буду без сыновей своих?! Помру от горя!
Бадяга растерянно молчал, не зная, как поступить. Сама матушка его просила, умоляла даже. Слеза непрошеная по щеке побежала, но нашел в себе силы Бадяга тихо спросить:
— А разве ты… не померла уж лет пять назад?
Вся затряслась от злости мать, позеленела даже, сжала кулаки:
— Я умерла?! Ах ты пащенок негодный! Говорят тебе, ступай назад — останешься в живых, а нет…
И стал на глазах меняться облик ее. Морщины углубились, нос провалился, в глазницах утонули угасшие глаза, кожа отпадала лоскутами, волосы седые из-под платка накинутого сыпались на плечи. С ужасом увидел Бадяга белый голый череп с черным ртом, разинутым в хохоте, услышал свистящий шепот:
— Мара, Мара, княгиня смерти к тебе с серпом уж подступает! Башку тебе отсечет, попробуй только сунься во дворец ладорский!
Но ужас, вначале обуявший Бадягу так, что показалось ему: вот-вот шапка с головы слетит, волосами вздыбленными сброшенная, — исчез, лишь только вспомнил он, как, будучи в боях, только смелостью, бесстрашием спасался от лихой беды, от смерти.
Кинжал выхватил из-под кожуха и вонзил в черноту зияющего рта, да и провернул еще клинок так, что хрустнули кости черепа и отвалился череп от шейных позвонков, на плиты пола упал и раскололся на куски. Вслед за черепом обрушился и скелет, с треском разлетелись кости в разные стороны.
«Ой, чур меня, чур! — уже бежал вперед Бадяга, моливший всех богов, чтобы избавили его от встречи еще с каким-нибудь „родичем“. — Ох, виноват, ох, слабину дал сердечную! Вот нечисть и ловит малодушного!»
Бежал так быстро, что под ноги не глядел, а надо было — споткнулся о ступени лестницы, круто вверх ведущей, и с облегчением вздохнул, поняв, что спасся. Факел, разбрасывая искры, догорал, но в нем уже не было нужды. Затоптал Бадяга его ногой, сел на ступеньку, отдышался. Стал размышлять.
«Конечно, — думал, — лучше было бы забыть все страхи, все, что наговорила мне нечисть, но ведь и впрямь может так случиться, что подниму я крышку — и сразу рубанут мечом. Как быть? Нет, не этого бояться надо. Крышку-то я лишь приподниму да осмотрюсь сквозь щелку. Другое нужно сделать…»
И положил Бадяга на ступеньку свой кинжал, с которым, думал, наживет хлопот он больше, чем получит пользы. Против кого бы стал он сражаться с таким оружием шутейным? Против борейцев, вооруженных мечами и копьями, одетых в брони? Положил и, прошептав короткую молитву, в которой просил у Перуна защиты, стал подниматься, не забыв на лестнице оставить и второй, запасной факел, нужный для обратного пути.
И вот уперся он головой в какие-то доски. Стал Бадяга, голову наклонив, загривком своим бычьим и плечами давить на крышку. Даже не ожидал, что она так легко поддастся, испугался — не слишком ли резко открывает? Поддержал руками, заглянул в щель, которая между полом и крышкой образовалась. Так и есть, он очутился под полом конюшни. Сразу почувствовал запах конского навоза, сена, лошадиный храп услышал, но людских голосов не было слышно, чему обрадовался несказанно.
Осторожно приподнял он крышку повыше, не забывая о предупреждении ложных сродственничков своих, которых под землею повстречал. Выбрался наконец и, как Владигор говорил, оказался в стойле, где конь лежал. Видно, сильно удивился конь каурой масти, прядал ушами, ноздрями тревожно шевелил, но Бадяга, сызмальства привыкший к лошадям, тихим словом каурого успокоил. Стряхнул с себя былинки и соломинки и смело к выходу пошел.
Дверь незапертой оказалась, и вот Бадяга уверенной походкой чистого в помыслах человека пошел между хозяйственных построек обширного дворцового подворья в сторону главного здания, где, как он полагал, и должны были находиться главные силы борейцев.
Расположение построек на подворье Бадяга знал хорошо — сколько раз ходил здесь, следил за стражей, расставлял посты. А поэтому шел он и головою в разные стороны, точно пентюх, неизвестно откуда и зачем сюда зашедший, не крутил. Подходя к главному крыльцу, издалека еще услышал звон стали. Сразу определил: мечи звенят. Услышал и брань, какую в бою порой услышать можно, когда противники один другого устрашить хотят, а себя взбодрить. Вышел из-за угла и видит: на большой площадке перед крыльцом сотни полторы борейцев (их узнал по доспехам) упражняются в воинском искусстве. Кто дрался на мечах, кто чучело колол копьем, кто дротики метал, кто с булавами «баловался», с боевыми топорами, кто ножи кидал в цель.
Но не эти воинские забавы поразили Бадягу. В стороне от мечников и копейщиков упражнялись в стрельбе лучники, и у каждого в руках был самострел. Немало видел Бадяга образцов этого оружия в мастерской у Владигора, и вот теперь все они имелись у борейцев.
«Экое наследство Владигор врагам оставил!» — сокрушенно подумал Бадяга, глядя, как ловко обращаются с самострелами враги Ладора.
Стрелков, правда, немного было — всего-то десятка с полтора, но, посмотрев на стены, что опоясывали княжеский дворец, увидел Бадяга, что по помостам деревянным, с внутренней стороны стен каменных, разгуливают борейцы, и у каждого тоже самострел имеется.
Понял Бадяга, что не только напротив княжеского крыльца самострельщики стоят, а всюду вдоль стены. Подумал: «Как же на подворье дружинникам пройти — сразу со стен, как куропаток, перестреляют».
Пока он так стоял, наблюдая за учениями борейцев, об опасности-то и забыл. Приметил его какой-то дружинник из борейцев, товарищам на Бадягу показал, и сразу трое с обнаженными мечами направились к нему.
— Эй, дядя! — еще не подойдя вплотную, крикнул один из них, в шлеме, украшенном торчащими вверх огромными клыками вепря. — Ты что здесь белендрясничаешь?[18] Кто такой? Откуда? Зачем пришел?
— Может, лазутчик? Выведывает что? — с подозрительностью в голосе сказал, сурово сдвигая брови, другой бореец.
Бадяга, скорчив обиженную мину, загундосил:
— Да какой же я лазутчик, витязи! Сквозь хозяйственные ворота сейчас прошел — спросить у стражи можете! — врал Бадяга напропалую, развязывая мешок. — Вот, Худиславу на поварню трех глухарей несу. Примет с радостью, еще попросит. Все для вас, голубчиков борейских, стараюсь, по лесам брожу, бью птицу, дичину всякую!
И, выудив за шею одного из битых глухарей, показал кривоклювую, бородатую головку, что, видно, убедило воинов.
— Ну ладно, иди отсюда, вахлак деревенский, да чтоб больше здесь не шатался, а то отделаем за милую душу! — был великодушен бореец с кабаньими клыками на шлеме. Бадяга, часто кланяясь, попятился и скрылся за углом дворца.
Во дворец вошел он со стороны заднего двора. Этим входом обычно пользовались прислужники, повара, прачки, истопники, все те, кто приносил на кухню снедь, поэтому и не боялся Бадяга, что кто-нибудь заподозрит в нем чужого человека. Шел он по узким переходам смело и даже напевал что-то себе под нос, не забывая, однако, вглядываться пристально во все, что происходило во дворце. Во многих коридорах, в горницах, покоях, гридницах видел он стражников, но никого из тех, кто охранял покой дворца при Владигоре, не узнавал — опираясь на копья, стояли повсюду борейцы в рогатых шлемах, с выражением звериной лютости на лицах. Все, как на подбор, с маленькими глазками, горевшими злым огнем, подбородки скошены, рты широкие, из приоткрытых ртов зубы большие, острые торчат, вытянутые вперед носы с чуткими, трепещущими ноздрями. Иной раз переговаривались они между собою, и голоса их были писклявыми, и ни слова нельзя было понять из этих фраз, будто не люди говорили, а звери, сообщавшиеся друг с другом на языке, только им одним понятном.
Кое-кто останавливал Бадягу, произнося короткий приказ, и Бадяга с миролюбивой улыбкой на лице сразу раскрывал мешок, доставал оттуда глухарей, говорил, что идет на кухню к Худиславу, чтобы им, голубчикам-борейцам, было что поесть на ужин. Воины кивали, не забыв с брезгливыми гримасами на своих крысиных лицах ощупать руками его одежду, и десять раз уж благодарил Бадяга Перуна, надоумившего оставить кинжал в подземном переходе. Если бы нашли у него оружие, то прогулка по дворцу закончилась бы скоро.
Знал Бадяга Худислава, и тот Бадягу знал, поэтому и не собирался дружинник идти на кухню, боясь, что главный дворцовый повар или предаст его сознательно, коль уж посвятил себя служению борейцам, или невольно проговорится, по имени назвав его при посторонних. Поэтому-то и задумал Бадяга расстаться со своими глухарями, положив мешок в закуток какой-нибудь, — не возвращаться же назад с тем, что нес на кухню? Скоро уловил он запахи готовившейся пищи, поварня была недалеко.
«Вот тут и брошу глухарей…» — подумал Бадяга, увидев дверь приоткрытую, ведущую в какую-то каморку. Хотел он еще на пути обратном позаглядывать в парадные покои, чтобы и там проведать, много ли воинов стоит на страже. Оглянулся, в каморку юркнул, где, видно, хранились скатерти — по духу полотняному определил. Раскрыл мешок, птиц одну за другой вытащил, на пол бросил, и только пустой мешок за плечи закинул, как вдруг дверь распахнулась широко, впуская в каморку свет из коридора, факелами освещенного.
Замер от неожиданности Бадяга: заслонив собой дверной проем, на пороге кто-то стоял и смотрел на него, руку положив на рукоять меча. Не видел его лица Бадяга, зато человек тот прекрасно мог рассмотреть Бадягу.
— Ну-ка выйди, мил человек, выйди-ка сюда! — послышался приказ.
Вышел Бадяга в коридор. На лице — улыбка, дескать, не понимаю, в чем дело. В коридоре увидел богато одетого борейца. Без шлема, но на свиту дорогую, нарядную кольчуга надета. Меч, кинжал к поясу прицеплены. Был бореец низкорослый, сутуловатый, волосы как пакля, редкая бороденка, как мочалка, глазки плутоватые так по сторонам и бегают, рот слюнявый приоткрыт в улыбке гадкой, зубов уж половины нет. Но сразу догадался Бадяга, что человечек этот никудышный его знает.
«Да это ж поваренок Солодуха! — вспыхнуло в сознании Бадяги. — Вот уж вляпался, не повезло!»
Солодуха продолжал улыбаться. Как видно, хотел подольше насладиться замешательством Бадяги, ведь он помнил, что дружинник отбыл в Пустень вместе с Владигором, и уж если явился обратно в одежонке смерда, то, значит, с какой-то тайной целью.
— Что ж ты делаешь здесь, друг мой, Бадяга?! — с притворной лаской спросил Солодуха. — Бородой-то занавесился, но я тебя спознал, спознал! Чего ж не в доспехе? Да и меч оставил где-то. Вижу, раздобрел! Похоже, жрешь за троих?
Бадяга сдаваться не хотел. Учтиво поклонился, юркнул в каморку на минутку, глухарей, схватив за шеи, вынес в коридор:
— С кем-то ты спутал меня, господин. Никакой я не Бадяга, а Викула, охотник я из ближайшей к Ладору деревеньки. Вот на поварню Худиславу глухарей несу. Так что пропусти уж ты меня, а то птица будет несвежей, попротухнет.
Солодуха, руки в боки уперев, снисходительно улыбнулся:
— Да и впрямь протухнуть могут, если их в сей каморке держать. А почему же ты, Викула, глухарей своих туда запрятал, а не на поварню понес?
Не замешкался с ответом Бадяга:
— А хотел, чтоб полежали они там чуток, покуда я нужник не найду. Приспичило, понимаешь…
— Верю, Бадяжечка, бывает, — сокрушенно покачал головой Солодуха. — А по какой нужде спешил-то? По малой али по большой?
Злиться уже начинал Бадяга. Понял он, что Солодуху ему не провести, но ответил нарочито небрежно:
— А все вместе, Солодуха, — по малой да и по большой, чтобы время зря не тратить. Пропусти-ка ты меня, мил человек, а то…
Солодуха заметил злой огонек, мелькнувший в глазах Бадяги, и, если б не отпрыгнул назад проворно, железные пальцы дружинника сомкнулись бы клещами на шее его. Но ушел от смерти Солодуха, выхватил из ножен меч, закричал пронзительно:
— Борейцы! Стража! На помощь! Тут высмотрень Владигора! Скорей сюда!
Сам же, на стражу не надеясь, размахивая мечом, наступал на безоружного Бадягу. Вот уж клинок рядом с головой Бадяги просвистел. Пятился дружинник, мешком пытался парировать удары — вначале получалось, один раз чуть было не запутал в мешковине меч поваренка. Солодухе, однако, удалось ранить его в руку, и близкой уже виделась Бадяге смерть, но случилось то, чего ни Солодуха, ни дружинник не ожидали.
Вдруг расширились от ужаса и боли глаза Солодухи, меч со звоном упал на плиты пола, и увидел Бадяга, как две черные лапы обхватили сзади плечи Солодухи, а кошачья морда с оскаленными острыми зубами впилась в шею поваренка, урча жадно, люто. Пытался Солодуха оторвать от себя животное, но кошка, вцепившись когтями в кольца кольчуги, а зубами в шею его, казалось, срослась со своей добычей. Еще несколько судорожных попыток Солодухи освободиться ни к чему не привели, и он, пошатнувшись, рухнул на пол, а кошка, сделав свое дело, черной стрелой метнулась в темноту.
Глядя на распростертое в луже крови тело, ошеломленный Бадяга не мог сдвинуться с места. Но тут в дальнем конце коридора раздались шаги, зазвенело оружие, послышалась нечленораздельная отрывистая речь, будто и не люди это говорили, а оборотни.
«Худо дело! — подумал Бадяга. — Меня же в убийстве обвинят!»
Он хотел было отсидеться в каморке, но сообразил, что оттуда отступать ему будет уже некуда, и тотчас принял другое решение — подобрал с пола меч Солодухи, выдернул из ножен кинжал и нырнул в каморку, притворив за собой дверь.
Шаги раздались уже совсем близко. Фразы, произносимые на непонятном языке, тем не менее дали Бадяге возможность понять, что борейцы, стоя над трупом Солодухи, рассуждают над причиной ужасной смерти поваренка, бывшего, похоже, одним из первых лиц во дворце. Но вот один из стражников потянул за ручку двери, пытаясь ее открыть, и Бадяга не стал препятствовать этому. Когда дверь отворилась, дружинник с громким криком сделал выпад, пронзив стражника насквозь. Пронзил, тут же вытащил из тела меч и принялся рубить направо и налево не ожидавших нападения воинов.
— Вот, получайте, крысы борейские! — неистово кричал Бадяга. — Будете знать синегорцев!
Он положил у входа в каморку не меньше десяти человек, но со всех сторон к нему уже спешили стражники с обнаженными мечами. Пробиться к переходам, по которым он мог бы выбежать на подворье, было довольно трудно. Тем не менее ничего другого Бадяге не оставалось.
С медвежьим ревом, всегда устрашавшим врагов в бою, по-бычьи наклонив голову, бросился он на борейцев, не способных в узком коридоре действовать согласно. Разя правой и левой рукой, не переставая колоть и рубить, Бадяга быстро расчистил себе дорогу. Стремясь догнать и сразить тех, кто не выдержал его решительного натиска, он скоро оказался у лестницы, ведущей во двор, но по ней поднимались воины в рогатых шлемах. Бадягу это не смутило. Борейцам было тесно на лестнице, они только мешали друг другу, не имея возможности размахнуться мечом как следует. Бадяга сшибал их одного за другим, и они кубарем катились вниз по лестнице, стеная, обливаясь кровью, уверенные, что против них сражается целый отряд великолепно обученных воинов. Иные в панике стремились оставить лестницу, звали на помощь, но Бадяга мечом своим и кинжалом быстро заставлял их умолкнуть.
Но вот и двор. Зарубив еще двух человек, бросился бежать к конюшне, хоть и понимал: «Нельзя в конюшню! Увидят, как я под землю ухожу, догонят или убьют в том проходе и на наших выйдут. Или завалят ход, и тогда уже Владигору незаметно в Ладор не проникнуть!»
Но что, кроме подземного хода, могло спасти Бадягу? За ним бежало не меньше пяти десятков воинов, по нему уже стреляли из луков, самострелов, стрелы свистели над его головой. Острый запах навоза обдал Бадягу, когда вбежал он в просторную конюшню, поделенную на несколько десятков стойл. К радости своей великой, увидел, что рядом с воротами брус деревянный поставлен для запора. Тут же, бросив меч, схватил дружинник этот брус да и наложил на крюки, вбитые в створки. И пока стучали, колотили топорами, мечами, копьями в толстые доски ворот, стремясь разбить их или сорвать с петель, Бадяга уж подбегал к стойлу, где конь каурый отдыхал лежа. Как и прежде, взволнованно прядал ушами конь, ноздрями встревоженно двигал, но Бадяга, быстро крышку приподняв, спустился в подземный ход, не забыв крышку с немалой осторожностью положить на прежнее место, чтобы и малой щели не осталось.
Когда же, сломав ворота, вбежали борейцы в конюшню, и обыскали все стойла, и переворошили сено, и даже кровлю копьями истыкали, то так и не нашли дерзкого пришельца, порубившего едва ли не двадцать их товарищей. Заглянули и в стойло, где лежал каурый жеребец. Все здесь было, как и в других стойлах, — пол ровно устлан сеном, тут и там корытца с водой. Жеребец недовольно подергивал ушами, будучи явно обижен на людей, нарушивших его уединение. Если бы вдруг, по воле богов, этот жеребец сумел заговорить, никогда не сказал бы он этим существам в рогатых шлемах, куда исчез толстый бородатый человек, которого они искали.
7. Тысяча бесполезных самострелов
Хоть и тучен был Бадяга и не привык бегать, несся он, однако, по подземному ходу так быстро, что, наверно, и волк бы не угнался за ним. Кожушок и шапку сбросил, о кинжале и факеле, оставленных на ступеньках лестницы, далее и не вспоминал, бежать приходилось в полной темноте, поэтому, чтобы не разбить себе голову на поворотах, руки вытягивал вперед. А сердце от радости так и стучало. Не верилось ему, что из передряги вышел живым и даже невредимым, если не считать неглубокой раны на руке. Бежал и о себе с уважением немалым думал, представлял, как станет описывать свои подвиги Владигору, Любаве, Путиславе. Жалел, что не будет рядом и баб-разбойниц, — вот уж повизжали бы они от радости, слушая, как их любимый князюшка рубил врагов, точно кочаны капусты.
Вот наконец-то добежал — свет вдалеке увидел, струившийся сверху. Поднялся по ступенькам и — рухнул прямо на руки Владигора, обессиленный, весь в поту, с головы до ног кровью залит. Стали растирать ему виски — снегом растирали, меда крепкого, хмельного в рот влили, и скоро ожил Бадяга. Владигор и Велигор, под руки поддерживая, повели его, расслабленного, как после хворобы долгой, туда, где расположились остальные. Увидел Бадяга, что дружинники, покуда он отсутствовал, времени даром не теряли. Отрыли с десяток землянок, крытых бревнами и дерном, сверху обсыпали снегом, чтобы издалека не видно их было. В одну из таких землянок и провели Бадягу.
Тепло здесь было, — меж валунов горел костерчик. Вокруг Бадяги, укрытого тулупом, расположились братья, Любава, Путислава и Прободей.
— Ну, рассказывай… — потребовал Владигор, желавший поскорей узнать, что делается во дворце.
Не стал повествовать дружинник о привидениях, встретившихся ему в подземном переходе, — сам не верил во всамделишность их. Но, не забывая и малой подробности, поведал обо всем, что случилось с ним на подворье да и во дворце. Не забыл и о кошке рассказать, перекусившей жилу на шее Солодухи.
— Может, рысь была? — недоверчиво взглянул на Бадягу Владигор. — Не видел прежде, чтобы кошки людям шеи грызли.
— Да что ж я, рысь от кошки не отличу? — обиделся Бадяга. — Но сужу я так: не простая это кошка, знала она меня, вот и вступилась…
— Ладно, дальше говори, — повелел князь синегорский.
Тут уж, когда дошло до описаний собственного удальства, Бадяга красных слов не пожалел. Не двадцать, а сорок воинов борейских отправил он туда, откуда людям уж нет возврата, и так подробно, так красочно все описал, поглядывая при этом не на Владигора, а на женщин, что слушатели лишь дивились, не подозревая прежде в дружиннике Бадяге такого мужества, отваги и силы богатырской.
— Короче, — закончил воин, — на сорок человек меньше стало борейцев во дворце, но скажу тебе, княже, что осталось их еще около тысячи, — уйма их, что вшей у нищего!
— И, говоришь, все с самострелами? — голосом глухим спросил Владигор, нахмурясь.
— Все! На крепостных помостах расположились, смотрят меж зубцов, и у каждого — самострел. Скажу тебе еще, что весьма искусны они в стрельбе, навострились в оном деле. Так что, если и проберемся мы на подворье, они со стен нас, как зайцев, перестреляют, а другие, как тараканы, изо всех щелей дворцовых повылезут да и в бой пойдут. И что за люди! На борейцев даже и не похожи. Звероподобные, и лают, точно собаки, — ни слова не понять. Где Крас и Хормут таких набрали? Не иначе как из диких лесов позвали сволочь всякую, чтоб им служили. Ну вот вся моя разведка. Не серчай уж, если не больно-то веселые вести принес тебе.
Владигор молчал. С чего бы это стал он сердиться на Бадягу? Знал он и без того, что, коль уж заняли борейцы дворец ладорский, то постараются его сильнее укрепить, силы нагонят туда немалые. О другом печалился князь Синегорья. Только сейчас понял он смысл слов Белуна, предупреждавшего его когда-то, что не стоит миру новое оружие давать. Вот надумал Владигор за счет самострелов стать сильнее борейцев — тщеславие его и сгубило: на ристалище отправился и ради женщины изобретение свое в руки врагов передал — подарок сделал!
— Сам я во всем виноват! — откровенно вдруг признался Владигор. — Говорили мне: «Не езди в Пустень, не вози туда самострел!» Нет, не послушался, погнался за рукой Кудруны, не ведая, что дурманом чародея, а не любовью был я опоен!
Любава строгим голосом прервала речь брата:
— Но ведь она-то тебя любила, больше жизни своей любила! Неужто ее забудешь?
Ничего не ответил Любаве Владигор, только долго-долго посмотрел в глаза ее, надеясь, что все поймет сестра и его простит. Не было сейчас в его сердце иных чувств, кроме любви к отчизне. Помолчав, сказал:
— На вопрос твой я после дам ответ, когда Ладор снова нашим будет. Сегодня ночью, нет, завтра утром пойдем на приступ через ход подземный!
Велигор с большим сомнением промолвил:
— А не попадем ли в капкан борейский? Что если проведали враги о подземном ходе? Нетрудно им, уверен, тогда сообразить, что только там и сможет проникнуть на подворье Владигор, если уж замыслил такое дело. Появление Бадяги для них — вернейшее доказательство твоего желания дворец себе вернуть. Не дурак же Крас, испытал уж я на себе его коварство!
Тут Прободей высказался:
— Послушай, княже, стоит ли так спешить? Не лучше ли воздержаться от приступа прямого? Даже если и не прознали борейцы о ходе тайном, то с полусотней воинов нам их не одолеть. Сам считай: на каждый наш меч по двадцать борейских мечей и самострелов приходится. Пусть каждый наш дружинник вдвое сильнее ихнего, даже, может, втрое, но все равно, когда на тебя зараз два десятка лезет, затылочек почешешь да призадумаешься.
— Верно Прободейка говорит, — кивнул Бадяга. — Что, княже, хочешь голову сложить? Тогда будут борейцы вечно Синегорьем править и Любаву к власти не подпустят. Мой тебе совет таков: коль ты прежнее свое обличье вернул, то кто ж из синегорцев откажется князем тебя признать? Ведь прогоняли урода, а не тебя! Вот и надо тихо-тихо в Ладор пробраться да по домам влиятельных людей походить, поговорить со всеми. Узнав, что ты вернулся, соберутся всем миром подданные твои, дворец обложат, вот и принудим борейцев к сдаче. Тихо, мирно, без крови и без потерь. Чего же лучше?
План Бадяги и в самом деле разумным Владигору показался, так же, как и речи брата и Прободейки. Окончательно склонила его к мысли поддержать Бадягу Любава, которая, вздохнув, сказала:
— Брат, пожалей себя, воинов побереги. Знаю, отчаянный ты, но силы неравны. Давай народ ладорский поднимать.
— Ну будь по-твоему, сестра. — Владигор кивнул. — Завтра попробую пройти через ворота. Если уж поднимать людей, то нужно им всем показать, что князь вернулся настоящий, а не урод…
Уже темнело, поэтому Владигор распорядился, коней укутав потеплее, всем дружинникам идти в землянки и спать до утра, а сам долго еще ходил между сосен, и на душе у него было уныло, точно уговорили его товарищи на дело нехорошее, пустое.
Когда рубился Бадяга в коридоре ладорского дворца, черная большая кошка, та самая, которая перекусила жилу на шее Солодухи, следила за дерущимися из темного угла. Светляками горели два круглых ее глаза, и вздыблена была шерсть на спине ее выгнутой. Когда же с боем стал пробираться Бадяга к лестнице, она, к полу брюхом прижимаясь, двинулась вслед за ним. Стремглав пронеслась вниз по лестнице, и, когда дружинник, не переставая наносить удары, выкатился на подворье и бросился к конюшне, кошка тоже побежала за ним и проскочила в конюшню через ей одной известный лаз. Видела она, как закрывал Бадяга ворота, как бежал к стойлу, поднимал крышку в полу. Едва скрылся он под землей, появились те, кто гнался за ним. Видела кошка, что безуспешными оказались поиски борейцев, злые, усталые побрели они назад, вложив в ножны мечи свои.
А когда над Ладором опустился полог темной ночи, поднялась эта черная кошка по лестнице на деревянный помост, установленный вдоль стен, по которому днем расхаживали дозорные. Знала она, что ночью спят борейцы, уверенные в том, что в это время никто не отважится на штурм. Спят и во дворце, и в сторожевых башнях. Но знала также кошка, что самострелы они с помоста не уносят, оставляют, прислонив к стене рядом с колчанами, полными стрел, — на случай, если тревога вдруг заставит всех на стены выйти, чтобы отразить возможный приступ.
По времени ночному, зимнему только пять стражников, поставленные на помосте, должны были следить за спокойствием внутри подворья и за его пределами — не бродят ли под стенами подозрительные люди, не собирается ли кто проникнуть во дворец. И так далеко друг от друга они стояли, что не видели товарищей своих, поэтому лишь перекликались на всякий случай в темноте: «Поглядывай! Посматривай! Послушивай!»
И где же им было заметить черную кошку, бесшумно поднявшуюся на помост! Воины не видели ее, зато она прекрасно различала во мраке их фигуры, но гораздо сильнее привлекали ее внимание прислоненные к стене самострелы, и вот подкралась она к одному из них. На задние лапы приподнявшись, опершись передними о железное луковище, стала перегрызать острыми зубами тетиву пеньковую. Вмиг перегрызла, и в мочалку превратилась тетива крученая. Вполне довольно было, чтобы самострел негодным стал.
Так, бегая от самострела к самострелу, перегрызала кошка их тетивы. Чуть ли не до самого рассвета трудилась. Если первые две-три сотни одолела она без всякого труда, то потом стала уставать, зубы на пятой сотне уже притупились, на седьмой едва ли не под корень источились, но кошка все грызла и грызла тетивы, а уж потом и когти ее острые в ход пошли.
Не считала она, сколько перегрызла тетив. Знала только, где можно еще найти самострелы. Проскользнула во дворец, когда с теми, что на стене стояли, покончила. В покоях, где борейцы спали, нашлась работа, а когда, измученная, с изломанными зубами и когтями, перегрызала очередную тетиву, ощутила вдруг, как все внутри у нее заклокотало, задвигалось. Кошачьи лапы и туловище увеличиваться стали. Шерсть черная отпадала клочьями, обнажая кожу гладкую, человеческую. Хвост уменьшался, потом и вовсе исчез, но менее зоркими делались ее глаза — способность видеть в темноте постепенно пропадала. Человеческими делались глаза.
Карима с четверенек поднялась. Руками провела по телу — голая она совсем. Рядом храпели спящие борейцы. На цыпочках ступая, одежду мужскую, лежавшую на лавке, взяла в охапку и вышла с нею в сени, где оделась быстро. Выйдя на подворье, нашла быстро конюшню, — темнота не была ей помехой, оставались в ней прежние чутье и зрение кошачьи. Помнила Карима, где то стойло, в котором Бадяга крышку открывал. Ощупью нашла его, загородку отворила — конь услышал, захрапел, заржал тихонько, а уж Карима, встав на корточки, ощупывала пол.
Вот нашла четырехугольник крышки. С трудом сдвинула ее, а там уж ноги сами побежали вниз по ступенькам, а дальше — вперед по коридору, где ни зги не видно было. Шла Карима долго, то и дело холодных стен рукой касаясь, но наконец споткнулась о ступеньки, наверх ведущие. Головой ударилась о камень. Дальше не подняться. Догадалась, что чем-то сверху закрыли лаз. Плечами, спиной уперлась она в преграду, надавила вверх что было сил — заскрипела, сдвинулась плита! Воздух морозный в подземелье ворвался через образовавшуюся щель. Теперь уже руками двигала плиту Карима, и вот выбралась она на волю.
Тут же чутьем своим изощренным уловила запах человеческого жилья. Пошла туда, где пахло лошадьми, очагами, едой. Увидела землянки. Вход в каждую завален лапами еловыми. Поняла: здесь и остановился Владигор, пославший Бадягу во дворец ладорский.
Не знала, в какой землянке князь ночует, поэтому сучья от входа самой крайней отвалила, храп услышала, громко позвала:
— Владигор, князь синегорский, здесь ли?
Поначалу никто не отвечал. Потом голос, хриплый спросонья, недовольный, из темноты послышался:
— Да кто там спать нам не дает? Какого лешего тут бродишь?
Карима еще настойчивей сказала:
— Поторопись, дружище, скажи, где Владигор! Медлить будем, не вернем себе Ладора! К нему ведите! Владигору и поведаю, кто я и какого дела ради по ночам его тревожу!
— В третьей от нас землянке он ночует! — слышался все тот же недовольный голос. — Ишь, приспичило! Бродют тут…
Карима бросилась туда, где горбился нужный ей сугроб — землянка Владигора. Смело сучья разбросала, крикнула в черное отверстие:
— Князь Владигор, вставай скорее! Случай представился тебе занять дворец! Не мешкай!
Чирканье кремня о кресало услышала Карима. Вскоре с лучиною горящею в руке появился перед нею высокий, широкоплечий витязь в чешуйчатом доспехе — так и спал в нем Владигор. Но не урода увидела Карима, ставшего таким по ее вине, когда, послушав Краса, подменила она личину. Свет лучины освещал его прекрасное, чистое лицо. С восхищением смотрела на Владигора Карима, на миг даже потеряв дар речи. Но, совладав с собою, заговорила:
— Что, Владигор, не узнаешь бабу, которая тебя с дружинниками оставить у себя в лесу хотела? После в Пустене с кукушкой на спине стреляла в цель, тебя желая победить. Ненавидела Кудруну, которую ты так любил. Крас-колдун личину приказал мне подменить твою. Помнишь, обменялись? Вот и стал ты уродом, колдовскую надев личину. Перед тобой винюсь я и исправить зло хочу. Иди в Ладор, прямо во дворец. О ходе подземном не проведали борейцы, спят они сейчас. Я все тетивы на самострелах… порвала, не будет тебе вреда от оружия твоего. — И, чуть помолчав, спросила глухо: — Кудруна-то с тобой?
— Умерла Кудруна, — тихо ответил Владигор. — Чтобы лицо мне возвратить, жизнь отдала.
Рядом неожиданно Путислава очутилась. Владигору протянула ту самую личину, что была на нем в последний день состязаний, молвила:
— Возьми. Учитель твой, Белун, ее рассматривал. Краса письмена узнал.
Владигор на личину с улыбкой посмотрел, в трубку свернув, сунул в кожаный мешочек, что на поясе висел. Велигору, вышедшему из землянки в полном боевом облачении и при оружии, сказал:
— Светает. Поднимай людей. Скажи: идем в Ладор, пусть снаряжаются; копья, топоры, мечи и луки — все сгодится. И пусть спокойны будут: о подземном ходе враги не знают, самострелов, к бою годных, нет у них. Нападем врасплох…
Велигор, уже собравшись исполнить приказание, повернулся к Владигору:
— Перуну бы перед боем жертву не худо принести. Такое дело!
— Сам знаю, что не плохо б, да время упустить боюсь. После на алатырь[19] тучного бычка положим. Ну, собирай дружинников!
Точно медведи после зимней спячки, недоспавшие и злые, выходили воины из землянок. Еще вчера были они уверены, что Владигор откажется от безрассудного приступа твердыни ладорской, теперь же все было по-иному. Велигор, Бадяга, Прободей, узнав, что у выхода в конюшне их никто не стережет и что самострелы к бою непригодны, убеждали дружинников, что дело-де окончится удачей непременно. И мрачные, невыспавшиеся воины, облачаясь в доспехи, проверяя пальцами остроту клинков и копейных наконечников, пробуя, туго ли держатся на луках тетивы из бычачьих сухожилий, с каждым мгновением все сильней и сильней проникались верой в победу.
В ход подземный спускались осторожно, первыми пошли с факелами Владигор, Бадяга, Велигор и Карима, которой дали шлем и панцирь. Князю она была нужна затем, чтобы показать, в каких именно помещениях разместились воины Краса и Грунлафа.
Но вот издалека пахнуло запахом конюшни, показались и ступеньки лестницы. На одной из них князь приметил оставленный Бадягой кинжал. Поднял его, передал дружиннику:
— Возьми. Негоже оружием бросаться.
Бадяга, засопев, сунул кинжал за пояс.
Конюшню миновали благополучно — ни один из конюхов не ночевал здесь. Владигор приоткрыл ворота, выглянул во двор. Рассвет уже вступал в свои права, но долго спавшее зимнее солнце еще не позолотило кровли родного дворца, было тихо, слышалась лишь изредка перекличка часовых на стене.
Прикрыв ворота, Владигор сказал Бадяге, Велигору и Прободею:
— Вдоль стены дворцовой с дружинниками цепью растянитесь. Пусть каждый держит лук наготове. Шум сейчас подымем, на помосты выбегут борейцы. Опасности от них не ждите. Стреляйте беспрерывно, пусть их побольше там, наверху, ляжет. Тех, кто вниз сбежать успеет, рубите без всякой жалости! Ну, пошли!
Словно ночные тати, неслышно и неприметно выходили дружинники из конюшни. Шли направо и налево, находя укрытие за углами дворцовых зданий, за прачечными, амбарами, погребами. Притаились, держа в руках тугие луки с наложенными на них стрелами, имея по две, по три стрелы в зубах, и вот, разрывая предрассветную тишину, протрубил рог Владигора. Сам князь трубил свой княжеский сигнал, известный не одним лишь синегорцам.
Всполошились часовые, гортанно закричали, забегали по дубовым помостам, но засвистели стрелы, и, обагряя кровью доски, падали стражи. Из проходов, что в стенах были сделаны, стали выбегать борейцы, услышавшие зов караульных. Хватали самострелы, колчаны, и слышно было, как с отчаянными криками, увидев порванные тетивы, бросали они оружие, а стрелы дружинников Владигора разили их наповал.
Подворье оглашалось воплями сраженных, криками о помощи, ревом тех, кто, не надеясь на самострелы, вытаскивал мечи из ножен, но не видел, кто и откуда в них стреляет. Помосты были уже завалены телами убитых или корчившихся в предсмертных судорогах бойцов. Иные борейцы, кто посмелее, сбегали вниз, бросались на дружинников. Даже после понесенного урона их было много, очень много, однако синегорцы, памятуя, что за правое дело бьются, нещадно рубили врагов отечества. И слышали синегорцы, что нечеловеческие звуки издавали борейцы, рычали, хрюкали, визжали по-звериному, поэтому без жалости кололи и рубили этих полулюдей-полукрыс…
Без жалости разил Владигор борейцев мечом отцовским. Оставив на долю дружинников тех, кто был на стенах, стремился прорваться он вместе с Велигором, Каримой и Путиславой, тоже в доспехи облаченной, к главному крыльцу. Кое-кто из неприятелей, не рассмотрев в потемках, что приключилось с самострелами, выбегал на крыльцо, целился в наступающих и тотчас бросал оружие, увидев, что порваны тетивы. Замешательством борейцев Владигор с друзьями не преминул воспользоваться, и вот уж они стояли на крыльце. Вбежали в сени и быстро очистили их от врагов. Тяжело дыша, спросил у Каримы Владигор:
— Где Крас?1 Где Хормут?! Знаешь?!
— Колдун в твоей ночует спальне! Хормут — в Любавиной!
Весь обагренный кровью, пылая лютой ненавистью к тем, кто отобрал у него престол отцовский, Владигор, расшвыривая изредка встречающихся на пути борейцев, ложившихся, как срезанная серпом трава, под ударами его меча, вбежал в столовую палату, откуда через небольшие сени мог попасть в спальню. Здесь он вдруг остановился — посреди зала стояли два человека. Один — в длинном черном одеянии, с лысой головой, блестевшей в свете факела, как муравленый глиняный горшок, другой — с мечом, длинноусый. Крас и Хормут. Крас, руки скрестив на груди, голову склонив к плечу, безмятежно улыбался.
— Ба-ба-ба! — весело воскликнул он. — Сам князь Владигор явился к нам! Ну будь здоров, князь-батюшка. Что ж, вернулся осчастливить свой народ? Ах, напрасно! Снова прогонят тебя ладорцы. Князья-уроды им не нужны!
И расхохотался заливисто.
Владигор подошел к стене. Вынул из железного кольца горящий факел. В левой руке его держа, медленно подошел к колдуну, и, пока подходил, насмешливое выражение на лице Краса сменилось негодующим, полным досады. Колдун явно не ожидал увидеть перед собой прежнего красавца Владигора, сумевшего разрушить его чары.
— Видишь, я больше не урод, — спокойно сказал князь Синегорья, когда вплотную приблизился к Красу.
— Как… ты… сумел? — заикаясь, спросил колдун.
Владигор долго смотрел в холодные, как лед, глаза чародея, потом ответил:
— Ты думал, что в мире, кроме зла, нет ничего? Ты ошибся. Любовь Кудруны сильнее оказалась твоих чар. Она вернула мне мое лицо… ценою жизни…
Горящий факел и меч отшвырнул Владигор. Из сумки, что на поясе висела, извлек кусок черной кожи с прорезями для глаз и рта. Неторопливо расправил маску, а потом, быстро схватив за шею Краса, наложил личину на желтое его лицо.
Страшный, звериный крик прорезал тишину большого зала. Крас схватился за лицо, пытаясь сорвать маску, но это ему не удавалось. Из-под черной кожи вдруг повалил зловонный дым, потом тонкие язычки пламени лизнули лоб, подбородок, охватили всю голову его. Через мгновение огонь перекинулся на одежду. Колдун упал, забился в судорогах, и вот уже на том месте, где лежало бездыханное тело его, полыхал костер.
А когда огонь погас, Владигор, глядя на обугленные останки чародея, сказал Хормуту:
— Тебя следовало бы казнить жестоко, но я поступлю иначе. Отправляйся к Грунлафу и расскажи ему о дочери его, Кудруне. Только правду расскажи. Крас виновен в ее смерти!
Владигор подошел к оконцу. Через чистую слюду, оправленную свинцовым переплетом, пробивались лучи восходящего над Ладором солнца. Князь распахнул окно, и в зал ворвались струи холодного зимнего ветра. Он стоял и долго смотрел на столицу своего княжества. С ним рядом стояла Карима, чуть поодаль — брат и Путислава. Но Владигор не замечал их, не видел, как светится любовью лицо Каримы.
Над Ладором занималась заря нового дня.
* * *
Судьба не баловала его, и если возносила на княжеский трон, то лишь затем, чтобы низвергнуть в трюм пиратской галеры. Он не был великим воином, хотя меча его опасались многие. Его не считали волшебником, но ему была открыта самая большая тайна на свете — тайна времени. О его приключениях и странствиях повествуют «Летописи Владигора»:
Том 1 «Владигор»
Том 2 «Меч Владигора»
Том 3 «Тайна Владигора»
Том 4 «Маска Владигора»
Том 5 «Владигор. Римская дорога»
Том 6 «Владигор и звезда Перуна»
Том 7 «Владигор. Князь-призрак»
Том 8 «Месть Владигора»
Том 9 «Война Владигора»
Примечания
1
Здесь приведено описание арбалета-самострела с так называемым «немецким» воротом. Этот тип появился в Европе не ранее XVI века и был наиболее совершенным (прим. автора).
(обратно)2
Тип доспеха в виде круглой пластины на груди (прим. автора).
(обратно)3
Элемент древнейшего брачного обряда, когда невеста разувала своего жениха (прим. автора).
(обратно)4
Процентов (прим. автора).
(обратно)5
Род верхней мужской одежды, носимой в древности (прим. автора).
(обратно)6
Женская головная накидка (прим. автора).
(обратно)7
Сговорился (прим. автора).
(обратно)8
Навес.
(обратно)9
Мастер по выделке кож (прим. автора).
(обратно)10
Бани.
(обратно)11
Рукавица (прим. автора).
(обратно)12
Камни-булыжники (прим. автора).
(обратно)13
Крестьянки, от огнища, очага, дома (прим. автора).
(обратно)14
Украшение в виде налобной сетки (прим. автора).
(обратно)15
Бездельником, от слова лытать — отлынивать (прим. автора).
(обратно)16
Смола белого цвета (прим. автора).
(обратно)17
Чистильщик отхожих мест (прим. автора).
(обратно)18
Проводишь время в безделье (прим. автора).
(обратно)19
Священный камень для жертвоприношений (прим. автора).
(обратно)


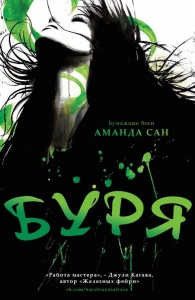
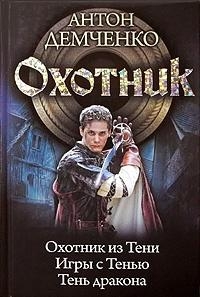
Комментарии к книге «Маска Владигора», Сергей Васильевич Карпущенко
Всего 0 комментариев