Антология мировой фантастики Том 3 Волшебная страна
Эдвард Джон Мортон Дракс Планкетт Дансени Дочь короля Эльфландии
Предисловие
Смею надеяться, что намек на странные и чужие земли, который может почудиться кое-кому в названии этой книги, не отпугнет читателя. Хотя в некоторых главах речь действительно идет о Стране Эльфов, однако в основном действие происходит в хорошо нам знакомых местах. Это самые обычные английские леса, поля, и долины, и ничем не примечательное селение, расположенные на расстоянии около двадцати пяти миль от границы волшебной страны.
Глава I План старейшин
Однажды старейшины селения Эрл, облачившись в камзолы из багровой кожи, доходившие до колен, отправились к своему уже седому, но еще достаточно крепкому лорду. Их провели в длинный красный зал, где, откинувшись на спинку резного кресла, их ждал хозяин земель. Представитель старейшин выступил вперед и сказал:
— Семь сотен лет твои мудрые предки правили нами справедливо и хорошо, об их свершениях до сих пор помнят люди, а сладкоголосые менестрели поют в песнях. Но одно поколение сменяется другим, а все остается по-прежнему.
— А чего бы вы хотели? — спросил их лорд.
Старейшины ответили:
— Мы бы хотели, чтобы нами правил некто, не чуждый магии.
— Хорошо, пусть будет так, — решил лорд. — Пятьсот лет назад ваш народ уже требовал этого у своего лорда, а решение старейшин должно быть исполнено. Вы свое слово сказали. Значит, быть посему.
С этими словами он поднял руку и благословил старейшин, показывая, что аудиенция закончена.
Покинув замок, старейшины вернулись в селение и сняли парадные одежды. Они вернулись к своим ежедневным заботам: делать подковы и ковать лошадей, выделывать кожи, возделывать поля, выращивать сады, словом, исполнять все, что требовала от них Земля. Но за этими привычными занятиями, древними, как сам мир, они мечтали о переменах.
А старый лорд послал гонца за своим старшим сыном с приказом немедленно явиться в замок.
Молодого человека быстро разыскали, и вскоре он предстал перед отцом. Наследник остановился у подножия резного кресла, с которого старый лорд так и не встал за все это время. Свет уходящего дня, льющийся из высоких стрельчатых окон, отражался в усталых глазах пожилого человека и заставлял их сверкать, словно старику удалось заглянуть в будущее далеко за тот предел, что был отпущен ему на земле.
Не вставая с кресла, не поворачивая головы, он обратился к сыну:
— Собирайся в путь, — приказал старый лорд. — Да поторопись, так как дни мои сочтены. Ты поедешь на восток, через хорошо знакомые поля, и будешь двигаться до тех пор, пока не попадешь в земли, явно отмеченные печатью волшебства. Ты должен будешь пересечь их границу, сотканную из сумерек, и добраться до дворца, о котором говорят, что его можно описать только музыкой.
— Но это весьма далеко, — почтительно заметил молодой человек по имени Алверик.
— Да, — согласился старый лорд. — Это далеко.
— А обратный путь, — продолжал молодой человек, — может оказаться еще длиннее, так как расстояния в тех далеких местах совсем иные.
— Может быть и так, — согласился отец.
Видя, что отец замолчал, Алверик спросил:
— Что мне следует сделать, когда я доберусь до дворца?
И отец ответил ему:
— Жениться на дочери короля эльфов.
Молодой человек сразу вспомнил старинные рунические записи, говорившие о ее красоте, о венце изо льда, о кротости и мягкости характера. Чарующие песни о дочери короля эльфов иногда можно услышать теплыми сумерками или при свете первых звезд над нехожеными холмами, где краснеют в траве крошечные ягоды земляники. Но еще никому не удавалось увидеть таинственного певца, да и песня эта порой состояла из одного ее имени, повторяющегося снова и снова: Лиразель, Лиразель…
Лиразель была истинной принцессой древнего волшебного рода. Говорят, сами боги послали свои тени присутствовать при ее рождении, феи тоже наверняка бы пришли, но испугались длинных темных теней, грозно и молчаливо скользивших через росистые лужайки, и это было единственной причиной, по которой они благословили Лиразель издали, надежно укрывшись среди стыдливых бледно-розовых анемонов.
— Мои подданные требуют, чтобы их владыка был не чужд магии. Мне кажется, это не самое разумное решение, — прервал размышления Алверика старый лорд. — Одни лишь Избравшие Тьму, не показывающие своих лиц, знают, чем все это может кончиться, нам же не дано узнать будущее. Но мы должны следовать древнему обычаю и исполнить волю своего народа, высказанную устами старейшин. Возможно, дух здравого смысла, о котором они не ведают, еще может их спасти… Ты же ступай в то место, откуда виден пробивающийся из волшебной страны свет, сверкающий в сумерки между закатом и первыми звездами. Следуй за этим сверканием, и оно направит твои путь через поля до самой границы волшебной страны.
Старый лорд расстегнул кожаный пояс, снял перевязь и вручил сыну свой большой меч:
— Он сопровождал наш род в течение столетий. Он поможет тебе защищаться во время путешествия, хотя никто не знает, что ждет за границами известного нам мира.
Молодой человек с почтением принял родовой меч, хотя очень сомневался в его достоинствах. Вряд ли обычный клинок сможет ему пригодится в волшебной стране.
Неподалеку от замка Эрл, на самом высоком холме — поближе к грому, который любил в летнюю пору раскатисто громыхать над взгорьями — стояла тесная, крытая соломой хижина одинокой колдуньи. Колдунья частенько прогуливалась по вершинам холмов, собирая упавшие на землю молнии. Из этих молний, выкованных в небесной кузнице, она ловко мастерила оружие, способное отразить неземные опасности.
Весной колдунья, как всегда в одиночку, бродила в садах Эрла среди цветов, приняв облик молодой и прекрасной девушки. Обычно она выходила в такой час, когда ночные бабочки только начинают перелетать от цветка к цветку. Молодой лорд оказался одним из немногих, кто видел ее и остался невредим. Она умела отталкивать человеческие мысли от всего истинного и губила людей. В этот раз принятое ею обличье с такой силой приковало к себе взгляд молодого лорда, что он смотрел и смотрел на нее восторженными юношескими глазами. Он смотрел до тех пор, пока колдунья, то ли поддавшись жалости, то ли польщенная — кто из нас, смертных, может знать это? — не избавила его от воздействия своих гибельных чар. Тут же в саду, она явилась пред ним в своем подлинном обличий ведьмы с холмов. Но и после этого взгляд юноши не сразу убежал в сторону. За те краткие мгновения, что молодой человек без отвращения созерцал среди цветов шиповника ее высохшую фигурку, он сумел завоевать признательность старой женщины, которую нельзя ни купить, ни приобрести при помощи любых ухищрений.
Когда колдунья поманила его, молодой лорд без страха и сомнений последовал за ней на вершину облюбованного громами холма. Там он узнал, что в час нужды сможет получить от нее меч из металла, какого не родят недра Земли, и клинок его будет защищен рунами, которые сумеют отразить не только удар обычного меча, но и любое оружие Страны Эльфов. Только оружие, освященное тремя самыми могущественными рунами, неведомыми смертным, может справиться с мечом колдуньи.
Принимая меч, Алверик подумал об обещании колдуньи.
В долине только-только сгущались сумерки. Покинув замок Эрл, молодой лорд Алверик быстро поднялся на ведьмин холм. Когда он приблизился к дверям дома колдуньи, то увидел, как она сжигает на костре кости. Юноша сказал ей, что час его нужды пришел, и колдунья отправила его в свой сад собирать с мягкой земли капустных грядок упавшие туда молнии.
Занимаясь этим странным делом, он с каждой минутой видел все хуже, а пальцы никак не могли привыкнуть к чудным ощущениям, что рождались от прикосновения к молниям. Но все же до наступления полной темноты Алверик успел собрать их семнадцать штук и, завернув молнии в шелковый платок, понес их к костру.
Молнии, небесные гостьи Земли, легли на траву возле колдуньи. Кто знает, из каких удивительных миров попали они в ее волшебный сад, сброшенные ударами грома со своих трасс, по которым ни один из нас не смог бы пройти. Сами молнии не обладали магическими свойствами, зато они были отлично приспособлены для того, чтобы сохранять в себе волшебство, которым наделены заклинания колдуньи.
Увидев молнии, ведьма отложила в сторону бедренную кость какого-то несчастного материалиста и повернулась к этим скитальцам бурь. Сложив их в ряд возле костра, она навалила сверху пылающие бревна и груды раскаленных углей. Своим ведовским посохом, длинной эбонитовой палкой, она начала ворошить костер до тех пор, пока семнадцать дальних родственниц Земли, слетевших к нам из своей вечной обители, не оказались погребены глубоко под углями. Затем колдунья отступила на шаг назад и, вытянув перед собой руки, неожиданно метнула в костер первую руну. Пламя яростно рванулось вверх, и то, что было просто одиноким огнем в ночи, не обладающим никакой таинственностью и силой, неожиданно превратилось в нечто, чего сторонятся даже очень усталые странники.
По мере того как зеленое пламя, подхлестываемое новыми и новыми заклинаниями, взмывало все выше, а жар костра становился невыносимей, колдунья пятилась и каждую новую руну произносила громче предыдущей. Она велела Алверику подложить темных дубовых бревен, что были сложены в поленницу тут же, среди вереска. Как только он бросил их в костер, огонь сразу же охватил толстые бревна. Ведьма читала свои заклятья все громче и громче, неистовое зеленое пламя бушевало, а глубоко под угольями семнадцать молний раскалились так же, как и тогда, когда с безумной отвагой неслись сквозь холод и тьму вселенной к поверхности нашей планеты. Когда жар так усилился, что Алверик уже не мог приблизиться к костру, а ведьма выкрикивала руны с расстояния нескольких ярдов, магическое пламя выжгло последние угли и бушевавший на холме чудовищный костер неожиданно погас сам собой. На земле остался лишь мрачно рдеющий круг раскаленного грунта, похожий на зловещее озерцо, остающееся в том месте, где горел термит.
В середине этого жидкого мерцания лежал меч.
Осторожно приблизившись, колдунья достала из-за пояса стилет и очистила им края оружия. Потом она опустилась на землю рядом с расплавленным озерцом и стала петь остывающему мечу. Действие песни нисколько не походили на то, какое вызывали руны. Если последние заставляли пламя метаться и прыгать под заклинания, раздувающие пламя так, что оно мгновенно испепеляло огромные дубовые бревна, то напев напоминал мирную колыбельную, похожую на ту, что мурлычет летний ветерок, летящий из краев, любимых в детстве, но теперь навсегда потерянных и лишь изредка являющихся нам во сне. Мелодия этой песни была сродни воспоминаниям, которые то исчезнут, то снова появятся на самой границе прочно забытого, то сверкнут из глубины прошлых лет златым отблеском счастливых мгновений, то снова скроются в тени полного забвения, оставив в душе лишь легчайшие следы крошечных сияющих нот, которые мы смутно ощущаем и называем сожалениями. Сидя на холме среди высокого вереска, ведьма пела о давних летних полднях в сезон круглолистых колокольчиков. Ее голос был наполнен и росистыми утрами, и теплыми вечерами, выхваченными ее искусством из былых и будущих дней.
Алверик почему-то подумал о том, сколько маленьких крылатых существ приманил из сумерек разожженный ведьмой огонь и не были ли это призраки былых дней, вызванных песней колдуньи из тех времен, что были прекрасней и светлее.
С каждой минутой неземной металл становился все крепче. Раскаленная добела вязкая масса сначала приобрела красный цвет, а потом и это багровое мерцание понемногу погасло. Остывший металлу сжимался, крошечные частички его смыкались теснее, а невидимые глазу трещины закрывались, и, закрываясь, они захватывали окружающий воздух, а вместе с ним руны колдуньи, которые накрепко и навсегда замыкали их внутри клиника. Так и положено — меч был волшебным, и вся магия, разлитая в английских лесах между временем цветения и листопадом, попала в него.
К тому времени, когда клинок потемнел, он был уже насквозь пропитан волшебством.
Никто не может поведать об этом клинке всего, так как те, кому известны пути и дороги Вселенной, которыми огнедышащий металл молний летел, пока не был захвачен Землей, не располагают временем, достаточным, чтобы тратить его на такую чепуху, как магия. Поэтому они не смогут объяснить, как был создан этот меч. Так же и те, кто знает, откуда берется поэзия, и понимает, почему человеку так нужна песня, и знаком со всеми пятьюдесятью ответвлениями магии, не сумеют рассказать вам, как был создан этот меч, так как у них слишком мало свободного времени, чтобы тратить его на такую малость, как занятия наукой. Вот и выходит, что ни тем, ни другим неведомо, каким образом и из чего родился этот меч.
Между тем колдунья подняла остывший меч. Рукоять вышла довольно толстой и закругленной с одной стороны, для этого в земле была специально выкопана неглубокая канавка. Женщина принялась острить клинок, водя по его лезвию диковинным зеленым камнем, и не переставала напевать над ним какую-то волшебную песню.
Алверик безмолвно наблюдал за ней и удивлялся, забыв о беге времени. Все им увиденное могло занять и несколько мгновений, и несколько часов, за которые звезды могли уйти довольно далеко по своим небесным тропам. Неожиданно ведьма закончила работу и встала, держа меч обеими руками. Решительным жестом она протянула молодому лорду оружие. Когда он принял его, она вдруг отвернулась, и в глазах ее промелькнуло странное выражение, словно ей хотелось оставить при себе или меч, или самого Алверика.
Когда юноша закончил рассматривать клинок и рассыпался в благодарностях, оказалось, что колдунья уже исчезла.
Он стучал в дверь ее темной хижины, и, обращаясь к темным вересковым полям, кричал: «Колдунья! Колдунья!» Он кричал так, что его услышали дети на отдаленных фермах — услышали и испугались.
Ничего не добившись, Алверик вернулся домой.
Глава II Алверик видит эльфийские горы
Луч восходящего солнца осветил длинную, скромно обставленную спальню Алверика на вершине башни и разбудил его. Проснувшись, молодой лорд сразу же вспомнил о волшебном мече, и эта мысль сделала его пробуждение радостным. Нет ничего удивительного в том, что воспоминание о подарке привело молодого лорда в прекрасное расположение духа, но и в самом мече была заключена своя особенная радость, которая, похоже, без труда откликнулась на мысли Алверика. Тем более что утренние мысли принадлежали стране снов и мечтаний, откуда родом был и сам клинок. Во всяком случае, замечено, что каждый, кто приближался к этому магическому мечу, пока тот был новым, совершенно отчетливо и ясно ощущал излучаемую им радость.
Прощаться Алверику было не с кем, и он решил, что лучше немедленно выйти в путь, не задерживаться в замке и не объяснять отцу, почему он берет в дорогу меч, который считает лучшим, а не тот, что верой и правдой служил старому лорду. Поэтому он вместо завтрака положил в сумку немного еды и повесил через плечо новенькую кожаную флягу. Он не наполнил ее, зная, что в пути непременно набредет на ручей или источник. Отцовский меч Алверик прицепил к поясу, как обычно носят мечи, а второй пристроил за спиной и укрепил сыромятным шнуром так, чтобы его шершавая рукоятка выступала над плечом. С тем он и зашагал прочь от замка и от долины Эрл. Денег Алверик почти не взял, если не считать пригоршни медных монет, имевших хождение в полях. Юноша понятия не имел, какие деньги или средства обмена используются по ту сторону сумеречной границы, и не стал обременять себя лишними вещами.
В те времена долина Эрл находилась очень близко к границе, где кончаются поля, которые мы знаем. Перевалив через холм, Алверик зашагал через луга и ореховые рощи, а голубое небо весело сияло над ним, пока он шел по открытой местности. Когда же он углублялся под сень дерев, небесная голубизна разливалась у ног молодого лорда: был сезон цветения колокольчиков. По пути он поел и наполнил свою кожаную фляжку. Весь день Алверик шел на восток, и ближе к вечеру на горизонте уже показались вершины волшебных гор, цветом напоминающие бледные лепестки незабудок.
Солнце за спиной Алверика клонилось к закату, а он глядел на бледно-голубые вершины и гадал, какими красками удивят вечер эти далекие пики. Зарево медленно заливало пурпуром и золотом поля. Но на пики не лег ни единый отблеск закатного великолепия, ни одна морщинка не поблекла на их кручах, и ни одна тень не сгустилась. Алверик понял: что бы ни происходило здесь, в зачарованной земле ничего не меняется.
Оторвав взгляд от безмятежной красы бледных гор, молодой лорд пристальней посмотрел на знакомые поля и увидел остроконечные крыши домов, что тянулись к последним лучам солнца над разросшимися по весне живыми изгородями. И пока он шагал вдоль их зеленых стен, вечер становился все прекраснее, украшая себя переливами птичьих песен, ароматами цветов и густым запахом трав, прихорашиваясь перед появлением на небе Вечерней звезды.
Но прежде чем звезда вышла на небо, молодой странник уже отыскал домик, который был ему нужен. Он узнал его по раскачивавшейся на ветру коричневой вывеске в форме бычьей кожи. Хозяин вышел на порог и поклонился. Он склонился еще ниже, стоило молодому лорду назвать себя. Алверик попросил кожевника изготовить ножны для своего меча, ни словом не обмолвившись о том, что это за оружие, и старик пригласил его пройти в дом, где возле большого очага хлопотала его жена. Потом он присел у своего рабочего стола с толстой столешницей, сиявшей, точно отполированная, в тех местах, где не была поцарапана острыми инструментами, резавшими и протыкавшими кожаные заготовки на протяжении всей жизни старого мастера и поколений его предков-кожевников. Уложив волшебный меч к себе на колени, он провел пальцами по мощной рукояти и гарде, дивясь необычной шероховатости необработанного металла и ширине могучего клинка, а потом поднял глаза к потолку, обдумывая предстоящую работу. Через несколько мгновений он уже знал, что и как делать. Жена принесла ему из кладовой лучшую кожу, и старик приступил к работе. При этом он, конечно, задавал вопросы об этом широком и блестящем мече, но Алверику удавалось каким-то образом уходить от прямого ответа, поскольку ему не хотелось смущать разум мастера упоминанием о силах, заключенных в волшебном клинке колдуньи. Но чуть позже он все же поверг пожилую пару в смущение, испросив у них разрешения остаться на ночлег. Супруги, конечно же, позволили ему заночевать у них в хижине, но при этом так много извинялись и так часто кланялись, словно это они просили Алверика об одолжении. Они накормили путешественника обильным ужином из котла, в котором, казалось, кипело и булькало все, что только удавалось добыть старику с помощью силков, и никакие отговорки, что в силах был изобрести молодой лорд, не смогли помешать супругам уступить ему свою широкую кровать, а для себя приготовить кипу кож у очага.
Поужинав, старик вернулся к работе. Он вырезал из кожи две широкие заостренные на конце заготовки и принялся сшивать их. Алверик решил расспросить его о дороге, но старый кожевник толковал только о севере, юге, западе и даже о северо-востоке, однако ни словом не обмолвился о востоке или юго-востоке. Ни он, ни его жена, несмотря на то, что жили у самого края полей, которые мы знаем, ничего не сказали о том, что же лежит за ними, словно считая, что там, куда завтра утром должен был отправиться Алверик, кончается мир.
Уже лежа в постели, которую уступили ему старики, и раздумывая обо всем, что услышал от кожевника, молодой лорд то удивлялся его невежеству, то гадал, не нарочно ли эти двое весь вечер так искусно избегали любого упоминания о том, что лежит к востоку и юго-востоку от их жилища. Потом ему в голову пришла мысль: возможно ли, чтобы в молодости кожевник отваживался пересекать призрачную границу сумерек? Наконец Алверик уснул, и удивительные сновидения подбросили ему несколько намеков относительно путешествий кожевника, однако даже они не предложили ему лучших провожатых, чем те, что уже у него были — бледно-голубые пики Эльфийских гор.
Старый кожевник разбудил Алверика поздним утром. Когда молодой лорд вышел в переднюю комнату, в очаге жарко пылал огонь, а на столе ждал завтрак. Ножны были готовы и прекрасно подошли к мечу.
Старики молча ждали, пока молодой лорд закончит завтрак, и когда Алверик захотел расплатиться, приняли деньги только за работу, но не взяли ни гроша за свое гостеприимство. В безмолвии следили они за тем, как он встает из-за стола, готовясь уйти, и, также не произнося ни слова, проводили его до порога. Когда молодой лорд вышел из хижины и пошел намеченным путем, старики продолжали смотреть ему вслед, словно надеясь, что он свернет на север или, на худой конец, на запад. Однако стоило Алверику свернуть к Эльфийским горам, старики сразу потеряли его из виду, так как никогда не поворачивали лиц в ту сторону. И хотя кожевник и его жена не могли его видеть, молодой лорд все же помахал им рукой на прощание. В его душе жила любовь к домикам и полям этих простых людей.
Он шел сквозь свежее утро, и со всех сторон его окружали знакомые с детства картины. Алверик видел распустившийся алый ятрышник, напоминавший голубым колокольчикам, что их пора уже близится к концу; любовался молодыми, все еще желтовато-коричневыми листочками дуба; прислушивался к чистому голосу кукушки, доносившемуся из пенной глубины недавно распустившейся листвы буков, что горела на солнце, словно медь, а березы напоминали ему робких лесных существ, завернувшихся в тончайшие покрывала из нежно-зеленого газа. Алверик снова и снова повторял про себя слова прощания со всем, что было ему так хорошо знакомо, он чувствовал, что даже кукушка в листве пела теперь не для него.
Он преодолел последнюю живую изгородь и оказался на краю невспаханного поля. И тут, совсем близко, увидел перед собой границу сумерек, о которой говорил ему отец. Сине-голубая, плотная как вода, она протянулась прямо через поля, и все, что проступало сквозь нее, представало перед глазами Алверика в виде размытых сияющих образов.
Алверик оглянулся, чтобы бросить еще один последний взгляд на поля, но ничего не изменилось: кукушка продолжала беспечно голосить в ветвях, а крошечные пичужки пели о своих собственных делах. Видя, что никому до него нет дела и некому ответить ему, ни хотя бы обратить внимание на слова прощания, Алверик дерзко шагнул сквозь сумеречную преграду.
Какой-то пастух скликал лошадей совсем неподалеку, а за соседней живой изгородью слышались голоса, однако стоило молодому лорду оказаться в толще волшебной стены, как все эти звуки тотчас стихли, превратившись в неразборчивое бормотание. Еще несколько шагов, и Алверик оказался по другую сторону границы. Туда с полей не доносилось даже тишайшего шороха. Да и поля, которыми он шел весь день, неожиданно кончились: там, где он стоял, теперь не было молодого вереска, покрытого нежной зеленью. Когда он невольно бросил взгляд назад, на границу волшебной страны, ему показалось, что стена сумерек стала ниже, на глазах превращаясь в дым и туман. Тогда молодой лорд огляделся по сторонам, но на глаза не попалось ничего знакомого. Вместо красот пробуждающейся майской природы его обступили чудеса и сокровища Страны Эльфов.
Молодой лорд стоял на равнине, где росли диковинные цветы и странной формы деревья. Жемчужно-голубые величавые вершины гордо возносились к небу, мерцая и переливаясь в золотом свете, а у их по-прежнему далеких подножий Алверик увидел серебрящиеся в прозрачном воздухе шпили и башни дворца, о котором может рассказать только песня. Алверик отправился вперед.
Мне будет нелегко рассказать о стране, где оказался Алверик, так, чтобы те, кто мудро удерживает свое воображение в пределах полей, которые мы хорошо знаем, смогли представить себе просторную равнину с разбросанными по ней редкими деревьями, темнеющий вдали лес и встающие из его чащи дивные серебряные шпили эльфийского дворца, за которым — и над которыми — высится безмятежная горная гряда, чьи поднебесные вершины не окрашиваются ни в один из известных нам цветов. И все же наше воображение уносится вдаль, так что если по моей вине читатель не сумеет представить себе горные вершины Страны Эльфов, то лучше бы моя фантазия никогда не пересекала границ полей, которые мы знаем.
Краски в Стране Эльфов гораздо насыщенней и богаче, чем у нас, а воздух там словно светится и мерцает своим собственным внутренним светом, так что любой предмет видится человеческому глазу таким, какими предстают нам в июне деревья и цветы, отражающиеся в воде рек и озер. Даже голубоватый оттенок, который лежит в Стране Эльфов буквально на всем и о котором я уже отчаялся рассказать, тоже можно представить себе. У нас есть его подобие: например, густая синева летней ночи сразу же после того, как погас последний отсвет зари, бледно-голубой свет Венеры, озаряющей вечер своим сиянием, глубина озерной воды в сумерках — все это цвета одной колдовской палитры. И пока наши подсолнухи следовали за солнцем, какой-нибудь дальний предок рододендронов взял себе частицу этой красоты, которая пребывает с ними и по сей день.
Алверик зашагал вперед сквозь мерцающий воздух волшебной страны, смутные образы которой, всплывая в нашей памяти, называются у людей вдохновением. Он сразу же почувствовал себя одиноко, потому что четкая граница, проходящая через поля, отделяет мир человека от всей остальной жизни, а, оказавшись хотя бы в одном дне пути от своих сородичей, мы ощущаем одиночество.
Вороны, важно расхаживающие по торфяникам, искоса поглядывали на него, и в их повадках сквозило любопытное стремление поскорей разглядеть, кто это пожаловал сюда из страны, откуда мало кто появляется, кто отважился на путешествие, из какого можно не вернуться. Король эльфов охранял свою дочь надежно. Единственное, чего не знал Алверик, это как именно охраняют эльфийскую принцессу. В обращенных на него любопытных вороньих глазках Алверик подмечал то искру веселого интереса, то взгляд, который мог означать предупреждение.
Возможно, здесь было даже меньше таинственного, чем по нашу сторону сумеречной границы, так как ничто не мелькало — или казалось, что не мелькало — между могучими стволами тенистых дубов, как это бывает в нашем мире при определенном освещении и в определенное время года. Ничто не скиталось в лесной чаще, поскольку все, что могло бы сыскаться в этой стране, было открыто взгляду путника, а твари, коим пристало обитать в дремучей чащобе, совсем не бежали света.
И столь сильно было колдовское очарование, разливавшееся над этой землей, что не только звери и люди могли предугадать намерения друг друга, но казалось, что человек способен понять человека. Так разбросанные по торфянику одинокие сосны со стволами, тлеющими медно-красным отсветом какого-то давнего заката, вызванного из далекого прошлого при помощи волшебства, стояли, словно уперев в бока свои зеленые руки, и слегка склонялись над тропой, чтобы получше рассмотреть путника. Казалось, что прежде чем какое-то заклинание настигло их здесь, они не были деревьями, и еще немного, и они заговорят человеческими голосами.
Но Алверик, не нуждаясь в предостережениях ни от деревьев, ни от тварей, продолжал бодро шагать к далекому волшебному лесу.
Глава III Магический клинок встречается с мечами страны Эльфов
За то время, которое потребовалось Алверику, чтобы достичь заколдованного леса, свет, заливавший Страну Эльфов, не погас, но и не стал ярче. Здешний день не имел ничего общего с сиянием солнца, освещающим мир людей, если, конечно, не считать неуловимого отблеска чудес, порой случающихся в наших краях. Однако чудеса оказываются за пределами зачарованных земель лишь благодаря непродолжительным перерывам в действии магических сил, и потому свет их исчезает так же быстро и неожиданно, как и появляется.
Этот колдовской день не освещали ни солнце, ни луна. Вдоль лесной опушки выстроились в ряд сосны, похожие на часовых. По их стволам почти до самых нижних, опушенных темной хвоей ветвей поднимался плющ. И все так же горели над лесом серебряные шпили, горели так, словно это они излучали голубоватое сияние, в котором купалась страна Эльфов. Алверик, успевший зайти довольно далеко в глубь зачарованного края, стоял теперь невдалеке от стен столичного дворца и думал, что Страна Эльфов, должно быть, умеет хорошо хранить свои тайны. Прежде чем вступить в лес, он вытащил из ножен отцовский меч, а второй клинок, переброшенный через спину, так и остался висеть в новеньких ножнах за его левым плечом.
В то самое мгновение, когда он проходил мимо одной из сосен-часовых, плющ, цеплявшийся за ее кору, неожиданно разжал свои тугие усики и, сползя вниз по стволу, метнулся прямо к горлу Алверика.
Тут длинный и тонкий меч старого лорда пришелся весьма кстати: не держи Алверик его наготове, он ни за что бы не успел вытащить клинок из ножен — столь быстр и стремителен был бросок плюща. Один за другим отсекал он тонкие усики, цеплявшиеся за его руки и ноги с тем же упорством, с каким они цепляются за стены старых башен. Все новые и новые плети хватали его, пока Алверик не перерубил центральный стебель плюща, протянувшийся к нему от дерева. Сражаясь, он услышал позади странный звук: это другой плющ соскользнул по стволу ближайшей сосны и бросился на него, встопорщив все свои листья.
Растрепанное зеленое существо схватило Алверика за плечо с такой силой, словно собиралось навечно пригвоздить к земле. Молодому лорду показалось, что растение в ярости. Он отрубил несколько его гибких щупалец одним взмахом меча и стал сражаться с остальными. Первый плющ был все еще жив, просто он стал слишком короток, чтобы дотянуться до Алверика, и только в ярости хлестал по земле своими ветвями. Алверик преодолел растерянность от внезапной атаки и, освободившись от ловких ползучих усиков, пытавшихся оплести его ноги, принялся отступать. Он отступал, пока не оказался вне пределов досягаемости плюща, и остановился на таком расстоянии, чтобы иметь возможность сражаться при помощи своего длинного меча. Плющ тоже отступил, надеясь подманить Алверика ближе, а потом прыгнуть, когда он подойдет. Однако как ни крепка была хватка страшной зеленой плети, в руке молодого лорда был добрый острый меч, и очень скоро Алверик, хотя и был весь в ссадинах и синяках, принялся так ретиво рубить ветви и усики плюща, что загнал его обратно на сосну.
Покончив с этим, он снова отступил назад и взглянул на зачарованный лес. Теперь он выбирал самый безопасный путь с точки зрения новообретенного опыта. И ему сразу же открылось, что плющи на двух ближайших к нему стволах не смогут до него дотянуться, если он пройдет точно между ними. Держа магический меч наготове, Алверик вступил в лес.
Не успел он сделать и несколько шагов, как за его спиной раздался звук, напоминающий негромкий шум ветра в верхушках деревьев. Но никакого ветра не было и в помине. Когда Алверик огляделся по сторонам, то увидел, что все сосны идут за ним. Они двигались медленно, держась подальше от взмахов его меча, но окружали его и слева, и справа. Алверик увидел, что деревья обступили его полукольцом, которое становится все уже и смыкается все тесней по мере того, как к нему присоединяются новые и новые стволы, и что очень скоро стена деревьев задавит его насмерть. Молодой лорд смекнул, что повернуть назад значит самому отправиться навстречу гибели. Он решил пробиваться вперед, полагаясь главным образом на проворство собственных ног. Будучи человеком наблюдательным, он сразу подметил, что магия, заставлявшая лес двигаться, была несколько медлительной, словно тот, кто управлял лесом, очень стар или же устал от волшебства, а может быть, его просто отвлекали иные неотложные дела.
Алверик заторопился вперед, ударяя магическим мечом каждое дерево на своем пути и не слишком задумываясь о том, волшебное оно или нет. Руны, заключенные в металле, явившемся с обратной стороны солнца, оказались сильнее волшебства, разлитого в лесу. Вековые дубы со зловещими кряжистыми стволами тут же никли ветвями и утрачивали свою магическую прыть, как только Алверик прикасался к ним своим сверкающим клинком. Он шел гораздо быстрее, чем неповоротливые сосны, так что очень скоро через этот сверхъестественный лес за ним протянулась полоса из расколдованных деревьев, которые стояли неподвижно, лишившись романтического очарования тайны.
Совершенно неожиданно Алверик вышел из лесного сумрака к изумрудному сиянию эльфийских лужаек.
И в нашем мире встречается нечто подобное этим лужайкам. Представьте себе газоны в момент, когда они только-только сбрасывают с себя покров ночного мрака, когда они сверкают, каждой капелькой росы отражая свет близящегося дня, а на небосводе гаснут последние звезды. Газоны в обрамлении возникающих из темноты цветов, к которым после ухода ночи только начинают возвращаться нежные краски. Вообразите лужайки, которых не касалась ничья нога. Во всем этом можно порой уловить намек на красоту эльфийских лугов, однако эти краткие мгновения пролетают столь быстро, что мы никогда не можем быть уверены, что действительно видели их.
Лужайки перед дворцом светились, укрытые росой и сверкающими сумерками, гораздо прекраснее, чем может нарисовать наше воображение, и много прекраснее, чем смеют надеяться наши сердца.
Алверик долго стоял, любуясь этой красотой, сияющей в сумерках своим росистым покровом, обрамленной розовато-лиловыми и рубиновыми огнями разросшихся эльфийских цветов. За лужайками темнел магический лес, из синеватого сумрака выступали мерцающие фронтоны с окнами более голубыми, чем наше небо светлой летней ночью. Весь испускающий мягкое сияние дворец, о котором способна рассказать только песня, казался выстроенным из звездного света.
Алверик стоял на опушке с мечом в руке и, затаив дыхание, глядел через лужайки на это главное чудо волшебной страны, когда из ворот дворца вышла дочь короля эльфов. Не замечая пришельца, ослепительная дева медленно пошла по лужайкам, стряхивая легкими ногами росу, тревожа плотный воздух и чуть приминая изумрудную траву, которая тут же распрямлялась, как распрямляются и кивают головками наши колокольчики, когда голубокрылые мотыльки опускаются на их чашечки и снова покидают их.
Пока она шла через луг, Алверик был не в силах ни вздохнуть, ни пошевелиться, он не смог бы сдвинуться с места, даже если бы сосны догнали и окружили его. К счастью, все заколдованные деревья остались в лесу и не осмеливались ступить на удивительные лужайки.
Дочь короля эльфов носила корону, казавшуюся выточенной из огромных бледных сапфиров. Присутствие прекрасной девы осеняло лужайки и сады, словно рассвет, невзначай побеждающий длинную ночь. Проходя мимо Алверика, она неожиданно повернулась, и ее глаза чуть-чуть расширившись от удивления: никогда прежде дочь короля эльфов не видела человека-пришельца из другой страны. Алверик взглянул ей прямо в глаза и мгновенно лишился сил и потерял дар речи. Вне всяких сомнений, перед ним была сама принцесса Лиразель во всей своей красе. И только потом он заметил, что венец у нее на голове не из сапфиров, а изо льда.
— Кто ты? — спросила она, и в ее голосе прозвучала музыка льда, разбитого на тысячу кусочков и гонимого весенним ветром по поверхности озера в далекой северной стране.
— Я пришел сюда из полей, что хорошо известны и нанесены на карту, — ответил Алверик.
Лиразель негромко вздохнула: ей приходилось слышать, как прекрасно в тех полях течение жизни и как пирует там обновленная молодость. И еще она вспомнила о смене времен года и подумала о детях и старости, о которых часто пели эльфийские менестрели, когда хотели рассказать о мире Земли.
Увидев, что Лиразель вздыхает по полям, Алверик рассказал ей немного о стране, из которой пришел. Дочь короля эльфов расспрашивала его, и очень скоро Алверик начал описывать ей свой дом и долину Эрл. А Лиразель удивлялась, слушая его рассказ, и засыпала его все новыми вопросами. Алверик рассказал ей все, что знал о Земле. При этом он не осмелился говорить об истории мира, который наблюдал своими собственными глазами на протяжении без малого двадцати лет. Но зато он поведал принцессе все сказки и легенды об обитающих на Земле тварях и о людских свершениях, которые жители Эрла веками передавали из уст в уста, — те самые легенды, что рассказывали старики у вечерних костров, когда дети расспрашивали о том, что было давным-давно. Вот так и вышло, что на краю лужаек, чья волшебная красота была обрамлена цветами, каких мы никогда не видели, вблизи магического леса, что темнел позади, у стен сияющего дворца, о котором можно рассказать только в песне, эти двое говорили о незатейливой мудрости простых мужчин и женщин, живших когда-то, о жатвах и цветении ландышей, о том, когда лучше всего закладывать сады, о том, что знают дикие звери, о том, как лечить болезни, как сеять, как крыть тростником крышу и какой ветер в какое время года дует над полями, которые мы знаем.
Из дворца появились рыцари, в обязанности которых входила охрана на тот случай, если кому-нибудь все-таки удастся пройти сквозь заколдованный лес. Сверкая броней, они вчетвером вышли на лужайку, и лица их были скрыты забралами шлемов. Их заколдованные жизни насчитывали века, и на протяжении всего этого времени они не смели не только мечтать о принцессе, но даже открывать лиц, опускаясь перед ней на колени. Когда-то каждый из них принес страшную клятву, что никто из посторонних, если ему удастся невредимым пройти сквозь зачарованный лес, не должен разговаривать с Лиразелью. С этой клятвой на устах они шагали теперь в сторону Алверика.
Лиразель с печалью взглянула на рыцарей, не в силах остановить их. Они подчинялись воле ее отца, короля эльфов, и отменить его приказ она не могла. Так же хорошо она знала, что ее отец не изменит своего решения, так как по велению судьбы он огласил его столетия назад.
Алверик посмотрел на доспехи рыцарей, ярко сверкавшие, словно были сделаны из того же материала, что и шпили дворца, — и шагнул им навстречу, вынимая из ножен отцовский меч. Он рассчитывал пронзить узким клинком какое-нибудь из сочленений доспехов. Второй же меч он взял в левую руку.
Когда первый из рыцарей сделал выпад, Алверик парировал его и остановил удар, однако руку его пронзил свирепый, как молния, шок, и меч вырвался из руки Алверика. Молодой лорд сразу понял, что никакое земное оружие не может противостоять клинкам Страны Эльфов. Поэтому он не стал поднимать выбитый из руки отцовский меч, переложил волшебный меч в правую руку и стал отбивать им выпады четырех стражей принцессы, которые вот уже несколько веков с нетерпением дожидались возможности доказать свою преданность.
Больше он не чувствовал онемения при соприкосновении клинков. Только легкая, похожая на песню вибрация металла и странный жар, что рождался в клинке и перетекал по руке в сердце молодого лорда, наполняли его уверенностью.
Меч, которым Алверик отражал удары рыцарей, был сродни молниям, и в его крови бурлили огненная страсть и стремительность головокружительных полетов. Молодой лорд не отступил не на шаг, но вот, устав от бесконечной защиты, меч сам потянул за собой руку Алверика и обрушил на эльфийских рыцарей град ударов, коим не в силах была противостоять даже заколдованная броня. Из разрубленных доспехов потекла густая, необычного вида кровь, и вскоре двое сверкающих рыцарей пали.
Алверик, охваченный безумной и грозной яростью своего клинка, принялся сражаться во всю силу и вскоре одолел еще одного противника, так что на лужайке остались только он и последний из стражников. Магия этого рыцаря оказалась несколько сильней, чем та, которой были наделены его товарищи. Так вышло потому, что король эльфов, создавая магическую стражу, именно этого солдата заколдовал первым. Волшебство его заклятий было еще новым, поэтому и стражник, и его доспехи, и его меч все еще хранили частицу той давней, молодой магии — гораздо более могущественной, чем все позднейшие откровения магической науки, возникшие в голове властелина зачарованной страны. Но к счастью, как вскоре при помощи своей руки и меча убедился Алверик, этот рыцарь не обладал могуществом трех самых главных рун, о которых предупреждала молодого лорда старая колдунья, создавая волшебный клинок. Эти руны не были произнесены, и король Страны Эльфов хранил их для обороны себя и своих владений.
Меч, пришедший на Землю из такого невероятного далека, опускался с силой и стремительностью молний и высекал из брони рыцаря зеленые искры. Красные искры летели во все стороны, когда он сталкивался с другим клинком; и густая эльфийская кровь медленно стекала на кирасу из широких щелей разрубленного доспеха. Лиразель взирала на все это с благоговейным трепетом, страхом и любовью.
Сражаясь, противники незаметно углубились в лес, и на обоих дождем сыпались зеленые ветки и листья, срубленные широкими взмахами мечей. Руны волшебного меча Алверика, прилетевшего из дальних миров, звенели все громче, все радостнее, оглушая эльфийского рыцаря, пока в конце концов уже в лесной полутьме, под градом веток и сучков, сшибленных свистящей острой сталью с расколдованных деревьев, Алверик не прикончил врага ударом, подобным удару молнии, раскалывающей крепкий столетний дуб.
Раздался оглушительный треск, а потом наступила полная тишина, и в этой тишине Лиразель подбежала к Алверику.
— Спеши! — воскликнула она. — Торопись, потому что у моего отца есть три руны…
Но даже она не осмелилась говорить о них.
— Куда? — спросил Алверик, и принцесса Лиразель ответила:
— В поля, которые ты знаешь.
Глава IV Алверик возвращается на Землю через много лет
Алверик и Лиразель побежали обратно через лес. Дочь короля эльфов только один раз взглянула на прекраснейшие в мире лужайки и цветы. Она торопила Алверика, выбиравшего дорогу мимо деревьев, которые расколдовал.
Лиразель не расположена была задерживаться даже ради того, чтобы Алверик отыскал безопасную тропу, и все понукала его поскорее отойти от дворца, о котором можно рассказать только в песне. И вот уже новые неуклюжие стволы грозно надвинулись на них из-за ряда потускневших, утративших свой фантастический облик деревьев, которых коснулся клинок Алверика. Они вопросительно глядели на своих раненых товарищей, стоявших, поникнув увядшими ветвями, лишенные своей тайны и магии. Когда шагающие деревья оказывались слишком близко, Лиразель поднимала руку, и они останавливались как вкопанные и не смели идти дальше, и все-таки дочь короля эльфов продолжала торопить Алверика.
Она-то знала, что ее отец непременно поднимется по бронзовой лестнице одной из серебряных башен и взойдет на высокий балкон. И знала Лиразель, какую руну прочтет он. Уже слышались ей шаги отца по ступеням, звук которых разносился между деревьями. Но вот беглецы вырвались из сумрака леса и побежали по равнине при свете нескончаемого эльфийского дня, и Лиразель все оглядывалась через плечо. Снова и снова торопила она Алверика, хотя шаги короля по звонким бронзовым ступеням не были торопливыми, а ступеней-целая тысяча. Лиразель надеялась скоро достичь сумеречной границы, которая с этой стороны казалась тусклой и серой, как дым, но когда она в сотый раз обернулась через плечо на далекий балкон серебристой башни, то увидела, как высоко над дворцом, о котором может рассказать только песня, начала открываться небольшая дверь.
— Увы! — вскричала, обращаясь к Алверику, Лиразель, но в это самое время со стороны полей, которые мы хорошо знаем, до них донесся аромат цветущего шиповника.
Алверик был молод и не знал усталости, как никогда не уставала и не имевшая возраста Лиразель. Взявшись за руки, они понеслись вперед еще быстрее. Как только король на башне поднял бороду и начал читать руну, которую можно произнести только раз и пред которой даже в наших краях не могло устоять ничто, они преодолели сумеречную границу. Недоговоренная руна лишь бесполезно потрясла долы и равнины, в которых больше не гуляла красавица Лиразель.
Когда дочь короля эльфов взглянула на знакомые нам поля, показавшиеся ей столь же незнакомыми и новыми, какими они когда-то были и для нас, то поразилась их красоте. Она смеялась при виде стогов сена, так как их необычный вид пришелся ей по сердцу, и говорила с жаворонком, что звенел в вышине, хотя он, похоже, не понимал ее. Лиразель сразу позабыла о птице, обратившись к другим красотам наших полей, которые были ей в диковинку. А Алверик так и не заметил, что сезон голубых колокольчиков уже давно миновал, что вовсю цветет наперстянка, а вместо боярышника распускаются дикие розы.
Стояло раннее утро, и солнце светило с небес, окрашивая наш мир нежными мягкими красками, и Лиразель радовалась каждой мелочи, которые мы обычно не замечаем и даже не можем представить себе, что в полях, которые мы каждый день видим, так много удивительного и прекрасного. Она была так рада, так весела, так громко вскрикивала от удивления и так беззаботно смеялась, что с тех пор и Алверик начал видеть в скромных лютиках красоту, какой никогда не замечал, и находить в любом затруднительном положении веселые стороны, о которых никогда не задумывался. Так каждую секунду Лиразель с криком восторга открывала еще какое-нибудь из сокровищ Земли, о которых, если говорить честно, Алверик прежде вовсе не думал, и, глядя на то, как она возвращает нашим полям красоту — еще более нежную, чем та, которую дарят им дикие розы, — он вдруг осознал, что ледяная корона принцессы растаяла.
Так ушла Лиразель из дворца, о котором можно рассказать только в песне, и явилась в поля, которые мне нет нужды описывать, это хорошо знакомые поля нашей Земли, меняющиеся лишь с течением столетий, да и то чуть-чуть и ненадолго. А к вечеру они с Алвериком уже достигли дома.
Но в замке Эрл все переменилось. У ворот они встретили знакомого стражника. Тот очень удивился, увидев их. И в большом зале, и на лестницах они встречали тех, кто прислуживал и убирал в замке, но все эти люди с удивлением поворачивались к ним. Алверик тоже узнавал их, но все они почему-то состарились, и тогда молодой лорд понял, что за один голубой день, проведенный в Стране Эльфов, здесь, должно быть, пролетело по меньшей мере десять лет.
Кто же не знает, что именно так бывает в зачарованной стране? Но кто бы не удивился, увидев это воочию, как выпало Алверику?
Обернувшись к Лиразели, он попытался втолковать ей, что отсутствовал десять или двенадцать лет, однако все его попытки были тщетны, как если бы нищий, женившись на земной принцессе, попытался вызвать в ней сочувствие рассказом о потерянном шестипенсовике.
Время не имело для Лиразели никакой ценности и значения, и потому известие о потерянных десяти годах нисколько ее не потревожило. Она просто не могла себе представить, что означает время в наших краях.
Алверик узнал, что его отец уже давно умер, и один старый слуга рассказал, что старый лорд скончался спокойно, ни о чем не тревожась и пребывая в совершенной уверенности, что сын исполнит его волю, так как он кое-что знал о Стране Эльфов и понимал, что тот, кто путешествует между нашим миром и иным, должен обладать спокойствием сродни тому, в котором от века пребывает волшебная страна.
Потом, несмотря на поздний час, они услышали, как над долиной разносятся звонкие удары молота. Кузнец был тем самым человеком, который говорил от имени старейшин перед лордом Эрла, когда все они явились к нему в красную залу. И все остальные старейшины селения тоже были еще живы, потому что время, пронесшееся над долиной Эрл, не было таким жестоким, каким оно бывает в городах.
Из замка Алверик и Лиразель отправились к святилищу, и когда они отыскали там Служителя, Алверик попросил его обвенчать их по христианскому обычаю. Как только Служитель увидел сверкающую красоту Лиразели среди вещей, наполняющих его маленькое святилище, — надо сказать, стены его были украшены яркими безделушками, которые Служитель изредка покупал на ярмарках, — он сразу же подумал о том, что эта дева не принадлежит к простым смертным. И когда он спросил, откуда она пришла, Лиразель беззаботно ответила: «Из Страны Эльфов», — сей добрый человек сложил на груди руки и серьезно объяснил ей, что все, что происходит из этой страны, никогда не обрящет спасения. Но Лиразель лишь улыбнулась в ответ, потому что в Стране Эльфов она всегда была безмятежно счастлива, а ныне любила только Алверика. Служитель отошел к полке со своими священными книгами, чтобы посмотреть, что можно сделать.
Довольно долго он молча листал книги, и лишь звук его дыхания нарушал тишину, а Алверик и Лиразель покорно стояли перед ним. Наконец Служитель нашел в своей книге службу, которая годилась для венчания отрекшихся от моря наяд, так как в его священной книге не говорилось ничего о Стране Эльфов. Эта служба, сказал он, вполне подойдет для данного случая, поскольку морские девы, как и эльфы, живут, не заботясь о спасении. С этими словами Служитель послал за колокольчиком и свечами, Затем он повернулся к Лиразели и велел ей торжественно поклясться в том, что она отрекается от всего, что может иметь отношение к Стране Эльфов, и прочел для этого соответствующую формулу из своей книги, которую надлежало использовать в подобных случаях.
— Добрый Служитель, — ответила ему Лиразель, — ничто из того, что говорится в этих полях, не может вторгнуться в пределы Страны Эльфов. И это очень хорошо, потому что у моего отца есть три руны, такие могущественные, что если бы хоть одно твое слово способно было преодолеть границу сумерек, он мог бы испепелить эту книгу, вздумай ответить на какое-нибудь из ее заклинаний. Я же не хочу, чтобы мой отец прибегал к своим заклятьям.
— Но я не могу обвенчать человека Христова с упрямицей, которая упорствует в своих заблуждениях и не желает обрести спасение, — возразил Служитель.
В конце концов Алверик умолил Лиразель, и она повторила формулу из книги Служителя, добавив от себя, что «отец мог бы расстроить это заклинание, если бы когда-нибудь оно стало противодействовать одной из его рун».
Когда принесли колокольчик и тонкие свечи, добрый человек повенчал их в своем маленьком домике, отслужив службу, которая, правда, годится для морской девы, отрекшейся от моря.
Глава V Мудрость совета старейшин
Вслед за свадьбой настали радостные дни. Жители Эрла часто навещали замок с подарками и поздравлениями, а по вечерам судачили у себя дома, гадая о тех волшебных вещах, которые, как они надеялись, непременно должны произойти в долине благодаря мудрому решению, принятому старейшинами и высказанному старому лорду в его длинной красной зале.
Среди разговаривающих были и кузнец Нарл, предводитель старейшин, и фермер Гухик, владелец клеверных пастбищ на возвышенности севернее Эрла, которому после разговора с женой первому пришла в голову эта светлая мысль, и погонщик лошадей Нехик; и четверо торговцев говядиной, и охотник на оленей От, и старший пахарь Влел — все эти люди, а с ними еще трое, ходили к лорду Эрла и объявили ему волю Совета, во исполнение которой Алверик и отправился в путешествие. И вот теперь они судили да рядили о том хорошем, что из этого выйдет. Все они страстно желали, чтобы долина Эрл прославилась, чего, по их мнению, она вполне заслуживала. Прежде они, бывало, заглядывали в исторические трактаты и в руководства по уходу за пастбищами, однако ни там, ни там почти не встречалось упоминаний о долине, которую они любили. И однажды Рухик сказал: «Пусть всеми нами правит лорд-волшебник; он должен будет прославить имя нашей долины и сделать так, чтобы во всем мире не было человека, который бы не слышал название Эрл».
Тогда все обрадовались его словам и созвали посольство из двенадцати человек, которое и отправилось к лорду Эрла. А что случилось потом, об этом я уже рассказывал.
И вот теперь, сидя за кружкой меда, старейшины толковали о будущем долины Эрл, о ее месте среди других долин, и о доброй славе, коей она должна пользоваться во всем мире. Собирались они обычно в просторной кузнице Нарла. Кузнец выносил из кладовой мед, а чуть позже приходил из леса следопыт Трел. Добрый напиток Нарла, изготовленный из клеверного меда, был тягучим и сладким. Некоторое время гости сидели в теплой комнате, толкуя о делах и насущных заботах долины и возвышенностей, и разговор в конце концов обращался к будущему. Так что грядущая слава Эрла виделась им словно сквозь легкий золотистый туман. Кто-то хвалил здешнее мясо, кто-то восторгался лошадьми, кто-то до небес превозносил плодородие почвы, и все с нетерпением заглядывали в то время, когда остальные земли признают бесспорное превосходство долины Эрл над прочими.
Время, дарившее им эти вечера, один за другим уносило их прочь. Оно струилось над долиной Эрл точно так же, как и над всеми другими знакомыми нам полями. В положенный срок снова насупила весна и среди молодой травы распустились голубые колокольчики. В один из дней по долине разнеслась весть, что у Алверика и Лиразели родился сын.
На следующую ночь жители долины разожгли на холме большой костер и танцевали вокруг него, пили мед и от души радовались. Весь день накануне они носили на холм сухие сучья и бревна из ближайшего леса, чтобы свет их костра был виден даже в других землях. Только на бледно-голубые пики Эльфийских гор не лег ни один его отблеск, но эти вершины никогда не меняются, что бы ни происходило по нашу сторону сумеречной границы.
Когда жители долины отдыхали от танцев, они усаживались вокруг костра на землю и принимались наперебой предсказывать грядущее счастье и благополучие Эрла, которое непременно наступит, когда долиной будет править сын Алверика, унаследовавший магические способности матери. Кто-то говорил, что он поведет жителей селения на победоносную войну, кто-то предсказывал, что просто велит глубже вспахивать землю, но все единодушно сходились на том, что цены на их говядину должны подскочить до небес.
В эту ночь танцев и предсказаний счастливого будущего никто не ложился спать, так как спокойно уснуть им все равно помешала бы радость, вызванная предсказанными событиями. Но больше всего жители долины ликовали из-за того, что уверовали: название Эрл отныне будет широко известно и чтимо в других землях.
Через какое-то время Алверику понадобилась нянька для сына. Он искал ее и в долине, и на возвышенностях, однако найти достойную женщину для ухода за младенцем, в чьих жилах текла кровь владык эльфийской страны, было непросто. Те, кого удалось отыскать, пугались не принадлежащего к нашему небу и нашей Земле света, временами вспыхивавшего в глазах малютки.
В конце концов одним ветреным утром Алверик поднялся на холм, где жила одинокая ведьма, и застал ее праздно сидящей на пороге своего скромного жилища. Она скучала, так как в тот день ей не попалось ничего, что колдунья могла бы благословить или проклясть.
— Ну, как, — спросила она, — принес ли тебе счастье мой меч?
— Кто знает, — ответил Алверик, — что приносит нам счастье, раз мы не в силах предвидеть конец?
Его голос звучал устало, возраст тяготил Алверика, хоть он и не знал достоверно, сколько лет пролетело над ним за один тот далекий день, проведенный в Стране Эльфов. Во всяком случае, иногда ему казалось, что их было гораздо больше, чем прошло за тот же день в Эрле.
— Ну-ну, — покачала головой ведьма. — Кому же дано предвидеть конец, если не нам?
— Я женился на дочери короля эльфов, мать-колдунья, — сказал Алверик.
— Это большой успех, — заметила старуха.
— И у нас родился мальчик, мать-колдунья, — продолжил Алверик. — Кто же будет его воспитывать?
— Ты прав, эта задача не по плечу человеку, — согласилась ведьма.
— Может быть, ты согласишься переселиться в долину Эрл, чтобы воспитывать моего сына и быть ему нянькой в моем замке? — спросил Алверик. — Ведь в наших краях никто, кроме тебя и принцессы, ничего не знает о Стране Эльфов, но принцесса ничего не понимает в делах Земли.
И старая колдунья ответила:
— Я приду. Ради короля.
Вот так и вышло, что колдунья спустилась с холма со всем своим странным имуществом и у младенца появилась нянька, которая знала колыбельные и сказки страны, из которой происходила его мать.
Часто, вдвоем склоняясь над ребенком или сидя у очага долгими вечерами, старая колдунья и принцесса Лиразель подолгу разговаривали друг с другом о вещах, о которых Алверик не имел никакого представления. Несмотря на свой почтенный возраст, несмотря на свои скрытые от людей познания, накопленные за столетия жизни, во время этих неторопливых бесед именно колдунья училась, а принцесса учила. Но ни о Земле, ни о ее обычаях Лиразель так ничего и не узнала.
А старая колдунья так хорошо ухаживала за мальчиком, так заботилась о нем, так умело утешала, что за все младенческие годы он ни разу не расплакался. Все дело в том, что у нее имелось заклятье, способное сделать утро светлым, а день — солнечным, и заклятье, чтобы унять кашель, и заклятье, чтобы согреть детскую и сделать ее волшебной и радостной. При звуках этого последнего заклинания огонь в очаге весело взвивался над заколдованными старухой поленьями, а тени от стоящей близ него мебели весело прыгали по стенам и дрожали на потолке.
Лиразель и старая колдунья любили малютку так, как любят своих детей обычные матери, благодаря им он знал мелодии и руны, каких в наших полях другие дети никогда не слышат. Частенько колдунья расхаживала по детской и, взмахивая своей черной палкой, читала охранные заклинания. Даже если бы ветреной зимней ночью шальной сквозняк сумел проникнуть в детскую сквозь незаметную щелку, у нее было заклятье, способное утихомирить воздух. Ведьма могла так заколдовать сонную песню чайника, что в его бормотании слышались обрывки странных и удивительных новостей из укрытых туманом земель.
Понемногу дитя узнавало тайны отдаленных долин, которых никогда в жизни не видело. Бывало, по вечерам колдунья вставала перед очагом среди живых теней и, подняв свой эбеновый посох, зачаровывала их так, что они принимались танцевать для мальчугана. Тени послушно кружились в танце и прыгали, принимали самую разную форму и изображали то доброе, то злое, так что очень скоро ребенок узнал не только о существах, населяющих Землю, — о свиньях, верблюдах, крокодилах, волках, утках, дружелюбных псах и ласковых коровах, но и о темных тварях, которых боялись обычные люди, а также о вещах и фактах, о которых они догадывались и на которые надеялись.
В такие вечера все события, которые еще только могут произойти, и все создания, встречающиеся в природе, чередой проходили по стенам детской. Благодаря им малыш понемногу освоился в полях, которые мы хорошо знаем. Теплыми полднями колдунья носила ребенка по селению. Деревенские собаки принимались лаять, завидев ее странную фигуру, но подойти близко не решались, потому что мальчик-слуга, шедший за ведьмой, нес в руках ее черный эбеновый посох. И псы, которые знают так много, что могут точно рассчитать расстояние, на которое человек в состоянии метнуть камень и точно определить, сумеет ли прохожий задать им трепку или же не осмелится, — они отлично понимали, что это не простой посох. Потому псы хоть и рычали, но держались подальше от этой странной палки в руках слуги. Жители же высыпали на улицу поглазеть. Они радовались, когда видели, какая могучая волшебница нянькой у молодого наследника. «Это же сама колдунья Жирондерель», — говорили они, и каждый со знанием дела заявлял, что уж она-то сумеет вырастить мальчика среди подлинного волшебства, чтобы в свое время у него достало магической силы прославить долину Эрл. И жители селения принимались колотить своих лающих собак до тех пор, пока те не прятались во дворы и дома. Однако все сомнения оставались при псах.
Вот почему, когда мужчины собиравшись в кузне у Нарла, а их дома затихали в лунном свете, когда шла по кругу чара с медом, а языки заводили разговор о будущем Эрла, — и к разговору о грядущих счастливых временах присоединялись все новые и новые голоса, собаки выходили на пыльную улицу на своих мягких лапах и выли.
Часто в высокую и солнечную детскую приходила Лиразель, принося с собой такие свет и радость, каких не было во всех заклинаниях ученой колдуньи. Она пела сыну песни, которые больше некому спеть нам в наших полях. Этим балладам, созданным бессмертными музыкантами и менестрелями, принцесса выучилась по ту сторону сумеречной границы. Но, несмотря на все чудеса, звеневшие в этих напевах, родившихся так далеко от знакомых нам полей во времена столь отличные от тех, к каким привыкли наши историки, все же люди меньше удивлялись им, доносящимся из открытых в летнюю пору окон замка и плывущим над долиной, чем дивилась Лиразель всему земному, что было в ее ребенке, и тем человеческим его поступкам, которые он совершал все чаще и чаще, по мере того как рос. Все присущее людям по-прежнему оставалось для принцессы незнакомым и чужим. И все же она любила сына крепче, чем страну своего отца, сильнее, чем яркие столетия своей бесконечной юности, больше, чем сверкающий дворец, рассказать о котором можно только в песне.
Именно в эти дни Алверик понял, что Лиразели никогда не станут близки обычаи Земли, что никогда она не будет понимать людей, населявших долину, никогда не сможет без смеха читать их самые мудрые книги, никогда не полюбит Землю и не сможет чувствовать себя в замке Эрл свободнее, чем лесная зверушка, пойманная Трелом в силки и посаженная в клетку. Когда-то он надеялся, что пройдет время, и принцесса привыкнет к незнакомой обстановке, и тогда небольшие различия между тем, как все устроено в наших полях и в Стране Эльфов, перестанут ее тревожить. Но в конце концов даже он увидел, что все, бывшее Лиразели чужим вначале, таковым и останется. Что столетия, проведенные ею в своем не знающим времени доме, успели сформировать ее мысли и фантазии так, что наши краткие годы не смогут их изменить. Поняв это, Алверик узнал всю правду до конца.
Должно быть, между душами Алверика и Лиразели с самого начала пролегала дистанция, сравнимая с той, что разделяет Землю и Страну Эльфов, и только любовь, которой единственной по силам преодолеть любые расстояния, выстроила между ними мост. И все же, когда Алверик на мгновение останавливался на этом золотом мосту и позволял своим мыслям обратиться к пропасти внизу, голова у него тотчас начинала кружиться и сам он начинал дрожать. Каков-то будет конец, думал он и боялся, что конец вряд ли выйдет менее удивительным, чем начало.
А Лиразель… Лиразель не понимала, почему она должна стараться узнать что-то еще. Разве одной ее красоты недостаточно? Разве не явился в конце концов пылкий любовник на лужайки, что сияли у стен дворца, о котором способна рассказать только песня? Разве не спас он ее от одиночества и покоя? Почему должна она разбираться в тех нелепых и смешных поступках, которые совершают люди? Почему она никогда не должна ни танцевать на дороге, ни беседовать с козами, ни смеяться на похоронах, ни петь по ночам? Почему? Для чего тогда радость, если ее постоянно приходится прятать? Или веселье обязано всегда уступать скуке в полях, куда она явилась из своей страны?
А однажды она заметила, что с каждым годом женщины долины выглядят все менее красивыми. Перемена была достаточно мала, но зоркий глаз Лиразели безошибочно ее подметил. Заливаясь слезами, принцесса поспешила к Алверику за утешениями, так как она боялась, что злое Время в нашем мире может обладать достаточным могуществом, чтобы похитить красоту и у нее. Красот, которой не осмеливались коснуться долгие-долгие столетия, прошедшие в Стране Эльфов.
Алверик обнял жену и ответил:
— У Времени свои законы, и жаловаться на них нет смысла.
Глава VI Руна короля эльфов
Король Страны Эльфов поднялся наверх. Под ним все еще тихонько гудело легкое эхо его тысячи шагов. Он чуть-чуть при поднял голову, чтобы прочесть руну, которая должна задержать в зачарованной земле его дочь, и в этот момент вдруг увидел, как она пересекает мрачный барьер — мерцающий, словно светлые сумерки с той стороны, которой он обращен к полям людей, и хмурый, туманный и тусклый со стороны Страны Эльфов. Он уронил голову. Он замер в безмолвной печали и стоял так, пока стремительное Время проносилось над полями, которые мы знаем. Стоя в своем бело-голубом одеянии на балконе серебряной башни, король, состарившийся под действием хода времен, о которых мы ничего не знаем, подумал о том, каково придется его дочери среди наших безжалостных лет. Тот, чья мудрость простиралась далеко за границы его страны и охватывала даже неровность наших полей, был хорошо осведомлен и о грубости материального мира, и о суматошном беге нашего Времени. На высоком балконе сверкающей башни своего дворца стоял король.
И еще до того, как сойти с башни вниз, король почувствовал, как подступают к его дочери крадущие красоту года и мириады угнетающих дух забот. Оставшийся ей срок казался ему, живущему выше тревог и забот Времени, короче, чем могут показаться нам краткие часы жизни шиповника, безжалостно и бездумно сорванного в саду для продажи на улицах города.
Король знал, что теперь его Лиразели уготована судьба всех смертных. С печалью размышлял он о ее скорой смерти, которая уготована всему земному, и о том, что суждено ей быть похороненной среди грубых камней в краю, который вечно презирал Страну Эльфов и ни во что не ставил ее самые заветные мифы и легенды. Если бы он не был королем всей этой зачарованной земли и если бы она не черпала свое легендарное спокойствие в его таинственной безмятежности, он бы заплакал при мысли о холодной могиле в скалистом лоне Земли, которая вскорости примет тело, что должно было оставаться прекрасным вечно. И еще подумал король о том, что его дочь может в конце концов угодить в какой-нибудь рай, находящийся за пределами его власти и знаний, в тот самый эдем, о котором рассказывают священные книги полей. Он тут же вообразил Лиразель сидящей на поросшем яблонями холме среди трав и цветов вечного апреля, среди золотящихся бледных нимбов тех, кто отрекся от Страны Эльфов. И столь велика была его магическая мудрость, что хоть и неясно, смутно, но все же различал король эльфов великолепие и красоту рая, открытые лишь взорам блаженных и святых. И еще — зная, что так и будет — видел он, как со склонов этих райских холмов протягивает его дочь обе руки к бледно-голубым вершинам своего эльфийского дома, но никому из праведников нет дела до ее тоски. Хотя и зависело от него спокойствие всей этой земли, король зарыдал, и вся зачарованная страна затрепетала.
Король решительно повернулся, в великой спешке покинул балкон и сошел вниз по бронзовой лестнице.
Громко стуча каблуками по звонким ступеням, король прошел сквозь двери из слоновой кости в тронный зал. Он открыл шкатулку, достал пергамент, взял в руки перо из крыла какой-то сказочной птицы и, обмакивая его заостренный конец в чернила, начертал на пергаменте магическую руну. Потом он поднял вверх два пальца и прочел коротенькое заклинание, каким призывал стражу. Но ни один стражник не явился на его зов.
Это правда, что в Стране Эльфов время никуда не движется, но сама последовательность событий служит вполне определенным его проявлением. В вечной красоте Страны Эльфов, дремлющей в напоенном медом воздухе, ничто не движется, не блекнет и не умирает, ничто не ищет счастья в движении или в изменении. Там живет наслаждение вечным созерцанием всегда существующей красоты, которая сияет над лужайками и лугами столь же ярко и свежо, как и в тот день, когда она была сотворена магическим заклинанием или песней. Только в том случае, если бы вся мощь ума короля-мага восстала навстречу чему-нибудь новому, тогда та же самая сила, что возложила на Страну Эльфов печать спокойствия и остановила время, ненадолго смутила бы ее спокойствие. Только тогда время слегка коснулось бы зачарованной земли. Бросьте в пруд какой-нибудь предмет, принесенный из чужих земель туда, где недвижно стоят большие рыбы, где покоятся зеленые водоросли, где спят печальные краски и дремлет свет — и рыбы оживут, краски изменятся, водоросли заколышутся, а свет проснется и сверкнет вам из глубины. Множество вещей придут в движение и переменятся, но уже в следующее мгновение пруд снова станет спокоен и тих. То же самое случилось, когда Алверик пересек сумеречную границу и прошел сквозь заколдованный лес: он потревожил короля и заставил его двигаться, а вся Страна Эльфов затрепетала.
Когда король не дождался стражи, он взглянул на лес. В путанице стволов и ветвей, которые все еще глухо шумели после прихода Алверика, чувствовалась тревога. Король глядел волшебным зрением прямо сквозь серебряные стены дворца и непроницаемую чащу. Он наконец нашел свою стражу: четыре рыцаря лежали зарубленные на земле в потеках густой эльфийской крови, застывавшей на рассеченных доспехах. И тогда король подумал о своей магии, при помощи которой он создал старшего из рыцарей, — о первой руне, явившейся ему в приливе вдохновения еще до того, как он победил Время.
Сквозь великолепие сверкающих врат король вышел из дворца и приблизился к павшему стражнику. Деревья все еще были неспокойны.
— Здесь поработала магия, — сказал себе король эльфов. У него оставалось всего три могущественных руны, каждой из которых можно было воспользоваться только один раз, и одна из них уже легла на пергамент, чтобы вернуть домой дочь короля эльфов. Но, несмотря на это, он прочел над телом старшего рыцаря, давным-давно созданного его магией, свое второе самое могущественное заклинание.
После того как были произнесены последние слова руны, наступила тишина. В безмолвии особенно громко прозвучал лязг смыкающихся краев пробоин на серебристо-лунной броне, темная густая кровь исчезла, и оживший рыцарь встал на ноги. Теперь у короля эльфов осталась только одна руна, правда, она была сильнее, чем любая известная нам магия. Остальные трое стражников так и остались лежать мертвыми. Поскольку ни один из них не обладал душой, заключенная в их телах магия тотчас же вернулась к своему господину.
Король послал своего единственного рыцаря за троллем, а сам вернулся к себе во дворец.
Тролли — существа с коричневой кожей и ростом всего в два или три фута — являются родней гномов, заселившей Страну Эльфов.
Вскоре в тронном зале послышалось торопливое шлепанье пары босых ног, и тролль вприпрыжку подбежал к трону. Он остановился перед королем эльфов и поклонился. Король вручил ему пергамент с начертанной на нем руной, сказав:
— Торопись, скачи за пределы нашей страны, пока не окажешься в полях, которых никто здесь не знает. Найди там Лиразель, ушедшую от нас к людям, и вручи ей эту руну. Скажи ей, что как только она ее прочтет, так все решится само собой.
Тролль поспешил прочь.
Не просто поспешил, а понесся — где бегом, где длинными прыжками. Тролль достиг сумеречной границы и исчез за ней.
С этого момента в Стране Эльфов все замерло, король сидел на прекрасном троне — недвижим, молчалив и печален.
Глава VII Визит тролля
Достигнув сумеречной границы Страны Эльфов, тролль проворно растворился в ней, но с нашей стороны он появился с большой оглядкой, потому что слышал о собаках. Бесшумно выскользнув из плотной массы сумерек, он так осторожно ступил в нашу траву, что даже самый внимательный глаз не смог бы его заметить, если только не ожидал появления. На несколько мгновений он замешкался, чтобы поглядеть сначала налево, потом направо, но, не увидев никаких врагов, уже без опаски выбрался из сумеречного барьера. Никогда прежде ему не случалось бывать в полях, которые мы знаем, однако тролль отлично знал, что ему следует остерегаться собак. Среди всех, кто уступает человеку в росте, страх перед этими человеческими друзьями столь глубок, что сумел распространиться далеко за наши границы и проникнуть даже в Страну Эльфов.
А в полях стоял май, и перед троллем раскинулся заросший лютиками луг — целый мир, в котором желтые цветы смешались с красновато-зелеными побегами молодой травы. Когда он увидел столько сияющих чашечек, то поразился богатству и красоте Земли. Он с радостью в сердце вприпрыжку помчался через поля и пастбища, пачкая голени желтой пыльцой.
Не успел тролль удалиться от границ Страны Эльфов, как повстречал зайца, лежавшего в уютном гнезде из травы, где и намеревался оставаться до тех пор, пока у него не появятся неотложные дела. Увидев перед собой тролля, заяц не пошевелился, даже в глазах не появилось никакого выражения. Единственное, что он делал, это лежал и думал.
Тролль же, увидев зайца, подскочил поближе и, улегшись перед ним на траву, спросил у него дорогу к ближайшему жилищу человека. Но заяц продолжал сосредоточенно молчать.
— Послушай, о обитатель этих полей, — снова обратился к нему тролль, — скажи, где здесь живут люди?
Заяц нехотя приподнялся и подковылял к троллю. При этом он выглядел ужасно смешно и неуклюже: заяц, идущий пешком, не обладает и сотой долей той грации, которая присутствует в его беге и прыжках. Ткнувшись носом почти в самое лицо троллю, заяц зашевелил своими дурацкими усами.
— Покажи мне дорогу, — повторил тролль.
Уяснив, что запах этого странного существа ничем не напоминает собачий, заяц успокоился, снова улегся в траву и принялся думать, предоставив троллю болтать, что ему вздумается. Он ничего не имел против общества этого сданного существа, но — увы! — не понимал языка Страны Эльфов.
В конце концов троллю надоело спрашивать и не получать ответов, он резко подпрыгнул высоко вверх, громко выкрикнув:
— Собаки!
Довольный, он покинул зайца и весело поскакал через заросшие лютиками поля, не придерживаясь никакого определенного направления и следя лишь за тем, чтобы удаляться от границы Страны Эльфов.
А заяц хотя и не понимал ни слова по-эльфийски, но все же почувствовал в голосе незнакомца что-то тревожное. В его мысли вторглось недоброе предчувствие, и он очень скоро покинул свое убежище в траве и запрыгал через поля, бросив всего один презрительный взгляд вслед троллю. Однако через пару минут заяц остановился, присел, навострил уши и снова глубоко задумался, глядя на головки лютиков. Но прежне чем он закончил размышлять над тем, что же сказало ему незнакомое существо, тролль уже пропал из вида. Да и уже давно позабыл о своей шутке.
Через некоторое время впереди показались из-за живой изгороди стены фермы, смотревшие на него из-под красной черепицы двумя маленькими окошками.
— Жилище человека, — сказал себе тролль, но какой-то эльфийский инстинкт подсказал ему, что не сюда отправилась принцесса Лиразель.
На всякий случай он подобрался поближе, чтобы получше рассмотреть пристроенный к ферме птичник, но как раз в этот момент его заметила собака. Она никогда прежде не видела троллей, поэтому, приберегая дыхание для последующей погони, она испустила один протяжный, исполненный песьего негодования крик и ринулась на него.
Тролль, словно позаимствовав стремительность ласточек, бросился прочь, то взмывая над желтыми чашечками лютиков, то снова опускаясь к земле. Скорость, которую он развил, оказалась собаке внове, но она все же не отказалась от преследования и помчалась за ним по широкой дуге, стелясь над травой и разинув безмолвную пасть в слабой надежде перехватить жертву, если ей вздумается свернуть. Вскоре пес оказался прямо позади тролля, но тот словно играл со скоростью, на бегу вдыхая напоенный ароматами цветов воздух, лениво струящийся над самыми чашечками лютиков. Похоже, он даже не думал о преследователе, но и не прерывал своего летящего бега, вызванного появлением собаки, от всего сердца наслаждаясь скоростью.
Так и продолжалась эта странная погоня: троллем двигала радость, а псом — чувство долга. И вдруг — просто для разнообразия — тролль сдвинул ноги, напряг колени и, приземлившись на них, упал на руки, перекувырнулся, резко распрямил локти и снова взлетел высоко в воздух, продолжая переворачиваться через голову. Нечто подобное он проделал несколько раз подряд, чем еще больше усилил негодование пса, который отлично знал, что такой способ не годится для путешествий через поля, которые мы хорошо знаем.
Негодование, однако, не помешало собаке понять, что ей никогда не догнать этого странного зверя, поэтому она прервала погоню и вернулась на ферму. Завидев на пороге хозяина, она пошла к нему, усиленно виляя хвостом. Хозяин, заметив, что хвост собаки так и ходит из стороны в сторону, решил, что она, должно быть, сделала что-то полезное, и потрепал ее по голове в знак одобрения. На том дело и кончилось.
Вообще-то фермеру очень повезло, что его пес прогнал тролля, так как если бы тому удалось поведать домашним животным какой-нибудь из секретов волшебной страны, то впоследствии они могли бы зло подшутить над человеком и наш фермер вполне мог лишиться всей своей живности, за исключением разве что преданного пса.
Тролль продолжал свой беззаботный бег, взлетая над зарослями спутанных лютиков.
Чуть позже он увидел над желтыми чашечками белую манишку и подбородочек лисицы, которая с наигранным равнодушием взирала на его неистовые прыжки. Тролль решил приблизиться к этому незнакомому зверю, чтобы рассмотреть его получше. Лиса продолжала спокойно наблюдать за ним, потому что таково свойство всех лис.
Она только что вернулась в росистые поля после того, как всю ночь рыскала вдоль границы сумерек, разделившей наши края и Страну Эльфов. Несколько раз лисица даже прокрадывалась в саму границу и бродила там в густом полумраке: именно таинственность вечерних сумерек, лежащих между нашей и соседней землей, застревающая в их пушистом меху, придает лисицам романтическое очарование, которое они заносят и на нашу сторону.
— Привет, Ничья Собака, — сказал тролль, потому что в Стране Эльфов лисы известны. И их часто можно увидеть вблизи сумеречной границы, и именно таким именем их наградили за пределами полей, которые мы хорошо знаем.
— Привет, Существо-с-той-стороны-Границы, — откликнулась лисица. Она знала язык троллей.
— Где здесь поблизости человеческое жилье? — спросил тролль.
Лисица слегка наморщила нос, отчего усы ее зашевелились. Как и все лжецы, она всегда думала, прежде чем ответить, а иногда даже позволяла себе мудро промолчать, если такой ответ казался ей лучше, чем слова.
— Люди живут в разных местах, — уклончиво ответила она.
— Я должен найти их жилье, — повторил тролль.
— Зачем? — поинтересовалась лисицы.
— Я несу послание короля Страны Эльфов.
При упоминании этого грозного имени лисица не проявила ни страха, ни почтения. Она лишь слегка повела глазами, чтобы скрыть благоговейный трепет, который на самом деле почувствовала.
— В таком случае, — сказала она, — замок людей вон там. — С этими словами она показала своим тонким заостренным носом в сторону долины Эрл.
— А как я узнаю, что дошел до места? — спросил тролль.
— По запаху, — объяснила лисица. — Это самое большое человеческое жилье, и запах там ужасный.
— Благодарю тебя, Ничья Собака, — церемонно сказал тролль, а он редко кого благодарил.
— Я бы ни за что не приблизилась к нему по своей воле, — пояснила лиса, — если бы не…
И, не договорив, она задумчиво покачала головой.
— Если бы не что? — заинтересовался тролль.
— Если бы не курятники, — закончила лиса и мрачно замолкла.
— Ну что ж, до свидания, Ничья Собака, — вежливо попрощался тролль и, кувыркаясь, продолжил свой путь по направлению к долине Эрл.
Он неутомимо бежал, взлетая и кувыркаясь над росистыми лютиками, до самого полудня и покрыл большое расстояние, так что еще до вечера увидел впереди дым и высокие башни Эрла. Само селение было скрыто в низине, а из-за ее края виднелись только коньки самых высоких крыш, трубы дымоходов и башни замка, да еще облако дыма, которое неподвижно висело в сонном воздухе.
— Жилище человека, — удовлетворенно сказал себе тролль и уселся прямо в траву, чтобы как следует рассмотреть местность.
Погодя он еще немного приблизился и опять остановился. Вид дыма и сгрудившихся внизу крыш ему совсем не нравился, да и запах здесь действительно стоял ужасный. Правда, он вспомнил, что в Стране Эльфов была одна легенда, повествовавшая о мудрости человека. Но какое бы почтение она ни вызывала среди легкомысленных троллей, все оно тотчас же улетучилось, как только посланник короля взглянул на тесно сомкнутые крыши.
Пока он глазел на селение, на полевой тропинке, идущей по верхнему урезу долины, показался ребенок лет четырех — маленькая девочка, возвращавшаяся к себе домой в Эрл. Неожиданно столкнувшись на тропе, два маленьких существа посмотрели друг на друга удивленными круглыми глазами.
— Здлавствуй, — сказала девочка.
— Здравствуй, Дитя Человека, — сказал тролль.
Теперь он говорил не на языке троллей, а на языке Страны Эльфов. На том величественном наречии, на каком приходилось говорить перед королем и который он хорошо знал, хотя в домах троллей им почти никогда не пользовались, предпочитая родную речь.
Надо сказать, что в те далекие времена на языке Страны Эльфов говорили и люди, потому что тогда языков вообще было гораздо меньше, а эльфы и жители Эрла пользовались одним наречием.
— Ты кто? — спросило дитя.
— Я тролль из Страны Эльфов, — ответил он.
— Я так и подумала, — важно кивнула головой девочка.
— А куда это ты идешь, человеческое дитя? — уточнил тролль.
— Домой, — ответила девочка.
— Но нам туда идти не хочется, — вскользь заметил тролль.
— Н-нет, — нерешительно призналась девочка.
— Идем со мной в Страну Эльфов, — предложил тролль.
Девочка ненадолго задумалась. Другие дети, бывало, уходили туда, и эльфы всегда посылали на их место подменышей, так что по пропавшим никто особенно не скучал и, откровенно говоря, мало кто замечал подмену. Но, представив себе чудеса дикой Страны Эльфов, она сравнила их со своим собственным домом.
— Н-нет, — повторило дитя.
— Почему? — удивился тролль.
— Сегодня утром мама испекла пирог с вареньем, — сказала девочка и решительно заковыляла дальше. Но было ясно: не будь пирога с вареньем, она немедленно отправилась бы в Страну Эльфов.
— С вареньем! — пренебрежительно фыркнул тролль и подумал о чашеобразных озерах своей страны, об огромных листьях водяных лилий, что возлежат на их торжественно-недвижимой поверхности, и о крупных голубых цветах, горящих в волшебном свете над лукавыми зеленоватыми глубинами. И от всего этого дитя отказалось ради варенья!
Потом тролль вспомнил о своем долге — о свитке пергамента и о руне короля эльфов, которую он должен был доставить его дочери. Всю дорогу он держал пергамент то в левой руке, а то — когда кувыркался — и в зубах. «Здесь ли принцесса? — подумал он. — Или где-то есть еще другое человеческое жилье?»
По мере того как общались вечерние сумерки, тролль подползал все ближе и ближе к селению, чтобы, оставаясь невидимым, увидеть и услышать все, что нужно.
Глава VIII Руна короля доставлена
Солнечным утром колдунья Жирондерель сидела у огня в детской и готовила для ребенка завтрак. Мальчику уже исполнилось три года, но Лиразель все не решалась дать ему имя, боясь, что какой-нибудь завистливый дух Земли или воздуха может его услышать. По этой причине она решила, что не должна произносить этого имени вслух. Алверик же считал, что ребенок должен быть соответствующим образом наречен.
Мальчик уже умел катать обруч. Однажды туманной ночью колдунья поднялась к себе на холм и принесла ему сияющее кольцо лунного света, которое добыла при помощи заклинания во время восхода ночного светила и из которого выковала обруч подходящего размера. Палочку же, чтобы катать его, она сделала из громового металла.
Пока дитя ожидало завтрака, на пороге детской лежало заклятье, которое Жирондерель наложила взмахом своего эбенового жезла. Оно надежно запирало комнату, так что ни крысы, ни мыши, ни собаки, ни даже ночные охотники-нетопыри не могли пересечь заколдованной черты. Напротив, бдительного кота, живущего в детской, заклятье надежно удерживало внутри, и никакой замок, сработанный самым искусным кузнецом, не мог бы быть крепче.
И вдруг через порог — и через магическую черту — в комнату прыгнул тролль. Перекувырнувшись в воздухе, он приземлился на полу и сел. С его появлением грубые деревянные ходики, висевшие над камином, немедленно прекратили свое громкое тиканье. Тролль принес с собой небольшое заклятье остановки времени, имевшее вид кольца из неизвестной травы вокруг одного из его пальцев.
Благодаря ему в полях, которые мы хорошо знаем, тролль не старился и не терял сил. Как же хорошо изучил король Страны Эльфов коварство наших стремительных часов, ведь за время, пока он спускался по бронзовым ступеням, пока посылал за троллем и вручал ему стебелек, чтобы обвязать вокруг пальца, над нашими полями пролетело целых четыре года!
— Что это такое?! — воскликнула Жирондерель.
Тролль, прекрасно знавший, когда можно вести себя дерзко, заглянул в глаза ведьме и увидел в них нечто, чего следовало опасаться. Он поступил правильно: эти глаза некогда глядели в лицо самому королю эльфов. Поэтому он, как говорится в наших краях, разыграл свою козырную карту, сказав:
— Я принес послание короля волшебной страны.
— В самом деле? — переспросила старая колдунья и добавила негромко, обращаясь больше к самой себе: — Да, да, должно быть, это послание для моей госпожи. Что ж, этого следовало ожидать.
Тролль продолжал сидеть на полу, поглаживая пергаментный свиток, внутри которого была начертанная королем эльфов руна. Ребенок, который никак не мог дождаться завтрака, увидел его через спинку своей кроватки и тут же принялся расспрашивать гонца, кто он такой, да откуда пришел и что он может. Как только малыш спросил, что он умеет делать, тролль подлетел высоко вверх и запрыгал по детской, словно мотылек, бьющийся под потолком между зажженными светильниками. С пола на полки и обратно, и снова вверх перелетал он. Ребенок в восторге захлопал в ладоши, а дремавший кот пришел в ярость и принялся шипеть и плеваться. Колдунья в сердцах схватила свой эбеновый посох и мгновенно сплела заклятье против прыжков, но оно не в силах было удержать тролля. Он скакал как мяч, он вертелся волчком, а кот выкрикивал все существующие в кошачьем языке проклятья. Жирондерель тоже была в гневе, и не столько потому, что ее магия не сработала, сколько от вполне понятной человеческой тревоги за сохранность своих чашечек и блюдечек, аккуратными рядами расставленных на полках. Ребенок же напротив пребывал в полном восторге, вопил и просил еще.
Неожиданно тролль вспомнил о цели своего путешествия и о грозном послании, которое он принес.
— А где принцесса Лиразель? — спросил он колдунью.
Без лишних слов Жирондерель указала ему путь в башню принцессы, так как понимала, что не существует таких средств и нет у нее такой волшебной силы, которые могли бы одолеть руну короля эльфов.
Но только тролль повернулся, как в детскую вошла сама Лиразель. Он низко поклонился госпоже Страны Эльфов, разом утратив все свое нахальство перед сиянием ее красоты. Тролль опустился на одно колено и вручил ей руну своего короля. Когда Лиразель взяла свиток, ее сын принялся звать мать, требуя, чтобы тролль попрыгал еще немножко, а кот прижался спиной к очагу, зорко следя за всеми. Жирондерель молчала.
Тролль вдруг вспомнил травянисто-зеленые чаши затерянных в лесах озер, возле которых обитало его племя, представил невянущую красоту цветов, которых не касается жестокое время, и подумал о глубоких и насыщенных красках и вечном покое своей страны. Его миссия была завершена, а наша Земля успела ему порядком надоесть.
Несколько мгновений ничто в комнате не двигалось, кроме ребенка, подпрыгивающего в кроватке и, размахивая ручонками, требующего новых трюков. Лиразель молчала, сжимая в тонких пальцах свиток, и коленопреклоненный тролль перед ней был недвижим словно изваяние. Замерла колдунья, и злобой горели желтые кошачьи глаза. Часы стояли.
Наконец принцесса шевельнула рукой, и тролль поднялся на ноги, колдунья вздохнула, и — видя, что тролль поскакал прочь — успокоился бдительный кот. Хотя малыш продолжал требовать, чтобы странное существо вернулось, тролль не мешкая слетел вниз по длинной винтовой лестнице и, выскользнув сквозь ворота башни, понесся обратно в Страну Эльфов. Стоило ему пересечь порог, как часы в детской снова пошли.
Лиразель посмотрела на своего сына, посмотрела на свиток, но разворачивать пергамент не стала, а, повернувшись, понесла его с собой. Очутившись в своих покоях, она заперла пергамент в ларец и оставила его там непрочитанным. Инстинкт подсказывал ей, что одна из самых могущественных рун ее отца, которой она так боялась, когда бежала из своей серебряной башни, прислушиваясь к тому, как шаги короля эльфов гремят по бронзовым ступеням, пересекла-таки границу сумерек, написанная на этом самом пергаменте. Она знала: стоит ей только развернуть свиток, как руна предстанет ее глазам и унесет отсюда.
Когда руна была надежно замкнута в ларце, Лиразель отправилась к Алверику, чтобы рассказать ему, какая страшная опасность ей грозит. Но Алверик был столь сильно озабочен ее нежеланием дать младенцу имя, что в первую очередь спросил, не изменила ли она своего решения. Лиразель в конце концов предложила наречь сына чудесным эльфийским именем, которое в известных нам полях никто не смог бы произнести. Но Алверик ни о чем подобном и слышать не хотел. Он считал это очередным капризом, который — как и все капризы Лиразель — нельзя было объяснить привычными причинами. Странные прихоти Лиразель тем больше тревожили Алверика, что ни о чем подобном в замке Эрл никто никогда не слыхивал и никто не брался объяснить их ему или помочь советом. Он стремился к тому, чтобы Лиразель подчинялась освященным веками традициям, а она руководствовалась какими-то непонятными фантазиями, которые являлись к ней с юго-восточной стороны. Он говорил ей, что людям, дескать, пристало уважать традиции своей земли, но Лиразель не желала признавать его аргументов. Когда они в конце концов разошлись по своим покоям, Лиразель так и не рассказала Алверику о грозящей ей опасности, ради чего она, собственно, и приходила.
Из комнат Алверика она снова отправилась к себе в башню. Посмотрела на ларец, который горел в лучах заходящего солнца, и сколько она ни отворачивалась, ее так и тянуло взглянуть на ларец еще раз. Это продолжалось до тех пор, пока солнце не закатилось за холмы и в наступивших сумерках не дотлели последние отсветы вечерней зари. Тогда Лиразель уселась возле распахнутого окна, выходящего на восточные холмы, и долго сидела в темноте, любуясь звездами, усеявшими небосвод. Надо сказать, из всего нового, что узнала Лиразель с тех пор, как переселилась в поля, которые мы знаем, больше всего удивлялась она именно звездам. Ей нравилась их неясная, лучистая красота, и все же, задумчиво глядя на них сейчас, Лиразель была печальна: Алверик не разрешил ей поклоняться звездам.
Но как же тогда она сможет воздать звездам должное, если ей нельзя поклоняться им? Как сможет она поблагодарить звезды за их красоту и восславить их дарующее радость спокойствие? Лиразель почему-то подумала о своем сыне, а потом вдруг увидела на небе созвездие Ориона. И тогда, бросая вызов всем завистливым духам Земли и глядя на бриллианты Орионова пояса, которым она не должна была поклоняться, Лиразель посвятила жизнь своего ребенка небесному охотнику и нарекла его в честь этих великолепных звезд.
Когда Алверик поднялся к ней в башню, Лиразель сразу рассказала ему о своем решении. Он сразу согласился и одобрил решение жены, так как все жители долины придавали охоте большое значение. В душе Алверика вновь пробудилась надежда, от которой он никак не хотел отказываться. Он подумал, что Лиразель, наконец-то уступив ему в выборе имени для сына, станет отныне рассудительна и благоразумна и будет руководствоваться освященными веками традициями, поступая так, как поступают обычные люди, навсегда позабыв о своих странных прихотях и капризах, что приходили к ней из-за границы Страны Эльфов. И тут же, пользуясь случаем, он попросил ее уважать символы веры Служителя, так как еще ни разу Лиразель не воздавала им должное и не знала, что более свято — его колокол или его подсвечник, и не желала слушать ничего из того, о чем твердил ей Алверик.
На этот раз Лиразель ответила своему мужу благосклонно. Он обрадовался, решив, что теперь все будет в порядке. Однако мысли принцессы были уже далеко, с Орионом — она никогда не могла подолгу задерживаться на чем-то мрачном, как не могла и жить в печали дольше, чем мотыльки без солнечного света.
Ларец, в котором была заключена руна короля эльфов, простоял запертым всю ночь.
На следующее утро Лиразель уже почти не думала о руне, потому что вместе с сыном и мужем должна была отправиться к Служителю. Жирондерель тоже пошла с ними, чтобы ждать снаружи. Зато жители селения Эрл, все, кто мог позволить себе оставить полевые работы, явились к скромному святилищу. Были среди них все, кто говорил с отцом Алверика в длинной красной зале. И радостно было им видеть, что мальчик силен и не по годам развит. Столпившись в святилище, они негромко переговаривались и предсказывали, что все будет точно так, как они задумали. А потом выступил вперед Служитель. Стоя в окружении своих священных предметов, он нарек мальчика Орионом, хотя ему, конечно, хотелось бы назвать малыша именем какого-нибудь праведника, на ком уж точно лежала печать святого благословения. И все-таки он был рад видеть мальчика у себя и дать ему имя, так как род, обитавший в замке Эрл, для всех жителей долины служил чем-то вроде календаря, по которому они наблюдали смену поколений и отмечали ход столетий. Потом Служитель склонился перед Алвериком и был предельно вежлив с Лиразелью, хотя его любезность и шла не от сердца, ведь в сердце своем он ставил эльфийскую принцессу не выше морской девы, которая отреклась от моря.
Так сын Алверика и Лиразели был наречен Орионом. Жители долины радостно кричали и приветствовали его, когда он вышел из святилища вместе с родителями и приблизился к Жирондерели, ожидавшей своего воспитанника на краю примыкавшего к святилищу сада. И все четверо — Алверик, Лиразель, Жирондерель и Орион — медленно пошли обратно в замок.
Весь этот радостный день Лиразель не совершала ничего, что могло бы удивить простых людей, позволив человеческим обычаям и традициям знакомых нам полей руководить собой. И только вечером, когда на небо высыпали звезды и снова засияло над холмами созвездие Ориона, она подумала, что их сияющее великолепие так и осталось недооцененным. Она почувствовала острое желание высказать свою признательность небесному охотнику, которому Лиразель была бесконечно благодарна и за мерцающую красоту, осиявшую эти поля, и за его покровительство мальчугану против завистливых духов воздуха, в котором она была уверена. И невысказанная благодарность так жарко пылала в ее сердце, что совершенно неожиданно Лиразель сорвалась с места и, покинув башню, вышла под бледный звездный свет и обратила свое лицо к небу, к созвездию Ориона. Хотя благодарственные молитвы уже трепетали на ее губах, она стояла, словно онемев, потому что Алверик не велел ей поклоняться звездам. Покорная его воле, Лиразель долго глядела в лики небесных светил и молчала, а потом опустила глаза и увидела мерцающую в темноте поверхность небольшого пруда, в котором отразились все звезды.
«Молиться звездам, — сказала себе Лиразель, — несомненно неправильно. Но эти отражения в воде — не звезды. Я буду молиться им, а звезды обязательно услышат».
И опустившись на колени среди листьев ириса, она молилась на краю пруда и благодарила дрожащие в воде отражения звезд за ту радость, что дарила ей ночь с ее горящими в своем бессчетном величии созвездиями. Она благословляла, благодарила, и возносила хвалу этим ярким отражениям, что мерцали на обсидиановом зеркале воды, и умоляла их передать горячую благодарность Ориону, которому она не могла молиться.
Так и застал ее Алверик — коленопреклоненной, низко склонившей в темноте голову. С горечью упрекнул он Лиразель за то, что она делает. Она поклоняется звездам, сказал он, кои существуют вовсе не для того, а Лиразель возразила, что она молилась всего-навсего их отражениям.
Кто-кто, а мы-то способны без труда понять его чувства: Лиразель оставалась чужой в полях, которые мы знаем. Ее неожиданные поступки, ее упрямое противостояние всем установлениям, ее пренебрежение обычаями, ее своенравное невежество-все это ежедневно сталкивалось с существующими и высоко чтимыми традициями. И чем больше романтического очарования, о котором говорили песни и легенды, оставалось в ней от тех времен, когда она жила за далекой границей Страны Эльфов, тем труднее было Лиразели занять место хозяйки замка, издревле принадлежавшее дамам, досконально изучившим и усвоившим обычаи и традиции. Алверик хотел, чтобы она следовала традициям и исполняла обязанности, которые были ей незнакомы и далеки, словно мерцающие звезды.
Лиразель чувствовала только одно — звезды не получили должной благодарности. Вместе с тем она была совершенно уверена, что традиции, здравый смысл и все, что так высоко ставят люди, должны непременно требовать, чтобы кто-то похвалил красоту небесных светил; она же не сумела поблагодарить звезды как следует, а молилась только их отражениям в воде.
Всю оставшуюся ночь Лиразель вспоминала о Стране Эльфов, где все было под стать ее собственной красоте, где от века ничто не менялось, где не было чуждых обычаев и странного великолепия звезд, которому никто не стремился воздать должное. Вспоминала она и эльфийские лужайки, и стоящие стеной цветы, и отцовский дворец. А замкнутая в темноте ларца магическая руна дожидалась своего часа.
Глава IX Лиразель улетает прочь
Шли дни, и жаркое лето пронеслось над долиной Эрл. Солнце, еще недавно заходившее далеко на севере, теперь старалось держаться южной стороны. Близилась пора, когда ласточки покидают свои гнезда под крышами, а Лиразель так ни в чем и не разобралась. Она больше не молилась звездам и не обращалась к их отражениям, однако людские обычаи по-прежнему оставались ей непонятны, и принцесса никак не могла взять в толк, почему ее любовь и благодарность ночным светилам должны оставаться невысказанными. Алверик не понимал, что неизбежно настанет время, когда такая простая вещь может развести их полностью и окончательно.
Как-то раз, все еще лелея свою надежду, Алверик повел Лиразель в дом Служителя, чтобы она научилась молиться святыням. Добрый священник с радостью принес и колокольчик, и подсвечник, и бронзового орла, который удерживал на распростертых крыльях священную книгу, и небольшую символическую чашу с ароматной водой, и серебряные колпачки, чтобы гасить свечи. А потом-как уже не раз бывало — Служитель простыми и ясными словами рассказал Лиразели о происхождении, предназначении и сокровенном смысле, заключенном во всех этих предметах, и почему колпачки сделаны из серебра, а чаша из меди, и что означают выгравированные на ней символы. Он объяснял все это Лиразели с подобающим почтением и даже добротой, однако была в его голосе какая-то отчужденность, и принцесса поняла, что Служитель говорит с ней, словно человек, который ходит по надежному морскому берегу, обращаясь к наяде, что беззаботно плещется среди опасных, бушующих волн.
Когда они вернулись в замок, ласточки уже сбились в стаи и, рассевшись рядами на зубчатых бастионах, набирались сил, готовясь лететь в теплые края. После того как Лиразель поклялась чтить святыни Служителя, как чтут их простые жители Эрла, сверяющие свою жизнь по звону его колокола, в душе Алверика снова засияла умершая было надежда на то, что теперь-то все будет хорошо.
Лиразель и в самом деле помнила все, что сказал ей Служитель, на протяжении нескольких дней. Но однажды, возвращаясь в поздний час из детской, она шла к себе в башню мимо высоких окон замка, и взгляд ее ненароком упал на царящий снаружи поздний вечер. Памятуя о том, что ей нельзя молиться звездам, она вызвала в памяти все святыни Служителя и попыталась припомнить, что ей о них говорило. И тогда показалось Лиразели, что ей будет очень трудно поклоняться им как должно, так как она знала: пройдет всего несколько часов, и последние ласточки снимутся с насиженных мест и исчезнут все до одной, а с их отлетом — как это всегда бывало — переменится и ее настроение. Пуще всего боялась Лиразель, что она может позабыть, как поклоняться людским святыням, позабыть, чтобы никогда больше не вспомнить.
Лиразель снова вышла из замка и пошла по лугам туда, где чуть слышно мурлыкал в траве неширокий ручей. Она знала, где лежат в ручье гладкие плоские камни, и теперь вытащила их на берег, старательно отворачиваясь от отраженных водой звезд. Днем эти камни светились со дна красным и серовато-лиловым, а сейчас все они казались темными, но Лиразель все равно разложила их на траве. Их отшлифованная водой поверхность была ей приятна, странным образом напоминая скалы Страны Эльфов.
Один камень в ряду служил ей вместо подсвечника, второй представлял собой колокольчик, третий символизировал святую чашу, и Лиразель решила;
— Если я сумею поклониться этим чудесным камням как должно, значит, смогу молиться святыням Служителя.
Произнеся это вслух, она опустилась на колени перед большими плоскими гальками и стала молиться им так, словно это были христианские святыни.
В это время Алверик, искавший ее в бескрайней ночи и недоумевавший, какая фантазия опять позвала Лиразель, услыхал на лугу ее голос, выпевающий молитвы, с которыми обращаются только к святыням.
Тогда, к своему ужасу, он увидел среди травы четыре плоских камня, которым молилась и кланялась коленопреклоненная Лиразель.
С горечью он заявил ей, что это ничем не лучше, чем самое темное язычество.
На что Лиразель ответила:
— Я учусь поклоняться вещам Служителя.
— Это языческая молитва, — настаивал Алверик.
Надо сказать, что из всех вещей, которых сторонились жители долины Эрл, они пуще всего опасались искусства язычников, о которых не знали ничего, кроме того, что их таинства порочны по своей природе. Алверик тоже говорил о них с гневом, с которым обычно говорили о язычестве жители долины. Его упреки укололи Лиразель в самое сердце, она ведь просто-напросто училась молиться тому, чему поклоняются все люди. Она хотела угодить Алверику, а он даже не захотел ее выслушать!
Алверик, пребывавший в глупой уверенности, будто ни один человек не имеет права быть мягким, когда речь заходит о язычестве, ни за что не хотел говорить ей тех слов, которые обязан был сказать, — слов, которые скрыли бы его гнев и утешили Лиразель. Принцесса в глубокой печали отправилась обратно в башню, а Алверик остался, чтобы разбросать ее камни как можно дальше.
Ласточки улетели, и потянулись унылые дни. Однажды Алверик попытался уговорить Лиразель помолиться святыням Служителя. Но выяснилось, что она уже забыла, как это делается. И тогда он снова завел речь о языческих таинствах.
Как нарочно, тот день выдался солнечным, и тополя с окрашенной багрянцем листвой стояли в золотом убранстве. Лиразель поднялась к себе в башню. Ларец сверкал в лучах утреннего солнца чистым осенним светом, притягивая взгляд. Она открыла ларец, достала оттуда пергамент с руной короля эльфов. Держа его в руках, она прошла высоким сводчатым коридором в соседнюю башню, где находилась детская, и поднялась по ступеням наверх.
Остаток дня Лиразель провела в детской, играя со своим сыном. Но при этом она не выпускала из стиснутых пальцев пергаментного свитка. И хотя порой она придумывала действительно забавные игры, в глазах ее стояло странное спокойствие, которое заставило Жирондерель насторожиться и с недоумением поглядывать на госпожу.
Когда пришел вечер, Лиразель сама уложила сына спать и, прямая, торжественная, села рядом с ним, чтобы рассказать Ориону сказку. Жирондерель, старая и мудрая колдунья, внимательно следила за ней, так как, несмотря на все свои познания, она могла только догадываться, что произойдет, но не могла ничего изменить.
И прежде чем солнце село за холмы, Лиразель поцеловала сына и развернула свиток короля эльфов. Лишь мимолетный приступ раздражения заставил ее достать пергамент из сундучка, в котором он хранился, но раздражение могло пройти, так что Лиразель, возможно, не стала бы разворачивать свиток, не будь он все время у нее в руке. Частью раздражение, частью любопытство, а частью — прихоть заставили ее бросить взгляд на слова, написанные странными угольно-черными буквами.
Какова бы ни была заключенная в ней магия, сама руна была написана с любовью. А это сильнее всякого волшебства. Таинственные буквы мерцали и лучились любовью, которую король эльфов питал к своей дочери, так что в этой великой руне соединились волшебство и любовь — две самые большие силы, что существуют. Одна — по ту сторону сумеречной границы, и другая — в полях, которые мы знаем. Возможно, любовь Алверика и могла бы удержать Лиразель, но ему пришлось бы полагаться только на нее, потому что руна короля эльфов была могущественнее, чем все святыни Служителя.
Лиразель смотрела на сияющие письмена. И не успела дочесть до конца руну, как чудеса и фантазии Страны Эльфов начали переливаться через границу зачарованной земли. Были среди них такие, что могли бы заставить современного клерка в Сити оставить свой стол и немедленно начать танцевать на морском берегу или вынудить банковских служащих побросать открытыми все сейфы и хранилища и отправиться по дорогам, куда глаза глядят, пока не оказались бы они на зеленой равнине среди поросших вереском холмов. Третьи способны были в мгновение ока превратить бухгалтера в поэта. Это были самые могущественные чудеса и фантазии, которые король эльфов призвал силою своей магии. Лиразель, беспомощная и бессильная, сидела среди этих буйных чудес с пергаментом в руке, не в силах сопротивляться да и не имея такого желания. И по мере того как они неистовствовали, пели и звали, все новые и новые сонмища выдумок и фантазий рвались через границу, заполняя собой разум принцессы. Тело Лиразели становилось все легче, все невесомее. Вот уже ноги наполовину стояли, наполовину плыли над полом, Земля уже с трудом удерживала принцессу — столь быстрым было ее превращение в персонаж сновидений. И ни любовь Лиразели к Земле, ни любовь детей Земли к Лиразели не могли более удерживать ее в нашем мире.
На принцессу уже нахлынули воспоминания о бесконечном детстве, проведенном на берегах круглых как чаши озер Страны Эльфов, возле опушки дремучего леса, на нагретых лужайках или во дворце, рассказать о котором невозможно. Все это Лиразель видела столь же отчетливо, как мы, глядя сквозь лед в маленькое сонное озерцо, видим на дне, словно в другом мире, мелкие белые ракушки, которые лишь слегка расплываются, искаженные ледяной преградой. Так и пленительные воспоминания Лиразели казались ей чуть неясными, чуть размытыми, словно смотрела она на них сквозь сумеречную границу зачарованной страны. И слышались принцессе негромкие, странные голоса чудных существ, доносились запахи удивительных цветов, обрамляющих памятные ей лужайки, звучали приглушенные чарующие напевы. Голоса, мелодии, воспоминания — все смешивалось и плыло в мягком голубом полумраке. То звала Лиразель Страна Эльфов, и неожиданно близко почудился ей размеренный и гулкий голос отца.
Едва заслышав его, Лиразель немедленно поднялась на ноги. Земля уже не могла удержать ее. Как сон, как фантазия, как сказка, как греза выплыла принцесса из комнаты, и ни у Жирондерели не было власти удержать ее при помощи заклятья, ни у самой Лиразель не хватило бы сил даже на то, чтобы обернуться и в последний раз посмотреть на свое дитя.
В этот момент налетел с северо-запада неистовый холодный ветер, ворвался в леса, оголил деревья и заплясал над долинами, ведя за собой толпу багряно-красных и золотых листьев, которые хотя и знали, что это их последний день, все же танцевали теперь вместе с ним.
Подсвеченные лучами уже закатившегося за холмы солнца, в вихре танца и мелькании красок неслись ветер и листья, и вместе с ними летела прочь Лиразель.
Глава Х Отступление страны Эльфов
Алверик всю ночь напрасно проискал Лиразель в самых необычных и укромных уголках. Наутро, усталый и встревоженный, он поднялся в башню к колдунье. Всю ночь он тщетно гадал, какая фантазия, какой каприз могли выманить принцессу из замка и куда они могли завести ее. Он искал ее и возле ручья, где она молилась камням, и у пруда, где она благодарила звезды. Он окликал Лиразель от подножья ступеней, что вели в каждую башню, звал ее из ночной темноты, но только эхо изредка отвечало ему. В конце концов он пришел к Жирондерели.
— Где? — только и спросил Алверик, не прибавив больше ни слова, чтобы сын не догадался о его тревоге.
Но он напрасно старался. Орион уже давно все понял. Жирондерель, печально покачав головой, ответила:
— Путь осенних листьев. Этим путем в конце концов уходит вся красота.
Алверик недослушал ее. Он уловил только первые три слова и, с той же лихорадочной поспешностью, с какой взбегал в башню, развернулся и помчался по лестнице вниз, чтобы поскорее выйти в ветреное утро и проследить, в какую сторону полетели последние клочья прекрасного осеннего убранства Земли.
Те немногие листья, что задержались на холодных ветвях дольше, чем веселая ватага их собратьев, к этому времени уже тоже были в воздухе и, печальные и одинокие, летели вслед за остальными. Алверик увидел, что ветер гонит их на юго-восток — в сторону Страны Эльфов.
Тогда он торопливо перепоясался магическим мечом в широких кожаных ножнах, взял с собой скудный запас еды и заспешил через поля вослед облетевшим листьям.
Он поднялся на жемчужно-седую от росы возвышенность, где в пронизанном солнечным светом хрустальном воздухе весело плясали и вспыхивали последние из летящих листьев. Но в неподвижности солнечного утра, нарушаемой лишь северо-западным ветром, Алверик не обрел успокоения, и ни на минуту не оставила его торопливость человека, неожиданно что-то потерявшего и спешащего вернуть пропажу. Быстра была его походка и лихорадочны движения. Весь день напролет всматривался он в ясный и широкий юго-восточный горизонт, куда вели его листья. Уже к вечеру ожидал Алверик увидеть вдали Эльфийские горы — строгие и неизменные, нетронутые ни одним лучом нашего света, бледно-голубые, как лепестки незабудок. Он без устали шагал все дальше и дальше, торопясь к заветным вершинам. Но они так и не показались вдали.
Алверик увидел домик старого кожевника, когда-то сделавшего ножны для его волшебного меча. Вид небольшой мастерской разбудил в нем воспоминания о годах, что прошли с того вечера, когда он впервые увидел ее двускатную крышу. Отсюда Алверик снова принялся выглядывать бледно-голубые вершины Эльфийских гор, так как он хорошо помнил, в какой стороне они высились, чинно выстроившись в ряд прямо за одним из шпилей дома кожевника. Однако и отсюда Алверик не увидел гор.
Он вошел в дом и увидел, что старик дожил до удивительных лет, и только стол, за которым он работал, стал еще старше. Узнав Алверика, старик приветствовал его. Лорд под наплывом воспоминаний спросил его о жене.
— Она умерла очень давно, — был ответ.
Алверик снова ощутил непостижимый ход времени. Это ощущение делало Страну Эльфов, в которую он так спешил, еще более грозной. Однако ни на мгновение Алверик не подумал повернуть обратно и не пытался справиться со своей нетерпеливой поспешностью.
Произнеся несколько общепринятых фраз, в которых выразил старику свое сочувствие, Алверик спросил его напрямик:
— Куда подевались Эльфийские горы? В какой стороне теперь искать их бледно-голубые вершины?
На лице кожевника медленно проступило такое выражение, словно он никогда в жизни не видел никаких гор, а лорд говорил о вещах, которые старику были заведомо недоступны. Нет, он не знает, сказал кожевник. Алверик понял, что нынче — как и много лет назад — старик не хочет говорить о Стране Эльфов.
Ну что ж, не велика беда, раз граница проходит всего в нескольких ярдах отсюда! Он пересечет ее и выспросит дорогу у тамошних существ, раз горы не хотят больше вести его. Старик тем временем предложил Алверику поесть, и хотя лорд не ел весь день, его нетерпение было столь велико, что он только еще раз спросил у кожевника об Эльфийских горах. Старик смиренно повторил, что он ничего о них не знает.
Алверик зашагал дальше и скоро вышел на непаханое поле, которое он уже видел, когда-то и которое, как он помнил, было разделено напополам границей туманных сумерек. Прежде чем достичь этого поля, Алверик подметил, что все поганки клонятся в ту же сторону, куда он идет. Как колючий кустарник отворачивается от моря, точно так же и поганки, и все прочие растения, что несут в себе капельку магии — например, наперстянки, коровняк и некоторые виды ятрышника, — все тянутся к Стране Эльфов, если растут где-то поблизости от нее. По этим признакам человек еще до того, как расслышит шорох волн или почувствует близость волшебства, может догадаться, что он подошел уже довольно близко к морскому побережью в первом случае или к границе зачарованной страны во втором. А когда в небе над собой Алверик заметил птиц с золотым оперением, то предположил, что в Стране Эльфов разыгралась буря, которая и выгнала их через границу. Подумав так, он снова заспешил вперед.
Однако сумеречной границы на месте не оказалось, так что он пересек поле точно так же, как пересек бы любое другое, но так и не попал в пределы волшебной страны, на ее пустынную, слегка болотистую окраину. Тогда, подталкиваемый северо-западным ветром, Алверик продолжил свой путь с новой горячностью, и понемногу равнина у него под ногами становилась все более голой и каменистой, все более тусклой, серой и безжизненной. На ней не было ни цветов, ни деревьев, чтобы давать тень. Иными словами, эта земля лишилась всего своего очарования, растеряв любые краски и оттенки, утратив признаки, по которым мы восстанавливаем в памяти дорогие нам картины, если оказываемся далеко от них. Подняв голову, Алверик заметил в небе золотую птицу, которая, отчаянно работая крыльями, мчалась куда-то на юго-восток. Он пошел за ней, надеясь вскоре увидеть горы Страны Эльфов, которые, как ему казалось, просто скрылись за пеленой какого-нибудь волшебного тумана.
Но высокое осеннее небо оставалось по-прежнему прозрачным и чистым, а горизонт выглядел ровным, ниоткуда не проглядывало бледно-голубое сияние Эльфийских гор, но вовсе не поэтому Алверик понял, что Страна Эльфов отступила куда-то в новые пределы. Лишь увидев на этой пустынной, каменистой равнине куст боярышника, каким-то чудом не тронутый северо-западным ветром и, несмотря на позднюю осень, сплошь покрытый белоснежными цветами, что когда-то украшали собой весны его далекого детства, он догадался, что Страна Эльфов совсем недавно была здесь, а теперь отступила. И он не мог сказать, насколько далеко.
Так оно и было в действительности. Точно так же, как попадают к нам из Страны Эльфов с самыми разными вестниками берущие свое начало в обрывочных слухах волшебство и тайна, озаряющие своим удивительным светом большую часть нашей жизни с самого раннего детства, так возвращаются назад в Страну Эльфов из знакомых нам полей самые разные воспоминания, которые мы утратили, и верные нам старые игрушки, которыми мы когда-то дорожили. Возвращаются, чтобы стать частью ее таинственного очарования.
Сделав еще нисколько шагов, Алверик увидел на сухой земле грубо вырезанную из дерева игрушку, которую он помнил и которая много-много лет назад служила ему источником детской радости. В один несчастный день она сломалась, а в другой печальный день была выброшена. И вот теперь он увидел ее снова, игрушка была не только целой и новенькой, но и хранила в себе волшебство, очарование, романтическое чудо тех лет — сияющая, преображенная игрушка, одушевлявшая его детские фантазии. Она лежала здесь, среди камней, одинокая, позабытая Страной Эльфов.
Уныла и печальна была равнина, с которой ушли чудеса Страны Эльфов, несмотря на то, что то тут, то там Алверик натыкался на забытые ею крошечные вещицы, потерянные им еще в детстве. Они провалились сквозь время в этот зачарованный край, не знающий бега лет и хода часов, чтобы стать частью его сияющей славы. Теперь же все они были оставлены, брошены, извергнуты этим великим отступлением Страны Эльфов. Все старинные мелодии, древние песни и забытые голоса тоже звучали над этой пустой каменистой равниной, понемногу становясь все тише и тише, словно они не могли долго жить в полях, которые мы знаем.
А когда село солнце, на востоке засиял розовато-лиловый свет, который показался Алверику слишком прекрасным, чтобы быть земным. Он пошел на него, вообразив, что это зарево, возможно, отраженное небом великолепие Страны Эльфов. Так он уходил все дальше и дальше, надеясь найти свою зачарованную землю, и перед ним расстилались все новые и новые горизонты. Наконец на равнину опустилась ночь со всеми звездами, подругами Земли, и только тогда Алверик наконец сумел побороть в себе ту лихорадочную поспешность, которая с самого утра гнала его через поля. Завернувшись в широкий плащ, наброшенный на плечи, он немного поел из своих скудных запасов и уснул неглубоким, тревожным сном, и во сне его продолжали окружать все потерянные и брошенные вещи.
Нетерпение разбудило Алверика ранним утром, когда свет нарождающегося дня все еще был скрыт пеленой октябрьского тумана, и погнало дальше. В полутьме утра Алверик доел свою провизию и зашагал по равнине, окруженной мглистым и серым утром.
Прежде, когда Страна Эльфов еще была на месте, люди никогда не ходили в эту сторону, но и теперь никто, кроме Алверика, не считал нужным исследовать эту каменистую пустыню. А он зашел уже так далеко, что ни один звук из полей, которые мы знаем, не достигал его слуха; даже утренний клич петухов не доносился сюда из фермерских дворов. Алверик шагал в удивительной и странной тишине, время от времени нарушаемой лишь приглушенными обрывками мелодий и словами забытых песен, оставленных отсыпающей Страной Эльфов. Но и они звучали намного слабее, чем накануне.
Когда же засиял над пустошью рассвет, то в небе на юго-востоке Алверик снова увидел такое буйное золотисто-зеленое великолепие, горевшее над самым горизонтом, что ему опять показалось, будто он видит отражение чудес волшебной страны. Переполненный вновь ожившей надеждой вскоре найти Страну Эльфов, Алверик прибавил шагу.
И вот он дошел до места, за которым, казалось, должна была лежать Страна Эльфов, однако оттуда и до самого горизонта вновь простерлась перед ним мертвая, каменистая равнина, и нигде не видно было бледно-голубых вершин Эльфийских гор.
То ли Страна Эльфов действительно каждый раз оказывалась за линией видимого горизонта, освещая облака своим сиянием и отступая дальше по мере того, как Алверик к ней приближался, то ли она вовсе ушла отсюда дни или годы назад — этого Алверик не знал. Но он упрямо продолжал шагать вперед.
Он поднялся на безжизненный каменистый гребень, на который уже довольно давно взирал. С его вершины он увидел все ту же пустыню, протянувшуюся до самого края неба, и нигде, нигде не было ни малейших признаков Страны Эльфов. Не вставали вдали голубые склоны Эльфийских гор, а все брошенные во время отступления маленькие сокровища памяти превратились в самый обычный хлам.
Алверик достал из ножен свой магический меч. Он был способен справиться с колдовством зачарованного леса, но не обладал властью вернуть назад исчезнувшее волшебство. Сколько ни размахивал Алверик своим клинком, пустыня осталась все такой же — каменистой, унылой и бесконечной.
Он почти потерял надежду, но, спустившись с холмов, все же прошел еще немного вперед. Но в этой пустыне горизонт неощутимо двигался вместе с ним, и ни разу из-за него не показались вершины Эльфийских гор. И, шагая по этой безрадостной и голой равнине, Алверик очень скоро понял — как рано или поздно должен был понять всякий на его месте, — что он потерял Страну Эльфов. Надежда умерла.
Глава XI В лесной чаще
Жирондерель сидела с сыном Алверика и Лиразели и развлекала его маленькими чудесами и простенькими заклятьями. Казалось, мальчик был вполне этим доволен. Но в конце концов Орион начал строить свои собственные догадки относительно того, куда подевалась мать. Сам он ничего не говорил и лишь ловил каждое слово, произносившееся в его присутствии, а потом долго обдумывал услышанное. Дни шли за днями, а мальчик знал только то, что его мама ушла, и продолжал молчать о том, что занимало его мысли. Но понемногу, по намекам и недомолвкам, по взглядам и печальным покачиваниям голов, Орион догадался, что в исчезновении его матери было что-то чудесное, вот только он не мог догадаться, что это было за чудо, хотя в голове его одна за другой возникало множество удивительных догадок. В конце концов Орион спросил об этом у старой Жирондерели.
Несмотря на то, что разум колдуньи хранил в себе мудрость множества столетий, она ждала и боялась этого вопроса, даже не догадываясь о том, что вот уже несколько дней малыш раздумывает над ним. Потому вся ее мудрость не подсказала лучшего ответа, кроме того, что мама, мол, захотела немного пожить в лесу. Когда Орион услышал об этом, он решил тоже отправиться в лес, чтобы отыскать Лиразель.
В своих непродолжительных путешествиях за пределы замка, которые мальчик совершал в селение Эрл вместе с колдуньей, он видел попадающихся навстречу людей, видел кузнеца возле пылающего горна, видел фермеров, что приезжали на рынок из отдаленных мест, и всех их он знал. Но больше остальных нравились Ориону Трел, с его неслышной походкой, и От, с его проворными руками и ногами. При каждой встрече оба рассказывали мальчику какую-нибудь сказку о возвышенностях или о дремучих лесах, что росли за холмами. Гуляя с нянькой, Орион любил слушать эти истории о дальних краях.
Жирондерель любила посидеть теплыми летними вечерами у дерева, растущего около деревенского колодца, пока Орион играл в траве. Мимо, убывало, проходил то спешащий на охоту От с диковинным луком в руках, то Трел, и каждый раз мальчуган останавливал того или другого, стоило ему только их увидеть, и просил рассказать сказку про лес. Если это был От, то он обычно с почтением кланялся Жирондерели и рассказывал мальчугану что-нибудь о том, что и как делают в лесу олени, а Орион непременно спрашивал его — почему. Тогда на лице охотника появлялось такое выражение, словно он пытался припомнить что-то, что случилось много лет назад, и после недолгого молчания он действительно вспоминал некое давнее событие, которое объясняло, почему олени ведут себя так, а не иначе, и откуда взялась у них такая-то повадка.
Когда на лужайке у колодца появлялся Трел, то он вел себя так, словно не замечает колдунью, и свою сказку об обитателях леса он рассказывал, торопясь и совсем негромко, а потом спешил дальше по своим делам. Ориону казалось, что даже самый его уход наполнял вечерние сумерки у колодца загадками и тайнами. Трел знал тысячи историй о повадках всех живых существ, и эти его рассказы были порой столь странными, что он осмеливался рассказывать их только Ориону, потому что, как он сам объяснял, многие люди оказывались просто не способны поверить правде, и Трелу не хотелось бы, чтобы его истории достигли их ушей. Однажды Орион даже побывал у него дома-в темной хижине, где было полным-полно звериных шкур.
Но теперь была осень, Орион и его нянька видели Трела и Ота гораздо реже, так как сырые и туманные вечера дышали уже близкими заморозками, и Жирондерель больше не сидела у старого мирта. Прогулки их стали короче, но Орион по-прежнему зорко следил за всем, что происходит вокруг, и однажды заметил Трела, который уходил из селения под вечер, держа путь на возвышенность. Мальчик окликнул его, и Трел в растерянности остановился, так как считал, что у няньки маленького господина — будь она, хоть ведьмой, хоть обычной женщиной — нет и не может быть никаких особенных причин, чтобы обращать внимание на скромного деревенского следопыта. Но Орион тут же подбежал к нему и попросил:
— Покажи мне лес!
Жирондерель сразу поняла, что отныне мысли Ориона будут уноситься все дальше и дальше за пределы долины, и никакое ее волшебство не сможет помешать ему последовать за ними.
А Трел ответил:
— Не могу, мой господин, — он с беспокойством покосился на колдунью, которая приблизилась к нему вслед за Орионом, и нянька увела мальчика.
Трел отправился в лесную чащу, где его ждали дела, в одиночестве.
Как колдунья предвидела, так оно и случилось. Сначала Орион плакал, потом принялся мечтать о лесах, и уже на следующий день он потихоньку выскользнул из замка и один отправился к Оту, чтобы попросить охотника взять его с собой, когда тот в следующий раз отправится за оленем. От, стоя на огромной оленьей шкуре, расстеленной перед очагом, в котором ярко пылали толстые поленья, долго говорил о лесе, но так и не взял с собой Ориона. Вместо этого он отвел мальчугана обратно в замок. Жирондерель уже горько жалела, что сказала Ориону, будто его мать ушла в лес. Эти необдуманные слова слишком рано разбудили в мальчике стремление к странствиям, которое, конечно же, пришло бы, но гораздо позже. Заклинания уже не могли успокоить Ориона. В конце концов Жирондерель разрешила мальчику отправиться в лес, но прежде подняла повыше свой посох и прочла заклинание, которое вызвало к очагу в детской всю красоту лесов, одухотворив тени, что отбрасывало пламя. И комната стала такой же волшебной и таинственной, как и сам лес. Когда и это удивительное заклинание не смогло утешить Ориона и успокоить его страстное желание, колдунья позволила ему пойти с Отом.
Утром по хрустящей от мороза траве Орион снова прокрался в дом Ота, а старая колдунья хоть и знала об этом, все же не стала звать его обратно, так как никакое ее волшебство не могло обуздать человеческой любви к странствиям. Не могла Жирондерель и удерживать дома его тело, так как душа Ориона рвалась в леса. Из любых вещей колдуньи всегда предпочитают те, в которых больше непонятного и таинственного. И вот мальчик один явился к Оту и прошел через сад, где на побуревших черенках стояли мертвые цветы, лепестки которых превращались в слизь при малейшем прикосновении.
На этот раз Орион застал Ота в прекрасном расположении духа и посчитал, что теперь-то ему не откажут. Охотник уже собирался уходить — еще час, и они бы разминулись. Когда мальчик вошел в его хижину, тот как раз снимал со стены лук; в мыслях От уже давно странствовал где-то в лесах. Так что, когда Орион принялся упрашивать взять его с собой, охотник не смог ему отказать.
Посадив Ориона к себе на плечо, От стал подниматься от селения к возвышенности. Многие жители Эрла видели, как они уходили: От с луком в руке, в мягких бесшумных сандалиях, и маленький Орион на его плече, завернутый в шкуру молодого оленя, которую дал ему охотник. Когда деревня осталась позади, Орион поглядел на удаляющиеся дома и обрадовался, потому что еще никогда ему не приходилось бывать так далеко от селения. Когда же перед ним распахнулись дали возвышенности, он почувствовал, что это уже не просто прогулка, а целое путешествие.
И вот далеко впереди появился торжественный и темный зимний лес, наполнив Ориона восторженным трепетом. От повел мальчика под полог этого леса, в его таинственную тьму и неподвижность.
Так тихо и осторожно вошел От в лес, что даже зоркие дрозды, что расселись по ветвям и стерегли покой чащи, не взлетели при его приближении и лишь лениво крикнули, а потом напряженно прислушивались, так и не поняв, нарушил ли прошедший мимо человек очарование спящего леса или нет. В это очарование, в этот синеватый полумрак и глубокую тишину медленно вступил охотник, и на его лице появилось выражение сосредоточенности и серьезной торжественности. Бесшумно ходить по лесам было его работой, которой он занимался всю жизнь; вот почему он приблизился к лесу, словно человек, идущий навстречу своей заветной мечте.
Вскоре От опустил мальчугана на бурый папоротник-орляк, а сам пошел вперед один. Орион следил за охотником, уходившим от него с луком в левой руке, до тех пор, пока тот не исчез в чаще, бесшумно растворившись среди стволов и ветвей, словно тень. Хотя мальчугану нельзя было идти с Отом, он все равно обрадовался, потому что по выражению лица охотника и по тому, как он двигался, Орион понял, что это была серьезная охота, а не просто прогулка, предпринятая для того, чтобы доставить удовольствие капризному малышу. И это понравилось ему гораздо больше, чем любые игрушки, в которые он когда-то играл. Пока Орион одиноко ждал возвращения Ота, вокруг него торжественно и грозно темнел могучий лес.
Прошло, однако, довольно много времени, прежде чем Орион услышал какой-то звук, еще более тихий, чем тот, что производили черные дрозды, разбрасывая сухие листья в поисках насекомых. Это вернулся От. Он не нашел оленя и некоторое время сидел рядом с Орионом на папоротниковых листьях, для забавы выпуская в ствол дерева стрелу за стрелой. Потом От собрал свои стрелы и, снова посадив мальчика на плечо, повернул к дому, Когда они покидали великий лес, в глазах Ориона стояли слезы, так как он успел полюбить таинственность огромных серых дубов. Для Ориона духи дубов стали товарищами в детских играх, и он возвращался в Эрл, словно наигравшись с новыми друзьями, и голова его была полна намеками и советами, полученными от мудрых старых стволов. Для мальчика каждое кряжистое дерево обладало своим собственным значением и смыслом.
Когда От привел Ориона домой, в дверях его уже ждала Жирондерель. Она почти не расспрашивала своего воспитанника о том, как он провел время в лесу, и почти не откликалась, когда он начинал об этом рассказывать, потому что слегка ревновала Ориона к лесу, чьи чары оказались сильнее ее колдовства и сманили у нее мальчугана. Всю ночь напролет сновидения мальчика гонялись за оленем в дремучем лесу.
И на следующий день Орион снова тайком улизнул из замка и пошел к Оту, но тот уже ушел на охоту, потому что у него кончалось мясо. Орион не отчаялся и отправился к Трелу.
Трел был у себя в темной маленькой хижине, завешенной множеством звериных шкур.
— Возьми меня в лес, — попросил его Орион.
Следопыт опустился в широкое деревянное кресло, чтобы как следует обдумать эту просьбу, а заодно поговорить о лесе. В отличие от Ота, который всегда говорил о немногих самых простых вещах, которые он хорошо понимал — об оленях, об их повадках и о приближении следующего времени года, Трел часто рассказывал о таких зверях, о существовании которых он сам только догадывался, о тварях, обитающих в лесной глуши и появляющихся только в темное время суток, и даже пересказывал Ориону человеческие и звериные мифы. Особенно мальчику нравились сказки и легенды лис и барсуков которые следопыт расшифровал, наблюдая за поведением и тех, и других после наступления сумерек. Слушая, как Трел, сидя перед огнем, задумчиво вспоминает обычаи и традиции тех, кто обитает под листьями папоротников и среди ежевики, Орион позабыл о своем желании отправиться в лес. Он спокойно сидел на обитой шкурами маленькой скамеечке и слушал. Именно Трелу рассказал он все, о чем не осмелился поделиться с Отом. Он надеялся на то, что однажды из-за ствола дуба вдруг выйдет к нему его мама, которая ненадолго уехала в лес. А Трел подумал, что это действительно может случится, так как какие бы небылицы ни рассказывались о лесной чаще, он лучше других знал, что в ней не бывает ничего невозможного.
Потом за Орионом пришла Жирондерель, пришла и увела его обратно в замок. Наутро она уже сама велела Ориону идти к Оту. На этот раз охотник снова взял его с собой в лес. А несколько дней спустя мальчик опять явился в хижину Трела, в темных углах которой и в прядях паутины под потолком, казалось, обитали пугливые, осторожные тайны леса, и снова с восторгом слушал странные его сказки.
Время шло, и неподвижные ветви деревьев в лесу уже казались черными на фоне неистовых закатов. Зима уже царствовала над заколдованными возвышенностями, а самые мудрые жители долины предсказывали снег. В один из дней предзимья Орион увидел, как От подстелил оленя-пятилетку. Он внимательно следил за тем, как охотник разделывал добычу и рассказывал увлекательные истории.
Так проходили дни. Орион ходил в лес с Отом, слушал рассказы Трела и постепенно полюбил все, что имеет отношение к охотничьему ремеслу. Внутренняя склонность и характер мальчика как нельзя лучше подходили к имени, которое он носил. Что касается крови предков-магов, которая текла в его жилах, то она пока ничем себя не проявляла.
Глава XII Расколдованная равнина
Был уже поздний вечер, когда Алверик наконец понял, что Страна Эльфов для него потеряна. С тех пор как он вышел из Эрла, прошло два дня и одна ночь. Ему очередной раз пришлось устраиваться на ночлег посреди каменистой пустоши, где когда-то была зачарованная страна. На закате он снова бросил взгляд на восток, но горизонт, ясно видимый на фоне бирюзового неба, был черен и щерился острыми камнями, и нигде не видать было ни следа Страны Эльфов. Сгущающиеся сумерки были обычными земными сумерками, а вовсе не тем плотным барьером голубого мрака, разделявшим Землю и Страну Эльфов, который он искал. И вышедшие на небо звезды были обычными звездами, которые мы хорошо знаем, и под сияние знакомых созвездий Алверик крепко уснул.
Он проснулся тихим и очень холодным утром, которое даже птицы не оживляли своим щебетом. Невольно прислушиваясь, он уловил только эхо древних голосов, которые звучали все тише, медленно уплывая прочь, словно грезы, возвращающиеся в страну снов. Алверик мимолетно задумался, сумеют ли они вернуться в Страну Эльфов, или же она отступила слишком далеко. Потом он снова оглядел восточный горизонт, но опять не увидел ничего, кроме камней и булыжников, коими была щедро усыпана эта унылая равнина. И тогда он развернулся, и пошел назад, к полям, которые мы знаем.
Теперь Алверик шел медленно, понемногу, и эта неспешная ходьба согрела его, а потом проглянуло и нежаркое осеннее солнце. Он шел весь день, и когда впереди показался домик старого кожевника, склонившееся к самой земле солнце стало огромным и красным. Постучав, Алверик попросил еды, и старик радушно принял его. Горшок с ужином уже закипал на огне, так что прошло совсем немного времени, прежне чем Алверик оказался за столом перед миской, полной сусличьих ножек, ежей и крольчатины. Сам хозяин отказывался есть до тех пор, пока не поест гость, и был готов терпеливо ждать, но в глазах кожевника мелькало такое одиночество, что Алверик понял: настал подходящий момент чтобы расспросить старика. Поэтому он повернулся к кожевнику и, предложив ему кроличью спинку, осторожно заговорил об интересующем его предмете.
— Сумерки отступили дальше, — заметил Алверик.
— Да, да… — согласился старик, однако по голосу нельзя было понять, что он имел в виду.
— Когда же они ушли? — снова спросил Алверик.
— Сумерки, господин? — переспросил хозяин.
— Да, сумерки, — кивнул Алверик.
— Ах, сумерки… — промолвил старик.
— Да, барьер, — подтвердил Алверик и, сам не зная почему, понизил голос: — Барьер, который отделял от нас Страну Эльфов.
И как только он упомянул о Стране Эльфов, из глаз старика сразу же исчезла искра понимания.
— Ах… — только и сказал он.
— Послушай, старик, — заявил Алверик. — Ты знаешь, куда девалась Страна Эльфов!
— Девалась?… — удивился собеседник.
Алверик подумал, что это удивление вполне искренне, хотя старик не мог не знать, где она была — ведь граница зачарованной земли проходила всего через два поля от его дверей.
— Когда-то Страна Эльфов начиналась на соседнем поле, — заметил Алверик.
Взгляд старого кожевника затуманился, обратившись в далекое прошлое, и он ненадолго увидел, как все было в старые времена, а потом покачал головой. Но Алверик, внимательно следивший за ним, воскликнул:
— Ты знал про Страну Эльфов!
И снова старик промолчал.
— Ты знал, где проходит граница, — решительно сказал Алверик.
— Я стар, — медленно проговорил кожевник, — и мне не у кого спросить.
Когда он сказал это, Алверик сразу догадался, что кожевник думает о своей старой жене, и понял, что даже если бы она была жива и стояла теперь рядом с мужем, то он все равно мало что узнал бы о Стране Эльфов. Похоже, старику почти нечего добавить. И все же какая-то упрямая раздражительность заставила его не бросать разговора, хотя он и знал, что все бесполезно.
— Кто живет к востоку отсюда? — спросил он.
— К востоку? — как эхо повторил за ним кожевник. — Разве господину мало севера, юга и запада, что он непременно должен глядеть на восток?
На его лице появилось умоляющее выражение, но Алверик не обратил на это ни малейшего внимания.
— Кто живет на востоке? — настойчиво спросил он.
— Никто, господин, — ответил кожевник, и это, разумеется, было правдой.
— А раньше, что было там раньше? — настаивал лорд.
Старик отвернулся, чтобы присмотреть за жарким в горшке, и ответил так тихо, что его едва можно было расслышать.
— Прошлое, — сказал он.
Он ничего больше не прибавил и даже не объяснил, что означает его ответ, так что Алверику оставалось только поинтересоваться, нельзя ли ему заночевать здесь. Хозяин без слов подвел его к старой широкой кровати, которую Алверик, оказывается, помнил все эти годы. И тогда, без дальнейших церемоний, Алверик улегся на нее, чтобы отпустить старика и дать ему возможность вернуться к своему ужину.
Очень скоро Алверик уже крепко спал, наконец-то получив возможность отдохнуть в тепле. А его хозяин тем временем не спеша обдумывал множество вещей, о которых, как полагал Алверик, он не имеет никакого представления.
Наутро Алверика разбудили птицы из окрестных полей, распевшиеся в самом конце октября просто потому, что солнечное утро вдруг напомнило им весну. Он сразу же вскочил и вышел наружу, чтобы встать в самой высокой точке узкого поля, лежавшего с той стороны дома кожевника, которая обращена к Стране Эльфов. Оттуда он поглядел на восток, но ничего нового не увидел: до самого выпуклого горизонта простиралась все та же бесплодная, голая, каменистая земля, та же, что была здесь и вчера, и позавчера.
Он вернулся в дом, и старик накормил его завтраком. После еды Алверик снова вышел на улицу, чтобы глядеть на равнину. За обедом, которым робко поделился с лордом кожевник, он снова заговорил о Стране Эльфов. И было в ответах и даже в молчании старика что-то такое, что не давало угаснуть надежде Алверика получить хоть какие-то сведения о местонахождении бледно-голубых Эльфийских гор. Он вывел своего хозяина из дома и развернул его лицом на восток. Кожевник глянул в ту сторону неохотно. Алверик, указав ему на приметный обломок скалы, торчащий из земли совсем неподалеку, спросил его напрямик, рассчитывая получить конкретный ответ, раз речь зашла о конкретных вещах:
— Как давно стоит здесь эта скала?
И ответ старика обрушился на сад его надежд, как град на цветущие яблони:
— Она здесь, и нам следует примириться с этим.
Неожиданность и странность этих слов оглушили Алверика, так что голова его закружилась. Теперь он увидел, что и самые логичные вопросы о конкретных предметах не могут помочь ему получить разумный ответ, и совершенно отчаялся, больше не надеясь получить практические указания относительно задуманного им фантастического путешествия.
Но даже после этого Алверик почти до самого вечера прохаживался вдоль глухой восточной стены дома, бросая на неприветливую равнину испытующие взгляды, однако за все это время она ничуть не изменилась и никуда не отступила, и никакие бледно-голубые вершины не встали над горизонтом. Страна Эльфов не вернулась в свои прежние берега. А когда пришел вечер, серые камни равнины сперва тускло, как бы нехотя засветились в лучах низкого солнца, а потом быстро потемнели с его заходом. Эти перемены происходили в полном соответствии с земными законами, и не было в них ни капли эльфийского волшебства. Алверик наконец решился предпринять дальнее путешествие.
Вернувшись в дом, он заявил кожевнику, что хочет купить так много продовольствия, сколько сможет унести, и за ужином они вместе обдумали, что понадобится ему в первую очередь. Старик пообещал Алверику завтра же обойти всех соседей, и рассказал, чего и сколько можно купить у каждого, и выразил надежду, что если Бог благословит его силки обильной добычей, то у Алверика будет даже больше еды, чем они рассчитывали. Ведь Алверик вознамерился идти на восток до тех пор, пока не найдет потерянную землю.
В тот день Алверик рано пошел спать и спал долго, пока усталость, вызванная его тщетной погоней за Страной Эльфов, не изошла из его тела полностью. Его разбудил старый кожевник, спозаранок отправившийся осматривать свои силки и ловушки.
Пока лорд завтракал, он сложил в котелок мясо пойманных зверьков и повесил его над огнем, а сам снова ушел. Почти все утро старые переходил из дома в дом, от соседа к соседу, и одни давали ему солонину, другие — хлеб, третьи делились сыром, так что к обеду кожевник вернулся домой, сгибаясь под тяжестью тюка с провизией.
Часть продуктов, принесенных стариком, Алверик сложил в заплечный мешок, а часть поместил в висевшей у него на поясе кошелке. Он наполнил водой свою флягу и присоединил к ней еще две, которые хозяин сделал для него из двух больших кож. Навьючив все это на себя, он немного отошел от дома кожевника, внимательно оглядывая пустошь, откуда ушла Страна Эльфов, а потом снова вернулся к старику, как только убедился, что может легко нести двухнедельный запас провизии.
Вечером, пока хозяин готовил рагу из мяса суслика, Алверик снова встал у глухой стены дома и глядел на неприветливую каменистую пустыню, надеясь увидеть за далекими, розовыми от заката облаками безмятежные незабудковые вершины, но так ничего и не высмотрел.
Солнце село, и закончился последний день октября.
На следующее утро Алверик плотно позавтракал, потом забросил через плечо мешок с едой и, расплатившись с хозяином, тронулся в путь. Дверь домика, конечно же, отворялась на запад, и старик, сердечно прощаясь с гостем у порога и желая ему успеха, так и не решился зайти за угол, чтобы не видеть, как Алверик будет удаляться к востоку, как не хотел он накануне говорить об этом путешествии, словно на картушке его компаса было нанесено всего три стороны света.
Не успело яркое осеннее солнце подняться высоко над горизонтом, как Алверик уже покинул поля, которые мы знаем, и с мешком еды на плече и волшебным мечом на поясе углубился в край, откуда отступила Страна Эльфов и к которому ничто не осмеливалось приблизиться.
Цветущие боярышники его воспоминаний, которые он видел здесь недавно, уже все засохли и облетели, а древние песни и забытые голоса, витавшие над этой землей, звучали теперь не громче самых тихих вздохов, да и число их заметно поубавилось, словно многие уже умолкли насовсем или же сумели добраться до Страны Эльфов и соединиться с ней.
Алверик шел без отдыха целое утро, шел со рвением, которое овладевает путниками в начале долгого пути. Это рвение помогало ему не снижать скорости, хотя он был тяжело нагружен провизией и нес с собой толстое одеяло, повязанное на плечи поверх плаща. Кроме еды Алверик взял с собой вязанку хвороста, а в правой руке держал шест. С мешком на спине, с шестом в руках и с мечом у пояса Алверик, конечно же, выглядел немного нелепо, однако, ведомый одной мыслью, одной надеждой, одной пламенной страстью, он, право же, не мог не унаследовать хотя бы части той всеобщей чудаковатости, что присуща всем, кто отваживается на подобные отчаянные предприятия.
В полдень Алверик ненадолго присел на камень, чтобы немного перекусить. Дальше он пошел уже медленнее, но даже вечером не смог отдохнуть, как намеревался, потому что когда густые сумерки упали на каменистую равнину и плотной пеленой залегли вдоль восточного горизонта, он то и дело вскакивал со своего места и проходил еще несколько шагов, чтобы взглянуть, не те ли это густые и плотные сумерки, что протянулись вдоль края полей волшебной границей, отделяющей их от Страны Эльфов. Но каждый раз это оказывались одни и те же знакомые земные сумерки.
Звезды высыпали на небо. Это были привычные звезды, те, что каждый день ночами глядят с высоты на нашу Землю. Только тогда Алверик наконец кое-как устроился среди острых, не прикрытых мхом камней и, поев хлеба с сыром, запил его водой. Когда над равниной начал распространяться ночной холод, он разжег крошечный костер из принесенного с собой хвороста и, завернувшись в свой плащ и в одеяло, улегся как можно ближе к нему. И, прежде чем угли погасли и почернели, он уже крепко спал.
Рассвет пришел в пустыню неслышно, без птичьих трелей, без шороха листьев или просыпающейся травы. Мертвая тишина и холод царили над равниной. Казалось, ничто на этой каменистой пустоши не радуется возвращению дневного света.
Глядя на бесформенные груды холодных, тускло освещенных камней, Алверик подумал, что было бы куда лучше, если бы ночной мрак навеки укрыл их остро изломанные грани. Да, тьма была бы гораздо лучше теперь, когда Страна Эльфов отступила из этих мест. И хотя безрадостное уныние этой расколдованной земли проникло в его душу вместе с пронизывающим холодом утра, пламя надежды, все еще горевшее в сердце Алверика, не позволило ему потратить много времени на завтрак возле кучки остывшей золы, оставшейся от одинокого костра. Безумная надежда погнала его дальше на восток через каменистую пустыню. И снова Алверик шел все утро напролет, но не встретил в пути ни былинки — даже золотые птицы, которых он видел прежде, уже давно укрылись в пределах зачарованной страны.
Обыкновенные пернатые и прочие дикие существа избегали этих пустынных угрюмых пространств. В своем путешествии он был так же одинок, как человек, который отправляется в обратный путь по волнам своей памяти, чтобы еще раз навестить памятные места, однако вместо них оказывается вдруг в пустыне, откуда бежало все очарование дорогих воспоминаний. По сравнению с прошлым днем ноша Алверика несколько уменьшилась, однако шаг его уже не был таким упругим, так как яснее ощущалась вчерашняя усталость. В полдень Алверик долго отдыхал, а потом снова поднялся и пошел дальше. Мириады камней, больших и малых, окружали его со всех сторон, протянувшись однообразной серой равниной до самого иззубренного горизонта. Целый день Алверик напрасно ждал, что вот-вот мелькнут в вышине бледно-голубые пики.
Вечерний костер снова оказался небольшим: Алверик вынужден был экономить свой скудный запас дров. Робкий огонек, мерцающий посреди пустоши, был не в силах побороть чудовищного одиночества мертвых пространств. Сидя возле этого жалкого костра, Алверик думал о Лиразели, он изо всех сил старался сохранить в сердце своем надежду, но одного взгляда на эти равнодушные камни вполне хватило бы, чтобы совершенно отчаяться. Было в хаотическом нагромождении каменных осколков нечто такое, что говорило: «Оставь мечты! Эта равнина и сроднившиеся с нею валуны и щебень тянутся и тянутся бесконечно».
Глава XIII Молчание кожевника
Только через много дней по однообразному виду окруживших его камней Алверик понял, что каждый новый день, каждый новый переход ничего не меняет. Сколько бы дней он ни шел, он будет видеть впереди одинаковые, изломанные горизонты, ничем не отличающиеся от тех, что он видел вчера. Он понял, что никогда не проглянет из-за далекой черты гряда голубых Эльфийских гор.
И все же он упорно шел вперед через каменные россыпи и завалы. Поклажа его становилась все легче по мере того, как таяла запасенная на две недели провизия. Вечером десятого дня Алверик подумал, что если он пойдет дальше, но так и не увидит гор, к которым стремится, то погибнет от голода на обратном пути. Он немного перекусил в кромешной темноте, так как его запасы топлива давно иссякли. В мрачном молчании он похоронил надежду, которая вела его все это время. А наутро, едва только рассвело и он смог определить, в какой стороне находится восток, Алверик доел то, что сумел сэкономить за ужином, и отправился в долгий и трудный обратный путь к равнинам людей. Шагать по каменистой равнине ему было трудно, потому что теперь он двигался, повернувшись спиной к Стране Эльфов. Весь этот день он старался пить и есть как можно меньше, так что к вечеру у него осталось запасов на полных четыре дня пути.
Алверик с самого начала рассчитывал, что если в последние дни путешествия ему придется повернуть назад, то, покончив с запасами еды, он сможет идти налегке, то есть — намного быстрее. Однако он не представлял себе, с какой силой монотонный пейзаж вокруг способен воздействовать на его дух своей безжизненной пустотой. Пока в сердце его теплилась надежда, Алверик почти не замечал унылого однообразия камней, и до самого позднего вечера десятого дня своего путешествия, когда бледно-голубые горы так и не появились, а провизии оказалось неожиданно мало, он почти не думал о возвращении. Теперь же гнетущую монотонность обратного пути разнообразили лишь редкие приступы страха, вызванного мыслью, что он может вовсе не дойти до границ полей, которые мы знаем.
Вокруг лежали мириады камней, и многие из них были больше и тяжелее, чем могильные плиты, хотя они, разумеется, не были так аккуратно обтесаны. Равнина больше всего напоминала Алверику кладбище, протянувшееся до самого края мира, полное безымянных памятников над забытыми могилами. Измученный жестоким холодом ночей, ведомый пылающими закатами, Алверик шагал и шагал сквозь сырые утренние туманы, сквозь пустые полдни и утомительные вечера, не оживленные голосами птиц. Уже больше недели прошло с тех пор, как он повернул назад. Вода во флягах давно закончилась, а впереди по-прежнему не было видно никаких признаков обитаемых полей, и ничего более знакомого, чем валуны и груды щебня. Алверик как будто смутно помнил их, и они непременно заставили бы его отклониться севернее или южнее или даже повернуть обратно на восток, не направляй его шагов красноватое ноябрьское солнце, а порой и какая-нибудь дружелюбная звездочка на небосводе. Наконец, когда ночная тьма в очередной раз заставила почернеть скучные камни равнины, над каменной грядой на западе появился огонек. Сперва на фоне последних отсветов заката он казался бледным, едва различимым, но с каждой минутой разгорался все более ярким оранжевым огнем. То было не что иное, как окно под крышей человеческого жилья. Завидев его, Алверик поднялся с неуютных камней и пошел на огонек, пока усталость и невидимые в темноте препятствия не одолели его. Тогда он снова забился в какую-то щель под валуном и уснул, а крошечное желтое окошко продолжало светить ему даже во сне. В сновидениях перед его мысленным взором одна за другой проносились прекрасные надежды.
Пробудившись утром, Алверик увидел вдалеке чей-то дом. Ему показалось невероятным что огонек, вспыхнувший в этом крошечном окне, сумел поддержать его надежды и спасти от одиночества, так как при свете дня дом выглядел вполне обыкновенно и даже убого. Алверик почти сразу узнал его, это была очень небольшая ферма, которая стояла неподалеку от мастерской кожевника.
Теперь он знал, куда идти, и вскоре вышел на берег пруда. Сначала он напился, а потом завернул в сад, где спозаранок работала какая-то женщина.
Когда она спросила его, откуда он взялся, Алверик ответил: «Пришел с востока», — и даже указал направление, но женщина смотрела на него непонимающим взглядом. Алверик пошел прямо к дому, откуда он вышел в путь, чтобы снова просить о еде и ночлеге у человека, чьим гостеприимством он пользовался уже дважды.
Когда усталый Алверик приблизился к домику кожевника, старик стоял на пороге. Увидев лорда, он жестом пригласил войти и для начала дал ему большую кружку молока, а потом согрел еду. Алверик сытно позавтракал, а потом весь день отдыхал. Почти до самого вечера он молчал. К вечеру его силы немного восстановились. Сидя за нормальным человеческим столом, на котором аппетитно дымился горячий ужин, при свете свечи, в тепле и уюте большой чисто прибранной комнаты, он снова ощутил потребность говорить.
Он рассказал кожевнику историю своего путешествия через пустынные каменистые пространства, где не было места ни для чего человеческого и куда не осмеливались проникать ни птицы, ни маленькие зверушки, ни даже цветы или травы. Его рассказ был хроникой запустения и одиночества. Старик выслушал его пространное описание, но ничего не сказал и позволил себе сделать какие-то незначительные замечания только тогда, когда Алверик заговорил о полях, которые мы хорошо знаем. Хозяин слушал гостя не просто вежливо, но и как будто даже с некоторой долей заинтересованного внимания, однако ни слова не сказал о земле, с которой отступила Страна Эльфов. Он вел себя так, словно на востоке не существовало никаких равнин, а были лишь морок и бред, а Алверик либо только что избавился от наваждения, либо очнулся от странного сна и теперь его пересказывает. Что до сновидений, то о них и говорить-то не стоило. И уж, конечно, старик ни слова не проронил о существовании Страны Эльфов или чего-то другого, что находилось бы дальше восьмидесяти ярдов от восточной стены его дома.
В конце концов Алверик отправился спать, а кожевник сидел один до тех пор, пока огонь в очаге не начал гаснуть. Он думал о том, что услышал, и изредка качал головой.
Весь следующий день Алверик отдыхал и прогуливался в осеннем саду, изредка пытаясь вызвать хозяина на разговор о своем великом походе в пустынный край, но безуспешно. Кожевник продолжал уклоняться от темы с такой изобретательностью и упорством, словно заговорить о каменистой равнине означало приблизить ее. Тогда Алверик принялся гадать о причинах, которые могли определить подобное поведение. Может быть, в юности кожевник побывал в Стране Эльфов и столкнулся там с чем-то, что сильно испугало его? Может быть, он едва избежал смерти или любви длиной в век? Не была ли тайна Страны Эльфов слишком величественной, чтобы язык человека мог безнаказанно касаться ее? Или же, напротив, люди, живущие здесь, на краю наших полей, были настолько хорошо знакомы с неземной красотой удивительной страны, что не хотели говорить о ней из опасения, что любое неосторожное слово может стать приманкой, способной выманить ее волшебство за пределы зачарованного мира, в то время как упорное молчание, пусть и слабо, но сдерживает его? Действительно ли слово, сказанное вслух, способно пробудить, приблизить магический мир или сообщить неземную эльфийскую красоту полям, которые мы хорошо знаем? На эти вопросы у Алверика не было ответов.
Он задержался у кожевника еще на один день, чтобы набраться сил перед возвращением в Эрл. В путь он вышел ранним утром, и хозяин проводил его за порог, сердечно с ним прощаясь и разглагольствуя без своей обычной сдержанности о дороге и о делах Эрла, служивших пищей для слухов и сплетен на многих отдаленных фермах. Контраст между одобрением, которое старик выказывал полям, которые мы знаем и которые его гостю предстояло пересечь, и его упорным неприятием всего, что относилось к тем, другим землям, к коим все еще тянулись надежды Алверика, был огромным.
Пришла пора расставаться, и, оборвав слова прощания, кожевник повернулся, чтобы идти в дом. На ходу старик довольно потирал руки, так как был очень рад видеть, что человек, который так рвался побывать в волшебной стране, повернул назад и теперь спокойно идет через поля, которые мы хорошо знаем.
В полях уже во всю хозяйничали заморозки. Алверик шагал по хрустящей бурой траве и вдыхал свежий и чистый воздух; при этом он почти не вспоминал ни о своем доме, ни о сыне, а думал только о том, как ему отыскать дорогу в Страну Эльфов. Вскоре ему стало казаться, что дальше на севере должен быть обходной путь, ведущий к тыльным склонам бледно-голубых гор. Зачарованный край отступил слишком далеко, чтобы он мог добраться до него с востока. Это было до отчаяния очевидно, однако Алверик отказывался верить, что то же самое произошло по всей протяженности сумеречной границы, где, как говорил поэт, Страна Эльфов соприкасается с Землей. Стоит зайти подальше на север, и он отыщет этот рубеж, сонно дремлющий в полумраке своих собственных сумерек, отыщет на том же самом месте, где он был всегда, и тогда он найдет способ добраться до подножий бледно-голубых гор и снова увидеть свою жену. Думая об этом, Алверик шагал и шагал по туманным плодородным полям.
Все еще полный планов и раздумий о загадочной магической стране, Алверик достиг величественных и молчаливых лесов, окружающих долину Эрл. Хотя мысли его были по-прежнему далеки от всего земного, он сразу заметил плывущий между стволами могучих дубов серый дым костра. Он пошел в ту сторону, чтобы посмотреть, кто это скитается в лесу в этакую пору, и наткнулся на Ориона и Жирондерель, которые отогревали руки у огня.
— Где ты был? — крикнул мальчик, едва завидев отца.
— Путешествовал, — ответил ему Алверик, — а вы что здесь делаете?
— От охотится, — радостно пояснил Орион, указывая в сторону противоположную той, куда ветер относил дым.
Жирондерель ничего не сказала, так как в глазах Алверика она увидела больше, чем могли вытянуть любые ее вопросы. Орион уже показывал отцу оленью шкуру, на которой сидел.
— Это От застрелил оленя, — похвастался он.
Алверику показалось, что вокруг костра из толстых бревен, тлеющих на подстилке из сброшенного деревьями осеннего убранства, разлито какое-то волшебство. Но это не могла быть ни магия Страны Эльфов, ни колдовство посоха Жирондерель. Это была собственная магия лесной чащи.
Несколько минут Алверик молча стоял у лесного костра, глядя на колдунью с мальчиком, осознавая, что пришло время, когда он должен будет объяснить сыну вещи, которые продолжали ставить его самого в тупик. Все же он не решился заговорить о них и, задав несколько вопросов о новостях долины, повернулся, чтобы идти к своему замку. Несколько позже вместе с Отом вернулись в Эрл и Орион с Жирондерелью.
Едва переступив порог собственного дома, Алверик приказал подать ужин. Сидя в одиночестве за столом в самом большом зале замка, он все обдумывал, что и как скажет сыну. Только поздно вечером он поднялся в детскую и открыл Ориону, что его мама ненадолго вернулась в Страну Эльфов, в отцовский дворец. А потом, не слушая, что ответит ему сын, Алверик поведал ему ту коротенькую историю, которую пришел рассказать. Так мальчик узнал об исчезновении Страны Эльфов.
— Но этого не может быть, — спокойно возразил отцу Орион, — потому что я хорошо слышу звук рогов, что доносится из Страны Эльфов.
— Ты… ты их слышишь? — поразился Алверик.
Малыш уверенно ответил:
— Я каждый вечер слышу, как они трубят.
Глава XIV На поиски эльфийских гор
Пришедшая в долину Эрл зима сковала леса, сделав самые тонкие ветки твердыми и неподвижными. Она заставила замолчать ручьи в долине, а трава в полях, где паслись быки и коровы, стала хрупкой, словно посуда из необожженной глины. Дыхание животных поднималось вверх густо, словно дым над селением.
Орион продолжал ходить в лес всякий раз, когда От брал его, а иногда он бывал в лесу с Трелом. Когда он приходил в лес с Отом, чаща наполнялась романтическим очарованием зверей, на которых он охотился, и полумрак лесистых лощин дышал благородной красотой огромных оленей. Когда же его брал с собой Трел, лес укрывался тайной, и тогда оставалось лишь гадать, какое удивительное существо может вдруг показаться из-за деревьев и что там мелькает и прячется за каждым неохватным стволом. Какие твари обитали в этом лесу, не знал доподлинно даже Трел. Множество их разновидностей попадалось в его хитрые ловушки, но кто мог сказать наверняка, что ничего неизвестного в лесу не осталось?
В самые счастливые вечера, когда мальчугану случалось задерживаться в лесу допоздна, на самом закате, в то время как объятое пламенем солнце скрывалось за темными верхушками деревьев, морозный воздух надвигающихся сумерек доносил до него с востока певучие голоса эльфийских рогов. Они звучали издалека, едва слышно, но все-таки отчетливо, словно услышанный сквозь сон сигнал утренней зари. Они звали его откуда-то из-за границ леса, эти звонкие рога. Они пели ему из-за самых дальних долин, и мальчик узнавал серебряные трубы Страны Эльфов. Если бы не эта его способность слышать эльфийские рога, чья музыка не попадала в слуховой диапазон обычных людей, и не мгновенно пришедшее к нему знание того, что они такое, то во всех остальных отношениях Орион был бы вполне человеком. Пожалуй, за исключением этих двух особенностей, он все еще оставался просто человеческим детенышем трех с небольшим лет от роду.
В те дни Алверик уныло бродил по селению. Мысли его были далеко от Эрла. У многих дверей он останавливался, заговаривал с жителями, строил планы, но его глаза, казалось, были прикованы к чему-то такому, чего никто другой не мог видеть. Он думал о дальних горизонтах, и прежде всего о тех, за которыми лежала Страна Эльфов, а переходя от дома к дому, он пытался собрать хотя бы небольшую группу единомышленников.
Алверик грезил о том, как найдет сумеречную границу дальше к северу, а план его состоял в том, чтобы двигаться через поля, которые мы знаем, исследуя все новые и новые дали, пока не найдется такое место, откуда волшебная страна не отступила. Он твердо решил посвятить этому свою жизнь.
Покуда Лиразель оставалась с ним в знакомых полях, он только и думал о том, как бы сделать ее более земной и привычной. Теперь же, когда принцессы не было рядом, его собственные мысли день ото дня становились все более эльфийскими, так что простые люди начали отводить взгляды при виде мечтательного лица своего лорда.
Постоянно думая о Стране Эльфов и о ее чудесах, Алверик покупал лошадей и продовольствие. Вскоре он собрал такое количество еды, что те, кому доводилось увидеть его запасы, только дивились. Множество мужчин просил он вступить в свой отряд, но мало кто соглашался отправиться с ним за новые горизонты, едва Алверик признавался, куда именно он идет. Так что первым членом его партии стал молодой человек, который был несчастлив в любви. Потом к нему присоединился юный пастух, привыкший к одиночеству и пустынным просторам. Следом человек, услышавший однажды странную песню, которую кто-то пел давным-давно. Именно эта песня была повинна в том, что мысли его постоянно уносились в невероятные края и места, так что теперь поэт был только рад последовать за ними. Четвертым членом маленького отряда стал деревенский парень, который однажды летом проспал ночь в стоге сена под полной золотой луной и с тех пор начал заговариваться и видеть множество странных вещей. Он упрямо твердил, что все это нашептала ему луна, но подобные откровения не являлись больше никому во всем Эрле. Стоит ли говорить, что этот парень присоединился к Алверику, как только лорд попросил его об этом.
Прошло много дней, прежде чем Алверику удалось собрать четверых. Больше никто не согласился, кроме одного дурачка. Лорд взял его с собой, чтобы тот ухаживал за лошадьми. Дурачок хорошо понимал их, а лошади понимали его, чего нельзя сказать о нормальных мужчинах и женщинах, за исключением, быть может, его матери, которая заплакала, когда слабоумный юноша дал Алверику свое согласие. Она утверждала, что тот ее единственная надежда и опора в старости, он умеет без труда предсказать, когда разыграется буря, когда прилетят ласточки, какие цветы взойдут из семян, посеянных ею в саду, где пауки будут плести свою паутину, и даже знал древние сказки мушиного племени. Она плакала и говорила, что с уходом ее драгоценного сыночка жители Эрла потеряют гораздо больше, чем могут предположить. Но Алверик не обратил внимания на ее слезы и все равно увел с собой, так как во всех других домах он уже много раз сталкивался с чем-то подобным.
И вот однажды утром у ворот замка встали шесть оседланных коней, навьюченных мешками с провизией, а рядом ждали пятеро мужчин, которые должны были отправиться с Алвериком в путешествие к самому краю мира. Но прежде, чем пуститься в дорогу, лорд долго советовался с Жирондерелью, и ведьма призналась, что никакое ее волшебство не в силах заколдовать Страну Эльфов или противостоять грозной воле ее короля. Тогда Алверик без страха поручил Ориона ее заботам, прекрасно понимая, что хотя волшебство старой колдуньи было простым или, лучше сказать, земным, никакая чужая магия в полях, которые мы хорошо знаем, ничья руна или проклятье, направленное против его сына, не смогут одолеть ее заклятий. Для себя же он оставил надежду на удачу, которую редко, но все-таки приносят утомительные и долгие путешествия. Пора было трогаться в путь, но Алверик никак не мог наговориться с Орионом. Он не знал, ни сколько времени пройдет, прежде чем он снова отыщет Страну Эльфов, ни сумеет ли так же легко, как в первый раз, пересечь сумеречную границу, чтобы вернуться оттуда в поля, которые мы знаем. В конце концов он спросил сына, чего тот хочет от жизни.
— Я хочу стать охотником, — был ответ.
— На кого же ты будешь охотиться, пока я буду скитаться за холмами? — поинтересовался Алверик.
— На оленей, как От, — сказал Орион.
Алверик похвалил сына, потому что охота ему самому была по душе.
— Когда-нибудь я тоже отправлюсь далеко за холмы, стану охотиться там на всяких удивительных зверей, — добавил мальчик.
— Каких зверей? — спросил Алверик, но мальчик этого пока не знал.
И тогда отец начал перечислять всех известных ему животных.
— Нет, — ответил Орион. — На других, еще более удивительных, чем медведи.
— И что же это за звери? — удивился Алверик.
— Это будут волшебные звери, — убежденно сказал Орион.
Внизу, у ворот замка, беспокойно перебирали ногами лошади, и Алверик понял, что для отвлеченных разговоров больше нет времени. Он попрощался с сыном и колдуньей и пошел прочь, почти не думая о том, что ему предстоит, так как его будущее было слишком неясно, чтобы строить планы.
Алверик взобрался на свою лошадь. Усевшись, он проверил, как закреплены тюки с провизией, и весь его маленький отряд поскакал прочь.
Жители селения высыпали на улицы, чтобы поглядеть им вслед. Все они знали о цели этого удивительного путешествия, и сразу после того, как поприветствовали Алверика и прокричали слова прощания последнему из всадников, над улицами Эрла загудело множество голосов. В этом гуле слышались и презрение к намерениям Алверика, и жалость, и растерянность, а порой звучали слова любви или насмешки, но в глубине души каждого жителя долины точила и грызла зависть. Хотя здравый смысл и восставал против одиноких странствий в чужих краях, все же каждому хотелось бы отправиться вместе с Алвериком.
А Алверик со своим отрядом удалялся от селения Эрл. За его спиной скакали спутники: очарованный луной безумец, придурок-предсказатель, несчастный влюбленный, одинокий пастух и мечтательный поэт. Поначалу Алверик назначил юного пастуха Вэнда старшим над остальными и велел ему заниматься разбивкой лагеря на стоянках, так как ему казалось, что из всех его спутников он больше других в своем уме, однако прежде, чем они успели сделать первую остановку, между путешественниками возник яростный спор, и Алверик, чувствуя недовольство своих людей, понял, что в поездках, подобных этой, заправлять всем должен не самый разумный, а самый безумный. И тогда он назначил старшиной партии Нива, безумного юношу. Он действительно служил ему верой и правдой, пока — много времени спустя — не настал день, когда Алверик пожалел о своем решении. Ниву помогал в его делах сраженный луной, а все остальные с радостью подчинялись своему старшине и уважали нужду Алверика. Мало нашлось бы в других землях людей, которые бы так дружно справлялись с делами даже не такими безумными.
Поднявшись на возвышенность, отряд поскакал через поля и ехал до тех пор, пока не достиг самых отдаленных мест, еще населенных людьми. Их дома были выстроены на самом краю нашего мира, за который они не отваживались забираться даже в мыслях. Сквозь эту цепочку домов и хижин, стоящих по четыре, по пять на каждую милю вдоль края полей, которые мы хорошо знаем, проехал Алверик со своим странным отрядом. Домик старого кожевника остался далеко на юге. Алверик направлялся на север, чтобы проехать вдоль задних стен фермерских домов по полям, через которые некогда проходила сумеречная граница, пока не отыщется место, от которого Страна Эльфов отступила не так далеко.
Это он и растолковал своим людям, и два вожака — Нив и очарованный луной Зенд — захлопали в ладоши, признавая его правоту. Тил, молодой парень, который слышал странные песни, тоже сказал, что это мудрый план. И одержимость этой троицы легко увлекла пастуха Вэнда, что же до страдавшего от безответной любви Рэннока, то ему было все равно.
Но не успели они отъехать от глухих стен фермерских домов, как красное солнце коснулось горизонта, и им пришлось спешить, чтобы успеть разбить лагерь при последнем свете короткого зимнего дня. Нив настаивал на том, что они должны воздвигнуть дворец, достойный короля, и эта безумная идея сумела так зажечь Зенда, что он работал за троих, а Тил увлеченно помогал ему. Они установили шесты, натянули поверх одеяла и даже сплели загородку из веток, так как они еще не успели уйти далеко от живых изгородей. Вэнд тоже помогал возводить грубый плетень, и Рэннок трудился не покладая рук, хотя очень устал. Когда же работа была закончена, Нив объявил, что это настоящий дворец. Алверик вошел в палатку, чтобы отдохнуть, а его люди тем временем развели снаружи большой костер. Вэнд готовил для всех ужин, потому что будучи пастухом, скитаясь со стадом по безлюдным долинам и холмам, занимался этим каждый день. Что же касалось лошадей, то никто не мог позаботиться о них лучше чем Нив.
Когда отгорели недолгие зимние сумерки, холод еще больше усилился, а к тому времени, когда на небе замерцали первые звезды, во всем мире, казалось, не осталось ничего, кроме мороза. Однако спутники Алверика улеглись прямо возле костра и уснули, закутавшись в свои кожаные одежды и меховые плащи, — все, кроме Рэннока, отвергнутого любовника. Алверику же, лежащему под меховыми одеялами в своей палатке и глядевшему на багровые угли костра, мерцающие между темными фигурами спящих, подумалось, что начало его путешествия удачно. Отсюда он намеревался двинуться дальше на север, держась по возможности вблизи границы полей, которые мы знаем, и высматривая за горизонтом любые признаки Страны Эльфов. Идя вдоль рубежей знакомого мира, его отряд всегда мог пополнить запасы продовольствия, и если они так и не увидят вдали сверкающих бледно-голубых гор, то их путешествие сможет продолжаться до тех пор, пока в один прекрасный день они не выйдут к тому месту, откуда зачарованная страна не отступила. Алверик не сомневался, что уж оттуда он сумеет добраться до подножий Эльфийских гор.
Нив, Зенд и Тил поклялись Алверику, что пройдет совсем немного времени, и они найдут Страну Эльфов. С этой мыслью, рождавшей надежду, Алверик наконец уснул.
Глава XV Бегство короля
Лиразель неслась на юго-восток вместе с прекрасными осенними листьями, но они, один за другим обрывая свои танцы в прозрачной вышине, опускались вниз. Еще некоторое время они бежали с ветром по траве, но успокаивались у живых изгородей или других преград. И лишь над нею не имела власти Земля, надежно удерживающая все материальные предметы, потому что могущественная руна короля эльфов, вышедшая за границы зачарованной страны, властно позвала принцессу обратно. И вот она беспечно мчалась домой, оседлав северо-западный ветер и праздно взирая сверху на поля, которые мы знаем.
Земля больше не притягивала Лиразель, так как вместе с весом улетучились все ее земные заботы. Без печали смотрела она на поля, в которых когда-то гуляла с Алвериком, они проплывали под ней, мимо проносились людские дома. А вдали уже вставала глубокая, плотная, насыщенная всеми красками сумерек граница зачарованной страны.
Разными голосами — плачем ребенка, криком грача, протяжным мычанием коров, негромким стуком катящейся домой телеги — говорила с ней Земля, посылая свое последнее «Прости!» до тех пор, пока не очутилась Лиразель внутри плотного сумеречного барьера. Там все земные звуки сразу зазвучали тише. А когда она вынырнула с другой стороны, они и вовсе прекратились. Подобно тому, как падает замертво усталая лошадь, стих, наткнувшись на границу зачарованной страны северо-западный ветер — над просторами Страны Эльфов никогда не дуют ветра, чувствующие себя так вольготно над полями. Лиразель продолжала медленно лететь дальше, понемногу снижаясь, пока ее ноги не коснулись волшебной почвы родной страны.
И тогда она увидела встающие во всей своей вечной красе бледно-голубые пики Эльфийских гор и темнеющий у их подножья лес, охраняющий трон короля эльфов. А над лесом все так же мерцали в свете бесконечного эльфийского утра величественные шпили, затмевающие своим блеском самые росистые наши рассветы.
Эльфийская принцесса не торопясь пошла по земле, касаясь травы ступнями с такой же легкостью, с какой невесомый пух чертополоха, гонимый ленивым ветерком над знакомыми нам полями, ласкает пушистые венчики тимофеевки и ковыля. Все фантастические твари, и странное очарование земли, и удивительные цветы, и заколдованные деревья, и витающая в воздухе магия — все это с такой силой напомнило Лиразели, что она вернулась домой, что принцесса широко раскинула руки и, обняв первый же попавшийся узловатый ствол, коснулась губами его морщинистой коры.
А потом она вступила в заколдованный лес, и охранявшие его зловещие сосны поклонились проходившей мимо принцессе. В лесу она не замечала ни чудес, ни мрачных признаков магического присутствия, а видела только прошлое, которое словно никуда и не уходило, и Лиразели начинало казаться, что все, что с ней произошло, случилось только вчерашним утром и что в это же вчерашнее утро она и вернулась теперь. И, шагая через лес по едва заметной тропинке, она видела на стволах свежие зарубки от меча Алверика.
Но вот деревья стали понемногу расступаться и впереди забрезжил свет, на глазах превратившийся в игру ярких красок. Лиразель поняла, что это сияет вдали великолепие обрамленных цветами лужаек перед дворцом ее отца. Она возвратилась к ним и увидела, что легкие следы, которые она оставила, выходя из ворот отцовского дома перед тем, как заметить Алверика, еще не успели исчезнуть среди распрямившейся травы, росы и серебристой паутины. Здесь по-прежнему горели в волшебном свете огромные цветы, а за ними взблескивал и переливался дворец, о котором иначе как в песне и рассказать-то нельзя. И ворота, из которых она вышла к Алверику, все еще стояли чуть приоткрытыми. Лиразель вернулась, и король эльфов, услышавший при помощи магии звук ее невесомых шагов, вышел навстречу дочери.
Все это бесконечное эльфийское утро король печалился о своей дочери, и теперь, когда они обнялись, его длинная борода почти полностью скрыла Лиразель. Мудрость не мешала ему тревожиться о ее возвращении, а руны не мешали тосковать по дочери обычной человеческой тоской, хотя он и принадлежал к магическому царственному роду, чья власть за границами полей, которые мы хорошо знаем, не имеет предела. И вот наконец его Лиразель снова дома, и волшебное утро вдохновляло радость короля. Казалось, оно разгорелось над лигами и лигами зачарованной земли еще ярче, и даже на склоны Эльфийских гор лег его яркий отблеск.
Разжав объятия, король и принцесса прошли мерцающими вратами во дворец, рыцарь-страж салютовал им мечом, но повернуть голову, чтобы посмотреть вслед Лиразели, он не посмел. Они поднялись в залу, где стоял сделанный изо льда и радуги трон короля эльфов, и великий владыка опустился на него, усадив дочь к себе на колени. Только тогда спокойствие снова снизошло на его страну.
Долго, в течение всего вечного эльфийского утра, ничто не тревожило этого спокойствия, так как Лиразель отдыхала от забот Земли, а король сидел, бесконечно довольный тем, как все кончилось. Даже страж застыл в салюте со своим мечом, опущенным острием вниз. По-прежнему мерцал и переливался жемчужный дворец. Все напоминало тихий мир безмятежного пруда, которого не достигает шум большого города. Страна Эльфов покоилась вне времен, даже минуты и часы угомонились, как успокаиваются пенные струи водопада, когда мороз сковывает несущийся к обрыву поток, а над всей зачарованной землей вставали, подобно бесконечному сну, безмятежные, бледно-голубые пики Эльфийских гор.
А потом вдруг, как шум большого города, услышанный за щебетом птиц, как чей-то всхлип на детском празднике, как смех среди всеобщих рыданий, как пронзительный визг зимнего ветра в зацветающих садах, в грезы короля эльфов вторглось ощущение, что кто-то движется к ним через поля и холмы Земли. То был Алверик со своим мечом, выкованным из громового металла. Король эльфов сразу почувствовал его приближение благодаря своей восприимчивости к магии.
Тогда король поднялся и, обвив левой рукой стан дочери, воздел высоко вверх свою правую руку, чтобы здесь, перед своим сияющим троном, установленным в самом сердце Страны Эльфов, произнести могущественное заклинание. Чистым горловым голосом прочел он рифмованное заклятье, сплетенное из слов, которых Лиразель никогда прежде не слыхала, — какую-то древнюю магическую формулу, которая заставила Страну Эльфов отступить и отодвинуть свои границы подальше от границ Земли. Слова эти были услышаны всеми цветами, лепестки которых упивались их музыкой. Тягучая мелодия затопила луга, и весь дворец задрожал, затрепетал и вспыхнул еще более яркими красками. Заклинание понеслось над зачарованной страной к самым ее границам, так что даже заколдованный лес содрогнулся. А король эльфов все продолжал читать свое могучее заклятье, и вот уже среди безмятежных вершин Эльфийских гор зазвенели грозные пронзительные ноты и голубые пики заколебались и стали расплываться, словно на них вдруг наползла туманная дымка, подобная той, что жарким летом поднимается над сырыми торфяниками и зримо плывет в воздухе. Вся Страна Эльфов услышала и вся Страна Эльфов подчинилась магическому приказу.
Сам король эльфов вместе с дочерью исчезли, словно дым очагов, что плывет над песками Сахары и тает над войлочными палатками кочевников, унеслись прочь, словно сны на рассвете, рассеялись в воздухе, словно тучи на закате; и как ветер вместе с дымом, как ночь вслед за сновиденьями, как жара после заката — исчезла вместе с ними вся Страна Эльфов.
Так отступил зачарованный мир, оставив после себя лишь унылую равнину, наводящую тоску каменистую пустошь, голую расколдованную землю. Но столь быстро было прочитано это заклятье и столь поспешно подчинилась ему волшебная страна, что немало маленьких песенок, старинных воспоминаний, садов в цвету и кустов боярышника из памятных весен, подхваченных было стремительным отливом, оказались перенесены лишь на небольшое расстояние, так как слишком медленно двигались они на восток. Эльфийские лужайки обогнали их и исчезли, а затем и сумеречная граница опередила эти драгоценные фрагменты прошлого, навсегда оставив их среди грубых камней оголенного ландшафта.
Когда король эльфов прекратил читать свое заклинание, все, чего он желал, исполнилось. Так же бесшумно, как закатное небо меняет свой цвет с золотого на розовый или же становится из ярко-розового невыразительным и бесцветным, вся Страна Эльфов отхлынула от границы полей, в сумерках которой на протяжении многих и многих человеческих лет нет-нет, да встречались ее чудеса, и унеслась. Король эльфов снова утвердился на своем троне из туманов и льда, в котором спали заколдованные радуги, и снова усадил свою дочь Лиразель к себе на колени. Глубокий покой, который его заклинание нарушило, снова опустился на зачарованную страну. Глубокий, густой и тягучий, как полуденный сон, покой разлился над лугами, затопил цветы; и каждый стебелек, каждая сверкающая росой былинка чуть пригнулись, словно сама Природа шепнула им «Тише!» в минуты траура по внезапно погибшему миру, и прекрасные цветы продолжали дремать, не страшась ни ветров, ни прохладной осени. Далеко, до самых торфяников, где обитали бурые тролли, дотянулось спокойствие короля эльфов, заставившее застыть даже дым, что пластами повисал над их странными жилищами.
Под молчаливо склоненными ветвями усыпленных деревьев, на зеркальной воде, грезящей о неподвижности воздуха, где листья крупных кувшинок купались в спокойствии водоема, сидел на зеленом листе тролль Лурулу, как нарекли в Стране Эльфов того, кто ходил в Эрл с поручением короля. Он сидел, уставившись в воду, отражавшую дерзкое выражение, которое почему-то никак не исчезало с его лица. И он смотрел, смотрел и смотрел…
Ничто не шевелилось, ничто не менялось. Весь мир замер в оцепенении, так как спокоен и доволен был король. Рыцарь стражи взял меч «на плечо», а потом застыл на своем посту неподвижно, словно пустой доспех, владелец которого скончался столетия назад. А король все молчал, все сидел на троне, держа на коленях дочь, и его синие глаза застыли без движения, как те бледно-голубые вершины, что сквозь высокие окна освещали тронную залу дворца.
Король эльфов не шевелился и не стремился к переменам; он намеренно задержался в настоящем, подарившем ему удовлетворение желаний, и распространил свою волю по всем владениям к вящему благу Страны Эльфов. У него было то, что наш беспокойный, переменчивый мир так напряженно ищет и так редко находит, а найдя, должен тут же от этого отказаться. Король обрел ощущение довольства и сумел удержать его.
И пока Страна Эльфов спокойно дремала, над полями, которые мы хорошо знаем, пролетело десять лет.
Глава XVI Орион убивает оленя
Да, в полях, которые мы знаем, прошло десять лет, и Орион подрос и выучился у Ота искусству охоты. Мальчик обладал теперь хитростью Трела и знал все леса, склоны и впадины лучше, чем другие мальчики умеют умножать и складывать числа. Он понимал их так, как некоторые люди умеют извлекать мысль из слов чужого языка и облекать ее в слова своей родной речи. При этом он почти ничего не знал о тех чудесах, что способны творить перо и чернила. Он не задумывался о способности написанных на бумаге слов сохранить на удивление грядущих поколений открытия и озарения давно умершего человека или рассказать о давно минувших событиях, словно голос, который говорит с нами из тьмы веков. Как они могут сберечь от тяжкой поступи лет множество хрупких вещей или донести до нас сквозь столетия даже песню, спетую на забытых холмах давно истлевшими устами. Да, маловато знал Орион о чернилах и бумаге, но зато легкий след косули на сухой земле был ясен для него даже три часа спустя, и мало такого могло случиться в лесу, чтобы он не узнал об этом событии по следам и приметам. Любые, даже самые тихие и таинственные звуки леса были наполнены для Ориона вполне определенным смыслом и значением, словно цифры для математика. По солнцу, по луне и направлению ветра Орион умел предсказать, какие птицы вскоре появятся в лесу, а определить, благоприятным или суровым будет наступающее время года, он мог лишь чуть позже, чем чувствовали сами лесные жители, которые, не владея человеческой логикой и не имея человеческой души, знают все же гораздо больше, чем мы.
Орион рос, познавая, впитывая в себя самый дух леса, и скоро уже входил под тенистый шатер ветвей, словно один из его коренных обитателей. И это удавалось Ориону в неполных четырнадцать лет, в то время как многие люди проживают целую жизнь и не могут войти в лес, не нарушив его сумрачного очарования, что чутко спит на лесных тропах. Человек часто позволяет ветру дуть себе в спину и шуршит листвой, наступает на сухие сучки, громко разговаривает, курит или просто идет тяжелой походкой, и тогда в ветвях начинают сердито верещать сварливые сойки, из кустов выпархивают испуганные голуби, кролики стремглав бросаются в безопасные норы, а все другие звери — их гораздо больше, чем человек может себе представить — бесшумно ускользают при его приближении глубже в чащу. Но Орион двигался в лесу так же ловко, как Трел, и ходил неслышной и легкой походкой охотника в мягких башмаках из оленьей кожи. И никто из лесных животных не слышал, как он подкрадывается к ним.
Вскоре у Ориона — как и у Ота — была уже целая кипа оленьих шкур, которые он добыл в лесу с помощью лука. Огромные же ветвистые рога оленей он вешал в прихожей замка среди таких же, только очень старых рогов, и между их передними отростками из года в год гнездились пауки. И это, кстати, было одним из признаков, по которым жители Эрла признали в нем своего нового лорда, так как все прежние хозяева замка были охотниками на оленей.
От Алверика по-прежнему не было никаких вестей. Другим признаком послужил отъезд старой Жирондерели, которая вернулась на холм. Так что с некоторых пор Орион жил в замке сам по себе, а колдунья вновь обосновалась в своей старой хижине и стала как прежде ухаживать за грядками с капустой, росшей на самой вершине, поближе к грому.
Всю свою четырнадцатую зиму Орион охотился в лесу на оленей, но когда пришла весна, он отложил лук. И все же даже эта пора песен и цветов не смогла отвлечь его от мыслей об охоте и преследованиях, и Орион принялся один за другим обходить дворы, где, по его сведениям, хозяин держал одну из тех длинных, поджарых собак, что умеют хорошо охотиться. Где-то он покупал пса, а где-то владелец обещал ему одолжить собаку на время охоты, и в конце концов Орион собрал целую свору длинношерстных коричневых гончих и принялся мечтать о тех временах, когда весна и лето останутся позади.
Однажды весной, когда Орион ухаживал за своей сворой, а жители селения просиживали у порогов домов, любуясь длинным и теплым вечером, на улице вдруг показался человек, которого никто не знал. Он пришел в долину с возвышенности, на его плечах болталась очень старая, поношенная одежда, которая, казалось, держалась лишь за счет того, что основательно прилипла к телу владельца, являясь одновременно и его второй кожей, и частью Земли. Она была так густо покрыта грязью и припорошена пылью с верхних полей, что приобрела естественный буро-коричневый цвет. Жители селения сразу подметили и уверенную, легкую походку человека, привыкшего к длительным пешим переходам, и усталость в его глазах, но никто так и не догадался, кто перед ними.
А потом какая-то женщина воскликнула: «Это же Вэнд, который ушел от нас совсем мальчишкой!» Жители Эрла сразу же столпились вокруг молодого человека, который действительно оказался Вэндом — тем самым пастушонком, который больше десяти лет назад оставил своих овец, чтобы уехать с Алвериком неизвестно куда.
— Как поживает наш господин? — спросили его, и в глазах Вэнда снова промелькнула усталость.
— Он идет своим путем дальше, — ответил он.
— Куда? — спросили его снова.
— По-прежнему на север, — ответил Вэнд. — Он все еще ищет Страну Эльфов.
— А ты почему оставил его?
— Я потерял надежду, — объяснил бывший пастух.
Его больше ни о чем не расспрашивали, и так каждому ясно: чтобы искать Страну Эльфов, человек должен очень сильно надеяться. Тот же, кто отчаялся, обречен никогда не увидеть неизменного бледно-голубого сияния безмятежных Эльфийских гор.
И тут прибежала мать Нива.
— Это действительно Вэнд? — спросила она, и ей ответили:
— Да, он самый — Вэнд.
Пока жители Эрла негромко говорили между собой о том, как изменили его время и годы странствий, мать Нива попросила:
— Расскажи мне о моем сыне.
И Вэнд ответил:
— Он ведет наш отряд, и никому наш господин не доверяет больше.
Услышав эти слова, люди удивились, хотя удивляться тут было нечему: с самого начала предприятие отдавало безумием. Одна мать Нива восприняла эти слова как должное.
— Я знала, что так и будет! — сказала она и повторила: — Я знала!
По всему видно, что она была очень довольна. Существуют времена года и события, которые устраивают любого человека. Немногое приходилось по вкусу безумцу Ниву, но тут подвернулся Алверик с его сумасшедшим путешествием в Страну Эльфов, и бедняга нашел себе занятие по душе.
Допоздна жители расспрашивали Вэнда и услышали множество историй о множестве стоянок и о долгих переходах — настоящую сагу о бесплодных скитаниях Алверика, который, словно призрак, год за годом обшаривал горизонты Земли. И порой сквозь печаль Вэнда, причина которой крылась все в тех же впустую потраченных годах, вдруг проглядывала улыбка — это пастух вспоминал какое-нибудь дурацкое происшествие, случившееся на ночлеге. Но обо всем этом рассказывал человек, утративший надежду, а о таких вещах не годится повествовать ни с сомнением, ни с улыбкой. О подобном путешествии должен рассказывать только тот, кого еще жгут изнутри отвага и величие предприятия. И полоумный Нив, и лунатик Зенд, оба могли бы сообщить нам о странствии Алверика такие подробности, от которых ум и душа наши озарились бы хоть малой толикой подлинного значения этого удивительного и дерзкого похода. Но что можно узнать из рассказа, составленного из голых фактов и язвительных насмешек охладевшего к странствиям человека, которого больше не манят надеждой пустынные горизонты?
На небе уже вспыхнули звезды, а Вэнд все говорил и говорил, но один за другим жители селения начали расходиться по домам, так как никому не хотелось слушать о безнадежном предприятии. Будь на месте пастуха человек, который все еще верил в экспедицию Алверика, и звезды успели бы потускнеть и погаснуть, прежде чем хоть один человек ушел спать, и, прежде чем селяне оставили бы утомленного рассказчика в покое, небеса успели бы посветлеть настолько, что в конце концов кто-то наверняка воскликнул бы: «Ба! Да ведь уже утро!» Но до тех пор никто бы не ушел.
На следующее утро Вэнд вернулся к своим овцам на верхнее пастбище и с тех пор больше никогда не участвовал ни в каких романтических путешествиях.
На протяжении всей той весны жители Эрла хоть изредка, но все же заговаривали об Алверике и о том, чем кончится его путешествие, и вспоминали Лиразель, гадая, куда она могла деваться и почему. И когда они не могли найти подходящего ответа на все свои вопросы, то выдумывали какую-нибудь красивую сказку, которая объясняла все, и эти сказки переходили из уст в уста до тех пор, пока они сами же в них не поверили. Когда же весна прошла, жители Эрла вовсе позабыли Алверика и присягнули на верность Ориону.
Одним теплым и светлым вечером, когда Орион ждал, пока пройдет лето, устремляясь сердцем своим в морозные дни поздней осени и мечтая о том, как будет охотиться на возвышенности со своими собаками, из-за холмов явился в долину Рэннок, отвергнутый любовник. Он пришел тем же путем, что и Вэнд. Он, как и пастух, вошел в Эрл с северной стороны. Это был действительно Рэннок, чье сердце наконец-то освободилось и чья меланхолия куда-то улетучилась. Рэннок, переставший скорбеть попусту, Рэннок беспечный, беззаботный и довольный. Рэннок, переставший вздыхать и стремящийся только к одному — к отдыху после долгих странствий. Ничто другое не могло заставить Вирию, девушку, чьей благосклонности он когда-то добивался, пожелать его. Все закончилось тем, что она вышла за него замуж, и счастливый Рэннок и думать забыл о каких-то там фантастических путешествиях.
Хотя многие жители селения продолжали по вечерам смотреть в сторону возвышенностей, пока долгие летние дни подходили к концу и волшебный ночной ветер начинал поигрывать трепещущей листвой, а многие заглядывали еще дальше, за обратные склоны крутобоких холмов, — ни тем, ни другим так и не удалось увидеть никого из отряда Алверика, кто возвратился бы домой тем же путем, что Вэнд и Рэннок. К тому времени, когда каждый листок на деревьях превратился в маленькое багряно-золотистое чудо, люди в поселке больше не говорили об Алверике, а подчинялись его сыну — Ориону.
Как-то осенью, пробудившись перед рассветом и взявши свой рог и лук со стрелами, Орион вышел к своим гончим, которые удивились, заслышав шаги хозяина еще до света. Даже сквозь сон они различили его легкую посыпь и тут же проснулись, шумно приветствуя. А Орион спустил их с поводков и, успокоив свору, повел ее за собой в холмы, и все они появились среди пустынного великолепия в тот ранний час, когда люди еще спят, а олени-самцы кормятся на росных травах. Сквозь сырое, первобытное утро мчались Орион и его верные псы по склонам холмов, и одна и та же радость вскипала в их сердцах. И когда Орион спешил по участкам, где до поздней осени цветет тимьян, он с наслаждением вдыхал его густой пьяный аромат, поднимающийся от земли. Чуткие носы псов старательно ловили самые разнообразные и удивительные запахи просыпающихся холмов. О том, какие дикие существа встречались здесь друг с дружкой в ночной темноте, какие твари пересекали спящие холмы, торопясь по своим делам, и куда все они подевались утром, когда дневной свет стал ярче, а вместе с ним возросла опасность появления человека-обо всем этом Орион мог только раздумывать да строить догадки; для его же гончих все было ясно. Некоторые запахи, что остались на траве, они просто отмечали своими внимательными носами, а от некоторых пренебрежительно отворачивались, и только один след они искали напрасно — след больших благородных оленей, которые этим утром почему-то не поднимались на холмы.
Орион увел свою свору далеко от долины Эрл, но в тот день он так и не увидел ни одного оленя, и даже ветер ни разу не донес издали запах, который нервные гончие искали и не могли найти ни в листьях, ни в траве. Вскоре наступил вечер, и пока разбухшее красное солнце садилось за холмы, Ориону пришлось вести собак домой, сзывая отставших звуками рога. И вдруг тише, чем эхо этого трубного голоса, из далекого далека, из-за туманов и холмов, но все же столь чисто и ясно, что слышна была каждая звенящая серебром нота, отозвались ему эльфийские рога. Те самые, что каждый вечер пели Ориону.
Связанные друг с другом узами общей усталости, Орион и его свора вернулись в замок уже при свете звезд, и окна Эрла подмигнули им последним отблеском своего гостеприимного уюта. Гончие поспешили в свои вольеры и набросились на еду, а потом, довольные, улеглись спать, Орион же пошел к себе в замок. Он тоже поел, а потом долго сидел, думая о холмах, о своих гончих и о прошедшем дне, и понемногу усталость взяла свое, и Орион уснул спокойным, умиротворенным сном.
Так прошло множество дней, пока наконец, спускаясь одним росистым утром по отрогу холма, они не заметили под собой красавца оленя, который, отстав от своих давно вернувшихся в лес собратьев, торопливо щипал сладкую траву. Завидев его, гончие бросились с азартным лаем, тяжелый олень с удивительным проворством развернулся и бросился наутек. Орион выстрелил и промахнулся — и все это произошло почти одновременно. В следующее мгновение псы ринулись в погоню, и ветер перекатывался через их спины, ероша палево-коричневую шерсть. Олень мчался прочь с такой скоростью, словно у него в ногах были спрятаны мощные пружины. Поначалу свора намного опередила Ориона, однако молодой охотник был столь же неутомим, как и они, и, срезая кое-где углы и выбирая пути более короткие, чем те, по которым мчалась погоня, он все время держался достаточно близко от своих псов. Так продолжалось, пока собаки не уперлись в ручей и не замешкались на берегу, нуждаясь в помощи человеческой логики. Орион помог им в той мере, в какой человеческий здравый смысл вообще может быть полезен в подобной ситуации, и очень скоро свора опять взяла след. И пока они мчались от холма к холму, утро подошло к концу, однако они так и не увидели оленя во второй раз. Вот уже день начал понемногу склоняться к вечеру, но гончие все шли и шли по следу с умением, которое сродни магии. Уже ближе к закату Орион наконец-то увидел оленя, который медленно поднимался по склону далекого холма, тяжело ступая по жесткой траве, освещенной красноватыми лучами низкого солнца. Тогда он подбодрил собак криком, и свора погнала оленя еще через три неглубокие лощины. На дне последней олень остановился посреди мелководного каменистого ручья и повернулся к своим преследователям. Псы не заставили себя ждать и с лаем окружили свою жертву, внимательно следя за отростками рогов, что выдавались вперед надо лбом животного. На закате они наконец свалили оленя и прикончили его. Орион прижал к губам рог и затрубил победно и радостно, так как ничего иного он не желал в жизни. И точно таким же веселым зовом — словно и они торжествовали вместе с ним или же, наоборот, смеялись над его радостью — не то из-за холмов, на которых Орион еще не бывал, не то с обратной стороны заката откликнулись ему рога Страны Эльфов.
Глава XVII Единорог в звездном свете
Зима выбелила крыши селения и засыпала снегом леса и верхние пастбища. Когда Орион вышел в поля со своей сворой, вся земля лежала вокруг, словно книга, только что написанная Жизнью, так как по этим белым страницам, исчерченным стежками следов, можно было прочесть всю историю прошедшей ночи. Вот здесь кралась лисица, а здесь ковылял барсук, а тут выходил из леса благородный олень, и все следы вели через холмы и пропадали из вида вдалеке точно так же, как появляются и исчезают на страницах истории деяния государственных мужей, солдат, придворных и политиков. Даже обитатели неба — птицы — оставили свои подписи на этих побелевших холмах, и опытный глаз мог проследить каждый шаг их трехпалых лапок, пока птичий след не обрывался и по обеим сторонам от него не появлялись строенные короткие бороздки от самых длинных маховых перьев, чиркнувших по снегу при взлете. Все эти следы напоминали не то внезапный выверт общественного сознания, не то чью-то причудливую фантазию, что, бывает, промелькнут на страницах истории и тут же исчезнут, не оставив по себе никакой памяти, кроме нескольких коротких, вдруг оборвавшихся строчек.
Среди всех этих записей, повествующих об истории прошедшей ночи, Орион выбирал относительно свежий след крупного оленя, которого гнал с собаками через холмы, и звук его рога уже не слышен был в Эрле. По вечерам жители селения видели, как их фигуры, казавшиеся черными на фоне последнего отблеска заката, возвращаются домой по гребню котловины, но часто бывало и так, что Орион не показывался до тех пор, пока в морозном небе не загорались первые острые звезды. И почти всегда на плечах Ориона висела шкура благородного оленя, и ветвистые рога качались и подпрыгивали над его головой.
Однажды — без ведома Ориона — сошлись в кузницу Нарла все члены Совета старейшин селения. Они собрались поздним вечером, когда, закончив работы, все жители сидели по домам. Кузнец торжественно вручил каждому чашу с клеверным медом. Некоторое время они сидели молча. Нарл первым нарушил молчание, сказав, что Алверик больше не может считаться их лордом.
Прошло совсем немного времени, прежде чем в их головах сами собой возникли и засверкали новые планы и идеи, и дебаты в маленьком парламенте Эрла возобновились. Уже готовы были старейшины разработать новый план и определить пути к его осуществлению, когда снова поднялся От. Дело в том, что в поселке Эрл, — в часовенке, сложенной в незапамятные времена из самых крепких камней, — хранилась древняя «Хроника». И в этот толстый, переплетенный в кожу том люди записывали самые разные сведения. Таким образом, старая книга хранила и советы фермеров относительно начала сева, и мудрость охотников, касающуюся искусства выслеживать оленей, и откровения пророков, толкующих земные обычаи. Именно из этой «Хроники» От и процитировал две строчки, которые когда-то бросились ему в глаза на одной пожелтевшей странице. Эти-то две строчки От и произнес перед старейшинами Эрла, сидевшими за столом перед кружками с медом: «Вуаль накидки прячет косы цвета мрака. Какой пророк ответит на вопрос Судьбы?»
После этого они больше ничего не планировали, так как их умы успокоились сокровенным смыслом, что скрывался в этих двух строчках, а может, просто мед оказался сильнее любой книжной премудрости. Как бы там ни было, старейшины еще немного посидели за столом молча, а потом при свете ранних звезд, пока на западе еще дотлевал закат, все они вышли из кузницы Нарла и пошли по домам, негромко ворча, что вот нету-де у них волшебника-лорда, чтобы править Эрлом, и вздыхая о магии, которая могла бы спасти от пучины забвения селение и долину, которую они так любили.
По одному старейшины скрывались в своих домах, пока не осталось их всего трое или четверо — тех, что жили на дальней оконечности селения у самого подножья холмов. Но не успели они достичь порогов своих жилищ, как в звездном свете и в последних отсветах заката ясно возник перед ними белоснежный единорог — загнанный, утомленный долгим преследованием, — который стремительно мчался по гребням холмов. Старейшины остановились, в растерянности заслоняя глаза и почесывая бороды. А белый единорог продолжал стрелой нестись по склонам холмов, которые мы знаем, и за ним, приближаясь с каждой минутой, летел заливистый лай Орионовых гончих, идущих по горячему следу.
Глава XVIII Вечер серой палатки
К тому дню, когда загнанный единорог пересек равнину вблизи селения Эрл, Алверик странствовал уже больше одиннадцати лет. На протяжении десятилетия его отряд из шести человек скитался вдоль домов, выстроенных на самом краю полей, которые мы знаем, а по вечерам вставал лагерем, растянув на шестах странный серый материал тента. Вне зависимости от того, все ли их вещи окружал романтический ореол дальних путешествий или нет, эта палатка неизменно выглядела самой удивительной и странной деталью любого ландшафта. По мере того как серели вечерние сумерки, возрастала ее таинственность и усиливалось волшебство.
Какое бы честолюбивое стремление ни снедало Алверика, отряд все равно двигался не торопясь, с очевидной ленцой. Если им удавалось разбить лагерь в каком-нибудь приятном, живописном месте, путники оставались в нем по три дня, а потом не спеша трогались дальше и, пройдя девять или десять миль, снова останавливались. В глубине души Алверик верил, что в один прекрасный день они все равно увидят сумеречную границу и войдут в Страну Эльфов. Он знал, что в этой зачарованной стране время течет совсем иначе, чем здесь, и что он встретит свою Лиразель ни капли не состарившейся, не отдавшей его неистовому бегу ни одной улыбки, не приобретя ни единой морщинки, оставленной пагубным влиянием лет. Эта надежда и поддерживала Алверика, и вела его странный отряд от лагеря к лагерю. Она ободряла путешественников одинокими вечерами у костра и в конце концов завела их далеко на север, к краю известных человеку полей, где лица всех жителей были намеренно отвернуты в противоположную сторону, благодаря чему шестеро скитальцев путешествовали, не привлекая к себе внимания, словно были невидимы.
Но разум Вэнда понемногу отвращался от их общей идеи, и с каждым годом его здравый смысл все сильней и сильней восставал против самой цели, что манила остальных. И однажды он утратил веру в Страну Эльфов. С тех пор просто следовал за отрядом, а одним дождливым ветреным днем, когда все промокли насквозь и замерзли, а лошади устали сверх меры, Вэнд оставил своих спутников.
Рэннок ехал со всеми просто потому, что в сердце его не было никакой надежды, и единственное, чего он хотел, это убежать подальше от своей печали. Но в один прекрасный день, когда в полях, которые мы знаем, запели по кустам черные дрозды, его безнадежное отчаяние растаяло в ярком солнечном свете, словно туман, и Рэннок подумал об уютных домиках в освоенных человеком долинах. И как-то под вечер он тоже исчез из лагеря, чтобы вернуться в милые его сердцу края.
Но четверо оставшихся членов отряда были накрепко спаяны единством мыслей и общей надеждой, и, сидя по вечерам под грубой и сырой материей, натянутой на шестах палатки, они не чувствовали ничего, кроме глубокого удовлетворения. Алверик продолжал цепляться за надежду с упрямством и силой, свойственными лучшим представителям своего древнего рода, которые когда-то завоевали Эрл в упорном сражении и с тех пор столетиями удерживали его. Что касается Нива и Зенда то в их свободных от излишнего знания и мыслей умах навязчивая идея Алверика нашла благодатную почву и разрослась так, как разрастается и пышно цветет какой-нибудь редкий цветок, который садовник случайно забывает в укромном и диком уголке сада. Что до Тила, тот продолжал воспевать надежду, и его дикие фантазии, прокрадывающиеся под полог палатки вслед за песней, сообщали Алверикову предприятию еще большие блеск и величие. Словом, все четверо думали одинаково, и это тем более важно, что путешествия не менее великие — как разумные, так и безумные — оканчивались триумфом, если случалось так, и проваливались, если иначе.
Держась задних стен фермерских домов, отряд пробирался на север на протяжении нескольких лет, сворачивая на восток каждый раз, когда кому-то из них казалось, что необычный вид небосклона, сверхъестественная тишина вечера или даже очередное пророчество Нива указывают на близость Страны Эльфов. Тогда им приходилось карабкаться через валуны и груды щебня, что окаймляли теперь границы полей, которые мы знаем. Они шли и шли вперед до тех пор, пока Алверик не замечал, что запасов провизии для людей и лошадей едва хватит, чтобы вернуться обратно к человеческому жилью. Тогда он приказывал поворачивать назад, но Нив продолжал вести отряд все дальше в глубь каменистой пустыни. Его рвение, возрастало с каждым днем, Тил громко пел, предрекая им скорую удачу, а Зенд заявлял, что он уже почти видит вершины Эльфийских гор и шпили волшебного дворца. Среди этой компании один только Алверик не терял рассудительности и осторожности. В конце концов они снова возвращались к фермерским домам на краю наших полей, чтобы пополнить свои запасы. Нив, Зенд и Тил принимались бессвязно рассуждать о путешествии, задыхаясь от переполнявшего их энтузиазма. Только Алверик помалкивал, прекрасно зная, что люди пограничья не только никогда не говорят, но даже не смотрят в сторону Страны Эльфов, хотя он так и не смог понять — почему.
Когда маленькая партия отправлялась дальше, фермеры, продавшие им плоды знакомых нам полей, с любопытством косились вслед ушедшим, словно не сомневались, что все, что услышали они от Нива, Зенда и Тила, рождено как чистой воды безумием, так и снами, навеянными полной луной.
Путники все время стремились вперед и искали новые и новые места, откуда открылась бы им граница Страны Эльфов, и с левой стороны доносились до них ароматы полей, которые мы знаем: сначала это были запахи фиалок из цветущих палисадников, затем — аромат белого шиповника, потом благоухание роз, и так продолжалось до тех пор, пока все другие запахи не перебил дух свежескошенного сена. Слева слышали они низкое мычание коров, далекие человеческие голоса, писк цыплят в траве — словом, все звуки, что слышны обычно вблизи благополучной, процветающей фермы; справа же неизменно расстилалась бесплодная, молчаливая равнина, полная камней, на которых не росли ни цветы, ни трава. И как бы далеко ни уходили путешественники от людских жилищ, Страна Эльфов продолжала упорно скрываться от них, и тогда на помощь им приходили песни Тила и неколебимая уверенность Нива.
Тем временем молва о походе Алверика распространилась по всем краям и весям, пока в конце концов не нагнала путешествующий отряд, и вскоре каждый человек, которого они встречали, знал их историю. Одни одобряли Алверика, как одобряют люди тех, кто посвятил все свои дни исполнению важного дела, а другие чествовали его как героя, но ни от тех, ни от других Алверик не требовал ничего, кроме провизии, и, получив ее, молча расплачивался и исчезал.
Так шел вперед его отряд. Подобно сказочным героям четверо путников вечно маячили на горизонте за глухими стенами домов и живыми изгородями ферм и серыми вечерами воздвигали среди унылых камней свою серую бесформенную палатку. Они подкрадывались бесшумно, как дождь, и исчезали, как плывущие над землей туманы. О них рассказывали шутки и песни, и последние пережили первые, так что в конце концов призрачный отряд Алверика сам стал легендой, которая навечно поселилась в тех краях, кочуя от фермы к ферме; и каждый раз, когда кто-то хотел подчеркнуть безнадежность предприятия, он вспоминал имя Алверика, которого люди то высмеивали, то поднимали на щит — в зависимости от того, какое в данный момент у них было настроение.
Все это время король эльфов был настороже, так как при помощи магии мог знать, когда меч Алверика окажется в опасной близости от Страны Эльфов. Однажды этот клинок уже потревожил покой его королевства, и король эльфов прекрасно умел распознавать плывущий в воздухе запах огнедышащего громового металла. Это от его магии он оттянул, спрятал подальше границы зачарованной земли, оставив лишь каменистые, безжизненные пространства там, где некогда блистала богатая чудесами прекрасная страна. Король понятия не имел, как далеко может зайти путешествующий человек, поэтому он сделал эти бесплодные пустыни такими широкими, что даже комета не смогла бы их пересечь. Покончив с этим делом, он вполне справедливо полагал себя в безопасности.
Но Алверик в своих странствиях забрался слишком далеко на север, и понемногу та сила, при помощи которой король эльфов заставил волшебную страну отступить, ослабла — точно так же луна, вызывая отлив, снова позволяет морю вернуться в привычные берега. И наконец настал такой момент, когда Страна Эльфов ринулась в свои прежние границы, словно вода, растекающаяся по выровненным прибрежным пескам. Окаймленная спереди узкой полосой сумерек, она накатывалась на каменистую пустошь, возвращаясь в свои вековечные пределы со всеми своими старинными песнями, забытыми сновидениями и древними голосами. Вскоре у самого края полей, которые мы знаем, снова появилась клубящаяся и мерцающая сумеречная граница, опоясавшая наш мир, словно бесконечный летний вечер, вернувшийся к нам из самого Золотого века.
Лишь на далеком унылом севере, где странствовал Алверик, бесконечные обломки скал все еще загромождали пустынные и голые пространства, так как Страна Эльфов вернулась могучим и полноводным потоком только к тем полям, от которых его меч и его одержимый отряд были достаточно далеко. Вблизи скромного домика старого кожевника и его соседей — всего-то через три нешироких поля — снова залегла зачарованная земля, переполненная всеми возможными чудесами, бесконечно богатая романтическими сокровищами, которые с такой жадностью ищут наши поэты. Эльфийские горы вновь взирали через границу столь безмятежно, словно их бледно-голубые пики никуда не исчезали. Вдоль границы как и раньше паслись единороги, которые то кормились в стране, что по праву считается домом всех легендарных животных, щипля лилии на склонах Эльфийских гор, то порой — особенно вечерами, когда все наши поля затихают — неслышно пересекали сумеречную границу, чтобы ухватить пучок-другой сладкой земной травы. Именно благодаря стремлению полакомиться земной травой, время от времени одолевающему единорогов, человеку стало известно о существовании этих животных, которых часто называют сказочными из-за того, что они рождаются и живут в Стране Эльфов. Лисицы, рождающиеся в полях, которые мы знаем, в определенное время года тоже пересекают границу или скитаются в ее сумеречном свете. Именно там они приобретают тот загадочный вид, который потом удивляет нас в наших полях. Кроме того, лисица в Стране Эльфов считается тварью такой же легендарной и сказочной, какими считаются единороги у нас.
Жители окраинных ферм редко видят единорогов — пусть даже неясно, и издали — потому что их лица постоянно обращены в сторону, противоположную Стране Эльфов. Чудеса, красоты, очарование волшебства, сказки о Стране Эльфов — все это годится только для того, кто обладает досугом, который он может потратить на изучение всего перечисленного, фермеров же полностью, без остатка, поглощали то заботы об урожае, то обычные, не легендарные животные, то солома для крыши, то живые изгороди, то тысячи других важных дел. К концу каждого года фермеры едва-едва выигрывали схватку с предстоящей зимой и потому отлично знали, что стоит им позволить своим мыслям хоть ненадолго устремиться к красотам Страны Эльфов, она увлечет их своими чудесами, заполнит собой весь досуг, так что у них не будет времени ни чтобы починить подтекающую крышу, ни подправить плетень, ни вспахать поля, которые мы знаем. И только Орион, то ли внимая голосам рогов, что по вечерам доносились из Страны Эльфов, то ли поддаваясь какой-то особенности своего эльфийского слуха, способного уловить в этих серебряных звуках некую недоступную обычным людям магическую гармонию, часто в одиночестве выходил в ночные холмы. Однажды, взяв собак, он забрел в дальнее поле, через которое протянулась сумеречная граница, и там обнаружил стадо единорогов, мирно щипавших нашу земную траву. Тогда, прокравшись за живой изгородью вдоль края какого-то поля и ведя за собой всю свору, Орион неожиданно выскочил между границей и одним из сказочных животных, отрезав ему путь назад в зачарованную страну. Это был тот самый единорог, который, сверкая ослепительно-белой шеей и роняя клочья пены, казавшейся серебряной в звездном свете, с фырканьем и топотом промчался через долину Эрл. Он бежал, словно вдохновение, словно предзнаменование перемен, словно юный принц из восходящей к власти новой династии в задавленной традициями стране, словно благая весть о только что открытой счастливой земле, найденной где-то за морями неожиданно вернувшимися моряками.
Глава XIX Без надежды на магию
Мало какое событие может произойти в деревне так, чтобы о нем потом не судачили и не рядили. Так вышло и с единорогом. Трое или четверо, видевшие его скачущим в звездном свете, рассказали об этом своим домочадцам, а те тут же побежали по соседям, чтобы поведать о добром предзнаменовании. В Эрле же все странные события считались добрыми — главным образом благодаря разговорам и пересудам, которые они вызывали; разговоры же считались совершенно необходимыми, чтобы коротать долгие вечера, когда вся работа закончена и делать больше нечего. О единороге же можно было говорить особенно долго.
Через день или два в кузнице Нарла снова собрались все старейшины Эрла, чтобы за кружечкой меда обсудить явление единорога. Некоторые из них радовались и говорили, что Орион — точно волшебник, так как единороги принадлежат к загадочному магическому племени и проникают в наши края откуда-то из-за их пределов.
— Следовательно, — заявил один, — наш лорд бывает в землях, о которых нам не пристало говорить, а это значит, что он тоже волшебник — как и все существа, что там обитают.
Многие с ним согласились, им так сладко было сознавать, что их планы наконец-то принесли свои плоды.
Но другие возразили: зверь, — если, конечно, это был именно зверь, а не что-нибудь иное, — пронесся мимо долины в неверном звездном свете, и кто возьмется утверждать наверняка, что это был именно единорог? И кто-то сейчас же закричал, что при свете звезд его и рассмотреть-то было бы нельзя, а кто-то поддакнул, что издалека единорогов вообще трудно узнать. После этого все старейшины принялись спорить о размерах и форме этих сказочных зверей и вспоминать все известные им легенды о единорогах, однако ни на шаг не приблизились к согласию относительно того, охотился ли их господин на единорога или нет. Нарл увидел, что таким путем они никогда не придут к истине, и, понимая, что тем или иным способом, но вопрос сей необходимо раз и навсегда решить, поднялся и объявил, что пришло время голосовать. Бросая разноцветные раковины в коровий рог, который переходил от человека к человеку, старейшины проголосовали. И пока кузнец считал, все молчали, затаив дыхание; когда же он кончил, то выяснилось, что установило голосование: никакого единорога не было.
Старейшины Эрла с сожалением увидели, что их надежды на лорда-волшебника так и не сбылись. А ведь все они были уже достаточно старыми людьми, и потому когда исчезла питавшая их надежда, им оказалось не так-то легко отвернуться от прежнего плана, изобретенного давным-давно, и обратиться к новым мыслям и идеям.
Как теперь обрести магию? Что можно сделать, чтобы мир запомнил Эрл? Их было двенадцать стариков, но не было у них никакой надежды на магию, и хотя все они сидели, склонившись к своим кружкам с медом, даже он не мог развеять их печаль.
Орион в это время был далеко и бродил у величественных берегов Страны Эльфов, что лежала, словно вода в час наивысшего прилива, едва не касаясь травы в полях, которые мы знаем. Обычно он отправлялся туда под вечер, когда особенно ясно звучал зов эльфийских рогов, и, затаившись, сидел у края какого-нибудь поля, ожидая, когда единороги переберутся через границу, так как Орион решил больше не охотиться на оленей.
Пока он шагал через наши поля, фермеры, работающие там, радостно его приветствовали, однако когда им становилось ясно, что он направляется со своей сворой на восток, они заговаривали с ним все реже и реже. Теперь, когда Орион приближался к границе, фермеры вовсе переставали смотреть в его сторону, притворяясь, будто полностью поглощены своим инвентарем.
Когда солнце садилось, Орион уже ждал за живой изгородью, что упиралась своим концом прямо в сумеречную границу, а всех гончих он собирал рядом, дабы присматривать за ними, и под его взглядом ни один пес не смел двинуться с места. Голуби возвращались на ночлег в кроны деревьев, и затихали щебечущие скворцы; эльфийские рога, напротив, трубили все громче, и их серебряная музыка наполняла прохладный воздух восторгом ожидания, и тогда цвет высоких облаков начинал стремительно меняться. И именно в тот час, когда мерк свет и темнели краски, Орион ожидал появления размытых белых теней, которые могли каждую секунду выступить из плотной сумеречной границы.
В один из вечеров, едва только он успокоил поглаживанием самого нетерпеливого пса, из-за сумеречной границы выскользнул огромный белый единорог, все еще жующий изумрудные стебли лилий, какие никогда не росли в полях, которые мы знаем. Сама белизна, он плавно скользил над землей, и его ноги ступали по траве совершенно бесшумно. Углубившись в наши поля всего на пять или шесть ярдов, единорог замер, неподвижный, словно лунный свет, и прислушивался, прислушивался, прислушивался. Орион даже не шелохнулся, сдерживая собак благодаря каким-то своим особым способностям, не то благодаря лишь их собственной собачьей мудрости. И через пять минут единорог сделал один или два коротеньких шага вперед и принялся щипать высокую и сладкую траву Земли. Как только он сдвинулся с места, как из-за плотной темно-синей границы Страны Эльфов появились остальные. Их было пять, и всем им хотелось попастись. Орион стоял неподвижно и ждал.
Понемногу единороги отходили все дальше от сумерек, хрупая сочной и высокой земной травой, по которой все пятеро разбрелись в тишине безветренного вечера, но если лаяла где-то собака или смущенно кукарекал припоздавший петух, они тут же настораживались, вскидывали головы и стояли, прислушиваясь, не доверяя в человеческих полях ничему и не осмеливаясь заходить слишком далеко.
Но наконец один из единорогов — тот самый, что первым пересек границу зачарованной земли — забрел подальше, и Орион рискнул забежать между ним и сумеречным барьером, отрезая животному дорогу назад, в спасительную Страну Эльфов. И собаки, конечно, последовали за ним. Если бы Орион отнесся к погоне несерьезно, если бы он охотился из прихоти или из праздности, а не ради любви к этому древнему искусству, которую способны испытывать лишь настоящие охотники, тогда бы Орион потерял все. Его гончие стали бы преследовать ближайших к ним единорогов и, конечно, упустили бы их, так как эти звери недостаточно далеко отошли от границы, за которой они сразу бы стали недосягаемы для охотника. А если бы гончим вздумалось пробраться за единорогами в Страну Эльфов, то они бы там пропали, и труды целого дня, несомненно, пошли бы насмарку. Но Орион твердой рукой повел всю свору в погоню за самым дальним единорогом, внимательно следя за тем, чтобы ни одному псу не пришло в голову погнаться за каким-нибудь другим; и стоило кому-то из своры отвлечься, как Орион пускал в ход кнут, который держал наготове. Лишь благодаря этому ему удалось отогнать единорога еще дальше от границы Страны Эльфов, и вот тут-то его свора взялась за жертву всерьез, так как это был уже второй единорог, которого псам предстояло гнать по полям, которые мы хорошо знаем.
И как только единорог заслышал топот их лап и, поведя глазом в сторону, увидел, что ему никак не вернуться к своим зачарованным горам, он мощно оттолкнулся от земли четырьмя копытами и, словно пущенная из лука стрела, полетел прочь, стелясь над травой и едва касаясь ногами знакомых нам полей. Достигнув живой изгороди, он, казалось, даже не притормозил и не подобрался перед прыжком, а без всяких видимых усилий взмыл и снова ударился в галоп, едва приземлившись с другой стороны.
В самом начале погони свора оставила Ориона далеко позади, благодаря чему он получил возможность маневрировать, вспугивая единорога всякий раз, когда тот намеревался описать дугу и повернуть обратно к Стране Эльфов. И каждый раз, когда зверь бросался в сторону, Орион немного нагонял своих псов. И после того, как он в третий раз не дал животному вернуться назад, единорог уже больше не пытался обмануть свору, а понесся по прямой, и лай собак будил сонную тишину позднего вечера, как водовороты на поверхности спящего озера указывают путь какого-то невидимого ныряльщика. Мчась галопом, единорог настолько обогнал собак, что Орион только изредка видел его далеко впереди — белое пятно, мелькающее на склоне холма в сумерках. Но вот зверь достиг гребня и вовсе пропал из вида, и только его незнакомый, сданный запах, ведший собак, словно песня, остался на траве, и он был так ясен, что свора ни разу не сбилась со следа, и лишь встречавшиеся на пути ручьи заставляли ее замедлить бег. Но и тогда чуткие носы не подводили, и гончие устремлялись по вновь отысканному следу еще до того, как Орион успевал прийти к ним на помощь.
Пока продолжалась эта неистовая гонка, последний свет дня погас и небеса потемнели, готовясь к появлению звезд. А как только на небосводе вспыхнули первые редкие звезды, от потоков и ручьев поднялся белесый туман, растекшийся над полями плотной пеленой, за которой нельзя было бы заметить единорога и в двух шагах.
Изредка охота проносилась мимо уединенных, молчаливых ферм, укрывшихся в тени вязов, которые, казалось, сами спали крепким сном. И от всех, кто скитается в ночных полях, фермы были отгорожены изгородями из молодого тиса, и этих домов Орион никогда прежде не видел. И не увидел бы, если бы по чистой случайности след единорога не привел его к их порогам.
При их приближении во дворах заходились лаем собаки, и долго потом эти бдительные сторожа продолжали взлаивать и взвизгивать, так как плывущий в воздухе запах диковинного зверя, стремительный топот погони и азартные голоса своры говорили, что тут происходит что-то странное. Поначалу сторожевые псы лаяли, потому что им тоже хотелось поучаствовать в этом удивительном приключении, а потом — для того, чтобы предупредить хозяев о появлении чужих, и их тревожные голоса еще долго будили тишину позднего вечера.
Один раз, когда они огибали маленький домик, окруженный зарослями старой акации, дверь его внезапно распахнулась, и на пороге появилась какая-то женщина, которая в изумлении глядела, как они проносятся мимо. Скорее всего, в темноте она видела одни лишь серые тени, но Орион сумел заметить уют теплого дома и оранжево-желтый свет, что лился из открытой двери в холод ночи. И это зрелище показалось ему настолько приятным и соблазнительным, что Орион ненадолго задумался о том, как было бы славно передохнуть в этом маленьком оазисе человеческого гостеприимства, открывшемся ему среди темных, выстуженных полей, но гончие продолжали мчаться по следу далеко впереди, и он последовал за ними. И все, кто жил на хуторах и фермах, тоже слышали, как лай своры проносится мимо и удаляется прочь подобно зову боевой трубы, чье эхо, постепенно стихая, мечется и мечется среди самых отдаленных холмов.
Их приближение услыхала лиса, услыхала и застыла, прислушиваясь; и поначалу она была озадачена, но потом ее острое обоняние уловило запах единорога, и тогда ей все стало ясно, так как по привкусу волшебства в этом запахе лиса догадалась, что собаки гонят какое-то существо из Страны Эльфов.
Когда овцы на ночлеге уловили запах единорога, все они вскочили и принялись в совершенном ужасе метаться из стороны в сторону и толкать друг друга до тех пор, пока не сбились в такую тесную кучу, что не могли не только бежать, но даже сдвинуться с места.
Коровы тоже пробуждались ото сна и недоумевали, сонно таращась в темноту, но единорог уже промчался через лужайку, где расположилось стадо, и тотчас исчез, словно дыхание напоенного запахом роз ветерка, который, вырвавшись из садов в долине, пронесется порой по оживленным и шумным городским улицам и сгинет без следа.
И вот уже все звезды взирали с небес на темные поля Земли, по которым азартно неслась эта странная охота — бурливый и горячий ручей, пролагающий себе путь сквозь сонную тишину и молчание. К этому времени единорог, хотя и держался по-прежнему далеко впереди своры, больше не увеличивал разделявшее их расстояние у каждой живой изгороди. Поначалу он преодолевал колючие преграды, не замедляя шага, и терял в скорости не больше, чем птица, пролетающая сквозь облако, в то время как широкогрудым гончим приходилось протискиваться сквозь узкие прорехи, которые они могли найти, или даже бочком проползать между близкими стволами кустарников. Теперь же каждый прыжок через изгородь требовал от единорога больших усилий, так что иногда он цеплялся ногами за кусты и едва не спотыкался, да и галоп его стал не таким резвым. Подобного путешествия еще не совершал ни один единорог, обитающий в глубоком покое Страны Эльфов. И что-то подсказало усталым гончим, что понемногу они нагоняют свою жертву, и тогда в их душах с новой силой вспыхнула азартная радость.
Преодолев еще несколько черных, молчаливых изгородей, они увидели впереди темную громаду леса. Единорог вступил под его сень, уже отчетливо слыша позади голоса собак. Лисица увидела его медленно бредущим по лесной тропе и последовала за ним, чтобы увидеть, что будет дальше с усталым сказочным существом, которое явилось в их лес из Страны Эльфов. Лисы бежали по обеим сторонам от единорога, примеряясь к его небыстрому шагу, и поглядывали на него, нисколько не боясь собак, потому что хотя они и слышали лай почти у самой опушки, обе понимали, что кто бы ни шел по этому волшебному пахучему следу, он ни за что не бросит его ради какой-то земной лисицы. И пока единорог с трудом пробирался сквозь чащу, лисы с любопытством следили за ним.
Собаки уже ворвались в лес, и стволы древних дубов зазвенели от их заливистого лая. Орион шел по пятам со скоростью, которую, возможно, воспитали в нем поля, которые мы знаем, а возможно, она досталась ему по наследству вместе с магической кровью матери. В лесу было еще темнее, чем в полях, но он уверенно ориентировался на голоса своры, а псам в свою очередь не нужно было зрение, чтобы идти по восхитительному свежему следу. Следуя этому удивительному запаху, они ни разу не сбились ни в сумерках, ни при свете звезд. Эта охота мало чем напоминала обычную гонку за оленем или травлю лисицы, когда другая лисица может пересечь след намеченной жертвы, а олень промчаться сквозь стадо других оленей или косуль. Даже отара овец способна была сбить гончих с толку, затоптав тропу, и только след единорога они могли безошибочно отыскать среди множества других, так как этой ночью он был единственным сказочным зверем в знакомых нам полях, и его запах — острый, резкий, обжигающий ноздри привкусом колдовства — ясно читался на траве среди земных запахов.
Гончим удалось выгнать единорога из леса и оттеснить его вниз, к долине, а две лисицы все бежали по сторонам и смотрели. Спускаясь по склону, единорог ставил ноги осторожно, словно ему было больно налегать на них всем своим весом, однако его шаг оставался таким же быстрым, как и у псов, которые спускались в долину следом за ним. И оказавшись на дне котловины, единорог повернул влево и пробежал немного вдоль нее, но, увидев, что собаки настигают, повернул к противоположному склону.
Он больше не мог скрыть усталости, которую все дикие звери стараются не показывать до последнего. Каждый шаг вверх по склону давался ему с огромным напряжением, словно отяжелевшие ноги вдруг потянули вниз его тело. Орион видел это со своего края котловины.
Когда единорог добрался до гребня, гончие уже почти настигли его, и тогда зверь вдруг повернулся к ним и, приняв угрожающую позу, взмахнул в воздухе своим длинным и страшным рогом. Псы с лаем запрыгали вокруг, но острый конец рога танцевал в воздухе с такой быстротой, что ни одной из гончих никак не удавалось схватить зверя. Они-то сразу сообразили, что удар этого страшного оружия сулит смерть, и, несмотря на владевшее ими возбуждение погони, благоразумно отскочили подальше от рассекающего воздух рога.
Тем временем подоспел и Орион со своим луком, но стрелять не торопился — отчасти потому, что поразить животное, не задев окруживших его собак, было довольно сложно, отчасти из-за ощущения, — которое сегодня часто посещает и нас, а потому не кажется ни новым, ни странным, — что это будет несправедливо по отношению к единорогу. Тогда он отложил лук и, распихивая собак ногами, вытащил из-за пояса старый меч, который постоянно носил с собой, а потом сделал шаг вперед, чтобы скрестить свое оружие с рогом единорога. Единорог изогнул белоснежную шею, устремив острый рог прямо в грудь Ориону. Хотя животное, несомненно, было утомлено долгой погоней, в мускулах его шеи все еще сохранилось достаточно силы, чтобы нанести этот могучий удар, и Орион с трудом парировал его. Потом он и сам сделал выпад, метя единорогу в горло, но толстый и длинный рог так легко отбил острие в сторону и так быстро перешел в контратаку, что Ориону пришлось налечь на меч всем своим весом, и все равно рог прошел в каких-нибудь дюймах от его тела.
Орион снова попытался пронзить животному горло, но огромный белый зверь ушел от выпада почти презрительно и, целясь точно в сердце, продолжал раз за разом наносить стремительные и мощные удары, одновременно тесня Ориона грудью. Эта грациозно склоняющаяся шея, похожая на арку, но обвитая твердыми мускулами, столь уверенно и мощно направляла смертоносный рог, что вскоре Орион почувствовал, как немеет от усталости рука. Он предпринял еще один выпад, но снова безрезультатно, а выпрямляясь, увидел, как свирепо блеснул в звездном свете глаз зверя, увидел прямо перед собой белизну твердой как мрамор шеи и понял, что больше не сможет отражать могучие удары.
И тут одной из гончих удалось схватить единорога чуть выше правого плеча и повиснуть на нем. Не прошло и секунды, как вся свора набросилась на зверя, впиваясь зубами в свои излюбленные места, и все вместе они напоминали возбужденную толпу, которая с сопением бросается то в одну, то в другую сторону, но в итоге топчется на одном и том же месте.
Орион больше не наносил ударов мечом: между ним и горлом единорога оказалось вдруг слишком много собачьих тел. Из глотки зверя вырвались громкие и страшные стоны, не похожие ни на какие звуки, когда-либо оглашавшие собой наши поля. Неожиданно они оборвались, и в наступившей тишине было слышно лишь низкое рычание, раздававшееся над поверженной тушей удивительного зверя.
Глава XX Исторический факт
Орион шагнул в самую гущу своры, освеженной яростью боя и триумфом победы. Раскрутив ремень кнута так, что он образовал вокруг неровный шелестящий круг, он отогнал гончих от чудовищного мертвого тела; в другой же руке Орион держал меч, с помощью которого отрезал голову единорога. Кроме того, он снял кожу с шеи, так что она, пустая, свисала с отделенной головы. И все это время гончие не переставали волноваться и лаять, и то одна, то другая предпринимала попытку броситься на остывающее тело, как только ей казалось, что она может проделать это, не опасаясь удара кнутом. Прежде чем Орион завладел своими трофеями, прошло довольно много времени, потому что кнутом ему приходилось работать едва ли не больше, чем мечом. Он сделал ременную петлю и закинул отрезанную голову через плечо так, что рог единорога торчал вверх слева от его головы, а испачканная в крови шкура свисала вдоль спины. Пока Орион пристраивал трофеи поудобнее, он позволил своим псам снова потревожить мертвое тело и попробовать крови убитого зверя. Он отозвал их и, дунув в рог, повернул в сторону Эрла, и свора послушно пошла за ним. Когда все ушли, из-за кустов осторожно выбрались две лисицы. Им тоже не терпелось попробовать на вкус волшебную кровь, ведь именно этого они дожидались так долго.
Пока единорог взбирался на свою последнюю гору, Орион чувствовал такую усталость, казалось, еще немного, и он не сможет идти дальше; теперь же, когда за плечами его висела тяжелая голова зверя, всю усталость как рукой сняло. Орион шагал с легкостью, которую он обычно ощущал только по утрам, — это был первый добытый им единорог! Псы тоже выглядели освеженными, словно кровь, которую они лакали, обладала волшебной силой, так что домой свора возвращалась оживленной, беспорядочной толпой, то бросаясь играть, то забегая вперед, словно ее только что выпустили из вольера.
Орион возвращался домой через ночные холмы, пока перед ним не показалась долина Эрл, скрытая дымом селения, сквозь который проглядывал единственный поздний огонек в одной из башен замка. Спустившись знакомыми тропами по откосу, Орион первым делом загнал гончих в вольеры, а потом — незадолго до того как рассвет коснулся вершин холмов — затрубил в рог перед задней дверью замка. Престарелый стражник, отворивший дверь Ориону, первым из людей увидел торчащий над головой лорда Эрла острый и прямой рог единорога.
Это был тот самый рог, который много лет спустя был послан Папой Римским королю Франциску в качестве подарка. Именно о нем упоминает в своих мемуарах Бенвенуто Челлини, когда рассказывает о том, как Папа Клемент послал за ним и неким Тоббиа и приказал представить на рассмотрение проект достойной оправы для рога единорога — лучшего из всех, когда-либо виденных. Представьте же себе восторг Ориона, добывшего рог, который даже поколения спустя восхищал людей настолько, что они сочли его «лучшим из когда-либо виденных»! И ведь случилось это не где-нибудь, а в Риме — в городе, обладавшем неограниченными возможностями — в части приобретения и сравнения разного рода сокровищ. Видимо, Папа Римский имел в своем распоряжении сразу несколько подобных любопытнейших вещиц, раз он сумел выбрать для подарка лучший. Ну а в более простые времена, к которым относится мое повествование, рог единорога был редкостью непревзойденной, так как единороги все еще почитались животными сказочными.
Орион отнес голову единорога Трелу, и старый следопыт отделил кожу и промыл ее, а череп вываривал несколько часов подряд. Потом он натянул кожу обратно, набил шею соломой, и Орион поместил трофей на почетное место среди голов оленей, что украшали собой высокие стены дворцового зала.
Слухи об удаче молодого лорда и о чудесном роге, который он сумел добыть, распространились по всему Эрлу со скоростью единорожьего галопа, и к вечеру в кузнице Нарла опять собрался маленький парламент Эрла. Вновь старейшины уселись вдоль длинного стола, обсуждая новость, так как на этот раз, кроме Трела, и многие из них тоже успели увидеть голову. Поначалу, однако, — просто из уважения к однажды принятому решению, — кое-кто продолжал держаться мнения, что никакого единорога не было; и они пили крепкий мед Нарла и доказывали, что все это чушь и обман зрения. Только некоторое время спустя, — то ли убежденные аргументами Трела, а скорее из чистого благородства, которое вдруг взросло в их душах, словно прекрасный цветок на плодородной почве лугов, — они уступили, и голоса, что возражали против существования зверя, один за другим стихли. Снова проголосовали, и была объявлено единогласное решение: Орион действительно убил единорога, пригнав его из-за границ полей, которые мы знаем.
Вот тут наконец все старейшины позволили себе обрадоваться, так как наконец увидели волшебство, которого им так недоставало и ради которого много лет назад они составили и привели в действие свой план. Тогда все они были намного моложе и возлагали на магию очень большие надежды. Сразу по окончании голосования Нарл вынес собранию еще одну баклагу меда, и все старейшины выпили, чтобы отметить радостное событие. За магию, сказали они, которая наконец пробудилась в Орионе, и за счастливое будущее, несомненно, ожидающее Эрл. Благодаря уюту длинной комнаты, мягкому свету свечей, обществу добрых товарищей и умиротворяющему действию крепкого меда каждый из них уже без труда заглядывал в ближайшее будущее на какой-нибудь год или около того и ясно видел там известность и великую славу, которые в скором времени — стоит немного подождать — обрушатся на Эрл. Старейшины снова завели разговор о днях, которые казались им теперь гораздо ближе: о днях, когда об их возлюбленной долине услышат в самых отдаленных краях и когда слава полей Эрла будет шагать от города к городу. Одни хвалили древний замок, другие воспевали высоту окружающих холмов, третьи восторгались долиной в целом и тем, как надежно она укрыта от всех других земель. Четвертые не могли нарадоваться дорогими сердцу домиками, выстроенными древними жителями Эрла, пятые толковали о щедрости густых лесов, протянувшихся до самого горизонта, и все дружно предвидели времена, когда необъятный мир узнает обо всем этом, так как теперь у Ориона была магия. Оказывается, все старейшины были прекрасно осведомлены о том, что большой мир неизменно внимателен к любым сообщениям о всякого рода волшебстве и реагирует на них на удивление быстро, хотя минуту назад он, казалось, только что не спал.
Они как раз восторгались магией, оживленно обсуждали единорога и провозглашали здравицы славному будущему Эрла, когда дверь кузницы внезапно распахнулась и на пороге появился Служитель. Он стоял там в своей длинной белой накидке с розовато-лиловой оторочкой, и за спиной его чернела непроглядная ночь. Глядя на него при свете свечей, старейшины наконец заметили, что на шее Служителя висит на золотой цепи священный знак.
Опомнившийся Нарл пригласил его войти, а кто-то придвинул к столу еще один стул, но Служитель слышал, что они говорили о единороге, и потому обратился к ним оттуда, где стоял, лишь слегка возвысив голос.
— Пусть будут прокляты единороги! — провозгласил он. — Пусть будут прокляты их повадки, и их образ жизни, и все волшебное — тоже!
В благоговейном молчании, установившемся вдруг в уютной комнате Нарла, кто-то воскликнул:
— Не проклинай нас, господин!
— Добрый Служитель, — мягко возразил гостю Нарл, — мы никогда не охотились на единорогов.
Но Служитель уже поднял руку, словно отводя единорожью скверну, и проклял их:
— Да будут прокляты единороги, — крикнул он, — и те места, где они обитают, и лилии, которыми они питаются, и все песни и легенды, в которых о них рассказывается. Да будут прокляты вместе с ними все, кто живет, не помышляя о спасении!
Все еще стоя в дверях и сурово глядя в комнату, Служитель сделал паузу, ожидая, что старейшины дружно отрекутся от единорогов.
А они думали о гладкой и шелковистой шкуре единорога, о его сказочной быстроте, о грациозном изгибе шеи и о красоте, которая смутно, неясно явилась им в вечернем сумраке, когда белоснежный зверь промчался мимо Эрла. И еще они подумали о его прямом и опасном роге и припомнили древние песни, где воспевалась легендарная бестия. Они неловко молчали, не спеша отречься от магии.
Служитель понял, о чем они думают, и, ясно видимый на фоне ночи при свете свечей, снова поднял руку для проклятия.
— Да будут прокляты их быстрые ноги, — торжественно сказал он, — и их шелковистая белая шкура, и их красота, и все волшебное, что есть в них. Пусть будет проклято все, что пасется по берегам зачарованных ручьев!
Даже после этого Служитель видел, что в глазах старейшин все еще теплится любовь ко всему, что он запретил, и не спешил закончить свою проповедь. Напротив, он еще более возвысил голос и, сурово глядя в их обеспокоенные лица, добавил:
— И пусть вовеки будут прокляты тролли, эльфы, гоблины и феи на Земле, и гиппогрифы с Пегасом в небесах, и все морские племена в пучине водной. Наши священные ритуалы запрещают их. Пусть будут прокляты все сомнения, все странные мечты и все фантазии. И да отвратятся от всего волшебного люди, что хотят быть праведниками. Аминь.
И резко повернувшись, Служитель вышел в темноту. После его ухода лишь ночной ветер праздно заглянул в дверь, а потом захлопнул ее. Комната Нарла снова стала такой же, как и несколько мгновений назад, только всеобщая радость отчего-то вдруг померкла и растаяла. Так прошло несколько минут, пока кузнец, поднявшись во главе стола, не заговорил, первым нарушив это мрачное молчание.
— Разве для того столько лет мы осуществляли свои планы? — начал он. — Разве для того возлагали на магию столько надежд, чтобы сейчас отказаться от всякого волшебства и проклясть наших соседей — безвредный народ, что живет за пределами полей, которые мы знаем, и отречься от всего прекрасного, что есть в воздухе, и перестать верить в невест утонувших моряков, что обитают в морской глубине?
— Нет, конечно, нет! — крикнул кто-то, и старейшины дружно глотнули меда.
Один почтенный человек встал и высоко поднял рог, до краев полный медом. Следом за ним начали подниматься еще и еще люди, пока все старейшины не оказались стоящими вокруг стола, на котором горели свечи.
— Магия! — воскликнул кто-то, и остальные громко подхватили его крик. — Да здравствует магия!
Служитель, который, кутаясь в широкие полы своей светлой накидки, пробирался в темноте домой, услышал этот клич и, покрепче стиснув в кулаке свою святую эмблему, торопливо пробормотал заклинание против всех коварных демонов и подозрительных тварей, что могли таиться в тумане.
Глава XXI На краю Земли
В тот день Орион дал своим собакам отдых, однако на следующее утро он рано проснулся и, сразу отправившись к вольерам, выпустил своих игривых псов на свежий воздух и солнечный свет. Он повел их через холмы прочь из долины — туда, где лежала загадочная граница Страны Эльфов. Он не взял с собой лука со стрелами, только меч и кнут, так как ему пришлась по сердцу свирепая радость его пятнадцати псов, преследующих однорогого зверя. Эту азартную радость Орион разделял с каждой из собак. Убить единорога из лука было бы удовольствием только для одного.
Весь день он шел через поля, время от времени здороваясь с кем-то из фермеров или работников, принимая шутливые пожелания удачи в охоте. Но когда ближе к вечеру Орион подошел почти к самой границе, все меньше и меньше людей заговаривало с ним, так как он открыто направлялся туда, куда никто не ходил и куда даже в мыслях не устремлялся ни один из жителей пограничных ферм. Но Орион шагал себе, черпая бодрость в собственных радужных мыслях и наслаждаясь молчаливым дружелюбием верной своры. Мысли Ориона и его собак были настроены только на охоту.
Он дошел до самого сумеречного барьера, к которому, теряя четкие очертания, сбегали с людских полей живые изгороди, растворяясь в странном темно-синем зареве сумерек, каких не знает наша Земля. Вблизи одной из таких изгородей, как раз у того места, где она соприкасалась с барьером, Орион и встал со своими собаками. Падающий на кусты отсвет если и напоминал что-то земное, то больше всего походил на лиловатую туманную дымку, которая чудится нам при взгляде, брошенном на живую изгородь с дальней стороны осиянного радугой поля, а порой свет, подобный этому, можно заметить на лепестках последних цветов боярышника, что растет в наших полях.
Почти сразу за изгородью, у которой притаился Орион, словно жидкий опал, мерцал полный чудес барьер, через который не могут проникнуть ни человеческое зрение, ни слух; только голоса эльфийских рогов изредка доносятся с той стороны, но и они предназначены для избранных. Пока Орион сидел в засаде, рога пели и пели где-то за стеной сумерек и, пронизывая эту преграду тусклого света и тишины магическим крещендо своих звенящих нот, достигали слуха.
Вдруг рога умолкли, и даже тихий шепот не доносился больше с той стороны границы. Ориона обступили звуки обычного земного вечера. Но и они раздавались все реже. А единороги не появлялись.
Вдали залаяла собака. Возвращаясь домой, устало протарахтела по пустынной дороге одинокая телега, и чья-то речь донеслась с дороги и тут же затихла, не нарушив наступающей тишины. Любые слова казались неуместным вызовом молчанию, опустившемуся на поля, которые мы знаем. И в этой тишине Орион пристально смотрел на границу Страны Эльфов, ожидая единорогов, но ни один из них так и не переступил через разделяющие миры сумерки.
Видимо, он поступил не слишком разумно, придя на то же самое место, где всего лишь два дня назад застал врасплох пятерых зверей, так как из всех тварей, живущих по обе стороны границы, единороги слывут самыми осторожными и пугливыми, неустанно и ревниво охраняя свою неземную красоту от человеческого глаза. Именно поэтому при свете дня они пасутся за пределами полей, которые мы знаем, и лишь изредка тихими безопасными вечерами переходят на нашу сторону, да и тогда редко удаляются от спасительной полосы сумерек. Дважды подстеречь этих животных с собаками в одном и том же месте, да еще в течение двух суток, да еще после того, как один из них был загнан и убит, оказалось еще невероятнее, чем думал Орион. Скорее всего, дело было лишь в том, что сердце его все еще полнилось триумфом недавней победы, и потому арена, где это произошло, манила Ориона больше других мест — манила тем очарованием, каким обладают все подобные места. Он глядел на сумеречный барьер, ожидая, пока одно из этих могучих существ — широкая и плотная тускло-опаловая тень — гордо вышагнет из клубящегося синеватого сумрака границы. Но единороги так и не появились.
Стоя в своем укрытии, он так долго смотрел на стену светящегося мрака, что она в конце концов всецело завладела его вниманием. Мысли Ориона унеслись вдаль вместе с ее блуждающими огнями, и он возжелал приблизиться к вершинам Эльфийских гор. Подобное желание, должно быть, было хорошо знакомо тем, кто жил на маленьких фермах вдоль края полей, ведь все они постоянно смотрели в другую сторону, мудро отворачиваясь от чудес волшебной страны. Говорят, если в юности фермер заглядится на эти странствующие, перемигивающиеся огни, то для него никогда больше не будет никакой радости ни в наших добрых полях, ни в выведенных плугом красновато-коричневых прямых бороздах, ни в волнах колышущейся ржи и ни в каких других земных вещах. Его сердце, любя эльфийскую магию и вечно тоскуя по неведомым горам и существам, не удостоенным благословения Служителя, будет далеко от всего этого. Орион стоял на самом краю магических сумерек, пока над полями догорал наш земной вечер, и все здешние мысли стремительно бежали из его памяти, и весь его интерес вдруг оказался обращен к эльфийскому. Из всех людей, ходивших дорогами Земли, Орион помнил теперь только свою мать; и тут, словно колдовские сумерки нашептали ему что-то, он понял, что Лиразель была волшебницей и что он сам принадлежит к магическому роду. Теперь он знал это твердо, хотя никто ему об этом не говорил.
На протяжении многих лет Орион раздумывал о том, куда могла исчезнуть его мать. Часто он одиноко сидел и молча строил самые разные догадки, и никто не знал, о чем думает дитя. Теперь же ему стало ясно, что все это время ответ на его многочисленные вопросы буквально витал в воздухе; и казалось Ориону, что его мать где-то совсем близко, по ту сторону зачарованных сумерек, что разделили скромный фермерский край и Страну Эльфов.
Орион сделал всего три шага и подошел вплотную к границе. Его нога остановилась на самом-самом краю полей, которые мы хорошо знаем, а сам барьер очутился прямо перед его лицом. Вблизи он напоминал туман, в глубине которого медленно и важно танцуют все оттенки жемчужно-серого и голубого.
Но стоило Ориону сдвинуться с места, как у ног его шевельнулась собака, и вся свора, разом встрепенувшись, стала следить за ним, но как только он остановился, гончие тоже успокоились. Орион старался заглянуть за барьер, но не видел ничего, кроме блуждающих расплывчатых пятен и полотен света, созданных из сумеречного сияния тысяч и тысяч ушедших вечеров, что были сохранены при помощи волшебства именно затем, чтобы сложить из них ограждающий Страну Эльфов барьер. Тогда Орион окликнул мать, позвал ее через пропасть многих вечеров, из которых была сделана стена сумерек в том месте, где он стоял; а потом он позвал ее и через время, так как с одной стороны все еще была Земля и стояли человеческие дома, и время измерялось часами, минутами и годами, а с другой стороны была Страна Эльфов, где время двигалось по иным законам и вело себя по-другому. Так он окликал ее дважды и прислушивался, и снова звал, но в ответ ему из Страны Эльфов не раздалось ни шепота, ни крика.
Орион в полной мере ощутил величие потока, отделившего его от матери, и понял, что он и темен, и широк, и могуч, как те потоки, что отграничивают наши дни от времен давно прошедших. Только этот сумеречный барьер искрился, взблескивал, переливался и казался воздушным, как будто и не отделял все ушедшие годы от стремительных и мимолетных часов, что зовутся промеж нами настоящим.
Орион продолжал стоять, окруженный мерцанием земных сумерек и слыша за спиной редкие, негромкие голоса позднего земного вечера. А перед ним — у самого лица чуть покачивалась высшая тишина Страны Эльфов и сиял своей непривычной красотой сумрачный барьер, создавший и хранивший эту тишину. Молодой лорд больше не думал ни о чем, он только вглядывался в эти глубокие и плотные волшебные сумерки, словно пророк, который, увлекшись запретным искусством, глядит и глядит в туманные глубины магического кристалла. Ко всему, что было эльфийского в крови Ориона, ко всей той магии, которую он унаследовал от своих предков-волшебников, взывали огни воздвигнутого сумерками барьера, и звали, и манили его.
Он подумал о своей матери, коротающей дни в безмятежном одиночестве вдали от беснующегося Времени, подумал о красотах эльфийской земли, смутно знакомых ему по магическим воспоминаниям, перешедшим к нему от Лиразели. Он вовсе перестал обращать внимание на негромкие голоса Земли за спиной. Вместе со всеми этими голосами перестали существовать для Ориона все обычаи людей и их человеческие нужды, и все, что они планируют, все, ради чего трудятся не покладая рук, и на что надеются. И все маленькие победы, которых люди достигают упорством и терпением, потеряли для него значение. В своем новом знании, пришедшем с той стороны границы и заключавшемся в том, что и в его жилах течет волшебная кровь, Орион немедленно захотел отринуть свою зависимость от Времени и оставить земли, что пребывали под его суверенной властью и были задавлены его тиранией. А оставить их он мог, сделав всего лишь пять коротких шагов, которые перенесли бы его в край безвременья, где его мать сидела подле своего царственного отца и правила вместе с ним зачарованным миром с высоты туманного трона. Иными словами, Орион уже не считал Эрл своей родиной; привычный человеческий образ жизни больше не подходил ему и людские поля не годились для его ног! Вершины Эльфийских гор стали для него тем же, чем являются для усталых работников, возвращающихся вечером с полей, гостеприимные соломенные крыши их родной деревни; неземное, сказочное стало для него домом.
Сумеречная граница, на которую Орион слишком долго смотрел, заколдовала его. В ней было заключено гораздо больше магии и волшебства, чем в любом земном вечере. Конечно, среди людей найдутся такие, кто сможет долго глядеть на туманный барьер, а потом равнодушно отвернуться, однако Ориону было не так-то просто это проделать. Магия могла зачаровать любое земное существо, но все они поддавались ее воздействию медленно, тяжело, неохотно. Кровь же Ориона откликнулась мгновенной, жаркой вспышкой.
Орион шагнул вперед, чтобы разом покончить со всеми мирскими заботами и разорвать связь со всеми земными вещами. Однако как только его нога коснулась сумерек, пес, сидевший в траве у живой изгороди в томительном ожидании обещанной погони, слегка потянулся и издал один из тех нетерпеливых звуков, что кажутся человеческому уху больше всего похожими на визгливый зевок. Услышав его, Орион, в котором на мгновение возобладала старая привычка, повернулся к собаке и, наклонившись, потрепал ее за ухом в знак прощания. Но тут уже все псы окружили его и принялись заглядывать в глаза и тыкаться в ладони влажными носами. Неожиданно оказавшись в самой середине пришедшей в движение своры, Орион, еще мгновение назад грезивший о сказочном мире и в мыслях своих плывший над просторами Страны Эльфов и взбиравшийся по склонам волшебных гор, неожиданно поддался голосу своей земной природы. Дело было совсем не в том, что ему больше нравилось охотиться, чем жить вместе с матерью за гранью времен в стране своего деда, или Орион так любил своих собак, что не мог их покинуть. Просто его предки по отцовской линии веками предавались охоте — точно так же, как предки по матери в своем безвременье практиковали магическое искусство. Его влечение к волшебству было сильней, пока он смотрел на что-то магическое, но стоило ему отвернуться, и земные корни с не меньшей силой позвали его к охоте. Прекрасная сумеречная граница только что манила Ориона в волшебную страну, но уже в следующее мгновение гончие позвали его в другую сторону. Для каждого из нас бывает сложно не поддаться воздействию внешних обстоятельств.
Некоторое время Орион раздумывал, стоя среди своих гончих и пытаясь решить, какой путь ему следует избрать. Он сравнивал покойные и неторопливые века, что едва текли над бестревожными лужайками и сонными чудесами Страны Эльфов, с жирной и темной пашней, с раздольными пастбищами и невысокими живыми изгородями Земли. Но рядом с ним были псы, они скулили, толкали его носами, ластились, заглядывали в лицо, разговаривали с ним, если умеют говорить лапы, хвосты и большие карие глаза, требующие: «Прочь отсюда, прочь!» Среди всей этой толчеи думать как следует было нельзя. Орион никак не мог ни на что решиться, так что псам в конце концов удалось настоять на своем. И тогда они вместе со своим хозяином отправились домой через поля, которые хорошо знали.
Глава XXII Орион встречает доезжачего
Множество раз на излете зимы Орион возвращался со своей сворой к удивительной границе и ждал там, в сгущающихся земных сумерках. Несколько раз ему удалось увидеть единорогов, огромных и прекрасных, похожих в темноте на белые тени, что бесшумно прокрадывались на нашу сторону в часы, когда затихали земные поля. Но он не принес в Эрл больше ни одного рога, потому что больше не охотился. Единороги, если и появлялись, то удалялись от границ волшебной страны всего на несколько шагов, и Ориону никак не удавалось отбить от стада ни одного из них. В одной из попыток он едва не потерял всех своих гончих; некоторые из них были уже внутри волшебной границы, когда с помощью кнута Ориону удалось вернуть их обратно. Еще несколько ярдов, и зов его земного рога уже никогда не достиг бы их ушей. Именно после этого случая Орион понял, что несмотря на всю власть, которую он имел над своей сворой, в одиночку, без посторонней помощи, ему будет очень трудно сдерживать гончих. Слишком уж близко охотился Орион к границе, попав за которую собаки могли пропасть навсегда.
Он стал присматриваться к вечерним играм парней Эрла и вскоре наметил троих, которые превосходили остальных в силе и ловкости. Из этих троих двое годились для того, чтобы стать доезжачими, так что в конце концов после завершения вечерних игрищ Орион отправился в дом первого из них, обладавшего удивительным проворством. Парень был дома.
Дверь открыл отец юноши. Когда Орион вошел, намеченный им кандидат и его мать поднялись навстречу ему из-за стола, за которым ужинали. Молодой лорд приветливо осведомился, не согласится ли парень пойти с его сворой, чтобы кнутом водворять на место тех, кто попробует свернуть в сторону.
В доме вдруг наступила тишина. Всем в Эрле было известно, что Орион охотится на странных зверей и посещает со своей сворой странные места. Никто из жителей селения ни разу не переступал границ полей, которые мы знаем. Этот парень тоже боялся отправляться за пределы известного мира, да и родители его не имели настроения отпускать сына неизвестно куда. В конце концов неловкое молчание было нарушено многочисленными извинениями, невнятными отговорками и недоговоренными фразами. Орион понял, что юноша никуда не пойдет.
Тогда он пошел домой ко второму кандидату.
Здесь тоже горели свечи и был накрыт стол, за которым ужинали молодой человек и две пожилые женщины. Им-то и рассказал Орион о том, как сильно он нуждается в доезжачем, а потом спросил юношу, не согласится ли он стать его подручным на охоте. Обе пожилые женщины в один голос вскричали, что парень слишком молод, что он уж не может бегать так быстро, как когда-то, что он не достоин такой великой чести и что собаки никогда не будут ему послушны. Они приводили еще многие другие доводы, пока не стали путаться и повторяться.
Орион покинул их, направившись к домику третьего. Но и там повторилась та же история. Несмотря на то что старейшины отчаянно желали для Эрла хоть какого-нибудь волшебства, непосредственное соприкосновение с ним, даже простая мысль о чем-нибудь магическом, смущали и пугали простых жителей. Никто так и не захотел уступить лорду своего сына, чтобы он скитался неизвестно где и сталкивался с тварями, чьи свойства были изрядно преувеличены мрачными слухами, расползавшимися по селению подобно большой и зловещей туче.
Поэтому Орион снова отправился в путь один, сопровождаемый только сворой, которую он вывел из долины на возвышенности и заставил бежать на восток — туда, куда так не хотели идти люди Земли.
Стоял конец марта. Орион спал в башне своего замка, когда ранним и свежим утром до его слуха донесся откуда-то снизу задорный и звонкий крик петухов. Блеяние овец с далеких холмов тоже проникло в спальню, чтобы разбудить Ориона. Петухи внизу продолжали громко орать, вторя весне, чей голос разносился над землей вместе с солнечным светом. Орион встал с кровати и тут же спустился на псарню. Вскоре работники, первыми вышедшие в поля, увидели, как он поднимается по крутому откосу долины вместе со всеми своими пятнадцатью гончими, которые издалека напоминали просто светло-коричневые пятна на зеленой траве. И тем же порядком он снова заспешил через поля, которые мы знаем, и еще до того, как село солнце, достиг той полоски земли, от которой все люди отворачивали свои взоры, где среди плодородного бурого глинозема все дома стояли, обратившись дверьми на запад, и где на востоке сверкали над сумеречной границей бледно-голубые вершины Эльфийских гор.
Орион пошел со своими собаками вдоль последней живой изгороди, чтобы оказаться поближе к границе, но не успел достичь ее, как вдруг увидел совсем рядом лису, которая выскользнула из самой толщи зачарованного барьера и, пробежав несколько шагов по траве, снова нырнула в него, вильнув пушистым хвостом. Орион остановился, чтобы посмотреть, что лисица станет делать дальше, и вскоре зверек снова ненадолго появился в полях, которые мы знаем, и тут же шмыгнул обратно в мерцающие сумерки. Гончие тоже следили за странным поведением лисы, не выказывая, впрочем, никакого особенного желания ринуться за ней в погоню, так как они уже попробовали крови легендарного единорога.
Орион немного прошелся вдоль сумеречной стены, шагая в том же направлении, куда бежала лиса, и его любопытство все возрастало, так как пушистая бестия то и дело выскакивала из туманной мглы и снова скрывалась в ней. Гончие, напротив, следовали за ним нехотя, очень быстро утратив всякий интерес к тому, что проделывает какая-то дурацкая лиса. Загадка ее необычного поведения разъяснилась в один миг, когда из сумерек неожиданно выскочил не кто иной как Лурулу. Это с ним играла лисица.
— Человек, — громко сказал на языке троллей Лурулу, обращаясь то ли к самому себе, то ли к лисице, своей подруге по играм.
Орион сразу вспомнил существо, которое когда-то появилось в его детской с амулетом времени на пальце и которое так забавно прыгало по полкам и потолку, не на шутку разозлив Жирондерель, опасавшуюся за свою посуду.
— Тролль! — воскликнул Орион на том языке, слова которого нашептывала ему Лиразель, рассказывая сказки народа троллей и напевая ему их древние песни.
— Кто ты, знающий язык троллей? — спросил Лурулу.
Орион назвал свое имя, но оно ничего не говорило троллю. Впрочем, он тут же присел, чтобы немного порыться в том, что заменяет троллям нашу человеческую память, и, перебирая множество мелких воспоминаний, избежавших губительного влияние времени, царящего в знакомых нам полях, и сонной апатии эльфийского безвременья, почти сразу наткнулся на впечатления, оставшиеся от посещения Эрла. Тогда тролль внимательно посмотрел на Ориона и принялся размышлять. Но тут Орион назвал ему имя своей августейшей матери, и Лурулу тотчас исполнил то, что известно среди троллей Страны Эльфов как «самоуничижение по пяти точкам», а именно пал на колени и прикоснулся к земле лбом и локтями. Выразив таким образом свои чувства, он взвился в воздух высоким прыжком, так как почтение было вовсе не в его характере.
— Но что ты делаешь в человеческих полях? — спросил Орион.
— Играю, — ответил Лурулу.
— А чем ты занимаешься в Стране Эльфов?
— Наблюдаю время, — сказал тролль.
— Мне бы это было неинтересно, — небрежно заметил Орион.
— Просто ты никогда не пробовал, — возразил Лурулу. — В человеческих полях нельзя этим заниматься.
— Почему? — удивился Орион.
— У вас время слишком резвое.
Молодой лорд некоторое время обдумывал ответ, однако так ничего и не понял, так как, ни разу не побывав за пределами известных нам полей, он был знаком только с ходом нашего, земного времени, сравнить которое Ориону было не с чем.
— Сколько лет пронеслось над тобой с тех пор, как мы в последний раз виделись в Эрле? — задал вопрос Лурулу.
— Лет? — переспросил Орион.
— Должно быть, не меньше ста, — предположил Лурулу.
— Почти двенадцать, — сказал Орион. — А над тобой?
— А для меня все еще сегодня, — беспечно ответил тролль.
Ориону сразу расхотелось говорить о времени. Ему не нравилось обсуждать вопросы, в которых он разбирался гораздо хуже какого-то тролля.
— Не согласился бы ты быть моим доезжачим и с кнутом бежать за моими гончими во время охоты на единорогов в человеческих полях? — спросил он.
Лурулу внимательно посмотрел на собак и заглянул в их темно-карие глаза, а псы потянулись к нему исполненными подозрений носами и стали принюхиваться.
— Это же собаки, — сказал Лурулу с таким видом, словно сей факт говорил не в их пользу, — но у них приятные мысли.
— Значит, ты согласен? — уточнил Орион.
— М-м… да, пожалуй, — кивнул тролль.
И тут же, не сходя с места, Орион вручил ему свой собственный длинный кнут, а сам затрубил в рог и в сумерках пошел прочь, велев Лурулу собрать свору и вести ее следом.
При виде тролля с хлыстом псы слегка забеспокоились и снова начали принюхиваться к нему, однако так и не смогли признать в нем человека. Подчиняться же существу, которое было не больше их ростом, гончим не хотелось. В первый момент они подбежали к нему просто из любопытства, а насытив его, стали с отвращением разбегаться в разные стороны, мигом позабыв об охотничьей дисциплине. Оказалось однако, что многочисленными способностями щуплого на вид тролля не стоило пренебрегать, да еще с таким вызывающим видом. Кнут в руке существа с той стороны границы, казавшийся в его тонких пальцах втрое больше обычного, неожиданно взлетел вверх, потом метнулся вперед и с сухим щелчком коснулся кончика собачьего носа. Пес взвыл, удивленно оглядываясь, а его товарищи неуверенно замерли на полушаге, очевидно полагая все происшедшее случайным, но кнут снова свистнул в воздухе и с меткостью еще большей щелкнул по другому собачьему носу. Тогда гончие увидели, что вовсе не слепой случай направил эти жалящие удары, а точный глаз и верная рука. С этого момента вся свора стала почтительно благоговеть перед Лурулу, хотя от него вовсе не пахло человеком.
Не успел Орион отойти от границы и на сотню шагов, как бледно-голубые вершины Эльфийских гор пропали из вида, так как их немеркнущие пики были скрыты плотной темнотой земного вечера, сгущавшегося над полями, которые мы хорошо знаем. Он шел домой в этой темноте со своими гончими, и ни одна овчарка не охраняла стада на кишащих волками пустынных нагорьях так надежно и не собирала овец такой тесной группой, как Лурулу собирал свору. Он появлялся то слева от нее, то справа, то сзади и, в зависимости от того, куда направлял свои стопы нарушитель порядка, мог даже перепрыгнуть через всю стаю, мгновенно оказываясь там, где требовалось его участие.
Они шли долго, и вскоре над их головами загорелись в вышине россыпи удивительных земных звезд. Лурулу то и дело задирал голову, чтобы полюбоваться на них, как некогда делали это все мы. Однако большую часть времени его внимание оставалось приковано к гончим, так как теперь тролль оказался в мире Земли и не мог не озаботиться здешними делами. Ни разу не случилось так, чтобы замешкавшийся пес не отведал кнута Лурулу. Кнут с резким хлопком опускался на нос или на кончик хвоста ослушника, и тогда в воздух взлетали щепотка пыли, несколько рыжеватых волосков или вырванных из кнута волокон. Пес взвизгивал и спешил нагнать свору, а все остальные знали, что направленный твердой рукой удар снова попал в цель.
Уверенность в обращении с кнутом, меткость удара и даже определенное изящество обычно приходят к человеку, который посвятил ремеслу доезжачего целую жизнь, то есть примерно двадцать лет постоянных упражнений.
Иногда это искусство практикуется в семьях, передаваясь от отца к сыну, и это намного лучше и эффективнее, чем годы тренировки. Но ни многолетняя практика, ни вошедшая в плоть и кровь привычка к кнуту не дают такой меткости, какую может дать магия. Взмахи кнута Лурулу, столь же быстрые, как рефлекторный поворот глаза, и удары точно в намеченное место, такие же прямые, как взгляд в упор, несомненно, не имели ничего общего с нашей Землей. Хотя постороннему человеку могло показаться, что кнут трещит и хлопает точно так же, как и в руках обычного охотника, все собаки на собственных шкурах убедились, что Лурулу владеет им со сноровкой, превосходящей человеческую.
Когда Орион стал спускаться со своими гончими и со своим новым доезжачим в долину, над которой, поднимаясь из труб, уже вставали ранние дымки, в небе появились первые признаки рассвета. Пока они шли по улице, с обеих сторон им подмигивали вспыхивающие в окнах огни, однако, когда они наконец добрались до пустых собачьих вольеров, в селении все еще властвовали ночной холод и тишина. После того как гончие свернулись клубочками на своих соломенных подстилках, Орион нашел место и для Лурулу. Он поселил его на заброшенном чердаке, где валялись лишь пустые мешки и несколько охапок сена да дремало на стропилах с полдюжины голубей, не захотевших вернуться в голубятню на крыше. Орион оставил тролля, а сам отправился к себе в башню, отупев от недосыпа и голода. Чувствуя усталость, о которой он наверняка даже не вспомнил бы, если бы удалось найти единорога. Впрочем, болтовня тролля, которого он повстречал у сумеречной границы, наверняка напугала этих осторожных животных, сделала дальнейшее ожидание бесполезным.
Молодой лорд заснул, но троллю на чердаке не спалось. Он долго сидел на охапке соломы и наблюдал, как течет время. Сквозь трещины в рассохшихся ставнях ему было видно движение звезд по небосводу. Потом он заметил, что звезды поблекли, а еще некоторое время спустя обратил внимание, как набирает силу совсем иной свет, и стал свидетелем удивительного чуда — восхода солнца. Лурулу исследовал полутьму чердака, наполненную воркованием голубей, и некоторое время потешался над их беспокойными повадками, в то время как его чуткие уши ловили шорох и возню других птиц в ветвях соседних вязов, шаги людей, бредущих ранним утром на работы, голоса коров и лошадей, тарахтенье повозок и многие другие звуки. Все они дышали одним — переменами, которые принесло с собой утро, и Лурулу обрадовался, что попал в край перемен. Да что там долина — вся Земля непрерывно менялась! Гниение досок, из которых был сколочен чердак, рост мха на штукатурке стен, тление мусора в щелях пола — все пело одну и ту же песню о переменах, которых не избежит ничто.
Тролль сначала подумал о вековом спокойствии, хранящем красоту Страны Эльфов, а потом и о своем племени, гадая, что бы сказали его сородичи если бы увидели Землю…
Голуби в панике слетели со стропил, напуганные раскатами громкого смеха Лурулу.
Глава XXIII Лурулу наблюдает суету Земли
День клонился к закату, а Орион все еще спал. Умаявшиеся вчера гончие тихо лежали в вольерах, равнодушно поглядывая вокруг, а ходьба же людей внизу и громыхание их телег не имели к Лурулу никакого отношения. Он начал чувствовать себя одиноко. Другое дело — лесистые долины, где обитают бурые тролли; там их так много, что никто не чувствует себя одиноким, и все как один сидят смирно и наслаждаются либо красотой Страны Эльфов, либо собственными нечестивыми мыслями. Лишь в редкие моменты, когда зачарованная страна просыпается и выходит из состояния естественного покоя, над полянами разливается их веселый смех. Тролли в волшебной стране были не более одинокими, чем кролики в своей колонии на укосине солнечной луговины. Но в полях Земли находился только один тролль, и было ему грустновато.
Заметив открытую дверцу голубятни, Лурулу заинтересовался. Она располагалась футах в десяти от двери сеновала и футах в шести выше нее. На сеновал вела лестница, прибитая к стене железными скобами, однако между чердаком и голубятней никаких ступенек не сколотили, скорее всего, для того, чтобы этим путем не лазили кошки. Но главное — из распахнутой дверцы голубятни доносились воркующие звуки жизни, которые и привлекли внимание одинокого тролля.
Прыжок от одной двери до другой был для Лурулу парой пустяков, так что он приземлился в голубятне, даже не утратив гримасы своего обычного нахального дружелюбия на лице. Однако испуганные птицы ринулись к своим окошкам в такой панике, что едва не оглушили его хлопаньем крыльев, и в считанные секунды тролль снова остался один как перст.
Оглядев голубятню изнутри, Лурулу сразу же решил, что здесь ему нравится. Больше всего ему пришлись по душе многочисленные следы кипящей здесь жизни: почти целая сотня, полочек-гнезд из сланца и известки, тысячи перьев и острый запах плесени. Старинная простота и спокойствие сонной голубятни показались Лурулу почти родными, а огромные, забитые пылью паутины, затянувшие углы, лишь добавляли ей уюта. Правда, тролль не знал толком, что это такое, так как никогда не видел паутины в Стране Эльфов, однако это не помешало ему по достоинству оценить изящество и мастерство, с которыми она была сплетена.
И действительно; почтенный возраст старой голубятни, затянутые паутиной углы, отставшая штукатурка, обнажавшая красный кирпич стен, подгнившая дранка на потолке и неструганые, рассохшиеся доски пола придавали здешней сонной атмосфере некоторое сходство с вечным покоем Страны Эльфов. Однако и под голубятней, и вокруг нее Лурулу то и дело замечал нарастающую суету земного дня. Даже лучи солнца, попадавшие сюда сквозь круглые вентиляционные отверстия и ложившиеся на обшарпанную стену, чуть заметно двигались.
Снаружи послышалось хлопанье крыльев и цокот коготков по сланцевой черепице крыши — шум возвращающейся голубиной стаи, однако забираться внутрь птицы не спешили. Лурулу, бросив взгляд в один из летков, увидел на расположенной чуть ниже крыше ближайшего сарая большую тень голубятни, по коньку которой носились из стороны в сторону суетливые тени птиц.
Полюбовавшись старым седым лишайником, покрывавшим большую часть нижней крыши, на сером фоне которого очень красиво выделялись аккуратные желтые пятна более молодого лишайника, Лурулу стал прислушиваться. Где-то шесть или семь раз крякнула утка, потом раздались шаги человека, пришедшего в стойло внизу, чтобы вывести лошадь. Сонно тявкнула только что проснувшаяся дворняга, с неистовым криком пронеслись высоко в небе спугнутые кем-то галки, гнездившиеся на башне замка. Проследив за их полетом, Лурулу неожиданно заинтересовался низкими кучевыми облаками, которые быстро плыли над вершинами далеких холмов. Потом его отвлекли крик дикого голубя, скрывавшегося в густых ветвях ближайшего дерева, и голоса нескольких мужчин, которые прошли прямо под голубятней. Некоторое время спустя Лурулу к своему огромному изумлению вдруг заметил то, на что в его прошлый визит на Землю было просто недосуг обратить внимание. Оказывается, здесь даже тени домов двигались, и пока тролль прислушивался и глазел по сторонам, тень голубятни, в которой он сидел, чуть-чуть переместилась по крыше внизу, закрыв своим краем самое большое и красивое пятно молодого желтого лишайника.
Это было поразительно! Постоянное движение и нескончаемые перемены! И Лурулу принялся в волнении сравнивать эту открывшуюся ему потрясающую истину с глубоким и безмятежным покоем своего собственного дома, где мгновения шли гораздо медленнее, чем двигались тени домов на Земле, и не проходили до тех пор, пока все заключенное в них удовольствие не вычерпывалось до дна всеми обитающими в Стране Эльфов существами.
А потом в шелесте и посвисте крыльев стали возвращаться голуби. Они слетали с самых высоких башен замка, где на время укрылись от напугавшего их незнакомого, странного существа, так как чувствовали себя в безопасности под защитой огромной высоты и почтенного возраста зубчатых бастионов. Они присаживались на перекладины летков и, наклонив головы набок, одним глазом смотрели на тролля, а он смотрел на них. Некоторые голуби были чисто белыми, однако у сизых шейка была с радужными переливами, не менее прекрасными, чем краски, что составляли славу и великолепие Страны Эльфов. Лурулу, тихо сидевший в углу под их настороженными взглядами, захотелось завоевать доверие этих разборчивых существ.
Суматошные дети беспокойного эфира и Земли по-прежнему не спешили влететь в голубятню, и тролль попытался успокоить их, прибегнув к такому верному средству, как привычная голубиному племени суетливая беготня, которой — так ему, во всяком случае, показалось — с наслаждением предаются все, кто живет в известных нам полях. Лурулу вдруг высоко подпрыгнул, одним махом взлетев на каменную полочку, потом метнулся к противоположной стене, а оттуда обратно к двери. Но его старания были вознаграждены лишь испуганным хлопаньем крыльев, уносивших своих обладателей подальше от опасности. Только через некоторое время тролль догадался, что голуби предпочитают тишину и покой.
Вскоре снова раздался шорох возвращающихся крыльев, топот маленьких лапок по крыше и скрежет коготков по сланцу, однако и на этот раз птицы не сразу вернулись в голубятню.
Одинокий тролль коротал время, выглядывая из окошек и наблюдая обычаи Земли. На нижней крыше он заметил трясогузку. Он следил за ней, пока она не набегалась и не исчезла. Два воробья слетели на землю, где было рассыпано зерно, их Лурулу тоже не обошел своим вниманием. Все эти птицы были троллю в диковинку, и потому за каждым движением воробьев он следил с таким же интересом, с каким мы наблюдали бы за поведением птицы незнакомого нам вида. А когда воробьи улетели, на пруду снова закрякала утка, и голос ее прозвучал столь многозначительно, что Лурулу потратил целых десять минут, пытаясь расшифровать смысл ее речи, но в конце концов, отвлеченный другими любопытными событиями, бросил это занятие.
В небе пронеслись галки. Их крики звучали почти игриво, и тролль не обратил на них внимания, зато долго прислушиваются к возне голубей, которые так упорно не хотели возвращаться в голубятню. Он не пытался перевести, что они говорят, просто Лурулу нравилась их негромкая, чуть картавая речь. Он думал, что они рассказывают друг другу историю жизни на Земле, и это его тоже вполне устраивало. Слушая негромкие голоса голубей, тролль решил, что Земля, должно быть, существует уже довольно давно.
А за гребнями крыш вставали высокие деревья, еще голые, за исключением вечнозеленых дубов, нескольких лавров, сосен, тисов и плюща, карабкавшегося вверх по стволам. Почки на буках готовы были вот-вот лопнуть, и солнце так весело играло на ветвях и листве, что лавры и плющ буквально сияли в его отраженном свете. Потом откуда-то прилетел ветер и принес с собой дым близкого очага. Лурулу сразу посмотрел в ту сторону и увидел высокую стену, сложенную из серого камня, которая ограждала разнежившийся в лучах весеннего солнца сад, и ранняя бабочка, беспечно порхавшая в чистом солнечном воздухе, вдруг устремилась к нему, а по тропинке в саду медленно прошествовала пара павлинов.
Пока Лурулу наблюдал, как тени домов наползают на нижние ветви сверкавших под солнцем деревьев, и слушал петушиный крик и собачий лай, на крыши внезапно пролился легкий дождь, и голуби немедленно захотели вернуться домой. Они появились в отверстиях летков и стали искоса рассматривать тролля. На сей раз Лурулу вел себя очень тихо, и через несколько секунд голуби убедились, что странное существо хотя и не является их собратом, все же не может принадлежать и к кошачьему племени. После этого они уже без опаски вернулись на улицы своего крошечного поселка под крышей голубятни, чтобы в уюте и тепле рассказывать древние сказки. Лурулу захотелось порадовать птиц чудесными сказками своего народа и драгоценными легендами Страны Эльфов, однако он быстро обнаружил, что голуби не понимают языка троллей, поэтому он уселся на полу и стал слушать, как они разговаривают между собой. Скоро ему начало казаться, что их воркующая речь призвана успокоить суету Земли и что, возможно, это и не речь вовсе, а сонное заклятье против самого Времени, благодаря которому оно не может причинить вреда голубиным гнездам. Лурулу так думал, потому что природа нашего времени еще не была ему ясна, и он пока не знал, что никто и ничто в наших полях не в силах противостоять его стремительному бегу. Голубиные гнезда были выстроены на развалинах старых гнезд — на толстом слое разных отходов и мусора, который Время рассыпало по полу голубятни, точно так же как за стенами ее все существующее стояло на спрессованных обломках древних скал. Всеобъемлющая беспрестанность этого процесса разрушения еще не была понятна троллю до конца, так как его острый ум предназначен прежде всего для того, чтобы его обладатель чувствовал себя комфортно в тишине и спокойствии зачарованной страны эльфов. Потому в первую очередь Лурулу задумался о вещах менее значительных. Видя, что голуби успокоились и ведут себя вполне дружелюбно, тролль спрыгнул на сеновал и вернулся с охапкой сена, которую и расстелил в углу, чтобы устроиться со всем удобством. Голуби же, смешно дергая шеями, поглядели на него искоса, однако в конце концов, видимо, решили принять тролля в качестве постояльца, а он свернулся на своей подстилке и стал дальше слушать историю Земли, которую, как ему казалось, рассказывали эти мирные птицы, хотя он и не понимал ни слова из их языка.
Время шло неумолимо, и тролль почувствовал, что ему хочется есть. Он проголодался гораздо скорее, чем в Стране Эльфов. Там всякий раз, чтобы насытиться, ему достаточно было просто протянуть руку и сорвать несколько ягод, висевших на нижних ветвях деревьев, окаймлявших тролличьи укромные лощины. Именно потому, что тролли едят эти ягоды всякий раз, когда их настигает голод, эти удивительные плоды называют тролленикой.
Лурулу спрыгнул с голубятни и, выбравшись с чердака, отправился разыскивать заросли тролленики, но не нашел вообще никаких ягод, потому что ягоды поспевают только в определенное время года. Это можно отнести к одной из шуток времени. Для тролля мысль о том, что все ягоды на Земле должны поспеть и отойти в течение одного сезона, казалась слишком удивительной, чтобы вообще прийти в голову. К тому же все внимание Лурулу было поглощено человеческими домами, которые обступили его со всех сторон. Он внимательно рассматривал их и вдруг заметил в полутьме одного из навесов крысу, которая медленно пробиралась по своим делам. Крысиного языка Лурулу, конечно, не знал, однако когда двое, пусть они даже принадлежат к разным племенам, стремятся к одному и тому же, каждый из них каким-то удивительным образом с первого взгляда понимает, чего хочет другой. Все мы отчасти слепы в том, что касается чужих желаний, однако стоит нам встретить кого-то, чей интерес совпадает с нашим, и мы очень скоро догадываемся об этом без всяких слов. И потому, стоило только Лурулу заметить крысу, как он сразу же понял, что она ищет еду, и тогда он бесшумно пошел за ней.
Вскоре крыса нашла мешок овса, открыть который ей не составило труда. Она вскрыла его так же быстро, как расправилась бы со стручком гороха, и принялась наслаждаться едой.
— Ну как? Вкусно? — спросил тролль на своем языке.
Крыса с подозрением покосилась на него, сразу отметив и его сходство с человеком, и его отличие от собак. В целом же Лурулу, скорее, разочаровал ее, поскольку, смерив его долгим взглядом, крыса молча отвернулась и, переваливаясь, выбралась из-под навеса. Лурулу тоже поел овса и нашел его довольно приятным.
Наевшись, тролль вернулся в голубятню и долго сидел там возле одного из маленьких окошек, глядя поверх крыш на то, как странно идет на Земле время. На его глазах тени поднялись по деревьям выше и солнечный блеск померк на глянцевых листьях лавров, а плющи и каменные дубы стали из серебристо-седых бледно-золотистыми. Тени все ползли и ползли, и весь мир постоянно менялся.
Лурулу увидел, как старик с длинной и узкой белой бородой медленно приблизился к вольерам и, отворив дверцу, вошел внутрь и стал кормить гончих мясом и требухой, которую вынес из сарая. Вечерняя тишина сразу же огласилась нетерпеливыми голосами псов. А старик уже выбрался из вольера и побрел прочь, и его медлительный шаг показался внимательному троллю как нельзя более соответствующим всеобщей суете Земли.
Потом появился еще один человек, который не торопясь привел лошадь и поставил ее в стойло под голубятней. Когда он ушел, лошадь аппетитно захрупала засыпанным в кормушку овсом.
Тени вползали все выше. Вот солнце в последний раз скользнуло по вершинам самых высоких деревьев и по макушке колокольни, и красноватые почки на самых верхних ветвях буков вспыхнули, словно тусклые рубины. Бледно-голубое небо застыло, охваченное удивительным безмятежным спокойствием; лениво плывущие по нему белые тучки окрасились огненно-желтым, и на их фоне пронеслась стайка черных грачей, спешащих на ночлег в какую-нибудь тихую рощу у подножья холмов.
Более мирную картину трудно себе представить, но для тролля, который наблюдал из гнилой, заваленной кучами пыльных перьев голубятни, шумная перекличка летящих грачей, суетливый трепет множества черных, рассекающих небо крыльев, громкая трапеза лошади в стойле, ленивое шарканье возвращающихся домой ног и скрип закрываемых ворот и калиток служили еще одним доказательством, что в полях, которые мы знаем, ничто и никогда не пребывает в покое. Поэтому сонный и ленивый поселок, который дремал в долине Эрл, казался простодушному Лурулу средоточием всей земной суеты и беспокойства.
Пришло время, когда солнечный свет ушел даже с вершин далеких холмов, и над голубятней засияла тоненькая молодая луна. Из своего окошка Лурулу не мог ее видеть, однако сразу заметил, что вечерний воздух приобрел какой-то новый оттенок. И все эти постоянные перемены так сильно озадачили и взволновали его, что на мгновение он даже задумался о немедленном возвращении в Страну Эльфов, однако еще больше ему хотелось удивить и других троллей.
Пока это желание не успело его покинуть, Лурулу выбрался из голубятни и отправился искать Ориона.
Глава XXIV Лурулу рассказывает о Земле и о повадках людей
Когда тролль нашел Ориона в замке, он тут же изложил ему свой план. Суть его сводилась к тому, что для лучшего управления сворой требовалось сразу несколько доезжачих, так как одному Лурулу трудно уследить за каждой собакой и не дать ей заблудиться в сумерках, окружавших Страну Эльфов. Там, всего в нескольких ярдах от полей, которые мы знаем, начинались пространства, откуда отбившаяся гончая если и вернулась бы когда-то, то валясь с ног от усталости, так как за полчаса, проведенных в зачарованной стране, она состарилась бы на несколько лет. У каждой собаки, заявил Лурулу, должен быть свой тролль, который бы оберегал ее, бежал рядом во время охоты и ухаживал за ней, когда голодный и грязный пес возвращается на псарню.
Орион сразу понял несравненные преимущества этого плана, благодаря которому каждой гончей в его своре управлял бы пусть не великий, но внимательный и острый разум, и велел Лурулу отправляться за троллями. Пока гончие мирно спали, сбившись для тепла в груды на полу двух своих вольеров, тролль стремительно мчался в Страну Эльфов, держа курс через поля, которые мы знаем, и через сумерки, что начинаются там, где заканчивался лунный свет.
По пути он миновал беленый фермерский домик, горевший в темноте ярко-желтым окном, и в лунном свете стены его казались бледно-голубыми. Здесь две сторожевые собаки почуяли тролля и, громко залаяв, увязались в погоню. В другой день Лурулу непременно провел бы их каким-нибудь особенным способом и в конце концов оставил бы псов в дураках, но сегодня его разум был до краев полон предстоящей задачей, поэтому он остался совершенно равнодушен к преследователям. Легко скользя над венчиками трав, Лурулу продолжал нестись вперед длинными прыжками, и скоро обе собаки, запыхавшись, отстали.
Задолго до того, как в преддверии рассвета успели поблекнуть звезды, Лурулу достиг барьера, отделявшего наши поля от общего дома существ, подобных ему самому, и, совершив высокий прыжок через сумеречную стену, покинул привычную нам ночь и приземлился на четвереньки на землю своей родной страны, над которой сиял бесконечный эльфийский день. Спеша удивить своих сородичей новостями, Лурулу помчался дальше, рассекая телом неподвижный и плотный воздух волшебной страны. Издавая на бегу характерные скрипучие крики, при помощи которых тролли сзывают свой народ, он прискакал на торфяники, где в своих странных жилищах обитают тролли. Миновав болотистую равнину, Лурулу достиг леса, где в дуплах огромных деревьев жили другие тролли. В лесу он тоже несколько раз громко проверещал, сзывая своих сородичей. И очень скоро среди цветов в лесной чаще раздался такой громкий шорох, словно вдруг подули все четыре ветра сразу, и этот шорох все нарастал, и тролли, один за другим выскакивая из травы, рядами усаживались вокруг Лурулу. Из пустотелых древесных стволов, из поросших папоротником ложбинок появлялись все новые и новые сородичи, и с дальнего края болот подходили целые семьи, обитавшие там в высоких и тонких гомагах, как называются в Стране Эльфов эти странные домики, сделанные из похожей на холст серой ткани, которая наподобие палатки свешивается с шеста. В человеческом же языке для именования этих жилищ просто нет подходящего слова.
Явившиеся на зов Лурулу существа рассаживались вокруг него, освещенные мягкими переливами волшебного света, распространяющегося между сказочными деревьями, чьи высокие стволы намного переросли старейшие из наших сосен, и сверкающих свечами кактусов, о которых наш мир имеет лишь смутное представление. Когда многочисленные тролли наконец собрались и вся лужайка побурела от их тел, Лурулу заговорил с троллями, рассказав им о времени.
Никогда прежде никто в Стране Эльфов не слыхивал ничего подобного. Правда, из врожденного любопытства тролли иногда забирались в поля, которые мы знаем, но Лурулу, побывавший в селении Эрл, единственный имел представление о том, что происходит в гуще людской жизни. Время в поселке, объяснил он троллям, движется со скоростью еще более удивительной, чем над лугами и полями Земли; и в подкрепление своих слов Лурулу рассказал, как менялся свет, как ползли тени и воздух то был прозрачным, то светился, то бледнел. Он упомянул и о том, как на короткое время Земля стала походить на Страну Эльфов своим мягким освещением и богатством сумеречных красок, и как в одно мгновение, краткое, словно мысль о далеком доме, свет погас вовсе и исчезли все краски. Потом он рассказал им о звездах. Рассказал о коровах, козах и месяце — трех разновидностях рогатых существ, которые показались ему любопытнее всего, и о многом другом. В конце концов оказалось, что Лурулу нашел на нашей Земле гораздо больше удивительного и прекрасного, чем мы в состоянии припомнить, хотя и мы тоже когда-то видим все это впервые в жизни. Лурулу же не терял времени даром и, познакомившись с обычаями полей, которые мы знаем, приготовил для пытливых троллей десятки занимательных рассказов, которые крепко удерживали их внимание и заставляли сидеть на лесной лужайке под деревьями молча и неподвижно, словно все они действительно были опавшей листвой, прихваченной ночным ноябрьским морозом. О дымоходах и телегах тролли вообще слышали впервые, а описание ветряных мельниц заставило их пережить непродолжительный, но бурный восторг. Словно зачарованные, слушали они об образе жизни и привычках людей, и лишь время от времени — как, например, когда Лурулу рассказывал о шляпах — лес сотрясали громкие взрывы смеха.
Под конец своей зажигательной речи Лурулу заявил, что все они должны непременно своими глазами увидеть и шляпы, и лопаты, и собачьи конуры, и поглядеть в застекленные окна, и побывать на ветряной мельнице. Этим он так разжег троллей, что их бурая масса заволновалась и заходила ходуном. Сородичи Лурулу славятся большим любопытством, однако он не рассчитывал выманить их в наши поля из зачарованной страны, полагаясь лишь на природную любознательность троллей. У него в запасе была еще одна приманка, которая должна была разбудить в троллях еще одно чувство и позвать их в поля и холмы земли. Лурулу заговорил о высокомерных, сдержанных, презрительных, блистательных единорогах, которые заговаривали с троллями не чаще, чем наши коровы беседуют с лягушками, когда приходят к пруду напиться. Все тролли знали, где обитают эти надменные звери, и готовы были следить за их перемещениями и докладывать о них человеку. В награду за это они тоже могли охотиться на единорогов, да с самими собаками! Какими бы поверхностными ни были их знания о собаках, страх перед этими друзьями и помощниками человека был настолько присущ всем, кто привык спасаться бегством, что тролли злорадно захохотали при одной мысли о том, что на единорогов охотятся с собаками.
И так, с помощью злобы и любопытства, Лурулу удалось сделать Землю вдвое привлекательней для своих сородичей, и, чувствуя близкий успех, он тихонько хихикал и жмурился от удовольствия, так как среди троллей никто не пользуется большим уважением, чем тот, кому удастся поразить остальных, продемонстрировать им какой-нибудь загадочный предмет и устроить какую-нибудь веселую шутку или мистификацию. Лурулу сумел показать троллям целую Землю, образ жизни и традиции которой считаются среди тех, кто склонен к рассуждениям и анализу, столь загадочными и странными, сколь только может пожелать себе самый любознательный исследователь.
Но тут встал и заговорил один старый седой тролль — тот самый, что слишком часто пересекал сумеречную границу Земли, чтобы подглядывать за человеческими привычками. Но пока он этим занимался, время добралось до него и сделало из бурого серым.
— Должны ли мы уйти, — торжественно вопросил он, — из лесов, что так хорошо известны нашему народу? Должны ли мы оставить радости и красоты нашей страны, чтобы увидеть что-то новое, но быть в конце концов уничтоженными временем?
В ответ на эти слова по толпе троллей пробежал неясный гул.
— Разве не их человеческое «сегодня» хотим мы увидеть? — продолжал тем временем тролль. — Там они называют это «сегодня», хотя никто толком не знает, что это такое. Вернувшись через границу, чтобы взглянуть на него еще раз, вы его уже не застанете, так как на Земле Время неистовствует и бушует, словно потерявшиеся собаки, которые, забегая на нашу сторону и не умея вернуться домой, то лают, то скулят, то мечутся в испуге и ярости.
— Вот даже как… — сказали на это тролли, хотя ничего не знали наверняка; просто мнение седого тролля имело в лесу определенный вес.
— Давайте же хранить наше «сегодня», — сказал авторитетный тролль, — пока оно у нас есть. Не дадим заманить себя в те края, где «сегодня» так легко потерять, потому что каждый раз, когда люди его теряют, их волосы становятся чуть белее, их руки слабеют, лица делаются печальнее, и все они оказываются на шаг ближе к «завтра».
Он так торжественно и мрачно произнес это последнее слово, что бурые тролли испугались.
— А что происходит с людьми в этом «завтра»? — спросил один тролль.
— Они умирают, — ответил седой тролль, — а остальные копают в земле яму и кладут туда умершего. Я сам видел это своими собственными глазами. А после этого, если верить словам, которые они при этом произносили, человек отправляется на Небеса.
Тролли содрогнулись, и их дрожь далеко разнеслась между деревьями леса.
Лурулу, который все это время сидел молча и сердито слушал, как самый авторитетный тролль порочит Землю, куда он вознамерился отвести своих родичей, чтобы удивить их тамошними чудесами, не выдержал и вскочил, горя желанием сказать свое слово в защиту полей, которые мы знаем.
— Небеса — это очень хорошее место, — с горячностью возразил Лурулу, хотя ему почти не приходилось слышать сколько-нибудь внятных рассказов о них.
— Туда попадают только праведники да блаженные, — парировал седой. — К тому же на Небесах полным-полно ангелов. Что там делать порядочному троллю? Ангелы очень быстро его поймают, потому что, говорят, у ангелов есть крылья. Они будут ловить троллей, а поймав — пороть. И порка может продолжаться целую вечность.
Услышав это, бурые тролли заплакали.
— Ну, нас не так-то легко поймать, — неуверенно возразил Лурулу.
— У ангелов есть крылья, — напомнил седой тролль.
Тролли опечалились еще больше и затрясли головами, так как быстрота крыльев была известна каждому. Правда, птицы Страны Эльфов по большей части парили в ее плотном воздухе, любуясь легендарной красотой, которая обеспечивала им и кров, и пищу и о которой они иногда принимались петь. Но тролли, любившие играть вдоль границы и часто пробиравшиеся в поля, которые мы знаем, видели стремительные петли и пике земных птиц. Поэтому-то каждый хорошо знал, что если за каким-нибудь бедным троллем вдруг устремится пара хищных крыльев, то вряд ли ему удастся спастись.
— Увы! — воскликнули тролли.
Седой больше ничего не сказал, да и что можно добавить к сказанному, коли лес и без того полнился печалью бурых троллей, сидящих под деревьями? Они думали о Небесах, боясь, что попадут туда слишком скоро, если посмеют перебраться на Землю.
Лурулу больше не спорил. Бесполезно спорить сейчас, когда его сородичи слишком печальны, чтобы внимать любым аргументам. Поэтому он заговорил с ними самым мрачным тоном, заговорил о великих и важных вещах, произнося мудрые слова и стоя в позе почтительного благоговения. Если что и способно обрадовать грустящего тролля, так это ученая заумь и торжественность речи, а уж над почтительным благоговением — как и над любым проявлением мудрости — они готовы покатываться со смеху буквально часами. И благодаря этой уловке Лурулу удалось снова привести свою аудиторию в состояние легкомысленного веселья, каковое и является естественным состоянием всякого тролля. Когда же эта цель была достигнута, он снова завел с ними речь о Земле, рассказав несколько историй об эксцентричных привычках и обычаях людей.
Скоро весь волшебный лес вздрагивал и трясся от смеха, и седому троллю никак не удавалось вставить слово, чтобы умерить любопытство и энтузиазм, с новой силой вспыхнувшие в сердцах бурых троллей, стремившихся поскорее узнать, что это за существа такие, живущие в домах из камней, имеющие над головой таинственную шляпу, а еще выше — дымоход. Которые разговаривают с собаками, а со свиньями не хотят, и чья серьезность была смешнее всего, что тролли могли себе представить. Всеми ими овладело страстное желание немедленно отправиться на Землю, чтобы своими глазами увидеть свиней, телеги и ветряные мельницы и вдоволь посмеяться над человеком. Настроение троллей изменилось так быстро, что Лурулу, который обещал Ориону привести не больше двух десятков троллей, пришлось очень постараться, чтобы сдержать эту возбужденную бурую толпу и не дать ей немедленно отправиться в поля, которые мы знаем. Дай им волю, и в Стране Эльфов сейчас не осталось бы ни одного тролля, так как даже седой ветеран передумал и готов был бежать с остальными. В конце концов Лурулу выбрал пятнадцать соплеменников и повел их к таящей множество опасностей границе Земли. Все они с радостью покинули полумрак родного леса, летя над землей, словно подхваченные ветром дубовые листья в ненастную ноябрьскую пору.
Глава XXV Лиразель вспоминает поля, которые мы знаем
Пока тролли вскачь неслись к Земле, чтобы похохотать над человеческими привычками, Лиразель чуть пошевелилась на коленях у отца. Король, торжественный и спокойный, недвижимо просидел на своем троне изо льда и тумана почти двенадцать человеческих лет. Принцесса вздохнула, и ее вздох разнесся над сонными равнинами мечты. Он слегка потревожил покой Страны Эльфов. Рассветы с закатами, смешанные с мерцанием сумерек и бледным светом звезд, служившие зачарованной земле вместо солнца, ощутили эту едва уловимую грусть Лиразели, и их сияние чуть заметно потускнело, так как и магия, сохранившая все эти источники света, и все заклятья, что связали их воедино, чтобы освещать неподвластный Времени край, не могли противостоять печали, что темной волной поднималась в душе принцессы, принадлежащей к эльфийскому королевскому роду. А вздыхала она потому, что даже сквозь удовольствие и покой Страны Эльфов донеслась до нее мысль о Земле.
И тогда среди всего великолепия зачарованной земли, о котором может рассказать только песня, Лиразель вызвала в памяти образы шиповника, первоцвета и некоторых других трав и цветов, что полюбились ей в полях, которые мы знаем. Мысленно выйдя в эти поля, она представила себе Ориона, отгороженного от нее неведомым числом земных лет и живущего ныне где-то по ту сторону волшебной границы. Все магические чудеса Страны Эльфов и вся ее красота, которую нам не дано представить никаким напряжением фантазии, ее глубочайшее спокойствие, способное убаюкать столетия так, что они спят бестревожно и не чувствуют шпор времени, и волшебное искусство отца Лиразели, не дающее увянуть ничтожнейшей из лилий, и даже заклятья, при помощи которых король обращал в реальность любые грезы и желания, — все это больше не занимало принцессу, не приносило ей удовольствия. Ее воображение свободно устремлялось все дальше и дальше за сумеречную границу. Вот почему ее вздох разнесся так далеко над всей волшебной страной, тревожа безмятежно дремлющие цветы.
Отец Лиразели ощутил печаль дочери, услыхал разбудивший цветы вздох и почувствовал, как ее тоска всколыхнула безмятежное спокойствие Страны Эльфов. Правда, было это возмущение таким легким, что его можно сравнить разве что с тем, как заблудившаяся в летней ночи пичуга чуть-чуть колышет портьеру на окне, слегка касаясь ее тяжелых складок трепетным крылом. Он прекрасно понимал, что, сидя с ним на троне, о котором может рассказать только песня, Лиразель печалится всего лишь о Земле и вспоминает какой-то милый тамошний образ, сравнивая его с немеркнущей славой Страны Эльфов, однако даже это не вызвало в его магическом сердце ничего, кроме сочувствия; так мы жалеем ребенка, который пренебрегает тем, что для нас свято, но может вздыхать по какой-нибудь тривиальной мелочи. Чем меньше казалась ему достойной сожаления Земля, беспомощная жертва времени, которая сейчас здесь, а в следующий момент исчезнет, мимолетное видение, проносящееся вдалеке от прекрасных берегов зачарованной страны; мир, слишком коротко живущий, чтобы представлять серьезный интерес для отягощенного магией ума, — тем сильнее король жалел свое дорогое дитя, грустящее из-за пустого каприза, которому принцесса неосмотрительно позволила увлечь себя и который — увы! — был связан с вещами, обреченными на неминуемое и скорое исчезновение. Да, Лиразель была несчастна, но король не испытывал ни гнева, ни раздражения в отношении Земли, которая завладела ее воображением. Самые сокровенные чудеса Страны Эльфов не доставляли Лиразели удовольствия, вздохи ее были адресованы чему-то другому, и его могучее искусство должно было немедленно исполнить ее желания. Тогда король отнял свою правую руку с поверхности таинственного трона, выкованного из музыки и миражей и поднял ее вверх. Великая тишина пала на Страну Эльфов.
Большие круглые листья в лесной чаще оборвали свой неумолчный шорох, словно высеченные из мрамора, застыли птицы и твари, даже бурые тролли, скакавшие к Земле, вдруг остановились в благоговейном молчании. И среди этой тишины стали вдруг слышны негромкие жалобные звуки, похожие на тихие вздохи по чему-то, чего не в силах выразить никакие песни, и на голоса слез, что звучали бы, если бы каждая соленая капелька ожила и, научившись говорить, попробовала рассказать о неисповедимых путях печали. Понемногу все эти тихие шепоты сплелись в торжественную медленную мелодию, которую хозяин зачарованной страны вызвал к жизни взмахом своей волшебной руки. Эта мелодия рассказывала о рассвете над бесконечными болотами на далекой Земле или какой-нибудь другой планете, неизвестной в Стране Эльфов. О рассвете, который медленно возникает среди глубокой тьмы, звездного света и пронизывающего холода; о рассвете бессильном, морозном, не радующем ничей глаз, едва затмевающем сияние равнодушных звезд, наполовину скрытом тенями гроз и штормов и все же ненавидимом всеми темными тварями. Она говорила о рассвете, рождающемся долго и мучительно, пока в одно мгновение тусклое марево болот и стылое небо не озарятся вдруг золотым светом.
Мелодия рассказала все, что могла, об этом чуде, которое навсегда осталось чужим Стране Эльфов. Король вновь шевельнул поднятой рукой и зажег над своей волшебной страной другой рассвет, призвав его с одной из ближайших к солнцу планет. Свеж и прекрасен был этот рассвет, явившийся из далеких, неизвестных пределов и давно забытых веков, засиявший над Страной Эльфов. Капельки эльфийской росы, повисшие на кончиках согнутых травинок, вобрали его свет в свои крошечные хрустальные сферы и задержали там удивительную и яркую красу похожих на наши небес, которую увидели впервые за несчитанные столетия своей зачарованной жизни.
Рассвет разгорался медленно и неохотно над непривычными к нему землями. Он затоплял их красками. На странные, длинные листья эльфийских деревьев лег какой-то новый отблеск, а от их чудовищных стволов пролегли невиданные в Стране Эльфов тени. Они заскользили по траве, не подозревавшей об их приближении. Башни дворца, постигая это новое чудо и признавая его магическую природу, откликнулись свечением своих священных окон, которые, словно озарение, вспыхнули вдруг над равнинами Страны Эльфов и смешали мазки бледно-розового с безмятежной голубизной Эльфийских гор. Дозорные, что веками сидели на выступах этих сказочных вершин, следя за тем, чтобы ни с Земли и ни с какой-нибудь другой звезды не проникло в зачарованную страну ничто чуждое, увидели, как осветилось в предчувствии рассвета сумеречное небо, и, вскинув рога, затрубили так, как трубили, предупреждая Страну Эльфов о появлении чужака. Стражи уединенных долин в тени своих страшных утесов подняли к губам рога легендарных быков и воспроизвели этот сигнал еще раз. Эхо, подхватив их повторенный мраморными ликами скал клич, донесло его до всех самых отдаленных и диких гор и ущелий, так что вскоре вся Страна Эльфов зазвенела трубными голосами тревоги, предупреждающими, что нечто постороннее вторглось в ее пределы. И к этой насторожившейся, замершей в ожидании земле, вдоль утесов которой поднялись к небу магические клинки, призванные сигнальными рогами из почерневших ножен, чтобы отразить врага, пришел нежный, золотисто-розовый рассвет — древнейшее из всех известных человеку чудес. Дворец, полный волшебства, заклинаний, магии, полыхнул в ответ своей ледяной голубизной не то в знак гостеприимства, не то бросая вызов сопернику, и его яркое сияние добавило эльфийской земле красоты, о которой способна рассказать разве что песня.
Король еще раз взмахнул рукой, которую он по-прежнему держал вровень с хрустальными зубцами своей короны, и по его приказу стены магического дворца раздались, чтобы явить Лиразели бесконечные лиги зачарованного королевства. Благодаря магии, произведенной движением пальцев короля, она увидела и темно-зеленые леса, и влажные равнины Страны Эльфов, и торжественные бледно-голубые горы, и долины, охраняемые их жителями, и всех сказочных зверей, что бродили в полутьме под покровом густой листвы, и даже шумную ватагу троллей, что неслись прочь к границам Земли. И еще увидела Лиразель дозорных, поднявших к губам рога, на которых играли яркие краски рассвета, и это было ясным доказательством величайшего триумфа ее отца, сумевшего при помощи сокровенного искусства приманить из невообразимой дали утреннюю зарю, призвать только для того, чтобы умиротворить дух дочери, потрафить ее капризам и отвлечь от мечтаний о Земле. Лиразель видела лужайки, на которых веками праздно дремало Время, не засушившее ни одного цветка из тех, что их обрамляли. Новая заря, рассеивая томные краски Страны Эльфов, вставала над любимыми ею лужайками и пришлась Лиразели по душе, так как с ее приходом они обрели красоту, какой не знали до тех пор, пока рассвет не совершил свое дальнее путешествие, чтобы смешаться с сумерками зачарованной земли. Так прежде горели, сверкали и серебрились над лужайками лишь легендарные шпили и башни дворца, о котором может рассказать только песня.
Король эльфов оторвал свой взгляд от этой ослепительной красоты и взглянул в лицо дочери, надеясь увидеть радостное удивление, с каким она станет озирать свой сияющий дом. Он надеялся, что все ее мысли отвратятся от полей, где властвуют старость и смерть и где — увы! — они все это время блуждали. Глаза Лиразели, ради которых он заставил рассвет отклониться от предначертанного природой пути, были обращены к Эльфийским горам, с которыми они удивительно сочетались своей голубизной и таинственностью, и все же в их магических глубинах, в которые пытливо заглянул король, он увидел все ту же затаенную мысль о Земле!
Мысль о Земле… И это несмотря на то, что он взмахнул рукой и, использовав свое могущество, начертал в воздухе таинственный знак, призывающий в Страну Эльфов чудо, которое должно бы доставить Лиразели удовольствие и радость от встречи с родным домом! Все его владения ликовали при встрече с этим волшебством, и даже дозорные на поднебесных наблюдательных площадках протрубили свои странные сигналы, и все чудища, насекомые, птицы и цветы — все радовались новой радостью, и только здесь, в сердце зачарованного края, его дочь сидела и грустила по чужим полям.
Если бы король показал Лиразели какое-нибудь другое чудо вместо рассвета, он, может быть, и сумел бы вернуть домой ее мысли, однако, вызвав в Страну Эльфов эту экзотическую красоту и позволив ей смешаться с древним очарованием волшебной земли, он только сильней пробудил в дочери воспоминания об утрах, встающих над неизвестными ему полями, где Лиразель в своем воображении играла с маленьким Орионом и где среди английских трав росли наши английские, не зачарованные цветы.
— Тебе этого мало? — спросил король своим густым и удивительным голосом и указал на свои обширные земли рукой, которая могла вызвать чудо.
Лиразель вздохнула: этого было мало, вернее, это было не то.
Великая грусть овладела королем-волшебником. Дочь была ему дороже всего, но она вздыхала о Земле. Когда-то была у него и королева, которая вместе с ним правила Страной Эльфов, но она была смертной и — как все смертные — умерла. Ее вечно влекли к себе холмы Земли, и она часто отправлялась за сумеречную границу, чтобы увидеть цветущий май или буковые леса в царственном осеннем уборе. Хотя каждый раз она оставалась в полях, которые мы знаем, не больше одного дня и всегда возвращалась во дворец за сумеречный барьер еще до того, как садилось наше солнце, все же Время чуть касалось ее в каждый такой визит, и понемногу королева состарилась и умерла, так как была всего лишь смертной, хотя и жила в Стране Эльфов. И эльфы, недоумевая, похоронили ее, как хоронят людей, а король остался один со своей дочерью. И вот теперь Лиразель тоже стала тосковать о Земле.
Печаль охватила его, но, как часто бывает и с людьми, из мрака этой печали, из погруженного в грусть разума возникло иное настроение — поющее, звонкое, исполненное смеха и радости, и тогда король встал со своего трона и поднял вверх обе руки. Охватившее его воодушевление обратилось музыкой, зазвучавшей над Страной Эльфов. Вместе с музыкой, подобно возвращающемуся в свои берега морю, весело и мощно разливался над зачарованной землей, все шире и шире распространялся неожиданный и вдохновенный порыв, звавший вскочить и пуститься в пляс. Никто и ничто в Стране Эльфов даже не думало ему противиться. Король торжественно взмахнул руками, и все, что кралось сквозь лесную чащу, что ползало среди листвы, что прыгало с одной голой скалы на другую или паслось среди лилий, заплясало под эту музыку, словно брызжущую весенним настроением, вселившимся в козье стадо на выпасе ранним и теплым земным утром.
Между тем тролли подобрались уже довольно близко к сумеречной границе, и их лица сморщились, как будто они уже приготовились потешаться над людскими привычками. Со всем нетерпением, свойственным маленьким и тщеславным существам, они стремились как можно скорее пересечь черту, отделяющую Страну Эльфов от Земли. Однако, завороженные чудесной мелодией, они не могли больше двигаться к своей цели и только плавно скользили по кругу или по затейливой спирали, отплясывая некий странный танец, больше всего напоминающий вечернюю толкотню комаров, которую мы наблюдаем летом у себя в полях. Мрачные чудовища из старинных легенд в заросшей папоротниками чаще тоже отплясывали менуэты, которые ведьмы создали из своих капризов и насмешек давным-давно, еще в пору своей невообразимо далекой юности, когда на Земле еще не были построены города. Даже деревья в лесу выдирали из перегноя тяжелые медлительные корни и неуклюже раскачивались на них, а потом затанцевали на скрюченных узловатых петлях, напоминающих чудовищные когти, и на их трепещущих листьях водили свои хороводы мошки и жуки. А в колдовском уединении мрачных глубоких пещер пробудились от столетнего сна немыслимые существа и тоже заплясали по сырым каменным полам.
Принцесса Лиразель стояла рядом с королем-волшебником, слегка покачиваясь в такт музыке, заставившей плясать всех обитателей зачарованной земли, и на лице ее играл слабый отсвет сдерживаемой улыбки, так как в тайне ото всех она неизменно посмеивалась над могуществом своей непревзойденной красоты. И вдруг король эльфов поднял правую руку еще выше и остановил всех зачарованных танцоров в своей земле, внушив благоговейный трепет всем магическим существам, и над Страной Эльфов зазвучала новая мелодия — гармония нот, уловленных королем среди бессвязных откровений, что с негромким пением бесцельно блуждают в прозрачной голубизне далеко от земных берегов; и тогда вся заколдованная страна окуталась волшебным очарованием этой странной музыки. Все дикие твари — и те, о существовании которых Земля догадывалась, и те, что сумели укрыться даже от наших легенд, — вдруг запели древние песни, которые давно изгладились даже из их памяти; и сказочные духи воздуха спустились пониже из своих заоблачных высот, чтобы присоединить свои голоса к общему хору. Неведомые и странные чувства вдруг вторглись в вековечное спокойствие Страны Эльфов, и половодье музыки билось своими удивительными волнами о склоны темно-голубых Эльфийских гор до тех пор, пока их вершины не откликнулись странным эхом, похожим на голоса бронзовых колоколов.
Но на Земле ни музыки, ни даже эха не было слышно. Ни одна нота, ни один звук, ни один еле слышный обертон не сумели преодолеть тонкую границу сумерек, хотя кое-где эти ноты взвивались так высоко, что достигали Небес, и носились над райскими полями, словно невиданные, редкие мотыльки, отзываясь в душах праведников чуть слышными колебаниями, похожими на отзвуки неведомо откуда взявшихся воспоминаний. Ангелы тоже слышали эту музыку, но им было запрещено завидовать ей. И хотя эта чарующая мелодия так и не достигла Земли и наши поля так и не услышали музыки Страны Эльфов, все же и тогда — как и в любые другие века-находились те, кто создавал песни нашей печали и нашей радости, не давая отчаянию овладеть человечеством. Они не слышали ни одной ноты из-за границы зачарованной земли, заглушавшей всякие звуки, и все же их сердца чувствовали танец тех магических нот, и тогда они записывали их на бумаге, и земные инструменты исполняли их. Так, и только так, можем мы услышать музыку Страны Эльфов.
Король эльфов еще некоторое время владел вниманием всех существ, бывших его верными подданными, и все их желания, недоумения, страхи и мечты медленно плыли перед ним вместе с музыкой, что была соткана не из земных звуков, а из вещества сумрачных пространств, в которых несутся по своим орбитам планеты, и к которому было добавлено великое множество магических чудес. И наконец, когда вся Страна Эльфов напилась этой музыкой, совсем как наша Земля — теплым весенним дождем, король повернулся к дочери, и глаза его говорили: «Какая земля столь же прекрасна, как наша?»
Лиразель повернулась к нему, чтобы сказать: «Здесь мой дом — навсегда!» Ее губы даже слегка приоткрылись, в голубизне ее эльфийских глаз засияла любовь, и прекрасные руки простерлись к отцу, но вдруг и Лиразель, и король Страны Эльфов услышали печальный голос рога, в который трубил какой-то усталый охотник, бродивший вдоль самой границы зачарованной земли.
Глава XXVI Рог Алверика
Алверик все продолжал свои скитания в пустынных северных землях. Он шел сквозь череду томительных лет, и уныло хлопающие на ветру крылья его вытянувшейся серой палатки омрачали и без того унылые и холодные вечера. На вечерней заре, когда приходил час зажигать в домах огни, хозяева отдаленных ферм порой ясно слышали в тишине стук деревянных колотушек Нива и Зенда, доносящийся со стороны пустоши, где никто больше не ходил. Дети фермеров, глядящие из окон в надежде увидеть падающую звезду, замечали изредка, как за последней живой изгородью, где мгновение назад не было ничего, кроме серых сумерек, полощется по ветру истрепанный серый полог. А на следующее утро бывало много разговоров и удивительных предположений. Много детской радости и страха; много рассказанных взрослыми удивительных историй и отчаянных вылазок к самому краю людских полей, чтобы тайком, обмирая от сладостного испуга, заглянуть в прореху живой изгороди. Много странных слухов и ожиданий, и все это объединялось, смешивалось, сплавлялось воедино благодаря серому чуду, которое приходило с востока и постепенно обрастало легендами, жившими еще не один год после памятного вечера, хотя сам Алверик и его палатка давно ушли дальше.
Одно время года сменялось другим, но вперед и вперед шел одинокий маленький отряд, состоящий из потерявшего жену Алверика, одного лунатика, одного безумца и старой серой палатки на старом кривом шесте. Им были знакомы все звезды и понятны все ветра, их мочили дожди, окружали сыростью туманы, сек град. И только приветливые желтые окна, что горели в ночи, обещая приют и тепло, были близки путешественникам, поскольку именно с ними они прощались перед очередным переходом. Нетерпеливые сны Алверика будили его в самый ранний и холодный предрассветный час, и Нив тоже вскакивал с земли и принимался распоряжаться и покрикивать. Но еще до того, как сонные дома оживали с первыми признаками утра, отряд уходил, спеша продолжить свой безумный поход. Каждое утро Нив неизменно предсказывал, что уж сегодня-то они непременно набредут на Страну Эльфов. Так проходили день за днем и год за годом.
Тил, предрекавший когда-то удачу в своих зажигательных песнях, давно оставил отряд. Его воодушевление согревало Алверика в самые холодные зимние ночи и поддерживало на самых трудных и каменистых маршрутах. Но однажды у вечернего костра Тил, который должен был назавтра вновь вести их за собой, вдруг запел о локонах какой-то девушки, и прошло совсем немного времени, когда однажды в сумерках, напоенных благоуханием цветущего боярышника и песнями черных дроздов, Тил решительно повернул в сторону человеческого жилья, и вскоре женился там на юной девушке, и с той поры уже никогда ни в каких походах не участвовал.
Лошади давно околели, поэтому Нив с Зендом несли все имущество на шесте. Алверик уже не помнил, сколько лет он странствует. Одним осенним утром он оставил лагерь, чтобы дойти до полей, где жили люди. И, глядя ему вслед, Нив и Зенд недоуменно переглянулись: каким-то образом их скособоченные мозги разгадали его намерения быстрее, чем догадался бы о них нормальный человек. Зачем понадобилось Алверику спрашивать дорогу у кого-то другого? Разве для того, чтобы знать, куда идти, ему не хватает пророчеств Нива и откровений Зенда, которому по секрету поведала их полная луна?
Алверик дошел до жилищ людей. Но мало кто согласился говорить с ним о землях, лежащих к востоку; когда же он упоминал о каменистых пустынях, где его отряд скитался все эти годы, его почти не слушали, словно он признавался в том, что ставил свою палатку на равнинах слоистых облаков, которые, пылая яркими красками, плывут над самой землей перед закатом. А те немногие, кто все же отвечал Алверику, твердили одно: только волшебники могут ответить на его вопросы.
Узнав эту важную истину, Алверик отвернулся от полей и живых изгородей и пошел к своей старой серой палатке, разбитой в землях, о которых никто даже не думал. Возле нее молча сидели Нив и Зенд и исподлобья его рассматривали. Им было ясно, что Алверик больше не верит ни в истинность безумия, ни в то, что говорит луна. И когда на следующий день они по обыкновению рано снялись с места, Нив пошел впереди без единого слова.
После этого отряд пропутешествовал всего несколько недель, когда однажды утром на краю обработанных людьми полей Алверик встретил одного из местных жителей — старика, наполнявшего в колодце ведро; и его высокая коническая шапка, и таинственный вид подсказали Алверику, что перед ним, несомненно, мудрец или колдун.
— Господин, преуспевший в искусствах, коих боятся смертные, — сказал ему Алверик, — у меня есть вопрос относительно будущего, который я хотел бы задать тебе.
Колдун оставил свое ведро и с сомнением покосился на него. Оборванная одежда Алверика едва ли позволяла надеяться на вознаграждение, уплачиваемое обычно теми, у кого есть основания вопрошать о будущих временах. И какова цена на подобные услуги? Колдун тут же назвал цену, однако в кошельке Алверика нашлось достаточно денег, чтобы развеять сомнения старика. Тогда маг указал путешественнику на рощу миртовых деревьев, из-за которой выглядывал острый шпиль его башни, и попросил прийти к восходу вечерней звезды; и в этот благоприятный час он готов был открыть Алверику будущее.
Нив и Зенд снова почувствовали, что их господин увлекся грезами и тайнами, которые не имеют никакого отношения ни к благородному безумию, ни к загадочной луне. Когда Алверик уходил, оба молча сидели у костра, но разум обоих полнился картинами болезненными и жестокими.
Ожидая появления Вечерней звезды, Алверик неторопливо брел под темнеющими небесами, брел через обработанные людьми поля и наконец достиг двери башни, сработанной из древнего дуба, по которой при каждом дуновении ветра негромко скребли гибкие ветви миртов. На стук вышел юный ученик мага и по старой деревянной лестнице, которой крысы, похоже, пользовались чаще, чем человек, провел Алверика в комнату на вершине башни.
Колдун встретил Алверика в шелковом плаще черного цвета, который, как он полагал, больше всего подходил будущему; без него, во всяком случае, он не мог заглядывать в грядущие года. После того как ученик удалился, маг подошел к высокому бюро, на котором возлежал толстый том в кожаном переплете, и, подняв на Алверика взгляд, поинтересовался, чего ждет он от будущего. И Алверик спросил у мага, как ему отыскать дорогу в Страну Эльфов. Тогда маг открыл почерневший от времени том и начал пролистывать страницы. И на протяжении долгого времени все листы, которые он переворачивал, оставались чистыми, и лишь потом на них появились многочисленные письмена, каких Алверик никогда не видел. И маг объяснил ему, что книги, подобные этой, рассказывают обо всем на свете. Но поскольку он всегда считал будущее главным предметом своей заботы, то ему и не было нужды читать прошлое, и потому он овладел только, той частью книги, которая рассказывает исключительно о грядущих годах. Разумеется, добавил колдун, в Школе Магов он мог бы обучиться и большему, если бы вдруг возникла охота изучить все те глупости, которые человек уже совершил.
Маг углубился в чтение, а Алверик стал прислушиваться к тому, как потревоженные крысы возвращаются на улицы и проспекты, которыми, по всей видимости, служили им ступеньки старой лестницы. Наконец колдун нашел то, что искал в будущем, и сообщил Алверику, что записано в книге: он ни за что не попадет в Страну Эльфов, покуда у пояса его висит магический меч.
Алверик заплатил колдуну, сколько тот потребовал, а сам грустно пошел прочь, так как опасности зачарованной земли, которые не могла бы отвести даже самая лучшая сабля, выкованная в человеческой кузнице, были известны ему лучше многих.
Невдомек было Алверику, что магия, заключенная в его мече, оставляла в воздухе легкий привкус или аромат, подобный запаху молнии, способный к тому же проникать через сумеречную границу и разноситься над всей Страной Эльфов. Не знал он и того, что по этому запаху король эльфов узнавал о его присутствии и отводил свои границы подальше, дабы Алверик не смог еще раз потревожить его королевство. И все же он поверил тому, что прочел маг в своей книге, оттого-то и было ему невесело.
Алверик прошел через миртовую рощу и через возделанные человеком поля и вернулся к тому унылому месту, где среди каменистой пустоши грустью серела его изодранная палатка — такая же безмолвная и скучная, как и Нив с Зендом, что сидели подле нее. Наутро они снялись с места и повернули на юг, так как любые дальнейшие странствия казались Алверику бессмысленными, поскольку он не смел расстаться со своим волшебным мечом и оказаться лицом к лицу с магическими опасностями без поддержки колдовства. Нив и Зенд молча подчинились и больше не направляли его своими восторженными пророчествами или откровениями луны, так как им было ясно, что Алверик советовался с кем-то другим.
Много томительных дней прошло в одиноком и скучном пути, и отряд успел забраться довольно далеко на юг, но сотканная из плотных сумерек граница Страны Эльфов по-прежнему пряталась от них; и все же Алверик ни разу не задумался о том, чтобы оставить меч, поскольку теперь он окончательно убедился, что Страна Эльфов сторонится заключенной в нем магии, а вернуть Лиразель при помощи клинка, который страшен только людям, он почти не надеялся. И вскоре Нив снова начал изрекать свои пророчества, а Зенд приходил в палатку Алверика каждое полнолуние и будил своими сказками. И несмотря на таинственный вид, который напускал на себя Зенд, несмотря на экстаз, который охватывал Нива во время его откровений, Алверик уже догадался, что все эти сказки и пророчества — дело пустое и бесполезное, и что ни те, ни другие не помогут ему отыскать зачарованную землю. Но даже это печальное знание не мешало как прежде сворачивать лагерь еще до света, как прежде мерить шагами каменистую пустошь, как прежде искать сумеречную границу.
Прошло еще несколько месяцев.
Однажды в том месте, где неухоженный край Земли сплошь порос вереском, сбегавшим прямо к каменистой пустыне, в которой остановился на ночевку отряд, Алверик увидел женщину в колпаке и плаще колдуньи, которая мела вереск метлой. Каждый ее взмах был направлен от наших полей на восток, в сторону каменной пустыни и в сторону Страны Эльфов, и из-под метлы летели тучи черной сухой земли и песка. Алверик оставил свой жалкий лагерь и, встав рядом с ведьмой, стал смотреть, как она метет, но та все продолжала свою нелегкую работу, мерно и сильно взмахивая метлой и отступая вслед за облаком пыли все дальше и дальше от полей, которые мы знаем. Некоторое время спустя ведьма подняла голову, чтобы посмотреть, кто стоит с ней рядом, и Алверик узнал Жирондерель.
Даже после стольких лет они признали друг друга. Колдунья увидела под изорванным в лохмотья плащом магический меч, который она когда-то сделала для молодого лорда у себя на холме. И она уловила исходящий от него легкий запах магии, который растекался в спокойном вечернем воздухе.
— Мать-колдунья! — воскликнул Алверик.
Жирондерель низко поклонилась ему, потому что не забыла владыку Эрла, которого забыли многие в долине.
Алверик сразу же спросил ее, что она делает здесь вечером, среди вереска, да еще с метлой.
— Подметаю мир, господин, — ответила колдунья.
Алверик задумался о том, какой именно сор метет старая колдунья и от чего поднимается такая густая пыль, клубясь уплывающая все дальше и дальше в темноту, уже начавшую собираться за границами нашего мира.
— Зачем, мать-колдунья? — спросил он.
— В мире слишком много вещей, которых здесь быть не должно, — объяснила Жирондерель.
Алверик снова покосился на тучи серой пыли, что плыли из-под метлы в сторону эльфийских берегов.
— Нельзя ли и мне отправиться с ними, мать-колдунья? — попросил Алверик. — Двенадцать лет я искал Страну Эльфов, но ни разу не видел даже вершин Эльфийских гор.
Старая ведьма по-доброму глянула на него, а потом перевела взгляд на меч.
— Он боится моей магии, — задумчиво сказала она, и ее глаза осветились светом какой-то мысли или разгаданной тайны.
— Кто? — переспросил Алверик. Жирондерель опустила глаза.
— Король, — сказала она.
Жирондерель объяснила Алверику, как волшебный король каждый раз отступает перед тем, что однажды нанесло ему поражение, и уводит за собой все, чем владеет. Король не выносит никакой магии, которая может тягаться с его искусством.
Алверик никак не мог понять, почему сей могущественный владыка столь ревностно относится к магии, что висела в поцарапанных ножнах у его пояса.
— Таков его обычай, — только и сказала Жирондерель.
Но Алверик все еще не верил, что Страна Эльфов каждый раз бежит от него.
— Он повелевает могущественными силами, — добавила колдунья.
Алверик был готов сразиться с этим ужасным владыкой и с любым его волшебством, но и маг, и колдунья — оба предупредили его, что с мечом он никогда не найдет зачарованной земли. Как же тогда он сможет пройти через седой лес, охраняющий чудесный дворец, если не будет вооружен? Выйти же против него с любым клинком, выкованным на наковальнях людей, было все равно, что идти без оружия вовсе.
— Мать-колдунья! — вскричал тогда Алверик. — Неужто может случиться, что я больше никогда не попаду в Страну Эльфов?
Тоска и печаль, прозвучавшие в его голосе, тронули сердце Жирондерели. В ней пробудилось сочувствие, которое тоже было волшебным.
— Ты должен отправиться туда, — сказала она твердо.
Пока бывший лорд Эрла стоял в траурной полутьме позднего вечера, наполовину погрузившись в отчаяние, наполовину — в мечты о Лиразели, колдунья достала откуда-то из-под плаща маленькую сверленую гирю, которую она как-то отобрала у одного торговца хлебом.
— Проведи этой гирей вдоль клинка, от рукояти до самого острия, и она расколдует твой меч. Тогда Король ни за что не узнает, что это за оружие.
— Но будет ли меч помогать мне как прежде? — спросил Алверик.
— Какое-то время — нет, — ответила ведьма. — Но как только ты перейдешь границу, потри те места, к которым прикасался фальшивой гирей, вот этим свитком…
С этими словами она снова порылась под плащом и достала кусок пергамента, на котором было записано какое-то стихотворение.
— Он снова вернет мечу его магическую силу, — пояснила она.
Алверик принял у нее из рук гирю и свиток.
— Не допускай, чтобы эти два предмета соприкасались, — предупредила Жирондерель.
На всякий случай Алверик убрал их в разные карманы.
— После того как ты перейдешь границу, — добавила колдунья, — король может передвинуть Страну Эльфов куда ему захочется, но и ты, и меч останетесь в ее пределах.
— Скажи, мать-колдунья, не рассердится ли на тебя король эльфов, если я поступлю, как ты сказала?
— Рассердится?! — воскликнула Жирондерель. — Рассердится!.. Да он будет просто взбешен, и ярость его будет такой, какой не увидишь у тигров!
— Я бы не хотел навлечь на тебя ничего подобного, мать-колдунья, — покачал головой Алверик.
— Ха! — воскликнула ведьма. — А мне-то что до его гнева?
Ночь надвигалась на них, и торфяники, и самый воздух над ними стали черными, как плащ ведьмы. И, все еще смеясь, Жирондерель исчезла в темноте, и скоро в ночи остались только мрак и ее смех, но, как ни старался Алверик, он не смог разглядеть старой колдуньи.
Он побрел обратно к своему лагерю, пробираясь среди камней на свет одинокого костра.
Как только над пустошью занялось утро и все бесполезные валуны и камни озарились его неярким светом, Алверик достал облегченную гирю и осторожно провел ею по обеим сторонам кринка, так что его магический меч оказался расколдован. Все это Алверик проделал, укрывшись в палатке, пока его спутники спали, так как ему не хотелось, чтобы они знали, что он последовал постороннему совету, не имевшему отношения ни к пламенным пророчествам Нива, ни к тем откровениям, которые нашептывала Зенду луна.
Но болезненный сон безумия не был настолько крепок, чтобы Нив не услышал негромкий скрежет гири по металлу и не приоткрыл хитрый глаз, желая подсмотреть за Алвериком.
После того как тайное дело было закончено, лорд разбудил двух своих спутников, и они, явившись на его зов, сложили палатку и нанизали на шест свои жалкие пожитки. В тот день Алверик сам повел отряд дальше вдоль края хорошо знакомых нам полей, так как ему не терпелось поскорее увидеть страну, которая так долго от него скрывалась. А Нив и Зенд шли за ним и несли шест, с которого свисали их тощие узелки и изорванный тент палатки.
Сначала они приблизились к границе нашего мира, чтобы пополнить запас продовольствия, которое после полудня они и приобрели у одного фермера, жившего на уединенном хуторе так близко от края известных нам полей, что его дом был, наверное, самым последним на всем обозримом пространстве. Путешественники приобрели у него и хлеб, и овсяные лепешки, и сыр, и копченую свинину, и многое другое, и, сложив провизию в мешки, повесили их на шест, а потом попрощались с фермером и повернули прочь от его владений и от всех обработанных человеком полей, которые мы хорошо знаем. И не успел пасть на землю вечер, как над живой изгородью они увидели странное голубоватое сияние, озарившее луг незнакомым мягким светом, который — они знали! — не мог быть земным. То был сумеречный барьер, граница Страны Эльфов.
— Лиразель! — вскричал Алверик и, вытащив меч из ножен, зашагал прямо к сумеречной стене. За ним поспешили Нив и Зенд, чьи подозрения тут же вспыхнули с новой силой, мигом превратившись в жгучую ревность к любой магии и откровениям, которые исходили не от них.
Только раз позвал Алверик свою Лиразель, а потом, зная, что в этом зачарованном мире нельзя полагаться на голос, взялся за свой охотничий рог, висевший у него на боку на тонком ремешке, поднес его к губам и затрубил, и голос рога был усталым, словно и его утомили долгие скитания. И вот Алверик уже почти вступил в толщу сумеречного барьера, и на его роге заиграли отблески магического света из Страны Эльфов…
И тут Нив и Зенд вдруг швырнули свой шест в эти синие неземные сумерки. Он упал на землю и остался лежать там, словно обломок бушприта неведомого корабля на берегу еще не открытого моря, а оба безумца неожиданно схватили своего господина.
— Страна снов и мечты! — сказал Нив. — Разве мало я видел снов?
— Там не бывает луны! — поддержал товарища Зенд.
Алверик ударил Зенда мечом по плечу, но расколдованный клинок оказался настолько тупым, что лишь несильно ушиб его, и тогда они выбили у него меч и поволокли Алверика назад. Их сила оказалась гораздо большей, чем можно было предположить, в конце концов они одолели и вытащили своего господина обратно в знакомые нам поля. Они вернулись в мир, в котором оба почитались безумцами и, будучи чрезвычайно этим горды, безмерно ревновали к безумию других. Они потащили его прочь, подальше от границы, над которой вставали бледно-голубые вершины Эльфийских гор.
Но хотя Алверик так и не попал в Страну Эльфов, голос его рога преодолел плотные сумерки барьера и потревожил воздух зачарованной страны долгим и печальным земным звуком, раздавшимся среди ее сонного спокойствия. И Лиразель услышала его.
Глава XXVII Возвращение Лурулу
А над замком Эрл и над селением вовсю бушевала весна. Она заглядывала во все щели, во все потайные места, и ее разлитая в воздухе благодать будила своим теплом все живое, не пренебрегая даже ростками самых скромных растений, заселивших наиболее укромные уголки.
В это время года Орион не охотился на единорогов. Он не знал, когда эти сказочные обитатели Страны Эльфов начинаются плодиться, ведь время в зачарованной земле шло совсем не так, как у нас, но от своих предков-охотников он унаследовал стойкое отвращение к убийству живых существ в пору, когда начинают распускаться цветы и отовсюду несутся беззаботные песни. Поэтому он только и делал, что ухаживал за своей сворой да глядел на холмы, ожидая возвращения тролля.
Весна отшумела, и в полях запестрели первые летние цветы, а Лурулу все не возвращался. Вечерами Орион подолгу вглядывался в темнеющие дали, пока гряда холмов не становилась совершенно черной, по так и не увидел, как над травой подскакивают круглые головы спешащих в Эрл троллей.
Орион все еще ждал Лурулу, хотя сырые туманы и желтеющие листья давно нашептывали ему об охоте, а собаки негромко скулили, тоскуя о просторах полей и пахучей цепочке следов, которая, словно таинственная тропа, тянется через весь широкий мир. Но Орион не хотел охотиться ни на кого, кроме единорогов, и продолжал ждать своих троллей.
В один из дней, когда земной закат сверкал малиново-алым, а в воздухе ощутимо пахло близкими заморозками, Лурулу в зачарованной стране как раз закончил свой разговор с троллями, и ноги бурого племени — гораздо более проворные, чем заячьи — мигом домчали своих обладателей до сумеречного барьера. Если бы кто-нибудь из людей, живущих в наших полях, поглядел в сторону таинственной границы, то мог бы увидеть странные серые фигуры троллей, осторожно скользящие в вечерней мгле. Один за другим они приземлялись на нашей стороне после своих головоломных прыжков через сумеречную границу и тут же начинали скакать, носиться и кувыркаться, то и дело разряжаясь нахальным хохотом, словно только так и можно было вести себя на планете, которая отнюдь не числилась среди последних в ряду подобных себе.
Они проносились мимо одиноких домов с шорохом, похожим на тот, какой производит ветер, играющий соломой крыш, и никто из тех, кто слышал этот тихий звук, даже не заподозрил, насколько чуждые существа бегут в эти минуты мимо. Исключение составляли лишь собаки, чья работа заключается в неусыпном бдении; они одни знают, какие странные твари порой проскальзывают в ночной темноте вблизи наших домов и насколько они далеки от всего земного.
В эту ночь собаки заходились лаем и хрипели от злобы так, что многие фермеры даже подумали, не подавился ли их пес костью.
Тролли летели над полями, не задерживаясь для того, чтобы похохотать над неуклюжими метаниями напуганных ими овец, так как берегли свой смех для людей, и вскоре очутились на холмах, окружающих долину Эрл. Внизу они увидели ночь и дым над домами. И то, и другое было серым. И, не зная доподлинно, что это за дым — то ли хозяйка кипятит чайник, то ли мать сушит платье ребенку, то ли несколько стариков решили погреть у огня свои древние кости, — тролли пока воздерживались от смеха, хотя уже давно решили, что начнут хохотать, как только увидят что-нибудь человеческое. Возможно, и они, чьи самые мрачные мысли залегали лишь ненамного глубже их всегдашней веселости, затрепетали от непривычной близости к людям, спавшим под крышами и плотной пеленой дыма. Впрочем, в легкомысленных головах троллей умозаключение задерживалось обычно не дольше, чем белка раскачивается на длинной и. тонкой ветке.
Вдоволь насмотревшись на селение, тролли подняли головы и увидели далеко на западе полоску светлого неба, горевшую в спустившихся на Землю сумерках: узенький участок, все еще окрашенный удивительными красками и подсвеченный меркнущим светом. И таким прекрасным показался он их привыкшим к волшебству глазам, что тролли решили, будто по другую сторону долины лежит еще одна зачарованная страна эльфов и что два эти удивительных, призрачных края сходятся именно здесь и между ними лишь по чистой случайности затесалось несколько людских полей.
Сидя на склоне холма и глядя на запад, они вскоре увидели яркую голубую звезду: то была Венера, взошедшая над западным горизонтом. И тогда тролли по многу раз кивнули головами, здороваясь с незнакомкой. Хотя вежливость и не принадлежала к числу распространенных среди этого племени добродетелей, они сразу увидели, что Вечерняя Звезда не имеет никакого отношения ни к Земле, ни к людям, и подумали, что она, должно быть, вышла из той, другой страны эльфов, о которой они ничего не знали и которая лежит за западной окраиной мира.
На небосклоне появлялось все больше и больше звезд, и в конце концов тролли чуточку испугались, так как никогда не слышали об этих мерцающих ночных странниках, которые могут появляться из темноты и сиять так ярко. Сначала они говорили: «Троллей гораздо больше, чем звезд», и это действительно их утешило, так как тролли всегда верили в магию больших чисел. Но вскоре звезд стало гораздо больше, чем троллей, и им стало неуютно сидеть под множеством направленных на них глаз, однако прошло совсем немного времени, и они вовсе позабыли эту смутившую их фантазию, потому что ни одна мысль не способна была огорчать их слишком долго. И от звезд их ветреный интерес перепрыгнул на желтые огни, горевшие там и сям на краю серой дымной пелены, где совсем близко стояло несколько уютных и теплых человеческих домов.
Какой-то запоздалый жук загудел в воздухе, и тролли оборвали свою болтовню, чтобы послушать, что он им скажет, но они не знали языка, и жук важно пролетел мимо. Вдали заголосила собака и никак не хотела успокоиться, будя тихую ночь своим тревожным лаем, и тролли рассердились на нее, так как чувствовали, что пес готов встать между ними и человеком, но тут из темноты неожиданно возникло что-то белое и расплывчатое и бесшумно уселось на суку ближайшего дерева. И это белое повернуло голову сначала налево, чтобы посмотреть на троллей, а потом направо, и оттуда опять посмотрело на них, и снова голова повернулась влево, словно таинственное существо никак не могло понять, что за твари перед ним.
— Это сова, — авторитетно прокомментировал Лурулу, и многие из тех, кто был рядом с ним, сразу же вспомнили бесшумную птицу, родичей которой они видели много раз, так как совы любят охотиться вдоль границы Страны Эльфов. А вскоре сова улетела, и они услышали, как она мышкует в полях и низинах; и когда шорох ее ночной охоты затих, тролли снова стали прислушиваться к доносящимся снизу голосам людей, пронзительным детским вскрикам и тревожному лаю сторожевой собаки, которая предупреждала хозяев о появлении троллей.
— Какое умное существо, — сказали тролли о сове, так как им всегда нравилось, как звучит ее голос; голоса же людей внизу и лай их собаки показались троллям растерянными и усталыми.
Иногда они замечали огни в руках поздних прохожих, которые спешили через холмы к Эрлу, или слышали голоса людей, которые подбадривали себя среди ночной темноты и одиночества при помощи песен, заменявших им свет фонаря. Вечерняя Звезда тем временем становилась все ярче, а кроны деревьев — все чернее и чернее.
Из-за пелены дыма и тумана, поднимающейся над невидимым ручьем, вдруг грянул в темноте бронзовый колокол Служителя, и вся ночь, и склоны долины, и далекие темные холмы отозвались гулким эхом, которое донеслось до места, где сидели тролли, словно бросая вызов и им, и всем нечестивым тварям, и неприкаянным душам, и существам, что не удостоились благословения Служителя. Одиноко разносящееся в ночи эхо этих полнозвучных ударов обрадовало ватагу троллей больше всех странностей Земли, о которых они были наслышаны, так как все торжественное немедленно приводит тролличье племя в самое веселое и легкомысленное состояние духа. Вот и сейчас они сразу приободрились и принялись шушукаться и хихикать.
А пока тролли глазели на сонмище звезд и гадали, дружелюбны ли они по своему характеру или нет, небосвод понемногу стал серовато-синим, звезды на его восточном краю замигали и потускнели, а туман и дым над жилищами людей побелели. И вот западного края долины коснулось яркое серебристое сияние, и за спинами троллей взошла над холмами луна. И тут же из святилища Служителя донесся монотонный хор многих голосов, выводящий лунные псалмы, которые согласно обычаю полагалось исполнять в полнолуние, пока луна еще не поднялась высоко, и ритуал этот назывался в Эрле «Утро Луны».
Когда колокол замолчал, из долины не доносились больше ни звука. В час восхода полной луны этот гимн — мрачный, как сама ночь, и загадочный, как ночное светило — звучал все громче и громче и был исполнен значения, находящегося за пределами понимания троллей и не имеющего ничего общего с их самыми возвышенными мыслями.
При звуках лунного псалма тролли дружно, как по команде, взвились с прихваченной заморозками травы и бурым потоком устремились вниз, в долину, чтобы потешаться над людскими обычаями, высмеивать их святыни и кувыркаться под их торжественное пение.
Они вспугнули множество кроликов на своем пути и, хохоча над их страхом, обратили в стремительное бегство. И над западным горизонтом сверкнул зеленым огнем метеорит, мчащийся вдогонку за солнцем то ли во исполнение какого-то естественного закона природы, то ли как предзнаменование, должное предупредить жителей Эрла о том, что к их селению уже мчится неистовое чужое племя, явившееся из-за границ полей, которые мы знаем. Троллям же показалось, что это просто гордая звезда не удержалась на небосводе, и они порадовались этому со свойственным им злорадным легкомыслием.
Так, хихикая и хохоча, они скатились по темному склону и вырвались на улицы селения, невидимые, как и все дикие существа, что рыщут в темноте, предпочитая ее дневному свету. И Лурулу повел своих сородичей к известной ему голубятне, куда они и ввалились всей толпой. Испуганные птицы подняли такой шум, что поначалу жители Эрла решили, будто в голубятню забралась лиса, однако стоило голубям вернуться к своим гнездам, как разговоры прекратились сами собой, и до самого рассвета никто так и не узнал, что в их селении появилось что-то с той стороны сумеречной границы.
Тролли расположились на полу голубятни плотной бурой массой, лежа теснее, чем поросята возле корыта, и время летело над ними точно так же, как и над всеми земными обитателями. Хотя разум троллей невелик, все они прекрасно понимали, что, перейдя границу зачарованной земли, они подвергли себя разрушительному действию времени.
Лурулу показал своим сородичам, как ненадолго задержать время, которое иначе бы делало их с каждым мгновением все старше и старше и ночь напролет кружило бы троллей в водовороте земной суеты. Он прижал колени к груди и, закрыв глаза, улегся неподвижно. Это, объяснил он, называется сон, и, заботливо предупредив товарищей, чтобы они ни в коем случае не переставали дышать, хотя во всем остальном необходимо соблюдать полную неподвижность, Лурулу заснул всерьез; и после нескольких тщетных попыток бурые тролли сделали то же.
Когда пришел рассвет, разбудивший все земные существа, длинные лучи солнца проникли в голубятню сквозь три десятка маленьких окошек и разбудили птиц и троллей. И тролли сразу же бросились к окнам, чтобы посмотреть на мир Земли при свете дня, а голуби вспорхнули на стропила и, смешно подергивая головами, принялись искоса на них поглядывать. Сородичи Лурулу долго стояли друг у друга на плечах и, приникнув лицами к леткам, обсуждали между собой многообразие и суетность Земли, находя их вполне соответствующими самым удивительным сказкам и легендам, что доносили до них из наших полей странники и прохожие. Они напрочь забыли о надменных белых единорогах, на которых им предстояло охотиться. Но в конце концов Лурулу, который то и дело напоминал им об охоте, все же удалось выманить ватагу с чердака и отвести ее к собачьим вольерам, и там, взобравшись на высокий частокол, тролли увидели гончих. Когда псы увидели над загородкой странные бурые головы, пристально глядящие, на них, они подняли такой шум, что со всех концов Эрла сбежался народ, спешивший посмотреть, что так напугало собак. Увидев полтора десятка троллей, рассевшихся по всей ограде, они сказали друг другу одно и то же:
— Вот теперь магия пришла в Эрл.
И то же самое сказал каждый, кто услышал об этом чуть позже.
Глава XXVIII Глава об охоте на единорогов
Ни один человек в Эрле не был в это утро занят настолько, чтобы не найти времени сходить к собачьим вольерам и поглазеть на магию, явившуюся в селение из Страны Эльфов, и сравнить троллей с тем, как описывали их все соседи. Жители Эрла долго разглядывали троллей, а тролли долго рассматривали людей, и с обеих сторон нашлось предостаточно поводов для веселья, как часто бывает, когда встречаются умы разного достоинства, одни смеялись над другими, и наоборот. Быстрые прыжки и наглая повадка голых коричневых троллей казались людям не более чудными и достойными насмешек, чем представлялись троллям высокие черные шляпы, смешные камзолы и серьезные лица жителей Эрла.
При виде Ориона, подошедшего к вольерам, жители Эрла сняли свои высокие шляпы, а тролли готовы были посмеяться и над ним, но Лурулу отыскал где-то свой кнут и при помощи этого простого, но действенного орудия легко растолковал своим дерзким сородичам, как им надлежит приветствовать того, в чьих жилах течет волшебная кровь королевского рода, правящего Страной Эльфов.
В полдень жители селения наконец разошлись по домам, громко прославляя магию, что наконец пришла к ним в долину.
В дни, что последовали за возвращением Лурулу, гончие Ориона учились тому, что гоняться за троллем — пустая трата сил, и что рычать на него довольно неразумно, так как вдобавок к легендарной эльфийской скорости каждый из них способен взвиться в воздух выше всякой собаки; кроме того, тролли получили по кнуту, с помощью которого могли отплатить за любое проявление неуважения, что они и проделывали с меткостью, недоступной ни одному человеку Земли, если не считать тех, чьи праотцы на протяжении столетий прибегали к кнуту во время охоты с собаками.
Однажды утром Орион, несмотря на ранний час, поднялся на голубятню и вызвал Лурулу, а тот в свою очередь разбудил троллей и повел их к вольерам. Орион открыл двери и повел всю компанию на восток, через холмы и поля. Гончие бежали плотной группой, а тролли мчались рядом, как колли, табунящие отару овец, и все они направлялись к границе зачарованной земли, чтобы ждать единорогов в том месте, где они выходят из сумерек, желая попастись поздним тихим вечером на нашей земной траве. И когда поля, которые мы знаем, заиграли вечерними красками, охотничий отряд уже приблизился к опалово-голубой границе, что отделяет нашу Землю от Страны Эльфов. Когда земная тьма сгустилась основательно, они сели в засаду и стали поджидать единорогов. У каждой гончей был свой собственный тролль, сидящий рядом, положив правую руку на спину или на загривок пса, успокаивая его и заставляя лежать смирно. В левой руке у каждого тролля был кнут. Эта странная компания была совершенно неподвижна и постепенно растворялась во тьме уходящего вечера.
Земля стала так тиха и темна, как нравилось единорогам, огромные звери бесшумно выступили из сумерек волшебного барьера и успели зайти довольно далеко в поля, которые мы знаем, прежде чем тролли позволили псам шевельнуться. И лишь только Орион отдал сигнал, гончие легко отрезали одну сопящую и фыркающую бестию от ее эльфийского дома и погнали по полям, что принадлежат человеку.
И наступившая ночь укрыла своей вуалью и волшебный галоп гордого зверя, и опьяненных удивительным запахом гончих, и летящие прыжки троллей.
И когда галки на самых высоких башнях замка Эрл увидели над заиндевевшей травой полей багровый край восходящего солнца, Орион вернулся домой с холмов, вернулся со своими гончими и своими троллями, и с собой он нес еще одну голову единорога — такую прекрасную, какую только может пожелать охотник. И гончие, усталые, но гордые, скоро свернулись клубочками в своих вольерах, Орион лег в свою кровать, а тролли, взобравшиеся на полюбившуюся им голубятню; испытали чувство, которого никто из них — кроме, конечно, Лурулу — не испытывал раньше: это были усталость и тяжкий гнет проходящего времени.
Орион проспал весь следующий день, и все его гончие — тоже, и никто из них не задумывался, как им спится и почему; тролли спали беспокойно, хотя все они заснули так быстро, как только смогли, надеясь укрыться от непреодолимой ярости Времени, которое, как они опасались, уже повело против них свою атаку.
Вечером того же дня, пока тролли, гончие и Орион спали, в кузнице Нарла снова собрался парламент Эрла. Двенадцать старейшин, потирая руки и улыбаясь, раскрасневшись от пронзительного северного ветра, несокрушимого здоровья и одолевавших их добрых предчувствий, сразу прошли в дальнюю комнату, наконец-то убедившись, что их владыка, безусловно, волшебник и что теперь в Эрле, несомненно, произойдет что-нибудь великое и значительное, — все они были бесконечно довольны.
— Соплеменники, — сказал Нарл, обращаясь ко всем собравшимся в соответствии с древней традицией, — разве не стало наконец все благополучно с нашей долиной? Взгляните: все, что мы задумывали много лет назад, сбылось, так как наш лорд — настоящий волшебник, как мы и хотели, и волшебные существа стремятся к нему даже из-за границ нашего мира, и все они покорны его воле.
— Это так, — подтвердил Гезик, торговец говядиной. Дряхлым, ничтожным, отрезанным от большого мира был Эрл, уединившийся в своей глубокой долине, и ничем не был отмечен он в истории, но эти двенадцать человек любили его и хотели, чтобы в конце концов имя его прославилось. И вот теперь, слушая кузнеца, они радовались, как дети.
— Какой другой поселок, — вопросил Нарл, — имеет прямое сообщение с зачарованной страной?
Гезик, хоть он и радовался вместе с остальными, все же выбрал во всеобщем веселье паузу и поднялся.
— Множество странных существ, — начал он, — проникло в наше селение с той стороны. Не может ли оказаться так, что человеку все же ближе всего другие люди и больше всего подходит ему тот образ жизни, что установился в полях, которые мы хорошо знаем?
Но От и Трел высмеяли его.
— Магия лучше, — таково было общее мнение, и Гезик замолчал, не осмеливаясь возражать большинству.
Тем временем пьяный мед снова пошел по кругу, и старейшины заговорили о славе Эрла, и вскоре даже Гезик забыл о своих сомнениях и страхе, который их породил.
За разговорами они засиделись далеко за полночь, попивая мед, с благословенной помощью которого старейшины могли без труда заглядывать в грядущие годы настолько далеко, насколько это вообще доступно человеческому зрению, И все же, несмотря на охватившее их веселье, они старались говорить как можно тише, чтобы не услышал их Служитель. Эта радость явилась к ним из земель, что не задумывались о спасении, да и сами они возлагали свои надежды на магию, против которой, как им было прекрасно известно, восставала каждая нота большого колокола, который звонил в селении по вечерам. И, по-прежнему негромко прославляя магию, старейшины наконец расстались и, таясь, разошлись по домам, так как все они опасались проклятья, которым Служитель проклял единорогов, и не знали, не подпадут ли их собственные имена под одно из проклятий, что призывал священнослужитель на головы всех магических тварей.
На следующий день Орион дал своим гончим отдохнуть еще немного, а тролли и жители Эрла занимались тем, что глазели друг на друга. Только через день молодой лорд вооружился мечом и, созвав свору собак и ватагу троллей, снова отправился с ними за дальние холмы к границе из дымчато-белого опала — чтобы сидеть там в засаде, поджидая единорогов.
На этот раз они подошли к границе далеко от места, где охотились за три вечера до того, и тролли наперебой указывали Ориону, куда идти, так как никто лучше них не знал облюбованных единорогами мест. Вновь наступил тихий земной вечер, и в сумерках все стало казаться неясным и расплывчатым, однако охотники так ни разу и не услышали осторожной поступи единорогов и не увидели их смутно белеющих в полутьме тел. Но тролли не ошиблись. Когда Орион уже готов был поддаться отчаянию и отказаться от дальнейшего ожидания, и когда вечер начал казаться ему потерянным полностью и безвозвратно, он вдруг увидел величественного единорога, который гордо стоял на нашей стороне сумеречной границы — там, где за мгновение до этого вовсе ничего не было. И прошло совсем немного времени, прежде чем единорог осторожно двинулся через буйные земные травы, углубившись на несколько ярдов в поля, которые мы знаем.
А за ним появился другой единорог; и он тоже прошел несколько ярдов, после чего оба зверя на протяжении примерно пятнадцати земных минут стояли не шевелясь, если не считать легких движений их настороженных ушей. И все это время тролли сдерживали гончих, заставляя их лежать смирно в тени живой изгороди, и темнота ночи почти скрыла их даже друг от друга, когда единороги наконец отважились еще на несколько шагов. И как только самый крупный из них отошел от границы зачарованной земли на достаточно большое расстояние, тролли спустили собак и сами бросились следом, то и дело испуская насмешливые крики в полной уверенности, что и на этот раз голова зверя достанется Ориону.
Но быстрые маленькие мозги троллей, хоть они и узнали о Земле многое, еще не познакомились с непостоянством луны. Полная темнота была для них неожиданной и новой, так что вскоре они растеряли всех гончих, и отчасти повинен в этом был Орион, который в своем охотничьем азарте не подумал о неудобствах безлунной ночи. Луна должна была взойти лишь ближе к утру, и в темноте он тоже отстал от своры далеко и безнадежно.
Орион быстро собрал троллей, отыскав их по игривым голосам. Все они с готовностью отозвались на зов его рога, но ни одна из гончих не смогла бы оставить сладостный пахучий след волшебного зверя ради всех человеческих труб в мире. Лишь на следующий день усталые псы вернулись домой, так и не догнав своего единорога.
Пока вечером после охоты каждый тролль кормил и чистил своего пса, пока устраивал его на подстилке из свежей соломы, пока расчесывал шерсть и вытаскивал из лап колючки, а из ушей запутавшиеся в волосах репьи, Лурулу сидел в стороне и на протяжении нескольких часов напрягал свой небольшой, но проницательный ум. Он направлял его, словно белый луч солнца, пропущенный через зажигательное стекло, на решение одного вопроса. Вопрос, который Лурулу обдумывал до поздней ночи, был таким: как охотиться на единорогов в темноте при помощи собак? И к полуночи в его удивительной голове созрел один план.
Глава XXIX Искушение болотных жителей
Вечером следующего дня возле болот, что лежали дальше самых отдаленных ферм к юго-востоку от Эрла и страшной пустыней тянулись до самого горизонта, переходя даже через сумеречную границу, проникая в Страну Эльфов, можно было видеть странного пешехода, который направлялся в сторону самых гибельных топей, тускло мерцавших в свете уходящего с Земли дня.
И столь черны были одежды и высокая шляпа пешехода, что его фигура, спускающаяся к краю болот по темнеющей зелени полей, была хорошо заметна даже на фоне серых сумерек. Но в этот поздний час возле бесплодных, заброшенных земель не было никого, кто мог бы его увидеть. Близость грозного ночного мрака уже ощущалась в полях, которые мы хорошо знаем, и все коровы были давно загнаны в стойла, а фермеры сидели по домам, греясь у очагов, так что пешеход шагал к болоту в полном одиночестве. Пока он шел неверными заросшими тропами к зарослям камышей и тростника, которым ветер нашептывал не имеющие никакого смысла для человеческого уха песни, в домах начали один за другим зажигаться и мерцать огни. Шел он с серьезностью и решимостью, указывающими на то, что с людьми его могут связывать какие-то важные дела, спина его оставалась неизменно повернута к людским жилищам, да и шагал он туда, куда не забирался еще ни один человек. Путь его лежал вовсе не к затерянной в болотах деревушке и не к дому одинокого отшельника, так как бездонная трясина тянулась до самой Страны Эльфов. Между ним и туманной границей, разделявшей волшебную страну и Землю, не было ни одного человека, но пешеход стремился туда с таким видом, будто идет по делу необычайной важности. Под каждым его шагом ярко-зеленые мхи начинали колыхаться, и трясина, казалось, готова была вот-вот поглотить неосторожного. Длинный посох в его руках легко погружался в скользкий ил, не давая никакой опоры, но пешехода, казалось, заботило только одно — соблюсти мерную торжественность своей походки. Так он и двигался через гибельные топи, шагая с неторопливым достоинством процессии старейшин, открывающих рынок по праздничным дням и благословляющих честную куплю-продажу и всех фермеров за прилавками с товаром и за многочисленными лотками.
Но вот, то поднимаясь ввысь, то опускаясь к самой земле, пронеслась, зацепив край болота, стайка певчих птиц, возвращающихся домой в свои родные гнезда в гуще живых изгородей; и голуби потянулись к сухой земле, чтобы провести ночь в шуршащих ветвях деревьев; пропали многочисленные шумные грачи; и небо сразу опустело.
Все огромное болото всколыхнулось, узнав о появлении пешехода, стоило ему только ступить на яркий моховой ковер, что колышется на поверхности страшных бездонных окон, как по корням мхов и по стеблям камышей-ситников пробежала особая дрожь, распространившаяся под поверхностью воды, подобно тому, как распространяется свет или разносятся звуки печальных песен. И вскоре волна трепетного возбуждения достигла границы магических сумерек, что отделяет Землю от Страны Эльфов, но и здесь она не остановилась, а, потревожив саму границу, проникла за нее, ощущаясь даже в зачарованной земле, так как в том месте, где болота достигают края нашего мира, сумеречный барьер тоньше и изменчивее, чем где бы то ни было.
Когда возмущение трясины достигло самой глубины болот, из своих бездонных омутов и илистых ям выскочили на поверхность блуждающие огоньки и замигали своими фонариками, заманивая путника все дальше в дрожащие мхи. Наступил час вечернего лета уток, и под свистящий шум крылатой неразберихи пешеход послушно шел туда, куда манили его перемигивающиеся огни — все дальше и дальше от края сухой земли, в глубь болот. Иногда, правда, он отворачивался, и тогда блуждающие огоньки некоторое время следовали за ним, вместо того чтобы вести его, что было бы им гораздо привычнее. Так продолжалось до тех пор, пока им не удавалось вновь обогнать пешехода, чтобы снова направлять его медленные шаги. И сторонний наблюдатель, если бы таковой вдруг оказался в столь темный час в таком гибельном месте, вскоре заметил бы в движениях важного пешехода странное сходство с повадками зеленой ржанки, которая в весеннюю пору притворяется раненой, чтобы увести чужака от мшистого берега, где спрятаны в гнезде ее яйца. А может, эта похожесть была лишь кажущейся, и наблюдатель ничего такого не заметил бы. Как бы там ни было, той ночью в пустынных болотах не было никаких наблюдателей.
А пешеход все шел своим странным маршрутом, то шагая прямо по коварным, гибельным мхам, то поворачивая назад, к безопасной и твердой земле, но куда бы он ни направлялся, его не оставляли ни мрачное достоинство, ни неторопливая уверенность шага, и блуждающие огоньки во множестве собирались вокруг. То глубокое, радостное возбуждение, что предупредило болото о появлении незнакомца, все еще продолжало пульсировать в вязком иле среди корней тростника и никак не прекращалось словно эхо какой-то странной мелодии, способной благодаря магии звучать вечно и будить блуждающие огни даже в Стране Эльфов.
Блуждающие огоньки, собравшиеся вокруг этого странного пешехода, удвоили свои усилия и вскоре пришли в настоящее неистовство, видя, как он с легкостью избегает их ловушек, сворачивая в сторону на самом краю глубоких и смертельно опасных ям. Вскоре все болото узнало, что путник все еще жив и продолжает идти вперед как ни в чем не бывало, и тогда из своих невообразимых, таинственных глубин поднялись самые большие и могущественные из блуждающих огней, которые живут только в Стране Эльфов, — поднялись и ринулись к Земле через сумеречную границу. И тогда все болото заволновалось.
Словно маленькие луны, дерзкие и проворные, замерцали перед странным путником жители болот и повели его за собой, направляя его торжественный шаг прямо к гибели. Однако, как и прежне, все кончалось тем, что им приходилось возвращаться по своим собственным следам чтобы начать все сначала. И только потом эти игривые существа сообразили, что, несмотря на высоту шляпы и длину плаща пешехода, мхи легко выдерживают его вес, хотя под тяжестью любого другого человека они давно бы расступились. Тогда их ярость стала еще сильнее, и они подобрались к странному существу почти вплотную, и куда бы оно ни направлялось, они обступали его со всех сторон, смыкаясь все теснее и теснее.
По мере того как неистовство и гнев блуждающих огней возрастали, их ловушки и приманки становились все примитивнее и проще.
Если бы на болотах все же был наблюдатель, то теперь он увидел бы нечто большее, чем просто пешехода, окруженного сонмищами блуждающих огней. Он наверняка заметил бы, что уже не блуждающие огни заманивают путника, а он увлекает их за собой. И в своем нетерпении погубить чужака жители болот не сознавали, что сами подходят все ближе и ближе к твердой земле.
Когда наступил поздний вечер и все вокруг потемнело, кроме зеркальной поверхности воды, они вдруг обнаружили, что стоят посреди обширного пастбища и что ноги их шуршат по грубой траве, а пешеход сидит перед ними, поджав колени к подбородку, и разглядывает их из-под полей своей высокой черной шляпы. Никогда прежде ни одному путнику не удавалось заманить болотные огни на твердую землю. А ведь этой ночью среди них были старейшие и мудрейшие, что пришли со своими луноподобными огнями из самой Страны Эльфов! Переглянувшись с беспокойством и удивлением, все они без сил опустились на траву, так как после мягкой почвы болот грубая трава и жесткая земля подействовали на них с особенной силой. Лишь потом болотный народец начал замечать, что важный путешественник, чьи блестящие пронзительные глаза разглядывали их из груды черной одежды, ухитрился внушить им столько почтения лишь за счет того, что был чуть более коренастым и круглым, чем они; что же касалось роста, то и в нем он превосходил их ненамного.
— Кто это может быть? — забормотали, переглядываясь, болотные жители. — Кто сумел заманить на сушу болотные огоньки?
Наконец старейшины болотного народа, явившиеся из Страны Эльфов, подошли к незнакомцу поближе, чтобы спросить, как он посмел обмануть таких, как они. И тут он заговорил сам. Заговорил, не вставая с того места, где сидел, и даже не подняв головы.
— Жители болот! — обратился он к болотным огонькам. — Любите ли вы единорогов?
При слове «единорог» презрение и насмешка вспыхнули в крошечных сердцах этих проказливых существ с такой силой, что вытеснили все остальные эмоции. Болотные жители позабыли даже о том, как их самих выманили из привычных зыбких топей на сухой косогор, хотя среди блуждающих огней это считается самым страшным оскорблением, которое, будь их память чуть-чуть подлинней, они ни за что бы никому не простили. Но услышав о единороге, все они дружно захихикали, не производя, впрочем, ни звука, так как, хихикая, болотные жители просто размахивают вверх и вниз своими огоньками, которые вспыхивают, словно крошечное зеркальце в озорной руке.
Да и как им было не захихикать? Любить единорогов — это же надо такое придумать! Ни любви, ни даже простой симпатии не питали они к этим надменным существам. Пусть сперва научатся разговаривать с болотными жителями, когда приходят напиться к их водоемам! Пусть научатся с почтением относиться к огромным болотным огням Страны Эльфов и другим, гораздо более скромным, что освещают ночами болота Земли!
— Никто из нас не любит гордых единорогов, — сказал старейшина блуждающих огней.
— Тогда идемте со мной, — предложил незнакомец, — и мы будем вместе охотиться на них. Вы будете светить нам своими огоньками, пока мы с собаками будем гнать их по людским полям.
— Почтенный странник… — начал было старейшина болотных жителей, но не договорил, так как в этот самый момент странный прохожий отшвырнул в сторону шляпу и, выпрыгнув из своего черного длинного одеяния, предстал перед ними голышом, и тогда все увидели, что провел их не кто иной, как тролль.
При виде его их гнев сразу остыл, так как за десятки и сотни веков жители болот столько раз обманывали троллей, а тролли столько раз обводили вокруг пальца блуждающие огни, что счет этому давно был потерян, и только мудрейшие могли сказать, кому подобные проделки удавались чаще и насколько. Вот и теперь жители болот легко утешились воспоминаниями о тех временах, когда они оставляли в дураках троллей, и сразу согласились помочь охоте на единорогов своими огоньками, так как на твердой земле их воля слабела и они легко соглашались на любые предложения и склонялись перед чужими желаниями.
Троллем, который так ловко провел болотных жителей, был, конечно, Лурулу, прекрасно знавший, как любят блуждающие огни заманивать одиноких путешественников. Раздобыв шляпу с самой высокой тульей и самый длинный и темный плащ, какой ему удалось стащить, он соорудил приманку, которая — он не сомневался — соберет болотных жителей отовсюду. После того как ему удалось завлечь блуждающие огни на твердую землю и заручиться их обещанием освещать путь охотникам на единорогов и оказывать другую посильную помощь, он повел их в сторону селения Эрл. Сначала медленно, чтобы дать их ногам освоиться с твердой землей; потом все быстрее и быстрее, и наконец привел всю их прихрамывающую компанию в Эрл.
Когда во всех болотах не осталось ничего, что хотя бы отдаленно напоминало человека, на тихие просторы в шуме и шорохе больших крыльев опустились осторожные дикие гуси. Юркий чирок шмыгнул в заросли камыша, а темный вечерний воздух огласился голосами и шорохом крыльев летящих уток.
Глава XXX Слишком много магии
Теперь в Эрле, который так долго вздыхал по волшебству, действительно обосновалась самая настоящая магия. Весь чердак и старая голубятня над конюшнями замка были оккупированы троллями. Они то и дело устраивали какую-нибудь шалость, а блуждающие огни метались по улицам еще долго после того, как жители селения расходились по домам. Им особенно полюбились сточные канавы, а свои дома они устроили вдоль топких берегов утиных прудов и на старых крышах, где разросся мягкий черно-зеленый мох.
Казалось, что в старом поселке все переменилось. От близости всех этих магических существ волшебная кровь Ориона, мирно дремавшая, покуда его окружали обычные люди и обычные разговоры о каждодневных человеческих заботах, очнулась ото сна и разбудила в его голове самые странные мысли. Голоса эльфийских рогов, которые Орион слышал каждый вечер на протяжении всей своей жизни, обрели для него новый смысл и значение, да и звучали они гораздо громче, словно приблизившись к полям, которые мы знаем.
Жители Эрла, наблюдавшие своего лорда при свете дня, заметили, что он все чаще поглядывает в сторону Страны Эльфов и пренебрегает обычными земными заботами; ночью же его окружали расплывчатые пятна блуждающих огней и пронзительные голоса троллей, говоривших на своем непонятном языке. И постепенно в Эрле поселился страх.
Примерно в это же время старейшины селения — двенадцать трясущихся, седых старцев — снова собрались на совет, придя к дому Нарла. Дневные работы были закончены, и на селение опустился вечер, дышавший волшебством зачарованной земли. Каждый из них по дороге из дома в кузницу видел танцующие на обочине болотные огни и слышал доносящееся из голубятни верещание троллей, чего не увидишь и не услышишь ни в одной христианской земле. Некоторые даже видели крадущиеся в темноте тени, которые не могли принадлежать ни одной из земных тварей, и страшились их, как и всех, кто пересекал сумеречную границу зачарованной земли, чтобы навестить троллей.
Заседая в кузнице Нарла, старейшины старались говорить негромко, и каждый рассказывал одно и то же: о напуганных детях, о женщинах, требующих, чтобы все стало по-старому, и все косились то на окна, то на двери, не зная, что может оттуда появиться. И наконец От сказал:
— Давайте пойдем посольством к лорду Ориону, как мы ходили в длинную красную залу к его деду. Давайте расскажем ему, как мы стремились к магии и как ныне, увидев ее собственными глазами, решили, что с нас довольно волшебства. И пусть Орион больше не следует традициям колдовства и откажется от всего, что недоступно обычному человеку.
Но чу! Что это? Стоя среди своих притихших соседей и давних товарищей, От чутко прислушался. Гоблины ли передразнивают его или простое эхо? Но что бы ему ни почудилось, в кузнице снова стало тихо и ночь за окном тоже молчала.
— Слишком поздно, — возразил охотнику Трел, который единственный видел, как их лорд неоднократно стоял один на холме и прислушивался к каким-то далеким голосам. При этом лицо его было обращено на восток, в сторону Страны Эльфов. И как ни старался Трел, он не уловил ни слов, ни шепота и никаких посторонних звуков. Тогда ему стало ясно, что Ориона зовет что-то, чего не могут услышать простые смертные.
— Теперь слишком поздно, — повторил он.
Именно этого и боялись все остальные.
Потом медленно поднялся Гузик, беспокойно прислушиваясь к тому, как на старой голубятне верещат, словно летучие мыши, нахальные тролли, как танцуют вдоль сточных канав бледные болотные огни и как крадутся в темноте страшные тени, чья мягкая поступь то и дело доносилась до слуха двенадцати собравшихся во внутренней комнате кузницы.
И Гузик молвил:
— Мы хотели иметь маленькую магию…
С голубятни отчетливо донеслась стрекочущая, непонятная речь троллей, и старейшины принялись горячо обсуждать, сколько и какой магии они хотели, обдумывая свои далеко идущие планы в те времена, когда дед Ориона был владыкой Эрла. Лишь задумавшись о том, что же теперь делать, они в конце концов прислушались к плану, который предложил Гузик, а предложил он вот что:
— Если нам не удастся отвратить нашего лорда Ориона от магических чудес, — сказал он, — если его мысли и желания по-прежнему будут устремляться в Страну Эльфов, нам придется подняться на холм, где живет колдунья Жирондерель, рассказать ей о нашей беде и попросить какое-нибудь заклятье, которое можно было бы использовать против лишней магии.
Услышав про Жирондерель, старейшины приободрились, так как знали, что ее волшебство сильнее магии болотных огней и что не сыщется такого тролля или темной твари, которая не испугалась бы ее метлы. Приободрившись, они потребовали у Нарла крепкого меда и, наполнив кружки, подняли тост за Гузика.
Было уже далеко за полночь, когда старейшины встали, чтобы идти по домам. По дороге они старались держаться поближе друг к другу и пели старинные мрачные песни, чтобы отпугнуть неведомых тварей, которых они опасались, хотя ни тролли, ни жители болот не боятся ничего, что кажется страшным человеку. Когда из всех старейшин на улице остался только один, он со всех ног побежал по улице к своему дому, а блуждающие огни весело преследовали его.
На следующий день старейшины пораньше закончили свою работу, так как им очень не хотелось оказаться на холме колдуньи ни после наступления темноты, ни даже в сумерках. Поэтому они встретились возле кузницы Нарла сразу же после обеда и вызвали кузнеца. Все старейшины были облачены в одежды, которые надевали, когда отправлялись с остальными жителями селения в святилище Служителя, хотя каждый понимал, что едва ли отыщется проклятая им душа, которую не благословила бы Жирондерель. Когда кузнец вышел, все они зашагали к холму, опираясь при ходьбе на свои короткие и толстые палки.
Старейшины добрались до дома ведьмы так скоро, как только могли. Они увидели Жирондерель, сидевшую у порога и смотрящую куда-то вдаль. Колдунья по-прежнему выглядела не моложе и не старше, чем всегда, и казалось, что стремительный ход времени нисколько ее не касается.
— Мы — старейшины Эрла, — сказали старейшины, выстроившись перед ней в своих парадных костюмах.
— А-а… — отозвалась Жирондерель. — Так это вы хотели магии? Ну как, пришла ли она в вашу долину?
— Пришла, — ответили старейшины. — У нас ее столько, что мы готовы поделиться с любым.
— То ли еще будет, — загадочно ответила Жирондерель.
— Мать-колдунья, — выступил вперед Нарл, — мы пришли, чтобы молить тебя о помощи. Не дашь ли ты нам какое-нибудь доброе заклинание, которое оградило бы нас от магии и не позволило никакому новому волшебству проникать в нашу долину, так как и того, что уже есть, чересчур много.
— Чересчур много?! — воскликнула Жирондерель. — Чересчур много волшебства? Да разве не волшебство составляет самую суть жизни и ее вкус? Разве не оно украшает и придает жизни блеск и красоту? Нет, клянусь моей метлой, я не дам вам ни одного заклинания против магии!
Старейшины подумали о блуждающих огнях, о едва различимых во тьме существах со странными голосами и обо всех странностях и чудесах, которые еще могут произойти в их возлюбленной долине. И тогда они снова принялись упрашивать ведьму, стараясь говорить как можно убедительней и учтивее.
— Прости нас, мать-колдунья, — сказал Гузик, — но магии действительно слишком много. Похоже, все существа, которым положено обитать в Стране Эльфов, перешли границу и ринулись в нашу долину.
— Так и есть, — поддержал товарища Нарл. — Граница прорвана, и конца нашествию не видно, а ведь блуждающим огням положено жить в болоте, троллям и гоблинам — в Стране Эльфов, а мы, люди, должны держаться других людей. Таково наше общее мнение. Что же касается волшебства, которого желали много лет назад, когда все мы были молоды, то теперь нам ясно — оно не для человека.
Жирондерель молча смотрела на него, и глаза ее, горевшие, как у кошки, светились все ярче и ярче. Видя, что колдунья не двигается и молчит, Нарл снова принялся ее уговаривать.
— О, мать-колдунья! — воскликнул он. — Неужели ты не поможешь нам ни одним заклятьем, с помощью которого мы могли бы осадить от магии наши дома?
— Ни одним заклятьем!.. — прошипела Жирондерель. — Ни заклятьем, ни амулетом, клянусь моей метлой, звездами и полетами в ночной темноте! Неужели вы хотите лишить Землю этого удивительного наследства, которое досталось ей от прежних времен? Неужели вы отнимете это драгоценное сокровище и оставите ее ни с чем на посмешище другим планетам? Ведь без магии, без волшебства, которых у нас — на зависть темноте Вселенной — в достатке, мы стали бы нищими… — И она наклонилась вперед с высокого порога своего дома и, пристукнув по земле своим посохом, устремила прямо в лицо Нарлу взгляд своих немигающих глаз.
— Нет, — сказала она, — я скорее дала бы вам заклинание против воды, чтобы весь мир страдал от жажды, чем заклинание против песни ручья, которая вечерами негромко звенит за гребнем холма. Она не слышна бодрствующему, но вплетается в наши сны, рассказывая нам о древних войнах, что вели духи Воды, и об их утраченных любимых. И я скорее дам вам заклятье против хлеба, чтобы весь мир голодал, чем заклятье против волшебства пшеницы, которое при свете июльской луны наполняет золотом лощины и в котором короткими теплыми ночами во множестве странствуют те, о ком человек ничего не знает. И скорей я сообщила бы вам заклятье против уюта, одежды, еды, тепла и крыши над головой — заклятье окончательное и необратимое, — чем лишила бы скромные земные поля той магии, которая служит им и теплым плащом, защищающим от леденящего холода Вселенной, и нарядным платьем, укрывающим их от жестоких насмешек пустоты.
Ступайте же отсюда! Ступайте к себе в деревню и знайте, вы, кто стремился к магии в юности, но не хочет иметь с ней дело в зрелые годы, что слепота духа, которая поражает человека к старости, еще хуже, чем слепота глаз, так как она окружает вас черной пеленой, сквозь которую нельзя ни рассмотреть, ни услышать, ни почувствовать, ни понять ровным счетом ничего. И ни один голос, что раздается из этой черноты, не убедит меня составить заклинание против магии.
Вон! Пошли вон!
Воскликнув: «Вон!» — колдунья навалилась всем своим весом на черную палку, явно собираясь встать, и старейшинами овладел сильный страх. В тот же момент они увидели, что вечер близок, и вся долина скрылась в тени, и только вершина холма, где росла ведьмина капуста, все еще озарена светом уходящего дня, так как, слушая суровую отповедь Жирондерели, они позабыли о времени. Только теперь старейшинам бросилось в глаза, что час довольно поздний, а прохладный ветер, заставивший их вздрогнуть, показался предвестником близкой ночи, подступившей к самым холмам, и даже воздух, который они вдыхали, был словно напоен тем самым волшебством, для защиты от которого старейшины надеялись получить у колдуньи могучее заклинание.
И они оказались в этот тревожный час вдали от своих домов, на холме, лицом к лицу с ведьмой, которая явно готовилась подняться, а ее глаза были устремлены прямо на них. Вот Жирондерель слегка привстала со своего кресла, и не было никаких сомнений, что еще несколько мгновений, и она уже будет ковылять между ними и, сверкая глазами, заглядывать в лицо каждому.
Старейшины повернулись и дружно бросились бежать вниз по холму.
Глава XXXI Волшебные твари прокляты
Сбежав вниз по холму, старейшины Эрла оказались в полутьме вечерних сумерек, серой пеленой сгустившихся над долиной чуть выше поднявшегося от ручья тумана. И все же в воздухе чувствовалось нечто большее, чем обычная таинственность земного вечера. Свет, мерцающий в окнах домов, свидетельствовал, что все жители уже разошлись по домам, и на улицах селения не было ни одного человека, если не считать лорда Ориона, который подобно длинной, бесплотной тени, молча, почти крадучись прошел к облюбованной троллями голубятне в сопровождении толпы блуждающих огней, и мысли его были далеки от Земли. И чудеса, что день за днем скапливались в селении, придавали Эрлу такой неуютный, сверхъестественный, чужой облик, что старейшины, и без того запыхавшиеся, невольно ускорили шаг.
Они явились в святилище, стоящее на выходящем к холму Жирондерели краю селения, явились в тот самый час, когда Служитель обычно сзывал жителей на «Птичью Колыбельную», как прозвали в Эрле вечерние песнопения. Но на этот раз старейшины застали Служителя не в святилище, а вне его. Не обращая внимания на ночную прохладу, он стоял на верхней ступеньке крыльца, и лицо его было обращено в сторону Страны Эльфов. Словно в праздник, Служитель был облачен в свою белую сутану с пурпурно-лиловой каймой и имел на груди священный золотой знак, и только дверь святилища была плотно закрыта, и сам он стоял к ней спиной. И старейшинам было удивительно видеть его здесь, да еще в такой одежде.
Пока они удивлялись, Служитель, по-прежнему глядя на восток, где уже появились первые бледные звезды, вдруг заговорил, и его голос прозвучал в вечерней тишине отчетливо и ясно. И все слова он выговаривал громко, приподняв голову словно затем, чтобы его услышали и жители Страны Эльфов по ту сторону сумеречной границы.
— Да будут прокляты все твари, — говорил он, — которым нет места на Земле. Да будут прокляты все огоньки, что обитают среди топей и болот, так как их дом — в глубине зловонной трясины; так пусть они пребудут там до Судного дня и пусть там настигнет их высшее проклятье!
И пусть будут прокляты гномы, тролли, эльфы и гоблины на Земле и все духи воды. Пусть будут прокляты фавны и те, кто поклоняется Пану. Пусть будут прокляты все, кто обитает на вересковых пустошах, за исключением домашнего скота, принадлежащего человеку. Да будет проклято волшебство и все сказки, что о нем рассказывают; да будет проклята магия предрассветных лугов, и все истории сомнительного свойства, и все предания, что дошли до нас из глубины нечестивых времен.
И да будут прокляты метлы, что покидают свое место у очага, и все ведьмы, и их темное искусство. И пусть будут прокляты поганые грибы, что растут кругами, и все, что танцует внутри этих кругов. Пусть будут прокляты все мерцающие огоньки, странные песни, незнакомые тени и молва о них; пусть будут прокляты чудные обитатели сумерек и существа, что вызывают детские страхи, и все рассказы старух, и пляски на Иванов день — пусть будет проклято все это вкупе с тем, что только склоняется к Стране Эльфов, и тем, что приходит к нам оттуда!
Не было в селении ни одной улицы, ни одного амбара, над которыми не плясали бы блуждающие огоньки. Вся наступившая ночь была вызолочена ими. Пока добрый Служитель говорил, они понемногу отступали перед его проклятьями, отплывая подальше, словно относимые порывами легкого ветра, и снова принимались танцевать в воздухе. Так они мерцали и перед стоящим на ступеньках святилища Служителем, и позади него, и по правую руку, и по левую, и вскоре он очутился в полной темноте, за границами которой подпрыгивали и перемигивались волшебным светом болотные огни.
А внутри мрачного круга, в котором стоял творящий проклятья Служитель, не осталось ничего греховного. Даже ночь в его пределах потеряла свое загадочное очарование. Не слышался там странный чужой шепот, и не звучала далекая музыка, прилетевшая из тех краев, где нет людских жилищ; все было благопристойно и привычно, и никакие тайны не тревожили спокойствия и тишины, за исключением тех, что доступны человеку.
За пределами круга, откуда страстными проклятьями доброго Служителя было изгнано столько чудес, все так же неистово и весело плясали блуждающие огни и все удивительные существа, что явились этой ночью из Страны Эльфов, и пировали гоблины, справляющие какой-то гоблинский праздник, так как по всей зачарованной земле разнесся слух, будто веселая и беззаботная компания троллей обосновалась нынче в Эрле и множество легендарных тварей и мифических чудовищ перешли сумеречный барьер следом за ними и приползли в селение, чтобы посмотреть, что и как. Призрачные, обманчивые, но дружелюбные болотные огни танцевали в заколдованном воздухе и приветствовали их.
Но не только ради троллей и блуждающих болотных огней эти странные существа покинули зачарованный край и перебрались через сумеречную границу. Главной причиной служили мысли и устремления Ориона, которые благодаря его эльфийской крови были близки мифическим тварям и имели одну природу с чудищами Страны Эльфов. Они-то и звали их в Эрл. С того самого дня, когда он впервые подошел к границе Земли и едва не шагнул сквозь стену сумерек в зачарованную страну, Орион все больше и больше тосковал по своей матери, и вот теперь — хотел он того или нет — его эльфийские мысли сзывали и манили его эльфийскую родню, что обитала на равнинах и в лесах волшебной страны. В час, когда голоса удивительных рогов доносились до Земли через волшебную границу, вслед за этими звуками устремлялись в знакомые нам поля самые удивительные тамошние существа и фантазии, так как между эльфийскими мыслями и эльфийскими тварями разницы не больше, чем между троллями и гоблинами.
А в темноте и покое тесного пространства, расчищенного проклятиями Служителя, молча стояли двенадцать старейшин, стояли и прислушивались к каждому слову. И звучащие слова казались им весьма подходящими, успокаивающими и правильными, так как они слишком устали от всего магического.
За пределами этого круга — среди мерцания болотных огней, коими была озарена вся ночь, среди смеха гоблинов и необузданного веселья троллей, среди оживших легенд, воплощенных тайн и персонажей самых страшных историй, среди странных звуков, неясных фигур и удивительных теней — быстро прошел со своими гончими Орион, прошел на восток, к Стране Эльфов.
Глава XXXII Лиразель тоскует о Земле
В зале, что был выстроен из лунного света, музыки, мечты и миражей, Лиразель опустилась на колени перед троном отца, и свет волшебного трона засиял голубым огнем в ее глазах, а они полыхнули в ответ светом, который еще больше усилил магию трона. Стоя на коленях, она стала умолять отца использовать свою последнюю руну.
Минувшие дни никак не хотели отпускать Лиразель, и сладостные воспоминания переполняли ее сердце; любовь принцессы принадлежала лужайкам Страны Эльфов, на которых когда-то, еще до того, как началась писанная история Земли, она играла среди удивительных невянущих цветов; и сильна была ее привязанность к очаровательным и пушистым сказочным существам, что словно тени выскальзывали из полутьмы заколдованного леса и бесшумно носились по изумрудной траве; и по-прежнему дороги были ей предания, песни и заклинания, из которых создан ее магический дом. И все же колокола Земли, хоть они и не могли одолеть границу сумеречной тишины, нота за нотой вызванивали в ее голове, и сердцем своим Лиразель ощущала рост самых скромных земных цветов, что в зависимости от времени года распускались, отцветали или засыпали в наших полях. И по мере того как эти времена года — как и все на Земле — тоже уходили в прошлое, Лиразель ощущала и бесконечные скитания Алверика, и полную перемен жизнь взрослеющего Ориона, понимая, что если земные сказки не врут, то оба они вскоре будут потеряны для нее безвозвратно и навсегда, и произойдет это, как только за ними с золотым звоном захлопнутся райские врата, так как из Страны Эльфов до Небес нельзя ни дойти, ни долететь, ни добраться тем или иным способом. Никогда эти две страны не сообщались между собой.
Но как ни тосковала Лиразель по колоколам Земли и по британским первоцветам, она не хотела снова покидать ни своего могущественного отца, ни мир, созданный его волшебством. И по-прежнему далеко был Орион, ее мальчик. Только раз Лиразель услышала рог Алверика, да порой какие-то странные желания словно бы витали в воздухе, тщетно мечась туда и сюда между ней и Орионом. Мерцающие колонны, которые поддерживали дворцовый свод, слегка дрожали, разделяя ее горе, и тень ее печали мелькала и таяла в толще хрустальных стен, ненадолго приглушая волшебные краски. Да и что было делать той, что не могла отринуть магию и покинуть свой удивительный дом, любовь к которому внушил ей волшебный день, длившийся и длившийся, пока на земных берегах уносились в небытие столетия, но чье сердце оставалось привязано к Земле теми невидимыми нитями, что тонки, но крепки, слишком крепки?
Опустившись на колени перед троном отца, стоявшим в самом сердце волшебной страны, Лиразель умоляла его прибегнуть к последней могущественной руне. Вокруг нее толпились колонны, о которых может рассказать только песня, и их туманные громады тоже были растревожены и смущены ее печалью. Лиразель просила отца использовать заклинание, которое вернуло бы ей Алверика и Ориона, по каким бы полям Земли они ни бродили, и которое перенесло бы их через сумеречную границу в зачарованные земли, чтобы они могли жить, не старясь в безвременье бесконечного эльфийского дня. И еще молила Лиразель, чтобы вместе с ними могли перенестись в Страну Эльфов чудесные сады Земли, поросшие фиалками, задумчивые берега и лощины, где горит ранний первоцвет, и чтобы их земная красота продолжала вечно сиять среди чудес зачарованной страны.
Ответ короля, произнесенный его удивительным волшебным голосом, прозвучал подобно музыке, какой никогда не слышали города Земли и о какой даже во сне не мечтали ее поля, и эти звенящие слова способны были изменить форму пригрезившихся нам холмов и заставить новые, удивительные цветы распуститься в лугах зачарованной страны.
— У меня нет заклинания, — сказал король, — которое могло бы перенести через сумеречную границу в нашу волшебную страну что-либо с полей Земли, будь то фиалки, первоцветы или люди. Они не пройдут через магический барьер, который я сам воздвиг для того, чтобы защитить Страну Эльфов от всего вещественного, тривиального, мирского. Ни одно мое заклинание не может этого, кроме одной-единственной руны, в которой заключено высшее могущество нашего королевства.
Лиразель, все еще стоя на коленях на полу, о безупречной прозрачности которого следует рассказывать только в песне, стала молить короля прибегнуть к этой могущественной руне, к этому последнему средству, пусть оно будет даже самым великим чудом Страны Эльфов.
Но королю очень не хотелось использовать эту могущественную руну по такому ничтожному поводу, так как она была последней из трех и самой сильной из всех его заклинаний и хранилась под замком в его сокровищнице. Ему хотелось сохранить ее, чтобы использовать против неведомых опасностей отдаленного дня, свет которого только-только вставал где-то за горизонтом столетий и был еще слишком далек, чтобы король мог отчетливо рассмотреть его даже при помощи своего волшебного зрения.
Лиразель знала, что ее отец сначала отодвинул Страну Эльфов далеко от края Земли, а затем вернул обратно, подобно тому как луна управляет приливами, так что теперь зачарованная земля снова подступила вплотную к людским полям, затопив своим сумеречным светом дальние концы живых изгородей. И еще она знала, что ее отец — как и луна — не прибегал для этого ни к каким редкостным чудесам, а просто взмахом волшебной руки указал своему королевству, куда ему надлежит двигаться. Неужто не может он, думала Лиразель, приблизить Страну Эльфов еще ближе к Земле, не прибегая ни к каким магическим силам сверх тех, что использует луна в первой и третьей четверти? И она продолжала упрашивать отца, напоминая ему о чудесах, которые он сотворил простым мановением руки, не прибегая ни к каким чарам. И еще говорила Лиразель об удивительных орхидеях, что однажды перевалили через утесы и подобно розовой пене спустились вниз по склонам Эльфийских гор; говорила о нежных соцветиях незнакомых лилово-красных цветов, распустившихся однажды среди травы в лесистых долинах, и о сверкающем великолепии невянущих цветочных чашечек, что вечно обрамляли шелковистые зеленые лужайки, так как все эти чудеса свершились когда-то по воле короля эльфов. И птичьи песни, и неистовое буйство распускающихся цветов — все это было рождено, его вдохновением, и если подобное волшебство совершалось одним движением его руки, то, несомненно, королю достаточно было просто шевельнуть пальцем, чтобы чуть ближе стали поля людей, лежащие у самой границы. И уж наверняка мог король двинуть Страну Эльфов еще немного в сторону Земли, раз совсем недавно он отвел ее от края фермерских полей на дистанцию большую, чем длина полета кометы, а потом вернул обратно.
— Ни одно волшебство, ни одно заклятье и ни одно магическое вдохновение никогда не смогут заставить наше королевство вторгнуться на территорию Земли, — сказал король, — даже на ширину птичьего крыла или перенести что-то оттуда к нам, кроме единственной руны. И в тех полях почти не знают о том, что только одна руна на это способна.
Но Лиразели с трудом верилось, что даже легендарное могущество ее мудрого отца не в силах свести вместе чудеса Страны Эльфов и красоты Земли.
— Поля Земли, — добавил король, — отторгают мое волшебство; там не звучат мои заклинания и теряет силу моя правая рука.
И когда он сказал о своей грозной правой руке, Лиразель волей-неволей поверила ему и принялась умолять пустить в ход свое высшее волшебство — последнюю руну, главное сокровище Страны Эльфов, бережно хранимое на Протяжении долгого-долгого времени, которое одно способно было справиться с неподатливой и грубой тяжестью Земли.
Король мысленно отправился в будущее, вглядываясь далеко в грядущие годы. Легко было Лиразели просить короля использовать это страшное заклятье, способное удовлетворить ее единственное желание, и так же легко исполнил бы ее просьбу, будь он всего лишь человеком. Останавливала короля лишь его беспредельная мудрость, с помощью которой он видел в грядущих годах столь многое, что боялся противостоять им, не имея в запасе могущественного магического средства.
— За границами нашей страны, — сказал король, — материальные предметы сильны, многочисленны и жестоки; они обладают способностью сбивать с толку и размножаться, так как в них тоже заключено своеобразное волшебство. И когда эта последняя руна будет использована, во всем нашем королевстве не останется ничего, что внушало бы им страх, и тогда материальные предметы начнут собираться с силами и множиться, а мы, не имея возможности внушить им благоговение и трепет, постепенно превратимся в сказку. Нет, нужно хранить это могучее заклятье как зеницу ока.
Король уговаривал дочь, вместо того чтобы приказать ей, хотя был создателем и полновластным владыкой и зачарованных земель, и всего того, что обитало в них, и даже волшебного света, который заставлял Страну Эльфов сверкать всеми своими волшебными красками. Да и здравый смысл, к которому он прибег, пытаясь успокоить Лиразель и заставить ее отказаться от своих земных фантазий, считался в волшебной стране редкостным чудом.
Но Лиразель не ответила; она только заплакала. Из ее глаз покатились капли зачарованной росы. И тогда завибрировала вся могучая гряда Эльфийских гор и все сказочные существа, что обитали в Стране Эльфов, почувствовали странное томление, словно в сердцах их умирала прекрасная песня.
— Разве не лучше будет для Страны Эльфов, если я сохраню это заклятье? — спросил король, но Лиразель продолжала горько плакать.
Король вздохнул. Он еще раз подумал о благе своего королевства, так как Страна Эльфов черпала свое счастье в спокойствии дворца, он был ее сердцем, но теперь его шпили оделись тревогой, стены потускнели, а из арки ворот струилась печаль, разносясь по всем волшебным полям и зачарованным лесистым долинам. И если бы принцесса была довольна и счастлива, Страна Эльфов могла бы без помех наслаждаться тем удивительным светом и безмятежным покоем, благословение которых распространяется на все сущее, кроме предметов материального мира. Что же еще нужно этой земле, какое высшее счастье? Да никакого, пусть ради этого и будет опустошена королевская сокровищница!
И король отдал приказ. Тотчас эльфийские существа подали ему ларец, а за ними, печатая шаг, вошел рыцарь, охранявший сокровищницу бесконечно долго.
Король отпер ларец при помощи заклинания, так как никаким ключам его замок не поддался бы, и, достав оттуда древний пергаментный свиток, прочел его, пока Лиразель плакала. Слова рифмованного заклинания прозвучали в его устах, словно ноты скрипичного оркестра, состоящего из лучших музыкантов-виртуозов, выхваченных из минувших веков и играющих в глухом лесу в полночь на Иванов день, когда в небе горит странная луна и воздух напоен безумием и тайной, а в темноте, невидимые, но близкие, рыщут существа, о которых не знает человеческая премудрость.
Король прочел свое последнее великое заклинание, и, услышав его, магические силы повиновались ему не только в Стране Эльфов, но и за ее пределами.
Глава XXXIII Сияющая линия
Скитания Алверика продолжались. Из всего своего маленького отряда он был единственным, кто не утратил надежду. Даже Нив и Зенд, которых вплоть до последнего времени вела все та же фантастическая цель, ради которой и было предпринято это отчаянное путешествие, больше не мечтали о Стране Эльфов. Они были целиком поглощены своим планом: помешать Алверику попасть туда, — так как безумцы подвержены колебаниям в гораздо меньшей степени, чем люди здоровые, и даже за свои заблуждения держатся гораздо упрямее, чем любой нормальный человек. Зенд, который столько лет шел вперед, надеясь найти Страну Эльфов, теперь, после того как увидел ее границу, рассматривал зачарованную землю только как соперницу луны. Нив, который тоже перенес многое ради Алверика и его возвышенной цели, разглядел в Стране Эльфов нечто гораздо более сказочное, чем все, что когда-либо являлось ему во сне. Поэтому когда Алверик пытался неловко польстить этим двум изворотливым и свирепым умам, Зенд обычно отвечал ему коротко: «Луна этого не хочет», в то время как Нив лишь снова и снова бормотал: «Разве не достаточно было у меня сновидений?»
Они шли в обратном направлении, шли мимо тех же ферм, что видели много лет назад. Они появлялись в сумерках со своей серой рваной палаткой, от присутствия которой вечера казались еще более темными и унылыми, и ставили ее в тех же полях, где и они сами, и их изодранный тент уже давно стал легендой. И все это время за Алвериком неусыпно следили чьи-нибудь безумные глаза, чтобы не дать ему ускользнуть из лагеря и бежать в Страну Эльфов, где сны еще удивительнее, чем в воспаленном мозгу Нива, и где силы более могущественные, чем луна.
Несколько раз под покровом ночной темноты Алверик действительно предпринимал попытки скрыться из лагеря. В первый раз он бежал в лунную ночь, предварительно дождавшись того момента когда, как ему казалось, весь мир крепко заснул. Он знал, что граница зачарованной земли проходит совсем недалеко и, выбравшись из палатки, отправился прямо к ней по равнине, залитой призрачным светом луны и исчерченной длинными черными тенями. Алверик благополучно миновал крепко спавшего Нива, но не успел как следует удалиться от лагеря, как наткнулся на Зенда, который неподвижно сидел на обломке скалы, глядя на лик луны. Вдохновленный ночным светилом, Зенд внезапно обернулся и с громким криком бросился на Алверика. Алверику нелегко было отбиться от безумца голыми руками, так как меч у него отобрали уже давно, а тут и Нив проснулся и в ярости поспешил на помощь Зенду, так как их объединяла теперь общая ревность к Стране Эльфов. Каждый понимал, что чудеса зачарованной земли намного превосходят любые фантазии, которые способны появиться в их головах. И во второй раз Алверик попытался бежать в безлунную ночь, однако едва он вышел за пределы лагеря, как наткнулся на Нива, который сидел в полной темноте, упиваясь странным, безрадостным единением, установившимся между его больным разумом и межзвездным мраком. Стоило Ниву заметить Алверика, крадущегося в сторону земли, чьи чудеса оставляли далеко позади все его жалкие фантазии, как в голове его вспыхнула та самая ненависть, какую порой испытывает низшее существо к высшему, и тогда, даже не прибегая к помощи Зенда, он бесшумно нагнал беглеца и нанес ему такой сильный удар кулаком, что Алверик без чувств распростерся на земле.
После этого случая Алверик уже не мог предпринять ни одной попытки освободиться, их сразу же предвосхищал безумный разум.
Так эти трое — один пленник и двое тюремщиков — шли через заселенные людьми поля. Алверик несколько раз пытался прибегнуть к помощи фермеров, однако хитрец Нив прекрасно знал все трюки, какие может выкинуть мозг здорового человека. Именно поэтому, когда окрестные жители сбегались со всех сторон к странной серой палатке, из которой доносились крики Алверика, они натыкались на Нива и Зенда, которые встречали их с тщательно отрепетированной невозмутимостью и позволяли всякому выслушать путаный и сбивчивый рассказ своего спутника о его путешествии и о поисках Страны Эльфов. Известно, что большинство людей до сих пор полагает страсть к путешествиям одним из проявлений безумия, а Нив как раз на это и рассчитывал. Алверик так и не получил помощи.
Возвращались они той же дорогой, по которой годами ехали на поиски Страны Эльфов, и Нив возглавлял теперь этот маленький отряд из трех человек, шагая впереди с высоко поднятым исхудалым лицом. Нив нес меч Алверика, эфес которого выступал далеко вперед, а клинок в поцарапанных ножнах торчал сзади, и так уверенно шагал он и так гордо держал голову, что редким путникам, попадавшимся навстречу, казалось, будто этот оборванный человек является предводителем отряда гораздо более многочисленного, чем тот, что следует за ним на расстоянии нескольких ярдов. А если кто-то вдруг встречал их поздним вечером, когда за спиной Нива сгущались плотные сумерки и вставали болотные туманы, он действительно мог поверить, что в темноте скрывается целая армия, которая следует за своим оборванным, но веселым и уверенным в себе полководцем. Но будь там армия, Нива никто не счел бы безумным. И поверь мир, что армия существует, хотя за Нивом следовали только Алверик с Зендом, он был бы признан нормальным. Но, к счастью, одинокие фантазии, у которых не было ни фактов, чтобы на них опереться, ни даже досужих выдумок, чтобы ими питаться, оставались всего лишь фантазиями, и в них любой здравомыслящий человек без труда мог разглядеть чистой воды безумие.
Шагая следом за Нивом, Зенд приглядывал за Алвериком, так как общая зависть, которую они питали к чудесам волшебной страны, накрепко связала двоих безумцев, и оттого оба действовали с редкостным единодушием, словно обуреваемые одной сумасшедшей страстью.
Как-то поутру Нив выпрямился во всю высоту своего роста, подняв правую руку над головой, и обратился к своей маленькой армии с такими словами:
— Мы снова возвращаемся в Эрл, и до долины осталось совсем немного, — сказал он. — Мы должны принести в этот край новые фантазии взамен износившихся чудес и заплесневелых предрассудков. Отныне все обычаи Эрла должны быть такими, как велит нам луна!
На самом деле Ниву было глубоко плевать на луну и последнюю фразу он добавил из хитрости, так как понимал, что только ради луны Зенд может поддержать задуманный им план. И, услышав эти слова, Зенд действительно разразился восторженными воплями и кричал до тех пор, пока эхо его слов не вернулось к ним, отразившись от далеких холмов. И тогда Нив улыбнулся как военачальник, уверенный в своем воинстве; Алверик же в последний раз восстал против своих тюремщиков и боролся с ними, и тогда ему стало окончательно ясно, что возраст, не то годы странствий или утрата надежды сделали его неспособным противостоять безумной силе этих двоих. И, проиграв, он пошел покорно и без возражений, не заботясь более о том, что выпадет на его долю дальше, и живя только своими воспоминаниями о прошлом. Сидя в унылом лагере холодными ноябрьскими вечерами, Алверик устремлялся мыслями в дни, что минули много лет назад, и словно наяву видел, как теплыми весенними утрами яркое солнце горит на башнях его замка. И в этом ослепительном свете он снова видел, как Орион играет с игрушками, сделанными из заклинаний колдуньи, и как Лиразель гуляет в садах. Но никакой огонь, который способны возжечь воспоминания, не мог ни осветить, ни согреть лагерь темными осенними вечерами, когда от земли поднималась сырость, а воздух начинал дышать холодом. Нив и Зенд, чувствуя приближение тьмы, принимались негромко, но оживленно обсуждать свои планы, порожденные причудами и фантазиями, что расцветают в сумерках на торфянистых пустошах. Лишь когда очередной исполненный печали день окончательно подходил к концу и Алверик засыпал под хлопанье изорванного тента, раздуваемого ночным ветром, его память, не сдерживаемая больше заботами суетного дня, способна была вернуть ему Эрл во всем блеске светлых и счастливых весенних дней. Пока тело его лежало неподвижно в далеких и темных полях, скованных дыханием близкой зимы, все живое, бодрое, что еще оставалось в Алверике, уносилось в Эрл через пустынные нагорья и низины, через месяцы и годы и снова встречалось там с Лиразелью и Орионом.
Алверик даже не знал, насколько далеко от желанного дома, куда он еженощно устремлялся в своих счастливых мыслях, было его тело; не знал, сколько миль до него оставалось. Слишком много лет прошло с тех пор, как их новенькая серая палатка впервые встала на том же самом месте, где развевались теперь ее ветхие лохмотья. Лишь Нив чувствовал, что за последнее время они подошли совсем близко к Эрлу, так как сновидения о родной долине приходили к нему сразу, как только он засыпал, в то время как раньше они посещали его гораздо позднее — ближе к полуночи, а то и после нее, почти перед самым рассветом. И он считал, что это происходит потому, что раньше снам приходилось преодолевать большее расстояние, а теперь они обитают где-то совсем неподалеку. И однажды вечером Нив по секрету рассказал о своем открытии Зенду, и тот выслушал его серьезно, но своих мыслей не открыл, сказав только: «Луна знает». Тем не менее он продолжал во всем слушаться Нива, который по-прежнему вел их странный отряд в ту сторону, откуда приходили к нему сны о долине Эрл. И под руководством Нива они действительно приблизились к Эрлу, как часто бывает, когда путешественники следуют за предводителем, который слеп, безумен или добросовестно заблуждается. В конце концов они все же оказываются в том или ином дружественном порту, хотя до этого годами скитались вне дорог. Но будь мир устроен по-другому, что было бы с нами тогда?
Наконец настал день, когда в голубоватой дали проглянули вершины башен Эрла, сияющие в солнечном свете над горбатыми спинами холмов, и Нив сразу свернул к ним и повел свой отряд напрямик через поля — словно завоеватель, заметивший вдали запертые ворота еще не захваченного им города, — так как прежде маршрут их странствий отнюдь не вел прямо к долине. Каковы были планы Нива, Алверик не знал, да и не пытался узнать, целиком отдавшись безразличию и апатии; и Зенд тоже не имел о намерениях вожака никакого представления, так как Нив как-то сказал, что его план должен оставаться в секрете. Да что было говорить об этих двоих, когда сам Нив не знал своих замыслов: все, что приходило ему в голову, не задерживалось там надолго и исчезало так же быстро, как и появлялось. Как мог Нив сказать, о чем он думал вчера и какие строил планы, если вчера он был в одном настроении, а сегодня — в другом?
Шагая через поля, которые мы хорошо знаем, они встретили пастуха, мирно стоящего среди щиплющих траву овец. Он, опираясь на свою палку с крюком на конце, наблюдал за путниками с таким видом, словно у него всего-то и было забот, что провожать взглядом всех, кто проходит мимо, а когда ничего интересного не попадается, глядеть и глядеть на гряду далеких холмов, пока все его воспоминания не окажутся до краев полны их могучими, покрытыми травой склонами. Этот бородатый человек стоял и молча смотрел, как они проходят мимо, когда одна из безумных мыслей Нива вдруг совершила дикий скачок, и он окликнул пастуха по имени. А пастух отозвался, так как это был не кто иной, как Вэнд!
Они разговорились, и Нив беседовал с Вэндом вежливо и обходительно, как всегда вел себя с нормальными людьми, ловко подражая их манерам и копируя речь на тот случай, если Алверику взбредет в голову просить о помощи. Но Алверик больше не стремился освободиться, а просто молча стоял. Он вроде бы даже прислушивался, о чем говорят другие, однако мысли его были далеко в прошлом, и голоса Вэнда и Нива казались ему шумом.
Вэнд, разумеется, спросил, нашли ли они Страну Эльфов, но голос его звучал так, словно он спрашивал у детей, побывал ли их игрушечный кораблик на Счастливых островах, ведь на протяжении уже многих лет Вэнд имел дело только с овцами и досконально изучил все, что им нужно, а также узнал их цену и то, чем они так полезны людям. И незаметно эти знания завладели его воображением целиком и полностью, превратившись со временем в глухую стену, дальше которой Вэнд не заглядывал да и не мог заглянуть. Когда-то, когда Вэнд был молод, он тоже искал Страну Эльфов, но теперь — нет, теперь он стал старше и мудрее, а такие предприятия только для молодых.
— Но мы видели ее границу, — вставил Зенд. — Границу, сделанную из сумерек.
— Наверное, это был просто вечерний туман, — предположил Вэнд.
— Но я стоял, — не сдавался Зенд, — на самом краю зачарованной земли!
Вэнд только улыбнулся и, качая головой, оперся на свою палку с крюком. Каждое движение его бороды, казалось, отметало все небылицы, которые Зенд рассказывал о сумеречной границе и Стране Эльфов, и губы смеялись над ними, а мудрые глаза смотрели с бесконечным терпением и серьезностью человека, твердо знающего, что за пределами знакомых нам полей ничего волшебного нет и быть не может.
— Нет, — молвил он, — то была вовсе не Страна Эльфов.
Нив сразу согласился с Вэндом, так как внимательно следил за его настроением, изучая привычки и обычаи здравомыслящих людей. После этого они еще немного поболтали о волшебной стране, но каждый говорил легко, словно человек, рассказывающий о сновидении, которое явилось к нему перед самым рассветом и ушло незадолго до пробуждения. Алверик с отчаянием понял, что его Лиразель живет теперь не только за границей полей, которые мы знаем, но и за пределами человеческой веры, и от этого она разом показалась ему еще более далекой.
Алверик с особенной остротой ощутил свое одиночество.
— Я тоже когда-то искал ее, — сказал Вэнд. — Но нет, Страны Эльфов не существует.
— Не существует, — кивнул Нив, и только Зенд удивился.
— Нет, — повторил Вэнд и, подняв глаза, посмотрел на своих овец.
Сразу за отарой он увидел сияющую линию или черту, придвигавшуюся все ближе и ближе к овцам.
Путники тоже увидели ее — сверкающую, как серебро, чуть голубоватую, словно сталь, искрящуюся и сверкающую отблесками странных огней. Перед этой чертой, словно легкий бриз, предвещающий грозу, летели негромкие звуки древних песен. Пока люди в немом изумлении смотрели на эту странную линию, она захватила дальнюю из овец Вэнда и в одно мгновение превратила ее кудрявую шерсть в чистое золото, о котором рассказывается в старинной легенде. В следующий миг овца исчезла. Только тогда потрясенный пастух увидел, что сияющая линия чуть выше стены тумана, что, бывает, поднимается в сумерки от маленького ленивого ручья, но продолжал смотреть на нее как завороженный, не двигаясь с места и ни о чем не думая. Только Нив сумел быстро оторвать взгляд от этого чуда и, коротко кивнув Зенду, схватил за руку Алверика и заторопился дальше к Эрлу. А сверкающая линия, которая, казалось, замедляла ход каждый раз, когда натыкалась на малейшие неровности почвы, двигалась не так скоро, однако она ни разу не остановилась, когда они отдыхали, и не снизила скорости, когда путешественники выбились из сил, а продолжала уверенно двигаться через холмы и живые изгороди Земли. Даже закат солнца не изменил ее облика и не заставил остановиться.
Глава XXXIV Последняя великая руна
Пока Алверик, подгоняемый двумя безумцами, спешил домой, к землям, которыми он когда-то владел, голоса эльфийских рогов звучали в Эрле днями напролет. Пока только Орион мог их слышать, но они заставляли вибрировать воздух, наполняя его своей удивительной, золотом звенящей музыкой, и каждый день был напоен всеми красками волшебства. Все жители долины чувствовали это, а многие девушки спозаранку высовывались из окон, чтобы поглядеть, что же так заколдовало раннее утро. Однако по мере того, как день склонялся к вечеру, очарование неслышной музыки становилось все менее заметным, зато отягощавшее умы жителей Эрла предощущение неминуемого погружения в доселе неизведанные глубины чуда становилось сильнее.
Каждый вечер на протяжении всей жизни Орион слышал трубный зов эльфийских рогов, и если вечер доносил до него их голоса, он знал, что с ним все в порядке. Теперь же они начинали раздаваться в его ушах с самого утра и звучали на протяжении почти всего дня, словно фанфары перед торжественным маршем, однако когда Орион выглядывал из своих окон, то не видел ничего; и все же серебряные трубы продолжали звенеть, возвещая неизвестно что и уводя его мысли все дальше от вещей земных, что являются предметом заботы обычных людей — от всего, что способно отбрасывать тень. В такие дни Орион часто вовсе не разговаривал с людьми. Он отправлялся бродить вместе с троллями и другими эльфийскими существами, что последовали за ними через границу. Жители Эрла и отдаленных ферм, что попадались ему навстречу, замечали в глазах молодого лорда выражение, ясно указывавшее на то, что мысли его блуждают в краях и землях, которых обычные люди побаивались. И действительно, мысли Ориона витали вдалеке от полей Земли, стремясь оказаться там, где была его мать.
А ее мысли, в свою очередь, были с Орионом, изливая на него всю нежность, которую скопила Лиразель за годы, что стремительно пронеслись над нашими так и не понятыми ею полями. Орион каким-то образом чувствовал, что теперь мать стала ближе к нему.
Каждое утро блуждающие огоньки беспокойно метались над крышами и сточными канавами, и тролли неистово скакали по чердакам, так как эльфийские рога, неслышные даже для них, напитывали воздух волшебством, которое будоражило их кровь. Но ближе к вечеру и они начинали ощущать неизбежность каких-то великих перемен и невольно затихали, впадая в мрачную задумчивость. Нечто, витающее в воздухе, заставляло их тосковать о своем далеком зачарованном доме, как будто их лиц вдруг касалось легкое дуновение ветерка, принесшегося прямо с волшебных эльфийских озер. Тогда тролли начинали носиться взад и вперед по улицам Эрла в надежде отыскать какое-то магическое средство, которое могло бы облегчить одиночество, испытываемое ими в окружении земных вещей. Но увы, они не находили здесь ничего, что напоминало бы зачарованные лилии, величественно дремавшие над поверхностью воды в заводях эльфийских озер. А жители Эрла, замечая повсюду в своих садах этих посланцев далекой и странной земли, потихоньку печалились, мечтая об обычных земных деньках, которыми они наслаждались до того, как магия вторглась в долину. И многие, видя на улицах это беспорядочное движение, спешили в часовню Служителя, ища среди его священных предметов убежища и спасения от нечестивых тварей, заполонивших сады и улицы их родного Эрла, и от магии, которой дышал густой вечерний воздух. И, охраняя их, Служитель принимался произносить свои проклятья, которые хоть немного, но отгоняли прочь невесомые болотные огоньки, бесцельно толкавшиеся в воздухе, и даже внушали некоторое почтение оказавшимся поблизости троллям. Однако для того, чтобы избавиться от этого непривычного состояния, троллям достаточно было просто отбежать подальше, чтобы там продолжать дурачиться и прыгать как ни в чем не бывало.
Пока маленькая горстка людей окружала Служителя, ища у него утешения и защиты от того, что неминуемо должно случиться, что сгущало воздух перед закатом и дышало в лица тревожной неизвестностью, другие жители Эрла приходили в кузницу Нарла или домой к старейшинам, чтобы сказать им: «Поглядите, чем обернулись ваши планы. Поглядите, во что из-за вас превратилось селение!»
Старейшины не спешили с ответом. Они отводили глаза и говорили, что им-де надо посоветоваться друг с другом, так как все они безмерно доверяли речам, произнесенным в их маленьком парламенте. С этой целью они снова собрались у Нарла. Был вечер, но солнце пока не село, да и кузнец еще не закончил дневную работу. Пламя в его горне мерцало среди толпящихся в кузнице теней особенным, густым и насыщенным светом. Старейшины медленно вошли внутрь, храня на лицах серьезное и мрачное выражение, отчасти потому, что им не хотелось признаваться перед односельчанами в совершенной когда-то глупости, а отчасти потому, что магия ясно чувствовалась в воздухе, и старейшины сами страшились неизбежных и грозных событий.
И снова они сидели во внутренней комнате, а солнце опускалось все ниже, и эльфийские рога трубили все громче, все победнее, хотя старейшины и не могли их слышать. Двенадцать седых стариков долго молчали, так как сказать им было нечего. Когда-то они мечтали о магии, и вот она пришла. Бурые тролли шныряли по улицам, гоблины забирались в дома, ночи стали светлы, как день от обилия блуждающих огней, а насыщенный какой-то еще неизвестной магией воздух был плотен и тяжел. Что тут можно сделать или сказать?
После нескольких минут молчания Нарл заявил, что им следует изобрести новый план, чтобы как-то оградить простых богобоязненных жителей Эрла от магических тварей, которыми буквально кишит селение и к которым каждую ночь прибывает пополнение из Страны Эльфов. Иначе во что превратится милая их сердцу долина и что будет с привычным образом жизни, если они не изобретут какой-нибудь новый план?
Речь Нарла заставила старейшин слегка приободриться, хотя все они ощущали неясную угрозу в голосах эльфийских рогов, которых не могли слышать. Обсуждение самого плана вдохнуло в сердца старейшин храбрость, так как они почувствовали, что могут интриговать против волшебства безнаказанно. Один за другим они вставали из-за стола и излагали свои мысли на сей счет.
Но как только село солнце, оживленный разговор затих сам по себе. Предчувствие чего-то страшного переросло в уверенность, и первыми почувствовали это От и Трел, которые лучше других умели понимать не облеченные в слова тайны лесов. А за ними и все остальные ощутили, что приближается нечто, но никто не мог сказать, что именно. Старейшины молча сидели в темноте, предаваясь тревожным раздумьям и догадкам.
Лурулу первым увидел это. Весь день он грезил о зеленоватых водорослях на дне, похожих на чаши эльфийских прудов, и, чувствуя огромную усталость от всего земного, поднялся на самую высокую башню замка. Там он уселся на зубец стены и обратил тоскующий взор на восток, где был его дом. И вот, глядя через знакомые нам поля, он увидел сияющую линию, которая приближалась к Эрлу. Прислушавшись, Лурулу уловил негромкий, чуть слышно разносящийся над пашней гул множества голосов, напевавших древние песни, так как сверкающая линия вела за собой в наступление самые разные воспоминания: старинную музыку и забытые голоса, сметенные с Земли безжалостным временем и теперь возвращающиеся назад, в поля наших дедов и прадедов. Удивительная черта была яркой, словно Вечерняя Звезда, и в глубине ее переливались и вспыхивали краски, некоторые из них встречались и на Земле, а некоторые напоминали неземную радугу, и Лурулу, глядевший на нее во все глаза, сразу признал в этой сверкающей движущейся черте границу Страны Эльфов. Увидев, что его родной дом так близко, он сразу оживился и почувствовал, как к нему возвращается привычная беззаботность. Сидя высоко на башне замка, Лурулу разразился смехом, который разнесся над крышами селения, подобно оживленным голосам птиц, занятых постройкой гнезда. Этот веселый звук заставил приободриться всех стосковавшихся по дому троллей на голубятнях и чердаках, хотя никто из них еще не знал, чему так радуется Лурулу.
Орион в своей башне вновь услышал рев эльфийских рогов, трубящих удивительно близко и громко. В их голосах было столько триумфа, столько торжества, и вместе с тем столько задумчивой нежности и затаенной тоски, что он наконец-то догадался, о чем они поют. А эти звонкие трубы действительно возвещали о приближении принцессы эльфийского королевского дома, о возвращении матери Ориона.
Жирондерель, предупрежденная магией, давно знала об этом. Глядя вниз на поля, утопающие в вечерней мгле, она видела сверкающую линию, в которой звездный свет был сплавлен с мерцанием сумерек давно ушедших летних вечеров, и все это стремительно неслось к долине Эрл. Следя за тем, как она без усилий скользит по земным пастбищам, колдунья почти удивилась, хотя ее мудрость давно подсказывала, что когда-то это должно случиться. Глядя с высоты холма на эту многоцветную границу, Жирондерель видела поля, которые мы хорошо знаем, все еще полные привычными нам земными вещами, в то время как по другую сторону уже вставала стеной густая зелень эльфийской листвы, пестрели волшебные цветы, сновали самые сказочные эльфийские существа и твари, которых на Земле не знали ни горячечный бред, ни самое необузданное воображение. И впереди, шагая через наши поля и ведя за собой все чудеса зачарованной страны, с чуть разведенными по сторонам руками, с которых лились волшебные сумерки, шла сама принцесса Лиразель, госпожа Эрла, возвращающаяся домой после долгого отсутствия.
При виде этого удивительного зрелища, при виде всех чудес, что маршировали через наши поля, — а может быть, виноваты в этом были вернувшиеся вместе с сумерками воспоминания прошлого или древние песни, что чуть слышно звучали в мягкой полутьме, — Жирондерель затрепетала, и ею вдруг овладела такая странная, не испытанная прежде радость, что она заплакала, если, конечно, ведьмы умеют плакать.
И вскоре жители Эрла тоже увидели из своих окон сверкающую линию, которая ничем не напоминала обычные земные сумерки. Они смотрели, как она, сияя звездным светом, подступает все ближе и ближе к селению. И движение границы было совсем не быстрым, словно ей трудно было ползти по неровной поверхности Земли, хотя по просторам Страны Эльфов, где безраздельно властвовал король, она неслась быстрее кометы. Не успели люди как следует удивиться, как очутились в окружении странно знакомых вещей и чувств, так как первыми достигли Эрла воспоминания прошлого, что спешили перед серебряной чертой подобно ветру, летящему впереди грозового фронта. Едва достигнув Эрла, эти воспоминания коснулись сердец и домов людей, наполнили их, и — глядите! — вот уже люди очутились среди вещей давно потерянных или забытых. А граница неземного света все приближалась, и стал слышен сопровождающий ее звук, напоминающий шорох дождя по листьям. Это были вновь зазвучавшие вздохи и вновь повторенные любовные клятвы. И тогда людей, безмолвно смотрящих из окон, обняла легкая печаль, подобная той, что царит в деревенских садах под листьями конского щавеля, когда ушли все, кто ухаживал за розами и сидел в беседках.
И этот состоящий из звездного света и юношеской любви поток еще не успел заплескаться у стен замка Эрл и запениться вокруг крыш домов, но от близости его досадные каждодневные заботы, привязывавшие людей к настоящему, начали одна за одной улетучиваться, и все жители селения ощутили покой минувших лет и благословение ласковых рук, что давно покрылись сеткой глубоких морщин. И родители бросились к детям, что прыгали на улице через веревочку, чтобы поскорее вернуть их в дома, так как боялись за своих сыновей и дочерей, и тревога на лицах матерей в первое мгновение заставила детей вздрогнуть, но потом некоторые из них посмотрели на восток и заметили сияющую линию.
— Это идет Страна Эльфов! — сказали дети и продолжали как ни в чем не бывало скакать через веревочку.
И собаки тоже все поняли, хотя я не могу сказать точно, что же именно. Ясно только, что их сердец вдруг коснулось нечто, исходящее из Страны Эльфов, что отдаленно напоминает влияние полной луны, и все собаки залаяли так, как они лают ясной ночью, когда лунный свет затопляет знакомые нам поля. И даже уличные дворняги, которые зорко наблюдают за всеми чужаками, должно быть, тоже почувствовали приближение чего-то необычного и странного и спешили оповестить об этом всю долину.
И старый кожевник, выглянувший из окна своего домика на краю знакомых нам полей, чтобы посмотреть, не замерзла ли вода в его колодце, вдруг увидел майское утро пятидесятилетней давности и свою жену, собиравшую фиалки на солнечном лугу, так как Страна Эльфов сумела одолеть Время и изгнать его из запущенного сада старика. И галки, сорвавшись с высоких башен Эрла, с криками неслись на запад, и воздух звенел от лая овчарок и небольших домашних собак, однако все это внезапно прекратилось, и на долину опустилась великая тишина, как если бы внезапно выпавший снег укрыл ее плотным белым покровом толщиной в несколько дюймов. И в этой тишине зазвучала вдруг негромкая старинная музыка, и никто не проронил ни слова.
И Жирондерель, которая сидела у себя на холме, подперев рукой подбородок, увидела, как сияющая линия коснулась домов и замешкалась, обтекая их по сторонам, словно вдруг столкнулась с чем-то, что не по силам ее магии. Но недолго дома сдерживали этот удивительный прилив. Он вдруг забурлил, заискрился, словно сгорающий в небесах метеор из неизвестного металла, и, покрыв дома клочьями неземной пены, промчался через них дальше. Дома остались стоять, странно притихшие, погруженные в зачарованное молчание, будто хижины из каких-то давно прошедших времен, увиденные благодаря внезапному пробуждению нашей наследственной памяти.
Потом колдунья увидела, как мальчик, которого она вынянчила, сделал шаг навстречу сумеркам, привлеченный силой, которая была нисколько не слабее той, что заставляла двигаться Страну Эльфов, и встретился с матерью среди волшебного света, заливающего всю долину невиданным великолепием. Алверик тоже оказался там. Они с Лиразелью стояли в нескольких шагах от прислуживающих им сказочных существ, сопровождавших принцессу от самых отрогов Эльфийских гор. И еще увидела колдунья, как с Алверика спал груз прожитых лет и печалей, скопившийся за годы странствий. Он вернулся в дни молодости и внимал старым песням и забытым голосам.
Но даже Жирондерель не смогла рассмотреть слез на щеках принцессы, встретившейся со своим сыном после долгой разлуки. Хотя каждая ее слезинка и сверкала, точно звезда, сама Лиразель стояла в окружении лучащегося звездного света, который сиял, как лик новорожденной планеты. В этом сиянии глаза старой колдуньи ничего не могли разобрать, но слух ее безошибочно ловил отзвуки песен и мелодий, возвращавшихся в наши поля из узких горных долин Страны Эльфов, где они хранились столько времени. Это были старые колыбельные, выпорхнувшие когда-то из окон детских и яслей Земли. И вот теперь все они задумчиво и негромко звучали при встрече Лиразели с Орионом.
Нив и Зенд наконец-то избавились от своих неистовых фантазий, так как их больные, тревожные мысли успокоились и уснули, усыпленные покоем зачарованной земли. Жирондерель увидела их там, где когда-то начинался подъем на холмы, чуть поодаль от Алверика. Вместе с ними был Вэнд со стадом золотых овец, сосредоточенно вкушавших незнакомые сладкие соки волшебных цветов.
Лиразель пришла к сыну, приведя с собой всю Страну Эльфов, которая никогда прежде не смела шагнуть за границу Земли даже на стебель голубого колокольчика. И так вышло, что встретились они под стенами замка Эрл в запущенном розовом саду, где когда-то гуляла Лиразель, и за которым с тех пор никто не ухаживал. Дорожки его заросли высокой травой, но сейчас, сдавшись ноябрьскому холоду, она вся пожухла, и стебли отзывались на каждый шаг Ориона сухим шелестом. Бурые травы раскачивались над нехоженой тропой, смыкаясь позади, зато перед ним распускались во всем своем великолепии и красоте крупные летние розы. И между ноябрем, который каждым своим шагом Лиразель заставляла отступать, и тем давним теплым летом, которое она сохранила в памяти и снова принесла в полюбившийся ей уголок долины, Лиразель и Орион встретились. И тогда пустой осенний сад, бурым, увядшим пятном лежащий за спиной, в одно мгновение взорвался молодыми листьями и цветами. Свободная, радостная песня птиц, донесшаяся с тысяч и тысяч веток и сучков, приветствовала возвращение былого великолепия сотен распускающихся роз. Орион снова окунулся в красоту и радость дней, неясные, но прекрасные тени которых его память хранила, словно главное и драгоценнейшее из всех сокровищ.
А потом Страна Эльфов нахлынула на долину Эрл и затопила ее всю.
Только святилище Служителя и примыкавший к нему сад остались принадлежать нашей Земле. Но они лежали крошечным островком в океане чудес, подобно скалистой голой вершине, лишенной жизни, поднимающейся над лесистыми холмами. Это произошло потому, что звук колокола вспугнул руну короля эльфов и заставил сумерки слегка расступиться, и Служитель остался жить на этом маленьком островке. Он был счастлив и доволен, он даже не чувствовал себя одиноко среди своих священных предметов, так как несколько человек, что были застигнуты волшебным приливом на этом островке святости, остались и служили ему. Так что в конце концов Служитель дожил до преклонных годов, намного превышающих предельный для обычных людей возраст, однако магическое долголетие так и осталось ему недоступным.
С тех пор никто больше не пересекал зачарованной границы, кроме колдуньи Жирондерель, которая звездными ночами садилась на метлу и спускалась со своего холма к северу от волшебной страны, чтобы повидаться со своей госпожой, жившей отныне с Алвериком и Орионом там, где ее не могло коснуться безжалостное Время. Она иногда возвращается оттуда, поднимаясь на метле так высоко в ночное небо, что ее нельзя увидеть даже с холмов Земли, и вы можете проследить ее полет, если случайно заметите, как одна за другой гаснут и снова вспыхивают звезды на небосводе. А возвращается Жирондерель для того, чтобы посидеть у дверей своего дома на холме и рассказать удивительные сказки и истории всем тем, кто интересуется новыми чудесами Страны Эльфов. О, как бы мне хотелось вновь ее услышать!
Король эльфов, использовав ради счастья дочери свою последнюю могущественную руну, способную заставить весь мир содрогнуться и прийти в движение, со вздохом опустился на свой огромный сказочный трон и снова погрузился в дремотное спокойствие, в котором купается зачарованная страна. Все его владения следом за ним немедленно погрузились в сон безвременья, о котором могут дать представление лишь глубина безмятежных зеленых озер жаркой летней порой.
Долина Эрл тоже задремала вместе со всей Страной Эльфов, и все воспоминания о ней понемногу изгладились из людской памяти.
Когда двенадцать стариков, входивших в совет старейшин селения Эрл, выглянули из окон кузницы Нарла, где они размышляли и строили свои хитрые планы, они увидели, что знакомые им с детства земли перестали быть полями, которые мы хорошо знаем.
Абрахам Меррит Обитатели миража
КНИГА КАЛКРУ
1. Звуки в ночи
Я поднял голову, прислушиваясь не только слухом, но каждым квадратным дюймом кожи, ожидая повторения разбудившего меня звука. Стояла тишина, абсолютная тишина. Ни звука в зарослях елей, окружавших наш маленький лагерь. Ни шелеста тайной жизни в подлеске. В сумерках раннего аляскинского лета, в краткий промежуток от заката до восхода, сквозь вершины елей слабо светили звезды. Порыв ветра неожиданно пригнул вершины елей и принес с собой тот же звук — звон наковальни. Я выскользнул из-под одеяла и, минуя тусклые угли костра, направился к Джиму. Его голос остановил меня. — Я слышу, Лейф. Ветер стих, и с ним стихли отголоски удара о наковальню. Прежде чем мы смогли заговорить, снова поднялся ветер. И опять принес с собой звуки удара — слабые и далекие. И снова ветер стих, а с ним — и звуки. — Наковальня, Лейф! — Слушай! Ветер сильнее качнул вершины. И принес с собой отдаленное пение; голоса множества мужчин и женщин, поющих странную печальную мелодию. Пение кончилось воющим хором, древним, диссонирующим. Послышался раскат барабанной дроби, поднимающийся крещендо и неожиданно оборвавшийся. После этого смятение тонких звонких звуков. Оно было заглушено низким сдержанным громом, как во время грозы, приглушенным расстоянием. Он звучал вызывающе, непокорно. Мы ждали, прислушиваясь. Деревья застыли. Ветер не возвращался. — Странные звуки, Джим. — Я старался говорить обычным тоном. Он сел. Вспыхнула сунутая в угли палка. Огонь высветил на фоне тьмы его лицо, худое. коричневое, с орлиным профилем. Он не смотрел на меня. — Все украшенные перьями предки за последние двадцать столетий проснулись и кричат! Лучше зови меня Тсантаву, Лейф. Тси Тсалаги — я чероки! Сейчас я — индеец! Он улыбнулся, но по-прежнему не смотрел на меня, и я был рад этому. — Наковальня, — сказал я. — Очень большая наковальня. И сотня поющих… как же это возможно в такой дикой местности… и не похоже, что это индейцы… — Барабаны не индейские. — Джим сидел у огня, глядя в него. — И когда они звучат, у меня по коже кто-то играет пиццикато ледышками. — Меня они тоже проняли, эти барабаны! — Я думал, что голос мой звучит ровно, но Джим пристально взглянул на меня; и теперь я отвел взгляд и посмотрел в огонь. — Они напомнили мне кое-что слышанное… а может, и виденное… в Монголии. И пение тоже. Черт возьми, Джим, почему ты на меня так смотришь? Я бросил палку в костер. И не мог удержаться, чтобы при вспыхнувшем пламени не осмотреть окружающие тени. Потом прямо взглянул в глаза Джиму. — Плохое было место, Лейф? — негромко спросил он. Я ничего не ответил. Джим встал и направился к нашим мешкам. Он вернулся с водой и залил костер. Потом набросал земли на шипящие угли. Если он и заметил, как я сморщился, когда тени сомкнулись вокруг нас, то не показал этого. — Ветер с севера, — сказал он. — Значит, и звуки оттуда. И то, что производит эти звуки, там. И вот — куда же мы направимся завтра? — На север, — сказал я. При этом горло у меня пересохло. Джим рассмеялся. Он опустился на одеяло и закутался в него. Я прислонился к стволу ели и сидел, глядя на север. — Предки шумливы, Лейф. Думаю, обещают нам неприятности — если мы пойдем на север… «Плохое лекарство! — говорят предки. — Плохое лекарство для тебя, Тсантаву! Ты направляешься в Усунхию, в Землю Тьмы, Тсантаву!.. В Тсусгинай, землю призраков! Берегись! Не ходи на север, Тсантаву!» — Ложись спать, преследуемый кошмарами краснокожий! — Ладно, мое дело предупредить. Я слышал голоса предков, пророчествующих войну; а эти говорят о чем-то похуже, чем война, Лейф. — Черт побери, заткнешься ты или нет? Смешок из темноты, затем молчание. Я снова прислонился к стволу дерева. Звуки, вернее, те печальные воспоминания, которые они возродили, потрясли меня больше, чем я склонен был признать, даже самому себе. Вещь, которую я свыше двух лет носил в кожаном мешочке на конце цепочки, подвешенной на шею, казалось, шевельнулась, стала холодной. Интересно, о многом ли догадался Джим из того, что я хотел бы скрыть… Зачем он загасил огонь? Понял, что я боюсь? И захотел, чтобы я встретил страх лицом к лицу и победил его?.. Или подействовал индейский инстинкт — опасность лучше встречать в темноте?.. По его собственному признанию, звуки подействовали ему на нервы, как и мне… Я испугался! Конечно, от страха взмокли ладони, пересохло в горле и сердце забилось в груди, как барабан. Как барабан… да! Но… не как те барабаны, звуки которых принес нам северный ветер… Те, другие, напоминали ритм ног мужчин и женщин, юношей и девушек, детей, бегущих все быстрее по пустому миру, чтобы нырнуть… в ничто… раствориться в пустоте… исчезать, падая… растворяясь… ничто съедало их… Как проклятый барабанный бой, который я слышал в тайном храме гобийского оазиса два года назад! Ни тогда, ни теперь это был не просто страх. Конечно, по правде говоря, и страх, но смешанный с негодованием… с сопротивлением жизни ее отрицанию… вздымающийся, ревущий, жизненный гнев… яростная борьба тонущего с душащей его водой, гнев свечи против нависшего над ней огнетушителя… Боже! Неужели все так безнадежно? Если то, что я подозреваю, правда, думать так с самого начала — значит обречь себя на поражение. Со мной Джим. Как сохранить его, удержать в стороне? В глубине души я никогда не смеялся над подсознательными предчувствиями, которые он называет голосом своих предков. И когда он заговорил об Усунхию, Земле Тьмы, холодок пополз у меня по спине. Разве не говорил старый уйгурский жрец о Земле Теней? Я как будто слышал эхо его голоса. Я посмотрел туда, где лежал Джим. Он мне ближе моих собственных братьев. Я улыбнулся: браться никогда не были близки мне. В старом доме, в котором я родился, я был чужим для всех, кроме моей матери, норвежки с добрым голосом и высокой грудью. Младший сын, пришедший нежеланным, подмененный ребенок. Не моя вина, что я явился на свет как атавистическое напоминание о светловолосых синеглазых мускулистых викингах, ее далеких предках. Я вовсе не был похож на Ленгдонов. Мужчины из рода Ленгдонов все смуглые, стройные, с тонкими чертами лица, мрачные и угрюмые, поколение за поколением формировавшиеся одним и тем же штампом. С многочисленных семейных портретов они сверху вниз смотрели на меня, как на подмененного эльфами, смотрели с высокомерной враждебностью. И точно так же смотрели на меня отец и четверо моих братьев, истинные Ленгдоны, когда я неуклюже усаживался за стол. Я был несчастлив в своем доме, но мама все свое сердце отдала мне. Я много раз гадал, что же заставило ее отдаться этому смуглому эгоистичному человеку, моему отцу. Ведь в ее жилах струилась кровь морских бродяг. Именно она назвала меня Лейфом — такое же неподходящее имя для отпрыска Ленгдонов, как и мое рождение среди них. Джим и я в один и тот же день поступили в Дартмут. Я помню, каким он был тогда, — высокий коричневый парень с орлиным лицом и непроницаемыми черными глазами, чистокровный чероки, из клана, происходящего от великой Секвойи, клана, который много столетий порождал мудрых советников и мужественных воинов. В списке колледжа он значился как Джеймс Т. Иглз, но в памяти чероки он был Два Орла, а мать звала его Тсантаву. С самого начала мы ощутили странное духовное родство. По древнему обряду его народа мы стали кровными братьями, и он дал мне тайное имя, известное только нам двоим. Он назвал меня Дегатага — «стоящий так близко, что двое становятся одним». Мой единственный дар, кроме силы, необычная способность к языкам. Вскоре я говорил на чероки, будто был рожден в этом племени. Годы в колледже были самыми счастливыми в моей жизни. Потом Америка вступила в войну. Мы вместе оставили Дартмут, побывали в тренировочном лагере и на одном и том же транспорте отплыли во Францию. И вот, сидя под медленно светлеющим аляскинским небом, я вспоминал прошлое… смерть моей матери в день перемирия… мое возвращение в Нью-Йорк в откровенно враждебный дом… жизнь в клане Джима… окончание горного факультета… мои путешествия по Азии… второе возвращение в Америку и поиски Джима… и эта наша экспедиция в Аляску, скорее из чувства дружбы и любви к диким местам, чем в поисках золота, за которым мы якобы отправились. Много времени прошло после войны… и лучшими все же были два последних месяца. Мы вышли из Нома по дрожащей тундре, прошли до Койукука, а оттуда к этому маленькому лагерю где-то между верховьями Койукука и Чаландара у подножия неисследованного хребта Эндикотта. Долгий путь… и у меня было такое чувство, будто только здесь и начинается моя жизнь. Сквозь ветви пробился луч восходящего солнца. Джим сел, посмотрел на меня и улыбнулся. — Не очень хорошо спалось после концерта, а? — А что ты сказал своим предкам? Они тебе дали поспать. Он ответил беззаботно, слишком беззаботно: «О, они успокоились». — Лицо и глаза его были лишены выражения. Он закрыл от меня свой мозг. Предки не успокоились. Он не спал, когда я считал его спящим. Я принял быстрое решение. Мы пойдем на юг, как и собирались. Я дойду с ним до полярного круга. И найду какой-нибудь предлог оставить его там. Я сказал: «Мы не пойдем на север. Я передумал». — Да? А почему? — Объясню после завтрака, — ответил я: я не так быстро придумываю отговорки. — Разожги костер, Джим. Я пойду к ручью за водой. — Дегатага! Я вздрогнул. Лишь в редкие моменты симпатии или в опасности использовал он мое тайное имя. — Дегатага, ты пойдешь на север! Ты пойдешь, даже если мне придется идти впереди тебя, чтобы ты шел за мной… — Он перешел на чероки. — Это спасет твой дух, Дегатага. Пойдем вместе, как кровные братья? Или ты поползешь за мной, как дрожащий пес по пятам охотника? Кровь ударила мне в голову, я протянул к нему руки. Он отступил и рассмеялся. — Так-то лучше, Лейф. Гнев тут же покинул меня, руки опустились. — Ладно, Тсантаву. Мы идем на север. Но не из-за себя я сказал, что передумал. — Я это хорошо знаю! Он занялся костром. Я пошел за водой. Мы приготовили крепкий черный чай и съели то, что оставалось от коричневого аиста, которого называют аляскинским индюком и которого мы подстрелили накануне. Когда мы кончили, я заговорил.
2. Кольцо Кракена
Три года назад, так начал я свой рассказ, я отправился в Монголию с экспедицией Фейрчайлда. Одна из задач этой экспедиции — поиски полезных ископаемых в интересах некоторых британских фирм, а в остальном это была этнографическая и археологическая экспедиция, работавшая для Британского музея и университета Пенсильвании. Мне так и не пришлось проявить себя в качестве горного инженера. Я немедленно стал представителем доброй воли, лагерным затейником, посредником между нами и местными племенами. Мой рост, светлые волосы, голубые глаза и необыкновенная сила, вместе с моими способностями к языкам, вызывали постоянный интерес у туземцев. Татары, монголы, буряты, киргизы смотрели, как я гну подковы, обвиваю ноги металлическими прутьями и вообще исполняю то, что мой отец презрительно называл цирковыми номерами. Что ж, я и был для них человеком-цирком. Но в то же время и чем-то большим: я им нравился. Старик Фейрчайлд смеялся, когда я жаловался ему, что у меня не остается времени для полевых работ. Он говорил, что я стою десятка горных инженеров, что я страховое свидетельство экспедиции и что пока я продолжаю свои трюки, у экспедиции не будет никаких неприятностей. Так оно и было. Единственная экспедиция такого рода, насколько я помню, в которой можно было уйти, оставив все вещи незапертыми, и, вернувшись, найти все нетронутым. К тому же мы были относительно свободны от вымогательства и взяточничества. Вскоре я уже знал с полдюжины диалектов и мог легко болтать и шутить с туземцами на их языках. Это имело у них удивительный успех. Время от времени прибывала монгольская делегация в сопровождении нескольких борцов, рослых парней с грудной клеткой, как бочонок, чтобы побороться со мной. Я овладел их приемами и научил их своим. У нас были небольшие показательные соревнования, а мои манчжурские друзья научили меня сражаться двумя мечами, держа их в обеих руках. Фейрчайлд планировал работать в течение года, но наши дела шли так хорошо, что он решил продлить экспедицию. Он с сардонической улыбкой говорил мне, что мои действия имеют огромную ценность: никогда наука не будет иметь таких возможностей в этом районе, разве что я останусь тут и соглашусь править. Он не знал, насколько близки его слова к пророчеству. На следующий год в начале лета мы перенесли лагерь на сотню миль к северу. Это была территория уйгуров. Странный народ, эти уйгуры. О себе они говорят, что они потомки великой расы, которая правила всей Гоби, когда та была не пустыней, а земным раем, с широкими реками, многочисленными озерами и многолюдными городами. Они на самом деле отличаются от остальных племен, и хотя эти многочисленные племена при первой возможности убивают уйгуров, в то же время они их боятся. Вернее, боятся колдовства их жрецов. В нашем старом лагере уйгуры появлялись редко. А появившись, держались в отдалении. Мы уже с неделю находились в новом лагере, когда появился отряд уйгуров человек в двадцать. Я сидел в тени своей палатки. Они спешились и направились прямо ко мне. Ни на кого в лагере они не обратили внимания. Остановились в десяти шагах от меня. Трое подошли ближе и стали пристально меня разглядывать. У всех троих были странные серо-голубые глаза; у того, кто казался их предводителем, взгляд необычно холоден. Все они выше и массивнее остальных. Я тогда не владел уйгурским. Поэтому вежливо приветствовал их по-киргизски. Они не ответили, продолжая разглядывать меня. Наконец, поговорили друг с другом, кивая, как будто пришли к какому-то решению. Затем их предводитель обратился ко мне. Встав, я заметил, что он чуть ниже моих шести футов четырех дюймов. Я сказал ему, по-прежнему по-киргизски, что не понимаю его языка. Он отдал приказ своим людям. Они окружили мою палатку, как охрана, держа в руках копья и обнажив мечи. Я почувствовал прилив гнева, но прежде чем я смог протестовать, заговорил предводитель, на этот раз на киргизском. Он с почтением заверил меня, что их посещение исключительно мирное, они просто не хотят, чтобы им помешали мои товарищи по лагерю. Он попросил меня показать ему свои руки. Я вытянул их вперед. Он и два его спутника наклонились над ладонями, внимательно их рассматривая, указывая друг другу на те или другие пересечения линий. Закончив осмотр, предводитель коснулся лбом моей правой руки. И тут же, к полному моему изумлению, начал урок — и весьма квалифицированно — уйгурского языка. Для сравнения он использовал киргизский. Он не удивился тому, с какой легкостью я воспринимал новые слова; напротив, мне показалось, что именно этого он и ожидал. Я хочу сказать, что он скорее не учил меня новому языку, а заставлял вспомнить давно забытый. Урок продолжался целый час. Затем он снова коснулся лбом моей руки и отдал приказ кольцу стражников. Все уйгуры сели на лошадей и ускакали. Во всем этом происшествии было что-то тревожное. И больше всего меня беспокоило то, что, похоже, мой учитель был прав: я не изучал новый язык, а вспоминал забытый. Никогда я не усваивал язык с такой легкостью и быстротой, как уйгурский. Естественно, мои коллеги тоже были в недоумении и тревожились. Я немедленно направился к ним и рассказал о происшествии. Нашим этнологом был знаменитый профессор Дэвид Барр из Оксфорда. Фейрчайлд склонен был воспринимать все как шутку, но Барр встревожился. Он рассказал, что уйгурские легенды говорят о предках этого народа как о расе светловолосых синеглазых людей, обладавших большой физической силой. Было обнаружено несколько древних уйгурских настенных росписей, на которых изображен именно такой тип людей, так что, по-видимому, в легендах есть зерно истины. Однако, если нынешние уйгуры и восходят к той расе, они смешивались с другими народами и дошли почти до полного исчезновения древней крови. Я спросил, какое это имеет отношение ко мне, и он ответил, что, по-видимому, мои посетители считают меня чистокровным представителем их древней расы. В сущности, он не видит никаких других объяснений их странному поведению. Он считал, что их изучение моих ладоней и явное одобрение того, что они обнаружили, доказывает его правоту. Старик Фейрчайлд иронически спросил, не собирается ли Барр обратиться к хиромантии. Барр холодно ответил, что он ученый. И как ученый, знает, что определенные признаки могут передаваться по наследству через многие поколения. Определенное расположение линий на ладонях может сохраняться много столетий. И в случаях атавизма — а я явный пример атавизма — оно может возникать вновь. К этому времени у меня уже слегка кружилась голова. Но Барр добавил еще кое-что. К этому времени он уже был выведен из себя и сказал, что уйгуры, вероятно, совершенно правы в своей оценке меня. Я атавистический пример возврата к древним норвежцам. Прекрасно. Но совершенно несомненно, что асы, боги и богини древних норвежцев: Один и Тор, Фригга и Фрейя, Фрей и Локи и многие другие — все это когда-то были реальные люди. Несомненно, они были предводителями длительной и опасной миграции. После смерти они были обожествлены, как и многие подобные герои и героини других рас и племен. Этнологи считают, что древние норвежцы, подобно другим арийцам, пришли на северо-восток Европы из Азии. Их переселение происходило в период от 50999 до 999 лет до рождества Христова. И нет никаких научных возражений против их прихода из того района, который сейчас называется Гоби, и против того, что это и есть та раса светловолосых голубоглазых людей, которых современные уйгуры называют своими предками. Никто, продолжал Барр, не может сказать точно, когда Гоби стала пустыней и что вызвало появление пустыни. Части Гоби могли быть плодородными еще две тысячи лет назад. Какова бы ни была причина этого изменения, действовала ли эта причина быстро или медленно, но она дала толчок к переселению, предводительствуемому Одином и остальными асами, к переселению, которое закончилось колонизацией Скандинавского полуострова. Известно, что во мне проявились признаки моих далеких предков со стороны материнской линии. Почему в таком случае не проявиться и признакам древних уйгуров, если они действительно были предками норвежцев? Но главный — практический — вывод заключался в том, что меня ждут неприятности. Так же, как и всех остальных членов экспедиции. Барр настоятельно советовал вернуться в наш старый лагерь, где мы будем находиться среди дружественных племен. В заключение Барр указал, что с тех пор, как мы переселились в новый лагерь, здесь не показался ни один монгол, татарин или представитель другого племени, с которыми у меня были такие дружественные отношения. Барр сел, бросив гневный взгляд на Фейрчайлда, и добавил, что это совет не хироманта, а признанного ученого. Разумеется, Фейрчайлд извинился, но совет Барра не принял: мы можем вполне благополучно подождать несколько дней и проследить за развитием событий. Барр угрюмо заметил, что как пророк Фейрчайлд ничего не стоит, но все равно за нами, вероятно, наблюдают и не позволят нам отступить, поэтому неважно, что мы решим. Ночью мы услышали далекий бой барабанов; через неравные промежутки он слышался до самого утра, отвечая на вопросы еще более далеких барабанов. На следующий день в то же время показался тот же самый отряд. Предводитель, как и прежде, направился ко мне, ни на кого не обращая внимания. Он почти униженно приветствовал меня. Мы направились в мою палатку. Снова вокруг возникло кольцо воинов, и начался второй урок. Он продолжался больше двух часов. И вот день за днем в течение трех недель повторялось одно и то же. Никаких отвлечений, случайных вопросов, объяснений. У этих людей была лишь единственная цель: научить меня своему языку. И они прекрасно с ней справлялись. Полный любопытства, стремясь узнать, что это все в конце концов значит, я преодолевал все препятствия и стремился так же настойчиво к той же цели. И это они тоже воспринимали как вполне естественное. Через три недели я говорил по-уйгурски так же хорошо, как и по-английски. Беспокойство Барра усиливалось. «Они к чему-то готовят вас, — говорил он. — Я отдал бы пять лет жизни, чтобы оказаться на вашем месте. Но мне это не нравится. Я боюсь за вас. Ужасно боюсь!» Однажды ночью в конце третьей недели сигнальные барабаны звучали до самого рассвета. На следующий день мои учителя не появились, не было их еще два дня. Но наши люди сообщили, что вокруг всего лагеря видны посты уйгуров. Наши рабочие боялись, и никакой работы от них нельзя было добиться. В полдень на четвертый день мы заметили облако пыли, быстро приближавшееся с севера. Вскоре послышались звуки уйгурских барабанов. Затем из пыли показалась группа конных уйгуров. Их было двести-триста человек, все вооружены копьями, а многие — и ружьями. Они полукругом выстроились возле лагеря. Предводитель с холодным взглядом, который был мои главным учителем языка, спешился и пошел вперед, ведя на поводу великолепного черного жеребца. Большая лошадь, сильная, непохожая на поджарых лошадей уйгуров; такая лошадь легко выдержит мой вес. Уйгур опустился на колено и протянул мне повод жеребца. Я автоматически взял его. Лошадь осмотрела меня, принюхалась и положила морду мне на плечо. Все всадники одновременно взметнули копья и выкрикнули какое-то слово, которое я не уловил, потом спешились и стояли в ожидании. Предводитель встал. Из своей одежды он достал небольшую шкатулку из древнего нефрита. Снова опустившись на колено, он протянул мне шкатулку. Я нажал, крышка открылась. Внутри было кольцо. Широкое и массивное, из чистого золота. А в нем прозрачный желтый камень, квадратный, в полтора дюйма. И внутри камня изображение черного осьминога. Щупальца осьминога веером протянулись от тела. Казалось, они высовываются из желтого камня. Я даже разглядел на конце ближайшего щупальца присоску. Тело виднелось не так четко. Оно было туманным, казалось, уходило вдаль. Черный осьминог не был вырезан на камне. Он находился внутри. Я испытал странное смешение чувств — отвращение и одновременно ощущение чего-то очень знакомого, как будто уже видел это раньше — мы называем это двойной памятью. Не раздумывая, я надел кольцо на палец — оно пришлось точно по размеру — и поднял руку, солнце отразилось в камне. Мгновенно все уйгуры упали на землю и лежали на животе, вытянувшись передо мной. Предводитель уйгуров заговорил со мной. Я подсознательно ощущал, что с того самого момента, как он протянул мне кольцо, он внимательно следит за мной. Теперь мне показалось, что в глазах его благоговейный страх. — Твоя лошадь готова… — и он употребил то же слово, каким меня приветствовали его воины. — Покажи, что ты хочешь взять с собой, и твои люди понесут это. — Куда мы идем… и насколько? — спросил я. — К святому человеку твоего народа, — ответил он. — А насколько… только он сможет ответить. Я почувствовал раздражение от этой бесцеремонности. К тому же меня удивило, что он говорит о своих людях, как о моих. — А почему он сам не пришел ко мне? — спросил я. — Он стар, — ответил уйгур. — Такого пути он не выдержит. Я взглянул на всадников, стоявших теперь рядом с лошадьми. Если я откажусь идти и мои товарищи меня поддержат — а они меня поддержат, это будет означать немедленную гибель всего лагеря. К тому же я сгорал от любопытства. — Я должен поговорить со своими товарищами перед уходом, — сказал я. — Если Двайану, — на этот раз я уловил слово, — хочет попрощаться со своими псами, да будет так. — В его взгляде блеснуло презрение, когда он посмотрел на старика Фейрчайлда и остальных. Мне определенно не понравилось ни то, что он сказал, ни то, как сказал. — Жди меня здесь, — коротко сказал я и пошел к Фейрчайлду. Вместе с ним я пошел в палатку. Барр и другие члены экспедиции — за нами. Я рассказал им обо всем. Барр взял меня за руку и осмотрел кольцо. Он негромко свистнул. — Вы знаете, что это? — спросил он. — Кракен, сверхмудрое, сверхзлобное мифическое морское чудовище древних норвежцев. Видите, у него не восемь, а двенадцать щупалец. Его никогда не изображали меньше чем с десятью. Он символизирует принцип, враждебный Жизни, — не саму Смерть, а скорее уничтожение. Кракен — и здесь, в Монголии! — Послушайте, шеф, — обратился я к старому Фейрчайлду. — Вы можете помочь мне лишь одним, если, конечно, хотите. Отправляйтесь как можно быстрее в наш старый лагерь. Свяжитесь с монголами, обратитесь к тому вождю, который часто привозил борцов: монголы покажут вам, кого я имею в виду. Уговорите его, наймите, чтобы как можно больше воинов собралось в лагерь. Я вернусь, и, вероятно, за мной будет погоня. Вас тоже подстерегает опасность. Может быть, не в данный момент, но может так получиться, что эти люди захотят убрать вас. Я знаю, о чем говорю, шеф. Сделайте это ради меня, если не ради себя. — Но они следят за лагерем… — начал он возражать. — Не будут… после моего ухода. И некоторое время после этого. Они все уедут со мной. — Я говорил абсолютно убежденно, и Барр в знак согласия кивнул. — Король возвращается в свое королевство! — сказал он. — И все его верноподданные вместе с ним. Он в безопасности — пока он с ними. Но… Боже, если бы только я мог отправиться с вами, Лейф! Кракен! А в древних легендах Южных морей говорится о великом Осьминоге, который дремлет на дне и ждет своего часа, когда он сможет уничтожить весь мир и всю жизнь. А на высоте в три мили Черный Осьминог вырезан на утесе в Андах! Норвежцы — жители островов Южных морей — жители Анд! И всюду один и тот же символ, вот этот! — Обещаете? — спросил я Фейрчайлда. — От этого может зависеть моя жизнь. — Мы будто покидаем вас. Мне это не нравится. — Шеф, они сотрут вас в минуту. Возвращайтесь и поднимайте монголов. И татары помогут. Они все ненавидят уйгуров. Я вернусь, не бойтесь. Но готов поручиться, что вся эта свора, если не больше, будет идти за мной по пятам. Вернувшись, я хочу найти стену, за которой можно укрыться. — Мы уедем, — пообещал он. Я направился к своей палатке. Уйгур с холодным взглядом сопровождал меня. Я взял ружье, пистолет, сунул в карман зубную щетку и бритву и повернулся, чтобы уходить. — Больше ничего? — в вопросе слышалось удивление. — Если что-то понадобится, я вернусь, — ответил я. — Нет — после того, как вспомнишь, — загадочно сказал он. Бок о бок мы пошли к черному жеребцу. Я сел на него. Отряд окружил нас. Копья образовали преграду между мной и лагерем. Мы двинулись на юг.
3. Ритуал Калкру
Жеребец бежал ровным раскачивающимся шагом. Он легко нес мой вес. Примерно за час до темноты мы оказались на краю пустыни. Справа виднелся невысокий хребет из красного песчаника. Прямо перед нами ущелье. Мы въехали в него. Через полчаса мы выехали на старую дорогу, теперь всю покрытую булыжниками. Дорога уходила на северо-восток к другому, более высокому хребту красного песчаника; он находился от нас в пяти милях. Мы добрались до него уже в начале ночи, и здесь мой проводник остановился, сказав, что мы заночуем до рассвета. Около двадцати всадников спешились, остальные проехали дальше. Те, что остановились, посматривали на меня, явно ожидая чего-то. Интересно, что я должен сделать; и тут я заметил, что мой жеребец вспотел. Я попросил, чтобы его протерли и дали ему воды и еды. Очевидно, этого от меня и ждали. Сам предводитель принес мне попону, еду и воду. Когда жеребец остыл, я покормил его. Потом велел закутать его в попону, потому что ночи стояли холодные. Закончив, я обнаружил, что ужин уже готов. Мы сидели у костра с предводителем. Я был голоден и, как всегда, когда это возможно, ел с большим аппетитом. Я задал несколько вопросов, но на них ответили так уклончиво и с такой очевидной неохотой, что больше я ни о чем не спрашивал. Когда ужин закончился, я захотел спать. Сказал об этом. Мне дали одеяла, и я пошел к своему жеребцу. Расстелил рядом с ним одеяла, упал на них и закутался. Жеребец наклонил голову, принюхался, подул мне на шею и лег рядом. Я повернулся и положил голову ему на шею. И услышал возбужденный шепот уйгуров. После этого я уснул. Проснулся я на рассвете. Завтрак был уже готов. Мы снова двинулись по древней дороге. Она шла вдоль холмов, огибая углубление, которое когда-то было дном большой реки. Какое-то время восточные холмы защищали нас от солнца. Когда оно стало светить прямо на нас, мы укрылись в тени огромной скалы. Во второй половине дня мы снова пустились в путь. Незадолго до заката мы пересекли высохшее русло в том месте, где когда-то находился большой мост. И углубились в еще одно ущелье, через которое в прошлом тек давно исчезнувший поток. К сумеркам мы достигли конца ущелья. По обе стороны неглубокой долины располагались каменные форты. На них виднелись десятки уйгурских воинов. Когда мы приблизились, они закричали, и я снова услышал повторяющееся слово «Двайану». Тяжелые ворота правого форта распахнулись. Мы проехали через них в проход в толстой стене. Проехали через широкую окруженную стенами площадь. И снова в ворота. Я увидел перед собой оазис, окруженный голыми скалами. Когда-то это была часть большого города, всюду виднелись развалины. То, что когда-то служило истоком большой реки, теперь превратилось в ручеек, исчезавший в песках недалеко от того места, где я стоял. Справа от ручейка виднелась растительность, деревья; слева — пустыня. Дорога проходила через оазис и дальше через пустыню. И исчезала в огромном прямоугольном отверстии в скале в миле от нас. Отверстие это напоминало дверь в горах или вход в какую-то гигантскую египетскую усыпальницу. Мы направились прямо к плодородной почве. Здесь виднелись сотни каменных зданий; заметно было, что некоторые из них пытались поддерживать в порядке. Но даже и эти дома казались невероятно древними. Под деревьями виднелись и палатки. Из домов и палаток выбегали уйгуры: мужчины, женщины, дети. Одних только воинов здесь было не меньше тысячи. В отличие от людей в фортах, эти смотрели молча, как я проезжаю мимо. Мы остановились перед пораженной временем грудой камня — когда-то, может быть, пять тысяч лет назад, она была дворцом. Или храмом. Перед ней располагалась колоннада из приземистых квадратных колонн. Еще более толстые колонны стояли у входа. Здесь мы спешились. Наши сопровождающие увели моего жеребца и лошадь предводителя. Низко склонившись у порога, мой проводник предложил мне войти. Я оказался в широком коридоре, освещенном факелами из какого-то смолистого дерева. Вдоль стен стояли ряды копьеносцев. Предводитель уйгуров шел рядом. Коридор привел в большое помещение с высоким потолком, такое обширное и длинное, что факелы на стенах не освещали его центр, он оставался в полутьме. В дальнем конце помещения виднелся невысокий помост, на нем каменный стол. За столом сидело несколько человек в капюшонах. Подойдя ближе, я увидел, что все эти люди внимательно смотрят на меня. Их было тринадцать: по шестеро по каждую сторону стола и один — в большом кресле — в голове стола. Вокруг стояли большие металлические светильники, в них горело какое-то вещество, дававшее устойчивый ровный яркий белый свет. Я подошел ближе и остановился. Мой проводник молчал. Молчали и сидевшие за столом. Неожиданно свет отразился в кольце на моем пальце. Человек в голове стола встал и схватился за край стола дрожащими руками, похожими на высохшие когти. Я услышал, как он прошептал: «Двайану!» Капюшон соскользнул с его головы. Я увидел древнее, древнее лицо, и на нем глаза, почти такие же голубые, как мои; и в глазах этих горело удивление и живая надежда. Меня тронул этот взгляд — взгляд отчаявшегося человека, вдруг увидевшего спасителя. Теперь встали все остальные, откинули свои капюшоны. Все они были старики, но не такие древние, как тот, что прошептал. Их холодные серо-голубые глаза разглядывали меня. Верховный жрец — я решил, что это верховный жрец, и так оно и оказалось, — снова заговорил: — Мне сказали… но я не могу поверить! Подойди ко мне! Я вспрыгнул на помост и подошел к нему. Он приблизил ко мне свое старое лицо, заглянул мне в глаза. Коснулся моих волос. Сунул руку под рубашку и положил мне на сердце. Потом сказал: — Покажи мне руки. Я положил их на стол ладонями кверху. Он так же внимательно их разглядывал, как начальник отряда. Остальные двенадцать столпились вокруг, следя за его пальцами, когда он указывал им те или иные знаки. Жрец снял с шеи золотую цепь и извлек из-под одежды прикрепленный к цепи ящичек из нефрита. Открыл его. Внутри находился желтый камень, больший, чем в моем кольце, но в остальном абсолютно такой же. В его глубине извивался черный осьминог — Кракен. Рядом — небольшой нефритовый флакон и маленький нефритовый нож, похожий на ланцет. Жрец взял мою правую руку и расположил запястье над желтым камнем. Посмотрел на меня, на остальных. В глазах его была боль. — Последнее испытание, — прошептал он. — Кровь! Он уколол мое запястье ножом. Капля за каплей кровь медленно падала на камень. Я заметил, что камень слегка вогнут. Капая, кровь тонким слоем покрывала углубление. Старый жрец поднял нефритовый флакон, откупорил его и с крайним усилием воли удержал его неподвижно над камнем. Из флакона капнула одна капля бесцветной жидкости и смешалась с моей кровью. В комнате царило полное молчание, верховный жрец и его помощники, казалось, не дышали, глядя на камень. Я бросил взгляд на предводителя уйгуров, он смотрел на меня, в глазах его горел огонь фанатизма. Послышалось восклицание верховного жреца, его подхватили все остальные. Я посмотрел на камень. Розовая пленка меняла цвет. В ней мелькали какие-то искорки; постепенно она превратилась в прозрачную эеленоватую жидкость. — Двайану! — выдохнул верховный жрец и опустился в свое кресло, закрыв лицо дрожащими руками. Остальные переводили взгляд с меня на камень и снова на меня, как будто увидели чудо. Я взглянул на предводителя отряда: он лежал у помоста, закрыв лицо руками. Верховный жрец открыл лицо. Мне показалось, что он помолодел, преобразился; в глазах его больше не было боли и отчаяния; они были полны жизнью. Он встал и усадил меня в свое кресло. — Двайану, — спросил он, — что ты помнишь? Я удивленно покачал головой; это повторение замечания уйгура в лагере. — А что я должен помнить? — спросил я. Он оторвал от меня взгляд, вопросительно взглянул на остальных; как будто он у них о чем-то спросил, они переглянулись и кивнули. Он закрыл нефритовый ящичек и спрятал его. Взял меня за руку, повернул грань на моем кольце, сомкнул мою другую руку вокруг кольца. — Ты помнишь, — голос его перешел в еле слышный шепот, — Калкру? И снова тишина повисла в огромном помещении — на этот раз она была физически ощутима. Я сидел, размышляя. В этом имени было что-то знакомое. У меня появилось раздражающее ощущение, что я должен его знать что если я постараюсь, то вспомню его; что воспоминание рядом, на самом пороге сознания. И к тому же я чувствовал, что это слово означает нечто ужасное. Что-то такое, что лучше не вспоминать. Почувствовал отвращение, смешанное с негодованием. — Нет, — ответил я. И услышал резкие возбужденные выдохи. Старик встал за мной и закрыл мне глаза руками. — А это… помнишь? В моем мозгу все смешалось, затем я увидел картину, увидел так ясно, будто смотрел на нее открытыми глазами. Я ехал верхом по оазису прямо к квадратному входу в скалу. Но это вовсе не был оазис. Город, с садами, с широкой рекой, сверкающей в нем. И хребты не из обнаженного красного песчаника, а покрыты зеленью и деревьями. За мной скачут другие — мужчины и женщины, похожие на меня, красивые и сильные. Вот я уже у входа. Мощные колонны окружают его… вот я спешился… спешился с большого черного жеребца… вхожу… Я не буду входить! Если войду, я вспомню… Калкру! Я бросился назад, наружу… почувствовал руки у себя на глазах… руки старого жреца. Спрыгнул с кресла, дрожа от гнева. Лицо его было добрым, голос мягким. — Скоро, — сказал он, — ты вспомнишь больше! Я не ответил, стараясь подавить необъяснимый гнев. Конечно, старик пытался загипнотизировать меня; я видел то, что он хотел, чтобы я увидел. Не зря уйгурские жрецы имеют репутацию колдунов. Но не это вызвало во мне гнев такой сильный, что потребовалась вся моя воля, чтобы не сорваться в вспышке безумия. Нет, это что-то связанное с именем Калкру. Что-то находится за входом в скалу, куда меня чуть не ввели насильно. — Ты голоден? — внезапный переход жреца к практическим проблемам вернул меня к норме. Я громко рассмеялся и ответил: «Очень. И к тому же хочу спать». Я опасался, что такая важная персона, какой я, по-видимому, становлюсь, должна будет есть в обществе верховного жреца. И почувствовал облегчение, когда он передал меня в руки уйгурского офицера. Уйгур следовал за мной, как собака, не отрывал от меня взгляда и ждал, как слуга, пока я ел. Я сказал ему, что хотел бы спать не в каменном доме, а в палатке. Глаза его сверкнули, и впервые он произнес что-то, кроме почтительных звуков. — По-прежнему воин! — одобрительно сказал он. Для меня поставили палатку. Прежде чем лечь спать, я выглянул из нее. Уйгурский офицер сидел у входа, и двойное кольцо вооруженных уйгуров окружало мою палатку. На следующее утро ко мне явилась делегация младших жрецов. Мы прошли в то же здание, но в гораздо меньшее помещение, в котором совсем не было мебели. Здесь меня ждали верховный жрец и его помощники. Я ожидал множества вопросов. Меня ни о чем не спросили. Жреца, очевидно, не интересовало мое происхождение, откуда я и как оказался в Монголии. Казалось, его вполне удовлетворяло, что я оказался именно тем, кого они надеялись увидеть, — кто бы это ни был. Больше того, у меня сложилось впечатление, что они очень торопятся завершить план, начатый уроками языка. Верховный жрец перешел прямо к делу. — Двайану, — сказал он, — мы вызовем в твоей памяти определенный ритуал. Слушай внимательно, смотри внимательно, повторяй точно каждую интонацию, каждый жест. — Для чего? — спросил я. — Узнаешь… — начал он и гневно прервал себя. — Нет! Я скажу тебе сейчас! Для того, чтобы эта пустыня снова стала плодородной. Чтобы уйгуры вернули себе свое величие. Древнее святотатство против Калкру, чьим результатом стала эта пустыня, должно быть искуплено! — Какое отношение я, чужак, имею ко всему этому? — Мы, те, к кому ты пришел, не обладаем древней кровью, чтобы вызвать все это. Ты не чужак. Ты Двайану — Освободитель. У тебя чистая кровь. И только ты, Двайану, можешь изменить судьбу. Я подумал, как обрадовался бы Барр, услышав это объяснение, как торжествовал бы он над Фейрчайлдом. Я поклонился старому жрецу и сказал, что готов. Он снял с моего пальца кольцо, снял со своей шеи цепь вместе с ящичком и велел мне раздеться. Пока я раздевался, он сам сбросил одежду, и все окружающие поступили так же. Жрец унес наши вещи и скоро вернулся. Я смотрел на сморщенные обнаженные тела стариков, и у меня вдруг пропало всякое желание смеяться. В ритуале было что-то зловещее. Урок начался. Это был не ритуал, скорее воззвание к духу, еще точнее — вызывание Существа, Власти, Силы, именуемой Калкру. И сам процесс, и жесты, его сопровождающие, были чрезвычайно любопытны. Отчетливо звучали архаические формы уйгурского языка. Многие слова я не понимал. Очевидно, они передавались от жреца к жрецу с глубокой древности. Даже равнодушный прихожанин счел бы их богохульными и проклятыми. Но я был слишком заинтересован, чтобы думать об этой стороне происходящего. У меня появилось то же странное чувство знакомого, какое я впервые ощутил при имени Калкру. Однако на этот раз я не испытывал отвращения. Я все воспринимал очень серьезно. Не знаю, связано ли это с объединенной волей двенадцати жрецов, которые не отрывали от меня взглядов. Не стану повторять, передам только суть. Калкру — это Начало-без-Начала и он же — Конец-без-Конца. Он — Пустота без света и времени. Уничтожитель. Пожиратель жизни. Разрушитель. Растворяющий. Он не смерть — смерть лишь часть его. Он жив, очень активен, но его жизнь — это антитезис Жизни, как мы понимаем ее. Жизнь вторгается, тревожит бесконечное спокойствие Калкру. Боги и люди, животные и птицы, все существа, растения, вода и воздух, огонь, солнце, звезды, луна — все растворится в Нем, живом Ничто, если он этого захочет. Но пока пусть они существуют. К чему беспокоиться, если в конце концов все придет к Калкру? Пусть Калкру отступит, чтобы жизнь могла войти в пустыню и снова расцвести здесь. Пусть он касается лишь врагов своих верноподданных, так чтобы эти верноподданные снова были велики и могучи — свидетельство того, что Калкру есть Все во Всем. Ведь это всего лишь на мгновение вечности. Пусть Калкру проявит себя и возьмет то, что ему предлагают, как доказательство, что он услышал и согласился. Там было еще много всего, но в этом суть. Ужасная молитва, но я не испытывал ужаса — тогда. Все повторили трижды, и я твердо усвоил свою роль. Верховный жрец провел еще одну репетицию и кивнул жрецу, который унес нашу одежду. Тот вышел и вернулся с одеждой, но не прежней. Он дал мне длинный белый плащ и пару сандалий. Я спросил, где моя одежда; старик сказал, что мне она больше не нужна, что отныне я буду одеваться, как подобает мне. Я сказал, что это хорошо, но я хотел бы иногда взглянуть и на свою старую одежду. Он согласился. Меня отвели в другую комнату. На стенах висели поблекшие рваные шпалеры. На них изображались сцены охоты и войны. Здесь были также сидения странной формы, металлические, может быть, медные, но может, и золотые, широкий и низкий диван, в углу копья, лук и два меча, щит и бронзовый шлем в форме шапки. Все, включая ковер на полу, казалось очень древним. Здесь меня вымыли, побрили и подстригли мои длинные волосы — все это сопровождалось очистительным ритуалом, иногда просто поразительным. После этого мне дали хлопковое белье, укрывшее меня с ног до шеи. Затем брюки, длинные, свободные, с широким поясом, связанные как будто из золотых нитей, непонятным образом приобретших мягкость шелка. Я с интересом заметил, что вся одежда тщательно заштопана и починена. Интересно, сколько столетий уже мертв человек, который первым надел ее? Затем последовала длинная, похожая на блузу рубашка из того же материала, на ноги я надел нечто похожее на котурны или высокие полусапоги, вышитые сложными, но изрядно постаревшими украшениями. Старик снова надел мне на палец кольцо и отошел, восхищенно глядя на меня. Очевидно, он не замечал следов времени в моей одежде. Для него я был великолепной фигурой из прошлого. — Так ты выглядел, когда наша раса была великой, — сказал он. — И скоро, когда вернется наше величие, мы вызовем тех, кто живет в Земле Теней. — Что это за Земля Теней? — спросил я. — Она далеко на востоке, за Большой Водой, — ответил он. — Но мы знаем, что они живут там, последователи Калкру, которые бежали, когда плодородная земля уйгуров из-за святотатства превратилась в пустыню. У них такая же чистая кровь, как и у тебя, Двайану, и среди их женщин ты найдешь себе пару. И когда мы уйдем, земля уйгуров снова будет населена людьми чистой крови. Он неожиданно отошел, и младшие жрецы последовали за ним. У двери он обернулся. — Жди здесь, — сказал он, — пока я не пришлю за тобой.
4. Щупальце Калкру
Я ждал около часу, рассматривая любопытное содержимое комнаты и развлекаясь фехтованием двумя мечами. Обернувшись, я увидел уйгурского офицера, он смотрел на меня от двери, его бледные глаза блестели. — Клянусь Зардой! — сказал он. — Ты мог многое забыть, но не искусство владения мечом! Ты оставил нас воином и воином вернулся! Он опустился на одно колено, склонил голову. «Прости, Двайану. Я послан за тобой. Пора идти». Меня охватило возбуждение. Я притронулся мечом к плечу офицера. Тот принял это как обряд посвящения в рыцари. Мы прошли коридором, полным копьеносцев, и через порог дворца. Послышался громовой крик: — Двайану! Затем звуки труб, могучий раскат барабанов и звон цимбал. Перед дворцом выстроился отряд всадников, их было не менее пятисот, копья их сверкали, к древкам были привязаны вымпелы. По краям площади виднелись толпы, стоявшие ровными рядами. Это были мужчины и женщины в древних одеяниях, таких же, как у меня. Многоцветные металлические нити их одеяния блестели на солнце. Они держали в руках флаги, флажки, вымпелы, древние, изорванные, со странными изображениями. В дальнем конце площади я разглядел старого жреца, он сидел на лошади и был одет в желтое. Рядом с ним его помощники. Над ними развевалось желтое знамя, и ветер развернул на нем изображение черного Кракена. А еще дальше сотни уйгуров теснились, чтобы взглянуть на меня. Я стоял, мигая от яркого света, и новый мощный крик смешался с громом барабанов. «Король возвращается к своему народу», — сказал Барр. Что ж, очень похоже. Меня подтолкнул мягкий нос. За мной стоял черный жеребец. Я сел на него. И проехал между рядами воинов и людей в старинной одежде; уйгурский офицер следом за мной. Все они, мужчины и женщины, были крупнее, чем уйгуры в среднем, у всех серо-голубые глаза. Я решил, что это дворяне, представители древних родов, те, в ком наиболее сильно сказывалась древняя кровь. На изорванных флагах символы их кланов. В глазах мужчин горело возбуждение. В глазах многих женщин — ужас. Я подъехал к старому жрецу. Ряды всадников перед нами расступились. Мы рядом въехали в образовавшийся проход. Младшие жрецы последовали за нами. За ними — дворяне. Длинной линией по обе стороны кавалькады двигались уйгурские всадники — трубы ревели, барабаны били, цимбалы звенели. «Король возвращается…» Боже, почему я тогда не бросился прямо на копья всадников?! Мы двигались по зеленому оазису. Пересекли широкий мост, который соединял берега ручейка, бывшего некогда могучей рекой. И по древней дороге направились прямо к входу в скалу примерно в миле от нас. Меня охватывало все более сильное возбуждение. Я посмотрел на сопровождавших. Вспомнил о заплатах и тщательной починке своей одежды. И увидел в одежде спутников следы той же убогости. Это заставило меня почувствовать, что я все же не король, но одновременно я ощутил жалость. Этих мужчин и женщин подгоняли духи их предков, они становились все слабее по мере того, как разжижалась древняя кровь, но они все еще были сильны, они боролись, они распоряжались мозгом, волей, телами своих потомков, они вели их к тому, что, по мнению духов, сделает их снова сильными, утолит их голод. Да, я жалел их. Нелепо думать, что я утолю голод их призраков, но одно я могу для них сделать. Я дам отличное представление! И я принялся повторять ритуал, которому научил меня старый жрец. Осмотревшись, я увидел, что мы уже на пороге входа в гору. Вход был очень широк, в него могли бы въехать рядом двадцать всадников. Приземистые колонны, которые я видел в своем воображении, когда жрец коснулся моих глаз, лежали расколотые рядом. Я не ощущал ни отвращения, ни нежелания войти, как в своем видении. Мне хотелось побыстрее покончить с этим. Всадники проехали вперед и выстроились у входа. Я спешился и протянул одному из них повод своего жеребца. Мы, старый жрец рядом, остальные сзади, миновали разрушенный порог и вошли внутрь горы. Проход, или вестибюль, был освещен ровным ярким пламенем настенных факелов. В ста шагах от входа начинался другой коридор, он уходил внутрь под углом примерно в 90 градусов к первому, более широкому. В него свернул старый жрец. Я оглянулся. Дворяне еще не вошли в гору. Я видел, как они спешиваются у входа. Мы молча прошли по этому переходу примерно с тысячу футов. Он привел к небольшой квадратной комнате, высеченной в красном песчанике; из комнаты вела дверь, увешанная вышитыми коврами. В комнате ничего не было, кроме нескольких каменных сундуков вдоль стен. Жрец раскрыл один из них. В нем оказался деревянный ящик, посеревший от времени. Жрец поднял его крышку и извлек оттуда два желтых одеяния. Одно из них он одел на меня. Это оказалось нечто вроде рабочего халата, длиной до колен. На одеянии было вышито изображение черного осьминога, его щупальца обвивали меня. Второе одеяние жрец надел сам. На нем тоже было изображение осьминога, но только на груди, и щупальца не обвивали все тело. Жрец наклонился и достал из сундука золотой жезл, усаженный поперечными стерженьками. С них свисали маленькие золотые колокольчики. Из других сундуков младшие жрецы извлекали барабаны, странные изогнутые овальные инструменты примерно трех футов длиной, из тусклого красного металла. Они сидели, прикасаясь к коже барабанов, поглаживая ее пальцами, затягивая тут и там, а старый жрец слегка потряс жезлом, проверяя, как звенят колокольчики. Было похоже на настройку инструментов оркестра. Я снова почувствовал желание рассмеяться; я еще не знал тогда, как обычная вещь усиливает впечатление ужаса. За увешанной коврами дверью послышались какие-то звуки, шорох. Три звонких удара, будто молотом о наковальню. Затем тишина. Двенадцать жрецов прошли через эту дверь с барабанами в руках. Верховный жрец поманил меня, и мы вместе с ним прошли следом. Я увидел огромную пещеру, вырезанную в сердце скалы руками давно умерших людей. Невероятная древность пещеры была видна так же ясно, будто скалы обладали языком. Она не просто древняя — первобытная. Пещера тускло освещена, так тускло, что я с трудом разглядел уйгурских дворян. Они стояли, подняв знамена своих кланов, обратив ко мне лица, стояли на каменном полу в ста ярдах от меня и на десять футов ниже. За ними и вокруг них терялась во тьме огромная пещера. Я заметил перед ними изгибающееся углубление, подобное впадине между двумя волнами; по обе стороны углубления будто две гигантские каменные волны, увенчанные каменными гребнями, устремлялись навстречу мне. На возвышении, образованном одной из волн, стоял я. Жрец тронул меня за руку. Я повернул голову и посмотрел туда, куда смотрел он. В ста футах от меня стояла девушка. Она была обнажена. Совсем юная, она, очевидно, вскоре должна была стать матерью. Глаза у нее голубые, как у старика жреца, волосы коричнево-красноватые, тронутые золотом, кожа смугло-оливковая. Ясно проявлялись в ее внешности признаки древней расы. И хотя она держалась храбро, в глазах ее был ужас, и тот же ужас выдавали быстрые подъемы и падения ее круглых грудей. Она стояла в небольшом углублении. На талии у нее было золотое кольцо, от которого к полу крепились три золотые цепи. Я понял их назначение. Она не могла ни бежать, ни выползти из углубления. Но бежать от чего? Не от меня же! Я посмотрел на нее и улыбнулся. Ее глаза всматривались в мои. Ужас в них слегка ослаб. Она доверчиво улыбнулась мне в ответ. Боже, прости меня! Я улыбнулся ей, и она мне поверила! Я посмотрел дальше и увидел в ста футах за девушкой желтый блеск, как от огромного топаза. Там из скалы выступал огромный желтый прозрачный камень, точно такой, как тот, что в моем кольце. Он был похож на обломок гигантского оконного стекла. Форма у него грубо треугольная. И в нем черное щупальце Кракена. Щупальце извивалось внутри камня, оторванное от гигантского туловища, когда был разбит камень. Оно достигало не менее пятидесяти футов в длину. Внутренняя сторона его была обращена ко мне, и я ясно видел отвратительные присоски. Что ж, отвратительно, конечно, подумал я, но чего тут бояться? Я снова улыбнулся прикованной девушке и снова встретил ее доверчивый взгляд. Старик внимательно следил за мной. Мы прошли вперед, пока не оказались на полпути между краем и девушкой. У края сидели на корточках двенадцать младших жрецов, держа барабаны. Старик и я стояли перед девушкой и отбитым щупальцем. Жрец поднял жезл с золотыми колокольчиками и потряс им. Из тьмы пещеры донеслось низкое пение, все время повторялись три мелодии, три темы, повторялись и переплетались. Первобытные, как пещера; голос самой пещеры. Девушка не отводила от меня взгляда. Пение кончилось. Я поднял руки и сделал приветственный жест, которому меня обучили. Я начал ритуал Калкру… При первых же словах странное чувство знакомости охватило меня… и к нему что-то добавилось. Слова, жесты были автоматическими. Мне не нужно было напрягать память; они сами всплывали во мне. Я больше не видел прикованную девушку. Я видел только щупальце в отбитом камне. Ритуал продолжался… неужели камень вокруг щупальца растворяется… щупальце раскачивается? Я отчаянно пытался остановить слова, жесты. Не мог! Что-то сильнее меня овладело мною, двигало моими мышцами, говорило моим голосом. У меня было чувство нечеловеческой мощи. Ритуал двигался к своей злой вершине — о, теперь я знал, что она злая! — а я, казалось, стою в стороне, не в силах вмешаться. Ритуал кончился. Щупальце задрожало… начало извиваться… потянулось к прикованной девушке. Дьявольский гром барабанов, они бьют все быстрее и быстрее, в громовом крещендо… Девушка по-прежнему смотрела на меня… но в глазах ее не было доверия… только ужас, такой же, как и на моем лице. Черное щупальце вытянулось к ней! У меня было смутное видение огромного туловища, от которого отходили другие извивающиеся туманные щупальца. Холодное дыхание космоса коснулось меня. Черное щупальце обернулось вокруг девушки… Она закричала… нечеловеческим криком… поблекла… растворилась… крик угас… стал отголоском… вздохом… Я услышал звон металла с того места, где стояла девушка. Пустое кольцо и цепи упали на камень. Девушка исчезла! Я стоял, парализованный таким ужасом, какого никогда в жизни не испытывал. Этот ребенок доверился мне… Я улыбнулся ей, и она мне поверила… а я вызвал Кракена, уничтожившего ее! Жгучие угрызения совести, белый горячий гнев разорвали удерживавшие меня оковы. Я снова увидел желтый камень и в нем — неподвижное щупальце. У моих ног лежал старший жрец, его высохшее тело дрожало, высохшие руки цеплялись за камень. Рядом с их барабанами лежали младшие жрецы, прижавшись к каменному полу, лежали дворяне, распростертые, неподвижные, слепые и глухие в поклонении тому ужасному Существу, которое я вызвал. Я побежал к увешанной коврами двери. У меня было лишь одно желание — подальше от храма Калкру. Прочь из его логова. Уйти от него как можно быстрее. Назад… в наш лагерь… домой. Я побежал через маленькую комнатку, через переход, добежал до входа в храм. И остановился на мгновение, ослепленный солнечным светом. Послышался рев сотен глоток — затем молчание. Зрение мое прояснилось. В пыли передо мной лежали уйгурские воины. Я поискал черного жеребца. Он стоял рядом. Я прыгнул ему на спину, схватил узду. Он, как молния, пронесся через ряды лежавших воинов и поскакал по дороге к оазису. Мы пронеслись через оазис. Я смутно видел бегущие, кричащие толпы. Никто не пытался остановить меня. Никто не встал на пути лошади. Теперь я был рядом с внутренними воротами форта, через которые мы проехали накануне. Они были открыты. Охрана стояла, глядя на меня. Из храма донеслось властное звучание барабанов. Я оглянулся. У входа в храм смятение, суматошное движение. Уйгурские всадники устремились по дороге. Ворота начали закрываться. Я бросил жеребца вперед, раскидал стражников и был внутри форта. Подскакал к наружным воротам. Они были закрыты. Барабаны звучали все громче, все грознее. Рассудок отчасти вернулся ко мне. Я приказал стражникам открыть ворота. Они стояли, с дрожью глядя на меня. Я соскочил с лошади и побежал к ним. Поднял руку. Блеснуло кольцо Калкру. Они упали наземь передо мной — но ворота не открыли. Я увидел на стене меха, полные водой. Схватил один из них, прихватил другой с зерном. На земле лежал большой камень. Я поднял его, будто булыжник, и швырнул в ворота, туда, где соединялись створки. Ворота распахнулись. Я кинул мех с водой и мешок с зерном на высокое седло и проехал в ворота. Большой конь, как ласточка, летел по ущелью. И вот мы уже у разбитого моста и выезжаем на древнюю дорогу. Мы добрались до конца ущелья. Я узнал груду камней. Оглянулся. Ни следа погони. Но по-прежнему слышались отдаленные звуки барабанов. День уже склонялся к концу. Мы приблизились к хребту. Жестоко подгонять жеребца, но я не мог позволить себе щадить его. К ночи мы достигли полупустынной местности. Жеребец был покрыт потом, он сильно устал. Но ни разу он не замедлил хода, не проявлял недовольства. У нее великое сердце, у этой лошади. Я решил, что надо дать ей возможность отдохнуть. Я нашел защищенное место у высокого камня. Неожиданно я понял, что на мне по-прежнему церемониальное желтое платье. Я с отвращением сорвал его. Вытер им коня. Напоил его, дал немного зерна. Сам я был страшно голоден, потому что не ел с самого утра. Пожевал немного зерна и запил его тепловатой водой. По-прежнему никаких признаков преследования, и барабаны смолкли. Я с беспокойством подумал, не знают ли уйгуры более короткой дороги. Может быть, именно сейчас они окружают меня. Набросив свою одежду на жеребца, я растянулся на земле. Я не собирался спать. Но тут же уснул. Проснулся я неожиданно. Наступил рассвет. На меня смотрели старый жрец и офицер с холодным взглядом. Мое укрытие было окружено кольцом всадников. Старик мягко заговорил. — Мы не причиним тебе вреда, Двайану. Если ты хочешь покинуть нас, мы не можем остановить тебя. Тот, кто смог вызвать Калкру, не должен опасаться нас. Его воля — это и наша воля. Я не ответил. Глядя на него, я снова увидел то, что видел в пещере. Он вздохнул. — Ты хочешь нас покинуть. Да будет так! Уйгурский офицер молчал. — Мы принесли твою одежду, Двайану, подумав, что ты захочешь уйти от нас, как и пришел, — сказал старик. Я переоделся в свою старую одежду. Старый жрец взял мое древнее одеяние. Он снял с жеребца одежду с изображением осьминога. Заговорил офицер: — Почему ты оставляешь нас, Двайану? Ты заключил мир с Калкру. Ты открыл ворота. Скоро пустыня расцветет, как в древности. Почему ты не останешься с нами и не поведешь нас к величию? Я покачал головой. старый жрец снова вздохнул. — Такова его воля! Да будет так! Но помни, Двайану: тот, на чей призыв отозвался Калкру, должен будет и сам ответить на его призыв. И рано или поздно — Калкру позовет его! Он коснулся моих волос дрожащей старческой рукой, коснулся моего сердца и повернулся. Его окружили всадники. Они уехали. Уйгурский офицер сказал: «Мы будем сопровождать Двайану в его путешествии». Я сел верхом. Мы достигли нового лагеря экспедиции. Он был покинут. Мы поехали дальше, к нашему старому лагерю. К концу дня мы увидели впереди караван. Когда мы приблизились, караван остановился, началась торопливая подготовка к обороне. Это была наша экспедиция, направлявшаяся к старому лагерю. Я помахал руками и закричал. Сойдя с жеребца, я протянул узду офицеру. — Возьми его, — сказал я. Его лицо утратило мрачность, просветлело. — Он будет ждать тебя, когда ты вернешься, Двайану. Он или его сыновья, — сказал офицер. Он поднес мою руку ко лбу, поклонился. — И все мы тоже, Двайану, — мы и наши сыновья. Когда ты вернешься. Он сел на свою лошадь. Все всадники подняли копья. Послышался громовой возглас: — Двайану! Они ускакали. Я пошел туда, где меня ждали Фейрчайлд и все остальные. Как только я смог организовать возвращение, я вернулся в Америку. Я хотел только одного — чтобы как можно больше миль отделяло меня от храма Калкру. Я замолчал. Невольно погладил рукой кожаный мешочек на груди. — Но теперь мне кажется, — сказал я, — что уйти от него не так-то просто. Ударами по наковальне, пением и барабанами — Калкру призывает меня!
КНИГА МИРАЖА
5. Мираж
Джим сидел молча, глядя на меня, и мне показалось, что индейский стоицизм покинул его лицо. Он наклонился и положил руку мне на плечо. — Лейф, — негромко сказал он, — я не знал. Впервые я вижу, как ты испугался… мне больно за тебя. Я не знал… Со стороны чероки Тсантаву это очень много. — Все в порядке, индеец. Заткнись! — грубо ответил я. Он некоторое время сидел молча, подбрасывая в костер прутики. — А что сказал об этом твой друг Барр? — неожиданно спросил он. — Он взгрел меня, — ответил я. — Задал мне жару со слезами на глазах. Сказал, что с того времени, как Иуда поцеловал Христа, никто так не предавал науку. Он хорошо подбирал метафоры, они вонзались, как шипы. Особенно эта, потому что я думал так же — правда, не о науке, а о девушке. Да, я дал ей поцелуй Иуды. Барр сказал, что у меня была возможность, какой не было ни у кого. Я мог разрешить загадку Гоби и ее утраченной цивилизации. А я убежал, как ребенок от пугала. Я атавистичен не только телом. Но и разумом. Я светловолосый дикарь, лежащий в страхе перед идолом. Он сказал, что на моем месте позволил бы распять себя, лишь бы узнать истину. Он и на самом деле так поступил бы. Он не лгал. — Весьма научно, — сказал Джим. — Но что он сказал о том, что ты видел? — Всего лишь гипнотическое внушение со стороны старого жреца. Я видел то, что он заставлял меня видеть, — точно так же как перед этом я видел по его воле, как подъезжаю к этому храму. Девушка не растворилась. Вероятно, стоит где-нибудь в проходе и смеется надо мной. Но если то, что мой невежественный мозг воспринял как правду, и на самом деле было правдой, тогда мое поведение еще более непростительно. Я должен был остаться, изучить феномен и привезти с собой результаты для научного анализа. То, что я рассказал о ритуале Калкру, не что иное, как второй закон термодинамики, выраженный в терминах антропоморфизма. Жизнь действительно вторгается в Хаос, если это слово использовать для описания бесформенного первичного состояния вселенной. Вторжение. Случайность. Со временем вся энергия равномерно распределится в виде статичного тепла и будет больше не в состоянии порождать жизнь. Мертвая вселенная будет безжизненно плавать в безграничной пустоте. Пустота вечна, жизнь — нет. Поэтому пустота поглотит ее. Солнца, миры, боги, люди, все живое вернется в пустоту. Вернется к Хаосу. Назад в Ничто. Назад к Калкру. Или, если мой атавистический мозг предпочитает другое слово, назад к Кракену. Барр сильно сердился. — Но ведь ты сказал, что и другие видели девушку. Как он объяснил это? — О, с легкостью. Массовый гипноз — подобно видению ангелов у Монса, призрачным лучникам в Греции и другим коллективным галлюцинациям времен Войны. А я послужил — катализатором. Мое сходство с представителями древней расы, мой атавизм, владение ритуалом Калкру, вера уйгуров в меня — все это было необходимыми элементами массовой галлюцинации — щупальца. Очевидно, жрецы давно старались заставить действовать заклинание, в котором недоставало существенного элемента. Я и послужил этим недостающим элементом, катализатором. Вот и все. Джим снова помолчал, ломая веточки. — Разумное объяснение. Но ты ведь не убежден? — Да, я не был убежден — я видел лицо девушки, когда щупальце коснулось ее. Он встал, глядя на север. — Лейф, — неожиданно спросил он, — а что ты сделал с кольцом? Я вытащил кожаный мешочек, раскрыл его и протянул Джиму кольцо. Он внимательно осмотрел его и вернул мне. — А зачем ты сохранил его, Лейф? — Не знаю. — Я надел кольцо на палец. — Я не вернул его жрецу, а тот не просил об этом. Дьявол, я скажу тебе, почему сохранил его, — по той же причине Старый Моряк Колриджа привязал альбатроса к шее, — чтобы не забыть, что я убийца. Я снова положил кольцо в мешочек и повесил его на шею. С севера послышался негромкий рокот барабанов. На этот раз он, казалось, прилетел не с ветром. Казалось, он распространяется под землей и замирает под нами. — Калкру! — сказал я. — Что ж, не будем заставлять старого джентльмена ждать, — весело сказал Джим. И он, насвистывая, занялся поклажей. Неожиданно он повернулся ко мне. — Послушай, Лейф. Теории Барра кажутся мне здравыми. Я не говорю, что на твоем месте я бы принял их. Может, ты и прав. Но я с Барром, пока события — если, когда и как — не покажут, что он ошибался. — Прекрасно, — от всего сердца и без всякого сарказма ответил я. — Пусть твой оптимизм продержится до нашего возвращения в Нью-Йорк — если, когда и как. Мы надели рюкзаки, взяли ружья и двинулись на север. Идти было нетрудно, хотя мы почти все время поднимались. Местность постоянно повышалась, иногда довольно круто. Деревья, необычно высокие и толстые для этих широт, начали редеть. Становилось холоднее. Пройдя примерно с пятнадцать миль, мы оказались в районе редких изогнутых деревьев. В пяти милях впереди начинался скальный хребет в тысячу футов высотой. За хребтом — мешанина гор пяти-шести тысяч футов, безлесых, их вершины покрывал снег и лед, их рассекали многочисленные ущелья, покрытые блестящими ледниками. Между нами и хребтом протянулась равнина, заросшая зарослями диких роз, черникой, голубикой, брусникой и ярко-красными, ярко-синими цветами и зеленью короткого аляскинского лета. — Если разобьем лагерь в тех холмах, — заметил Джим, — укроемся от ветра. Сейчас пять часов. За час доберемся. Мы двинулись дальше. Из ягодников, как коричневые ракеты, взлетали выводки диких куропаток; со всех сторон посвистывали ржанки и кроншнепы; на расстоянии выстрела паслось небольшое стадо карибу, повсюду расхаживали маленькие коричневые журавли. Никто не может умереть с голоду в этом краю, и, разбив лагерь, мы очень хорошо поужинали. Ночью не слышно было ни звука — а может, мы слишком крепко спали, чтобы услышать что-нибудь. На следующее утро мы обсудили дальнейший маршрут. Низкий хребет преграждал прямой путь на север. Хребет продолжался, повышаясь, на запад и на восток. С того места, где мы стояли, он не представлял серьезной преграды; мы по крайней мере ее не видели. Мы решили идти через хребет и не торопиться. Но продвигаться оказалось труднее, чем мы думали; нам потребовалось два часа, чтобы извилистым путем добраться до вершины. По верху хребта мы подошли к полосе больших камней, которая стеной преграждала наш путь. Протиснувшись между двумя камнями, мы торопливо отступили назад. Мы стояли на краю пропасти, которая уходила на сотни футов вниз в необычную долину. Долину окружала мешанина покрытых снегом и льдом горных вершин. В дальнем конце долины, милях в двадцати от нас, виднелась пирамидальной формы гора. По ее центру, от вершины, до подножия долины, пробегала сверкающая белая полоса — несомненно, ледник, заполнивший расселину, расколовшую гору как будто одним ударом меча. Долина неширока, не более пяти миль в самом широком месте, по моей оценке. Длинная и узкая долина, ее дальний конец закрыт горой с ледником, а по бокам ее другие горы, обрывающиеся круто, как и перед нами. Кое-где виднелись оползни. Но все наше внимание привлекло дно долины. Оно казалось огромным ровным полем, заполненным грудами камня. В дальнем конце ее ледник тянулся до середины долины. Среди скал ни следа растительности. Ни намека на зелень в окружающих горах. Только голые черные скалы и белизна снега и льда. Долина опустошения. — Как здесь холодно, Лейф, — вздрогнул Джим. Да, холодно, и холод необычный, странный — неподвижный и душный. Он, казалось, поднимается к нам из долины, отгоняет, заставляет уйти. — Нелегко будет спуститься туда, — сказал я. — И нелегко идти, когда спустимся, — подхватил Джим. — Откуда все эти скалы и что распределило их так ровно? — Вероятно, их принес с собой ледник, — ответил я. — Похоже на морену. В сущности, похоже, что вся долина вырыта ледником. — Подержи меня за ноги, Лейф, я хочу взглянуть. — Джим лег на живот и перегнулся через край. Через одну-две минуты он позвал меня, и я вытянул его назад. — Примерно в четверти мили слева от нас оползень, — сказал он. — Отсюда не видно, начинается ли он на самой вершине. Посмотрим. Лейф, как ты думаешь, далеко ли до дна долины? — Несколько сотен футов. — Должно быть, не меньше тысячи. Утес уходит все вниз и вниз. Не понимаю, почему дно кажется таким близким. Странное место. Мы надели рюкзаки и пошли вдоль стены из камней. Через некоторое время мы оказались у трещины, рассекающей скалу. Здесь вода и лед поработали в слабом месте. Обломки камня усеивали дно трещины, уходившее к самой долине. — Придется снять рюкзаки, чтобы спуститься вниз, — сказал Джим. — Как мы поступим: оставим их здесь или спустим вниз? — Возьмем с собой. Внизу должен быть выход из долины у основания той большой горы. Мы начали спуск. Я перебирался через большой камень примерно на трети спуска, когда услышал резкое восклицание Джима. Исчез ледник, просовывавший свой язык между камнями. Исчезли и камни. У дальнего конца долины ее дно было покрыто черными каменными пирамидами, низ которых был белым. Пирамиды стояли рядами, аккуратно расположенные, как дольмены друидов. Они заполняли половину долины. Тут и там между ними виднелись столбы белого пара, как дым от жертвоприношений. Между ними и нами, плещась о стены утесов, виднелось синее покрытое рябью озеро! Далеко под нами его волны ударялись в скалу. И тут что-то поразило меня в черных каменных пирамидах. — Джим! Эти скалы в форме пирамиды. Они точно повторяют форму той горы! Даже белая полоска на месте! И в этот момент голубое озеро задрожало. Поплыло к черным пирамидам, затопило их, затопило белые дымы. Снова задрожало. И исчезло. Снова перед нами было дно долины, покрытое грудами камней. В этом преобразовании было что-то от цирковых трюков или от работы искусного волшебника. Да это и было волшебство — в своем роде. Но я видел и раньше, как природа проделывала подобные трюки. — Дьявол! — сказал я. — Это мираж! Джим не отвечал. Он со странным выражением смотрел на долину. — Что с тобой, Тсантаву? Снова прислушиваешься к предкам? Это всего лишь мираж. — Да? — спросил он. — Но что именно? Озеро или скалы? Я взглянул на дно долины. Оно выглядело совершенно реальным. Теория ледовой морены объясняла ее удивительно ровную поверхность, а также горы вокруг. Готов поклясться, что когда спустимся, обнаружим, что камни распределены вовсе не регулярно. — Конечно, озеро. — Нет, — ответил он, — я думаю, что мираж — камни. — Чепуха. Там внизу слой теплого воздуха. Камни отражают солнечное тепло. А сверху давит холодный воздух. В таких условиях и возникает мираж. Вот и все. — Нет, — возразил он, — совсем не все. Он перегнулся через скалу. — Лейф, прошлой ночью предки сказали мне кое-что еще. Они говорили об Атагахи. Тебе это что-нибудь говорит? — Ничего. — Мне тоже не говорило — тогда. А теперь говорит. Атагахи — зачарованное озеро в самой глухой части Аппалачских гор, к западу от истоков Оканалуфти. Это лечебное озеро зверей и птиц. Все чероки знали о нем, хотя мало кто его видел. Если случайный охотник подходил к нему, то видел только каменную пустыню, зловещую, без единой травинки. Но молитвой, постом и всенощным бдением он мог заострить свой духовный взор. И тогда на рассвете он видел широкую полосу мелкой жемчужной воды, питаемой ручьями, бегущими с окружающих гор. А в воде все виды рыб и земноводных, стада уток, гусей и других птиц, а вокруг озера многочисленные следы зверей. Они приходили к Атагахи, чтобы излечиться от ран или болезни. Великий Дух поместил посреди озера остров. Раненые, больные животные и птицы плыли на него. И когда добирались, воды Атагахи излечивали их. Они выходили на берег здоровыми. На Атагахи всегда был мир. Все существа там были друзьями. — Послушай, индеец, ты хочешь сказать, что это и есть твое лечебное озеро? — Я вовсе не говорю этого. Я сказал, что мне все время приходит на ум название Атагахи. Место, абсолютно пустое, зловещее, голый камень без единой травинки. А под этой иллюзией — озеро. И здесь: каменное дно, а под ним — озеро. Странное совпадение. Может, мираж — как раз каменное дно Атагахи. — Он помолчал. — Еще кое-что мне рассказали предки, так что я изменил свое мнение и принял твою версию событий в Гоби. — Мираж — это озеро. Говорю тебе. Он упрямо покачал головой. — Может быть. Но, может, и то, что мы видим внизу, тоже мираж. Может, оба мираж. А если так, то как глубоко настоящее дно? Можем ли мы до него добраться? Он стоял молча, глядя на долину. Вздрогнул, и я опять ощутил необычный холод. Я наклонился и взял в руки лямки своего рюкзака. — Что ж, чем бы это ни было, пойдем узнаем. Дрожь пробежала по дну долины. Внезапно оно вновь превратилось в сверкающее голубое озеро. А потом опять стало каменным дном. Но еще раньше я увидел в глубине озера иллюзию — если это была иллюзия — гигантскую туманную тень, огромные щупальца, тянущиеся от обширного призрачного туловища… туловища, которое, казалось, находится бесконечно далеко… исчезает в пустоте… как исчез в пустоте Кракен в пещере Гоби… в пустоте, которая сама была — Калкру! Мы пробирались между большими обломками камня, карабкались через них, скользили по ним. Чем ниже мы спускались, тем становилось холоднее. Холод, казалось, проникает в самые кости. Иногда мы тащили рюкзаки за собой, иногда толкали их впереди. И все сильнее нас донимал холод. Посматривая на дно долины, я все более убеждался в его реальности. Любой мираж, который мне приходилось видеть, — а в Монголии я видел их множество, — отступал, изменялся и исчезал, когда я подходил ближе. Дно долины ничего подобного не делало. Правда, камни на нем стали казаться приземистей по мере нашего приближения, но я приписал это изменившемуся углу зрения. Мы были на расстоянии ста футов от конца оползня, когда я почувствовал, что моя уверенность рассеивается. Продвигаться стало еще труднее. Расщелина сузилась. Слева простиралась скала, такая гладкая, как будто ее прочистили гигантской метлой. Вероятно, огромный осколок оторвался тут и упал вниз, раздробив камни; их куски виднелись внизу. Мы свернули вправо, где обломки камней были сметены гигантским веником. Тут мы продолжали свой путь. Из-за своей силы я нес оба наши ружья, подвесив их на ремне через левое плечо. И еще более тяжелый рюкзак. Мы подошли к особенно трудному месту. Камень, на котором я стоял, неожиданно качнулся вперед под моим весом. Я упал в сторону. Рюкзак выскользнул у меня из рук, перевернулся и упал на гладкую, уходящую вниз скалу. Я автоматически потянулся за ним. Ремень, державший оба ружья, порвался. Ружья скользнули вслед за рюкзаком. Это было одно из тех совпадений, которые заставляют поверить в бога Невезения. Такое может случиться где угодно без малейших последствий. Даже в тот момент я не думал, что это для нас означает. — Ну, что ж, — весело сказал я. — По крайней мере не придется их тащить. Подберем их на дне. — Если там есть дно, — ответил Джим. Я посмотрел вниз. Ружья сцепились с рюкзаком и быстро скользили по склону. — Сейчас остановятся, — сказал я. Они почти у самых камней. — Как же! — отозвался Джим. Я протер глаза, Рюкзак и ружья должны были застрять у каменного барьера в конце расселины. Но не застряли. Они просто исчезли.
6. Земля теней
Когда рюкзак и ружья коснулись камней, поверхность их дрогнула. И наши вещи как будто растворились в ней. — Я бы сказал, что они упали на дно озера, — заметил Джим. — Никакого озера нет. Они провалились в какую-то щель в камне. Идем… Он схватил меня за плечо. — Подожди, Лейф! Не торопись. Я взглянул, куда он указывал. Барьер из камней исчез. На его месте продолжалась расселина, гладкий каменный язык спускался в долину. — Идем, — повторил я. Мы пошли вниз, нащупывая каждый шаг. С каждой остановкой дно долины становилось все более плоским, камни на ней все ниже и ниже. Облако закрыло солнце. И никаких камней не стало. Под нами расстилалось дно долины, ровная синевато-серая пустыня. Расселина неожиданно кончилась у края этой пустыни. В пятидесяти футах впереди так же резко обрывались скалы. Создавалось странное впечатление, что их установили на краю, который тогда был клейким. И пустыня тоже не казалась твердой, и она тоже производила впечатление клейкой поверхности; по ней проходила постоянная мелкая рябь, как волны жара над нагретой солнцем дорогой; и однако с каждым шагом усиливалось ощущение страшного холода, который наконец стало почти невозможно выдерживать. Между обломками камней и утесом справа от нас виднелся узкий проход. Мы направились туда и остановились в удивлении. Мы стояли на большом плоском камне на самом краю странной поверхности. Это не вода и не камень; больше всего она походит на тонкое непрозрачное жидкое стекло или на полужидкий газ. Я вытянулся на камне и протянул руку, чтобы коснуться этой поверхности. Коснулся — и не ощутил никакого сопротивления, вообще ничего не ощутил. Медленно опустил руку. На мгновение увидел свою руку, будто отраженную в искажающем зеркале, а потом вообще ее не видел. Но там, внизу, где исчезла моя рука, так приятно тепло. Кровь заколола в моих онемевших пальцах. Я наклонился еще больше и просунул обе руки почти по плечи. Как хорошо! Джим опустился рядом со мной и тоже просунул руки. — Воздух, — сказал он. — Похоже… — начал я, и тут внезапная мысль пришла мне в голову. — Ружья и рюкзак. Если не отыщем их, нам не повезло. Джим ответил: «Если там — Калкру, нам будет мало проку от ружей». — Ты думаешь, это… — я замолчал, вспомнив его рассказ об иллюзорном береге озера. — Усунхию, Земля Тьмы. Земля Теней твоего старого жреца. Я сказал бы, что оба названия подходят. Я лежал неподвижно; как бы человек ни был уверен в предстоящем испытании, он не может удержаться от дрожи, когда вступает на его порог. А я совершенно определенно знал, что меня ждет. Все, что находилось между храмом в Гоби и этим местом, вдруг исчезло. Я пришел туда, где должно кончиться то, что началось в пустыне Гоби. Прежний ужас начал овладевать мною. Я боролся с ним. Я принимаю вызов. Ничто в мире не остановит меня. Приняв решение, я почувствовал, как ужас угрюмо отступает, покидает меня. Впервые за многие годы я освободился от него. — Посмотрю, что там внизу, — Джим протянул руки. — Держи меня за ноги, Лейф, я перегнусь через край камня. Я потрогал его: похоже, он тянется дальше. — Я первый, — ответил я. — В конце концов это ведь мое дело. — И как же я вытяну тебя, слон? Держи — я пошел. Мне пришлось подпрыгнуть, чтобы ухватить его за ноги, его голова и плечи уже исчезли из вида. Он полз по скале, медленно опускаясь, пока и мои руки по самые плечи не скрылись из виду. Он остановился, и затем из загадочной непрозрачности, в которой он исчез, послышался рев безумного хохота. Я почувствовал, как он вырывает ноги у меня из рук. Потащил назад, с усилием преодолевая каждый дюйм. Он появился, продолжая хохотать. Лицо его покраснело, глаза стали совсем пьяными; вообще у него были все признаки опьянения. Но учащенное дыхание объяснило мне, что произошло. — Дыши медленнее! — крикнул я ему в ухо. — Дыши медленнее, говорю тебе. И так как его смех не смолкал и он все время продолжал вырываться, я прижал его одной рукой, а другой закрыл ему рот и нос. Через несколько мгновений он перестал напрягаться. Я отпустил его; он неуверенно сел. — Странно, — хрипло сказал он. — Какие я видел смешные лица… Он покачал головой, раз или два глубоко вздохнул и лег на камень. — Что со мной было, Лейф? — Кислородное опьянение, индеец, — ответил я. — Хороший глоток воздуха с двуокисью углерода. Это, кстати, многое другое объясняет в этом странном месте. Ты делал три вдоха в секунду, это из-за двуокиси углерода. Она действует на центр дыхания в головном мозгу и ускоряет вдохи. Ты получил больше кислорода, чем тебе нужно, и поэтому опьянел. Что ты видел перед этими твоими забавными лицами? — Я видел тебя. И небо. Похоже, будто смотришь в воду. Я посмотрел вниз и вокруг. Подо мной было что-то похожее на бледно-зеленый туман. Сквозь него ничего не видно. Там тепло внизу, очень тепло и приятно, и пахнет цветами и деревьями. Вот и все, что я успел увидеть, пока не опьянел. О, да, скала продолжает опускаться. Может, мы сумеем добраться до ее основания — если не засмеемся до смерти. А сейчас я сяду в этот мираж по плечи. Боже, Лейф, как я замерз! Я озабоченно посмотрел на него. Губы его посинели, зубы стучали. Переход от тепла к резкому холоду сказывался, это очень опасно. — Хорошо, — сказал я, вставая. — Я иду первым. Дыши медленно, делай глубокие вдохи как можно реже, выдыхай так же медленно. Скоро привыкнешь. Пошли. Я повесил на плечо оставшийся рюкзак, пятясь, переполз через камень, ощутил под ногами прочную скалу и опустился в мираж. Тепло; почти как в парной турецкой бани. Небо над головой как голубой круг, туманный по краям. Рядом со мной показались ноги Джима, его тело уходило от них под немыслимым углом. В сущности я видел Джима, как рыба из-под воды видит рыболова, идущего вброд. Тело его, казалось, раздвинулось, и он присел рядом со мной. — Боже, как здесь хорошо! — Не разговаривай, — сказал я. — Сиди и учись медленно дышать. Смотри, как я это делаю. Мы молча сидели примерно с полчаса. Ни звука не нарушало тишину вокруг. Пахло джунглями, быстро растущей и быстро разлагающейся зеленью; и еще какими-то неуловимыми чуждыми запахами. Я мог видеть только голубой круг неба над головой, а примерно в сотне футов ниже под нами зеленоватый туман, о котором говорил Джим. Похоже на ровную поверхность облака, непроницаемую для взора. Оползень входил в эту поверхность и исчезал из вида. Я не чувствовал неудобства, но оба мы покрылись потом. Я с удовлетворением видел, что Джим дышит глубоко и медленно. — Что-нибудь беспокоит? — наконец спросил я. — Не очень. Время от времени приходится нажимать на педаль. Но, похоже, я привыкаю. — Ну, хорошо, — сказал я. — Скоро двинемся. Не думаю, чтобы стало хуже, когда мы спустимся. — Ты говоришь, будто давно все это знаешь. Что ты вообще думаешь об этом месте, Лейф? — Все очень просто. Хотя такое сочетание случайностей встречается раз на миллион. Глубокая и широкая долина, полностью окруженная крутыми утесами. Окружающие горы заполнены снегом и ледниками, и оттуда постоянно идет холодный воздух, даже летом. Вероятно, в самой долине близко под поверхностью следы вулканической активности, кипящие ручьи и тому подобное. Миниатюрное подобие Долины Десяти Тысяч Дымов к западу. Все это производит излишек двуокиси углерода. К тому же обильная растительность, добавляющая двуокись. Мы погружаемся в пережиток каменноугольного периода — примерно десять миллионов лет назад. Теплый тяжелый воздух заполняет яму, соприкасаясь с холодным воздухом, откуда мы только что пришли. Мираж возникает на месте встречи этих двух слоев, приблизительно по той же причине, по какой возникает любой мираж. Один Бог знает, как давно это происходит. Часть Аляски никогда не знала ледникового периода — по какой-то причине лед не покрывал ее вообще. Когда на месте Нью-Йорка был тысячефутовый слой льда, Юконская низменность была настоящим оазисом, полным разнообразной растительной и животной жизнью. Если эта долина существовала и тогда, мы можем встретить самые странные организмы. Если же она возникла сравнительно недавно, увидим разнообразные случаи адаптации. Вот и все. Только еще одно: где-то примерно на этом уровне должен быть выход, иначе теплый воздух заполнил бы долину доверху, как цистерну. Пошли. — Я начинаю надеяться, что мы найдем свои ружья, — задумчиво сказал Джим. — Как ты уже указывал, они ничего не дадут нам против Калкру — что, кто, если и где он есть. Но они помогли бы против младших дьяволов. Так что ищи их взглядом — я имею в виду ружья. Мы начали спускаться к зеленоватому туману. Идти было нетрудно. Не увидев ни рюкзака, ни ружей, мы дошли до тумана. Вошли в него, и он действительно оказался густым туманом. Камни стали мокрыми и скользкими, нужно было нащупывать каждый шаг. Несколько раз нам приходилось трудно. Я не мог сказать, глубоко ли простирается туман, может, на две-три сотни футов, — конденсация, вызываемая необычными атмосферными условиями, производящими мираж. Туман начал рассеиваться. Он сохранял странный зеленоватый цвет, но мне пришло в голову, что это объясняется отражением снизу. И вдруг тумана не стало. Мы вышли из него в месте, где падавшие камни встретили преграду и нагромоздились барьером втрое выше моего роста. Мы перебрались через этот барьер. И увидели на долину под миражом. Она находилась еще в тысяче футов под нами. Ее заполняла светло-зеленая растительность; похоже на поляну в глубине леса. Свет одновременно яркий и туманный, яркий там, где мы стояли, но на расстоянии видимость ухудшалась, все затягивалось туманным занавесом бледного изумруда. К северу и по обе стороны от нас, насколько можно было видеть до этого изумрудного занавеса, росли большие деревья. Их дыхание, напоминающее о джунглях, доносилось до нас, полное незнакомых ароматов. Слева и справа тянулись скалы, ограничивая лес. — Послушай! — Джим схватил меня за руку. Вначале очень слабо, потом все отчетливее мы услышали рокот барабанов, множества барабанов, ритм странного стаккато — резкий, насмешливый, издевающийся. Но это не барабаны Калкру! В них нет ничего от топота ног по пустынному миру. Барабаны смолкли. И как бы в ответ, совсем с другого направления, донеслись звуки труб, угрожающие, воинственные. Если бронзовые ноты могут проклинать, то эти проклинали. Снова барабаны, по-прежнему насмешливые, непослушные, вызывающие. — Маленькие барабаны, — прошептал Джим. — Барабаны… Он прижался к скале, я последовал его примеру. Каменный барьер шел на восток, постоянно уходя вниз. Мы шли вдоль его основания. Он стоял между нами и долиной как высокая стена, закрывая видимость. Барабаны больше не были слышны. Мы спустились не менее чем на пять тысяч футов, прежде чем барьер кончился. Тут оказался еще один оползень, подобный тому, по которому ускользнули наши ружья. Мы стояли, рассматривая спуск. Он шел под углом примерно в сорок пять градусов и был не таким ровным, как предыдущий, было даже немало неровностей, где можно остановиться. Воздух становился все теплее. Не жарко; воздух какой-то живой, полный испарениями леса. Он создавал впечатление грозной, безжалостной жизни, тяжелого испытания. Рюкзак становился все тяжелее. Если нам придется спускаться — а другого выхода я не видел, — я не смогу нести его. Я снял рюкзак. — Рекомендательное письмо, — сказал я и пустил рюкзак вниз по склону. — Дыши медленно и глубоко, — рассмеялся Джим. Глаза у него светились, он был счастлив, как человек, с которого спала огромная тяжесть. Он выглядел так, будто тоже принял вызов неведомого, как я недавно. Рюкзак слегка подпрыгнул и исчез из вида. Очевидно, спуск не доходит до дна долины или идет под более прямым углом с того места, где исчез рюкзак. Я осторожно опустился и начал спуск, прижимаясь к скале. Джим следовал за мной. Мы преодолели уже три четверти расстояния, когда я услышал его крик. Потом его падающее тело ударило меня. Я схватил его одной рукой, но одновременно выпустил свою ненадежную опору. Мы покатились по склону и полетели. Я почувствовал сильный удар и потерял сознание.
7. Малый народ
Я пришел в себя и обнаружил, что Джим делает мне искусственное дыхание. Я лежал на чем-то мягком. Осторожно пошевелил ногами, сел. Осмотрелся. Мы лежали на ковре из мха, скорее в ковре, потому что верхушки мха находились в футе над моей головой. Невероятно высокий мох, подумал я, тупо глядя на него. Никогда такого не видел. Может, не он такой большой, просто я уменьшился? Надо мной почти на сто футов поднимался стеной утес. Джим сказал: — Ну, вот мы и здесь. — Как мы сюда попали? — ошеломленно спросил я. Он указал на утес. — Упали оттуда. Ударились о выступ. Точнее ты ударился, потому что я был на тебе. Выступ и перебросил нас на этот моховой матрац. Я по-прежнему был сверху. Поэтому я уже пять минут делаю тебе искусственное дыхание. Прости, Лейф, но если бы получилось наоборот, тебе пришлось бы продолжать путешествие одному. У меня нет твоей выносливости. Он рассмеялся. Я встал и осмотрелся. Гигантский мох образовывал возвышение между нами и лесом. У подножия скалы громоздились падавшие сверху обломки. Я посмотрел на них и вздрогнул. Если бы мы упали на них, от нас осталась бы мешанина из сломанных костей и обрывков мяса. Я ощупал себя. Все на месте. — Все к лучшему, индеец, — набожно сказал я. — Боже, Лейф! И побеспокоился я из-за тебя! — Он неожиданно повернулся. — Посмотри на лес. Моховое возвышение образовывало большой овал, ограниченный с одной стороны скалой, а с другой деревьями. Деревья напоминали калифорнийские секвойи и были почти такие же высокие. Кроны их возносились вверх на гигантских стволах, как будто вырезанных титанами. Под ними росли грациозные папоротники, высокие, как пальмы, и странные хвойные деревья с тонкими стволами, похожими на бамбук, красно-желтого цвета. Над ними, свисая со стволов и ветвей деревьев, извивались лианы и груды цветов всех расцветок и форм, виднелись соцветия орхидей и чашечки лилий; странные симметричные деревья, на вершинах которых безлистые ветви были покрыты чашеобразными цветами, похожими на канделябры; наборы цветочных колокольчиков свешивались с кустов, раскачивались гирлянды маленьких звездообразных цветков, белых, алых и голубых, как тропическое море. Между ними летали пчелы. Постоянно мелькали большие стрекозы в своих лакированных зеленых и красных кольчугах. Загадочные тени двигались по лесу, как будто над ним летали крылатые стражники. Это не был лес каменноугольного периода, по крайней мере не таким его реставрировала наука. Очарованный лес. От него тянуло тяжелыми ароматами. И, несмотря на всю свою странность, он не был зловещим или угрожающим. Он был прекрасен. Джим сказал: — Лес богов! В таком месте можно встретить все что угодно. Все хорошее… Ах. Тсантаву, брат мой, если бы это было правдой! Я ответил: — Чертовски трудно будет идти по нему. — Я думал об этом, — ответил он. — Может, лучше идти вдоль утесов. Вероятно, дальше встретим более проходимый участок. Ну, куда — направо или налево? Мы бросили монету. Она показала направо. Поблизости я заметил рюкзак и пошел к нему. Мох напоминал двойной пружинный матрац. Я думал, как он оказался здесь; вероятно, несколько гигантских деревьев погибли от камнепада, и мох вырос на месте их гниения. Я надел рюкзак, и мы по пояс во мху направились к утесу. Около мили мы двигались у основания скалы. Кое-где лес рос так близко, что нам приходилось прижиматься к камню. Затем характер растительности изменился. Гигантские деревья отступили. Мы вошли в чащу больших папоротников. Среди буйной растительности не было никаких признаков животной жизни, только пчелы и лакированные стрекозы. Из папоротников мы вышли на чрезвычайно странный маленький луг. Он очень напоминал поляну. По всем сторонам росли папоротники; с одной стороны лес образовывал стену; по другую — вертикальная стена утеса была украшена большими чашеобразными белыми цветами, которые свисали с коротких красноватых отталкивающе змееподобных стеблей; их корни, вероятно, крепились в трещинах скалы. На лугу не росли ни деревья, ни папоротники. Он был покрыт кружевной травой, усеянной крошечными голубыми цветами. От основания утеса поднимался тонкий столб пара, который высоко уходил в воздух, окутывая голубые цветы. Кипящий ручей, решили мы. И подошли поближе, чтобы рассмотреть его. И услышали крик, отчаянный, полный боли. Как плач убитого горем, измученного болью ребенка, но в то же время не вполне человеческий и не вполне звериный. Он доносился откуда-то из-за завесы пара. Мы остановились, прислушиваясь. Плач послышался снова, он вызывал глубокую жалость и не смолкал. Мы побежали в том направлении. Паровая завеса у основания была очень густой. Мы обогнули ее и выбежали на противоположную сторону. У подножия утеса располагался длинный узкий пруд, похожий на небольшой перекрытый ручей. Его черная вода пузырилась, и эти пузыри, лопаясь, выпускали пар. Вдоль всего кипящего пруда, поперек черной скалы, тянулся выступ шириной в ярд. Над ним, расположенные на равных интервалах, в утесе видны были углубления, маленькие, как колыбели. В двух таких нишах, наполовину внутри, наполовину на выступе, лежали два ребенка. Они лежали на спинах, их крошечные руки и ноги были прикреплены к камню бронзовыми скобами. Волосы их распадались по обе стороны головы; оба лежали совершенно обнаженные. И тут я увидел, что это совсем не дети. Взрослые — маленький мужчина и маленькая женщина. Женщина изогнула голову и смотрела на другого пигмея. Плакала она. Нас она не видела. Глаза ее были устремлены на него. Он лежал неподвижно, закрыв глаза. На его груди, над сердцем, виднелось черное пятно, как будто туда капнула сильная кислота. На утесе над ними что-то шевельнулось. Там был один из чашеобразных цветов. Неужели это он пошевелился? Он висел на расстоянии фута над грудью маленького мужчины, и на его алых лепестках виднелась капля, которую я принял за нектар. Именно движение цветка уловил мой глаз. Красноватый стебель задрожал. Изогнулся, как медлительный червь, и на дюйм приблизился по скале. Цветок наклонился, как будто это рот, пытающийся стряхнуть каплю. Цветочный рот прямо над сердцем маленького человека и над черным пятном. Я ступил на узкий выступ, потянулся, схватил стебель и порвал его. Он извивался у меня в руках, как змея. Корни его цеплялись за мои пальцы, и, как змеиная голова, взметнулся цветок, будто пытался ударить. Цветок толстый и мясистый, как круглый белый рот. Капля нектара упала мне на руку, и я почувствовал, как по руке пробежала жгучая боль. Я швырнул извивавшееся растение в кипящую воду. Над маленькой женщиной извивалось другое растение. Я и его вырвал. И оно тоже пыталось ударить меня цветочной головкой, но либо у него не было этого смертоносного нектара, либо оно промахнулось. Я бросил его вслед за первым. Склонился над маленьким мужчиной. Глаза его были открыты, он смотрел на меня. Как и кожа, глаза его были желтые, раскосые. Монголоидные. Казалось, они лишены зрачков и не вполне человеческие; как и вой его женщины. В глазах его была боль и жгучая ненависть. Он посмотрел на мои волосы, и ненависть сменилась удивлением. Боль в руке стала почти невыносимой. Как же должен был страдать этот маленький человек. Я разорвал скобы, удерживавшие его. Поднял маленького мужчину и передал его Джиму. Он весил не больше ребенка. Потом оторвал скобы, удерживавшие женщину. В ее глазах не было ни страха, ни ненависти. Они были полны удивлением и благодарностью. Я отнес ее и посадил рядом с мужчиной. Оглянувшись, я увидел, что вся поверхность утеса охвачена движением; извивались красноватые стебли. Белые цветы раскачивались, поднимая и опуская цветочные чаши. Отвратительно… Маленький мужчина лежал неподвижно, переводя взгляд от меня к Джиму и обратно. Женщина заговорила певучими звонкими звуками. Она устремилась по лугу к лесу. Джим смотрел на золотистого пигмея, как во сне. Я слышал его шепот: — Юнви Тсундси! Маленький народ! Значит, это правда! Все правда! Маленькая женщина выбежала из зарослей папоротника. В руках ее была охапка толстых, увитых жилками листьев. Как бы извиняясь, она бросила на меня взгляд. Склонилась над мужчиной. Выжала сок из листьев ему на грудь. По ее пальцам тек молочный сок и капал на почерневшую грудь. Он затягивал поврежденное тело тонкой пленкой. Маленький мужчина вздрогнул, застонал, потом расслабился и лежал неподвижно. Маленькая женщина взяла мою руку. Там, где ее коснулся нектар, кожа почернела. Женщина выдавила на это место сок. По руке пробежала ни с чем не сравнимая боль. И почти немедленно исчезла. Я посмотрел на грудь маленького человека. Чернота исчезла. На месте ожога виднелась рана, красная, нормальная. Я взглянул на свою руку. Покраснение, но черноты нет. Маленькая женщина поклонилась мне. Мужчина встал, посмотрел мне в глаза и обвел взглядом все мое тело. Я видел, как к нему вернулась подозрительность и ненависть. Он заговорил с женщиной. Она ответила, указывая на утес, на мою покрасневшую руку и на ноги и руки их обоих. Маленький мужчина поманил меня; жестом попросил наклониться. Я послушался, и он коснулся моих светлых волос, пробежал по ним пальчиками. Положил руку мне на сердце… потом прижался головой, вслушиваясь в биение. Ударил меня маленькой рукой по рту. Это был не удар; я знал, что это ласка. Маленький мужчина улыбнулся мне и певуче сказал что-то. Я не понял и беспомощно покачал головой. Он посмотрел на Джима и пропел другой вопрос. Джим попробовал чероки. На этот раз головой покачал маленький человек. Он что-то сказал женщине. Я ясно расслышал слово «э-ва-ли», произнесенное певучими птичьими звуками. Она кивнула. Поманив нас за собой, они побежали по лугу к дальней заросли папоротников. Какие они маленькие, едва мне до бедер. И прекрасно сложенные. Длинные волосы каштанового цвета, красивые и шелковистые. Они летели за ними, как паутина. Бежали они, как маленькие олени. Нам трудно было держаться наравне с ними. Вбежав в заросли папоротника, они пошли медленнее. Все дальше и дальше шли мы под гигантскими папоротниками. Я не видел никакой тропы, но золотые пигмеи знали дорогу. Мы вышли из зарослей. Перед нами расстилался широкий газон, покрытый цветами; он тянулся до берегов большой реки, очень необычной реки, молочно-белого цвета; над ее гладкой поверхностью проплывали клочья сверкающего тумана. Сквозь них я уловил очертания ровной зеленой равнины на другом берегу реки и крутой зеленый откос. Маленький человек остановился. Он прижался ухом к земле. Отскочил в заросли, жестом позвав нас за собой. Через несколько минут мы подошли к полуразрушенной сторожевой башне. Вход в нее был открыт. Пигмеи скользнули внутрь, поманив нас. Внутри башни витая лестница вела наверх. Маленькие мужчина и женщина протанцевали по ней, мы шли за ними. На верху башни оказалось небольшое помещение, сквозь щели в его каменных стенах струился зеленый свет. Я через одну из щелей посмотрел на зеленую лужайку и белую реку. Услышал отдаленный топот лошадей и негромкое женское пение; звуки все приближались. На лужайку выехала женщина; она сидела на большой черной кобыле. На ней, как капюшон, была одета голова белого волка. Волчья шкура покрывала ее плечи и спину. Двумя толстыми огненными струями на шкуру падали ее рыжие волосы. Высокие круглые груди обнажены, и под ними, как пояс, скреплены волчьи лапы. Глаза синие, как васильки, и расставлены широко под широким низким лбом. Кожа молочно-белая с розоватым оттенком. Рот полногубый, алый, одновременно нежный и жестокий. Сильная женщина, почти моего роста. Похожа на валькирию, и, подобно этим вестницам Одина, она несла перед собой на седле, придерживая рукой, тело. Но не душа убитого воина, вырванная из битвы и переносимая в Валгаллу. Девушка. Девушка с крепко связанными руками, с головой, безнадежно опущенной на грудь. Ее лица я не видел, оно было скрыто под вуалью волос. Волосы красновато-коричневые, а кожа такая же прекрасная, как у всадницы. Над головой женщины-волчицы летел белоснежный сокол, опускаясь и поднимаясь, но все время держась над нею. За ней двигалось с десяток других женщин, молодых и мускулистых, с медно-красными, ржаво-красными и бронзово-красными волосами, висевшими свободно или собранными на голове. У всех груди обнажены, все в коротких юбках и в полусапожках. В руках у них длинные копья и маленькие щиты. И все похожи на валькирий, этих щитоносиц асов. Проезжая, они негромко напевали странную мелодию. Женщина-волчица и ее пленница свернули на газон и исчезли из виду. Поющие женщины последовали за ними. Сверкнули крылья опускающегося и поднимающегося сокола. И они тоже исчезли.
8. Эвали
Золотые пигмеи пересвистывались, в глазах их горела жгучая ненависть. Маленький мужчина коснулся моей руки, заговорил быстрыми певучими звуками, указывая на противоположный берег реки. Очевидно, он говорил, что мы должны пересечь ее. Он замолк, прислушиваясь. Маленькая женщина сбежала по поломанным ступеням. Мужчина гневно защебетал, подбежал к Джиму, начал бить его кулаком по ногам, как бы заставляя встать. Потом побежал вслед за женщиной. — Вставай, индеец! — нетерпеливо сказал я. — Они нас торопят. Он покачал головой, как человек, отгоняющий остатки сна. Мы быстро спустились по полуразрушенной лестнице. Маленький мужчина ждал нас; по крайней мере он не убежал, потому что если и ждал, то делал это весьма странно. Он танцевал в маленьком круге, причудливо размахивая руками и напевая необычную мелодию из четырех нот, снова и снова повторяя эти ноты в различной последовательности. Женщины не было видно. Завыл волк. Дальше в лесу ему ответило несколько других волков — будто охотящаяся стая, чей предводитель учуял запах добычи. Из папоротниковой заросли выбежала маленькая женщина; мужчина прекратил свой танец. Руки ее были полны небольших пурпурных ягод, напоминавших волчьи. Мужчина показал в сторону реки, и они пошли туда, прячась в папоротниках. Мы — следом. Выйдя из зарослей, мы пересекли зеленый газон и остановились на берегу реки. Снова прозвучал вой волка, ему ответили другие, на этот раз гораздо ближе. Маленький мужчина подскочил ко мне, яростно щебеча; он обвил ногами мою талию и пытался сорвать с меня рубашку. Женщина что-то распевала Джиму, размахивая руками с пурпурными ягодами. — Они хотят, чтобы мы разделись, — сказал Джим. — И побыстрее. Мы торопливо разделись. На берегу была яма, в которую я сунул наш рюкзак. Мы быстро скатали одежду и обувь, перевязали ремнями и надели сверток на плечи. Маленькая женщина отдала мужчине пригоршню ягод. Она жестом предложила Джиму наклониться, а когда он послушался, натерла его голову, плечи, грудь, бедра, ноги раздавленными ягодами. Маленький мужчина то же самое делал со мной. У ягод был странный резкий запах, от которого слезились глаза. Я выпрямился и посмотрел на белую реку. Молочную поверхность разорвала голова змеи, еще одна и еще. Головы большие, как у анаконды, и покрыты изумрудно-зеленой чешуей. На головах ярко-зеленый гребень, продолжающийся вдоль стены; он виден в белой воде на извивающихся телах. Мне явно не нравилась мысль о том, что придется окунуться в эту воду, но теперь я понял, с какой целью нас намазали соком ягод. Очевидно, золотые пигмеи не хотели причинить нам вреда. И к тому же они, несомненно, знают, что делают. Маленький человек нырнул, пригласив меня следовать за ним. Я повиновался и услышал всплески от прыжков маленькой женщины и Джима. Мужчина оглянулся на меня, кивнул и поплыл через реку, как угорь, и я с трудом догнал его. Змеи с гребнями не трогали нас. Один раз я почувствовал прикосновение к пояснице; один раз, стряхнув воду с глаз, обнаружил, что рядом плывет змея; казалось, она соревнуется со мной в скорости. Вода теплая, как парное молоко, в ней удивительно легко плыть. Река в этом месте достигала в ширину примерно тысячи футов. На середине ее я услышал резкий крик и почувствовал над головой удары крыльев. Я перевернулся, отбиваясь руками. Надо мной парил белый сокол женщины-волчицы, он опускался, взлетал, угрожая своими когтями. С берега донесся крик, звонкий, повелительный, на архаичном уйгурском: — Вернись! Вернись, Желтоволосый! Я повернулся, чтобы посмотреть назад. Сокол прекратил нападать. На берегу на своей большой черной кобыле сидела женщина-волчица, держа в руках плененную девушку. Глаза волчицы сверкали, как сапфировые звезды, свободную руку она подняла в призывном жесте. А вокруг нее, опустив головы, глядя на меня зелеными глазами, стояли белоснежные волки. — Вернись! — снова воскликнула она. Она была прекрасна, эта женщина-волчица. И трудно было не повиноваться ей. Но нет, она не женщина-волчица. Кто же она? Я вспомнил уйгурское слово, древнее слово, я и не подозревал, что знаю его. Салюрда — ведьма. И вместе с этим словом пришло гневное неприятие ее призыва. Кто она такая, Салюрда, чтобы командовать мной? Мной, Двайану, который в прежнее время приказал бы высечь ее скорпионами за такую наглость! Я высоко приподнялся с белой воде. — Возвращайся в свое логово, Салюрда! — закричал я. — Двайану не повинуется тебе! Когда я призову тебя, повинуйся! Она смотрела на меня в немом изумлении. Сокол с криком описал круг над моей головой и улетел. Я слышал рычание белых волков, слышал топот копыт черной кобылы. Добравшись до берега, я вышел на него. Потом повернулся. Женщина-волчица, сокол, белые волки — все исчезло. На оставленном мной в воде следе играли, ныряли, плавали зеленоголовые змеи. Золотые пигмеи выбрались на берег. Джим спросил: — Что ты ей сказал? — Ведьма приходит на мой зов, а не я на ее, — ответил я и удивился, что же заставило меня сказать так. — Все-таки ты Двайану, а, Лейф? Что же на этот раз спустило курок? — Не знаю. — Необъяснимое негодование против женщины чувствовалось еще очень сильно, и, поскольку я не понимал его причины, оно меня раздражало. — Она приказала мне вернуться, и что-то взорвалось у меня в голове. И тут… тут мне показалось, что я ее знаю, что ее приказ мне — наглость. Я так и сказал ей. Она больше меня удивилась моим словам. Как будто это говорил кто-то другой. Как тогда… — я заколебался, потом продолжил, — когда я начал проклятый ритуал и не мог остановиться. Он кивнул и начал одеваться. Я последовал его примеру. Одежда насквозь промокла. Пигмеи с явным недоумением следили, как мы извиваемся, пытаясь натянуть ее на себя. Я заметил, что красное пятно вокруг раны на груди маленького мужчины побледнело, и хотя сама рана оставалась свежей, она уже была не так глубока и начала заживать. Я посмотрел на свою руку: краснота почти исчезла и только легкая припухлость показывала место, которого коснулся нектар. Когда мы надели башмаки, золотые пигмеи пошли в сторону от реки, направляясь к линии невысоких холмов примерно в миле от нас. Туманный зеленый свет наполовину скрыл их, как он скрывал вид на север, когда мы впервые взглянули на долину. На половине пути местность была ровной, покрытой травой с голубыми цветами. Потом начались папоротники, которые становились все выше. Мы увидели тропу, не шире оленьей; она вела в густые заросли. Мы пошли по ней. С раннего утра мы ничего не ели, и я сожалением вспомнил оставленный рюкзак. Однако я привык есть вволю, когда это возможно, и обходиться совсем без еды в случае необходимости. Поэтому я затянул пояс и оглянулся на Джима, шедшего за мной. — Есть хочешь? — спросил я. — Нет. Слишком занят мыслями. — Индеец, кто вернул рыжеголовую красотку? — Волки. Ты разве не слышал, как они выли ей вслед? Они нашли наш след и позвали ее. — Я так и думал, но ведь это невероятно. Дьявол, она ведьма! — Не из-за этого. Вспомни Маугли и серых товарищей. Волков легко выучить. Но она тем не менее ведьма. Не сдерживай Двайану, когда имеешь с ней дело, Лейф. Снова послышался бой маленьких барабанов. Вначале несколько, потом все больше и больше, и вот уже звучат десятки. На этот раз они звучали весело, в танцевальном ритме, который снимал любую усталость. Казалось, они близко. Но вокруг нас смыкались папоротники, и ничего не было видно. Узкая тропа извивалась между стволами, как гибкий ручей. Пигмеи пошли быстрее. Неожиданно заросли кончились, и пара остановилась. Перед нами местность резко повышалась на триста-четыреста футов. Склон, за исключением вьющейся тропы, весь зарос с основания до вершины густыми зелеными кустами, усаженными зловещими трехдюймовыми шипами — живая chevaux-de-frise, которую не смогло бы преодолеть ни одно живое существо. В конце тропы виднелась приземистая каменная башня, на ней блестели острия копий. В башне раздался звонкий барабанный бой — несомненный сигнал тревоги. Мгновенно маленькие барабаны смолкли. Тот же резкий сигнал послышался дальше и повторялся, все время удаляясь. Теперь я увидел, что склон по существу представлял собой крепостную стену, окруженную изгородью из могучих папоротников; эта стена уходила к далеким крутым черным утесам. И стена повсюду была покрыта колючими зарослями. Маленький мужчина что-то прощебетал женщине и пошел по тропе к башне. Его встретила толпа пигмеев. Женщина осталась с нами, она кивала, улыбалась и ободряюще поглаживала нас по коленям. Из башни послышался звук барабана, вернее трех барабанов. Так я решил, потому что слышались три разные ноты, мягкие, ласковые, но разносящиеся далеко. Они разносили слово, имя, эти барабаны, так отчетливо, будто у них были губы, имя, которое я разобрал в щебетании пигмеев… Э-ва-ли… Э-ва-ли… Э-ва-ли… Снова, и снова, и снова. Барабаны в других башнях молчали. Маленький мужчина поманил нас. Мы пошли вперед, с трудом уворачиваясь от шипов. И подошли к концу тропы у невысокой башни. Здесь нам преградили дорогу два десятка пигмеев. Ни один не был выше того, кого я спас от белых цветов. У всех та же золотистая кожа, те же полузвериные желтые глаза; как и у него, длинные шелковистые волосы, падающие почти до ног. На всех набедренные повязки из материала, напоминавшего хлопок; вокруг талии широкие серебряные пояса, на которых вышиты причудливые изображения. Их копья, несмотря на свою видимую хрупкость, представляли собой грозное оружие, с длинным древком черного дерева, с острием из красного металла. На спинах у них висели черные луки и колчаны, полные длинных острых стрел; на металлических поясах кривые ножи из красного металла, похожие на сабли гномов. Они смотрели на нас, как малые дети. Мы чувствовали себя, как, должно быть, чувствовал Гулливер среди лилипутов. Но что-то в них было такое, что не позволяло шутить с их оружием. С любопытством и интересом, но без следа враждебности они разглядывали Джима. На меня они глядели сурово и яростно. Только когда их взгляд падал на мои светлые волосы, я видел, как сомнение и удивление сменяют подозрительность — но они ни разу не опустили нацеленная на меня копья. Э-ва-ли… Э-ва-ли… Э-ва-ли… пели барабаны. Издалека донесся ответный рокот, и барабаны смолкли. Из-за башни послышался прекрасный низкий голос, произносящий птичьи звуки речи малого народа… И я увидел Эвали. Приходилось ли вам видеть иву, раскачивающуюся весной на берегу чистого деревенского пруда, или стройную березу, танцующую на ветру в тайной рощице, или летучие зеленые тени на лесной поляне глубоко в лесу, когда лесные дриады собираются показать себя? Я подумал об этом, когда она вышла нам навстречу. Смуглая девушка, высокая девушка. Карие глаза под длинными черными ресницами, чистые, как горный ручей осенью; волосы черные; отражая свет, они кажутся синеватыми. Лицо небольшое, его черты не правильные и не классические: брови почти соединяются двумя ровными линиями над маленьким прямым носом; рот большой, но прекрасно очерченный и чувственный. Над широким низким лбом волосы убраны в прическу, напоминающую корону. Кожа чистого янтарного цвета. Как чистый полированный янтарь, сверкала она под свободной одеждой, облекавшей ее, длиной по колено, серебристой, полупрозрачной, как бы сотканной из паутины. Набедренная повязка, такая же, как у малого народа. Но, в отличие от пигмеев, на ногах сандалии. Но ее грация перехватывала ваше дыхание, когда вы смотрели на нее, длинная гибкая линия от ног до плеч, тонкая и подвижная, как вода изгибается над подводным камнем, подвижная грация меняющейся с каждым движением линии тела. В ней горела жизнь, как в девственном лесу, когда поцелуи весны сменяются более горячими поцелуями лета. Теперь я понял, почему древние греки верили в дриад, наяд, нереид — в женские души деревьев, ручьев, водопадов, фонтанов и волн. Не могу сказать, сколько ей лет — ее языческая красота не знает возраста. Она рассматривала меня, мою одежду и обувь, в явном замешательстве; взглянула на Джима, кивнула, как будто убедившись, что здесь не о чем тревожиться; снова принялась рассматривать меня. Маленькие солдаты окружили ее, держа наготове копья. Маленькие мужчина и женщина вышли вперед. Они говорили одновременно, указывая на его грудь, на мою руку и мои светлые волосы. Девушка рассмеялась, привлекла к себе женщину и закрыла ей рот рукой. Маленький мужчина продолжал щебетать и распевать. Джим с изумленным вниманием вслушивался, когда начинала говорить девушка. Он схватил меня за руку. — Они говорят на чероки! Или на похожем языке… Слушай… только что было слово… вроде «юнвинигиски»… оно означает «пожиратели людей, людоеды». Буквально «те, что едят людей»… если это так… и посмотри… он показывает, как цветы свисали с утеса… Снова заговорила девушка. Я внимательно слушал. Скорость произношения и певучие звуки затрудняли понимание, но я уловил нечто знакомое… а вот комбинация, которую я, несомненно, знаю. — Похоже на монгольский язык, Джим. Я уловил слово, означающее «змеиная вода» на дюжине различных диалектов. — Я знаю… она назвала змею «аханада», а на чероки «инаду» — но это индейский язык, а не монгольский. — Может быть и то, и другое. Индейские диалекты относятся к монгольской семье. Вероятно, у них общий праязык. Если бы только она говорила медленнее и не щебетала. — Возможно. Чероки называют себя «древнейшим народом», а свой язык — «первой речью»… погоди… Он вышел вперед, подняв руку, и произнес слово, которое на чероки означает «друг» или «человек, пришедший с добрыми намерениями». Повторил его несколько раз. В глазах девушки появились удивление и понимание. Она повторила это слово, потом, повернувшись к пигмеям, передала его им… я ясно расслышал его среди трелей и щебетания. Пигмеи подошли ближе, глядя на Джима. Он медленно сказал: «Мы пришли снаружи. Мы ничего не знаем об этом месте. Мы никого здесь не знаем». Несколько раз повторил он это, пока она не поняла. Серьезно посмотрела на него, на меня — с сомнением, но как человек, готовый поверить. Запинаясь, ответила. — Но Шри… — она указала на маленького мужчину — сказал, что в воде он говорил злым языком. — Он говорит на многих языках, — ответил Джим. Потом ко мне: Разговаривай с ней. Не стой, как восхищенный манекен. Девушка умеет думать, а мы в сложном положении. Твоя внешность не нравится карликам, Лейф, несмотря на то, что ты сделал. — Разве удивительно, что я говорю не только на твоем языке, Эвали? — спросил я. И повторил несколько раз на двух из самых древних известных мне монгольских диалектах. Она задумчиво разглядывала меня. — Нет, — наконец ответила она, — нет. Потому что я тоже немного знаю этот язык, но это не делает меня злой. Неожиданно она улыбнулась и пропела какой-то приказ стражникам. Они опустили копья, рассматривая меня с тем же дружелюбным интересом, с каким раньше смотрели на Джима. В башне радостно зазвучали барабаны. Как по сигналу, другие барабаны, замолчавшие с сигналом тревоги, возобновили свой радостный рокот. Девушка поманила нас. Мы пошли за ней в окружении маленьких солдат между решеткой из колючего кустарника и башней. Мы миновали порог земли малого народа и Эвали.
КНИГА ЭВАЛИ
9. Обитатели миража
Зеленый свет, заполнявший Землю Теней, потускнел. Как зеленый лес в сумерках. Солнце опустилось за вершины гор, окружавших иллюзорную поверхность, которая служила небом Земли Теней. Но свет гас медленно, как будто не вполне зависел от солнца, как будто это место имело собственный источник освещения. Мы сидели возле шатра Эвали. Он размещался на вершине круглого холма недалеко от ее пещеры в утесе. Вдоль всей поверхности утеса виднелись пещерки малого народа, крошечные отверстия, которые могли пропустить только их; там находились их дома, их лаборатории, мастерские, склады и амбары, их неприступные крепости. Прошло несколько часов с тех пор, как мы прошли между кустами и сторожевой башней. Золотые пигмеи толпились со всех сторон, любопытные, как дети, щебеча и пища, расспрашивая Эвали, передавая ее ответы тем, кто стоял далеко. Даже теперь вокруг основания холма стояло живое кольцо, десятки маленьких мужчин и женщин смотрели на нас желтыми глазами, смеясь и напевая. На руках женщины держали детей, похожих на крошечных кукол, куклы большего размера жались к их коленям. Как и дети, они быстро утоляли свое любопытство и возвращались к своим занятиям и играм. Их место занимали другие, чье любопытство не было еще утолено. Я смотрел, как они танцуют на гладкой траве. Они танцевали в ритме своих барабанов. На равнине виднелись другие холмы, большие и меньшие, чем тот, на котором находились мы, все круглые и симметричные. И вокруг всех под барабанный бой танцевали золотые пигмеи. Они принесли нам маленькие хлебные лепешки и непривычно сладкие, но вкусные молоко и сыр, а также незнакомые отличные фрукты и дыни. Я устыдился количества опустошенных мною тарелок. Маленькие люди смотрели на меня и смеялись, а потом просили женщин принести еще. Джим со смехом сказал: — Ты ешь пищу юнви тсундси. Волшебная пища, Лейф! Ты больше никогда не сможешь есть пищу смертных. Я взглянул на Эвали, на ее винно-янтарную красоту. Да, можно поверить, что она выросла не просто на пище смертных. В сотый раз я принялся разглядывать равнину. Склон, на котором располагались сторожевые башни, образовывал гигантский полукруг. Он заканчивался у черных утесов. Я решил, что он охватывает не менее двадцати квадратных миль. За колючими зарослями виднелись гигантские папоротники; за ними, по другую сторону реки, я мог рассмотреть большие деревья. Есть ли лес на этой стороне, я не мог сказать. И есть ли здесь другие живые существа. Очевидно, от чего-то надо защищаться, иначе к чему все эти укрепления, вся эта защита? Как бы то ни было, защищенная страна малого народа представляла собой маленький земной рай, с его амбарами пшеницы, с его садами, виноградниками и зелеными полями. Я вспомнил, что рассказала нам Эвали о себе, тщательно и медленно переводя певучие звуки речи малого народа в доступные для нас слова. Она говорила на древнем языке — его корни уходили далеко в прошлое, дальше, чем в любом известном мне языке, за исключением, может быть, только уйгурского. С каждой минутой я овладевал им все больше и больше и уже мог говорить, правда, не так легко, как Джим. Он даже испустил несколько трелей, к великой радости пигмеев. И они понимали его. Каждый из нас лучше понимал язык Эвали, чем она наш. Откуда пришел малый народ в Землю Теней? Как они узнали древний язык? Я задавал себе эти вопросы и отвечал на них: а как шумеры, чей великий город библия называет Уром халдеев, могли говорить на монгольском языке? Шумеры тоже были карликовым народом, они владели странным колдовством, изучали звезды. И никто не знает, откуда они пришли в Месопотамию, уже обладая расцветшей наукой. Азия — Древняя Мать, и никто не знает, скольким народам дала она жизнь и следила, как они обращаются в пыль. Мне казалось, я понимаю, как древний язык преобразовался в птичьи трели малого народа. Очевидно, чем меньше гортань, тем выше производимые ею звуки. Разве только по капризу природы можно встретить ребенка с басом. Самые рослые пигмеи не выше шестилетнего ребенка. Поэтому они не могут произносить гуттуральные и более низкие звуки; им приходится заменять их другими. Естественно, если вы не можете взять ноту в низкой октаве, вы переводите ее в более высокую. Так они и поступали, и со временем выработался язык из птичьих трелей и щебета, но грамматическая структура осталась прежней. Эвали рассказала нам, что помнит большой каменный дом. Ей кажется, что она помнит большую воду. Помнит землю, поросшую деревьями; эта земля становилась «холодной и белой». Там были мужчина и женщина… потом остался только мужчина… потом все затянулось как туманом. По-настоящему она помнит только малый народ… она забыла, что есть что-то еще… пока не появились мы. Она помнит время, когда сама была не больше пигмеев… и как она испугалась, когда стала перерастать их. Маленькие люди — рррллия — так наиболее близко звучит это слово на их языке — любили ее; они поступали так, как она им говорила. Они кормили, одевали и учили ее, особенно мать Шри, чью жизнь я спас от цветов смерти. Чему учили? Она странно посмотрела на нас и повторила только: «Учили меня». Иногда она танцевала с ними, а иногда — для них; и снова уклончивый, странный взгляд. Вот и все. Давно ли она была такой маленькой, как пигмеи? Она не знает — очень, очень давно. Кто назвал ее Эвали? Она не знает. Я украдкой рассматривал ее. Ничто в ее внешности не выдавало ее расовой принадлежности. Я сам найденыш и понимал, что и она тоже, и что те мужчина и женщина, которых она смутно помнит, ее отец и мать. Но откуда они, из какой страны? Ни ее глаза, ни губы, ни волосы, ни очертания тела, ни покрой одежды не могли дать ответ. Она больше подмененный ребенок, чем я. Подмененное дитя миража! Вскормленное на пище гоблинов! Интересно, если я уведу ее из земли теней, превратится ли она в обычную женщину?.. Я почувствовал, как ледяное кольцо сжало мою грудь. Уведу ее! Сначала придется встретиться с Калкру — и с ведьмой! Зеленые сумерки сгустились; среди деревьев замелькали огоньки больших светляков; легкий ветерок прокрался среди папоротников, полный ароматов далекого леса. Эвали вздохнула. — Ты не оставишь меня, Тсантаву? Если он и слышал ее, то не ответил. Она повернулась ко мне. — А ты… Лейф? — Нет! — Ответил я и, казалось, услышал гром барабанов Калкру, заглушивший барабанные трели малого народа далеким насмешливым хохотом. Зеленые сумерки перешли в тьму, светящуюся темноту, как будто за затянутым облаками небом светит полная луна. Барабаны золотых пигмеев стихли. Малый народ перебрался в свои пещеры. С далеких башен доносились негромкие звуки барабанов стражи, они перешептывались над затянутыми колючим кустарником склонами. Огоньки светляков теперь напоминали фонари гоблинов. Большие бабочки, как самолеты эльфов, плыли на блестящих крыльях. — Эвали, — заговорил Джим, — юнви тсундcи… малый народ — давно ли он живет здесь? — Он всегда здесь жил, Тсантаву… так они утверждают. — А те, другие, рыжеволосые женщины? Мы спрашивали об этих женщинах и раньше, но она не отвечала, спокойно игнорировала наши вопросы; теперь же она без колебаний ответила. — Они из народа айжиров; в волчьей шкуре была Люр, колдунья. Она правит айжирами вместе с верховным жрецом Йодином и Тибуром — Тибуром-Смехом, Тибуром-Кузнецом. Он не так высок, как ты, Лейф, но шире в плечах и в груди, и он силен — очень силен! Я расскажу вам об айжирах. Раньше как будто рука зажимала мне рот — или сердце? Но теперь рука исчезла. Малый народ рассказывает, что давным-давно айжиры появились верхом на лошадях. Тогда рррллия владели землей по обе стороны реки. Айжиров было много. Гораздо больше, чем теперь, много мужчин и женщин, а сейчас в основном женщины, а мужчин мало. Они бежали издалека, так рассказывали отцам рррллия их отцы. Их вело… у меня нет слова. Оно имеет имя, но я не стану его произносить… нет, даже про себя не стану! Но у него есть форма… Я видела его изображение на знаменах, которые вывешивают в Караке… и на груди Люр и Тибура, когда они… Она задрожала и смолкла. Среброкрылый мотылек опустился ей на ладонь, поднимая и опуская сверкающие крылья; она мягко поднесла его к губам и осторожно сдула. — Все это рррллия — вы их зовете малым народом — тогда не знали. Айжиры отдохнули. Начали строить Карак, вырубать в скале храм того… кто привел их сюда. Вначале они строили быстро, будто боялись преследования; но никто их не преследовал, и строительство пошло медленнее. Они хотели превратить малый народ в своих слуг, рабов. Но рррллия не захотели этого. Началась война. Малый народ осадил Карак; когда айжиры выходили, их убивали; потому что рррллия знали все вокруг — жизнь растений, они знали, как сделать так, чтобы их копья и стрелы убивали при одном прикосновении. И так погибло множество айжиров. Наконец был заключен мир, и не потому что малый народ был побежден, он не был побежден. По другим причинам. Айжиры хитры; они устраивали ловушки и поймали много рррллия. И вот что они сделали — отвели их в храм и принесли в жертву… тому, кто привел их сюда. Они отводили их в храм по семь человек, и один из семерки видел жертвоприношение, потом его отпускали, и он рассказывал рррллия, что видел. Вначале они не верили, настолько ужасен был рассказ о жертвоприношении, но потом пришел второй, и третий, и четвертый все с тем же рассказом. Страх и отвращение охватили малый народ. И был заключен договор. Рррллия живут по эту сторону реки, айжиры — по другую. В ответ айжиры поклялись тем, кто привел их, что больше никогда ни один рррллия не будет принесен в жертву… ему. Если рррллия захватят по ту сторону реки, он будет убит, но не принесен в жертву. И если кто-то из айжиров покинет Карак, будет искать убежища у малого народа, он тоже будет убит. И рррллия согласились на все это, потому что испытывали ужас. Разобрали Нансур, чтобы никто не мог пересечь… Нансур — это мост через белую реку Нанбу. Все лодки и на стороне рррллия, и на стороне айжиров были уничтожены и больше не должны были строиться. В качестве еще одной меры предосторожности рррллия взяли далануза и пустили и в Нанбу, так что никто не сможет перебраться по воде. Так и было — долго, долго, долго. — Далануза, Эвали, это змеи? — Тланузи… пиявки, — ответил Джим. — Змеи безвредны. А вот если бы ты увидел одну из далануза, я думаю, Лейф, ты не стал бы задерживаться, чтобы поговорить с Люр, — насмешливо сказала Эвали. Я отложил эту загадку, чтобы подумать над ней потом. — А эти двое, которых мы нашли под цветами смерти. Они нарушили договор? — Нет. Они знали, что их ждет, если они будут пойманы, и были готовы платить. На дальнем берегу белой Нанбу растут некоторые травы… и другие растения; они нужны малому народу, а по эту сторону их не найдешь. Поэтому они переплывают Нанбу, чтобы найти их… далануза их друзья… и не часто их там ловят. Но в этот день Люр охотилась за беженкой, которая стремилась уйти в Сирк, она пересекла их след, догнала их и уложила под цветами смерти. — Но что сделала эта девушка? Разве она не одна из них? — Ее избрали для жертвоприношения. Разве ты не видел… она была талули… ждала ребенка… готова была… Голос ее смолк. Меня коснулся холод. — Конечно, ты ничего этого не знаешь, — сказала она. — И я больше не буду об этом говорить… пока. Если бы Шри и Шра нашли девушку до того, как их самих обнаружили, они бы провели ее через далануза — как провели вас; и тут бы она жила, пока не смогла бы уйти… уйти от себя. Она ушла бы во сне, в мире… без боли… и, проснувшись, была бы далеко отсюда… и ничего бы не помнила… была бы свободна. Потому что малый народ любит жизнь и отсылает тех… кого можно отослать. Она сидела спокойно, глаза ее были безмятежны. — И многих… отсылают? — Нет. Мало кто может миновать далануза, хотя многие пытаются. — И мужчины, и женщины, Эвали? — Разве мужчины могут приносить детей? — Что ты этим хочешь сказать? — грубо спросил я. Что-то в ее словах задело меня. — Не сейчас, — ответила она. — К тому же мужчин мало в Караке, я говорила тебе. Среди новорожденных один из двадцати мальчик. Не спрашивай, почему: я сама не знаю. Она встала и сонно посмотрела на нас. — На сегодня хватит. Вы будете спать в моей палатке. Утром вам поставят палатку, а малый народ вырубит для вас пещеру рядом с моей. И увидите Карак, стоя на сломанном мосту Нансур, увидите Тибура-Смех, потому что он всегда приходит на Нансур, когда я там… Вы все увидите… завтра… или послезавтра… или еще позже. Какая разница? У нас ведь много завтра впереди. Разве не так? И опять ответил Джим. — Так, Эвали. Она сонно улыбнулась. Повернулась и поплыла к темной тени, к утесу, к входу в свою пещеру. Растаяла в тени, исчезла.
10. Если бы человек мог использовать весь свой разум
Барабаны часовых карликов негромко разговаривали друг с другом на всем протяжении колючей изгороди. Неожиданно мне отчаянно захотелось в Гоби. Не знаю почему, но ее пустынное обожженное ветром и песком тело было мне желаннее женского. Меня охватила ностальгия. Я попытался стряхнуть ее. И наконец в отчаянии заговорил: — Ты очень странно вел себя, индеец. — Тси тсалаги — я говорил тебе — я чероки. — Тсантаву, это я, Дегатага, говорю с тобой сейчас. Я перешел на чероки; он ответил: «Что желает знать мой брат?» — Что сказали тебе предки, когда мы спали под елями? Что ты узнал по данным им трем знакам? Я сам не слышал их голоса, брат, но по кровному обряду они мои предки, как и твои; я имею право знать их слова. Он ответил: «Разве не лучше предоставить будущему развертываться самому, не обращая внимания на тихие голоса мертвых? Кто может утверждать, что призраки говорят правду? — Тсантаву направил стрелу в одном направлении, а глаза его устремлены в другом. — Однажды он назвал меня псом, бредущим за хозяином. Он по-прежнему так думает, поэтому…» — Нет, нет, Лейф, — прервал он меня, оставив язык своего племени. — Я только хотел сказать, что не знаю, правда ли это. Я знаю, как определил бы это Барр, — естественные предчувствия, выраженные подсознательно в терминах расовых суеверий. Голоса — будем так назвать их — сказали, что на севера меня ждет большая опасность. Дух, живущий на севере, уничтожит моих предков навсегда, если я попаду ему в руки. И они, и я будем, «как будто нас никогда не было». Существует какая-то глубокая разница между обычной смертью и этой странной смертью, но я этого не понял. По трем знакам я узнаю, что они говорят правду: по Атагахи, по Усунхию и по юнви тсундcи. Когда я встречу первых два знака, я смогу повернуть назад. Но когда встречу третий, будет уже поздно. Они просили меня не допустить — это особенно интересно, Лейф, — чтобы они были растворены. — Растворены! — воскликнул я. — Но именно это слово употребил я. И это было много часов спустя! — Да, поэтому у меня мурашки побежали по коже, когда я услышал тебя. Ты не можешь винить меня в том, что я был несколько рассеян, когда мы встретили каменную равнину, похожую на Атагахи, и потом, когда увидели Землю Теней, которая и есть Усунхию, Земля Тьмы. Поэтому я и сказал, когда мы встретили третий знак — юнви тсундcи, — что теперь предпочитаю твое толкование интерпретации Барра. Мы встретили юнви тсундcи. И если ты считаешь, что этого недостаточно, чтобы вести себя странно, — какую же причину ты счел бы достаточной? Джим в золотых цепях… Щупальце Темной Силы ползет, ползет к нему… мои губы пересохли и окоченели… — Почему ты мне не сказал все это? Я никогда не позволил бы тебе идти дальше! — Я это знал. Но ведь сам ты не повернул бы назад, старина? Я не ответил; он рассмеялся. — Да и как я мог быть уверен, пока не увидел знаки? — Но ведь они не утверждали, что ты будешь… растворен, — ухватился я за соломинку. — Они только говорили, что есть опасность. — Да, и это все. Что же мне делать? Джим, я скорее убью тебя собственными руками, чем увижу, что с тобой происходит то, что я видел в Гоби. — Если сможешь, — ответил он, и я увидел, что он тут же пожалел о своих словах. — Если смогу? А что они сказали обо мне, эти проклятые предки? — Ничего, — жизнерадостно ответил он. — Я и не говорил, что они что-то сказали о тебе. Я просто решил, что если я окажусь в опасности, то ты тоже. Вот и все. — Джим, это не все. Что ты скрываешь от меня? Он встал и остановился надо мной. — Ну, ладно. Они сказали, что если даже Дух не возьмет меня, я все равно не выберусь отсюда. Теперь ты все знаешь. — Что ж, — сказал я, чувствуя, как с моей души спадает тяжесть. — Не так плохо. А что касается того, чтобы выбраться, пусть будет, что будет. Одно ясно: если останешься ты, то и я тоже. Он с отсутствующим видом кивнул. А я перешел к другому интересовавшему меня вопросу. — Юнви тсундcи, Джим, кто они? Я не помню, чтобы ты мне о них рассказывал. Что это за легенда? — А, малый народ, — он со смешком присел рядом со мной, оторвавшись от своих мыслей. — Они жили в земле чероки до чероки. Раса пигмеев, как те, что сейчас живут в Африке и Австралии. Только они не черные. Эти маленькие люди точно соответствуют описанию. Конечно, происходило и скрещивание. В легенде говорится, что у них кожа цвета меди и рост в два фута. Эти же с кожей цвета золота и ростом в среднем в три фута. Значит, здесь они немного посветлели и выросли. А все остальное совпадает — длинные волосы, прекрасные фигуры, барабаны и все прочее. Он продолжал рассказывать о малом народе. Они жили в пещерах, в основном в районе Теннеси и Кентукки. Земной народ, поклонники жизни, неистово раблезианский. К чероки они относились по-дружески, но держались изолированно, и их редко можно было увидеть. Они часто помогали заблудившимся в горах, особенно детям. Если они помогали кому-то, отводили в свои пещеры, то предупреждали, что он никому не должен рассказывать, где эти пещеры, иначе он умрет. И, продолжает легенда, если он рассказывал, то действительно умирал. Если кто-то ел их пищу, он должен был быть очень осторожен, вернувшись в свое племя, и медленно привыкать к обычной пище, иначе он тоже умрет. Малый народ был очень обидчив. Если кто-то следовал за ними в лесу, они заклинали его, так что он на несколько дней утрачивал чувство направления. Они прекрасно знали лес, хорошо обрабатывали металл, и если охотник находил в лесу нож, острие копья или вообще какую-нибудь безделушку, он должен был сказать: «Малый народ, я хочу взять это». Если он этого не делал, удача отворачивалась от него, и ему больше никогда не удавалось добыть дичь. Да и другие неприятности происходили с ним. Такие, из-за которых расстраивалась его жена. Они были веселым народом, эти маленькие люди, и большую часть времени проводили в танцах под бой барабанов. У них были самые разные барабаны — барабаны, от звука которых падали деревья, барабаны, вызывавшие сон, барабаны, которые сводили с ума, и такие, которые разговаривали, и барабаны грома. Барабаны грома звучали как настоящий гром, и когда малый народ бил в них, поблизости собирались грозовые тучи; услышав знакомые голоса, они решали поговорить с заблудившимся членом семьи… Я вспомнил рокот барабанов, сменивший пение; может, это малый народ выражал так свое неприятие Калкру… — У меня есть к тебе один-два вопроса, Лейф. — Давай, индеец. — А что ты помнишь… о Двайану? Я ответил не сразу. Я сам боялся этого вопроса с тех пор, как закричал на женщину-волчицу на берегу реки. — Если ты считаешь, что с ним все кончено, ладно. Но если ты хочешь увильнуть от ответа, плохо. Я задал прямой вопрос. — Ты думаешь, что во мне возрождается древний уйгур? Если это так, то может, ты объяснишь, где я был все эти тысячи лет между ним и мною? — О, значит, тебя беспокоит та же мысль? Нет, я не имел в виду перевоплощение. Хотя мы о нем знаем так мало, что я не стал бы совсем отвергать эту идею. Но может быть более естественное объяснение. Поэтому я и спрашиваю — что ты помнишь о Двайану? Я решил выложить все начистоту. — Ладно, Джим, — ответил я, — этот же вопрос не давал мне покоя все три года после Калкру. И если я не найду ответа здесь, я отправлюсь за ним в Гоби… Конечно, если смогу выбраться отсюда. Когда в комнате в оазисе я ждал призыва старого жреца, я помню отчетливо, что это был Двайану. Я узнал кровать, узнал доспехи и оружие. Я смотрел на металлический шлем и вспомнил, как Двайану… или я… получил ужасный удар палицей, когда носил его. Я снял шлем: на нем была вмятина именно в том месте, которое я помнил. Я вспомнил, что Двайану — или я — имел привычку держать в левой руке более тяжелый меч, и один из мечей был тяжелее другого. К тому же в драке я охотнее пользуюсь левой рукой, чем правой. Воспоминания приходили ко мне вспышками. На мгновение я был Двайану плюс я сам, с интересом я рассматривал знакомые вещи, в следующий момент я был только я с беспокойством думал, что все это значит. — Ну, а что еще? — Что ж, я не был вполне откровенен в рассказе о ритуале, — подавленно признался я. — Я говорил тебе, что кто-то другой контролировал мой мозг. Это правда, в каком-то смысле — но, Боже, прости меня, я все время знал, что этот кто-то другой тоже я, я сам! Как будто двое стали одним. Трудно объяснить… Ты знаешь, иногда говоришь одно, а думаешь другое. Ну, а если говоришь одно, а думаешь в это время о двух разных вещах одновременно. Похоже на это. Одна часть меня восставала, испытывала отвращение и ужас. Другая — ничего подобного; она знала, что обладает властью, и наслаждалась этой властью; и именно эта часть контролировала мою волю. Но обе эти части были — я. Недвусмысленно, несомненно — я. Дьявол, парень, если бы я действительно поверил, что кто-то другой командовал мной, разве я испытывал бы такие угрызения совести? Нет, я знал, что это я; и та часть меня, которая узнала шлем и мечи, с тех пор преследует меня кошмарами. — Есть еще что-то? — Да. Сны. Он склонился ко мне и резко спросил: — Какие сны? — Сны о битвах… сны о пирах… сны о войне против желтокожих людей, о поле битвы на берегу реки, о стрелах, тучами летящих над головой… о рукопашной, в которой я сражался большим молотом с человеком, похожим на меня… сны о городах с башнями, по которым я проезжал, и о белых голубоглазых женщинах, которые бросали под ноги моего коня гирлянды цветов… Когда я просыпаюсь, сны быстро забываются. Но я всегда знаю, что когда я их вижу, они ясные, четкие, реальные, как сама жизнь… — Ты по снам узнал, что женщина-волчица ведьма? — Если это и так, то я не помню. Я только знаю, что вдруг узнал ее, — вернее, та моя часть узнала. Джим некоторое время сидел молча. — Лейф, — спросил он, — в этих снах ты принимал участие в службе Калкру? Имел какое-нибудь отношение к поклонению ему? — Уверен, что нет. Клянусь Богом, я бы помнил! Мне не снился даже храм в Гоби. Он кивнул, как будто я подтвердил какую-то его мысль; потом молчал так долго, что я занервничал. — Ну, старый лекарь Тсалаги, каков диагноз? Перевоплощение, одержимость демонами, или я просто спятил? — Лейф, а до Гоби тебе снились эти сны? — Нет. — Ну… я пытался рассуждать, как Барр, и добавил кое-что из своего серого вещества. Вот результат. Я думаю, что причина всего, что ты испытал, старый жрец. Он взял тебя под контроль, когда ты увидел, как едешь к храму Калкру, но не стал входить в него. Ты не знаешь, что еще он мог внушить тебе тогда и потом заставил забыть, когда ты придешь в себя. Это просто для гипнотизера. Но у него была и другая возможность. Когда ты спал той ночью. Откуда ты знаешь, что он не пришел к тебе и не начал внушение? Очевидно, он хотел, чтобы ты поверил, что ты — Двайану. хотел, чтобы ты «вспомнил» — но в его распоряжении был лишь один урок, и он не хотел, чтобы ты помнил о Калкру. Это объясняет, почему тебе снятся великолепие, и слава, и вообще приятные вещи. Но ничего неприятного. Старик был умен, ты сам об этом говорил. Он достаточно разобрался в твоей психологии, чтобы понять, что на определенном этапе ритуала ты запротестуешь, поэтому он крепко связал тебя. Немедленно начало действовать постгипнотическое внушение. Ты не мог ничего сделать. Хотя твое сознание бодрствовало, оно не контролировало твою волю. Я думаю, так бы рассудил Барр. Дьявол, да ведь это же можно было проделать с помощью наркотиков. Вовсе не нужно обращаться к переселению душ или к демонам и к прочей средневековой чепухе для объяснений. — Да, — с надеждой, но и с сомнением сказал я. — А как же ведьма? — Ты видел похожую в своих снах, но забыл. Я думаю, что мое объяснение верно. И это, Лейф, беспокоит меня. — Я тебя не понимаю. — Не понимаешь? Подумай. Если все загадки объясняются внушением старого жреца, что еще он внушил тебе? Ясно, что он что-то знал об этом месте. Предположим, он предвидел, что ты его отыщешь. Что ты тут станешь делать? Что бы это ни было, готов поклясться, что он поместил его глубоко в твое подсознание. Ну, и что же ты станешь делать, когда ближе познакомишься с рыжеволосой ведьмой и теми несколькими счастливыми джентльменами, которые разделяют с ней этот земной рай? У меня нет ни малейшего представления, и у тебя тоже. И если тут не о чем беспокоиться, скажи, о чем же есть. Пошли, пора спать. Мы пошли в палатку. Мы уже заходили в нее с Эвали. Тогда тут было пусто, только у стены лежала груда шкур и шелка. Теперь таких груд стало две. Мы в полутьме разделись и легли. Я посмотрел на часы. — Десять часов, — сказал я. — Сколько месяцев прошло с утра? — Не меньше шести. Если будешь мешать спать, я тебя убью. Я устал. Я тоже устал; тем не менее я долго лежал, рассуждая. Я не был убежден разъяснениями Джима, какими правдоподобными они бы ни казались. И не верил, что проспал много столетий в каком-то внепространственном аду. Не верил я и в то, что был когда-то древним Двайану. Существовало и третье объяснение, которое нравилось мне не больше первых двух. У него тоже масса неприятных последствий. Недавно знаменитый американский физик и психолог объявил о своем открытии: средний человек использует только десятую часть своего мозга; ученые в целом согласились, что это так. Самые глубокие мыслители, разносторонние гении, как Леонардо да Винчи или Микеланджело, могли использовать чуть больше. Всякий человек, который сумел бы воспользоваться всем своим мозгом, правил бы миром, — но, вероятно, он не захотел бы. В человеческом черепе располагается вселенная, исследованная едва на одну пятую часть. И что же находится в этой terra incognita — неисследованных восьми десятых? Там, например, может находиться склад памяти предков, памяти, уходящей в прошлое вплоть до покрытых шерстью обезьяноподобных первобытных людей, и даже дальше, до тех созданий с плавниками, которые выбрались из древних морей и начали свой путь к человеку, и еще дальше, к тем, что сражались и размножались в парящих океанах, когда рождались континенты. Миллионы и миллионы лет памяти! Какой резервуар знаний, если бы человек смог зачерпнуть из него! В этом нет ничего невероятного: физическая память расы может содержаться всего в двух клетках, с которых начинается цикл рождения. В них заключена вся информация о человеческом теле — о мозге и нервах, о мышцах, костях и крови. В них и те особенности, которые мы называем наследственными, — семейное сходство, сходство не только лица и тела, но и мысли, привычки, эмоции, реакции на окружающее: нос дедушки, глаза прадедушки, вспыльчивость прапрадедушки, скверный или, наоборот, хороший характер. Если все это могут передать сорок семь или сорок восемь крошечных стерженьков в первичных клетках, которых биологи называют хромосомами, этих загадочных богах рождения, которые определяют с самого начала, каким гибридом предков станет мальчик или девочка, почему же они не могут содержать и аккумулированный опыт и память этих предков? Где-то в человеческом мозге может находиться секция записей, аккуратно выгравированные дорожки воспоминаний, ждущие только, чтобы их коснулась игла сознания, пробежала по ним и оживила бы. Может, сознание время от времени касается этих дорожек и читает их. Может, существуют люди, которые по случайности обладают способностью черпать эти знания. Если это правда, объясняются многие загадки. Голоса предков Джима, например. Моя собственная необычная способность к языкам. Предположим, я происхожу прямо от этого Двайану. И что в неведомом мире моего мозга, в моем сознании, которое сегодня есть я, могут храниться воспоминания этого Двайану. Может, эти воспоминания сами оживают и входят в мое сознание. Когда это произойдет, Двайану проснется и будет жив. И будут ли тогда жить рядом Двайану и Лейф Ленгдон? Не знал ли об этом старый жрец? Словами и ритуалами, а может, и внушением, как предполагал Джим, он вторгся в эту terra incognita и пробудил воспоминания, которые были — Двайану? Они сильны, эти воспоминания. Они спали не полностью; иначе я не изучил бы так быстро уйгурский… и не испытывал бы эти странные, мгновенные приступы узнавания еще до встречи со старым жрецом… Да, Двайану силен. И я каким-то образом знал, что он безжалостен. Я боялся Двайану, боялся тех воспоминаний, которые когда-то были Двайану. Я не мог вызывать их и не мог контролировать. Дважды они перехватили мою волю, отодвинув меня в сторону. Что если они станут сильнее? Что если они станут… мною?
11. Барабаны малого народа
Шесть раз зеленый свет Земли Теней превращался в бледный мрак местной ночи, а я не видел и не слышал ничего о женщине-ведьме и о тех, кто живет на другом берегу белой реки. Эти были исключительно интересные шесть дней и ночей. Мы с Эвали обошли всю охраняемую территорию золотых пигмеев; мы ходили среди них и одни совершенно свободно. Мы смотрели, как они работают и играют, слушали их барабаны и с восхищением следили за их танцами — танцами такими сложными, такими необычными, что они больше напоминали многоголосые хоры, чем просто шаги и жесты. Иногда рррллия танцевали небольшими группами по десять или около того человек, и тогда это было как простая мелодия. Но иногда они танцевали сотнями, переплетаясь, на ровной поросшей травой танцевальной площадке; и тогда это были симфонии, переложенные средствами хореографии. Они всегда танцевали под звуки своих барабанов; другой музыки у них не было, да им она и не была нужна. У малого народа были барабаны различнейших форм и размеров; они охватывали все десять октав и производили не только знакомые нам полутона, но и четверти, и восьмые тона, и даже более мелкие деления, которые странно воздействовали на слушателя — по крайне мере, на меня. По высоте они различались от глубочайшего органного баса до высокого стаккато сопрано. На некоторых пигмеи играли пальцами, на других ладонями, а на третьих палочками. Барабаны шептали, гудели, смеялись и пели. Танцы и барабаны, особенно барабаны, вызывали странные мысли, странные картины; барабаны били у входа в другой мир, и время от времени этот вход раскрывался достаточно широко, чтобы можно было увидеть летучие, странно прекрасные, странно беспокоящие образы. На возделываемой, плодородной равнине площадью в двадцать квадратных миль жило около пяти тысяч рррллия; сколько находится вне укрепления, я не знал. Эвали говорила нам, что есть еще два десятка меньших колоний. Это охотничьи и горнодобывающие поселки, откуда привозят шкуры, металлы и прочие необходимые вещи. На мосту Нансур сильный сторожевой пост. Какое-то равновесие в природе поддерживало население на одном уровне; маленькие люди быстро достигали зрелости и жили недолго. Она рассказывала нам о Сирке, городе, основанном бежавшими от жертвоприношения. По ее описанию, это была неприступная крепость, построенная среди скал, окруженная стеной; у основания стены находились кипящие источники, они образовывали непроходимый ров. Постоянная война шла между жителями Сирка и белыми волками Люр, которые скрывались в окружающем лесу и постоянно следили, чтобы перехватить тех, кто пытается убежать из Карака. У меня сложилось впечатление, что существует постоянная связь между Сирком и золотыми пигмеями, что связывает их, возможно, ненависть к жертвоприношениям, которую разделяли те и другие, и вражда к поклонникам Калкру. И когда могут, золотые пигмеи помогают жителям Сирка, и если бы не глубокий древний страх того, что может последовать, если они нарушат договор, заключенный их предками, рррллия вообще объединились бы с повстанцами. Эвали заставила меня задуматься над ее словами. — Если бы ты повернул в другую сторону, Лейф, и спасся бы от волков Люр, то пришел бы в Сирк. И из-за этого могли бы произойти большие перемены: Сирк приветствовал бы тебя, и кто знает, что последовало бы, если бы ты стал вождем. И мой малый народ… Она смолкла и не стала кончать предложения, несмотря на все мои просьбы. Поэтому я сказал, что существует слишком много «если» и что я рад, что судьба сложилась именно так, а не иначе. Это ей понравилось. Было у меня и происшествие, которым я не поделился с Джимом. Как я уже говорил, малый народ очень жизнелюбив. В любви к жизни вся вера и все убеждения золотых пигмеев. Тут и там на равнине разбросаны небольшие пирамиды, на которых, вырезанные из дерева или из камня, стояли древние символы плодородия иногда по одному, иногда парами, а иногда они образовывали форму, любопытно напоминавшую символ древнего Египта, — крест с петлями, crux ansata, который держит в руках Озирис, бог воскрешения, и прикасается им в зале мертвых к тем душам, которые прошли все испытания и заслужили бессмертие. Это произошло на третий день. Эвали попросила меня пойти с ней — одного. Мы прошли по гладкой, хорошо расчищенной дороге вдоль основания утеса, в котором расположены пещеры пигмеев. Из входных отверстий выглядывали золотоглазые женщины и испускали трели, обращенные к кукольным детям. Группа более старших, мужчин и женщин, встретила нас, танцуя, и в танце сопровождала нас. У каждого из них в руках был барабан, подобного которому я не видел. Они не били в эти барабаны, не разговаривали друг с другом; молча группа за группой, танцуя, двигалась за нами. Через некоторое время я заметил, что пещеры кончились. Через полчаса мы обогнули выступающую скалу. Теперь мы были на краю небольшого луга, покрытого мхом, приятным и мягким на ощупь, как груда шелковых ковров. Луг достигал примерно пятисот футов в длину и столько же в ширину. Напротив находился другой утес. Как будто круглое долото ударило сверху, вырубив полукруг в скалах. В дальнем конце луга находилось то, что, на первый взгляд, я принял за здание под круглым куполом, но потом разглядел, что это продолжение скалы. В этой округлой скале был овальный вход, не больше среднего размера двери. Я стоял, разглядывая его; Эвали взяла меня за руку и повела к этому входу. Мы вошли внутрь. Куполообразная скала оказалась полой внутри. Это был храм малого народа: я понял это, как только переступил через порог. Стены из какого-то холодного зеленоватого камня гладко закруглялись вверх. Они были пронизаны сотнями отверстий, как будто иглой кружевницы, и в эти отверстия устремлялся свет. Стены улавливали его, отражали и рассеивали под сотнями углов. Пол покрыт толстым мягким мхом, который тоже слабо светился, добавляя необычный призрачный свет. Все это сооружение занимало не менее двух акров. Эвали провела меня вперед. Точно в центре пола находилось углубление, похожее на большую чашу. Между ним и мною стоял большой крест с петлями высотой в три рослых человека. Он был отполирован и сверкал, как высеченный их огромного аметистового кристалла. Я оглянулся. Пигмеи, сопровождавший нас, толпой входили в овальную дверь. Они столпились за нами. Эвали снова взяла меня за руку и подвела к кресту. Она указала вперед, и я заглянул в чашу. И увидел Кракена! Он лежал, распростертый внутри чаши, его черные щупальца расходились от вздутого тела, огромные глаза непостижимо смотрели на меня. Воскрес и охватил меня прежний ужас. Я с проклятием отскочил назад. Пигмеи толпились у моих ног, внимательно глядя мне в лицо. Я знал, что на нем ясно отразился испытанный мной ужас. Я услышал возбужденный обмен трелями, маленькие люди кивали друг другу, жестикулировали. Эвали серьезно смотрела на меня, затем ее лицо облегченно засветилось. Она улыбнулась мне и снова указала на чашу. Я заставил себя взглянуть. И увидел, что это всего лишь изображение, тщательно вырезанное. Ужасные, непостижимые глаза из черного камня. Каждое сорокафутовое щупальце было пронзено одним из crux ansata, проколото им, как копьем; а в огромное тело воткнут крест большего размера. Я понял значение этого: жизнь побеждает врага жизни; лишает его силы; пленяет его с помощью тайного древнего и святого символа той самой жизни, которую Кракен стремится уничтожить. А большой крест с петлями вверху смотрит и сторожит, как бог жизни. Я услышал шорох, шепот, рябь, шум, рокот барабанов. Он все усиливался, переходя в крещендо. В этих звуках слышалось торжество — торжество побеждающей волны, триумф свободно налетающего ветра; и в них был мир и уверенность в мире, как дрожащая песня маленьких водопадов, напевающих на своем пути вдоль реки, и шум дождя, приносящего жизнь всей зеленой растительности на земле. Эвали начала танцевать вокруг аметистового креста, медленно кружила она под шорох, шелест, дробь — под музыку барабанов. Она стала душой песни, которую пели эти барабаны, душой всего того, о чем они пели. Трижды обогнула она крест. Танцуя, подошла ко мне, снова взяла меня за руку и повела из храма, через портал. За нами слышался сдержанный рокот барабанов, теперь не дрожащий, не грохочущий, — спокойный и торжественный. И хотя потом я расспрашивал ее об этой церемонии, она мне ничего не сказала. А нам еще предстояло идти на мост Нансур и посмотреть на многобашенный Карак. — Завтра, — говорила она; а когда наступал следующий день, она снова говорила: — Завтра. — При этом она опускала длинные ресницы на свои ясные карие глаза и странно смотрела на меня сквозь них. Или трогала мои волосы и говорила, что есть еще много завтра, а Нансур никуда не убежит. Я чувствовал какое-то нежелание, но причину его отгадать не мог. И день за днем ее красота и сладость обвивались вокруг моего сердца, пока я не начал думать, не станет ли это защитой от того, что я носил в кожаном мешочке на груди. Но малый народ продолжал сомневаться во мне, даже после церемонии в храме; это было ясно. Джима они приняли от всего сердца; они щебетали, распевали и танцевали с ним, как будто он был одним из них. Со мной они были вежливы и достаточно дружелюбны, но украдкой продолжали следить за мной. Джим мог взять куклоподобных детишек и играть с ними. Но если я поступал так, матерям это не нравилось, и они явно показывали свое неудовольствие. В одно утро я получил ясное подтверждение того, что они испытывают ко мне. — Я собираюсь оставить тебя на два-три дня, Лейф, — сказал мне однажды Джим после завтрака. Эвали в это время улетучилась по зову какого-то маленького человека. — Оставить меня! — я взглянул на него в изумлении. — Что это значит? Куда ты пойдешь? Он рассмеялся. — Схожу посмотрю на тланузи — то, что Эвали называет далануза, — большие пиявки. Это речная стража, которую пигмеи пустили в ход после того, как был сломан мост. — Но что это такое, индеец? — Вот это я и собираюсь узнать. Похоже на больших пиявок тланузи. В наших легендах говорится, что они красные, с белыми полосами и размером с дом. Малый народ не заходит так далеко. Говорят только, что они не меньше тебя. — Послушай, индеец, я пойду с тобой. — Нет, не пойдешь. — Хотел бы знать, почему нет. — Потому что тебя не пустит малый народ. Послушай меня, старина, дело в том, что они не вполне тебе доверяют. Они вежливы, они не хотят обидеть Эвали, но — без тебя они лучше себя чувствуют. — Ты мне ничего нового не сказал. — Да, но есть кое-что и новое. Вчера вернулся отряд охотников с другого конца долины. Один из них вспомнил, как его дед рассказывал ему, что когда айжиры впервые появились здесь, у них у всех были такие же светлые волосы, как у тебя. Не рыжие, как сейчас. Их это очень взволновало. — Эвали знает об этом? — Знает. И она не позволит тебе идти, даже если разрешат пигмеи. В полдень Джим ушел с отрядом в сотню пигмеев. Я весело попрощался с ним. Если Эвали и удивило, что я так спокойно принял его уход и не задавал никаких вопросов, то она постаралась никак не показать этого. Однако весь день после этого она была рассеяна, отвечала односложно и невпопад. Раз или два я заметил, как она удивленно смотрит на меня. А когда я взял ее за руку, она задрожала, прижалась ко мне, а потом гневно вырвала руку. А когда плохое настроение покинуло ее, мне пришлось сдерживать себя, чтобы не сжать ее в объятиях. Хуже всего, что я не находил убедительных аргументов, почему бы мне и не обнять ее. Внутренний голос говорил мне, что если я так этого хочу, то почему бы и не сделать. Да и другие обстоятельства ослабляли мое сопротивление. Даже для такого странного места день был странный. Воздух тяжелый и неподвижный, будто приближалась буря. Ароматы далекого леса стали сильнее, они влюбленно липли, смешивали мысли. Дымка, скрывавшая перспективу, стала заметнее; на севере она приобрела цвет дыма, и эти дымные облака медленно, но неуклонно приближались. Мы с Эвали сидели возле ее палатки. Она нарушила долгое молчание. — Ты печален, Лейф. Почему? — Не печален, Эвали. Просто задумался. — Я тоже задумалась. Ты о том же? — Откуда мне знать? Я не знаю, что у тебя на уме. Она неожиданно встала. — Ты хотел посмотреть на работу кузнецов. Пойдем. Я взглянул на нее, удивленным прозвучавшим в ее голосе гневом. Она смотрела на меня сверху вниз, брови ее над яркими, полупрезрительными глазами были сведены в одну линию. — На что ты рассердилась, Эвали? Что я сделал? — Я не рассердилась. И ты ничего не сделал. — Она топнула ногоЙ. — Говорю тебе, ты сделал — ничего. Пошли смотреть кузнецов. И она пошла прочь. Я вскочил на ноги и заторопился вслед за ней. Что с ней? Ясно, что я чем-то вызвал ее раздражение. Но чем? Ну, ладно. Рано или поздно узнаю. И мне действительно интересно посмотреть на кузнецов. Они стояли у маленьких наковален и выковывали изогнутые ножи, копья и наконечники стрел, делали серьги и золотые браслеты для своих крошечных женщин. Тинк-а-тинк, тинк-а-клинг, клинг-кланг, клинк-а-тинк, звучали их маленькие молоты. Они похожи были рядом со своими наковальнями на гномов, только тела их не были деформированы. Миниатюрные мужчины, с прекрасными фигурами, сверкающие золотом в полутьме, их длинные волосы вились вокруг голов, желтые глаза напряженно устремлены на изделия. Очарованный, я смотрел на них, забыв об Эвали и о ее гневе. Тинк-а-тинк! Клинг-кланг! Клинк… Маленькие молоты повисли в воздухе; маленькие кузнецы застыли. С севера донесся звук большого гонга, медный удар, которыЙ, казалось, прозвучал над самой головой. За ним последовал еще один, и еще, и еще. Ветер завыл на равнине; в воздухе стало темнее, дымные облака задрожали и еще более приблизились. Звон молотов сменился громким пением, пением множества людей; пение приближалось и отступало, поднималось и опускалось вместе с поднимавшимся и затихавшим ветром6 И со всех стен тревожно загремели барабаны стражи. Маленькие кузнецы побросали свои молоты и устремились к пещерам. На равнине началась суматоха, пигмеи толпами бежали к башням, чтобы усилить из гарнизоны. Сквозь громкое пение послышался гром других барабанов. Я узнал их — барабаны уйгуров в форме котлов, боевые барабаны, барабаны войны. И понял, что пение — это боевая песня, песня идущих в битву уйгуров. Нет, не уйгуров — ничтожных, грязных людишек, которых я увел из оазиса! Военная песня древней расы! Великой расы — расы айжиров! Старой расы! Моего народа! Я знал эту песню, знал слишком хорошо! Часто слышал я ее в старые дни… когда переходил от битвы к битве… Клянусь Зардой Тридцатикопийным!.. Клянусь Зардой, богом войны!.. Услышать эту песню вновь — все равно что ощутить прохладную воду в иссохшей глотке! Кровь стучала в висках… я открыл рот, чтобы зареветь песню… — Лейф! Лейф! В чем дело? Эвали трясла меня за плечи. Не понимая, я смотрел на нее. Я чувствовал странное, гневное замешательство. Кто эта смуглая девушка, стоящая на моем пути — на пути к битве? И вдруг наваждение оставило меня. Оставило дрожащим, потрясенным, испытавшим дикую бурю в мозгу. Я схватил Эвали за руки, черпая силу в этом прикосновении. В глазах Эвали я увидел изумление, смешанное со страхом. А вокруг нас кольцом стояли пигмеи и смотрели на меня. Я затряс головой, глубоко вздохнул. — Лейф! В чем дело? Прежде чем я смог ответить, пение и барабаны заглушил удар грома. Раскат за раскатом падали на долину, отгоняя звуки, доносящиеся с севера. Я тупо осмотрелся. Вокруг десятки пигмеем били в свои большие барабаны, которые доходили им до пояса. Именно от этих барабанов исходили громовые раскаты, быстрые, как удар молнии, сопровождаемые кричащим раскатистым эхом. Громовые барабаны малого народа! Барабаны все гремели, но даже сквозь их рокот доносилась боевая песня и звуки тех, других барабанов… как удары копий… как топот копыт и ног марширующих воинов… Клянусь Зардой, старая раса все еще сильна… Вокруг меня танцевало кольцо пигмеев. Еще одно окружало первое. В нем я увидел Эвали, она смотрела на меня широко раскрытыми удивленными глазами. А вокруг еще одно кольцо, пигмеи танцевали со стрелами наготове, с кривыми ножами в руках. Почему она так смотрит на меня… почему ко мне протянуты руки маленьких людей… почему они все танцуют? Странный танец… при виде его хочется спать… какая-то вялость охватывает меня… Боже, как хочется спать! Так хочется спать, что я с трудом различаю гром громовых барабанов… так хочется спать, что я уже ничего не слышу… так хочется… Я смутно чувствовал, что опускаюсь на колени, потом падаю навзничь на дерн… сплю… Я проснулся, полностью владея своими чувствами. Вокруг по-прежнему звучали барабаны, но не громовые, а те, которые пели странные песни, и в их ритме кровь весело пробежала по жилам. Певучие ноты походили на легкие, теплые, оживотворяющие удары, разгонявшие кровь, вызывавшие экстаз жизни. Я вскочил на ноги. И увидел, что нахожусь на высоком холме, круглом, как женская грудь. На равнине повсюду виднелись огни, горели небольшие костры, окруженные кольцами танцующих пигмеев. Вокруг костров под бой барабанов танцевал малый народ. Как будто золотое пламя костров ожило и запрыгало в воздухе. Холм, на котором я стоял, окружало тройное кольцо карликов, женщин и мужчин, они раскачивались, извивались, приплясывали. Они составляли одно целое со своими барабанами. Дул слабый ароматный ветерок. Пролетая, он напевал, и его пение сливалось с музыкой барабанов. Вперед и назад, направо и налево, внутрь и наружу — золотые пигмеи танцевали вокруг холма. Вокруг и вокруг, вперед и назад двигались они у окруженных кострами алтарей. Я слышал пение, звучала негромкая сладкая мелодия, песня малого народа, созвучная музыке барабанов. Рядом находился другой холм, очень похожий на тот, на котором стоял я, — они были как пара женских грудей. Этот второй холм тоже был окружен танцующими пигмеями. И на нем пела и танцевала Эвали. Ее пение было душой барабанной песни и танца — ее танец был сутью того и другого. Она танцевала на холме, пояс и покрывало исчезли, одета она была только в шелковый, трепещущий плащ из собственных сине-черных волос. Она поманила, позвала меня — высоким призывным сладким голосом. Ароматный ветер подтолкнул меня к ней, и я побежал с холма. Танцующие пигмеи расступились, пропуская меня. Бой барабанов стал быстрее; песня их взлетела выше октавой. Эвали, танцуя, приблизилась ко мне… она рядом со мной, руки ее обвили меня за шею, губы прижались к моим… Барабаны били все быстрее. Мой пульс отвечал им тем же. Два кольца маленьких золотых живых огоньков соединились. Они стали одним стремительным кругом, который увлек нас вперед. Вокруг, и вокруг, и вокруг нас вились эти кольца, подгоняя нас в ритме барабанов. Я перестал думать — весь был поглощен песней, музыкой барабанов. Но я по-прежнему чувствовал, как нас подталкивает, лаская, ароматный ветер. Мы находились возле овальной двери. Шелковые ароматные пряди волос Эвали развевались на ветру, целуя меня. За нами продолжали петь барабаны. И ветер продолжал толкать нас… Ветер и барабаны протолкнули нас в дверь куполообразной скалы. Они привели нас в храм малого народа… Сверкал мягкий мох… блестел аметистовый крест… Руки Эвали вокруг моей шеи… Я теснее прижал ее к себе… прикосновение ее губ как сладкий тайный огонь жизни… В храме малого народа тихо. Барабаны смолкли. Потускнел блеск аметистового креста с петлей над ямой с Кракеном. Эвали зашевелилась и вскрикнула во сне. Я коснулся ее губ, и она проснулась. — Что с тобой, Эвали? — Лейф, любимый, мне снилось, что белый сокол погрузил свой клюв в мое сердце! — Это всего лишь сон, Эвали. Она вздрогнула, наклонила голову, и ее волосы скрыли наши лица. — Ты отогнал сокола… но потом появился белый волк и прыгнул на меня. — Это всего лишь сон, Эвали, огонь моего сердца. Она еще ближе придвинулась ко мне под навесом своих волос. — Ты прогнал волка. И я хотела поцеловать тебя… но между нами появилось лицо… — Лицо, Эвали? Она прошептала: — Лицо Люр. Она смеялась надо мной… а потом ты исчез… с нею… и я осталась одна… — Лживый сон. Спи, любимая! Она вздохнула. Наступило долгое молчание; потом она сонно сказала: — Что это ты носишь на шее, Лейф? Подарок женщины? — Женщины тут ни при чем. Это правда. Она поцеловала меня и уснула. Глупец я был, что не сказал ей тогда, под сенью древнего символа… Глупец — я ничего не сказал ей!
12. На мосту Нансур
Когда утром мы вышли из храма, нашего появления терпеливо дожидались с полсотни маленьких мужчин и женщин. Я думаю, это были те самые, которые сопровождали меня при моем первом приходе в куполообразную скалу. Маленькие женщины столпились вокруг Эвали. Они принесли с собой шали и укутали Эвали с ног до головы. Она пошла с ними, не сказав мне ни слова, даже не посмотрев на меня. Во всем этом было что-то церемониальное: она выглядела как невеста, которую уводят опытные, хотя и миниатюрные подружки. Маленькие мужчины собрались вокруг меня. Среди них был Шри. Я обрадовался этому: я знал, что если остальные и сохранили относительно меня какие-то сомнения, то у Шри их не было. Они пригласили меня идти с ними, и я пошел без всяких вопросов. Шел дождь, и было влажно и тепло, как в джунглях. Ветер дул регулярными, ритмичными порывами, как и накануне ночью. Дождь, казалось, не шел, а конденсировался в воздухе; только когда дул ветер, линии дождя становились почти горизонтальными. Воздух напоминал ароматное вино. Мне хотелось петь и танцевать. Слышался гром — не барабанный, а настоящий. На мне были только брюки и рубашка. Высокие ботинки я сменил на сандалии. Не прошло и двух минут, как я насквозь промок. Мы подошли к дымящемуся пруду и здесь остановились. Шри велел мне раздеться и нырнуть. Вода оказалась горячей, она придавала бодрость, и, плавая, я чувствовал себя все лучше и лучше. Я решил, что что бы ни было в головах пигмеев, все это рассеялось, когда они сопровождали меня с Эвали в свой храм, — рассеялось по крайней мере на время. Но, кажется, я понял, что это было. Они подозревали, что у Калкру есть какая-то власть надо мной, как над теми людьми, которых я напоминал. Не очень прочная власть, может быть, но и ее не следовало игнорировать. Отлично, лекарственное средство, поскольку они не могли убить меня, не разбив при этом сердце Эвали, заключалось в том, чтобы пригвоздить меня, как был пригвожден Кракен — этот символ Калкру. И они пригвоздили меня при помощи Эвали. Я выбрался из пруда более задумчивый, чем вошел в него. Мне дали набедренную повязку с любопытными петлями и узлами. Потом стали болтать, щебетать, смеяться и танцевать. Шри нес мою одежду и пояс. Я не хотел терять их, поэтому, когда мы пошли, я держался поближе к нему. Вскоре мы остановились перед входом в пещеру Эвали. Немного погодя среди великого шума, пения, боя барабанов появилась Эвали с толпой окружавших ее танцующих женщин. Ее подвели ко мне. И все с танцем удалились. Вот и все. Церемония, если это действительно была церемония, закончилась. Но я чувствовал себя женатым человеком. Я посмотрел на Эвали. Она скромно смотрела на меня. Волосы ее больше не свисали свободно, они были тщательно убраны вокруг головы, шеи и ушей. Все шали исчезли. На ней теперь был передник, какие носят замужние маленькие женщины, и серебряная прозрачная накидка. Она рассмеялась, взяла меня за руку, и мы вошли в ее пещеру. На следующий день, вскоре после полудня, мы услышали близкий звук фанфар. Фанфары звучали громко и продолжительно, как будто вызывая кого-то. Мы вышли в дождь, чтобы лучше слышать. Я заметил, что ветер переменился с северного на западный и дул сильно и устойчиво. К этому времени я уже знал, что у земли под миражом очень своеобразная акустика, и по звуку нельзя судить, откуда он и близко ли его источник. Трубы, разумеется, звучали на той стороне реки, но я не знал, насколько далеко от охраняемой местности пигмеев. В укреплении началась какая-то суета, но особой тревоги не было. Послышался последний трубный звук, хриплый и насмешливый. За ним последовал взрыв хохота, еще более насмешливый, потому что исходил от человека. Неожиданно мое спокойствие исчезло. Все вокруг покраснело. — Это Тибур, — сказала Эвали. — Вероятно, охотится с Люр. Я думаю, он смеялся — над тобою, Лейф. — Она пренебрежительно вздернула свой тонкий носик, но в углах ее рта таилась усмешка: она видела, как меня охватывает приступ гнева. — Послушай, Эвали, а кто такой этот Тибур? — Я тебе говорила. Тибур-Кузнец, он правит айжирами вместе с Люр. Он всегда приходит, когда я стою на Нансуре. Мы часто разговаривали друг с другом. Он очень силен, очень. — Да? — еще более раздраженно спросил я. — А почему Тибур приходит, когда ты стоишь на мосту? — Потому что хочет меня, конечно, — спокойно ответила она. Моя нелюбовь к Тибуру-Смеху усилилась. — Он не будет смеяться, когда я с ним встречусь, — пробормотал я. Она переспросила: «Что ты сказал?» Я повторил. Она кивнула и начала говорить, и тут я заметил, что глаза ее широко раскрылись, и в них — ужас. И тут же я услышал шум над головой. Из тумана вылетела большая птица. Она парила в пятидесяти футах над нами, глядя вниз злыми желтыми глазами. Большая белая птица… Белый сокол ведьмы! Я оттолкнул Эвали к пещере, продолжая следить за птицей. Трижды она пролетела надо мной, потом с криком метнулась в туман и исчезла. Я пошел к Эвали. Она сидела на груде шкур. Она распустила волосы, и они падали ей на плечи, покрывая ее как плащом. Я склонился к ней и развел волосы. Эвали плакала. Она обняла меня за шею и тесно-тесно прижалась ко мне. Я чувствовал, как сильно бьется ее сердце. — Эвали, любимая, бояться нечего. — Белый сокол, Лейф! — Это всего лишь птица. — Нет, его послала Люр. — Чепуха, милая. Птица летает, где хочет. Она охотилась… или заблудилась в тумане. Она покачала головой. — Лейф, я видела во сне белого сокола… Я крепко держал ее; немного погодя она оттолкнула меня и улыбнулась. Но всю оставшуюся часть дня она не была веселой. А ночью спала беспокойно, прижималась ко мне, бормотала и плакала во сне. На следующий день вернулся Джим. Я испытывал неловкость, ожидая его возвращения. Что он подумает обо мне? Не стоило мне беспокоиться. Он не удивился, когда я выложил перед ним карты. Тогда я понял, что, конечно, пигмеи разговаривают друг с другом при помощи барабанов, что им все известно, и они поделились этой новостью с Джимом. — Хорошо, — сказал Джим, когда я кончил. — Если ты не сможешь выбраться, для вас обоих это лучше всего. А если выберешься, возьмешь с собой Эвали. Возьмешь? Это меня укололо. — Послушай, индеец, не нужно так говорить со мной. Я ее люблю. — Ладно, поставлю вопрос по-другому. А Двайану любит ее? Вопрос как будто ударил меня по лицу. Пока я искал ответ, вбежала Эвали. Она подошла к Джиму и поцеловала его. Он похлопал ее по плечу и обнял, как старший брат. Она посмотрела на меня, подошла и тоже поцеловала, но не совсем так, как его. Над ее головой я посмотрел на Джима. Неожиданно я увидел, что он выглядит уставшим и осунувшимся. — Ты себя хорошо чувствуешь, Джим? — Конечно. Немного устал. Я… кое-что видел. — Что именно? — Ну… — он колебался. — Во-первых, тланузи… эти большие пиявки. Никогда не поверил бы, если бы сам не увидел, а если бы видел их до того, как мы нырнули в реку, предпочел бы волков: они по сравнению с тланузи воркующие голубки. Он рассказал, что они в первую ночь разбили лагерь на дальнем конце равнины. — Это место больше, чем мы считали, Лейф. Должно быть так, потому что я прошел больше миль, чем это возможно, если долина такова, как видно сверху, над миражом. Вероятно, мираж укоротил ее, спутал нас. На следующий день они прошли через лес, джунгли, заросли тростника и болото. И пришли наконец к дымящейся трясине. Над ней по возвышению проложена тропа. Они пошли по этой тропе и вскоре пришли к другой, поперечной. Там, где встречаются эти две дороги, из болота поднимается широкая круглая насыпь. Здесь пигмеи остановились. Из хвороста и листьев они разожгли костры. От костров пошел густой дым с сильным запахом, он медленно покрыл всю насыпь и потянулся на болото. Когда костры разгорелись, пигмеи начали бить в барабаны — странно синкопированным боем. Через несколько мгновений в болоте у насыпи что-то зашевелилось. — Между мной и краем насыпи находилось кольцо пигмеем, — продолжал Джим. — Я обрадовался этому, когда увидел, как эта штука выползает из воды. Вначале приподнялась грязь, потом стала видна спина, как мне показалось, огромного слизняка. Слизняк приподнялся и выполз на сушу. Это была пиявка, конечно, но от ее вида меня затошнило. От ее размеров. Она была не менее семи футов в длину, слепая, трепещущая, она лежала, раскрывая пасть, слушая барабанный бой и наслаждаясь запахом дыма. Потом появилась еще одна и еще. Через какое-то время сотня пиявок выстроилась полукругом, безглазые головы повернуты к нам, всасывают дым, дрожат под бой барабанов. Несколько пигмеев встали, взяли горящие поленья и пошли по дороге, а остальные загасили костры. Пиявки двинулись за факелоносцами. Все остальные пигмеи шли сзади, подгоняя их. Я держался в тылу. Так мы шли, пока не пришли на берег реки. Тут барабанный бой прекратился. Пигмеи побросали горящие факелы в воду, потом туда же кинули раздавленные ягоды — не те, которыми натирали нас Шра и Шри. Красные ягоды. Большие пиявки, извиваясь, перевалили через берег и вслед за ягодами нырнули в воду. Все оказались в реке. Мы пошли назад и вышли из болот. В ту ночь они разговаривали при помощи барабанов. Барабаны звучали и в предыдущую ночь, и все беспокоились; но я решил, что это то самое беспокойство, которое было, когда мы выступили. Они, должно быть, знали, что происходит, но не рассказывали мне. Вчера утром они были счастливы и беззаботны. Я понял, что что-то случилось, что они получили хорошую новость ночью. И они рассказали мне, почему они веселы. Не так, как рассказал бы ты, но все равно… Он засмеялся. — Этим утром мы перегнали свыше сотни тланузи и поместили их там, где, как считает малый народ, они нужнее всего. И пошли назад. И вот я здесь. — И это все? — подозрительно спросил я. — Все на сегодня, — ответил он. — Я хочу спать. Пойду лягу. А ты иди с Эвали и оставь меня до завтра одного. Я ушел, решив завтра утром обязательно выяснить, что он скрывает; мне казалось, что путешествие и пиявки не объясняют его озабоченности. Но утром я обо всем этом забыл. Прежде всего, когда я проснулся, Эвали не было. Я пошел к палатке в поисках Джима. Его там не было. Малый народ давно покинул свои пещеры и был занят различными работами; они всегда работали по утрам, а во второй половине дня и вечерами играли, били в барабаны и танцевали. Они сказали, что Эвали и Тсантаву отправились к старшим на совет. Я вернулся к палатке. Немного погодя пришли Эвали и Джим. Лицо Эвали было бледно, глаза припухли. В них виднелись слезы. И она была ужасно сердита. Джим делал вид, что ему весело. — В чем дело? — спросил я. — Готовься к небольшому путешествию, — сказал Джим. — Ты ведь хотел увидеть мост Нансур? — Да. — Ну, мы туда и пойдем. Лучше надень свою путевую одежду и башмаки. Если дорога похожа на ту, которую я проделал, тебе все понадобится. Малый народ легко проскальзывает повсюду, но мы сложены по-другому. Я удивленно смотрел на него. Конечно, я хотел увидеть мост Нансур, но почему решение идти туда заставляет их так странно вести себя? Я подошел к Эвали и повернул ее лицо к себе. — Ты плакала, Эвали. Что случилось? Она покачала головой, выскользнула у меня из рук и ушла в пещеру. Я пошел за ней. Она нагнулась к сундуку, вынимая из него ярды и ярды ткани. Я отбросил ткань и поднял Эвали, пока ее глаза не оказались на уровне моих. — Что случилось, Эвали? Мне пришла в голову мысль. Я опустил Эвали. — Кто предложил идти на мост Нансур? — Малый народ… старшие… Я сопротивлялась… Я не хочу, чтобы ты шел… они сказали, что ты должен… — Должен? — Мысль становилась все яснее. — Значит, ты не должна? И Тсантаву тоже не должен? — Пусть попробуют остановить меня. — Она яростно топнула. Мысль была кристально ясной, и малый народ начал раздражать меня. Они до отвращения основательны. Теперь я прекрасно понял, почему должен идти на мост Нансур. Пигмеи не уверены, что их магия — включая Эвали — подействовала полностью. Поэтому я должен взглянуть на дом врага, и за моей реакцией будут пристально следить. Что ж, по крайней мере честно. Может, ведьма будет там. Может, Тибур… Тибур, желавший Эвали… Тибур, смеявшийся надо мной… Неожиданно мне страстно захотелось на мост Нансур. Я стал одеваться. Надевая ботинки, я посмотрел на Эвали. Она причесала волосы и надела на них шапку, закуталась от колен до шеи в шали и сейчас надевала не менее прочную обувь, чем мои ботинки. При виде моего удивления она слегка улыбнулась. — Не хочу, чтобы Тибур смотрел на меня… не теперь, — сказала она. Я взял ее в руки. Она прижалась ко мне губами… Когда мы вышли, нас ждали Джим и около пятидесяти пигмеев. Мы пересекли равнину, направляясь к северу, к реке. Спустились по склону, мимо одной из башен, и пошли по узкой тропе, такой же, как та, по которой мы пришли в землю малого народа. Тропа вилась по точно такой же папоротниковой заросли. Мы шли цепочкой и поэтому почти все время молча. Наконец оказались в лесу из тесно растущих хвойных деревьев; тропа продолжала причудливо извиваться. Примерно с час мы шли по лесу без отдыха, пигмеи неутомимо продвигались вперед. Я взглянул на часы. Мы уже четыре часа находились в пути и по моим расчетам покрыли около двенадцати миль. Ни следа птиц или животных. Эвали глубоко задумалась, а Джим находился в одном из своих приступов неразговорчивости. Мне тоже не хотелось разговаривать. Молчаливое путешествие; даже пигмеи, вопреки своей привычке, не болтали. Мы вышли к сверкающему ручью и напились. Один из пигмеев поставил перед собой цилиндрический барабан и начал передавать какое-то сообщение. Спустя какое-то время спереди донесся ответный бой. Мы еще раз свернули. Хвойные деревья росли реже. Слева и далеко внизу я увидел белую реку и густой лес на противоположном берегу. Деревья кончились, и мы вышли на скалистую площадку. Прямо перед нами торчал утес, у основания которого струилась белая вода. Утес закрывал от нас то, что находилось впереди. Здесь пигмеи остановились и снова послали барабанное сообщение. Ответ донесся с близкого расстояния. Из-за утеса сверкнули копья. Там стояла группа маленьких воинов, разглядывая нас. Они дали сигнал, и мы пошли вперед по площадке. У основания утеса проходила дорога, достаточно широкая для шестерки лошадей. Мы начали подниматься по ней, вышли на вершину, и я увидел мост Нансур и многобашенный Карак. Когда-то, тысячи или сотни тысяч лет назад, здесь со дна долины поднималась гора. Нанбу, белая река, размыла ее, оставив лишь узкую перемычку из алмазно крепкого черного камня. Нанбу опускалась, опускалась, выедая более мягкие слои, пока над ней не повис каменный мост, похожий на черную радугу. Гигантский лук из черной скалы навис над пропастью, похожий в то же время на полет стрелы. У основания моста по обе стороны располагались утесы с плоскими вершинами, также вырезанные рекой из первоначальной горы. Я стоял на плоской поверхности одного из этих утесов. На противоположной стороне реки, уходя от площадки у моста, возвышалась прямоугольная стена из того же черного камня, что и лук Нансура. Казалось, она не построена, а вырезана из камня. Она окружала примерно с половину квадратной мили. Из-за нее виднелись круглые и квадратные башни и шпили. Предчувствие, подобное тому, какое охватило меня, когда я въезжал в гобийский оазис, заставило меня вздрогнуть. Я подумал, что этот город похож на Дис, который Данте увидел в своем аду. И над ним навис ореол глубокой древности. Затем я увидел, что Нансур сломан. Между частями арки, протянувшейся с нашей стороны и со стороны черной крепости, была брешь. Как будто гигантский молот нанес здесь страшный удар, пробив самый центр. Я вспомнил о ледяном мосте, по которому валькирии провозят в Валгаллу души воинов; разбить Нансур — такое же святотатство, как разрушить тот ледяной мост. Вокруг крепости виднелись другие здания, за пределами стены их размещались сотни, — здания из серого и коричневого камня, с садами; они тянулись на многие акры. По обе стороны города расстилались плодородные поля и цветущие сады. Далеко к утесам, терявшимся в зеленой дымке, уходила широкая дорога. Мне показалось, что вдали в утесах я вижу черный вход в пещеру. — Карак! — прошептала Эвали. — И мост Нансур! О Лейф, любимый, у меня так тяжело на сердце… так тяжело! Глядя на Карак, я едва слышал ее. Вкрадчиво зашевелились воспоминания. Я отогнал их, обняв рукой Эвали. Мы прошли вперед, и я понял, почему Карак выстроен именно в этом месте. Черная крепость господствовала над обоими концами долины, а когда мост Нансур не был еще разрушен, и над местностью по эту сторону реки. Неожиданно мне лихорадочно захотелось посмотреть на Карак со сломанного конца моста. Медлительность пигмеев выводила меня из себя. Я пошел вперед. Весь гарнизон окружил меня; пигмеи перешептывались, пристально глядя мне в лицо своими желтыми глазами. Начали бить барабаны. Им ответили трубы из крепости. Еще быстрее я пошел по Нансуру. Мною овладела лихорадка. Хотелось побежать. Я нетерпеливо оттолкнул золотых пигмеев. Послышался предупреждающий голос Джима: — Спокойней, Лейф, спокойней! Я не обратил на это внимания. Вступил на сам мост. Смутно я сознавал, что он широк и что с обеих сторон его ограждают низкие парапеты. Камень вытоптан копытами лошадей и шагами марширующих людей. И если его сделала белая река, то руки людей закончили ее дело. Я достиг сломанного конца. В ста футах подо мной гладко текла белая река. Змей не было видно. Из молочного течения поднялось тусклое красноватое тело, похожее на слизняка, чудовищное. Потом еще и еще, их круглые рты были раскрыты — пиявки малого народа на страже. Между стенами черной крепости и концом моста была широкая площадь. Пустая. В стене массивные бронзовые ворота. Я чувствовал странную дрожь, горло у меня перехватывало. Я забыл Эвали, забыл Джима, забыл обо всем, глядя на эти ворота. Громко зазвучали трубы, загремели засовы, и ворота раскрылись. Выехал отряд, предводительствуемый двумя всадниками, один на большой черной лошади, другой на белой. Они проскакали по площади, спешились и вступили на мост. И стояли, глядя на меня через пятидесятифутовую брешь. На черной лошади прискакала ведьма; второй всадник — я знал это — был Тибур-Смех. Я не смотрел на ведьму и ее окружение. Я видел только Тибура. Он на голову ниже меня, но широкие плечи и толстое тело говорили о невероятной силе, большей, чем моя. Рыжие волосы гладко спускаются на плечи. Он рыжебород. Глаза ярко-голубые и морщинятся в уголках от смеха. Но это не веселый смех. На Тибуре кольчуга. Слева висит большой боевой молот. Сузившимися насмешливыми глазами он осмотрел меня с головы до ног и с ног до головы. Если я и раньше ненавидел Тибура, то теперь ненавидел несравненно больше. Я перевел взгляд на ведьму. Ее васильковые глаза впились в меня, поглощенно, удивленно, заманчиво. На ней тоже кольчуга, по которой струились ее рыжие волосы. Все остальные всадники казались мне смутным пятном. Тибур наклонился вперед. — Добро пожаловать, Двайану! — насмешливо сказал он. — Что вызвало тебя из твоего логова? Мой вызов? — Значит твой лай я слышал вчера? Хай, ты выбрал безопасное расстояние, чтобы полаять, рыжий пес! Из группы, окружавшей ведьму, послышался смех; теперь я увидел, что это все женщины, красивые и рыжеволосые, как и она сама, а с Тибуром двое высоких мужчин. Сама ведьма молчала, она упивалась моим видом, и глаза ее были задумчивы. Лицо Тибура потемнело. Один из мужчин что-то прошептал ему. Тибур обратился ко мне: — Тебя размягчили твои путешествия, Двайану? По древнему обычаю мы должны испытать тебя, прежде чем признать… великий Двайану. Будь проворен… Рука его опустилась на рукоять молота. Он бросил в меня молот. Молот устремился ко мне со скоростью пули, но мне казалось, что он летит медленно. Я даже видел, как медленно удлиняется ремень, привязывавший молот к руке Тибура. В моем мозгу продолжали открываться дверцы… древнее испытание… Хай!.. я знаю эту игру… я неподвижно ждал, как предписывал древний обычай… но мне должны были дать щит… неважно… как медленно приближается большой молот… и рука моя, мне кажется, поднимается ему навстречу так же медленно… Я поймал молот. Он весил не менее двадцати фунтов, но я поймал его точно, спокойно, без усилия, схватив за металлическую рукоятку. Хай! Мне эти уловки знакомы… дверцы открывались все стремительнее… я и другие уловки знаю… Другой рукой я перехватил ремень, привязывавший боевой молот к руке Тибура, и дернул за него. Смех застыл на лице Тибура. Он покачнулся на сломанном конце Нансура. Я услышал за собой возбужденное щебетание пигмеев… Ведьма выхватила нож и перерезала ремень. Оттолкнула Тибура от края. Меня охватил гнев… этого нет в условиях… по древнему закону только бросивший вызов и принявший его… Я взмахнул большим молотом над головой и бросил его в Тибура; он полетел со свистом, и перерезанный ремень устремился за ним. Тибур отпрыгнул, но недостаточно быстро. Молот ударил его в плечо. Скользящий удар, но Тибур упал. Теперь я рассмеялся через пропасть. Ведьма склонилась вперед, в ее взгляде изумление сменило задумчивость. Глаза ее больше не казались заманчивыми. Тибур смотрел на меня, стоя на коленях, и в лице его не было веселья. По-прежнему крошечные дверцы открывались в моем мозгу. Они не верят, что я Двайану… Хай! Я покажу им. Я достал кожаный мешочек, раскрыл его. Вынул кольцо Калкру. Поднял его. В нем отразился зеленый свет. Зеленый камень, казалось, взорвался. Черный осьминог вырос… — Я не Двайану? Посмотрите на это! Я не Двайану? Я слышал женский крик. Этот голос мне знаком. Услышал, как меня зовет мужчина. Его голос я тоже знал. Маленькие дверцы закрывались, воспоминания, вызванные ими, мелькнули в них, прежде чем они успели закрыться… Да ведь это кричит Эвали! И Джим зовет меня! Что с ними? Эвали смотрела на меня, вытянув руки. В ее карих глазах недоверие, ужас… и отвращение. И вокруг них ряд за рядом смыкались пигмеи, преграждая мне путь. Их копья и стрелы были нацелены на меня. Они свистели, как стая голодных змей, их лица исказила ненависть, глаза их не отрывались от кольца Калкру, которое я по-прежнему держал высоко поднятым. Я увидел, как эта ненависть отразилась на лице Эвали, отвращение в ее взгляде усилилось. — Эвали! — крикнул я и хотел броситься к ней… руки пигмеев, державшие копья, отошли назад для броска; стрелы задрожали на тетивах луков. — Не двигайся, Лейф! Я иду! — крикнул Джим и прыгнул ко мне. И тут же его окружили пигмеи. Он покачнулся и исчез под ними. — Эвали! — снова закричал я. Я видел, как рассеивается отвращение; выражение страшного горя появилось на ее лице. Она отдала какой-то приказ. Два десятка пигмеев, опустив копья и стрелы, бросились ко мне. Я тупо смотрел на них. Среди них я увидел Шри. Они ударили меня, как живой таран. Меня отбросило назад. Ноги мои мелькнули в воздухе… Пигмеи цеплялись мне за ноги, рвали их, как терьеры. Я перевалился через край Нансура.
КНИГА ВЕДЬМЫ
13. Карак
У меня хватило ума закрыть руками голову, и я полетел вниз ногами вперед. Этому помогло и то, что пигмеи цеплялись за ноги. Ударившись о воду, я погрузился в нее глубоко-глубоко. Существует мнение, что когда человек тонет, вся его жизнь мгновенно проносится перед его глазами, как в ускоренной киносъемке. Не знаю об этом ничего, но летел я к реке и погружался в нее быстрее, чем когда-либо в жизни. Я сразу понял, что это Эвали приказала сбросить меня с моста. И пришел в дикую ярость. Почему она не подождала и не дала мне возможности объясниться насчет кольца? Потом я вспомнил, сколько у меня было таких возможностей, и я ни одной не воспользовался. Да и пигмеи не настроены были ждать, а Эвали удержала их копья и стрелы и дала мне возможность побороться за жизнь. Потом подумал, как глупо было показывать кольцо именно в этот момент. Я не мог винить малый народ, принявший меня за посланца Калкру. Я вновь увидел горе в глазах Эвали, и гнев мой бесследно исчез. После чего мне в голову пришла вполне академическая идея, что молот Тибура объясняет легенду о Торе норвежцев и его молоте Мьеллнире, который всегда возвращался в его руку после броска; чтобы сделать это чудом, скальды опустили практичную деталь — ремень; вот еще одна связка между уйгурами или айжирами и асами; надо поговорить об этом с Джимом. И тут же я понял, что не смогу вернуться и поговорить с Джимом, потому что пигмеи определенно будут ждать меня и прогонят назад, к пиявкам, даже если я смогу добраться до их берега Нанбу. Если человек, погруженный в воду, может быть охвачен холодный потом, именно это произошло со мной при этой мысли. Я предпочту смерть от копий и стрел малого народа или даже от молота Тибура, чем перспективу попасть в эти сосущие пасти. Тут я пробил поверхность реки, стряхнул воду с глаз и увидел не далее чем в двадцати футах направляющуюся ко мне большую пиявку. Я в отчаянии огляделся. Быстрое течение унесло меня на несколько сот ярдов от моста. И несло к тому берегу, на котором расположен Карак; этот берег был в пятистах футах от меня. Я повернулся лицом к пиявке. Она приближалась медленно, будто уверенная, что я никуда не денусь. Я решил нырнуть и плыть к берегу… если в воде нет других… Я услышал предупреждающий крик. Мимо промелькнул Шри. Он поднял руку и указал на Карак. Очевидно, он советовал мне как можно быстрее плыть туда. Я совсем забыл о нем; помнил только моментальную вспышку гнева оттого, что он присоединился к нападавшим на меня. Теперь я понял, что был к нему несправедлив. Он поплыл прямо к большой пиявке и шлепнул ее по рту. Та изогнулась, уткнулась в него носом. Я не стал ждать и, насколько позволяли ботинки, быстро поплыл к берегу реки. Плавание не было приятным, вовсе нет! Повсюду виднелись скользящие красные спины. Несомненно, только Шри спас меня от них. Я плыл, а он кружил вокруг, отгоняя пиявок. Я коснулся дна и благополучно выбрался на берег. Золотой пигмей последний раз что-то крикнул мне. Но я не расслышал, что он сказал. Переводя дыхание, я видел, как он плывет в белой воде, как желтая летучая рыба, а с полдюжины красных спин пиявок следуют за ним. Я посмотрел на мост Нансур. Его конец, принадлежащий малому народу, и парапеты были заполнены глядевшими на меня пигмеями. Другой конец был пуст. Я осмотрелся. Меня закрывала тень черной стены крепости. Стена, гладкая, неприступная, вздымалась на сотню футов. Между мною и ею находилась широкая площадь, подобная той, на которую из бронзовых ворот выехали Тибур и ведьма. Площадь окружали приземистые одноэтажные каменные здания. Между ними множество маленьких цветущих деревьев. За этими домами виднелись другие, большего размера, более претенциозные, расставленные на большем расстоянии друг от друга. Неподалеку, занимая часть площади, располагался ежедневный рынок на открытом воздухе. Из домов и с рынка ко мне бежали десятки людей. Они приближались быстро, но молча, не разговаривали друг с другом, не подавали сигналов, не призывали — все внимательно смотрели на меня. Я поискал свой пистолет и выругался, вспомнив, что уже много дней не ношу его. Что-то сверкнуло у меня на руке… Кольцо Калкру; должно быть, когда пигмеи бросились на меня, я надел его на палец. Ну, что ж, кольцо привело меня сюда. Его эффект на этих людей будет не меньшим, чем на тех, кто смотрел на меня с другого конца сломанного моста. Во всяком случае это все, что у меня есть. Я повернул его камнем внутрь. Теперь они были близко, по большей части женщины, девушки и девочки. Все одеты одинаково — во что-то напоминающее рабочий халат длиной до колен, оставляющий обнаженной правую грудь. Без исключения все рыжеволосые и синеглазые, с кожей кремово-белой или тончайшего розового оттенка, все высокие, сильные и прекрасно сложенные. Похожи на жен и матерей викингов, пришедших на берег, чтобы встретить возвращающийся из морского похода драккар. А дети — маленькие синеглазые ангелы. Я заметил и мужчин; их было немного, не более десятка. И у них рыжие головы и голубые глаза. У старших короткие бороды, младшие гладко выбриты. Они не так высоки, как большинство женщин. Ни одна женщина, ни один мужчина не выше моего подбородка. И у них не было оружия. Они остановились в нескольких ярдах от меня, молча смотрели. Глаза их устремились к моим светлым волосам и задержались здесь. На краю толпы началось движение. С десяток женщин пробились сквозь нее и направились ко мне. На них были короткие юбки, на поясах мечи, а в руках копья; в отличие от остальных женщин, у этих груди закрыты. Они окружили меня, подняв копья, так что из острия почти касались меня. Их яркоглазая предводительница смела, больше солдат, чем женщина. — Желтоволосый незнакомец! Люка сегодня улыбнулась нам! Стоявшая рядом с ней женщина наклонилась к ней и прошептала, но я услышал: — Тибур даст нам за него больше Люр. Предводительница покачала головой. — Слишком опасно. Наградой Люр будем наслаждаться дольше. Она откровенно осмотрела меня. — Стыдно зря потратить его, — сказала она. — Люр не потратит, — цинично ответила другая. Предводительница подтолкнула меня копьем и указала на крепость. — Вперед, Желтые Волосы! — сказала она. — Жаль, что ты меня не понимаешь. Я тебе кое-что рассказала бы для твоей пользы — за награду, разумеется. Она улыбнулась и снова подтолкнула меня. Мне захотелось улыбнуться ей в ответ; она походила на прожженного сержанта, с которым я встречался на войне. Вместо этого я строго сказал: — Призови ко мне Люр с достойным эскортом, о женщина, чей язык соперничает с барабанной палочкой. Она смотрела на меня, раскрыв рот, выронив копье. Очевидно, когда прозвучал сигнал тревоги, ей не сказали, что я владею уйгурским. — Немедленно призови Люр, — повторил я. — Или, клянусь Калкру… Я не закончил. Повернул кольцо и высоко поднял его. В толпе послышались вопли ужаса. Все опустились на колени, низко склонив головы. Лицо женщины-солдата побледнело, она и все остальные упали передо мной. Послышался скрежет засовов. В стене крепости недалеко от нас открылся вход. Из него, как будто в ответ на мой призыв, выехала женщина-ведьма, рядом с ней Тибур, а за ними небольшой отряд, сопровождавший их на мосту. Они остановились, глядя на коленопреклоненную толпу. Затем Тибур пришпорил свою лошадь; ведьма протянула руку и остановила его; они о чем-то заговорили. Женщина-солдат коснулась моей ноги. — Позволь нам встать, господин. — Я кивнул, она вскочила и что-то сказала своим подчиненным. Те окружили меня. В глазах предводителя я увидел страх и мольбу. Я улыбнулся ей. — Не бойся. Я ничего не слышал, — прошептал я. — Тогда Дара твой друг, — пробормотала она. — Следи за левой рукой Тибура, когда будешь сражаться с ним. Маленький отряд пришел в движение; всадники медленно приближались ко мне. Когда они приблизились, я заметил, что лицо Тибура мрачно и он с трудом сдерживает свой гнев. Тибур остановил лошадь на краю толпы. Гнев его обратился на нее, я на мгновение подумал, что он начнет топтать людей. — Встать, свиньи! — взревел он. — С каких это пор Карак преклоняется перед кем-то, помимо своих правителей? Все встали с испуганными лицами, расступились, и всадники проехали через толпу. Я посмотрел на женщину-ведьму и на Тибура-Смех. Тибур яростно смотрел на меня сверху вниз, рука его гладила рукоять молота; двое высоких мужчин, сопровождавших его на мосту, приблизились ко мне с мечами в руках. Ведьма молчала, изучая меня с какой-то циничной беспристрастностью, которая показалась мне тревожащей; очевидно, она еще не приняла решения относительно меня и ждала с моей стороны слова или поступка, чтобы принять его. Ситуация мне не понравилась. Если дело дойдет до схватки, у меня будет мало шансов против трех всадников, не говоря уже о женщинах. Я у меня было чувство, что женщина-ведьма не хочет моей немедленной смерти, но, возможно, она опоздает прийти мне на помощь; к тому же у меня не было ни малейшего желания быть избитым, связанным и приведенным в Карак в качестве пленника. К тому же я начал ощущать гнев и негодование против этих людей, которые осмелились встать на моем пути, осмелились преграждать мне доступ к тому, что я захотел сделать своим; во мне пробуждалось высокомерие, оживали воспоминания, которые начали появляться, как только я извлек кольцо Калкру… Что ж, эти воспоминания послужили мне на мосту Нансур, когда Тибур метнул в меня молот… что сказал мне Джим?… чтобы я не сдерживал Двайану, когда встречусь с ведьмой… что ж, выпустим его… это единственный выход… смелый выход… старый выход… Как будто я услышал чьи-то слова. Я широко распахнул мозг навстречу воспоминаниям… навстречу Двайану. Я испытал звенящий шок, и какая-то волна поглотила того, кто был Лейфом Ленгдоном. Я сумел не дать ей поглотить меня полностью, сохранить свою личность на пороге сознания. Волна отступила, но угрюмо и не далеко. Неважно, пока она не закрыла меня с головой… Я растолкал солдат и направился к Тибуру. Происшедшее каким-то образом отразилось на моем лице, изменило меня. В глазах ведьмы появилось сомнение; рука Тибура отпустила рукоять молота, он слегка попятил свою лошадь. Я заговорил, и моим собственным ушам мой гневный голос показался незнакомым. — Где моя лошадь? Где мое оружие? Где мои знамена и копьеносцы? Почему молчат барабаны и трубы? Так ли надо приветствовать Двайану, возвращающегося в город айжиров? Клянусь Зардой, я не потерплю этого! Теперь заговорила ведьма; в ее чистом, глубоком, звонком голосе звучала насмешка, и я понял, что преимущество, которое я имел перед ней, каким-то образом исчезло. — Сдержи свою руку, Тибур. Я буду говорить с… Двайану. А ты — если ты действительно Двайану — вряд ли должен винить нас. Очень давно человеческие глаза не видели тебя, а в этой земле вообще никогда. Как мы могли узнать тебя? А когда мы впервые увидели тебя, маленькие желтые псы отогнали тебя от нас. И если мы не приняли тебя, как вправе ожидать Двайану от города айжиров, то столь же справедливо, что никогда раньше ни один город айжиров не посещался Двайану таким образом. Что ж, справедливо, прекрасно выражено, ясно и все подобное. Та часть меня, которая была Лейфом Ленгдоном и отчаянно боролась, чтобы обрести контроль, признала это. Но мой беспричинный гнев рос. Я поднял кольцо Калкру. — Вы можете не узнать Двайану, но должны узнать… это! — Я знаю, что оно у тебя, — спокойно ответила она. — Но не знаю, как оно оказалось у тебя. Само по себе оно ничего не доказывает. Тибур с улыбкой наклонился вперед. — Расскажи нам, откуда ты пришел. Может, ты выкидыш Сирка? В толпе послышался ропот. Ведьма, нахмурившись, тоже склонилась вперед. Я слышал, как она полупрезрительно сказала: — Твоя сила никогда не заключалась в голове, Тибур! Тем не менее я ответил ему. — Я пришел, — холодно сказал я, — с родины айжиров. Из земли, которая отрыгнула твоих дрожащих предков, рыжая жаба! Я бросил взгляд на ведьму. Мой ответ задел и ее. Я видел, как напряглось ее тело, васильковые глаза расширились и потемнели, красные губы раскрылись; ее женщины склонились друг к другу, перешептываясь; в толпе послышался ропот. — Ты лжешь! — взревел Тибур. — На родине нет жизни. И нигде нет, только здесь. Калкру высосал жизнь из всей земли. Только здесь она сохранилась. Ты лжешь! Рука его опустилась на рукоять молота. Неожиданно все вокруг покраснело; я видел мир сквозь гневный красный туман. Лошадь ближайшего всадника была благородным животным. Я приметил ее — чалый жеребец, такой же сильный, как тот, что нес меня по оазису в Гоби. Я вытянул руку, схватил лошадь за морду и заставил опуститься на колени. Захваченный врасплох, ее всадник перелетел через голову лошади и упал у моих ног. Но тут же вскочил на ноги, как кошка, и выхватил меч. Я перехватил его руку, прежде чем он смог ударить, и взмахнул кулаком левой руки. Кулак ударил его в челюсть; голова его дернулась назад, и он упал. Я подхватил его меч и вскочил на спину лошади. Прежде чем Тибур смог пошевелиться, острие моего меча было у его горла. — Стой! Я верю, что ты Двайану! Сдержи свою руку! Это голос ведьмы, негромкий, почти шепот. Я рассмеялся. Плотнее прижал меч к горлу Тибура. — Я Двайану? Или выкидыш Сирка? — Ты Двайану! — простонал он. Я снова рассмеялся. — Я Двайану! Веди меня в Карак, чтобы загладить свою наглость, Тибур! И я отвел меч в сторону. Да, я отвел его в сторону — клянусь всеми богами, жившими в моем смешавшемся сознании, лучше бы я проткнул ему горло! Но я не сделал этого, и возможность была упущена. Я заговорил в женщиной-ведьмой: — Поезжай справа от меня, а Тибур пусть едет впереди. Человек, которого я ударил, неуверенно встал. Люр что-то сказала одной из своих женщин. Та слезла со своей лошади, а другие спутники Тибура помогли спешенному сесть на нее. Мы проехали по площади и сквозь ворота в черную крепость.
14. В черной крепости
Запоры ворот загремели за нами. Проход в стене, широкий и длинный, заполнен выстроившимися в ряд солдатами, в основном женщинами. Они смотрели на меня; дисциплина у них была отличная, они молчали и приветствовали нас только поднятием своих копий. Из стены мы выехали на огромную площадь. граничащую с высоким черным ограждением крепости. Площадь вымощена камнем и пуста; на ней не менее полутысячи солдат, тоже в основном женщин; все с сильными телами, голубоглазые и рыжеволосые. Длина площади не менее четверти мили. Против нас группа людей на лошадях, того же класса, что и те, что ехали со мной. Они располагались вблизи портала, к которому направились и мы. Примерно на трети пути мы миновали круглую яму в сто футов шириной, в которой пузырилась и кипела вода; от нее поднимался пар. Я решил, что тут горячий источник; чувствовалось его дыхание. Вокруг стройные каменные столбы, с каждого выдавалась перекладина, как на виселице, с концов перекладины свисали цепи. Очень неприятное и зловещее место. Мне оно совсем не понравилось. Должно быть, это проявилось у меня на лице, потому что Тибур вежливо объяснил: — Это наш кухонный котел. — Нелегко оттуда доставать похлебку, — заметил я. Думал, что он шутит. — Да, но то, что здесь варится, мы не едим, — ответил он еще более вежливо. И расхохотался. Когда я понял, мне стало тошно. Цепи должны были держать людей, подвергаемых пытке; их медленно опускали в этот дьявольский котел. Но я только равнодушно кивнул, и мы проехали мимо. Ведьма не обращала на нас внимания склонив красно-рыжую голову, она глубоко погрузилась в размышления; время от времени я ловил на себе ее взгляд. Она сделала знак ожидавшим — двум десяткам рыжеволосых девушек и женщин и полудюжине мужчин; они спешились. Ведьма склонилась ко мне и прошептала: — Поверни кольцо, чтобы камень не был виден. Я повиновался, не задавая вопросов. Мы подъехали к порталу. Я рассматривал ожидавших нас. На женщинах верхняя одежда, оставлявшая обнаженной правую грудь; мешковатые брюки, перевязанные у лодыжек; пояса, на которых висели по два меча, один длинный, другой короткий. Мужчины в свободных рубашках и таких же мешковатых брюках; на месте мечей с их поясов свисали молоты, как у Тибура, но поменьше. Женщины, встретившие меня на берегу реки, были красивы, но эти гораздо привлекательнее, в них чувствовалась порода. Они так же откровенно и оценивающе смотрели на меня, как та женщина-солдат и ее подчиненные; глаза их задержались на моих светлых волосах, как очарованные. На всех лицах виднелась та же скрытая жестокость, что и на лице Люр. — Здесь мы спешимся, — сказала ведьма, — и пройдем туда, где сможем лучше познакомиться. Я кивнул, равнодушно, как и раньше. Мне показалось, что я поступаю глупо, так доверяясь окружающим; но я думал также и о том, что у меня не было другого выхода, разве что отправиться в Сирк, а я не знал, где он расположен; и если бы я попытался это сделать, то был бы преследуемым преступником по эту сторону белой Нанбу, каким стал по ту сторону. Та часть меня, которая была Лейфом Ленгдоном, думала так, но другая часть, та, что была Двайану, вообще об этом не думала. Она раздувала пламя безжалостности и высокомерия, которые пока сохранили мне жизнь; шептала, что среди айжиров ни у кого нет права расспрашивать меня или преграждать мне путь, с увеличивающейся настойчивостью нашептывала, что меня должны были встретить развернутыми знаменами, боем барабанов и звуками труб. Часть, остававшаяся Лейфом Ленгдоном, отвечала, что ничего не остается, как продолжать в прежнем духе, что это единственная возможность продолжать игру. А та, другая часть, древние воспоминания, проснувшийся Двайану, постгипнотическое внушение старого жреца, — нетерпеливо спрашивала, почему я сомневаюсь, утверждала, что это не игра — это правда! И что она больше не будет выносить наглость этих выродившихся собак великой расы — и не будет выносить мою трусость! Итак я спустился с лошади и стоял, высокомерно глядя вниз на лица встречавших меня людей, — буквально глядя вниз, потому что я был на четыре дюйма выше самого высокого из них. Люр тронула меня за руку. Между ней и Тибуром я прошел в портал черной крепости. Мы прошли через огромный вестибюль, тускло освещавшийся сквозь узкие бойницы, расположенные высоко вверху. Прошли мимо молча салютовавших женщин-солдат; миновали много поперечных коридоров. И наконец подошли к большой охранявшейся двери, здесь Люр и Тибур отпустили эскорт. Дверь медленно распахнулась; мы вошли, и она так же медленно закрылась за нами. Первое, что я увидел, был Кракен. Он растянулся на одной стене комнаты, в которую мы вошли. Сердце мое дрогнуло, и на мгновение я почувствовал почти непреодолимое желание повернуться и убежать. Потом я понял, что Кракен выложен мозаикой на стене из черного камня. Вернее, он находился на желтом мозаичном поле, а сам Черный Осьминог был вырублен из черного камня стены. На меня смотрели его непостижимые глаза с той злобой, которую так мастерски передали золотые пигмеи в символе в своем храме. Что-то шевельнулось под Кракеном. Из-под черного капюшона на меня смотрело лицо. Вначале я решил, что это сам старый жрец из Гоби, потом я увидел, что этот человек не так стар, глаза у него чистого синего цвета, а лицо не покрыто морщинами; оно холодное, белое и невыразительное, как будто вырезанное из мрамора. Я вспомнил, что говорила мне Эвали, и понял, что это Йодин, верховный жрец. Он сидел на похожем на трон стуле за длинным низким столом, на котором лежали свитки, похожие на папирусные свитки древних египтян, и цилиндры тусклого красного металла, по-видимому, контейнеры для этих свитков. По обе стороны от него стояли аналогичные троны. Он поднял тонкую белую руку и поманил меня. — Подойди ко мне, ты, который называет себя Двайану. Голос холодный и бесстрастный, как лицо, но вежливый. Мне опять показалось, что я слышу голос старого жреца. Я пошел к нему, скорее как потакающий просьбе низшего, чем отвечающий на вызов равного. И именно так я и чувствовал. Он, должно быть, прочел мою мысль, потому что я увидел на его лице тень гнева. Глаза его внимательно изучали меня. — Мне сказали, что у тебя есть некое кольцо. С тем же чувством потакания низшему я повернул камень кольца и протянул к нему руку. Он посмотрел на кольцо, и его белое лицо утратило свою неподвижность. Он сунул руку за пояс, извлек оттуда ящичек, а из него кольцо, и положил его рядом с моим. Я увидел, что оно не такое большое и оправа несколько иная. Он рассматривал кольца, потом со свистящим дыханием схватил меня за руки и начал рассматривать ладони. Отпустил руки и опустился в свое кресло. — Зачем ты пришел к нам? — спросил он. Меня охватил приступ раздражения. — Можно ли допрашивать Двайану, как простого посыльного? — спросил я хриплым голосом. Я подошел к столу и опустился в одно из кресел. — Пусть принесут вина, я хочу пить. Пока не утолю жажду, говорить не буду. Слабая краска показалась на белом лице; Тибур зарычал. Он смотрел на меня с покрасневшим лицом; ведьма встала, глядя на меня, во взгляде ее не было насмешки, задумчивый интерес усилился. Мне пришло в голову, что я захватил трон Тибура; я рассмеялся. — Берегись, Тибур, — сказал я. — Может, это дурной знак. Верховный жрец спокойно прервал меня: — Если он действительно Двайану, Тибур, никакие почести не слишком велики для него. Проследи, чтобы принесли вина. Взгляд, который Тибур бросил на жреца, казалось, содержит в себе вопрос. Возможно, ведьма подумала о том же. Она быстро сказала: — Я прослежу за этим. Она подошла к двери, открыла ее и отдала приказ стражникам. Подождала; мы молчали, как будто ожидали чего-то. Я думал о многом. Думал, например, о том, что мне не нравится взгляд, которым обменялись жрец и Тибур и что хотя я могу доверять Люр, все же она должна будет первой выпить принесенное вино. Думал о том, что расскажу им совсем немного о том, как попал в Землю Теней. Думал о Джиме — и думал об Эвали. Сердце у меня так заболело, что я ощутил одиночество ночного кошмара; и тут я почувствовал яростное презрение со стороны той, другой, части меня, почувствовал, как она разрывает наложенные на нее путы. И тут принесли вино. Ведьма принесла к столу кувшин и кубок и поставила их на стол передо мной. Налила желтое вино в кубок и протянула его мне. Я улыбнулся ей. — Приносящий вино пьет первым, — сказал я. — Так было в старые дни, Люр. И мне дороги старые обычаи. Тибур прикусил губу и дернул себя за бороду, но Люр подняла кубок и осушила его. Я снова наполнил его и протянул Тибуру. У меня было злобное желание подразнить Кузнеца. — А ты бы что сделал, Тибур, если бы принес вино? — спросил я и выпил. Хорошее вино! Оно зазвенело во мне, и я почувствовал, как моя беззаботность усилилась, как пришпоренная. Я снова наполнил кубок и осушил его. — Иди сюда, Люр, посиди с нами, — сказал я. — Тибур, присоединяйся. Ведьма спокойно заняла третий трон. Тибур разглядывал меня, и я заметил в его взгляде ту же задумчивость, что видел и во взгляде Люр. Мне пришло в голову, что все они заняты своими мыслями и что Тибур по крайней мере обеспокоен. Когда он ответил, в его голосе не было прежней язвительности. — Хорошо, Двайану, — сказал он и, подняв скамью, принес ее к столу и сел так, чтобы видеть наши лица. — Отвечаю на твой вопрос, — я повернулся к Йодину. — Я пришел сюда по призыву Калкру. — Странно, — ответил он, — что я, верховный жрец Калкру, ничего не знаю об этом призыве. — Я не знаю причины этого, — спокойно сказал я. — Спроси у того, кому служишь. Он задумался. — Двайану жил очень давно, — сказал он наконец. — До… — До святотатства. Верно. — Я выпил еще. — Однако… я здесь. Впервые голос его утратил устойчивость. — Ты… ты знаешь о святотатстве! — Пальцы его сжали мое запястье. — Человек, кто ты, откуда ты пришел? — Я пришел с родины, — ответил я. Пальцы его сжали мою руку еще сильнее. Он повторил слова Тибура: — Родина мертвая земля. Гнев Калкру уничтожил там жизнь. Нигде нет жизни, только здесь, где Калкру слышит своих слуг и допускает жизнь. Он сам не верил в это; я мог судить по беглому взгляду, которым он обменялся с ведьмой и Кузнецом. И они не верили. — Родина — высохшие кости, — сказал я. — Ее города покрыты грудами песка. Ее реки безводны, и меж их берегов течет лишь песок, перегоняемый жарким ветром. Но на родине по-прежнему есть жизнь, и хотя древняя кровь утрачивается, она все еще правит там. И в том месте, откуда я пришел, по-прежнему поклоняются Калкру и боятся его, а в других местах земля обильно рождает жизнь, как делала это всегда. Я налил себе еще вина. Хорошее вино. Я чувствовал, что становлюсь все беззаботнее… Двайану во мне все сильнее… что ж, я попал в тяжелое положение, но Двайану выберется из него. — Покажи мне, откуда ты пришел, — быстро заговорил верховный жрец. Он дал мне восковую пластинку и стилос. Я начертил линию Северной Азии и Аляску. Указал Гоби и приблизительное расположение оазиса, а также положение Земли Теней. Тибур встал, чтобы посмотреть; три головы склонились над моим чертежом. Жрец порылся среди свитков, вытащил один и сравнил с табличкой. Похоже на карту, но северная береговая линия изображена неверно. На карте линия, которая, по-видимому, обозначает маршрут. Вдоль всего маршрута какие-то символы. Не запись ли это пути старой расы, каким она следовала из Гоби? Наконец они подняли головы; в глазах жреца беспокойство, у Тибура неясные тревожные предчувствия, и лишь глаза ведьмы ясные и спокойные — как будто она приняла решение и теперь точно знала, что ей делать. — Это родина! — сказал жрец. — А черноволосый незнакомец, который сопровождал тебя и смотрел, как ты падаешь с моста Нансур, он тоже оттуда? В вопросе была зловещая угроза. Мне все меньше и меньше нравился Йодин. — Нет, — ответил я. — Он пришел из старой земли рррллия. Это заставило жреца вскочить, Тибур недоверчиво выругался, и даже спокойствие Люр было нарушено. — Другая земля — рррллия! Но этого не может быть! — прошептал Йодин. — Тем не менее это так, — сказал я. Он сел и на некоторое время задумался. — Он твой друг? — Мой брат по древнему кровному обряду его народа. — Он присоединится к тебе здесь? — Да, если я пошлю за ним. Но я не пошлю. Пока еще нет. Ему хорошо там, где он сейчас. В тот же момент я пожалел о том, что сказал. Почему — не знаю. Но я многое бы отдал, чтобы вернуть эти слова. Снова жрец замолк. — Странные вещи ты нам рассказываешь, — сказал он наконец. — И ты пришел необычно… для Двайану. Не возражаешь, если мы немного посовещаемся? Я посмотрел на кувшин. Он был еще наполовину полон. Вино мне понравилось — особенно потому, что отгоняло воспоминания об Эвали. — Говорите, сколько хотите, — благосклонно согласился я. Они отошли в угол. Я налил себе еще порцию, и еще. Забыл об Эвали. Начал чувствовать, что хорошо провожу время. Хорошо бы Джим был со мной, но все равно я сожалел, что сказал, что он придет, если я пошлю за ним. Потом я выпил еще и забыл и о Джиме. Да, я прекрасно проводил время. Нужно еще посвободнее сделать Двайану. Тогда будет еще лучше… спать хочется… что сказал бы старый Барр на моем месте… Я внезапно пришел в себя. Рядом со мной стоял верховный жрец. Он что-то говорил. У меня сложилось представление, что он говорит уже некоторое время, но о чем, я не знал. Мне также показалось, что кто-то пытался разогнуть мой палец. Но он был согнут так крепко, что камень кольца оцарапал ладонь. Воздействие вина быстро кончалось. Я осмотрелся. Тибура и ведьмы не было. Почему я не заметил, как они ушли? Уснул? Я посмотрел в лицо Йодина. На нем было выражение напряжения и замешательства; однако под ним я ощущал глубокое удовлетворение. Странное сочетание выражений. Мне оно не понравилось. — Они ушли, чтобы подготовить тебе достойный прием, — сказал Йодин. — Помещение и соответствующую одежду. Я встал и остановился рядом с ним. — Как Двайану? — Пока еще нет, — вежливо ответил он. — Как почетному гостю. Дело слишком серьезное, чтобы решить без еще одного доказательства. — Что за доказательство? Он некоторое время смотрел на меня, не отвечая. — Калкру должен принять твою молитву! По моему телу пробежала дрожь. Он внимательно следил за мной и, должно быть, заметил. — Умерь свое нетерпение, — в голосе его звучал холодный мед. — Ждать тебе недолго. До того времени я, вероятно, не увижусь с тобой. Тем временем — у меня к тебе есть просьба. — Какая? — Не носи открыто кольцо Калкру, кроме тех случаев, конечно, когда сочтешь это необходимым. О том же просила меня и Люр. Но ведь десятки людей видели у меня кольцо; еще больше слышали о нем. Он прочел мою мысль. — Это святая вещь, — сказал он. — Я не знал, что существует другое такое, пока мне не рассказали, как ты показал его на Нансуре. Не надо опошлять святые предметы. Я не ношу свое… кроме необходимых случаев. Я подумал о том, какие случаи он считает необходимыми. И хотел бы я знать, в каких случаях оно будет полезно мне. Глаза его были устремлены на меня, и я надеялся, что на этот раз он не догадался о моих мыслях. — Не вижу причины для отказа в твоей просьбе, — сказал я. И, сняв кольцо с пальца, положил его в карман. — Я был уверен, что ты не откажешь, — сказал жрец. Негромко прозвенел гонг. Йодин нажал на одно место сбоку стола, и дверь раскрылась. Трое юношей, одетые в обычную одежду айжиров, вошли и встали в ожидании. — Это твои слуги. Они отведут тебя в твои помещения, — сказал Йодин. Он склонил голову. Я пошел за тремя молодыми айжирами. У дверей стояла охрана из десяти женщин во главе с моей знакомой — молодым офицером со смелым взглядом. Все энергично отсалютовали. Мы прошли по коридору и свернули в другой. Я оглянулся. Как раз вовремя, чтобы увидеть скользнувшую в комнату жреца ведьму. Мы подошли к другой охраняемой двери. Ее распахнули, и я прошел туда в сопровождении трех юношей. — Мы тоже твои слуги, господин, — сказала девушка-офицер со смелым взглядом. — Если захочешь чего-нибудь, позови. Мы будем за дверью. Она дала мне маленький каменный гонг, отдала салют и вышла. Комната казалась странно знакомой. Потом я понял, что она весьма напоминала ту, в которую меня отвели в оазисе. Те же самые необычно изогнутые сидения, металлические стулья, тот же самый широкий низкий диван, стены увешаны коврами, ковер и на полу. Только тут ни следа упадка. Правда, некоторые вышитые ковры выцвели от времени, но все же сохранили свою изысканность; на них ни заплат, ни других следов починки. Другие, прекрасно вытканные, казалось, только что со станка. На всех шпалерах те же картины войны и охоты, как и на древних гобеленах в оазисе; на более новых шпалерах изображались сцены жизни под миражом. На одном виден был не сломанный еще мост Нансур, на другом битва с пигмеями, на третьем — фантастически прекрасный лес, и сквозь деревья пробираются белые волки Люр. Что-то показалось мне несоответствующим. Я смотрел и смотрел, пока не понял: в комнате оазиса находилось оружие Двайану: его мечи и копья, шлем и щит; здесь оружия не было. Я вспомнил, что принес с собой в комнату жреца меч, отобранный у спутника Тибура. Теперь его у меня не было. Во мне нарастало беспокойство. Я повернулся к трем молодым айжирам и начал расстегивать рубашку. Они молча подошли и стали раздевать меня. Неожиданно я ощутил страшную жажду. — Принеси воды, — сказал я одному из юношей. Он не обратил на это ни малейшего внимания. — Принеси мне воды, — повторил я, думая, что он не расслышал. — Я хочу пить. Он продолжал спокойно снимать с меня ботинки. Я тронул его за плечо. — Принеси воды, — настойчиво сказал я. Он улыбнулся, открыл рот и показал. У него не было языка. Он показал на уши. Я понял: он говорит мне, что он глухой и немой. Я показал на двух его товарищей. Он кивнул. Мое беспокойство усилилось. Таков ли обычай правителей Карака? Подготовлены ли эти трое специально для молчаливой службы, чтобы не слышать особых гостей? Гостей — или пленников? Я ударил пальцем в гонг. Дверь немедленно открылась, вошла девушка-офицер. — Я хочу пить, — сказал я. — Принеси воды. Вместо ответа она пересекла комнату и откинула один из занавесей. За ним находился широкий глубокий альков. В полу небольшой бассейн, в котором текла чистая вода, рядом раковина из порфира, из нее бил небольшой фонтан. Она взяла из ниши кубок, наполнила его из фонтана и протянула мне. Вода была холодная, она слегка сверкала. — Еще что-нибудь, господин? — спросила она. Я покачал головой, и она вышла. Я вернулся к услугам трех глухонемых. Они сняли с меня всю одежду, смазали тело каким-то легким летучим маслом и принялись массировать. Пока они занимались этим, мой мозг активно работал. Прежде всего больное место на ладони напоминало о том, что кто-то пытался снять у меня с пальца кольцо. Во-вторых, я был уверен, что перед пробуждением, прежде чем я пришел в себя от вина, бледнолицый жрец говорил, говорил, говорил со мной, расспрашивал, пытался проникнуть в мой отуманенный мозг. И в-третьих, я утратил всю свою беспечность, которая привела меня сюда; теперь я в сущности почти целиком был Лейф Ленгдон и очень немного — Двайану. О чем же говорил жрец, о чем спрашивал? И что я ответил? Я вырвался из рук массажистов, подбежал к своим брюкам и заглянул в пояс. Кольцо на месте. Я поискал кожаный мешочек. Он исчез. Я позвонил в гонг. Отозвалась женщина-офицер. Я стоял перед ней совершенно нагой, но не видел в ней женщину. — Послушай, — сказал я. — Принеси мне вина. И прочный, хорошо закрывающийся ящичек, чтобы в него вошло кольцо. И прочную цепь, чтобы я мог подвесить ящичек на шею. Понятно? — Будет сделано немедленно, господин, — ответила она. И скоро вернулась. Поставила кувшин и сунула руку под одежду. Достала ящичек, подвешенный на металлической цепи. Она раскрыла его. — Подойдет, господин? Я отвернулся от нее и положил в ящичек кольцо Калкру. Оно прекрасно вошло. — Очень хорошо, — сказал я, — но мне нечего дать тебе взамен. Она рассмеялась. — В твоем распоряжении есть достаточная награда, господин, — вовсе не двусмысленно сказала она и вышла. Я повесил ящичек на шею. Налил себе. Потом еще. Вернулся к массажистам, чувствуя себя лучше. Пока они купали меня, я пил, и когда они стригли и брили, тоже пил. И чем больше я пил, тем все больше оживал Двайану, гневный и негодующий. Мое неудовольствие Йодином росло. И не уменьшилось, когда трое одели меня. Сначала они одели на меня шелковое белье, потом роскошную куртку, желтую, прошитую металлическими синими нитями; мои длинные ноги покрыли мешковатые брюки из того же материала; вокруг талии застегнули широкий, усаженный жемчугом пояс, на ноги одели сандалии из мягкой золотистой кожи. Побрили меня, укоротили волосы, причесали и пригладили их. К тому времени, когда они кончили, кончилось и вино. Я был слегка пьян, хотел еще выпить и был не в настроении позволять играть с собой. Позвонил. Мне нужно еще вино, и я хочу знать, когда, где и как я буду есть. Дверь открылась, но вошла не девушка-офицер. Вошла ведьма.
15. Озеро Призраков
Люр остановилась; раскрыв красные губы, рассматривала меня. Очевидно, ее поразила перемена, вызванная айжирской одеждой и уходом глухонемых, — перемена в оборванном мокром человеке, недавно выбравшемся из реки на берег. Глаза ее сверкнули, щеки порозовели. Она подошла ближе. — Двайану, ты пойдешь со мной? Я посмотрел на нее и рассмеялся. — Почему бы и нет, Люр? Но с другой стороны — зачем? Она прошептала: — Ты в опасности, все равно, Двайану ты или нет. Я убедила Йодина оставить тебя со мной, пока ты не пойдешь в храм. Со мной ты будешь в безопасности — до того времени. — А почему ты делаешь это для меня, Люр? Она не ответила, только положила руку мне на плечо и посмотрела своими синими глазами; и хотя здравый смысл говорил мне, что есть другие причины ее заботливости, кроме неожиданно вспыхнувшей страсти, все же это прикосновение и взгляд заставили кровь быстрее бежать в жилах, и мне было трудно справиться с голосом и заговорить. — Я пойду с тобой, Люр. Она подошла к двери и открыла ее. — Овадра, плащ и шапку. — Она вернулась ко мне с черным плащом, который набросила мне на плечи и закрепила у шеи; натянула мне на голову шапку, плотно прилегающую и напоминавшую фригийскую, и спрятала под нее выступавшие волосы. Если не считать роста, я теперь был неотличим от айжиров Карака. — Нужно торопиться, Двайану. — Я готов. Подожди… Я подошел к своей старой одежде и свернул ее вместе с ботинками. В конце концов… они могут мне понадобиться. Ведьма ничего не сказала, открыла дверь, и мы вышли. В коридоре ждали офицер и ее подчиненные, а также еще с полдюжины женщин Люр. Все они были очень красивы. Потом я заметил, что на всех были кольчуги и у всех, помимо двух мечей, еще метательные молоты. И у Люр тоже. Очевидно, они готовились к неожиданностям, либо с моей стороны, либо с другой. Как бы то ни было, мне это не понравилось. — Дай мне твой меч, — резко сказал я офицеру. Она заколебалась. — Отдай ему, — сказала Люр. Я взвесил оружие в руке: не такое тяжелое, как мне хотелось бы, но все же это меч. Я сунул его за пояс, зажал под левой рукой сверток с одеждой. Мы пошли по коридору, оставив у дверей охрану. Прошли мы около ста ярдов и оказались в маленькой пустой комнате. Никто нам не встретился. Люр облегченно передохнула, подошла к стене; отодвинулась каменная плита, открыв проход. Мы вошли в него, плита за нами закрылась, оставив нас в темноте. Сверкнула искра, не знаю чем порожденная, и проход осветили два факела. Они горели чистым ровным серебряным пламенем. Женщины с факелами пошли впереди. Через некоторое время мы подошли к концу коридора, факелы погасили, еще одна плита скользнула в сторону, и мы вышли. Я услышал шепот, и когда зрение адаптировалось, увидел, что мы находимся у основания одной из стен черной крепости, рядом еще с полдюжины женщин Люр с лошадьми. Одна из них подвела ко мне большого серого жеребца. — Садись и поезжай рядом со мной, — сказала Люр. Я прикрепил сверток к луке высокого седла и сел на серого. Мы молча двинулись. В земле под миражом никогда не бывает совсем темно; всегда есть слабое зеленоватое свечение, но сегодня ночь была светлее обычного. Я думал, не полная ли луна светит над долиной. И далеко ли нам ехать? Я не был так пьян, как тогда, когда Люр пришла ко мне, но в каком-то смысле я был еще пьянее. У меня было легкое приятное ощущение головокружения и полного освобождения от ответственности. Я хотел, чтобы так продолжалось и дальше. Я надеялся, что там, куда меня отвезет Люр, достаточно вина. Мне хотелось выпить прямо сейчас. Мы быстро ехали по городу. Широкая улица хорошо вымощена. В домах горели огни, в садах люди поют, играют барабаны и трубы. Черная цитадель, возможно, и зловеща, но она не отбрасывала тени на жителей Карака. Так я тогда думал. Мы выехали из города и двинулись по широкой дороге между двумя стенами растительности. Светящиеся мотыльки летали вокруг нас, как волшебные самолетики; на мгновение я ощутил укол памяти, передо мной всплыло лицо Эвали. Но не продержалось и секунды. Серый шел ровно, и я запел старую киргизскую песню о юноше, который ночью едет к своей девушке, и что его ждет там, куда он едет. Люр рассмеялась и зажала мне рот рукой. — Тише, Двайану. Опасность еще не миновала. Тогда я понял, что пою не на киргизском, а на уйгурском. Вероятно, киргизы заимствовали эту песню у уйгуров. И тут мне пришло в голову, что я никогда не слышал уйгурских песен. Я удивился, но это удивление продержалось не дольше лица Эвали. Время от времени мелькала белая река. Потом мы выехали на длинную полосу, где дорога так сузилась, что мы ехали цепочкой между покрытыми зеленью утесами. Когда мы выехали из них, дорога разделилась. Одна дорога шла направо, другая резко сворачивала налево. Мы проехали по второй дороге три или четыре мили, вероятно, через самую середину странного леса. Далеко над головами расстилали свои ветви большие деревья; в бледном свете виднелись многочисленные цветы, чешуйчатые стволы напоминали стоящих на страже воинов. А тяжелые ароматы, странно оживляющие испарения были сильны, сильны. Лес ритмично дышал ими, как будто это был пульс его пьяного от жизни сердца. Наконец мы пришли к концу дороги и увидели озеро Призраков. Нет во всем мире, я думаю, другого места с такой захватывающей дух, неземной красотой, как это озеро под миражом, на котором ведьма Люр устроила свой дом. И если бы она не была ведьмой перед тем, как поселиться здесь, озеро превратило бы ее в ведьму. По форме оно напоминало головку стрелы, в длину около мили. Окружено низкими холмами, поросшими древовидными папоротниками. Перистые кроны укрывали холмы, будто это груди гигантских райских птиц; выбрасывались с них, как фонтаны; парили над ними на зеленоватых крыльях. Вода бледно-изумрудного цвета и сверкала, как изумруд, безмятежная, спокойная. Но под этой спокойной поверхностью всегда движение — блестящие круги серебряно-зеленого цвета быстро появлялись и исчезали, лучи переплетались в фантастических, но правильных геометрических формах, ни один из них не достигал поверхности и не нарушал ее спокойствия. Тут и там в воде светились гроздья огоньков, как парообразные рубины, туманные сапфиры и опалы и блестящие жемчужины — ведьмины огни. Сверкающие лилии озера Призраков. Там, где кончалось острие, не росли папоротники. Широкий водопад вуалью закрывал поверхность утеса, он падал с шепотом. Тут поднимались туманы, смешиваясь с падающей водой, раскачиваясь навстречу ей, протягивая к ней призрачные руки. А с берегов озера поднимались другие туманные призраки, они быстро скользили над зеленой поверхностью и соединялись с танцующими, приветствующими их призраками водопада. Таким я впервые увидел озеро Призраков под ночью миража, но днем оно было не менее прекрасно. Дорога уходила в озеро, как древко стрелы. У ее оконечности находилось то, что когда-то было, как я решил, маленьким островом. Над покрывавшими его деревьями виднелись башни замка. Мы свели лошадей по откосу к узкому месту, где дорога превращалась в древко стрелы. Здесь не было папоротников, которые скрывали бы приближение; они были вырублены, и склон порос голубыми цветами. Когда мы достигли узкой части, я увидел, что это дорога, построенная из камня. Место, к которому мы направлялись, действительно было островом. Мы подъехали к концу каменной дороги, и между нею и причалом на противоположном берегу была сорокафутовая брешь. Люр достала из-за пояса маленький рог и затрубила. Послышался скрип, и на брешь опустился подъемный мост. Мы проехали по нему и были встречены женским гарнизоном замка. Мы двинулись дальше по извилистой дороге, и за собой я услышал скрип поднимаемого моста. И вот мы остановились перед домом женщины-ведьмы. Я смотрел на него с интересом, не потому, что он был мне незнаком, напротив, только я подумал, что никогда не видел замок, построенный из такого странно зеленого камня и с таким количеством башенок. Я знал, что это такое. «Женские замки», называли мы их; «ланарада», жилища любовниц, место отдыха, место любви после войны или когда устанешь от государственных дел. Подошли женщины и увели лошадей. Распахнулись широкие двери полированного дерева. Люр провела меня через порог. Пришли девушки с вином. Я пил с жадностью. Росли странная легкость в голове и чувство отчужденности. Казалось, я просыпаюсь от долгого, долгого сна и еще не вполне проснулся, и сонные воспоминания еще живы во мне. Но я уверен, что не все они сон. Старый жрец, разбудивший меня в пустыне, которая когда-то была плодородной родиной айжиров, он не был сном. Но люди, среди которых я проснулся, не были айжирами. Это не была земля айжиров, но меня окружали люди с древней кровью. Как я сюда попал? Должно быть, снова уснул в храме после… после… клянусь Зардой, нужно быть осторожным! Потом приступ беззаботности смел все сомнения и мысли об осторожности, я почувствовал наслаждение жизнью, дикую свободу человека, долго томившегося в тюрьме, и вдруг решетки сломаны, и перед ним жизнь со всем тем, чего он был лишен. И вдруг осознание того, что я Лейф Ленгдон, что мне нужно выбраться отсюда и вернуться к Эвали, к Джиму. Быстро, как молния, мелькнула эта мысль и тут же погасла. Я увидел, что нахожусь не в холле замка, а в маленькой комнатке. восьмиугольной, со створчатыми окнами, увешанной коврами. В комнате широкая низкая кровать. Стол, блестящий золотом и хрусталем, на нем высокая свеча. Вместо рубашки на мне легкое шелковое одеяние. Окна открыты, и в них проходит ароматный воздух. Я выглянул из окна. Подо мной башенки и крыша замка. Выглянул из другого. Далеко внизу озеро. Из третьего. В тысяче футов от меня шелестел водопад, плясали туманные призраки. Я почувствовал прикосновение руки к своей голове, она скользнула мне на плечо, я обернулся. Рядом со мной ведьма. Впервые, кажется, я осознал ее красоту, увидел ее ясно. Ее рыжие волосы убраны в толстую корону; они сверкают, как красное золото, перевитое нитями сапфира. Глаза ее сверкают еще ярче. Ее легкая одежда прозрачна, как голубая паутина, и не скрывает чувственных линий тела. Белые плечи и изящная грудь обнажены. Полные красные губы обещают… все, и даже отпечатавшаяся на них тень жестокости соблазняет. Существовала смуглая девушка… кто же она… Эв… Эва… имя ускользало от меня… неважно… она как призрак рядом с этой женщиной. Как один из туманных призраков, размахивающих руками у водопада… Ведьма прочла все это в моих глазах. Рука ее соскользнула с моего плеча и застыла на сердце. Она склонилась ближе, голубые глаза томны — но странно напряжены. — Ты на самом деле Двайану? — Да… кто же еще, Люр? — Кто был Двайану… давным-давно назад? — Не могу сказать тебе, Люр… я очень долго спал и во сне многое забыл. Однако… я — это он. — Тогда посмотри — и вспомнишь. Рука ее оставила мое сердце и легла на голову; она указала на водопад. Медленно его шепот изменился. Он стал биением барабанов, топотом лошадей, грохотом марширующих отрядов. Громче и громче становились эти звуки. Водопад задрожал и распростерся по темной стене утеса, как огромный занавес. Со всех сторон к нему устремились туманные призраки, вливались в него. Громче и ближе звучали барабаны. Неожиданно водопад исчез. Его место занял большой обнесенный стеной город. Здесь сражались две армии, и я знал, что армия атакующих отброшена. Я слышал топот копыт сотен коней. На защитников города обрушилась река всадников. Их предводитель был одет в сверкающую кольчугу. У него не было шлема, и желтые волосы летели за ним. Он повернулся ко мне лицом. Это было мое собственное лицо. Я услышал рев: «Двайану!» Нападающие ударили, как река в наводнение, и поглотили защищающихся. Я увидел сражающиеся армии, броски метательных молотов. Вместе с желтоволосым предводителем я въехал в завоеванный город. Вместе с ним сидел на завоеванном троне, и он жестоко, безжалостно осуждал на смерть мужчин и женщин, которых приводили к нему, и улыбался звукам насилия и грабежа, доносившимся отовсюду. Я ехал и сидел с ним, говорю я, потому что я больше не был в комнате ведьмы, я был с этим светловолосым человеком, моим двойником, видел то же, что и он, слышал, как он, — да, и думал так, как думал он. Битва за битвой, путешествия, пиры и триумфы, охоты с соколами и охоты с большими псами в прекрасной земле айжиров, игра молотов и игра наковален — я все это видел, всегда находясь рядом с Двайану, как невидимая тень Я шел с ним в храмы, где он служил богам. Я шел с ним в храм Растворителя, Черного Калкру, Большего, чем боги, и он носил кольцо, которое теперь находилось у меня на груди. Но когда он прошел в храм Калкру, я не пошел с ним. То же упрямое, глубокое сопротивление, которое остановило меня перед храмом в оазисе, остановило и на этот раз. Я слышал два голоса. Один заставлял войти с Двайану. Другой шептал, что я не должен заходить. И этого голоса я не смел ослушаться. И вдруг неожиданно земля айжиров исчезла. Я смотрел на водопад и скользящие туманные призраки. Но — я был Двайану. Я был Двайану! Лейф Ленгдон перестал существовать. Но он оставил воспоминания — как полузабытые сны, воспоминания, чей источник я не осознавал, но понимал, что они истинны. Они говорили мне, что земля айжиров, которой я правил, исчезла так же полно, как призрачные изображения. Столетие за столетием минули с тех пор, империи поднимались и падали, теперь там чужая земля лишь с обломками древней славы. Я был воин-царь и воин-жрец, я держал в своих руках империю и жизнь народов. Больше этого нет!..
16. Поцелуи Люр
Черная печаль и горький пепел были в моем сердце, когда я отвернулся от окна. Я посмотрел на Люр. Осмотрел ее всю, от длинных стройных ног до сверкающей головы, и черная печаль посветлела, а горький пепел развеялся. Я положил руки ей на плечи и рассмеялся. Люка повернула свое колесо и сбросила мою империю с его обода, как пыль с гончарного круга. Но она дала мне кое-что взамен. Во всей старой земле айжиров не было подобной женщины. Слава Люке! Жертвоприношение ей на следующее утро, если эта женщина окажется такой, какой я ее считаю! Моя исчезнувшая империя! Что она мне? Я создам другую. Довольно того, что я жив. Я снова рассмеялся. Взял Люр за подбородок, приподнял ее голову, прижал свои губы к ее губам. Она оттолкнула меня, в ее глазах был гнев, но и сомнение. — Ты просила меня вспомнить. Что ж, я вспомнил. Зачем же ты открыла ворота моей памяти, если отказываешься от того, что следует за этим? Или ты знаешь о Двайану меньше, чем считаешь? Она отступила на шаг, ответила яростно: — Я отдаю свои поцелуи. Никто не берет их у меня силой. Я схватил ее в объятия, прижал ее рот к своему, потом отпустил. — Я беру их. Я перехватил ее правую руку. В ней был зажат кинжал. Я забавлялся. Интересно, где она его спрятала. Я вырвал у нее кинжал и сунул себе за пояс. — И отбираю шипы у тех, кого целую. Так поступал Двайану в прежние дни, так он поступит и сейчас. Она все отступала, глаза ее расширились. Ай, но я читаю ее мысли. Она считала меня другим, думала, что я опрометчивый самозванец, обманщик. И хотела обмануть меня, подчинить своей воле. Обмануть меня. Меня, Двайану, который знал женщин, как знал войну! И все же… Она прекрасна… и она все, что у меня есть в этом чуждом мире, где я должен начать заново создавать свою власть. Я подвел итог, пока она стояла, глядя на меня. Я заговорил, и слова мои были так же холодны, как мысли. — Не играй больше кинжалом — не со мной. Позови своих слуг. Я голоден и жажду. Когда поем и выпью, поговорим. Она поколебалась, потом хлопнула в ладоши. Вошли женщины с дымящимися блюдами, с кувшинами вина, с фруктами. Я жадно ел. Я много пил. Пил и ел и мало думал о Люр — но много о том колдовстве, которое заставило меня видеть, я сопоставлял все, что помнил из пустынного оазиса, с тем, что увидел. Немного. Я ел и пил молча. Чувствовал на себе ее взгляд. Посмотрел ей в глаза и улыбнулся. — Ты хотела сделать меня рабом своей воли, Люр. Никогда не пытайся сделать это. Она положила голову на руки и смотрела на меня через стол. — Двайану умер давным-давно. Может ли увядший лист снова зазеленеть? — Я — он, Люр. Она не ответила. — С какой мыслью ты привела меня сюда, Люр? — Я устала от Тибура, устала от его смеха, устала от его глупости. — Еще что? — Я устала от Йодина. Мы с тобой — вдвоем — могли бы править Караком, если… — В этом «если» самая суть, ведьма. Что это? Она встала, приблизилась ко мне. — Если ты можешь вызвать Калкру. — А если не могу? Она пожала белыми плечами, снова опустилась в кресло. Я рассмеялся. — В таком случае Тибур не столь утомителен, и Йодина можно выносить. Теперь послушай меня, Люр. Твой ли голос призывал меня входить в храмы Калкру? Видела ли ты то, что видел я? Можешь не отвечать. Я вижу тебя насквозь, Люр. Ты хотела бы избавиться от Тибура. Что ж, я мог бы его убить. Ты хочешь избавиться от Йодина. Кем бы я ни был, если я сумею вызвать Большего, чем боги, в Йодине нет никакой необходимости. Когда Тибура и Йодина не станет, будем только мы с тобой. И ты решила, что сможешь править мной. Не сможешь, Люр. Она слушала спокойно, спокойно и ответила. — Все это правда… Помолчала; глаза ее сверкнули; розовая краска поползла по груди и щекам. — Но… есть и другая причина, почему я привела тебя сюда… Я не спрашивал ее, что это за другая причина: женщины и раньше пытались поймать меня в эту западню. Она отвела взгляд, жестокость ее рта внезапно выступила очень ярко. — Что ты обещала Йодину, ведьма? Она встала, протянула ко мне руки, голос ее задрожал… — Неужели ты не мужчина? Почему ты так говоришь со мной? Разве я не предложила тебе разделить со мной власть? Разве я не прекрасна? Не желанна? — Прекрасна и очень желанна. Но прежде чем взять город, я всегда изучаю ожидающие меня ловушки. Глаза ее сверкнули голубым пламенем. Она сделала быстрый шаг к двери. Я был быстрее. Я держал ее, удерживая руку, которой она хотела ударить меня. — Что ты пообещала верховному жрецу, Люр? Я поднес кинжал к ее горлу Глаза ее яростно блестели. Люка, поверни свое колесо, чтобы мне не нужно было убивать эту женщину! Ее тело расслабилось, она рассмеялась. — Опусти кинжал, я тебе расскажу. Я выпустил ее и вернулся к своему креслу. Она изучала меня со своего места за столом; с недоверием сказала: — Ты мог убить меня! — Да. — Я тебе верю. Кто бы ты ни был, Желтоволосый, мужчины, подобного тебе, здесь нет. — А кто бы я мог быть, ведьма? Она нетерпеливо ответила: — Незачем больше играть друг с другом. — В голосе ее звучал гнев. — Я покончила с ложью, для нас обоих будет лучше, если ты поступишь так же. Кто бы ты ни был, ты не Двайану. Я снова утверждаю, что увядший лист не может зазеленеть, мертвые не возвращаются. — Если я не он, откуда же эти воспоминания? Они пришли в мой мозг из твоего, ведьма, или из моего в твой? Она покачала головой, и вновь я заметил в ее взгляде беглое сомнение. — Я ничего не говорила. Ты видел… что-то. Ты ушел от меня. Что бы ты ни видел, я не участвовала в этом. И не могла подавить твою волю. Я ничего не видела. — Я видел древнюю землю, Люр. Она мрачно сказала: — Я не могла пройти дальше портала. — Что ты посылала меня искать для Йодина в земле айжиров, ведьма? — Калкру, — ровно ответила она. — Почему? — Потому что тогда я бы точно, вне всякого сомнения знала, что ты можешь вызвать его. Это я и пообещала Йодину установить. — А если я могу его вызвать? — Тогда ты был бы убит раньше, чем тебе представится такая возможность. — А если не могу? — Тогда тебя принесли бы ему в жертву в храме. — Клянусь Зардой! Не так принимали Двайану в старину; вы считаете, что ваше гостеприимство поможет удержать от вас чужеземцев? Разберемся в вопросе об устранении Тибура и жреца. Но почему бы не начать с тебя, ведьма? Она улыбнулась. — Во-первых, потому что это не принесет тебе добра, Желтоволосый. Взгляни. Она поманила меня к одному из окон. Из него я увидел дорогу и гладкий холм, по которому мы вышли из леса. Вдоль всей дороги и на вершине холма стояли солдаты. Я почувствовал, что она права: я не мог бы выбраться отсюда без помех. Во мне начал подниматься старый холодный гнев. Она насмешливо смотрела на меня. — Во-вторых, — сказала она. — Во-вторых… послушай меня, Желтоволосый. Я налил вина, поднял кубок и выпил. Она продолжала: — Жизнь приятна в этой земле. Приятна по крайней мере для тех из нас, кто правит. У меня нет желания изменять ее — кроме вопроса о Тибуре и Йодине. И других дел, о которых мы сможем поговорить позже. Я знаю, что мир изменился, с тех пор как давным-давно наши предки бежали из земли айжиров. Я знаю, что жизнь существует и помимо этого тайного места, куда Калкру привел наших предков. Это знают и Йодин, и Тибур, и кое-кто еще. Остальные догадываются. Но никто из нас не хочет покинуть это приятное место… и мы не хотим пришельцев. Особенно мы не хотим, чтобы отсюда уходили наши люди. А это может случиться, если они узнают; и это случится, если они узнают о зеленых полях, лесах, быстрых реках и мире, кишащем людьми. Бесчисленные годы их учили, что нигде в мире нет жизни, только здесь. Что Калкру, разгневанный великим святотатством, когда земля айжиров поднялась против него и уничтожила его храмы, уничтожил жизнь повсюду, кроме этого места, и что здесь жизнь существует только благодаря молчаливой покорности Калкру; и так будет только до тех пор, пока ему приносят жертвы. Ты следишь за мной, Желтоволосый? Я кивнул. — Существует древнее пророчество о Двайану. Он был величайшим из айжирских царей. Жил за сто лет и больше до того, как айжиры начали отворачиваться от Калкру, отказываться от жертвоприношений, и в наказание пустыня начала наступление на плодородные земли. И вот, когда начались волнения, когда начиналась война, уничтожившая великую землю айжиров, родилось пророчество. Двайану вернется, чтобы восстановить древнюю славу. Это не ново, Желтоволосый. У других тоже были свои Двайану — Свершители судьбы, Освободители, я читала об этом в свитках, которые захватили с собой наши предки. Я не верю в эти истории: новые Двайану могут возникать, но старые не возвращаются. Но народ знает об этом пророчестве, и народ поверит всему, что обещает ему свободу от того, что он не любит. А жертвы для Калкру берутся из народа, и он не любит жертвоприношения. Но терпит, потому что боится последствий непослушания. И вот тут, Желтоволосый, появляешься ты. Впервые услышав, как ты заявляешь, что ты Двайану, я устроила совет с Йодином и Тибуром. Я думала, что ты из Сирка. Скоро я уже знала, что это не так. С тобой был другой… — Другой? — с искренним удивлением спросил я. Она подозрительно посмотрела на меня. — Ты его не помнишь? — Нет. Я помню, как увидел тебя. С тобой был белый сокол. И другие женщины. Я увидел тебя с реки. Она внимательно смотрела на меня. — Ты помнишь рррллия… малый народ. Смуглую девушку, называвшую себя Эвали? Малый народ… смуглая девушка… Эвали? Да, кое-что я помнил, но смутно. Вероятно, я видел их в забытых снах. Нет… они реальны… или нет? — Мне кажется, я что-то припоминаю, Люр. Но четко ничего не помню. В ее глазах горело странное возбуждение. — Неважно, — сказала она. — Не думай о них. Ты проснулся. Позже поговорим и о них. Они наши враги. Теперь слушай меня. Если бы ты был из Сирка и выдавал себя за Двайану, вокруг тебя могли объединиться недовольные. Им нужен только предводитель. А если ты снаружи… ты еще опаснее, так как можешь доказать, что мы обманываем. Не только народ, но и солдаты могли бы поддержать тебя. И, вероятно, поддержали бы. Что нам оставалось? Только убить тебя. — Верно, — ответил я. — удивляюсь, почему вы этого не сделали. Ведь возможность была. — Ты усложнил дело, — сказала она. — Ты показал кольцо. Его многие видели, многие слышали, как ты называл себя Двайану… Да! Теперь я вспомнил… как выбрался из реки. А как я в нее попал? Мост… Нансур… там что-то случилось… все в тумане, ничего не видно четко… малый народ… да, я кое-что о нем помню… они меня боялись… но я ничего не имел против них… напрасно я старался оживить смутные видения прошлого. Голос Люр прервал эти попытки — И вот, — продолжала она, — я убедила Йодина, что тебя нельзя убивать сразу. Это стало бы известно и вызвало бы большое беспокойство. С одной стороны, укрепило бы Сирк. С другой — привело в смятение солдат. Как же, Двайану пришел, а его убили! — Я возьму его, — сказала я Йодину. — Я не доверяю Тибуру, который своей глупостью и высокомерием может уничтожить нас всех. Есть лучший выход. Пусть Калкру съест его и докажет, что мы правы, а он всего лишь обманщик и хвастун. Тогда не скоро появится другой Двайану. — Значит верховный жрец тоже не верит, что я Двайану? — Меньше, чем я, Желтоволосый, — с улыбкой сказала она. — И Тибур не верит. Но кто ты, откуда, как пришел и почему — это занимает их, да и меня тоже. Ты похож на айжира, но это ничего не значит. На твоих руках древние знаки — значит, в тебе древняя кровь. Но у Тибура тоже, а он не Освободитель, — смех ее прозвучал, как маленькие колокольчики. — У тебя кольцо. Где ты его взял, Желтоволосый? Ты мало знаешь о его использовании. Йодин обнаружил это. Когда ты спал. И Йодин утверждает, что ты побледнел и чуть не убежал, когда впервые увидел Калкру в его комнате. Не отказывайся, Желтоволосый. Я сама это видела. Нет, Йодин не боится соперника перед Растворителем. Но… он не вполне уверен. Остается слабая тень сомнения. Я сыграла на этом. И вот — ты здесь. Я с откровенным восхищением смотрел на нее, потом поднял свой кубок и выпил в ее честь. Хлопнул в ладоши, вошла служанка. — Очисть стол. Принеси вина. Принесли еще кувшины и кубки. Когда слуги вышли, я подошел к двери. На ней был засов. Я задвинул его. Взял один из кувшинов и наполовину опустошил его. — Я могу вызывать Растворителя, ведьма. Она резко перевела дыхание; тело ее задрожало; синий огонь в глазах горел ярко, ярко… — Показать? Я достал из ящичка кольцо, надел на палец, поднял в приветствии руки… Холодный ветер пронесся по комнате. Ведьма подскочила ко мне, схватила за руку, потянула ее вниз. Губы ее побелели. — Нет! Нет! Я верю… Двайану! Я рассмеялся. Странный холод вкрадчиво отступил. — А что теперь, ведьма, ты скажешь жрецу? Кровь медленно прихлынула к ее губам и лицу. Она подняла кувшин и осушила его. Руки ее не дрожали. Восхитительная женщина, эта Люр. Она сказала: — Я скажу ему, что ты безвластен. Я ответил. — Я вызову Растворителя. Я убью Тибура. Убью Йодина. Кого еще? Она подошла ко мне, коснулась грудью. — Уничтожь Сирк. Сотри с лица земли карликов. Тогда мы с тобой будем править… одни. Я выпил еще. — Я вызову Калкру. Устраню Тибура и жреца. Разгромлю Сирк и начну войну против карликов… если… Она долго смотрела мне в глаза, рука ее легла мне на плечо… Протянув руку, я погасил свечи. Сквозь окна проходила зеленая полутьма ночи миража. Шепчущий водопад, казалось, смеется. — Беру свою плату авансом, — сказал я. — Так поступал Двайану в старину — и разве я не Двайану? — Да! — прошептала ведьма. Она сорвала нить сапфиров с головы, корона развернулась, и рыжие волосы свободно упали на плечи. Руки ее обхватили мою шею. Мягкие губы прижались к моим. На дороге послышался конский топот. Отдаленный вызов. Стук в дверь. Ведьма проснулась, сонно село под шелковым покровом своих волос. — Это ты, Овадра? — Да, госпожа. Посыльный от Тибура. Я рассмеялся. — Скажи ему, что ты занята, Люр. Она склонила ко мне голову, так что мы оба оказались под шелковым покровом ее волос. — Скажи ему, что я занята, Овадра. Он может подождать до утра — или вернется к Тибуру вместе со своим посланием. Она опустилась и прижалась ко мне губами. Клянусь Зардой! Как в старину… есть враги, которых нужно убить, есть город, который нужно взять, есть народ, которым нужно править, и мягкие руки женщины вокруг меня. Я очень доволен!
КНИГА ДВАЙАНУ
17. Испытание КалкРу
Дважды зеленая ночь заполняла чашу земли под миражом, а я пировал с Люр и ее женщинами. Мы занимались фехтованием, метанием молота, борьбой. Они были воины, эти женщины! Закаленная сталь под шелковой кожей — хоть я силен и быстр, но мне доставалось от них. Если такие же защищают Сирк, его нелегко будет покорить. По взглядам, которые они бросали на меня, по их шепоту я знал, что не останусь в одиночестве, если Люр уедет в Карак. Но она не уезжала; она всегда была рядом со мной, а от Тибура больше посыльных не было; или если и были, я о них не знал. Она тайно сообщила Йодину, что он оказался прав: я не могу вызывать Большего, чем боги, я либо самозванец, либо сумасшедший. Так она мне сказала. Я не знал, солгала ли она ему или лжет мне, но меня это не беспокоило. Я был слишком занят — я жил. Но больше она не звала меня Желтоволосым. Всегда Двайану. И все искусство любви — а она не была новичком в этом искусстве, эта женщина-ведьма, — она использовала, чтобы привязать меня к себе. Был ранний рассвет третьего дня; я высунулся из окна, наблюдая, как медленно гаснут огненные призрачные лилии, как туманные призраки, рабы водопада, поднимаются все медленнее и медленнее. Я думал, что Люр спит. Услышав, что она шевельнулась, я обернулся. Она сидела и смотрела на меня сквозь рыжую вуаль своих волос. Настоящая ведьма… — Накануне вечером прибыл посланник Йодина. Сегодня ты предстанешь перед Калкру. Дрожь пробежала по моему телу, кровь зашумела в ушах. Всегда я испытывал это, когда должен был разбудить Растворителя, — чувство власти, превосходившее даже торжество победы. Совсем особое чувство — нечеловеческой мощи и гордости. И с ним гнев, негодование против Существа, которое было врагом Жизни. Этот демон пожрал плот и кровь земли айжиров, высосал ее душу. Люр следила за мной. — Ты боишься, Двайану? Я сел рядом с ней, разделил вуаль ее волос. — Поэтому ты удвоила поцелуи ночью, Люр? Поэтому они были такими… нежными? Ты сама превратилась в нежность, ведьма, но это тебе не подходит. А ты испугалась? За меня? Ты размягчаешь меня, Люр. Глаза ее сверкнули, лицо вспыхнуло от моего смеха. — Ты не веришь, что я люблю тебя, Двайану? — Не так, как ты любишь власть, ведьма. — А ты меня любишь? — Не так, как я люблю власть, ведьма, — ответил я и снова расхохотался. Сузившимися глазами она рассматривала меня. Потом сказала: — В Караке много говорят о тебе. Это опасно. Йодин жалеет, что не убил тебя, когда мог; в то же время он понимает, что могло быть еще хуже, если бы он сделал это. Тибур жалеет, что не убил тебя, когда ты выходил из реки, требует, чтобы мы больше не ждали. Йодин объявил тебя лжепророком и заявил, что Больший, чем боги, докажет, что это так. Он верит в то, что я сообщила ему, а может, у него припрятан меч. Ты, — в ее голосе прозвучала еле уловимая насмешка, — ты, который так легко разгадал меня, конечно, сможешь разгадать и его и примешь меры. Люди ропщут; некоторые дворяне требуют, чтобы ты был им показан; а солдаты с радостью пошли бы за Двайану, если бы поверили, что ты подлинный Двайану. Они беспокойны. Распространяются слухи. Ты стал особенно… неудобен. Поэтому сегодня ты предстанешь перед Калкру. — Если это правда, — ответил я, — то мне пришло в голову, что я могу захватить власть, и не пробуждая Растворителя. Она улыбнулась. — Не твоя старая хитрость посылает тебе такие мысли. Ты будешь под присмотром. И прежде чем сможешь собрать вокруг себя хотя бы дюжину последователей, тебя убьют. А почему бы и нет? Мы больше ничего не выигрываем, сохраняя тебе жизнь. А кое-что и проигрываем. К тому же… ты ведь пообещал мне. Я обнял ее за плечи, приподнял и поцеловал. — Что касается того, чтобы быть убитым… у меня есть свое мнение на этот счет. Но я шучу, Люр. Я выполняю свои обещания. С дороги доносился лошадиный топот, звон снаряжения, гром барабанов. Я подошел к окну. Люр спрыгнула с кровати и стала рядом со мной. По дороге приближался отряд в сотню или больше всадников. С их копий свисали желтые знамена с черным изображением Калкру. Всадники остановились у подъемного моста. В переднем я узнал Тибура, его широкие плечи покрывал желтый плащ, на груди — изображение Кракена. — Они пришли, чтобы отвести тебя в храм. Я должна их пропустить. — Почему бы и нет? — равнодушно сказал я. — Но ни в какой храм я не пойду, пока не позавтракаю. Я посмотрел на Тибура. — И если мне предстоит ехать рядом с Кузнецом, я бы хотел надеть кольчугу. — Ты поедешь рядом со мной, — сказала Люр. — Что касается оружия, можешь выбирать любое. Но тебе нечего бояться на пути в храм — опасность внутри него. — Ты слишком много говоришь о страхе, ведьма, — сказал я, нахмурившись. — Звучит рог. Тибур может подумать, что я не хочу с ним встречаться. А я не хотел бы, чтобы он так считал. Она отдала приказ гарнизону замка. Я услышал скрип опускаемого моста, принимая ванну. И вскоре топот лошадей послышался во дворе замка. Вошла камеристка Люр, и та вышла вместе с нею. Я неторопливо оделся. На пути в большой зал задержался в оружейной комнате. Я тут приметил один меч. У него был вес, к которому я привык, он был длинный, изогнутый, а лучшего металла я не знавал и в земле айжиров. Я взвесил его в левой руке и подобрал другой, более легкий, для правой. Вспомнил, что кто-то предупредил меня об опасности левой руки Тибура… а, да, женщина-солдат. Я рассмеялся… пусть Тибур опасается меня. Я взял молот, не такой тяжелый, как у Кузнеца… это все его тщеславие… более легкий молот точнее, им легче управлять… Прикрепил крепкий ремень, прочно удерживавший молот. И пошел навстречу Тибуру. В зале ожидало с десяток айжирских дворян, по большей части мужчин. С ними Люр. Я заметил, что она повсюду расставила своих солдат и что они полностью вооружены. Я решил, что это доказательство ее доброй воли, хотя это противоречило ее утверждению, что мне нечего опасаться на пути в храм. В приветствии Тибура не было высокомерия. И в приветствиях других. За одним исключением. Рядом с Тибуром стоял мужчина, почти с меня ростом. У него холодные голубые глаза, и в них то особое выражение, которое выдает прирожденного убийцу. От левого виска до подбородка по его лицу проходил шрам, а нос был разбит. Таких людей в старые времена я посылал командовать особо непокорными племенами. Его высокомерие раздражало меня, но я сдержался. В данной момент мне не нужны никакие конфликты. Не нужно возбуждать подозрений в мозгу Кузнеца. Мои приветствия ему и остальным звучали почти покорно. Я сохранял эту видимость, пока мы завтракали и пили. Один раз это было особенно трудно. Тибур склонился к человеку со шрамом и рассмеялся. — Я говорил, что он выше тебя, Рашча. Серый жеребец мой! Голубые глаза обратились ко мне, я продолжал с аппетитом есть. — Серый жеребец твой. Тибур обернулся ко мне. — Это Рашча, Ломающий Спины. После меня он сильнее всех в Караке. Жаль, что ты так скоро должен встретиться с Большим, чем боги. Стоило бы посмотреть вашу схватку. Меня охватил гнев, рука потянулась к мечу, но я сдержался и ответил в рвением: — Верно, но, может, встречу с Калкру можно отложить… Люр нахмурилась и взглянула на меня, но Тибур ухватил наживку, глаза его злобно сверкнули. — Нет, он не может ждать. Может быть, потом… От его смеха задрожал стол. Остальные присоединились к нему. Человек со шрамом улыбнулся. Клянусь Зардой, этого нельзя вынести! Спокойно, Двайану, ты так их и обманывал в прежние дни, обманешь и теперь. Я осушил свой кубок и снова наполнил его. Смеялся вместе с ними, как будто не понимал, чему они смеются. Но я запомнил их лица. Мы ехали по дороге; рядом со мной Люр; нас окружало кольцо ее отборных женщин. Перед нами располагались Тибур, Ломающий Спины и десяток лучших людей Тибура. За нами — отряд с желтыми вымпелами, а еще дальше большой отряд солдат ведьмы. Я ехал с соответствующим унылым видом. Время от времени Кузнец и его окружающие оглядывались на меня. И тогда я слышал их смех. Ведьма ехала так же молчаливо, как и я. Она искоса взглядывала на меня, и когда это случалось, я еще ниже опускал голову. Перед нами возвышалась черная цитадель. Мы въехали в город. К этому времени изумление в глазах Люр сменилось почти откровенным презрением, смех Кузнеца стал оскорбительным. Улицы были заполнены жителями Карака. Я вздохнул, видимо, стараясь избавиться от подавленности, но продолжал ехать апатично. Люр прикусила губу и, нахмурившись, подъехала ко мне. — Ты меня обманывал, Желтоволосый? Ты ведешь себя, как побитый пес! Я отвернулся, чтобы она не могла видеть мое лицо. Клянусь Люкой, как трудно сдерживать смех! В толпе перешептывались, разговаривали. Не было ни криков, ни приветствий. Повсюду стояли солдаты с мечами, вооруженные к тому же молотами, копьями и пиками. Виднелись и лучники. Верховный жрец не оставлял места случайностям. Я тоже. В мои планы не входило ускорять убийство. Нельзя было давать Тибуру хоть малейший предлог направить против меня тучу копий и стрел. Люр считала, что на пути в храм мне не угрожает опасность, только в храме. Я знал, что на самом деле наоборот. Поэтому не герой-завоеватель, не освободитель, не великолепный воин из прошлого ехал в тот день по Караку. Человек, не уверенный в себе, или, вернее, слишком уверенный в том, что его ожидает. Люди, ожидавшие Двайану, смотревшие на него, чувствовали это — и переговаривались или молчали. Кузнеца это устраивало. И меня тоже, потому что сейчас я стремился на встречу с Калкру, как невеста ждет жениха. И не собирался рисковать, не хотел, чтобы меня остановил удар меча или молота, копья или стрелы. Лицо ведьмы становилось все более хмурым, презрение и ярость в ее взгляде усиливались. Мы обогнули крепость и направились по широкой дороге к утесам. Проехали вдоль утесов с развевающимися вымпелами под гром барабанов. Подъехали к гигантской двери, ведущей в гору, — много раз проезжал я через такие двери! Я неохотно спешился. Неохотно позволил Тибуру и Люр отвести себя в маленькую, высеченную в скале комнату. Ни слова не говоря, они оставили меня. Я осмотрелся. Сундуки, в которых хранятся священные одежды, купель очищения, сосуды для умащения того, кто вызывает Калкру. Дверь открылась. Я смотрел в лицо Йодина. В нем был мстительный триумф; я понял, что жрец виделся с Люр и Кузнецом, и они рассказали ему, как я ехал. Как обреченный на жертвоприношение! Что ж, теперь Люр честно могла сказать ему, что то, на что он надеялся, правда. Если она хотела предать меня — если она предала меня, — теперь она верила, что я лжец и хвастун, как в это верили Тибур и остальные. Если же она не предала меня, я подкрепил ее ложь Йодину. Двенадцать младших жрецов, одетые в священные одежды, вошли вслед за Йодином. Верховный жрец был в желтом одеянии с изображением обвивающих щупалец. На пальце его сверкало кольцо Калкру. Больший, чем боги, ждет твоей молитвы, Двайану, — сказал он. — Но сначала тебе нужно подвергнуться очищению. Я кивнул. Они занялись необходимыми ритуалами. Я неуклюже подчинялся им, как человек, незнакомый с обрядами, но желающий им научиться. Злое выражение в глазах Йодина усилилось. Обряды завершены. Йодин достал из сундука одежду, такую же, как на нем, и одел ее на меня. Я ждал. — Твое кольцо, — сардонически напомнил он мне. — Ты забыл, что должен надеть кольцо! Я схватился за цепь на шее, открыл ящичек и надел на палец кольцо. Младшие жрецы со своими барабанами вышли из комнаты. Я следовал за ними, рядом шел верховный жрец. Я слышал звон молота о наковальню. Это голос Тубалки, старейшего бога, который научил людей соединять огонь с металлом. Тубалка приветствовал Калкру и поклонялся ему. Знакомое с древности возбуждение, экстаз темной власти охватывали меня. Трудно не выдать себя. Мы вышли из коридора и оказались в храме. Хай! Большему, чем боги, приготовили здесь достойное помещение! Даже в земле айжиров я не видел большего храма. Он был высечен в самом сердце скалы, как подобает жилищу Калкру; огромные квадратные колонны, ограничивавшие амфитеатр, поднимались к потолку, терявшемуся во тьме. Повсюду виднелись светильники из изогнутого металла, и из них вырывались ровные спирали тусклого желтого пламени. Они горели ровно и беззвучно; при их свете я видел, как колонны уходят, уходят вдаль, будто в пустоту. Из амфитеатра на меня смотрели лица — сотни лиц. Женские лица под вымпелами и знаменами, украшенными символами кланов; под этими знаменами мужчины сражались рядом со мной во многих кровавых битвах. Боги, как здесь мало мужчин! Они смотрели на меня, эти женские лица… женщины-дворяне, женщины-рыцари, женщины-солдаты. Сотни их смотрели на меня… безжалостные голубые глаза… ни жалости, ни женской мягкости в этих лицах… это все воины… Хорошо! И я буду обращаться с ними не как с женщинами, а как с воинами. Я заметил, что по краям амфитеатра расположились лучники с луками наготове, стрелы наложены на тетиву; все они обращены ко мне. Дело Тибура? Или жреца — боится, что я попытаюсь сбежать? Мне это не нравится, но тут я ничего поделать не могу. Люка, милостивая богиня, поверни колесо так, чтобы ни одна стрела не сорвалась до того, как я начну ритуал! Я повернулся и взглянул на загадочный экран — эту дверь, через которую из пустоты появляется Калкру. Она находилась в ста шагах от меня — такой широкой и глубокой была каменная платформа. Здесь пещера была вырублена в форме воронки. Экран представлял собой диск, в несколько десятков раз выше самого рослого человека. Не яркий желтый квадрат, в котором в храмах материнской земли становился материальным Калкру. Впервые я ощутил сомнение — то ли самое Существо? Не было ли у жреца другой причины для зловещей уверенности, кроме его неверия в меня? Но здесь на желтом фоне плыл символ Большего. чем боги; огромное черное тело было погружено в пузырящийся океан желтого пространства; щупальца тянулись, как чудовищные лучи черной звезды, а ужасные глаза были устремлены на храм; как всегда, они видели все и не видели ничего. Символ не изменился. Прилив сознательной темной силы в моем мозгу, на мгновение остановленный, возобновил свой поток. Я увидел между собой и экраном полукруг женщин. Молодые, едва вышедшие из девичества, но уже расцветшие. Я насчитал их двенадцать, все стояли в мелких углублениях — чашах жертвоприношения, золотые цепи вокруг талии. На белые плечи, на молодые груди падали вуали их рыжих волос, и через эти вуали они смотрели на меня голубыми глазами, в которых застыл ужас. И хотя они не могли скрыть этот ужас от меня, который стоял рядом с ними, они скрывали его от тех, кто смотрел на них из амфитеатра. В своих чашах они стояли прямо, гордо, вызывающе. Ай, они храбры, эти женщины Карака! Я почувствовал странную жалость к ним, какое-то прежнее негодование. В центре полукруга женщин виднелось тринадцатое кольцо на прочной золотой цепи, свисавшей с крыши храма. Оно было пусто, зажимы тяжелого пояса открыты… Тринадцатое кольцо! Кольцо Воинского Жертвоприношения! Открыто… для меня! Я взглянул на верховного жреца. Он стоял рядом с младшими жрецами, присевшими у своих барабанов. Взгляд его был устремлен ко мне. На краю платформы, у наковальни Тубалки, стоял Тибур с большим молотом в руках, на его лице выражение того же злорадства, что и у Йодина. Ведьму я не видел. Верховный жрец выступил вперед. Он заговорил в темной обширности храма, обращаясь к собравшимся дворянам. — Вот стоит тот, кто пришел к нам, называя себя — Двайану. Если он Двайану, тогда Больший, чем боги, могучий Калкру услышит его молитву и примет жертвы. Но если Калкру будет глух к нему — тогда он лжец и мошенник. А ко мне Калкру не будет глух, я служу ему верой и правдой. И лжец и мошенник займет место Воинского Жертвоприношения, чтобы Калкру мог его наказать по достоинству. Вы слышите меня? Справедливо ли это? Отвечайте! Из глубины храма послышались голоса: — Мы слышим! Это справедливо! Верховный жрец повернулся ко мне, как бы собираясь заговорить. Но если таково и было его намерение, он передумал. Трижды поднимал он свой жезл с золотыми колокольчиками, потрясая им. Трижды Тибур поднимал молот и ударял по наковальне Тубалки. Из глубины храма донеслась древняя песнь, древняя мольба, которой Калкру научил наших предков, когда избрал их из всех людей земли века и века назад. Я слушал ее, как колыбельную. Глаза Тибура не отрывались от меня, рука его лежала на рукояти молота, он готов был метнуть молот, если я побегу; Йодин также не отрывал от меня взгляда. Пение кончилось. Я быстро поднял руку в древнем знаке и проделал с кольцом то, чего требовал древний ритуал, — и по храму пронесся первый ледяной вздох — предвестник пришествия Калкру! Хай! Лица Тибура и Йодина, когда они ощутили этот холод! Посмейся теперь, Тибур! Хай! Теперь они не могут остановить меня! Даже Кузнец не осмелится метнуть молот или поднять руку, высвобождая тучу стрел! Даже Йодин не посмеет остановить меня… Я забыл обо всем. Забыл Йодина и Тибура. Забыл, как всегда забывал, о жертвах в темном возбуждении ритуала. Желтый камень задрожал, по нему метнулись молнии. Он превратился в воздух. Исчез. На его месте дергались черные щупальца, нависало черное тело, уходя в немыслимую даль, — Калкру! Быстрее, громче забили барабаны. Черные щупальца двинулись вперед. Женщины не видели их. Они смотрели на меня… как будто… как будто во мне видели надежду, освещавшую их отчаяние! Во мне… вызвавшем их уничтожителя… Щупальца коснулись их. Я видел, как погасла и умерла надежда. Щупальца обернулись вокруг их плеч. Скользнули по грудям. Обняли их. Спустились по бедрам и коснулись ног. Барабаны забили стремительное крещендо кульминации жертвоприношения. Резкий крик женщин заглушил барабаны. Их белые тела превратились в серый туман. Стали тенями. Исчезли… исчезли еще раньше, чем замер звук их крика. Золотые пояса со звоном упали на скалу… Но что это? Ритуал завершен. Жертва принята. Но Калкру не ушел! Безжизненный холод вползал в меня, поднимался во мне… Щупальце, раскачиваясь, двинулось вперед. Медленно, медленно оно миновало воинское кольцо… приблизилось… еще ближе… Оно тянулось ко мне! Я услышал напевный голос. Произносивший слова, более древние, чем я когда-либо слышал. Слова? Это вовсе не слова! Это звуки, чьи корни уходят далеко в прошлое, задолго до первого дыхания человека. Йодин — это Йодин говорит на языке, который, может быть, был языком самого Калкру еще до того, как появилась жизнь. Он вел ко мне Калкру! Посылал меня по той же дороге, по которой ушли жертвы. Я кинулся на Йодина. Схватил его в руки и развернул между собой и ищущим щупальцем. Поднял его, как куклу, и бросил Калкру. Он пролетел сквозь щупальце, как сквозь облако. Ударился о цепи воинского кольца. Упал на золотой пояс. Я слышал собственный голос, произносящий те же нечеловеческие звуки. Я не знал тогда их значения, не знаю его и сейчас и не знаю, откуда они пришли ко мне… Но я знаю, что эти звуки никогда не предназначались для горла и губ людей. Но Калкру услышал… и послушался! Он заколебался. Глаза его непостижимо смотрели на меня — смотрели как сквозь меня. И тут щупальце двинулось назад. Оно обняло Йодина. Тонкий крик — и Йодин исчез! Живой Калкру исчез. Яркий свет, пузырчатый океан — черная фигура неподвижно повисла в нем. Я услышал звон — кольцо Йодина покатилось по краю чаши. Я прыгнул вперед и схватил его. Тибур застыл с молотом в руке возле наковальни. Я выхватил у него из руки молот, толкнув его при этом так, что он покатился по полу. Поднял молот и сокрушил им кольцо Йодина на наковальне! В храме послышался громовой крик: — Двайану!
18. Волки Люр
Я ехал по лесу с ведьмой. Белый сокол сидел на ее перчатке и зло смотрел на меня немигающими золотыми глазами. Он не любил меня, сокол Люр. За нами ехали два десятка женщин. Избранные десять моих наиболее преданных прикрывали мне спину. Они ехали близко. Так было в старину. Я любил, чтобы спина у меня была защищена. Это мое уязвимое место, как с врагами, так и с друзьями. Оружейники изготовили для меня легкую кольчугу. Я надел ее. На Люр и ее женщинах тоже кольчуги; все, как и я, вооружены двумя мечами, длинным кинжалом и метательном молотом. Мы ехали на разведку к Сирку. Пять дней я сидел на троне верховного жреца, рядом с Люр и Тибуром, управляя Караком. Люр пришла ко мне — раскаивающаяся в своей особой, гордой манере. Тибур, все высокомерие и вся наглость которого испарились, преклонил колено, предлагая мне союз и заявляя, что его сомнения были всего лишь естественны. Я принял его предложение — с ограничениями. Рано или поздно я должен буду убить Тибура — даже если бы не пообещал Люр это сделать. Но зачем его убивать, пока он не потерял свою полезность? Он обоюдоострое оружие? Что ж, если я при этом порежусь, обращаясь с ним, это будет только моя вина. Лучше изогнутый острый нож, чем прямой, но тупой. Что касается Люр — она сладкая женщина и хитрая. Но она не имеет особого значения. Во мне разливалась какая-то вялость, когда я ехал по ароматному лесу. Я получил в Караке достаточно почестей, чтобы утолить свою уязвленную гордость. Для солдат я стал идолом. Я ехал по улицам под крики народа, и матери поднимали детей, чтобы те увидели меня. Но многие молчали, когда я проезжал, отворачивали головы или смотрели на меня искоса, и в их взгляде виднелись ненависть и страх. Дару, солдата со смелым взглядом, которая предупредила меня о Тибуре, и Нарал, нарядную девушку, давшую мне свой ящичек, я взял к себе и сделал офицерами свой личной стражи. Они были преданы мне и забавны. Только сегодня утром я говорил с Дарой, расспрашивая ее о тех, кто смотрит на меня искоса. — Тебе нужен прямой ответ, господин? — Как всегда, Дара. Она ответила прямо: — Это те, кто ждал Освободителя. Того, кто разорвет цепи. Откроет двери. Принесет свободу. Они говорят, что Двайану всего лишь другой мясник Калкру. Не хуже, может быть. Но, несомненно, не лучше. Я вспомнил выражение странной надежды, которое видел в глазах жертв. Они тоже надеялись на меня как на Освободителя, а вместо этого… — А что ты думаешь, Дара? — То же, что и ты, господин, — ответила она. — Но — мое сердце не разобьется, если золотые цепи будут разорваны. Я думал об этом во время поездки; рядом ехала Люр, и ее сокол смотрел на меня немигающим ненавидящим взглядом. Что такое — Калкру? Очень часто, давным-давно я задумывался над этим. Может ли безграничность приходить по вызову носящего кольцо? Моя империя широко раскинулась под солнцем, луной и звездами. Однако она всего лишь пылинка в солнечном луче сравнительно с империей Духа Пустоты. Неужели такое гигантское содержимое может уменьшиться до размеров пылинки? Ай! Но ведь нет сомнений, что Враг Жизни существует! Но он ли — Враг Жизни — приходит по вызову обладателя кольца? А если не он, стоит ли темное поклонение его цены? Завыл волк. Ведьма откинула назад голову и ответила. Сокол расправил крылья с криком. Мы выехали из леса на открытую поляну, покрытую мхом. Люр остановилась и снова издала волчий вой. Неожиданно нас окружило кольцо волков. Белые волки, чьи зеленые глаза были устремлены на Люр. Красные языки высунуты, сверкают клыки. Топот лап, и так же неожиданно кольцо удвоилось. и еще волки продолжали выскальзывать из чащи, образуя третье, четвертое кольцо, пока нас не окружил широкий белый пояс, испещренный красными искрами волчьих языков и зелеными изумрудами волчьих глаз… Моя лошадь задрожала, я ощутил запах ее пота. Люр сжала коленями бока своей лошади и проехала вперед. Медленно объехала она изнутри белый волчий круг. Подняла руку, что-то сказала. Встал большой волк и подошел к ней. Как собака, он положил морду ей на седло. Она нагнулась схватила его челюсть. Что-то зашептала ему. Волк, казалось, слушал. Потом скользнул обратно в круг и сел, глядя на нее. Я рассмеялся. — Ты женщина или волчица, Люр? Она ответила: — У меня тоже есть последователи, Двайану. Этих тебе не удастся перетянуть на свою сторону. Что-то в ее тоне заставило меня пристальнее взглянуть на нее. Впервые за все время она проявила возмущение или по крайней мере досаду из-за моей популярности. Она не смотрела на меня. Большой волк поднял голову и завыл. Круг разорвался. Волки разбежались, мягко запрыгали перед нами, рассеялись, как разведчики. И растаяли в зеленых тенях. Лес поредел. Высокие папоротники заняли место деревьев. Я услышал странное шипение. Постоянно становилось теплее, воздух заполнился влагой, над папоротниками повисли клочья тумана. Я не видел никаких следов, но Люр ехала уверенно, будто по хорошо обозначенной дороге. Наконец мы въехали в густую заросль папоротников. Тут Люр спрыгнула с лошади. — Отсюда мы пойдем пешком, Двайану. Осталось немного. Я последовал за ней. Наши солдаты выстроились, но не спешились. Мы с ведьмой прошли в зарослях два десятка шагов. Впереди крался большой волк. Люр раздвинула листья. Передо мной лежал Сирк. Справа возвышалась перпендикулярно скала, влажно блестевшая. На ней почти не было зелени, только кое-где небольшие папоротники цеплялись за ненадежную опору. Слева, примерно на расстоянии в четыре полета стрелы, аналогичная скала, расплывавшаяся в дымке. Между ними ровная площадка черного камня. Ее гладкое ровное основание обрывалось в ров, шириной в два сильных броска копья. Площадка изгибалась наружу, и от одной скалы до другой тянулась непрерывная крепостная стена. Ай! Что за ров! Из правой скалы извергался поток. Он свистел и пузырился, а пар из него покрывал всю поверхность скалы, как зеленая вуаль, и падал на нас теплыми брызгами. Он стремительно проносился у основания крепостной стены, и струи пара вздымались с его поверхности, и огромные пузыри образовывались и лопались, разбрасывая обжигающие брызги. Сама крепость невысока. Приземиста и прочно построена. Стена прерывается лишь узкими бойницами ближе к верху. Вдоль верха стены идет парапет. За ним виднелись блестящие острия копий и головы стражников. Только в одном месте находилось нечто похожее на башни. Они располагались ближе к центру, где кипящий ров суживался. На противоположном краю рва виднелся пирс подъемного моста. Сам мост узким языком высовывался между башнями. За крепостью вверх вздымались утесы. Но не от самой крепости. Между ними и ею была щель, примерно в треть длины передней площадки. Перед нами, по нашей стороне кипящего рва, склон был расчищен и от деревьев, и от папоротников. Укрыться негде. Они хорошо выбрали место, эти преступники из Сирка. Осаждающие не смогут преодолеть ров с его кипящей водой и пузырями, вздымающимися из расположенных на дне гейзеров. Ни камни, ни деревья не перегородят его, чтобы образовать мост. С этой стороны Сирк не взять. Это ясно. Но ведь не только отсюда можно подойти к Сирку. Люр, следя за моим взглядом, прочла мои мысли. — Сам Сирк находится за этими воротами, — она указала на проход между скалами. — Там долина, в которой расположен город, поля, стада. Но пройти туда можно только через эти ворота. Я кивнул с отсутствующим видом. Я рассматривал скалу за крепостью. И видел, что ее поверхность, в отличие от утесов, в чьих объятиях лежала площадка, не такая ровная. На ней виднелись осыпи, падавшие обломки образовали грубые террасы. Если попытаться незаметно добраться до этих террас… — Можно ли подобраться ближе к скале, из которой исходит поток, Люр? Она схватила меня за руку, глаза ее сверкнули. — Что ты увидел, Двайану? — Еще не знаю, ведьма. Может, ничего. Можно подойти ближе? — Идем. Мы скользнули сквозь папоротники, обогнули их, рядом скользил, насторожив уши, волк. Воздух становился теплее, от пара стало трудно дышать. Свист громче. Мы пробирались сквозь папоротники, насквозь мокрые. Еще один шаг, и прямо подо мной кипящий поток. Теперь я видел, что он исходит не из самой скалы. Он вырывался из площадки перед ней, от его жара и испарений кружилась голова. Я оторвал кусок рубашки и обернул рот и нос. Фут за футом изучал скалу над потоком. Долго изучал ее, наконец обернулся. — Можно возвращаться, Люр. Она снова спросила: — Что ты увидел, Двайану? То, что я увидел, могло означать конец Сирка, но я не сказал Люр об этом. Мысль еще не сформировалась полностью. Не в моих обычаях говорить о наполовину составленных планах. Это слишком опасно. Почка нежнее цветка, нужно дать ей распуститься, уберечь от нетерпеливых рук и предательского или даже сделанного с лучшими намерениями вмешательства. Продумайте план до конца, испытайте его, тогда вы сможете сознательно обдумывать любые изменения. К тому же я никогда не любил советов: слишком много булыжников, брошенных в источник, замутняют его. Именно поэтому я был — Двайану. Я сказал Люр: — Не знаю. У меня появилась мысль. Но я должен обдумать ее. Она гневно ответила: — Я не глупа. Я знаю войну — как знаю любовь. Я могла бы помочь тебе. Я нетерпеливо отозвался: — Пока не нужно. Когда план будет готов, я тебе сообщу. Она молчала, пока мы не добрались до ожидавших женщин. Потом повернулась ко мне. Голос ее звучал тихо, очень сладко. — Ты мне не скажешь? Разве мы не ровни, Двайану? — Нет, — ответил я и оставил ее решать, был ли это ответ на второй вопрос или сразу на оба. Она села верхом, и мы поехали назад через лес. Я думал, обдумывал увиденное и что оно может означать, когда снова послышался волчий вой. Это был непрерывный звук. Призыв. Ведьма подняла голову, прислушалась, бросила лошадь вперед. Я поскакал за ней. Белый сокол забил крыльями и с криком взмыл в небо. Мы вылетели из леса на покрытый цветами луг. На нем стоял маленький человек. Волки кольцом окружили его. Увидев Люр, они замолчали, сели. Люр сдержала лошадь и медленно подъехала к ним. Я посмотрел ей в лицо, оно было жестко и неподвижно. Я взглянул на маленького человека. Действительно маленький, едва мне по колено, но превосходно сложенный. Маленький золотистый человек с волосами, падающими до ног. Один из рррллия — я рассматривал изображения их на коврах, но живого видел в первый раз. А может, нет? У меня было смутное впечатление, что я раньше был знаком с ними теснее, чем по вышивке на ковре. Белый сокол кружил над его головой, падал вниз, рвал его когтями и клювом. Маленький человек одной рукой защищал глаза, другой пытался отогнать птицу. Ведьма резко крикнула. Сокол подлетел к ней, и маленький человек опустил руки. Его взгляд упал на меня. Он что-то крикнул мне, протянул ко мне руки, как ребенок. В его крике и жесте была мольба. Надежда и какая-то уверенность. Как будто испуганный ребенок увидел взрослого, которого знает и которому верит. В его глазах я увидел ту же надежду, которая на моих глазах умирала в жертвах Калкру. Что ж, я не стану смотреть, как она умрет в глазах этого маленького человека. Я бросил свою лошадь вперед, мимо Люр, и перескочил через волчье кольцо. Наклонившись в седле, я подхватил маленького человека на руки. Он прижался ко мне, издавая странные звуки. Я оглянулся на Люр. Она остановила лошадь за пределами волчьего кольца. Крикнула: «Принеси его мне!» Маленький человек вцепился в меня и разразился потоком певучих звуков. Очевидно, он понимал слова Люр, и также очевидно, просил меня не отдавать его ведьме. Я рассмеялся и покачал головой. В глазах Люр сверкнула быстрая, несдерживаемая ярость. Пусть сердится! Маленький человек не пострадает! Я сжал бока лошади и перескочил через противоположную сторону волчьего кольца. Увидел невдалеке блеск реки и направил коня туда. Ведьма испустила короткий резкий крик. Над моей головой забили крылья, я ощутил движение воздуха. Поднял руку. Она ударила сокола, и он закричал от боли и гнева. Маленький человек прижался ко мне еще теснее. Мелькнуло белое тело вцепилось в луку седла, на меня смотрели зеленые глаза, из красного рта капала слюна. Я быстро оглянулся. За мной устремилась вся стая, а за ней Люр. Волк снова прыгнул. Но к этому времени я уже извлек меч. И перерезал им волчье горло. Прыгнул второй, оторвал кусок одежды. Я одной рукой высоко поднял маленького человека, другой ударил. Теперь река была совсем близко. Я уже на ее берегу. Я высоко поднял маленького человека обеими руками и бросил его далеко в воду. Повернулся, держа в обеих руках мечи, чтобы встретить нападение волчьей стаи. Услышал еще один крик Люр. Волки остановились на бегу так неожиданно, что передний заскользил и перевернулся. Я посмотрел на реку. Далеко виднелась голова маленького человека, длинные волосы плыли за ним; он направлялся к противоположному берегу. Люр подъехала ко мне. Лицо у нее было бледно, глаза жестки, как два голубых камня. Сдавленным голосом она спросила: — Почему ты спас его? Я серьезно задумался. Потом ответил: — Потому что не хочу видеть дважды, как умирает надежда в глазах надеявшихся на меня. Она смотрела на меня; гнев ее не ослабевал. — Ты сломал крыло моего сокола, Двайану. — А что ты больше любишь, ведьма, его крыло или мои глаза? — Ты убил двух моих волков. — Два волка — или мое горло, Люр? Она не ответила. Медленно отъехала к своим женщинам. Но я заметил в ее глазах слезы, прежде чем она отвернулась. Может быть, это слезы гнева, а может, и нет. Но в первый раз я увидел слезы Люр. Мы доехали до Карака, не обменявшись больше ни словом. Она гладила раненого сокола, а я обдумывал увиденное в Сирке. Мы не остались в Караке. Я соскучился по тишине и красоте озера Призраков. Сказал об этом Люр. Она равнодушно согласилась, и мы отправились прямо туда и прибыли в сумерках. Вместе с женщинами поужинали в большом зале. Люр отбросила свое дурное настроение. Если она по-прежнему сердилась на меня, то хорошо это скрывала. Мы веселились, я много выпил. Чем больше я пил, тем яснее становился план взятия Сирка. Хороший план. Немного погодя вместе с Люр я направился в ее башню и смотрел оттуда на водопад и манящие туманные призраки. Тут план окончательно оформился. Затем мой мозг вернулся к Калкру. Я долго раздумывал. Поднял голову и увидел, что Люр внимательно смотрит на меня. — О чем ты думаешь, Двайану? — Я думаю о том, что никогда больше не стану вызывать Калкру. Она медленно и недоверчиво ответила: — Ты это серьезно? — Серьезно. Лицо ее побелело. Она сказала: — Если Калкру не будет получать жертвы, он уничтожит здесь жизнь. Все станет пустыней, как на родине, когда прекратились жертвоприношения. Я ответил: — Неужели? Я больше в это не верю. Да и ты, мне кажется, не веришь, Люр. В старину было много земель, которые не признавали Калкру, там ему не приносили жертвы, но эти земли не превращались в пустыни. И я знаю — хотя и не понимаю, откуда, — что есть и сейчас множество земель, где не признают Калкру, но там процветает жизнь. Даже здесь — рррллия — малый народ — не признает его. Он ненавидит Калкру, ты сама мне об этом говорила, однако земля на том берегу Нанбу не менее плодородна, чем на этом. Она сказала: — Так шептали на нашей родине давно-давно. Потом этот шепот стал громче — и родина превратилась в пустыню. — Но у этого могли быть иные причины, кроме гнева Калкру, Люр. — Какие? — Не знаю. Но ты никогда не видела солнце, луну и звезды. А я видел. И мудрый старик однажды говорил мне, что, кроме солнца и луны, есть и другие солнца, вокруг которых кружатся другие земли, и на них — жизнь. Дух Пустоты, в которой горят эти солнца, должен сильно съеживаться, чтобы в маленьком храме в ничтожном уголке земли проявлять себя перед нами. Она ответила: — Калкру — повсюду Калкру. Он в увядшем дереве, в высохшем ручье. Все сердца открыты ему. Он касается их — и наступает усталость от жизни, ненависть к жизни, желание вечной смерти. Он касается земли, и на месте цветущего луга появляется безжизненная пустыня. Калкру существует. Я обдумал это и решил, что она говорит истину. Но в ее рассуждениях был недостаток. — Я этого не отрицаю, Люр, — ответил я. — Враг Жизни существует. Но то, что является на вызов кольца, — на самом деле Калкру? — А кто же еще? Так нас учили с древности. — Не знаю, кто еще. Многому учили с древности, что не выдержало проверки. Но я не верю, что тот, кто приходит, — Калкру, Дух Пустоты, Тот-К-Кому-Возвращается-Все-Живое и все прочие его титулы. Не верю и в то, что если прекратятся жертвоприношеия, кончится и жизнь здесь. Она ответила очень тихо: — Послушай меня, Двайану. Для меня неважно, что будет с жертвами и жертвоприношениями и вообще все остальное. Для меня важно лишь одно: я не хочу покидать эту землю и не хочу, чтобы она изменялась. Здесь я была счастлива. Я видела солнце, луну и звезды, видела другую жизнь вон в том моем водопаде. Я не пойду туда. Где я найду такое прекрасное место, как мое озеро Призраков? Если прекратятся жертвоприношения, те, кого удерживает только страх, уйдут. За ними последует все больше и больше. Прежняя жизнь, которую я так люблю, кончится вместе с жертвоприношениями, — это несомненно. Если придет опустошение, мы вынуждены будем уйти. А если оно не придет, люди поймут, что все, чему их учили, ложь, и захотят посмотреть, не лучше ли, не счастливее ли жизнь снаружи. Так всегда случалось. Говорю тебе, Двайану, — здесь так не случится! Она ждала ответа. Я молчал. — Если ты не хочешь вызывать Калкру, почему бы не избрать другого вместо тебя? Я пристально посмотрел на нее. Так далеко я еще не готов заходить. Отдать кольцо, а вместе с ним и всю власть! — Есть и другая причина, помимо тех, о которых ты говорил, Двайану. Что это за причина? Я резко ответил: — Многие считают, что я просто кормлю Калкру. Убываю ради него. Мне это не нравится. И я не хочу видеть — то, что видел в глазах женщин, которых я скормил ему. — Вот оно что, — презрительно сказала она. — Сон размягчил тебя, Двайану! Лучше поделись своим планом взятия Сирка, и я его осуществлю. Мне кажется, ты стал слишком мягкосердечен для войны! Это меня укололо, отбросило угрызения совести. Я вскочил, оттолкнув кресло, поднял руку, собираясь ударить ее. Она смело смотрела на меня, в глазах ни следа страха. Я опустил руку. — Не настолько мягок, чтобы поддаваться твоей воле, ведьма, — сказал я. — И я не отступаю от договоров. Я дал тебе Йодина. И дам Сирк и все остальное, что пообещал. До того времени — отложим вопрос о жертвоприношениях. А когда ты хочешь получить Тибура? Она положила руки мне на плечи и улыбнулась, глядя мне в глаза. Обняла меня за шею и поцеловала мягкими красными губами. — Вот теперь, — прошептала она, — ты Двайану! Тот, кого я люблю. Ах, Двайану, если бы ты любил меня так же, как я тебя! Ну, что касается этого, то я любил ее так, как был способен любить женщину… Подобной ей не было. Я повернул ее и крепко прижал, и прежняя беззаботность, прежняя любовь к жизни проснулись во мне. — Ты получишь Сирк. И Тибура, когда захочешь. Она, казалось, задумалась. — Пока еще нет, — ответила наконец. — Он силен и имеет много приспешников. Он будет полезен при взятии Сирка, Двайану. Не раньше этого… — Именно так я и думал, — ответил я. — По крайней мере в одном мы согласны. — Скрепим вином наш мир, — сказала она и позвала служанок. — Есть еще одно, в чем мы согласны. — Она странно взглянула на меня. — Что же это? — Ты сам сказал это, — ответила она, и больше я ничего не смог добиться. Слишком поздно я понял, что она имела в виду, слишком поздно… Вино было хорошее. Я выпил больше, чем следовало. Но план взятия Сирка становился все отчетливее. На следующее утро я проснулся поздно. Люр не было. Я спал, как одурманенный. Смутно помнилось происшедшее накануне вечером, о чем-то мы с Люр поспорили. Я совсем не думал о Калкру. Спросил Овадру, где Люр. Та ответила, что рано утром пришло сообщение: сбежали две женщины, предназначенные для очередного жертвоприношения. Люр подумала, что они будут пробираться в Сирк. И теперь охотится за ними с волками. Я почувствовал раздражение, оттого что она не разбудила меня и не взяла с собой. Мне хотелось увидеть в действии этих белых зверей. Они похожи на больших собак, с помощью которых мы в земле айжиров отыскивали таких же беглецов. Я не поехал в Карак. Весь день занимался фехтованием, борьбой, плавал в озере Призраков — после того как перестала болеть голова. К ночи вернулась Люр. — Поймали их? — спросил я. — Нет, — ответила она. — Они благополучно добрались до Сирка. Мы успели увидеть, как они прошли по мосту. Мне показалось, что она слишком равнодушно отнеслась к своей неудаче, но больше я об этом не думал. Ночью она была весела — и очень нежна со мной. Иногда мне казалось, что, кроме нежности, в ее поцелуях есть и другое чувство. Мне казалось, что это чувство — сожаление. Но и над этим я не задумался.
19. Взятие Сирка
Снова я ехал по лесу к Сирку, слева от меня Люр, рядом с ней Тибур. За моей спиной два моих офицера — Дара и Нарал. Вслед за нами Овадра и двенадцать стройных сильных девушек; их прекрасные тела раскрашены зелеными и черными полосами, они обнажены, только на поясе узкая перевязь. Еще дальше восемьдесят дворян, во главе их друг Тибура Рашча. А еще дальше тысяча лучших солдат-женщин Карака. Мы ехали ночью. Очень важно было добраться до края леса до наступления рассвета. Копыта лошадей завернули в тряпки, чтобы никто не услышал их топот, солдаты продвигались свободным строем, бесшумно. Пять дней прошло с тех пор, как я смотрел на эту крепость. Пять дней скрытных тщательных приготовлений. Только ведьма и Кузнец знали, что я задумал. К тому же мы распространили слух, что готовимся к вылазке против рррллия. До начала выступления даже Рашча, как я считал, не знал, что мы направляемся к Сирку. Все было сделано, чтобы сигнал опасности не достиг Сирка: я хорошо знал, что те, против кого мы выступаем, имеют множество друзей в Караке; они есть, вероятно, даже в рядах идущих за нами. Сутью моего плана была внезапность. Отсюда приглушенный топот лошадей. Отсюда ночной марш. Отсюда тишина, когда мы вышли из леса. Тут мы услышали вой волков Люр. Ведьма соскользнула с лошади и исчезла в зеленой тьме. Мы остановились, ожидая ее возвращения. Все молчали; вой стих; Люр вернулась и села верхом. Как хорошо обученные собаки, волки разбежались перед нами, принюхиваясь к земле, по которой нам предстояло проехать, безжалостные разведчики, которые не пропустят ни одного шпиона, ни одного беглеца из Сирка или в Сирк. Я хотел ударить раньше, негодовал из-за задержек, не хотел делиться планом с Тибуром. Но Люр сказала, что если мы хотим, чтобы Тибур был нам полезен при взятии Сирка, ему следует довериться, и что он будет менее опасен, чем если его оставить в неведении и подозрительности. Что ж, это справедливо. И Тибур первоклассный боец, у которого много сильных друзей. Поэтому я рассказал ему, что увидел, когда стоял вместе с Люр у кипящего рва Сирка, — кусты папоротника, тянувшиеся почти сплошной линией по поверхности скалы от леса на нашей стороне над кипящими гейзерами и до самого парапета. Я считал, что они растут в трещине или осыпи, которая образует карниз. По этому карнизу могут пробраться хладнокровные опытные скалолазы, при этом их не будет видно из крепости, — и тогда они смогут сделать то, что я задумал. Глаза Тибура сверкнули, он рассмеялся, как не смеялся с моей встречи с Калкру. Он сделал только одно замечание: — Первое звено в твоей цепи самое слабое, Двайану. — Верно. Но оно же выковано там, где цепь защиты Сирка слабее всего. — Тем не менее — не хотел бы я быть этим первым звеном. Несмотря на все недоверие, я испытал к нему теплое чувство за такую откровенность. — Благодари богов за свой вес, Ударяющий по наковальне, — сказал я ему. — Не могу представить себе, как ты пробираешься по скале в поисках опоры. Придется выбрать других. Я взглянул на чертеж, который сделал, чтобы прояснить план. — Мы должны ударить быстро. Сколько потребуется на подготовку, Люр? Я вовремя поднял голову, чтобы увидеть быстрый взгляд, которым они обменялись. Но хоть и почувствовал подозрение, оно быстро развеялось. Люр тут же ответила: — Что касается солдат, то мы могли бы выступить сегодня же. Но я не знаю, сколько потребуется, чтобы найти скалолазов. Их придется испытать. На это потребуется время. — Сколько, Люр? Мы должны действовать быстро. — Три дня, пять — я, как смогу, потороплюсь. Больше я не могу обещать. Пришлось согласиться. И вот, пять ночей спустя, мы двигались к Сирку. В лесу было не темно и не светло: странная полутьма, в которой мы сами превратились в теней. Над нами летали светящиеся мотыльки, их свечение освещало нам дорогу. Повсюду дышала жизнь. Но мы несли с собой смерть. Оружие солдаты укрыли, так чтобы не выдать себя блеском, острия копий затемнили; нигде у нас не было сверкания металла. На одежде солдат колесо Люки, чтобы не смешивались друзья и враги после того, как мы ворвемся в Сирк. Люр хотела, чтобы был изображен черный Кракен. Я не разрешил. Мы достигли места, где нужно было оставить лошадей. Здесь наши силы молча разделились. Часть под предводительством Тибура и Рашчи направилась через лес и заросли папоротника на противоположный от подъемного моста край площадки. С нами осталось несколько десятков дворян, Овадра с обнаженными девушками и сотня солдат. У каждого лук и стрелы в хорошо привязанном на спину колчане. У всех короткие боевые топоры, длинные мечи и кинжалы. У всех длинные веревочные лестницы, которые я приказал изготовить; такие же лестницы я использовал давно, когда приходилось брать города. Были и другие лестницы, длинные и гибкие, но деревянные. Я был вооружен только боевым топором и длинным мечом, Люр и дворяне — метательными молотами и мечами. Мы крались к водопаду, чей свист с каждым шагом становился все громче. Неожиданно я остановился, привлек к себе Люр. — Ведьма, можно ли доверять твоим волкам? — Можно, Двайану. — Я думаю, что было бы неплохо отвлечь внимание тех, кто стоит на парапете. Если твои волки повоют, попрыгают и подерутся для отвлечения стражи, это могло бы нам помочь. Она испустила негромкий зов. похожий на вой волчицы. Почти немедленно рядом показалась голова большого волка, того самого, который приветствовал ее во время нашей первой поездки. Его шерсть встала дыбом, когда он посмотрел на меня. Но он не издал ни звука. Ведьма опустилась рядом с ним на колени, взяла в руки его голову, зашептала. Казалось, они перешептываются. Затем, так же неожиданно, как появился, волк исчез. Люр встала, в ее глазах было волчье выражение. — Стража получит развлечение. По спине у меня пробежали мурашки: она все-таки настоящая ведьма. Но я ничего не сказал, и мы двинулись дальше. Подошли к тому месту, с которого я изучал скалу. Раздвинули папоротники и посмотрели в сторону крепости. Вот что мы увидели. Справа от нас, в двадцати шагах, возвышалась крутая стена утеса, которая, продолжаясь над кипящим потоком, образовывала ближний бастион. Укрытие, в котором мы находились, не продолжалось до самой стены. Между нами и рвом находилось пространство примерно в двенадцать шагов; здесь горячие брызги уничтожили всю растительность. Отсюда стена крепости на расстоянии хорошего броска копья. Стена и парапет касались утеса, но они не были видны сквозь густую завесу пара. Именно это я имел в виду, когда сказал, что наше слабое звено будет сковано там, где наиболее слаба защита Сирка. В этом углу не было ни одного часового. В этом не было необходимости — они считали, что могут положиться на жару и горячие испарения. Можно ли пересечь поток здесь, в самом горячем месте? Можно ли взобраться по гладкой мокрой скале? Во всей крепости это самое неприступное место, необходимости в страже нет — так считали защитники Сирка. Поэтому это идеальное место для нападения. Я рассматривал его. На протяжении двухсот шагов ни одного часового. Откуда-то из-за стены виднелся отблеск костра. Он отбрасывал движущиеся тени на каменную насыпь у скальных бастионов; это хорошо, потому что если мы доберемся до этого убежища, мы сами станем похожи на движущиеся тени. Я поманил Овадру и показал на два скальных выступа, которые должны стать целью обнаженных девушек. Выступы располагались вблизи того места, где утес изгибался под парапетом внутрь, и находились примерно на высоте двадцати ростов человека от того места, где я стоял. Овадра подозвала девушек и объяснила им задачу. Они кивнули, глаза их устремились к котлу рва, затем к блестящей вертикальной стене. Я увидел, как некоторые из них вздрогнули. Что ж, нельзя их в этом винить, нет! Мы отползли обратно и отыскали основание утеса. Здесь было достаточно расселин для закрепления лестниц. Мы размотали веревочные лестницы. Деревянные прислонили к скале. Я показал на карниз, который мог бы стать ключом к Сирку, как мог, посоветовал скалолазам, как лучше действовать. Я знал, что карниз не шире ладони. Но выше и ниже его виднелись небольшие расселины, углубления, там можно зацепиться пальцами рук и ног, потому что там росли папоротники. Хай! Они храбры, эти стройные девушки! Мы прикрепили к их поясам прочные веревки и будем держать их, когда они полезут вверх. Они взглянули на перемазанные лица и тела друг друга и рассмеялись. Первая взобралась по лестнице, как белка, нашла опору для рук и ног и поползла по стене. Через мгновение она исчезла, черные и зеленые полосы на ее теле смещались с тусклой зеленью и чернотой утеса. Медленно, медленно первая веревка заскользила в моих пальцах. За ней последовала вторая, потом третья… Я держал в руках шесть веревок. Поднимались другие и вступали на опасную тропу, их веревки держала в своих сильных руках женщина-ведьма. Хай! Какая странная рыбная ловля! Всей своей волей я старался удержать этих девушек-рыб подальше от воды. Медленно — боги, как медленно! — веревки ползли сквозь мои пальцы. И сквозь пальцы ведьмы… медленно… медленно… но все время вперед. Теперь первая стройная девушка уже над котлом… Я представил себе как она прижимается к скользкой скале, ее закрывает поднимающийся из котла пар… Одна из линий ослабла, потом понеслась стремительно, так, что разрезала кожу ладони… снова ослабла… как будто ушла большая рыба… я почувствовал, как веревка оборвалась… Девушка упала! И теперь ее тело растворяется в котле! Вторая веревка ослабла, натянулась и лопнула… потом третья… Три погибли! Я прошептал Люр: — Погибли три! — И две! — ответила она. Я увидел, что глаза ее закрыты, но руки, державшие веревки, не дрожали. Пять стройных девушек! Осталось семь! Люка, поверни свое колесо! Оставшиеся веревки медленно, со многими остановками, продолжали скользить вперед. Четвертая девушка, должно быть, уже миновала ров… она уже перебралась через парапет… она уже укрылась в скалах… сердце билось в горле, я задыхался… Боги — шестая упала! — Еще одна! — простонал я, обращаясь к Люр. — И еще одна! — прошептала она и отбросила одну веревку. Осталось пять… только пять… Люка, храм тебе в Караке — все тебе, милостивая богиня! Что это? Рывок веревки, дважды повторенный. Сигнал! Одна пересекла пропасть! Честь и богатство тебе, стройная девушка!.. — Погибли все, кроме одной, Двайану! — прошептала ведьма. Я снова застонал и посмотрел на нее… Снова двойной рывок — моя пятая веревка! Еще одна в безопасности! — Моя последняя добралась! — шепот Люр. Три в безопасности! Три прячутся среди скал. Рыбная ловля закончилась. Сирк украл три четверти моих приманок. Но теперь Сирк на крючке! Слабость, подобной которой я не знал, расплавила мои кости и мышцы. Лицо Люк белее мела, под глазами черные пятна. Теперь наша очередь. У упавших стройных девушек скоро может появиться компания. Я взял веревку у Люр. Дернул. Почувствовал ответный сигнал. Мы привязали к тонким веревкам более прочные. Когда их потянули, мы к их концам привязали еще более прочные. Они поползли прочь от нас… прочь… прочь… А теперь лестницы — наш мост. Легкие, но прочные лестницы. Такими их научились сплетать много-много лет назад. На их концах когти; зацепившись за что-нибудь, они отцепляются с большим трудом. Мы прикрепили к веревкам концы лестниц. Лестницы поползли от нас через папоротники… в горячее дыхание котла… через него… Невидимые в этом испарении… невидимые в зеленом сумраке… они позли все вперед и вперед… Они в руках трех девушек! Те закрепляют их концы. Под моими руками лестницы натянулись и застыли. Мы закрепили свой конец. Дорога на Сирк открыта! Я обернулся к ведьме. Она стояла, глядя куда-то вдаль. В глазах ее горел зеленый волчий огонь. И неожиданно, сквозь шипение водопада, я расслышал вой ее волков — где-то далеко — далеко. Она расслабилась, опустила голову, улыбнулась мне… — Да, я умею разговаривать с волками, Двайану! Я подошел к лестнице, потянул. Держится прочно. — Я первый, Люр. Пусть ждут, пока я не доберусь. Затем вы, Дара и Нарал, подниметесь, чтобы защищать мне спину. Глаза Люр сверкнули. — Вслед за тобой пойду я. Твои офицеры вслед за мной. Я обдумал ее слова. Ладно, пусть будет так. — Как хочешь, Люр. Но не двигайся, пока я не переберусь. Потом пусть Овадра посылает солдат. Овадра, не более десяти одновременно могут находиться на лестнице. Повяжите им тканью рты и носы. Считайте до тридцати — медленно, вот так, — прежде чем выпустить следующую. Прикрепи мне на спину топор и меч, Люр. Пусть все так же закрепят оружие. Смотрите, как я пользуюсь руками и ногами. Я вцепился в лестницу, широко расставив руки и ноги. Начал подниматься. Как паук. Медленно, чтобы они научились. Лестница раскачивалась, но слегка; угол подъема удобен для меня. Вот я над папоротниками. Вот уже на краю потока. Над потоком. Пар завивался вокруг меня. Скрыл меня. Горячее дыхание гейзера высушило пар. Я ничего не видел, кроме перекладины лестницы непосредственно перед собой… Слава Люке за это! Если все вокруг меня скрыто, значит сам я скрыт от окружающих. Я перебрался через поток. Миновал утес. Теперь я над парапетом. Я спрыгнул с лестницы меж скал — незамеченным. Дернул лестницу. Почувствовал ответный рывок. Лестница отяжелела… еще больше… еще… Я отвязал топор и меч… — Двайану… Я обернулся. Это три девушки. Я начал восхвалять их… сдерживая смех. Черная и зеленая краска из-за пара растеклась и образовала чудовищные узоры. — Дворянство вам, девушки! С этого момента! Зеленый и черный — цвета вашего герба! То, что вы сделали этой ночью, станет легендой в Караке. Я посмотрел в сторону укреплений. Между ими и нами находилась ровная скальная площадка, покрытая песком, не шире половины полета стрелы. Там у костра стояли два десятка солдат. Большая группа виднелась у парапета в сторону моста. Еще солдаты в дальнем конце парапета; все они смотрят на волков. Башни подъемного моста спускаются прямо к площадке. Правая башня — глухая стена. В левой большие ворота. Они открыты и не охраняются. Возможно, их охрана — солдаты у костра. Между башнями спускается широкая рампа, подход к началу моста. Кто-то коснулся моей руки. Рядом со мной стояла Люр. Вслед за ней появились два моих офицера. Затем один за другим — солдаты. Я попросил их подготовить луки, наложить стрелы. Один за другим они растворялись в зеленой тьме. Укрывались в тени скал. Десять человек… двадцать… тридцать… как стрела, шипение потока разорвал крик! Лестница задрожала. Она изогнулась. Снова отчаянный крик… лестница провисла… — Двайану, лестница оборвалась… ай, Овадра… — Тише, Люр. Они могли услышать крик. Лестница не может оборваться… — Вытащи ее, Двайану… вытащи ее! Вместе мы вытащили лестницу. Мы тащили ее как сеть, и быстро. Неожиданно она совсем полегчала… пробежала в наших руках… Концы ее были обрезаны ножом или ударом топора. — Предательство! — сказал я. — Как это возможно… там Овадра… Я продвинулся в тени скал. — Дара, расставь солдат. Пусть Нарал расставит их на дальнем конце. Пусть по сигналу начинают стрелять. По три залпа. Первый по тем, у костра. Второй и третий — по тем у парапета, ближе к башне. Затем за мной. Поняла? — Поняла, господин. Приказ передали по линии; я слышал, как натягиваются тетивы. — Нас меньше, чем мне хотелось бы, Люр, но ничего не поделаешь, придется действовать. Нам теперь не выбраться из Сирка, только с помощью мечей. — Я знаю. Но я думаю о Овадре… — голос ее задрожал. — Она в безопасности. Если бы предателей было много, мы услышали бы звуки боя. Больше не нужно разговаривать, Люр. Мы должны действовать быстро. После третьего залпа ударим по воротам. Я дал сигнал. Лучники встали. Стрелы полетели в стоявших у огня. Мало кто их них остался в живых. Немедленно второй шквал стрел обрушился на стоявших у башни. Хай! Прекрасно стреляют! Как падают те! Еще раз… Свист оперенных стрел! Песня луков! Боги — как хорошо жить снова! Я выскочил из-за скалы, Люр рядом. За нами побежали женщины-солдаты. Мы устремились к воротам башни. Мы были уже на полпути, когда крепость проснулась. Послышались крики. Заревели трубы, воздух заполнился звоном бронзовых гонгов, поднимавших по тревоге спящий Сирк. Мы бежали дальше. Рядом падали копья, свистели стрелы. Из других ворот в стене выбегали солдаты, бежали нам наперерез. Мы уже у двери башни подъемного моста… мы уже в башне! Но не все. Треть упала под ударами копий и стрел. Мы закрыли прочную дверь. Опустили массивные засовы. И вовремя. В дверь застучали молоты обманутой стражи. Помещение каменное, большое и пустое. Кроме двери, через которую мы вошли, выходов нет. Я понял причину этого: никто в Сирке не думал о возможности нападения изнутри. Высоко бойницы смотрят на ров, под ними платформы для лучников. У одной стены рычаги, приводящие в движение подъемный мост. Все это я увидел одним быстрым взглядом. Прыгнул к рычагам и начал поворачивать их. Завертелись колеса. Мост начал опускаться. Ведьма поднялась на платформу для лучников, выглянула наружу; поднесла к губам рог; послала через прорезь в стене призыв — сигнал Тибуру и его войску. Стук в дверь прекратился. Начались сильные ритмичные удары. Удары тарана. Крепкое дерево дрожало от них, засовы скрипели. Люр крикнула мне: — Мост опущен, Двайану! По нему поднимается Тибур Становится светлее. Начинается рассвет. Ведут лошадей. Я выругался. — Люка, пошли ему разум не топать по мосту на лошади! — Он делает это! Только он, и Рашча, и еще с полдюжины других… остальные спешились… Хай! в них стреляют из бойниц… среди них падают копья… Сирк берет свою дань… Послышался громовой удар в дверь. Дерево раскололось… Громовой рев. Крики, вопли боя. Удары меча о меч, свист стрел. И над всем этим хохот Тибура. Таран больше не бил в дверь. Я отбросил засовы, приготовил топор приоткрыл дверь и выглянул. По рампе от моста бежали солдаты Карака. Я открыл дверь шире. У основания башни и начала моста лежали мертвые защитники крепости. Я вышел. Солдаты увидели меня. — Двайану! — прозвенел их крик. Из крепости слышались удары большого гонга — предупреждение Сирку. Сирк больше не спал!
20. «Тсантаву, прощай!»
В Сирке слышался шум, похожий на гудение огромного потревоженного улья. Гремели трубы, били барабаны. Удары множества гонгов отвечали тому единственному, который продолжал бить где-то в сердце захваченной крепости. Теперь через мост устремились женщины — солдаты Карака, пока вся площадь не заполнилась ими. Кузнец повернул свою лошадь, оказался лицом ко мне. — Боги, Тибур! Хорошо сделано! — Не было бы сделано, если бы не ты, Двайану! Ты увидел, ты понял, ты сделал. Мы лишь младшие участники. Что ж, это правда. Но в этот момент Тибур мне почти нравился. Жизнь моей крови! Не игрушка — повести войска по мосту! Кузнец — солдат! Лишь бы был верен мне — и к Калкру ведьму! — Очисть крепость, Ударяющий по наковальне! Нам не нужны стрелы в спину. — Будет сделано, Двайану. Метлой меча и молота, копья и стрелы крепость была очищена. Гром гонга замер на половине удара. В плечо мне уперся носом мой жеребец, он мягко подул мне в ухо. — Ты не забыл мою лошадь! Руку, Тибур! — Веди нас, Двайану! Я прыгнул в седло. Высоко поднял боевой топор, развернул жеребца и поскакал к городу. Я летел, как стрела. Тибур слева от меня, женщина-ведьма справа, солдаты за нами. Через скальный портал мы ворвались в Сирк. Живая волна встретила нас, чтобы отбросить назад. Взлетали молоты, рубили топоры, пролетали копья и оперенные стрелы. Моя лошадь споткнулась и с криком упала; ее задние ноги были подрублены. Кто-то схватил меня за плечи, поднял. Мне улыбалась женщина-ведьма. Она отрубила руку, тянувшую меня к груде мертвых. Топором и мечом мы расчистили вокруг себя круг. Я вскочил на спину серого жеребца, с которого упал дворянин, ощетинившийся стрелами. Мы ударились о живую волну. Она подалась, завиваясь вокруг нас. Вперед и вперед! Рубить топором и колоть мечом! Резать, рубить и пробиваться! Завивавшаяся волна отброшена. Перед нами лежал Сирк. Я сдержал лошадь. Сирк лежал перед нами — но не приглашал нас! Город лежал в углублении между крутыми неприступными черными скалами. Край прохода к городу находился выше городских крыш. Дома начинались на расстоянии полета стрелы. Красивый город. Нет ни цитадели, ни форта, ни храмов, ни дворцов. Только каменные дома, около тысячи, с плоскими крышами, расставленные редко, окруженные садами, между ними широкие улицы, усаженные деревьями. Много газонов. За городом возделанные поля и цветущие сады. И никакой преграды. Путь открыт. Слишком открыт! На крышах домов я увидел блеск оружия. Слышался стук топоров, заглушавший рев труб и барабанный бой. Хай! Они строят на улицах баррикады из деревьев, готовят нам сотни засад, ожидают, что мы прямо устремимся на них. Расставляют свои сети прямо на виду у Двайану! Однако они неплохо владеют тактикой. Это лучшая защита. Я не раз встречался с ней в войнах с варварами. Это значит, что нам придется сражаться за каждый шаг, каждый дом превращается в крепость, стрелы летят в нас с каждой крыши и из каждого окна. В Сирке есть предводитель, который сумел за короткое время так организовать сопротивление. Я почувствовал уважение к этому предводителю, кем бы он ни был. Он избрал единственный возможный путь к победе — если только его противник не знает контрмер. Я их знал. Мне тяжело досталось это знание. Сколько сможет предводитель продержать защитников в их тысячах крепостей? Как всегда, в этом опасность этого способа защиты. Каков первоначальный импульс жителей города, в который ворвался враг? Обрушиться на врага, выйдя из своих крепостей, как это делают муравьи или пчелы. Не часто находится достаточно сильный вождь, способный удержать их от этого. Если каждый дом Сирка останется связанным с другими, останется активной частью целого, Сирк непобедим. Но если их начнут отсекать одного за другим? Изолировать? Отрезать от предводителя? Хай! Тогда в отчаянии они поползут из всех щелей! Их погонит ярость и отчаяние, вытянет, как на веревках. Они выбегут — убивать и быть убитыми. Утес обрушится — камень за камнем. Печенье будет съедено нападающими — крошка за крошкой. Я разделил наших солдат и одну часть послал против Сирка небольшими отрядами, с приказом разойтись по городу и использовать любые укрытия. Они должны взять любой ценой крайние дома, стрелять в окна и по крышам, взламывать двери. Другие будут нападать на соседние дома, но они не должны далеко отходить друг от друга и не углубляться в город. Я набрасывал на Сирк сеть и не хотел, чтобы ее ячейки были разорваны. Уже наступил день. Солдаты двинулись вперед. Я видел, как вверх и вниз устремляются стрелы, свистя при этом, как змеи. Слышал, как стучат топоры о двери. Клянусь Люкой! Вот на одной крыше появился флаг Карака! Еще один. Шум в Сирке становился громче, в нем слышались ноты безумия. Хай! Я знал, что они долго не выдержат. И я узнал этот звук. Скоро он станет почти непереносим. Его издают люди в отчаянии! Хай! Скоро они выскочат… Тибур бранился рядом со мной. Я взглянул на Люр: она дрожала. Солдаты шумели, они рвались в бой. Я видел их голубые глаза, твердые и холодные, их лица под шлемами — не лица женщин, а юных воинов… тот, кто ждет от них женского милосердия, проснется в холодном поту. — Клянусь Зардой! Битва кончится, прежде чем мы сможем обнажить лезвие! Я рассмеялся. — Терпение, Тибур! Терпение — наше лучшее оружие. И Сирка тоже, если бы они знали это. Пусть первыми утратят это оружие. Шум становился громче. В начале улицы появилось с полсотни солдат Карака, они сражались против большего числа защитников Сирка, которых становилось все больше, они выбегали из домов и с перекрестных улиц осажденного города. Этого момента я и ждал! Я отдал приказ. Издал воинский клич. Мы двинулись на них. Наши солдаты расступились, пропустили нас и смешались с теми, кто шел за нами. Мы ударили в защитников Сирка. Они отступали, но при этом отчаянно сражались, и многие седла дворян опустели, и многие лошади бегали без всадников, прежде чем мы преодолели первую баррикаду. Хай! Но как они сражались из-за торопливо поваленных деревьев — женщины, мужчины и дети, едва способные согнуть лук или поднять меч! Теперь солдаты Карака начали нападать на них с боков; солдаты Карака стреляли в них с крыш домов, которые они покинули; мы сражались с Сирком, как он планировал сражаться с нами. И те, кто противостоял нам, скоро отступили, побежали, и мы были на баррикаде. Сражаясь, мы добрались до сердца Сирка — большой красивой площади, на которой били фонтаны и цвели цветы. Брызги фонтанов стали алыми, и когда мы уходили с площади, на ней не осталось цветов. Мы заплатили здесь тяжелую дань. Половина дворян была убита. Копье ударило меня в шлем и чуть не свалило с лошади. Я ехал без шлема, весь в крови, кричал, с меча капала кровь. Нарал и Дара были ранены, но по-прежнему защищали мою спину. Ведьма, Кузнец и его приближенные оставались невредимы. Послышался топот копыт. На нас устремилась волна всадников. Мы поскакали им навстречу. Мы столкнулись, как две волны. Слились. Смешались. Засверкали мечи. Ударили молоты. Загремели топоры. Хай! Теперь рукопашная — вот это я знаю и люблю больше всего! Закружился безумный водоворот. Я взглянул направо и увидел, что ведьму отделили от меня. Тибура не было видно. Что ж, они, несомненно, постоят за себя, где бы ни были. Направо и налево взмахивал я мечом. Передо мной, перед нападавшими на меня, над шлемами солдат Карака, разделявших нас, появилось смуглое лицо… смуглое лицо, с него на меня напряженно смотрели глаза… все время на меня… все время… Рядом с этим человеком другой, стройная фигура… Карие глаза этого устремлены тоже на меня… В них ненависть, а в черных понимание и печаль. Черные глаза и карие глаза затронули что-то глубоко-глубоко во мне… Они напоминали о чем-то… звали меня… будили что-то спящее. Я услышал собственный голос, отдававший приказ прекратить схватку; все боевые крики поблизости стихли. Солдаты Сирка и Карака стояли молча, удивленно глядя на меня. Я тронул лошадь, поехал между телами, пристально глядя в черные глаза. Странно, почему я опустил меч… почему я так стою… почему печаль в этих глазах разрывает мне сердце… Человек со смуглым лицом произнес два слова: — Лейф!.. Дегатага!
… Дегатага!.. То, что спало, проснулось, устремилось наружу, раскачивая мозг… разрывая его… потрясая каждый нерв… Я услышал крик — голос ведьмы. Через кольцо солдат пронеслась лошадь. На ней Рашча, зубы оскалены, холодные глаза глядят в мои. Он поднял руку. В ней сверкнул кинжал и погрузился в спину того, кто назвал меня — Дегатага! Назвал меня… Боже, я его знаю! Тсантаву! Джим! Теперь то, что спало, полностью проснулось… мой мозг принадлежал ему… это я сам… Двайану забыт! Я бросил лошадь вперед. Рашча готов был нанести второй удар — всадник с карими глазами размахивал перед ним мечом, а Джим падал, сползал по боку своей лошади. Я перехватил руку Рашчи, прежде чем он смог ударить снова. Схватил его руку, загнул назад, услышал, как треснула кость. Рашча завыл, как волк. Молот пролетел рядом с моей головой, промахнувшись на волос. Я увидел, как Тибур возвращает его за ремень. Я наклонился, вырвал Рашчу из седла. Его здоровая рука схватила меня за горло. Я перехватил эту руку и загнул ее назад. И тоже сломал. Лошадь моя споткнулась. Одной рукой держа Рашчу за горло, другой сжимая его, я упал на него. Извернулся и бросил его себе на колено. Моя рука переместилась с горла на грудь. Левая нога зажала его. Быстрый удар сверху вниз — звук, как от сломанной хворостины. Ломающий Спины больше ничего не сломает. Его собственная спина сломана. Я вскочил на ноги. Посмотрел в лицо всадника с карими глазами…
… Эвали!.. Я закричал: «Эвали!» Неожиданно битва вокруг меня разгорелась заново. Эвали повернулась, чтобы отбить нападение. Ее закрыли широкие плечи Тибура… он стащил ее с лошади… в левой руке его что-то сверкнуло… полетело ко мне… Я бросился в сторону — недостаточно быстро… Что-то ударило меня по голове. Я опустился на четвереньки, слепой и глухой. Потом услышал смех Тибура, пытался побороть слепоту и головокружение, чувствовал, как кровь струится по лицу… Прижавшись к земле, раскачиваясь на коленях, слышал, как битва прошумела надо мной и ушла в сторону. Головокружение прошло. Слепота миновала. Я по-прежнему стоял на четвереньках. Подо мной тело человека… человека, чьи черные глаза смотрели на меня с пониманием… с любовью. Я почувствовал прикосновение к плечу, с трудом поднял голову. Это Дара. — Волосок между жизнью и смертью, господин. Выпей это. Она поднесла к моим губам флакон. Горькая горячая жидкость пробежала по внутренностям, придала устойчивости, силы. Теперь я видел вокруг себя кольцо женщин-солдат, меня охраняли… за ними еще одно кольцо, на лошадях. — Ты меня слышишь, Лейф? У меня мало времени… Я наклонился. — Джим! Джим! О Боже, зачем ты пришел сюда? Возьми меч и убей меня! Он взял меня за руку, сжал ее. — Не будь дураком, Лейф! Ты не виноват… спаси Эвали! — Я спасу тебя, Тсантаву, унесу отсюда… — Заткнись и слушай. Со мной кончено, Лейф, я это знаю. Кинжал пробил кольчугу и погрузился в легкие… Я истекаю кровью… внутри… дьявол, Лейф! Не воспринимай слишком тяжело… Это могло произойти на войне… В любое время… Не твоя вина… Меня передернуло рыдание, слезы смешались с кровью на лице. — Я убил его, Джим, я убил его! — Я знаю, Лейф… отличная работа… Я видел… я кое-что должен сказать тебе… — голос его стих. Я поднес к его губам флакон… это вернуло его к жизни… — Сейчас… Эвали… тебя ненавидит! Спаси ее… Лейф… что бы она ни сделала. Послушай. Через малый народ из Сирка нам передали сообщение, что ты хочешь там с нами встретиться. Что ты изображаешь из себя Двайану… Что ты только делаешь вид, что ничего, кроме Двайану, не помнишь… чтобы устранить подозрения и захватить власть… Ты собираешься ускользнуть… прийти в Сирк и повести нас против Карака. Ты хочешь, чтобы я был рядом с тобой… тебе нужна Эвали, чтобы убедить пигмеев… — Я ничего не посылал тебе, Джим! — простонал я. — Я знаю — теперь… Но тогда мы поверили… Ты спас Шри от волков и бросил вызов ведьме… — Джим, сколько времени прошло между спасением Шри и этим лживым посланием? — Два дня… Но какое это имеет значение? Я рассказал Эвали… что с тобой… снова и снова рассказывал ей твою историю… Она не поняла… но поверила мне… Еще немного, Лейф… я ухожу… И опять жгучая жидкость оживила его. — Мы добрались до Сирка… два дня назад… перебрались через реку с Шри и двадцатью пигмеями… было легко… слишком легко… волки не выли, хотя я знал, что они следят за нами… выслеживают нас… и не только они… Мы ждали… потом началось нападение… и я понял, что мы в ловушке… Как вы перебрались через гейзеры?.. неважно… но… Эвали считает, что ты послал сообщение… что ты… предатель… Глаза его закрылись. Руки были холодны, холодны. — Тсантаву, брат, не верь! Тсантаву, вернись, поговори со мной… Его глаза открылись, я с трудом расслышал… — Ты не Двайану… Лейф? Не будешь им… никогда? — Нет, Тсантаву… не покидай меня! — Наклони… голову… ближе, Лейф… спаси Эвали… Голос его звучал все слабее. — Прощай… Дегатага… не вини себя… Тень прежней сардонической улыбки пробежала по его бледному лицу. — Ты не выбирал… своих проклятых… предков!.. Не повезло… Нам было хорошо… вместе… Спаси… Эвали… Из его рта полилась кровь. Джим умер… умер! Тсантаву больше нет!
КНИГА ЛЕЙФА
21. Возвращение в Карак
Я склонился к Джиму и поцеловал его в лоб. Встал. Я онемел от горя. Но под немотой кипел мучительный гнев, мучительный ужас. Смертоносный гнев против ведьмы и Кузнеца — ужас перед самим собой, ужас перед… Двайану! Нужно найти Тибура и ведьму — но сначала нужно сделать кое-что еще. Они и Эвали могут подождать. — Дара, пусть его поднимут. Отнесите его в один из домов. Я пошел вслед за солдатами, уносившими тело Джима. Сражение продолжалось, но далеко от нас. А вокруг нас только мертвые. Я решил, что последние очаги сопротивления Сирка находятся в конце долины. Дара, Нарал, я и с полдюжины солдат прошли в сломанные двери того, что еще вчера было уютным домом. В центре его находился небольшой зал с колоннами. Остальные солдаты остались снаружи, охраняя вход. Я приказал снести в зал стулья, кровати и все, что может гореть, и сложить все это в погребальный костер. Дара сказала: — Господин, позволь перевязать твои раны. Я сел и размышлял, пока она омывала рану у меня на голове жгучим вином. Мозг мой по-прежнему странно застыл, но работал четко. Я Лейф Ленгдон. Двайану больше не хозяин моего мозга — и никогда не будет. Но он жив. Он живет, как часть меня. Шок от появления Джима растворил Двайану в Лейфе Ленгдоне. Как будто два противоположных течения слились; как будто соединились две капли; как будто сплавились два металла. Кристально ясно помнил я все, что видел и слышал и думал с того момента, как был сброшен с моста Нансур. И кристально ясно, болезненно ясно помнил все, что происходило до того. Двайану не умер, нет! Он часть меня, и теперь я несравненно сильнее. Я могу использовать его, его силу, его мудрость — но он не может использовать меня. Я во главе. Я хозяин. И я думал, сидя здесь, что если хочу спасти Эвали, если хочу совершить и другой поступок, который обязан совершить, даже если придется умереть, внешне я должен оставаться Двайану. В этом моя власть. Нелегко объяснить происшедшее со мной превращение моим солдатам. Они верили в Двайану и следовали за мной как за Двайану. Если даже Эвали, знавшая меня как Лейфа, любившая меня как Лейфа, слышавшая объяснения Джима, — даже если она не смогла понять, как могут понять остальные? Нет, они не должны заметить перемены. Я ощупал голову. Порез глубокий и длинный; очевидно, только крепкий череп спас меня. — Дара, кто нанес эту рану? — Тибур, господин. — Он пытался убить меня… Почему он не закончил? — Левая рука Тибура всегда приносила смерть. Он считал, что не может промахнуться. Он увидел, что ты упал, и решил, что ты мертв. — А смерть прошла на расстоянии волоса. И если бы кто-то не оттолкнул меня… Это была ты, Дара? — Я, Двайану. Я видела, как он поднял руку, поняла, что последует. Бросилась тебе в ноги, чтобы он меня не видел. — Ты боишься Тибура? — Нет, я не хотела, чтобы он знал, что промахнулся. — Почему? — Чтобы у тебя было больше возможности убить Тибура, господин. Твоя сила уменьшилась со смертью твоего друга. Я пристально посмотрел на своего смелого офицера. Что она знает? Узнаю позже. Я посмотрел на костер. Он был почти готов. — А что он метнул, Дара? Она достала из-за пояса любопытное орудие, подобного которому я никогда не видел. Конец его был заострен, как кинжал, с четырьмя острыми, как бритва, ребрами. Металлическая рукоять, круглая, похожая на древко маленького копья. Весило оружие около пяти фунтов. Металл, из которого оно изготовлено, я не узнал: плотнее, тяжелее, чем лучшая сталь. В сущности это метательный нож. Ни одна кольчуга не выдержала бы удара этого острия, да еще брошенного с силой Кузнеца. Дара взяла его у меня и потянула за короткое древко. Немедленно острые ребра растопырились, как ножи. На конце каждого ребра острая колючка. Дьявольское оружие! Его невозможно извлечь, только вырезать, а если потянешь, высвобождаются эти ребра и еще глубже впиваются в тело. Я взял оружие у Дары и спрятал его за пояс. Если раньше у меня и были сомнения, как поступить с Тибуром, теперь никаких сомнений не было. Погребальный костер был закончен. Я взял Джима и положил его наверх. Поцеловал его глаза, вложил в мертвую руку меч. Снял висевшие на стенах богатые ковры и накрыл его. Ударил по огниву и поднес огонь к костру. Сухое смолистое дерево быстро занялось. Я смотрел, как пламя и дым сомкнулись над Джимом. Потом с сухими глазами, но со смертью в сердце вышел из дома. Сирк пал, и грабеж был в полном разгаре. Повсюду из разграбленных домов поднимался дым. Прошел отряд солдат, подгоняя пленных — около четырех десятков, все женщины и дети, некоторые ранены. Потом я понял, что те, кого я принял за детей, на самом деле золотые пигмеи. Увидев меня, солдаты остановились, изумленно застыли. Неожиданно один из них крикнул: «Двайану! Двайану жив!» Все подняли мечи в приветствии, послышался крик: «Двайану!» Я подозвал командира. — Вы считали, что Двайану умер? — Так нам сказали, господин. — А сказали ли, кто меня убил? Женщина заколебалась. — Говорят, Тибур… случайно… он метнул оружие в предводителя Сирка, который угрожал тебе… и попал в тебя… и что твое тело унесли защитники Сирка… не знаю… — Довольно. Иди с пленными в Карак. Не мешкай и никому не рассказывай, что встретила меня. Это приказ. Я хочу, чтобы пока меня считали умершим. Солдаты странно переглянулись, отсалютовали и ушли. Желтые глаза пигмеев, полные ядовитой ненависти, не отрывались от меня, пока они не скрылись из виду. Значит, так все им представили! Хай! Они меня боятся, иначе бы не стали рассказывать о случайной смерти. Я неожиданно принял решение. Нет смысла отыскивать Тибура в Сирке. Меня увидят, и Тибур и ведьма узнают, что я жив. Они должны прийти ко мне, ни о чем не подозревая. Из Сирка ведет только один выход — через мост. Здесь я буду ждать их. Я повернулся к Даре. — Мы идем к мосту, но не по этой дороге. Пойдем боковыми тропами, пока не доберемся до утесов. Они повернули лошадей, и я впервые осознал, что весь мой маленький отряд — всадники. Это моя стража, многие их них были пешими, но теперь все на лошадях, а на многих седлах цвета дворян, сопровождавших меня, Тибура и ведьму в походе на Сирк. Нара, видя мое замешательство и поняв его причину, сказала, как всегда вызывающе: — Это наиболее преданные, Двайану. Лошади были свободны, а некоторых мы сделали такими. Сторонники Тибура — не допускай больше ошибок в их оценке. Я ничего не отвечал, пока мы не отъехали от горящего дома и не углубились в боковую улицу. Потом попросил: — Дара, Нарал, отъедем на минуту. Когда мы отъехали от остальных, я сказал: — Я вам обязан жизнью, особенно тебе, Дара. Все, что могу вам дать, ваше. А от вас прошу только одного — правды. — Двайану, ты ее услышишь. — Почему Тибур захотел убить меня? Нарал сухо ответила: — Не только Кузнец хотел тебя убить, Двайану. — Кто еще, Нарал? — Люр… и большинство дворян. — Но почему? Разве я не взял для них Сирк? — Ты стал слишком силен, Двайану. Люр и Тибур никогда не согласятся на второе место… или третье… или ни на какое вообще. — Но у них была возможность и раньше. — Но тогда ты бы не взял для них Сирк, — сказала Дара. Нарал негодующе заявила: — Двайану, ты играешь с нами. Ты знаешь, как и мы… лучше нас… их мотивы. Ты пришел сюда с другом, которого мы оставили на погребальном костре. Все это знают. И если должен был умереть ты, то и он тоже. Он не должен был жить, не должен был уйти и, может, вернуться с другими сюда… потому что я знаю, да и другие тоже, что жизнь существует не только здесь… что Калкру не принадлежит верховная власть над миром, как говорят нам дворяне. И вот в Сирке ты и твой друг. И не только вы, но и смуглая девушка. А ее пленение или смерть могли подорвать дух малого народа и привести его под владычество Карака. Вы все втроем — вместе! Двайану, именно тут они и должны были ударить. И Люр и Тибур так и сделали: убили твоего друга, думают, что убили тебя, и захватили смуглую девушку. — А если я убью Тибура, Нарал? — Тогда начнется война. И ты должен хорошо охранять себя, потому что большинство дворян тебя ненавидит, Двайану. Им сказали, что ты против старых обычаев, что ты хочешь унизить их и поднять народ. Даже собираешься положить конец жертвоприношениям… Она украдкой взглянула на меня. — А если это правда? — Большинство солдат с тобой, Двайану. Если это правда, с тобой будет весь народ. Но у Тибура есть друзья, даже среди солдат. И Люр тоже не сбрасывай со счета. Она злобно дернула повод лошади. — Лучше убей и Люр, пока намерен мстить, Двайану. Я не ответил на это. Мы молча ехали по улице. Всюду мертвецы, взломанные дома. Мы выехали из города и направились по узкой равнине к щели между утесами. На дороге никого не было, поэтому мы въехали в щель незамеченными. Из нее выехали на площадь перед крепостью. Тут было множество солдат — а также пленники. Я ехал в середине своего отряда, пригнувшись к спине лошади. Дара грубо перевязала мою голову. Повязка и шлем скрывали мои светлые волосы. Всюду была сумятица, и я проехал незамеченным. Подъехал прямо к входу в башню, в которой мы скрывались, когда Карак штурмовал мост. Соскочил с лошади, полуприкрыл дверь. Мои женщины собрались снаружи у двери. Вряд ли им помешают. Я сел в ожидании Тибура. Ждать было трудно. Лицо Джима над лагерным костром, лицо Джима, улыбающееся мне из траншеи. Лицо Джима над моим, когда я лежал во мху на пороге миража… лицо Джима под моим на улице Сирка… Тсантаву! Ай, Тсантаву! И ты считал, что из леса может прийти только красота! Эвали? Что мне Эвали в этом аду изо льда и раскаленного гнева? «Спаси Эвали!» — просил Джим. Что ж, я спасу Эвали! Но помимо этого она для меня не больше… чем ведьма… ну, может, немного больше… но сначала нужно свести счет с ведьмой… Пока мне не до Эвали… Лицо Джима… всегда лицо Джима… плывет передо мной… Я услышал шепот: — Двайану, Тибур приближается! — Люр с ним, Дара? — Нет… только группа дворян. Он смеется. Везет в седле смуглую девушку. — Далеко ли он, Дара? — На расстоянии полета стрелы. Он едет медленно. — Когда я выеду, сомкнитесь за мной. Схватка будет между мною и Тибуром. Не думаю, чтобы его сопровождающие вмешались. Но если они вмешаются… Нарал рассмеялась. — Если они вмешаются, мы вцепимся им в глотки, Двайану. Я бы хотела свести счеты с одним-двумя друзьями Тибура. Просим только об одном: не трать ни слов, ни времени на Тибура. Убей его быстро. Клянусь богами, если он убьет тебя, то нас, всех, кого он захватит, ждет кипящий котел или нож. — Я убью его, Нарал. Я медленно открыл большую дверь. Теперь я видел Тибура, его лошадь вступала на конец моста. На луке его седла была Эвали. Тело ее свисает, черно-синие волосы распущены и скрывают лицо, как вуалью. Руки связаны за спиной, их держит Тибур одной рукой. Вокруг и за ним два десятка приближенных — дворяне, большинство из них мужчины. Я заметил, что среди охраны и гарнизона ведьмы мало мужчин, Кузнец предпочитал их в качестве друзей и личной охраны. Его голова и плечи повернуты к ним, я ясно различал его торжествующий голос и смех. Площадь почти опустела. Интересно, где теперь ведьма. Тибур приближался. — Готовы, Дара… Нарал? — Готовы, господин! Я распахнул дверь. Поскакал к Тибуру, склонив голову, мое маленькое войско за мной. Прямо перед ним я поднял голову, лицо мое оказалось рядом с его лицом. Все тело Тибура напряглось, глаза глядели в мои, челюсть отвисла. Я знал, что его сопровождающие в таком же оцепенении. Прежде чем Кузнец смог очнуться от паралича, я выхватил из его рук Эвали и передал ее Даре. Поднес меч к горлу Тибура. Я не предупреждал его. Не время для рыцарства. Дважды он предательски пытался убить меня. Нужно кончать быстро. И хоть мой удар был быстр, Кузнец оказался быстрее. Он отпрянул назад, упал с лошади, но приземлился, как кошка, на ноги. Я был на земле, прежде чем он смог поднять свой большой молот. Я снова попытался ударить его по горлу. Он отразил удар молотом. И тут безумный гнев овладел им. Молот со звоном упал на камень. Тибур с воем бросился на меня. Он обхватил меня руками, прижал мои руки к бокам, как живыми стальными лентами. Ногами он пытался свалить меня. Зубы его были оскалены, как у бешеного волка, он пытался добраться зубами до моего горла. Ребра мои трещали под усиливающейся хваткой Тибура. Легкие работали с напряжением, зрение затуманилось. Я дергался и извивался в попытках освободиться, отодвинуться от горячего рта и ищущих зубов. Вокруг я слышал крики, слышал и смутно видел топчущихся лошадей. Скорченные пальцы моей левой руки коснулись пояса… нащупали там что-то… что-то похожее на древко копья… Дьявольское орудие Тибура! Неожиданно я обвис в объятиях Тибура. Взревел его смех, хриплый от торжества. И на мгновение он разжал руки. Этой доли секунды мне хватило. Я собрал все силы и вырвался. Прежде чем он смог схватить меня снова, моя рука метнулась за пояс и схватила рукоятку. Я выхватил оружие и всадил его в горло Тибура, как раз под челюстью. И дернул за рукоять. Открывшиеся острые ребра разрезали артерии и мышцы. Ревущий хохот Тибура сменился отвратительным бульканьем. Руки его ухватились за рукоять, дернули ее… вырвали… Кровь хлынула из разрубленного горла. Колени Тибура подогнулись, он покачнулся и упал у моих ног… задыхаясь… руки его слабо дергались… Я стоял, хватая воздух, кровь шумела в ушах. — Выпей, господин! Я посмотрел на Дару. Она протягивала мне мех с вином. Я взял его дрожащими руками и отпил. Хорошее вино меня подстегнуло. Неожиданно я отвел мех от губ. — Смуглая девушка рррллия… Эвали. Она не с тобой. — Она здесь. Я посадила ее на другую лошадь. Была схватка, господин. Я посмотрел в лицо Эвали. Она смотрела на меня холодным, непримиримым взглядом. — Вымой лицо остатками вина, господин. Ты не подходящее зрелище для нежной девушки. Я провел рукой по лицу, она стала красной от крови. — Кровь Тибура, Двайану, слава богам! Дара подвела мою лошадь. В седле я почувствовал себя лучше. Взглянул на Тибура. Пальцы его еще слабо дергались. осмотрелся. На краю моста группа лучников Карака. Они подняли в приветствии луки. — Двайану! Да здравствует Двайану! Мое войско казалось странно маленьким. Я позвал: «Нарал!» — Погибла, Двайану. Я говорила, была схватка. — Кто ее убил? — Неважно. Я его убила. А остатки эскорта Тибура бежали. Что теперь, господин? — Подождем Люр. — Нам ждать недолго: вон она едет. Послышались звуки рога. Я повернулся и увидел скачущую по площади ведьму. Ее рыжие пряди развевались, меч покраснел, она была почти так же вымазана кровью, как я. С ней ехало несколько ее женщин и половина ее дворян. Я ждал ее. Она остановила лошадь, осмотрела меня блестящими глазами. Мне следовало убить ее, как Тибура. Я должен был ненавидеть ее. Но я обнаружил, что не могу ее ненавидеть. Всю ненависть я истратил на Тибура. Нет, я не ненавидел ее. Она слегка улыбнулась. — Тебя трудно убить, Желтоволосый! — Двайану, ведьма. Она полупрезрительно взглянула на меня. — Ты больше не Двайану! — Попробуй в этом убедить солдат, Люр. — О, я знаю, — сказала она и взглянула на Тибура. — Значит, ты убил Кузнеца. Что ж, по крайней мере ты все еще мужчина. — Убил для тебя, Люр, — насмехался я. — Разве я не обещал тебе? Она не ответила, только спросила, как перед этим Дара: — А что теперь? — Подождем, пока не опустошим Сирк. Потом поедем в Карак, ты рядом со мной. Мне не нравится, когда ты у меня за спиной, ведьма. Она спокойно поговорила со своими женщинами, потом сидела, склонив голову, думая, ни слова не говоря мне. Я прошептал Даре: — Можно доверять лучникам? Она кивнула. — Попроси их подождать и идти с нами. Пусть оттащат куда-нибудь тело Тибура. С полчаса шли солдаты, с пленниками, со скотом, лошадьми и другой добычей. Проскакал небольшой отряд дворян. Они остановились, заговорили, но по моему слову и кивку Люр проехали по мосту. Большинство дворян при виде меня казались встревоженными; солдаты приветствовали меня радостно. Последний небольшой отряд выехал их расщелины, ведущей в Сирк. Я искал Шри, но его не было, и я решил, что его отвели в Карак с пленными раньше. А может, он убит. — Идем, — сказал я ведьме. — Пусть твои женщины едут перед нами. Я подъехал к Эвали, снял ее с седла и посадил перед собой. Она не сопротивлялась, но я почувствовал, как она отстраняется. Я понимал, о чем она думает: она сменила Тибура на другого хозяина, она всего лишь военная добыча. Если бы я не так устал, вероятно, мне было бы больно. Но мой мозг слишком устал, чтобы реагировать на это. Мы проехали по мосту над вьющимися парами рва. Мы находились на полпути к лесу, когда ведьма откинула голову и послала долгий воющий зов. Из папоротников выскочили белые волки. Я приказал лучникам приготовить луки. Люр покачала головой. — Незачем стрелять в них. Они идут в Сирк. Они заслужили награду. Белые волки устремились к мосту, пробежали по нему, исчезли. — Я тоже выполняю свои обещания, — сказала ведьма. Мы поехали через лес в Карак.
22. Ворота Калкру
Мы были близко к Караку, когда начали бить барабаны малого народа. На мне все более нависала свинцовая усталость. Я старался не уснуть. Какое-то отношение к этому имел удар Тибура, но я испытал и другие удары, к тому же я ничего не ел с утра. Я не в состоянии был думать, тем более планировать, что нужно сделать по прибытии в Карак. Барабаны малого народа разогнали мою усталость, я пришел в себя. Вначале они ударили, как гром над белой рекой. После этого они забили в медленном, постоянном ритме, полном непримиримой угрозы. Как будто смерть встала у пустых могил и наступила на них, прежде чем подойти ближе к нам. При первых же звуках Эвали выпрямилась, напряженно слушала каждым нервом. Я сдержал лошадь и заметил, что ведьма тоже остановилась и прислушивается с напряжением, не меньшим, чем у Эвали. Что-то невыразимо тревожное было в этом монотонном бое. Что-то в нем было выходящее за пределы человеческого опыта, более древнее, чем человек. Как будто в унисон бились тысячи сердец, единым неизменным ритмом… безжалостным, неумолимым… он захватывал все новые и новые пространства… распространялся, расширялся… и вот они уже бьют повсюду вдоль белой Нанбу Я обратился к Люр. — Я думаю, это последнее мое обещание, ведьма. Я убил Йодина, отдал тебе Сирк, убил Тибура — и вот твоя война с рррллия. Я не подумал о том, как это прозвучит для Эвали. Она повернулась и бросила на меня долгий презрительный взгляд. А Люр она сказала холодно на ломаном уйгурском: — Это война. Разве ты не ожидала этого, когда захватила меня? Война, пока мой народ не освободит меня. Лучше обращайтесь со мной осторожнее. Люр потеряла контроль над собой, вырвался долго сдерживаемый гнев. — Отлично! Мы сотрем твоих желтых псов с лица земли раз и навсегда. Я с тебя сдерут кожу или выкупают в котле — или отдадут Калкру. Выиграют твои псы или проиграют, от тебя мало что останется. С тобой поступят, как я захочу. — Нет, — сказал я, — как я захочу, Люр. Голубые глаза сверкнули. А карие глаза смотрели на меня все с тем же презрением. — Дай мне лошадь. Мне не нравится твое прикосновение… Двайану. — Тем не менее ты поедешь со мной, Эвали. Мы въехали в Карак. Барабаны били то громко, то тихо. Но все с тем же неизменным безжалостным ритмом. Он поднимался и падал, поднимался и падал. Как смерть, шагающая по пустым могилам — то тяжело, то легко. На улицах было много народу. Все смотрели на Эвали и перешептывались. Не было ни приветственных криков, ни веселья. Все казались подавленными, испуганными. Я понял, что они так напряженно вслушиваются в бой барабанов, что едва воспринимают наш проезд. Теперь барабаны звучали ближе. Я слышал их звуки прямо с противоположного берега реки. И язык говорящих барабанов покрывал все остальные звуки. Он повторял и повторял: — Э-ва-ли! Э-ва-ли! Мы въехали на площадь перед черной крепостью. Тут я остановился. — Мир, Люр. Она бросила насмешливый взгляд на Эвали. — Мир! А зачем тебе теперь мир между нами, Двайану? Я спокойно ответил: — Я устал от кровопролития. Среди пленных есть рррллия. Прикажем привести их сюда, чтобы они могли поговорить с Эвали и с нами двумя. Потом часть их отпустим и отправим через Нанбу с посланием, что мы не причиним вреда Эвали. Попросим рррллия прислать на утро посольство для переговоров о постоянном мире. Если договоримся, они смогут забрать с собой Эвали целой и невредимой. Она, улыбаясь, ответила: — Значит, Двайану боится карликов? Я повторил: — Я устал от кровопролития. — Боже мой! — вздохнула она. — А не единожды слышала, как Двайану хвастает, что всегда выполняет обещания — и поэтому он получил плату авансом. Боже мой, как изменился Двайану! Она ужалила меня, но я сумел сдержать гнев; я сказал: — Если ты не согласна, Люр, я сам отдам приказ. Но тогда наш город будет осажден и станет легкой добычей врага. Она обдумала мои слова. — Значит, ты не хочешь войны с маленькими желтыми псами? И считаешь, что если мы вернем им девушку, войны не будет? Тогда зачем ждать? Почему не отправить обратно всех пленников? Отведи их на Нансур, начни переговоры с карликами. Барабанный разговор быстро решит дело — если ты прав. И тогда в эту ночь барабаны не будут нарушать твой сон. Верно. Но я ощутил в ее словах угрозу. Правда заключалась в том, что я не хотел отправлять Эвали назад. Если она уйдет, я знал, что у меня никогда не будет шанса оправдаться в ее глазах, сломать ее недоверие, вернуть веру в то, что я Лейф, которого она любит. Если выиграю время, смогу добиться этого. И ведьма тоже знает это. — Не следует торопиться, Люр, — вежливо сказал я. — Они подумают, что мы их боимся; ведь ты тоже так решила. Для заключения такого договора нужно что-то большее, чем торопливые сообщения барабанов. Нет, задержим девушку как заложника, пока не договоримся об условиях. Она склонила голову, думая, потом посмотрела на меня ясными глазами и улыбнулась. — Ты прав, Двайану. Я пошлю за пленниками, как только смою с себя грязь Сирка. Их приведут к тебе. Тем временем я сделаю больше. Я пошлю сообщение карликам на Нансуре, что скоро их товарищи прибудут туда с посланием. Это по крайней мере даст нам время. А время нам необходимо — нам обоим. Я пристально взглянул на нее. Она рассмеялась и пришпорила свою лошадь. Я проехал за ней через ворота на большую огражденную площадь. Она была заполнена солдатами и пленниками. Здесь барабаны звучали громче. Казалось, барабаны, невидимые, бьют в самом городе. Солдаты были явно обеспокоены, пленники возбуждены и вели себя вызывающе. Пройдя в крепость, я собрал офицеров, не принимавших участия в нападении на Сирк, и приказал усилить охрану стен, выходящих на мост Нансур. Приказал отдать сигнал тревоги, который приведет к нам солдат с внешних постов и окружающих ферм. Приказал усилить охрану городских ворот и передать всем желающим укрыться в городе, что они могут это сделать, но только до наступления сумерек. Оставался час до наступления ночи. Так что они успеют. Все это я сделал на случай, если наше предложение будет отвергнуто. Если его отвергнут, я не желаю участвовать в кровопролитии в Караке, которое будет сопровождать осаду, пока мне не удастся убедить малый народ в своей доброй воле. Или убедить Эвали, что я стремлюсь к миру. Сделав все это, я отвел Эвали в свои комнаты — не в помещения верховного жреца с черным осьминогом на стене, а в анфиладу удобных комнат в другой части крепости. Меня сопровождал небольшой отряд, с которым я был в Сирке. Здесь я передал Эвали Даре. Вымылся, переоделся, мои раны промыли и перевязали. Окна мои выходили на реку, и в них раздражающе звучали барабаны. Я приказал принести еды и вина и привести Эвали. Дара привела ее. О ней позаботились, но она отказалась поесть со мной. Она сказала мне: — Боюсь, мои люди не поверят твоим посланиям, Двайану. — Поговорим об этом позже, Эвали. А что касается того первого послания, я не посылал его. И Тсантаву, умирая у меня на руках, верил, что я не посылал его. — Я слышала, как ты сказал Люр, что пообещал ей взять Сирк. Ты не солгал ей, Двайану: Сирк уничтожен. Как я могу тебе поверить? Я ответил: — Ты получишь доказательство, что я говорю правду. А теперь, поскольку не хочешь есть со мной, иди с Дарой. С Дарой ей не будет плохо. Дара солдат, а не лживый предатель, и сражение в Сирке, как и любое другое сражение, часть ее профессии. Эвали ушла с Дарой. Ел я мало, а выпил много. Вино придало мне бодрости, усталость покинула меня. Я решительно отставил на время печаль о Джиме, думая о том, что предстоит сделать и как сделать это лучше. Послышался стук в дверь, и вошла ведьма. Ее рыжие волосы были причесаны в форме короны, в них сверкали сапфиры. Ни следа сегодняшнего сражения, ни следа усталости. Глаза чистые и ясные, красные губы улыбаются. Голос негромкий и сладкий. Прикосновение к руке вызвало у меня воспоминания, которые я считал ушедшими с Двайану. Она позвала, и за ней вошло несколько солдат и два десятка пигмеев, не связанных; при виде меня в их глазах вспыхнула ненависть, но и любопытство тоже. Я спокойно заговорил с ними. Послал за Эвали. Она вошла, и золотые пигмеи бросились к ней, окружили, как толпа детей, щебеча и напевая, гладя ее волосы, касаясь ее рук и ног. Она рассмеялась, одного за другим назвала их по имени, потом быстро заговорила. Я мало понял из сказанного ею; по потемневшему лицу Люр я догадался, что она вообще ничего не поняла. Я повторил Эвали точно то же, что сказал Люр и что, хотя бы отчасти, она уже знала: она выдала себя, что знает язык уйгуров или, вернее, айжиров лучше, чем признавала это. Потом перевел то, что понял, с языка карликов для Люр. Договор был заключен быстро. Половина пигмеев должна была немедленно отправиться через Нанбу в гарнизон на том конце моста. При помощи барабанов оттуда наше послание перешлют в крепость малого народа. Если условия будут приняты, боевые барабаны немедленно замолчат. Я сказал Эвали: — Когда они будут передавать сообщение, пусть добавят, что от них не потребуется ничего, кроме того, что было в прежнем договоре. И что смерть больше не будет ожидать тех, кто пересечет реку. Ведьма сказала: — Что это значит, Двайану? — Сирка теперь нет и нет необходимости в наказании, Люр. Пусть собирают травы и металлы, где хотят; вот и все. — Ты задумал что-то еще… — Глаза ее сузились. — Они меня понимают, Эвали, но повтори им это сама. Пигмеи защебетали друг с другом; затем десять выступили вперед: они понесут сообщение. Когда они уже собрались уходить, я остановил их. — Если Шри бежал, пусть придет с посольством. Еще лучше — пусть придет раньше. Пошлите при помощи барабанов сообщение, чтобы он приходил как можно скорее. Я даю ему охранную грамоту. Он останется с Эвали, пока не договоримся обо всем. Они обсудили мои слова, согласились. Ведьма ничего не сказала. Впервые я заметил, как смягчился обращенный ко мне взгляд Эвали. Когда пигмеи ушли, Люр позвала кого-то из коридора. Вошла Овадра. — Овадра! Мне она нравилась. Хорошо, что она жива. Я пошел к ней с протянутыми руками. Она взяла их. — Это были два наших солдата, господин. У них сестры в Сирке. Они перерезали лестницу, прежде чем мы смогли остановить их. Они убиты, — сказала она. Почему они не перерезали ее до того, как кто-нибудь смог последовать за мной? Прежде чем я заговорил, послышался стук в дверь и вошел один из моих офицеров. — Сумерки наступили, господин, и ворота заперты. Все, кто хотел, вошли. — И много вошло? — Нет, господин… не более сотни. Остальные отказались. — Почему? — Ты приказываешь отвечать, господин? — Приказываю. — Они сказали, что они в безопасности вне крепости. Что у них нет причин ссориться с рррллия, что они всего лишь мясо для Калкру. — Довольно, солдат! — голов Люр прозвучал резко. — Иди! Уведи с собой рррллия! Офицер отсалютовал, энергично повернулся и ушел вместе с карликами. Я рассмеялся. — Солдаты перерезали лестницу из сочувствия защитникам Сирка. Люди меньше боятся врагов Калкру, чем соплеменников, мясников Калкру. Мы правильно поступаем, заключив мир с рррллия, Люр. Ее лицо вначале побледнело, потом покраснело, она так сжала кулаки, что побелели костяшки пальцев. Улыбнулась, налила себе вина и недрогнувшей рукой подняла кубок. — Пью за твою мудрость, Двайану! Сильная личность, эта ведьма! У нее сердце воина. Правда, не хватает женской мягкости. Но неудивительно, что Двайану любил ее — по-своему и настолько, насколько он вообще мог любить женщину. В комнате повисла тишина, странно подчеркнутая боем барабанов. Не знаю, как долго мы сидели молча. Неожиданно бой барабанов стал слабее. И затем совсем прекратился. Тишина казалась чем-то нереальным. Я почувствовал, как расслабляются напряженные нервы. От неожиданной тишины заболело в ушах, медленнее забилось сердце. — Послание получено. Они приняли условия, — сказала Эвали. Ведьма встала. — Ты оставишь себе девушку на ночь, Двайану? — Она будет спать в одной из этих комнат. Ее будут охранять. Никто не сможет пройти к ней, миновав эту мою комнату. — Я со значением посмотрел на нее. — А я сплю некрепко. Так что не бойся, что она сбежит. — Я рада, что барабаны не потревожат твой сон, Двайану. Она насмешливо отсалютовала мне и вышла вместе с Овадрой. Неожиданно на меня снова обрушилась усталость. Я повернулся к Звали, которая смотрела на меня с выражением сомнения. В ее глазах определенно не было ни презрения, ни отвращения. Что ж, вот я и добился того, чего добивался всеми этими маневрами. Она наедине со мной. И я понял, что после всего, что она видела, после всего, что испытала из-за меня, слова бесполезны. Да и не мог я сказать всего, что хотел. Нет, впереди много времени… может быть, утром, когда я высплюсь… или после того, как сделаю то, что задумал… тогда она поверит… — Спи спокойно, Эвали. Спи без страха… и поверь, что все, что было неправильно, будет исправлено. Иди с Дарой. Тебя будут хорошо охранять. Никто не сможет пройти к тебе, кроме как через эту комнату, а здесь буду я. Спи и ничего не бойся. Я позвал Дару, объяснил ей, что нужно делать, и Эвали ушла с ней. У занавеса, закрывавшего вход в соседнюю комнату, она заколебалась, полуобернулась, будто собираясь сказать что-то, но передумала. Вскоре вернулась Дара. Она сказала: — Она уже спит, Двайану. — Спи и ты, друг, — ответил я. — И все, кто был сегодня со мной. Я думаю, ночью опасаться нечего. Отбери таких, кому можно полностью доверять. Пусть охраняют коридор и вход в эту комнату. Где ты ее положила? — Через комнату, Двайану. — Будет лучше, если ты и остальные будут спать здесь. К вашим услугам с полдесятка комнат. Захватите с собой вина и хлеба, побольше. Она рассмеялась. — Ты ожидаешь осаду, Двайану? — Заранее никогда нельзя знать. — Ты не вполне доверяешь Люр, господин? — Я совсем ей не доверяю, Дара. Она кивнула и повернулась, чтобы идти. Повинуясь внезапному импульсу, я сказал: — Дара, лучше ли ты будешь спать сегодня и легче ли тебе будет отбирать стражу, если я скажу тебе: пока я жив, жертвоприношений Калкру не будет? Она вздрогнула, лицо ее посветлело, смягчилось. Она протянула мне руку: — Двайану, мою сестру отдали Калкру. Ты на самом деле хочешь этого? — Клянусь жизнью! Клянусь всеми богами! — Спи спокойно, господин! — Она задыхалась. Вышла, но я успел заметить на ее глазах слезы. Что ж, женщина имеет право плакать, даже если она солдат. Я сам сегодня плакал. Я налил себе вина, пил его и размышлял. В основном о загадке Калкру. И для этого были причины. Что такое Калкру? Я снял цепь с шеи, открыл ящичек и стал рассматривать кольцо. Закрыл ящичек и поставил его на стол. Я чувствовал, что пока размышляю, лучше убрать кольцо подальше от сердца. У Двайану были сомнения относительно этого чудовища: на самом ли деле оно Дух Пустоты? Я, Лейф Ленгдон и пассивный Двайану, теперь не сомневался, что это не так. Но я не мог и принять теорию Барра о массовом гипнозе. А мошенничество вообще вне вопроса. Кем или чем бы ни был Калкру, он, как сказала ведьма, существовал. Или по крайней мере существовала тень, которая при помощи ритуала и кольца становилась материальной. Я думал, что мог бы принять все происшествие в оазисе за галлюцинацию, если бы оно не повторилось здесь, в земле теней. Нет никаких сомнений в реальности жертвоприношения, которое я совершил; никакого сомнения в уничтожении — поглощении — растворении — двенадцати девушек. Нет сомнения в том, что Йодин верил в способность щупальца уничтожить меня, в том, что оно уничтожило его самого. И подумал, что если жертвы и Йодин стоят где-то в боковом крыле и смеются надо мной, как предполагал Барр, то это крыло где-то в другом мире. И к тому же глубочайший ужас малого народа, ужас большинства айжиров — и восстание в древней земле айжиров, вызванное тем же ужасом, которое уничтожило в ходе гражданской войны саму землю айжиров. Нет, чем бы ни было это существо, как бы ни противоречило его признание науке, как бы его ни называть — атавизм, суеверие, — оно существовало. Оно не с этой земли, несомненно. Оно не сверхъестественное. Точнее сверхъестественное, если считать таким приходящее из другого измерения или из иного мира, недоступного нашим органам чувств. И я подумал, что наука и религия действительно кровные сестры, именно поэтому они так не выносят друг друга. Ученые и богословы одинаковы в своем догматизме, в своей нетерпимости. Но как есть в церкви люди, чей мозг не окаменел в религиозном догматизме, так же и в лабораториях можно встретить людей с неокаменевшим мозгом. Эйнштейн, который осмелился бросить вызов всем нашим представлениям о пространстве и времени в четырехмерном мире, в котором само время является измерением, который дал доказательства существования пятимерного пространства вместо четырехмерного, доступного нашим органам чувств… возможность того, что десятки миров совмещаются в пространстве вместе с нашим… энергия, которая может стать материей, если настроить ее на другую вибрацию… и все эти миры не подозревают о существовании друг друга… полностью опровергнутая старая аксиома, что два тела не могут одновременно занимать одно и то же пространство… И я подумал: что если давным-давно один из айжиров, древний ученый, обнаружил все это? Открыл пятое измерение, помимо длины, высоты, ширины и времени? Или открыл один из тех смежных миров, чья материя проникает сквозь щели нашего мира? И, открыв этот мир, он нашел средства вызывать жителей этого мира в наш, дал им возможность проникать к нам? Звуком и жестом, кольцом и экраном создал ворота, через которые могут проходить эти существа из другого мира — или по крайней мере становиться видными. Какое оружие приобрел этот открыватель, какое оружие получили жрецы! Если это так, то одно или множество существ ютятся в этом входе в поисках глотка жизни? Воспоминания, завещанные мне Двайану, говорили, что в земле айжиров существовали и другие храмы, помимо того, в оазисе. То же ли самое существо появлялось во всех храмах? То же ли существо, появлявшееся в экране храма оазиса, появляется и в храме земли миража? Или их много — существ из другого измерения или из другого мира, тех, что алчно отвечают на призыв? Не обязательно, чтобы в своем мире эти существа имели форму Кракена. Возможно, именно такую форму они принимают на выходе под влиянием законов природы. Некоторое время я размышлял над этим. Мне казалось, что это объясняет появление Калкру. И если это так, то чтобы избавиться от Калкру, нужно уничтожить средства, при помощи которых он появляется в нашем мире. Именно это и хотели сделать древние жители земли айжиров. Но почему только представители древней крови могут вызывать?.. Я услышал негромкий голос у двери. Неслышно подошел, прислушался. Открыл дверь: со стражниками говорила Люр. — Что тебе нужно, Люр? — Я хочу поговорить с тобой. Это займет немного времени, Двайану. Я рассматривал ведьму. Она стояла неподвижно, в глазах ее не было вызова, не было расчетливости — только просьба. Рыжие пряди падали на белые плечи. Она была без оружия, без украшений. И выглядела моложе, чем всегда, какая-то жалкая. У меня не было желания насмехаться над ней или отказывать. Напротив, во мне шевельнулась жалость. — Входи, Люр… и говори, что у тебя на уме. Я закрыл за ней дверь. Она подошла к окну, выглянула в тускло светящуюся ночь. Я подошел к ней. — Говори тише, Люр. Девушка спит в соседней комнате. Пусть спит. Она без всякого выражения сказала: — Я хотела бы, чтобы ты никогда не появлялся здесь, Желтоволосый. Я подумал о Джиме и ответил: — Я тоже хотел бы этого, ведьма. Но я здесь. Она прислонилась ко мне, положила руку мне на сердце. — Почему ты так меня ненавидишь? — Я не ненавижу тебя, Люр. Во мне ни к кому нет ненависти — только к одному. — И это?.. Я невольно взглянул на стол. Здесь горела свеча, ее пламя освещало ящичек с кольцом. Она посмотрела туда же. Сказала: — Что ты собираешься сделать? Раскрыть Карак перед карликами? Восстановить мост Нансур? Править Караком и рррллия вместе со смуглой девушкой? Если так… что станет с Люр? Ответь мне… Я любила тебя, когда ты был Двайану… ты хорошо это знаешь… — И убила бы меня, пока я был Двайану, — мрачно добавил я. — Потому что я видела, как умирает Двайану, когда ты смотрел в глаза незнакомца, — ответила она. — Ты, кого победил Двайану, убивал Двайану. А я его любила. Разве я не должна было отомстить за него? — Если ты веришь, что я больше не Двайану, значит я человек, друга которого ты заманила в ловушку и убила, человек, чью любимую ты захватила и хотела убить. И если это так, то какое право ты имеешь на меня, Люр? Она некоторое время молчала; потом ответила: — У меня есть оправдание. Я тебе сказала, что любила Двайану. Кое-что я о тебе знала с самого начала, Желтоволосый. Но я видела, как в тебе просыпается Двайану. И знала, что это истинно он. Я знала также, что пока живы этот твой друг и смуглая девушка, Двайану в опасности. Поэтому я задумала вызвать их в Сирк. Я пыталась убить их раньше, чем ты с ними увидишься. Тогда, думала я, все будет хорошо. Тогда не сможет вернуться того, кто был побежден Двайану. Я проиграла. Я поняла это, когда по своему капризу Люка свела вас троих вместе. Гнев и печаль охватили меня… и я сделала… то, что сделала… — Люр, — сказал я, — ответь мне правдиво. В тот день, когда ты вернулась на озеро Призраков после охоты на двух женщин… не были ли это твои посыльные, которые должны были отнести в Сирк ложное послание? И не ждала ли ты сообщения, что мой друг и смуглая девушка в ловушке, прежде чем дать сигнал к выступлению? И не было ли у тебя мысли, что тогда — если я открою дорогу в Сирк — ты сможешь избавиться не только от них, но и от Двайану? Вспомни: ты любила Двайану, но, как сказал он тебе, власть ты любила больше. А Двайану угрожал твоей власти. Отвечай правдиво. Вторично я увидел слезы на глазах ведьмы. Она ответила разбито: — Да, я послала шпионов. Я ждала, пока эти двое не окажутся в ловушке. Но я никогда не хотели причинить вред Двайану. Я не поверил ей. Но по-прежнему не испытывал ни гнева, ни ненависти. Только растущую жалость. — Люр, теперь я скажу тебе правду. Я не собираюсь править Караком и рррллия вместе с Эвали. У меня больше нет желания власти. Оно ушло с Двайану. В мире, который я заключу с карликами, ты будешь править Караком — если пожелаешь. Смуглая девушка уйдет с ними. Она не захочет оставаться в Караке. И я не захочу… — Ты не можешь уйти с нею, — прервала она меня. — Желтые псы никогда не будут доверять тебе. Их стрелы всегда будут нацелены на тебя. Я кивнул: эта мысль давно пришла мне в голову. — Все это уладится, — сказал я. — Но жертвоприношений больше не будет. Ворота Калкру закроются навсегда. Я закрою их. Глаза ее расширились. — Ты хочешь сказать… — Я хочу сказать, что навсегда закрою Калкру дорогу в Карак — разве что Калкру окажется сильнее меня. Она беспомощно стиснула руки. — Какая польза мне тогда от Карака… как смогу я удержать его жителей? — И все-таки… я уничтожу ворота Калкру. Она прошептала: — Боги, если бы у меня было кольцо Йодина… Я улыбнулся в ответ. — Ведьма, ты так же хорошо, как и я, знаешь, что Калкру не приходит на зов женщины. Колдовские огоньки загорелись в ее глазах; в них мелькнул зеленоватый отблеск. — Существует древнее пророчество, Желтоволосый. Двайану его не знал… или забыл. В нем говорится, что когда Калкру придет на зов женщины, он — останется. Именно поэтому ни одной женщине в земле айжиров не позволено было становиться жрицей и проводить жертвоприношения. В ответ я рассмеялся. — Отличный любимчик — вдобавок к твоим волкам, Люр. Она пошла к двери, остановилась. — Что, если бы я полюбила тебя… как любила Двайану? Ты смог бы любить меня, как любил Двайану? И еще сильнее! Отправь смуглую девушку к ее народу и сними с них наказание смертью за переход на эту сторону Нанбу. Станешь ли ты править вместе со мной Караком? Я открыл перед ней дверь. — Я тебе уже сказал, что мне не нужна власть, Люр. Она вышла. Я пошел к окну, подвинул к нему кресло и сидел, размышляя. Неожиданно откуда-то поблизости от крепости послышался волчий вой. Он прозвучал три раза, потом еще трижды. — Лейф! Я вскочил на ноги. Рядом со мной была Эвали. Через вуаль своих волос она смотрела на меня; ее глаза светились, в них не было сомнения, ненависти, страха. Это были глаза прежней Эвали. — Эвали! Я обнял ее, мои губы отыскали ее губы. — Я слышала, Лейф! — Ты веришь, Эвали? Она поцеловала меня, прижалась ко мне. — Но она права, Лейф. Ты не можешь вернуться со мной в землю малого народа. Они никогда, никогда не поймут. А я не стану жить в Караке. — Пойдешь ли ты со мной, Эвали? В мою землю? После того как я сделаю… то, что должен сделать… и если не погибну при этом? — Я пойду с тобой, Лейф! Она немного поплакала и потом уснула у меня на руках. Я поднял ее, отнес в соседнюю комнату, укрыл. Она не проснулась. Я вернулся к себе. Проходя мимо стола, взял ящичек и хотел надеть на шею цепь. Потом поставил его на место. Никогда не надену больше эту цепь! Не выпуская из рук меча, я лег в кровать. И уснул.
23. В храме Калкру
Дважды я просыпался. Первый раз меня разбудил волчий вой. Волки выли как будто прямо под окном. Я сонно прислушался и снова заснул. Второй раз я проснулся от беспокойного сна. Я был уверен, что меня разбудил какой-то звук в комнате. Рука моя упала на рукоять меча, лежавшего на полу рядом с кроватью. У меня было ощущение, что в комнате кто-то есть. В зеленой полутьме, наполнявшей комнату, ничего не было видно. Я негромко спросил: — Эвали, это ты? Ни ответа, ни звука. Я сел, даже опустил ноги на пол, чтобы встать. Потом вспомнил, что за дверью стража, что рядом Дара и ее солдаты, и сказал себе, что проснулся только от тревожного сна. Но некоторое время я лежал прислушиваясь, сжимая меч в руке. Потом снова уснул. Послышался стук в дверь, я проснулся. Уже давно рассвело. Я тихо подошел к двери, чтобы не разбудить Эвали. Открыл ее. Среди стражников был Шри. Маленький человек пришел в полном вооружении, с копьем, изогнутым ножом, а за плечами — маленький, но удивительно звучный барабан. Он дружески посмотрел на меня. Я потрепал его по руке и указал на занавес. — Эвали там, Шри. Разбуди ее. Он прошел мимо меня, я поздоровался с охраной и повернулся вслед за Шри. Он стоял у занавеса, глядя на меня, в глазах его не было дружеского выражения. Он сказал: — Эвали здесь нет. Я недоверчиво смотрел на него, потом оттолкнул и вбежал в комнату. Она была пуста. Я подошел к груде шелков и подушек, на которых спала Эвали, потрогал ее. Тепло не чувствуется. Вместе с Шри я пошел в следующую комнату. Здесь спали Дара и с полдюжины женщин. Я коснулся плеча Дары. Она, зевая, села. — Дара, девушка исчезла! — Исчезла! — она смотрела на меня так же недоверчиво, как я только что на золотого пигмея. Вскочила, вбежала в соседнюю комнату, потом вместе со мной по другим комнатам. Там спали солдаты. Эвали не было. Я вернулся в свою комнату. Меня охватил бешеный гнев. Быстро, хрипло допросил стражу. Они никого не видели. Никто не входил, никто не выходил. Золотой пигмей слушал, не отрывая от меня взгляда. Я пошел в комнату Эвали. Проходя мимо стола, я увидел ящичек. Моя рука опустилась на него, приподняла. Он непривычно легок… Я открыл его… Кольца Калкру в нем не было! Я смотрел на него — огнем жгло меня осознание того, что может означать отсутствие кольца и Эвали. Я застонал, ухватился за стол, чтобы не упасть. — Бей в барабан, Шри! Созывай свой народ! Пусть идут быстрее! Может, еще успеем! Золотой пигмей засвистел, глаза его превратились в бассейны желтого огня. Он не знал всего ужаса моей мысли, но прочел достаточно. Он подскочил к окну, выставил свой барабан и стал посылать один призыв за другим — категоричные, гневные, злые. И немедленно послышался ответ — сначала с Нансура, а потом со всего пространства за рекой зазвучали барабаны малого народа. Слышит ли их Люр? Конечно, слышит. Но остановит ли ее их угроза? Она поймет, что я проснулся, что малый народ знает о ее предательстве и о судьбе Эвали. Боже! Если она услышит… пусть задержится, даст возможность спасти Эвали! — Сюда, господин! — Вместе с пигмеем мы заторопились на зов Дары. В комнате, где спала Эвали, на месте соединения двух камней висел кусок шелка. — Здесь проход, Двайану. Так они ее взяли. Они торопились: кусок шелка застрял, когда камни закрывались. Я поискал, чем бы ударить по камню. Но Дара уже нажимала тут и там. Камень отодвинулся. Шри мимо меня пробежал в темный туннель, который открывался за камнем. Я заторопился за ним, за мной Дара и остальные. Проход оказался узким и коротким. Кончался он сплошной каменной стеной. И тут Дара стала нажимать в разных местах, пока стена не открылась. Мы вбежали в комнату верховного жреца. Глаза Кракена смотрели на меня с непостижимой злобой. Но мне показалось, что теперь в них вызов. Вся бессмысленная ярость, весь слепой гнев покинули меня. Их место заняли холодная осмотрительность, целеустремленность, не допускавшие спешки… Слишком поздно спасти Эвали? Но никогда не поздно уничтожить тебя, мой враг! — Дара, приведи лошадей. Собери как можно больше людей, которым можно доверять. Бери только самых сильных. Пусть ждут у выезда на дорогу к храму… Мы поедем кончать с Калкру. Скажи им об этом. Я заговорил с золотым пигмеем. — Не знаю, сможем ли мы помочь Эвали. Но я собираюсь положить конец Калкру. Хочешь подождать своих или пойдешь со мноЙ? — Пойду с тобой. Я знал, где в черной крепости находится жилище Люр, это недалеко. Я знал также, что там ее не найду, но мне нужно было быть уверенным. И к тому же она может отвезти Эвали на озеро Призраков, думал я, минуя группы молчаливых, обеспокоенных, недоумевающих и приветствующих меня солдат. Но в глубине души я знал, что это не так. В глубине души я знал, что именно Люр ночью разбудила меня, Люр, прокравшаяся в комнату, чтобы украсть кольцо Калкру. И есть только одна причина, почему она сделала это. Нет, на озере Призраков ее нет. Однако… если она побывала в моей комнате, почему она не убила меня? Или собиралась, но я проснулся м позвал Эвали, и это ее остановило? Побоялась заходить так далеко? Или пощадила меня сознательно? Я дошел до ее комнат. Люр здесь не было. Не было никого из ее женщин. Помещения пусты, нет даже охраны. Я побежал. Золотой пигмей сопровождал меня, копье в левой руке, кривой нож — в правой. Мы добежали до выезда на дорогу к храму. Здесь меня ждали три или четыре сотни солдат. Все верхом — и все женщины. Я сел на лошадь, которую подвела ко мне Дара, посадил к себе в седло Шри. Мы поскакали к замку. Мы были уже на полпути, когда из деревьев, окаймлявших дорогу, выскочили белые волки. Как белый прибой, налетели они с двух сторон, вцеплялись в горло лошадей, бросались на всадников. Они нас задержали, неожиданная засада привела к падению нескольких лошадей, другие спотыкались об упавших. Вместе с лошадьми падали солдаты, волки набрасывались на них, прежде чем они могли подняться. Мы толпились среди них — лошади, люди, волки — в кровавом кольце. Прямо к моему горлу прыгнул большой белый волк, предводитель стаи, его зеленые глаза горели. У меня не было времени для удара мечом. Левой рукой я схватил его за горло, поднял и перебросил через спину. Но даже и при этом его клыки оцарапали меня. Мы миновали волков. Те, что остались в живых, поскакали за нами. Они заметно уменьшили мое войско. Я услышал звон наковальни… тройной удар… наковальня Тубалки! Боже! Это правда… Люр в храме… и Эвали… и Калкру! Мы бросились к двери в храм. Я услышал древнюю мелодию. У входа толпа ощетинившихся мечами дворян, мужчин и женщин. — Прямо на них, Дара! Затопчите их! Мы прорвались сквозь них, как таран. Мечи против мечей, боевые топоры и молоты бьют их, лошади топчут. Не прекращается резкая песня Шри. Его копье бьет, кривой нож рубит… Мы ворвались в храм Калкру. Пение прекратилось. Те, что пели, встали; они ударили в нас мечами, молотами и топорами; кололи и рубили наших лошадей, стаскивали нас вниз. Амфитеатр превратился в арену смерти… Край платформы находился передо мной. Я остановил лошадь, встал ей на спину и прыгнул на платформу. Справа от меня наковальня Тубалки, рядом с поднятым для удара молотом застыла Овадра. Я слышал рокот барабанов, пробуждающих Калкру. Над ними склонились жрецы. Перед жрецами, высоко подняв кольцо Калкру, стояла Люр. А между нею и пузырчатым океаном желтого камня, этими воротами Калкру, прикованные цепями попарно золотые пигмеи… А в воинском кольце — Эвали! Ведьма не посмотрела на меня; она ни разу не оглянулась на арену смерти, бушевавшей в амфитеатре, где сражались солдаты и дворяне. Она продолжала ритуал. Я с криком бросился к Овадре. Вырвал из ее рук большой молот. Бросил его в желтый экран… прямо в голову Калкру. Всю свою силу до последней унции я вложил в этот бросок. Экран треснул. Молот отлетел от него… упал. А ведьма продолжала ритуал… голос ее не дрогнул. По треснувшему экрану пробежала дрожь. Кракен, плывший в пузырчатом океане, казалось, то отходил назад, то приближался… Я побежал к нему… к молоту На мгновение остановился возле Эвали. Сунул руки за золотое кольцо вокруг ее талии, сломал его, будто деревянное. Уронил к ее ногам свой меч. — Защищайся, Эвали! — Я подобрал молот. Поднял его. Глаза Калкру шевельнулись… они смотрели на меня… осознавали мое присутствие… щупальца дернулись. Меня охватил парализующий холод… Я боролся с ним, собрав всю силу воли. Ударил молотом Тубалки по желтому камню… еще раз… и еще… Щупальца Калкру протянулись ко мне! Послышался хрустальный звон, будто поблизости ударила молния. Желтый камень экрана раскололся. Осколки обрушились на меня, как дождь со снегом, принесенные ледяным ураганом. Земля задрожала. Храм покачнулся. Мои руки упали, оцепенев. Молот Тубалки выпал из руки, которая больше не чувствовала его. Холод поднимался по мне… все выше… выше… послышался резкий ужасный крик… На мгновение на том месте, где был экран, повисла тень Калкру. Потом она сморщилась. Ее как будто втягивало куда-то бесконечно далеко. Она исчезла. Жизнь хлынула в меня. Весь пол был покрыт осколками желтого камня… и среди них черные осколки каменного Кракена… Я растоптал их в пыль… — Лейф! Голос Эвали, пронзительный, болезненный. Я повернулся. С поднятым мечом ко мне устремилась Люр. Прежде чем я смог пошевельнуться, Эвали бросилась между нами, заслонила меня, ударила ведьму моим мечом. Меч Люр парировал удар, меч ее взлетел… ударил… Эвали упала… Люр повернулась ко мне… я смотрел, как она приближается, не шевелился, ничего не хотел делать… на ее мече кровь… кровь Эвали… Что-то, как молнией, коснулось ее груди. Она остановилась, будто ее удержали сзади рукой. Медленно опустилась на колени. Упала на камень. Через край платформы перескочил большой волк, он с воем набросился на меня. Еще одна вспышка. Волк перевернулся в прыжке — и упал. Я увидел присевшего Шри. Одно из его копий торчало в груди Люр, другое — в горле волка. Увидел, как золотой пигмей бежит к Эвали… увидел, как она встает, зажимая рукой кровоточащее плечо… Как автомат, я направился к Люр. Белый волк пытался встать, потом пополз на животе к ведьме. Он добрался до нее раньше меня. Положил голову ей на грудь. Повернул голову и лежал, глядя на меня, умирая. Ведьма тоже взглянула на меня. Глаза ее стали мягче, жестокое выражение рта исчезло. В ее взгляде была нежность. Она улыбнулась мне. — Я хотела бы, чтобы ты никогда не приходил, Желтоволосый! А потом: — Ай… и… ай! Мое озеро Призраков! Рука ее шевельнулась, легла на голову умирающего волка. Люр вздохнула… Ведьма была мертва. Я смотрел в потрясенные лица Эвали и Дары. — Эвали, ты ранена… — Неглубоко, Лейф… Скоро заживет… неважно… Дара сказала: — Слава Двайану! Великий поступок совершил ты сегодня! Она опустилась на колени, поцеловала мне руку. Я увидел, что те из моих солдат, что пережили эту схватку, тоже стоят на коленях. И что Овадра лежит возле наковальни Тубалки, и что Шри тоже на коленях и смотрит на меня с восхищением. Я слышал барабаны малого народа… теперь уже не на той стороне Нанбу… на этой… в Караке… и ближе. Дара снова заговорила: — Вернемся в Карак, господин. Ты теперь его правитель. Я сказал Шри: — Бей в барабан, Шри. Расскажи, что Эвали жива. Что Люр мертва. Что ворота Калкру закрыты навсегда. Пусть не будет больше убийств. Шри ответил: — То, что ты сделал, прекратило вражду между моим народом и Караком. Мы будем повиноваться тебе и Эвали. Я расскажу всем, что ты сделал. Он поднял свой барабан, собираясь ударить в него. Я остановил его. — Подожди, Шри. Я не останусь здесь, чтобы править. Дара воскликнула: — Двайану, ты не покинешь нас? — Да, Дара… Я уйду туда, откуда пришел… Я не вернусь в Карак. И не вернусь к малому народу, Шри. Эвали — дыхание у нее перехватило — спросила: — А что со мной, Лейф? — Вчера вечером ты сказала, что пойдешь со мной, Эвали. Я освобождаю тебя от твоего обещания… Я думаю, ты будешь счастлива здесь, с малым народом… Она ответила: — Я знаю, в чем мое счастье… я не нарушу свое обещание… если только ты не хочешь меня… — Я хочу тебя, смуглая девушка! Она повернулась к Шри: — Передай моему народу мой привет, Шри. Я не увижусь с ним больше. Маленький человек бросился к ней, плакал и подвывал, пока она говорила с ним. Наконец он сел на корточки и долго смотрел на разбитые ворота Калкру. Я видел, как его коснулось тайное знание. Он подошел ко мне, протянул руки, чтобы я его поднял. Приподнял мои ресницы и заглянул в глаза. Положил руку мне на сердце, прислушался к его биению. Я опустил его, он подошел к Эвали, что-то зашептал ей. Дара сказала: — Воля Двайану — наша воля. Но трудно понять, почему он не может остаться с нами. — Шри знает… больше, чем я. Не могу, Дара. Ко мне подошла Эвали. Глаза ее блестели от невыплаканных слез. — Шри говорит, что мы должны уходить сейчас, Лейф… быстро. Мой народ не должен видеть меня. Он расскажет им все при помощи барабана… войны больше не будет… теперь здесь наступит мир. Золотой пигмей начал бить в свой барабан. При первых же ударах все остальные барабаны смолкли. Когда он закончил, они снова заговорили… ликующе, торжествующе… но вот в них прозвучала вопросительная нота. Он снова послал дробь… пришел ответ — гневный, категорический и — каким-то образом — недоверчивый. Шри сказал мне: — Торопитесь! Торопитесь! Дара сказала: — Мы до последней возможности будем с тобой, Двайану. Я кивнул и взглянул на Люр. На ее руке внезапно блеснуло кольцо Калкру. Я подошел к ней, поднял мертвую руку, снял с нее кольцо. И разбил его о наковальню Тубалки, как кольцо Йодина. Эвали сказала: — Шри знает дорогу, которая выведет нас в твой мир, Лейф. Это у истоков Нанбу. Он отведет нас туда. — Мы пройдем мимо озера Призраков, Эвали? — Я спрошу его… да, дорога проходит там. — Хорошо. Мы идем в страну, где моя одежда вряд ли будет пригодна. И нужно захватить с собой провизии. Мы поехали из храма; Шри ехал у меня на седле, Эвали и Дара — по бокам. Барабаны звучали совсем близко. Они стали менее слышны, когда мы выехали из леса на дорогу. Мы ехали быстро. К середине дня показалось озеро Призраков. Мост был спущен. Никого не видно. Замок ведьмы опустел. Я нашел в нем свой сверток с одеждой, сбросил нарядную одежду Двайану. Прихватил боевой топор, сунул за пояс короткий меч, выбрал копья для Эвали и для себя. Они помогут нам, когда придется добывать пищу. Мы захватили продуктов из замка Люр и шкур, чтобы закутать Эвали, когда мы выйдем из миража. Я не пошел в комнату ведьмы. Слышал шепот водопада, но не осмеливался взглянуть на него. Весь остальной день мы ехали галопом вдоль берега белой реки. Нас сопровождали барабаны малого народа… искали… расспрашивали… звали… Э-ва-ли… Э-ва-ли… Э-ва-ли… К ночи мы добрались до стены на дальнем конце долины. Здесь Нанбу вырывается на поверхность мощным потоком из какого-то подземного источника. Мы пробирались среди камней. Шри привел нас к ущелью, круто уходившему наверх, и тут мы остановились. Ночью я сидел и думал о том, что встретит Эвали в том новом мире, что ждет ее за пределами миража, — в мире солнца и звезд, ветра и холода. Я думал о том, что нужно сделать, чтобы защитить ее, пока она не приспособится к этому миру. И слушал барабаны малого народа, которые призывали ее, смотрел, как она спит и улыбается во сне. Ее нужно научить дышать. Я понимал, что как только она выйдет из атмосферы, в которой жила с детства, она немедленно прекратит дышать — лишение привычного количества двуокиси углерода, этого привычного для нее стимула, вызовет немедленную остановку дыхания. Она должна заставлять себя дышать, пока рефлексы вновь не станут автоматическими и она не должна будет думать об этом. Это особенно трудно будет ночью, когда она спит. Мне придется не спать, следить за ней. И она должна прийти в этот новый мир с завязанными глазами слепая, пока ее нервы, привыкшие к зеленому свечению миража, не приспособятся к более яркому свету. Теплую одежду мы смастерим из шкур и мехов. Но пища — как это сказал Джим давным-давно назад? Те, кто ел пищу малого народа, умрут, если будут есть другую. Что ж, отчасти это верно. Но только отчасти — с этим мы справимся. На рассвете я вспомнил — рюкзак, который я спрятал на берегу Нанбу, когда мы бросились в ее воды, преследуемые белыми волками. Если бы найти его, проблема одежды для Эвали была бы хоть частично разрешена. Я рассказал об этом Даре. Она и Шри отправились на поиски. Тем временем солдаты охотились, а я учил Эвали, что она должна делать, чтобы благополучно перейти опасный мост между ее миром и моим. Они отсутствовали два дня — но они нашли рюкзак. И принесли известие о мире между айжирами и малым народом. А обо мне… Двайану, Освободитель, пришел, как и предвещало пророчество… пришел и освободил их от древнего проклятия… и ушел туда, откуда явился в ответ на древнее пророчество… и взял с собой Эвали, что также его право. Шри распространил эту историю. На следующее утро, когда свет показал, что солнце встало над скалами, окружающими долину миража, мы выступили — Эвали рядом со мной, как стройный мальчик. Мы поднимались вместе, пока нас не окружил зеленый туман. Тут мы распрощались. Шри прижался к Эвали, целовал ее руки и ноги, плакал. А Дара сжала мне плечи: — Ты вернешься к нам, Двайану? Мы будем ждать! Как эхо голоса офицера уйгуров — давно, давно… Я повернулся и начал подниматься, Эвали за мной. Я подумал, что так же Эвридика следовала за своим любимым из земли теней тоже давно, давно. Фигуры Шри и женщин стали расплываться в тумане. Зеленый туман скрыл их от нас… Я почувствовал, как жгучий холод коснулся моего лица. Поднял Эвали на руки — и продолжал подниматься — и наконец, шатаясь, остановился на освещенном солнцем склоне над глубокой пропастью. День кончался, когда кончилась долгая, напряженная борьба за жизнь Эвали. Нелегко отпускал мираж. Мы повернулись лицом к югу и пошли. Ай! Люр… женщина-ведьма! Я вижу, как ты лежишь, улыбаясь ставшими нежными губами. Голова белого волка у тебя на груди. И Двайану по-прежнему живет во мне!
Джон Толкиен Кузнец из Большого Вуттона
НЕ ТАК УЖ давно — для тех, у кого долгая память, да и не так уж далеко — для тех, у кого длинные ноги, был на свете один поселок. Его называли Большим Вуттоном — потому, что он был больше другого, Малого Вуттона, что подальше в глубине леса; впрочем, и Большой Вуттон был не очень велик, хотя в те времена он процветал и жило в нем много разного народа: и хорошего и плохого и серединка-наполовинку, в общем, как это обычно и бывает. Это был по-своему примечательный поселок, хорошо известный в округе, благодаря мастерству его люда в самых разных ремеслах, а особенно благодаря искусству его поваров. Огромная Кухня была пристроена к Дому, где собирался Совет, — самому большому, самому старому и самому красивому из всех Вуттонских домов, и управлявшийся в ней Мастер Повар был в поселке важным человеком. Построенный из крепкого камня и твердого дерева, Дом Совета был самым ухоженным и чистым в поселке, хотя его уже давно не раскрашивали и тем более не покрывали позолотой, как в старые времена. Дом Повара и Кухня примыкали к Большому Залу, куда жители сходились на собрания и на праздники, общие и семейные. Так что Мастер Повар работал с утра до вечера — ведь он должен был приготовить к каждому случаю довольно разных яств. И к каждому большому празднику, а их немало было в году, нужно было накрыть обильный и богатый стол. Но был один особенный праздник, которого все ждали с нетерпением, потому что он единственный отмечался зимой. Этот праздник продолжался неделю, и в последний его день, на закате, устраивался пир, который назывался Праздник Хороших Детей, и на него приглашались лишь немногие. Без сомнения, как бы ни были аккуратны те, кто приглашал гостей, случалось, что кого-то приглашали незаслуженно, пропускали вполне достойных, а кого-нибудь звали по ошибке — так уж устроено в мире. В любом случае, чтобы попасть на этот праздник, надо было родиться в определенном году — ведь его отмечали лишь раз в двадцать четыре года, и приглашенных детей было двадцать четыре, и праздник назывался Праздник Двадцати Четырех. По этому случаю Мастер Повар готовил все лучшее, что он умел, и, кроме множества самых вкусных и необычных угощений, он, по традиции, делал Большой Торт. И от того, насколько хорош (или плох) получался Торт, зависело, как будут вспоминать имя Мастера Повара спустя многие годы, ведь редко кто оставался Мастером так долго, чтобы успеть приготовить второй Большой Торт. Пришло время, когда Мастер Повар, который тогда управлялся на Кухне, ко всеобщему удивлению неожиданно объявил, что ему нужен отпуск (такого раньше никогда не случалось); и он ушел из Вуттона, никому не сказав куда, а когда через несколько месяцев вернулся назад, всем показалось, что он сильно изменился. Он был из тех, кто любит смотреть, как веселятся другие, а сам оставался серьезным и неразговорчивым. Теперь же он стал веселым и часто говорил или делал забавные вещи; и на праздниках он пел веселые песни, чего совсем не ожидали от Мастера Повара. И не было ничего удивительного в том, что у Мастера Повара был Подмастерье. Это считалось самым обычным делом. Мастер в свое время выбирал кого-нибудь и учил его всему, чему мог; они оба становились старше, и ученик делал все больше, а Мастер все меньше, и когда Мастер удалялся от дел — или умирал — Подмастерье был готов принять звание Мастера Повара в свой черед. Но этот Мастер Повар никак не мог выбрать ученика. Он говорил: «Еще не время», или: «Я смотрю в оба и не пропущу того, кто мне подойдет». А теперь он привел с собой какого-то мальчишку, да еще и из чужого поселка. Новый ученик был более гибким и проворным, куда проворнее, чем Вуттонские юноши, говорил тихо и очень вежливо, только что-то уж очень молод для своей работы, на вид никак не больше лет четырнадцати-пятнадцати. Конечно, выбирать подмастерьев — дело Мастера, и никто в это дело не вмешивался; так что мальчик оставался в доме Повара, пока не подрос немного и не стал сам снимать комнату. Люди вскоре привыкли к нему, и с некоторыми он подружился. Друзья и Мастер звали его Элф, а для всего поселка он так и остался просто Подмастерьем. Другая неожиданность случилась три года спустя. Однажды весенним утром Мастер Повар снял свой высокий белый колпак, сложил чистые фартуки, повесил на гвоздь белую поварскую куртку, взял крепкий ясеневый посох и небольшую дорожную сумку и ушел. Он попрощался только с Подмастерьем. Никого больше не было рядом. «Теперь прощай, Элф, — сказал он, — оставайся и делай дело, как умеешь, ведь ты всегда неплохо справлялся сам. Думаю, и на этот раз все будет хорошо. Надеюсь, если мы когда-нибудь снова встретимся, ты мне расскажешь, что тут делалось без меня. Скажи им, что я ушел на другой праздник, но на этот раз я уже не вернусь». Поселок заволновался, когда Подмастерье передал слова Мастера тем, кто позже в этот день зашел к нему на кухню. «Как можно было просто так уйти, — говорили они, — никого не предупредив и не попрощавшись… Что же нам теперь делать, ведь у нас не осталось никого на месте Мастера Повара. И он никого не назначил вместо себя». Но никто даже не подумал о том, чтобы назначить новым Мастером Подмастерье. Он немного подрос с тех пор, как его привел с собой Мастер Повар, но все еще был похож на мальчишку, да и учился-то всего три года. В конце концов, за неимением лучшего, они назначили Поваром одного человека из поселка, который готовил довольно хорошо, хотя и не так вкусно и разнообразно, как ушедший Мастер. Когда он был помоложе, он часто помогал Мастеру в дни большой стряпни, но Мастер не привязался к нему душой и так и не взял его в Подмастерья. Он стал уже солидным человеком, имел жену и детей, и понемногу наживал деньги. «В любом случае, он не пропадет незнамо куда, — говорили в поселке, — да и плохая стряпня все же лучше, чем вообще никакой. До следующего Большого Торта еще семь лет, а к тому времени он наверняка сможет с ним справиться». Ноукс, поскольку так звали этого человека, был очень доволен таким оборотом событий. Он всегда хотел стать Мастером Поваром и никогда не сомневался в том, что справится. Раньше, когда ему случалось остаться в Кухне одному, он надевал высокий белый колпак, смотрелся в отчищенную до блеска сковороду и говорил сам себе: «Как поживаете, Мастер Повар? Этот колпак вам очень к лицу, он как будто для вас и сшит. Надеюсь, что у вас все сложится удачно». И все сложилось довольно удачно, потому что поначалу Ноукс старался изо всех сил, да и Подмастерье оставался у него в помощниках. На самом деле, подглядывая за Подмастерьем, Ноукс выучился многому из того, чего не умел, хотя в этом он не признался бы и самому себе. Однако, рано или поздно, наступило время Праздника Двадцати Четырех, и настала пора Ноуксу подумать о том, как он будет делать Большой Торт. Глубоко в душе он очень беспокоился: хотя за семь лет он и научился делать более-менее неплохие торты и пирожные для обычных случаев, он знал, что его Большой Торт ждут с нетерпением и что он должен будет удовлетворить самых взыскательных. И не только детей. Ведь такие же торты, только поменьше, делали для всех, кто придет помогать на празднике. А еще, к тому же, каждый Большой Торт должен быть необычным и удивительным и ни в чем не повторять предыдущие. Как считал Ноукс, главное, чтобы сахара и крема было как можно больше, и он решил, что Торт будет покрыт сахарной пудрой (Подмастерье так умело ее готовил). «Это сделает мой Торт красивым и сказочным», — думал он. То очень немногое, что Ноукс знал о вкусах детей, так это то, что они любят сказки и сладости. «Да, — думал он, — сладости любят даже взрослые, хотя из сказок и вырастают… Ах, сказочным!.. Это мысль», — воскликнул он. Итак, ему пришло в голову, что неплохо бы было на башенку в середине Торта поставить куколку, наряженную в белое. В руке у нее будет волшебная палочка с блестящей елочной звездой на конце, а вокруг ее ног можно будет написать розовой сахарной пудрой «Королева фей». Но когда Ноукс начал готовить продукты для Торта, он понял, что довольно смутно представляет себе, из чего должен состоять сам Большой Торт; поэтому он полистал кое-какие оставшиеся от предыдущих Мастеров старые тетрадки с рецептами. Однако эти рецепты лишь озадачили его, ведь даже когда он разбирал старинный почерк, он натыкался на упоминания таких продуктов, о которых никогда и не слышал, а если и слышал когда-то, так уж давно забыл и теперь не было времени разбираться и вспоминать; но он все же решил, что одну-две приправы можно будет попробовать. Он почесал в затылке и вспомнил про старый черный ящичек с несколькими отделениями, где предыдущий Мастер Повар держал приправы и прочие вещицы, необходимые для особых случаев. Ноукс, правда, не видел этого ящичка с тех пор, как сам стал Мастером Поваром, но, поискав, он нашел его на верхней полке в кладовой. Он снял его с полки и сдул пыль, но когда открыл крышку, оказалось, что специй осталось совсем немного, да и те, что остались, ссохлись и испортились. Впрочем, в одном из отделений, в самом уголке, Ноукс обнаружил маленькую звездочку, едва ли больше медного шестипенсовика, черную, будто она была сделана из серебра и потемнела от времени. — Забавно! — сказал он, рассматривая ее в свете, падавшем из маленького окошка кладовки. — Вовсе нет! — ответил кто-то у него за спиной так неожиданно, что Ноукс подпрыгнул. Это сказал Подмастерье, и раньше он никогда не разговаривал таким тоном. Он вообще редко говорил с Ноуксом и не заговаривал первым, если его не спрашивали. Именно так и должен вести себя Подмастерье; он, может быть, очень хорошо делает сахарную пудру, но все же ему еще надо учиться и учиться — таково было мнение Ноукса. — Что ты хочешь сказать этим, молодой человек? — слегка раздраженно спросил Ноукс. — Если она не забавная, то какая же? — Она волшебная, — ответил Подмастерье, — и она попала сюда из Сказочной страны. Тут Повар рассмеялся: — Ладно, ладно, это в общем-то одно и то же. Если хочешь, называй ее волшебной. Когда-нибудь ты повзрослеешь. А теперь можешь пойти и перебрать изюм. Если найдешь забавные изюмины — то есть волшебные, — скажешь мне. — А что вы собираетесь сделать со звездочкой, Мастер? — Конечно же, запечь ее в Торт. Самая подходящая штуковина, особенно, если Торт сказочный. Осмелюсь сказать, — хихикнул он, — что вы, молодой человек, не так давно сами ходили на детские праздники, когда в тесто запекают монетки, маленькие безделушки вроде этой и всякую другую мелочь. Во всяком случае, так у нас принято делать: это забавляет детей. — Но это не безделушка, Мастер, а Волшебная Звезда, — сказал Подмастерье. — Это я уже слышал, — фыркнул Повар. — Очень хорошо, я скажу это детям. Пусть они посмеются. — Я думаю, они не будут смеяться, Мастер. Но вы сделаете правильно, очень правильно. — А ты помнишь, с кем ты разговариваешь? — отрезал Ноукс. Как бы там ни было, но Большой Торт был приготовлен, испечен и украшен (и в основном Подмастерьем) вовремя. «Раз ты так любишь сказки, то уж ладно, разрешаю тебе сделать сказочную Королеву», — добродушно сказал Ноукс. «Большое спасибо, Мастер. Если вы очень заняты, то я ее сделаю. Ведь это вы придумывали, а не я». «Ну, так это же моя работа — придумывать, а не твоя», — ответил Ноукс. И вот праздник настал. Окруженный двадцатью четырьмя подсвечниками с высокими красными свечами, в середине длинного стола стоял Большой Торт. Это и в самом деле был сказочный Торт: у подножья сахарной горы, что вздымалась посередине, сверкали, будто покрытые инеем, маленькие деревья, а на самой вершине, словно застыв в снежном танце, стояла на одной ножке маленькая белая девушка, и в ее руках сверкала, как лед, тоненькая волшебная палочка. Дети смотрели на Торт во все глаза, и кое-кто захлопал в ладоши: «Как красиво! Совсем как в сказке!» Повар довольно улыбался, однако Подмастерье выглядел огорченным. Они стояли рядом и смотрели, как радуются дети: Мастер, готовый разрезать Торт, когда наступит время, и Подмастерье, готовый наточить и подать нож. Наконец Повар взял нож и шагнул к столу. «Хочу сказать вам, мои дорогие, — начал он, — что Торт под этим замечательным сахарным снегом сделан из множества самых вкусных вещей. А еще там спрятано много хорошеньких маленьких штучек, безделушек, монеток и других сюрпризов, и скажу вам, что найти что-нибудь в своем кусочке — это на счастье. Сюрпризов там запечено двадцать четыре, чтобы каждому досталось по одному, если, конечно, сказочная Королева не перерешит по-своему. Она иногда так поступает. Так что не обижайтесь. Спросите у господина Подмастерье». Но Подмастерье стоял, отвернувшись от него, и внимательно вглядывался в лица детей. «Ах, нет, я забыл! На этот раз их двадцать пять. Там еще маленькая серебряная звездочка. Особо волшебная, как утверждает господин Подмастерье. Так что осторожно! Если вы сломаете об нее ваши маленькие зубки, то едва ли вам поможет ее волшебство. Но все равно, надеюсь, что найти ее — особо счастливый случай». Торт был замечательный, не на что пожаловаться — разве что он мог бы быть и побольше. Каждому досталось по большому куску, но на добавку не осталось. Куски быстро исчезали, и то и дело кто-нибудь находил сюрприз или монетку. Кто нашел одну, кто нашел две, а кто и ничего не нашел; что поделаешь, счастья на всех не хватает, есть тут куколка с волшебной палочкой или нет. Но вот Торт был съеден весь, однако волшебная звездочка так и не отыскалась. — Вот это да! — воскликнул Повар. — Значит, она была не из серебра, должно быть, она растаяла. А возможно, господин Подмастерье был прав, и она вправду волшебная. Просто-напросто Королева отправила ее обратно в Сказочную страну. Очень жаль. Он самодовольно улыбнулся и глянул на Подмастерье, но тот смотрел на него своими темными глазами и не улыбнулся в ответ. А ведь Серебряная Звездочка и в самом деле была волшебной, уж Подмастерье-то не мог ошибиться. Случилось так, что один из мальчиков на празднике проглотил ее и даже не заметил, хотя он и нашел в своем кусочке серебряную монетку. Монетку он отдал Нелл, маленькой девочке, сидевшей рядом с ним: она была так расстроена тем, что ничего не нашла в своем кусочке. Мальчик иногда задумывался, куда же в самом деле исчезла звездочка, и даже не догадывался, что она осталась с ним, спрятавшись так, что он ее не чувствовал, поскольку так и должно было быть. Она ждала до тех пор, пока не настал ее день. Праздник был в середине зимы, но вот наступил июнь, и ночи стали короткими и светлыми. Мальчик встал перед рассветом, потому что не хотел спать: в этот день ему исполнялось десять лет. Он выглянул из окна, мир был тих и словно ждал чего-то. Легкий ветерок, прохладный и ароматный, шевелил просыпающиеся деревья, потом стало светать и мальчик услышал, как птицы вдали начинают свою утреннюю песнь, как она поднимается вместе с солнцем, приближаясь, пока не накатит, заполнив всю долину вокруг поселка, и как волна покатится дальше, на запад, по мере того как солнце появляется из-за края земли. — Как в Сказочной стране! — сказал мальчик вслух. — А в сказках люди тоже поют… И тогда он запел высоким и чистым голосом, и казалось, что незнакомые слова выходят прямо из его сердца; в этот миг звезда упала на его открытую ладонь. Теперь было видно, что она из сверкающего серебра, искрящегося в солнечном свете; она затрепетала, приподнимаясь, как будто собиралась улететь… Словно повинуясь чему-то, мальчик быстро прижал руку ко лбу, и звезда осталась там, прямо посредине, и он носил ее много лет. Немногие люди в поселке заметили звезду, хотя она и не была невидимой для внимательных глаз; но она стала частью его лица и обычно не светилась. Часть ее света перешла в глаза мальчика, а его голос, который стал звучать удивительно красиво с тех пор, как звезда пришла к нему, стал даже еще прекрасней, когда мальчик вырос. Людям нравилось слушать, как он говорит, даже если это было только «С добрым утром». Своим мастерством он прославился в округе, не только в обоих Вуттонах, но и во многих других поселках. Его отец был кузнецом, и он тоже стал кузнецом, еще более искусным. Кузнецов Сын звали его, пока его отец был жив, а потом — просто Кузнец, ведь к этому времени он стал лучшим кузнецом от Дальнего Истона до Западного леса и в своей кузнице мог сделать любую утварь. В основном, конечно, это были простые и полезные вещи, из тех, что нужны каждый день: орудия для пахаря и инструменты для плотника, кухонная утварь, котлы и сковороды, скобы, засовы и дверные петли, крюки и подставки, каминные решетки и подковы и все что угодно. Все эти предметы были не только прочными и долговечными, но они были еще и красивыми, каждый сделан с любовью, ими было приятно пользоваться, и на них было приятно взглянуть. Иногда, когда у Кузнеца оставалось время, он делал вещи для собственного удовольствия, и они были прекрасны, потому что он мог придать металлу легкость и нежность ветки с листьями и цветами, но эти ветви были прочнее железа. Никто не мог пройти мимо выкованных им решеток или ворот, не остановившись, чтобы полюбоваться, но никто никогда не смог бы войти в эти ворота, будь они заперты. И когда он делал такие вещи, он пел, и все, кто был поблизости, забыв о делах, шли к кузнице послушать его пение. Вот и все, что люди знали о Кузнеце. Этого было вполне достаточно и даже больше того, чего добилось большинство жителей поселка, даже самых мастеровитых и трудолюбивых. Но у Кузнеца было кое-что еще. Он мог путешествовать по Сказочной стране, и многие места там он знал настолько, насколько способен их узнать смертный; но так как многие в поселке стали (к тому времени) похожими на Ноукса, кроме своей жены и детей он больше никому о ней не рассказывал. Его женой была Нелл, та самая, которой он когда-то отдал серебряную монетку, его дочку звали Нэн, а сына — Нэд, Сын Кузнеца. От них у него не было секретов, ведь они могли видеть, как звезда сияла у него во лбу, когда он приходил со своих прогулок, на которые он отправлялся один по вечерам, или когда возвращался домой из долгих путешествий. Время от времени он покидал поселок, иногда пешком, иногда верхом, и все считали, что он отлучился по делам. Иногда так и было, а иногда и нет. Во всяком случае, он отправлялся туда не для того, чтобы получить заказы, или купить чугунных чушек и угля для кузницы, хотя он никогда не забывал о делах и умел, как говорится, превратить пенс в два. Но у него были свои дела в Сказочной стране, и он был из тех, кому открыт туда путь. Звезда сияла у него во лбу, и он был там в безопасности — как только может быть в безопасности смертный в этой опасной стране. Малое Зло избегало Звезды, а от Великого Зла он был храним. И он был благодарен невидимым хранителям, потому что вскоре стал мудрым и понял, что путь к Сказочным чудесам лежит через великие опасности, и что Злу нельзя бросать вызов, не имея такого оружия, которого не удержать в руках смертному. Он стал учеником и путешественником, а не воином; и хотя он мог бы со временем выковать оружие, которое в его мире вошло бы в легенды и на которое не хватило бы всей королевской казны, он знал, что в Сказочной стране это не идет в счет. Так что среди всех вещей, что он выковал за свою жизнь, не найти ни меча, ни копья, ни наконечника для стрелы. Вначале Кузнец отваживался путешествовать лишь среди малых народцев и кротких созданий, обитающих в лесах и долах Ближней Сказочной страны, по берегам прозрачных вод, в которых сияют по ночам странные звезды и на рассвете отражаются разгорающиеся пики дальних гор. Иногда во время своих недолгих прогулок он мог проводить время, рассматривая лишь одно-единственное дерево или цветок; но позже в дальних путешествиях он видел вещи столь жуткие и прекрасные, что не мог ни отчетливо вспомнить, ни описать их, хотя он и знал, что они оставили глубокие отметины на его сердце. Но некоторые вещи он не забывал, и они хранились в его памяти, как чудеса и тайны, которые он вспоминал снова и снова. Когда Кузнец впервые осмелился зайти далеко в места, где он никогда не бывал, он надеялся достигнуть самых дальних границ страны, но ему преградили путь высокие горы, и, обходя их, он в конце концов вышел на пустынный берег. Он стоял у Моря Безмолвного Шторма, где синие волны, похожие на покрытые снегом вершины гор, бесшумно катились из Мрака к широкому берегу, вынося туда белые корабли, возвращающиеся из битв на Границах Тьмы, о которой люди не знают ничего. Он видел, как воды вынесли огромный корабль и, пенясь, откатились беззвучно. Эльфы — морские воины, высокие и грозные, со сверкающими мечами и копьями и жгучим светом очей — неожиданно грянули Песню Победы, и сердце Кузнеца было поражено страхом, он пал ниц, и они прошли мимо и скрылись среди наполнившихся эхом холмов. Поняв, что побывал в Царстве Островов, осаждаемых Морем, Кузнец больше никогда не заходил на этот берег, он устремил свои мысли к горам, желая проникнуть в самое сердце Сказочного королевства. И однажды, когда он искал проход, на него пал серый туман, и, потеряв дорогу, Кузнец долго блуждал, пока туман не сдуло прочь, и тогда он увидел, что перед ним расстилается широкая равнина. Вдали он видел Великий Холм Теней, и из этих теней, словно из корня, устремлялось ввысь, в небо, Мировое Дерево, и его свет был как свет солнца в полдень, и без счета на нем листьев, цветов и плодов, и не было из них двух одинаковых. Кузнец больше никогда не видел этого Дерева, хотя часто отправлялся на поиски его. В одно из таких путешествий, блуждая во Внешних Горах, он нашел глубокое ущелье. На дне его лежало озеро, безмолвное и неподвижное, хотя ветер качал тонкие деревья вокруг него. Ущелье было залито красным светом, словно от закатного солнца, только этот кровавый отблеск шел из озера. С утеса, нависавшего над озером, Кузнец заглянул вниз, и это было подобно взгляду в неизмеримую бездну; он узрел там странные языки пламени, раскачивающиеся, ветвящиеся и волнующиеся, подобно гигантским водорослям в морской глубине, и огненные создания сновали туда-сюда между ними. Зачарованный, он спустился к воде и коснулся ее ногой, но это была не вода: это было тверже камня и ровнее, чем стекло. Он шагнул вперед, но тут же тяжело упал, и звон раскатился по озеру, эхом отдаваясь в скалах. В одно мгновение легкий ветерок превратился в Ураган, ревущий, как огромный зверь; он подхватил Кузнеца, бросил на берег и поволок по склону, кувыркая и крутя, словно сухой лист. Кузнец успел ухватиться за ствол молодой березы и прижался к нему, а Ураган яростно набрасывался на них, стараясь вырвать и унести прочь. Под его порывами береза склонилась к земле и укрыла Кузнеца своими ветвями. Когда же наконец ветер стих, он поднялся на ноги и увидел, что Ураган ободрал березу до последнего листочка, она плакала, и слезы капали с ветвей, как дождь. Кузнец приложил руку к белой коре и сказал смиренно: — Благословенна будь, береза! Что могу я сделать, чтобы загладить свою вину или отблагодарить тебя? И рукой он почувствовал ответ: — Ничего. Уходи! Ураган преследует тебя. Ты не принадлежишь этой земле. Уходи и никогда не возвращайся сюда! И когда Кузнец уходил из этого ущелья, он чувствовал, как слезы березы текут по его лицу, и горькими они были на его устах. В его сердце жила печаль, когда он шел домой по длинной дороге, и после этого он долго не ходил в Сказочную страну. Но он не мог покинуть ее навсегда, и каждый раз как он снова решался пойти туда, все сильнее было его желание проникнуть в самое сердце Сказочного королевства. Наконец Кузнец нашел дорогу через Внешние Горы, и он шел по ней, пока не добрался до Внутренних Гор, высоких, отвесных и устрашающих. Все же он отыскал проход, по которому можно было подняться, и наступил день, когда он решился и, пробравшись через узкую расселину, заглянул вниз, в Долину Вечного Утра, в которой трава зеленее, чем в самых зеленых лугах Ближней Сказочной страны, а ведь они зеленее, чем самые зеленые наши луга весной. Там воздух настолько прозрачен, что можно видеть красные язычки птиц, поющих на деревьях на самом дальнем краю долины, хотя она очень широка, а птички не больше крапивников. Широкими и пологими, наполненными бормотанием водопадов были склоны гор, окружавших Долину, и Кузнец радостно поспешил вниз. А когда он ступил на ее траву, он услышал пение эльфов, и на лужайке у реки, по берегам которой росли лилии, он увидел прекрасных танцующих девушек. Кузнеца очаровал быстрый и грациозный танец, и он шагнул к их хороводу. Тогда круг распался, и юная девушка с развевающимися волосами вышла к нему навстречу. Она, смеясь, сказала ему: — А ты осмелел, Носящий Звезду, не правда ли? Не боишься того, что может сказать Королева, если узнает, что ты пришел сюда? Хотя, может быть, она дала тебе разрешение. Кузнец смутился, потому что она прочитала его мысли: ему и правда казалось, что Звезда была его пропуском, куда бы он ни захотел пойти, а теперь он узнал, что на самом деле это не так. Но она улыбнулась и заговорила снова: — Иди сюда! Раз уж ты пришел, ты будешь танцевать со мной. — И она взяла его за руку и ввела в хоровод. Они танцевали вместе, и на мгновение Кузнец ощутил стремительность, силу и радость танца в хороводе фей. Но лишь на мгновение. Вот они остановились снова, слишком скоро, как показалось ему, и девушка, наклонившись, сорвала белый цветок прямо у своих ног и вплела его Кузнецу в волосы. — А теперь прощай! — сказала она. — Может быть, мы встретимся снова, если Королева разрешит. Он не помнил, как вышел из Сказочной страны, а придя в себя, обнаружил, что скачет верхом по дороге домой. В поселках, которые он проезжал, люди не спускали с него удивленных глаз, пока он не скрывался из виду. Когда же он наконец спешился во дворе своего дома, дочка выбежала навстречу и радостно обняла его. Может, он вернулся и раньше, чем его ожидали, но все равно, для тех, кто любит, его отсутствие было слишком долгим. — Папа! — закричала она. — Где ты был? Твоя звезда сияет так ярко! Но когда Кузнец переступил порог, звезда снова померкла. Нелл взяла его за руку и подвела к очагу. Повернувшись, она заглянула ему в лицо. — Милый муж! Где ты побывал и что ты видел? У тебя цветок в волосах. И она осторожно взяла цветок. На ее ладони он выглядел как вещь, которую видишь издалека, и его свет отбрасывал тени на стены комнаты, заполняемой вечерним сумраком. На стене огромная тень Кузнеца склонила голову. — Ты похож на великана, папа, — сказал сын, до этого не проронивший ни слова. Цветок не завял и не померк, и семья хранила его как тайное сокровище. Кузнец сделал для него ларчик с ключом, там и хранился цветок и переходил по наследству из поколения в поколение; каждый обладатель ключа мог иногда открыть ларец и долго любоваться Живым Цветком, пока ларец не закрывался сам по себе. Годы шли своим чередом. Много воды утекло с того праздника, когда Кузнец, которому не было тогда и десяти, получил Звезду. Снова наступил Праздник Двадцати Четырех, и к тому времени Элф уже стал Мастером Поваром и выбрал себе нового подмастерья, юношу по имени Харпер. Через двенадцать лет после этого Кузнец вернулся из Сказочной страны с Живым Цветком, а этой зимой должен был состояться новый Праздник Двадцати Четырех. Однажды осенним днем Кузнец шел по лесу на самой окраине Сказочной страны. Золотые листья шелестели на деревьях, красные листья лежали на земле. Он слышал шаги сзади, но не оборачивался и не обращал на них внимания, так глубоко он ушел в свои мысли. В этот раз он шел не по своей воле, его вызвали туда, и он проделал долгий путь, такой долгий, казалось ему, как никогда раньше. Его вели и охраняли, поскольку сам он не помнил, куда шел, и часто не различал дороги, словно в тумане или в непроницаемой тьме, пока наконец не вышел к высокому холму под ночным небом, над которым сияли бесчисленные звезды. И, поднявшись на него, он предстал перед Королевой. У нее не было ни короны, ни трона. Она стояла во всем величии и славе, в окружении великого войска, но она была выше звезд, мерцавших на остриях их копий, и над ее головой пылало белое пламя. Она подала Кузнецу знак приблизиться, и, дрожа, он сделал шаг к ней. Высоко и чисто пропела труба, миг — и они остались одни. Кузнец стоял перед ней, преклонив голову, и не мог даже опуститься на колени, потому что был настолько испуган и чувствовал себя столь ничтожным перед ее величием, что все положенные жесты почтения казались бесполезными. В конце концов он осмелился поднять глаза и встретил серьезный взгляд Королевы. И он испугался и удивился, потому что он узнал ее: фею из Зеленой Долины, танцовщицу, под ногами которой распускались цветы. Она улыбнулась, увидев, что он вспомнил ее, и приблизилась к нему; и они долго говорили без слов, и их разговор был исполнен то радости, то печали. Потом мысли Кузнеца повернули вспять, через всю прожитую им жизнь и вплоть до того дня, когда на Празднике Детей Звезда выбрала его, и неожиданно перед его взором предстала фигурка маленькой танцовщицы с волшебной палочкой, и он со стыдом опустил глаза перед красотой Королевы. Но она снова рассмеялась, как тогда в Долине Вечного Утра. — Не грусти обо мне, Носящий Звезду, и не стыдись своего народа. Для кого-то маленькая куколка, может быть, лучше, чем вообще никаких воспоминаний о Сказочной стране. Если для одних это только проблеск, то для других — пробуждение. Ведь именно с того дня в твоем сердце появилось желание увидеть меня. И вот я исполнила твое желание. Это все, что я могу сделать для тебя. А теперь, на прощание, я попрошу тебя сделать кое-что для меня. Если увидишь Короля, передай ему: «Время настало. Ему выбирать». — Но, Повелительница, — он запнулся, — где же я найду его? Кузнец много раз задавал этот вопрос жителям Сказочной страны, и все они отвечали: «Он не сказал нам». Королева улыбнулась: — Если он не сказал тебе, Носящий Звезду, то и я не могу сказать. Он много путешествует, и, может быть, ты встретишь его там, где совсем не ждешь. А теперь преклони колени. И Кузнец опустился на колени, а Королева, наклонившись, возложила руки ему на голову, и великий покой снизошел на него. И ему казалось, что он одновременно и дома и в Сказочной стране, и что он видит их извне и изнутри, и он чувствовал горе от того, что что-то утратил, и счастье от того, что что-то приобрел, и великий покой. Но вот все прошло, он поднял голову и встал на ноги. Занималась заря, звезды гасли, Королевы уже не было. Далеко в горах слышалось эхо трубы. Холм, на котором он стоял, был тих и пуст, и Кузнец знал, что его путь теперь ведет назад, к утрате. Место, где он видел Королеву, осталось далеко позади. Кузнец ступал по опавшим листьям, размышляя над тем, что увидел и узнал. Шаги сзади приблизились. И неожиданно он услышал: — Похоже, нам по пути, Носящий Звезду. Кузнец вздрогнул, очнулся от своих мыслей и заметил, что кто-то нагоняет его. Незнакомец был высок, шел легко и быстро и одет был в темно-зеленый плащ с капюшоном, который закрывал лицо. Кузнец удивился. Носящим Звезду его звали только жители Сказочной страны, но он не мог вспомнить, что когда-нибудь видел здесь этого человека, и еще он чувствовал, что все же должен знать его. — Куда же ты идешь? — спросил он наконец. — Я возвращаюсь в твой поселок, — ответил незнакомец, — и я надеюсь, что ты тоже идешь туда. — Да, я действительно иду домой, — сказал Кузнец. — Пойдем вместе. Но я вспомнил кое-что. Перед тем как я отправился обратно, Повелительница Сказочной страны просила меня передать одно известие, но мы скоро уже покинем ее пределы, и я не думаю, что когда-нибудь вернусь. А ты еще вернешься сюда? — Да, я вернусь. Ты можешь передать это известие мне. — Но я должен передать его Королю. Ты знаешь, где найти его? — Знаю. Говори, что ты должен передать. — Повелительница просила сказать только: «Время пришло. Ему выбирать». — Я все понял. Можешь больше не беспокоиться об этом. Они шли рядом в молчании, лишь листья шуршали под ногами, но когда они прошли уже несколько миль, хотя все еще были в пределах Сказочной страны, незнакомец остановился, повернулся к Кузнецу и откинул свой капюшон. Теперь Кузнец узнал его — это был Элф Подмастерье, как в мыслях Кузнец все еще звал его, всегда вспоминая тот день, когда Элф как помощник Повара стоял в Зале, держа наготове сверкающий нож, чтобы разрезать Торт, и в его глазах отражались огоньки свечей. Он уже должен был стать стариком, потому что Мастером Поваром он был много лет; но здесь, стоя под соснами Ближнего Леса, он выглядел как Подмастерье из того далекого времени, только возмужавший: не было ни седины в его волосах, ни морщин на лице, и глаза его сияли, словно отражая свет. — Мне надо поговорить с тобой, Кузнец, сын Кузнеца, пока мы не вернулись в твою страну, — сказал Элф. Это очень удивило Кузнеца, ведь ему самому часто хотелось поговорить с Элфом, но он никогда не мог решиться на это. Элф всегда приветливо с ним здоровался и относился к нему с симпатией, но, казалось, только с ним он словно избегал разговора. И сейчас он с улыбкой смотрел на Кузнеца; но вдруг поднял руку и коснулся Звезды кончиком пальца. Его глаза погасли, и Кузнец понял, что этот свет шел от Звезды, и глаза Элфа светились этим светом, а теперь погасли вместе с нею. Он отшатнулся, удивленно и сердито. — Ты не думаешь, Мастер Кузнец, что пора тебе отдать эту вещь? — Что тебе до этого, Мастер Повар? И почему я должен отдавать ее? Разве она не моя? Она сама пришла ко мне, и разве нельзя оставлять у себя то, что приходит так, хотя бы просто на память? — Да — то, что просто подарено, или то, что дают на память. Но кое-что не дарится, и не должно оставаться у одного человека навсегда, потому что это не сокровище и не наследство. Это дается в долг. Может, ты никогда не думал, что кому-то еще нужна эта вещь. Но это так. И время не ждет. Тогда Кузнец заволновался, ведь он был щедрым человеком и теперь с благодарностью вспомнил все, что Звезда дала ему. — Что же мне делать? — спросил он. — Отдать ее кому-нибудь из Властителей здесь, в Сказочной стране? Отдать ее Королю? И с этими словами в его сердце зародилась надежда, что с таким поручением он сможет еще раз побывать в Сказочной стране. — Ты можешь отдать ее мне, — сказал Элф, — хотя это, может быть, слишком тяжело для тебя. Не хочешь ли ты пойти со мной в кладовую и положить ее обратно в тот ящичек, куда положил ее когда-то твой дед? — Я не знал этого, — удивился Кузнец. — Никто, кроме меня, этого не знает. Только я был при этом. — Тогда, может быть, ты знаешь, как он нашел ее и почему положил туда? — Он принес ее из Сказочной страны; это ты и так знаешь, — ответил Элф. — Он положил ее туда, надеясь, что она придет к тебе, ведь ты — его единственный внук. Он так и сказал мне, потому что думал, что я смогу помочь ему в этом. Он отец твоей матери. Я не знаю, рассказывала ли она тебе о нем, если она вообще что-нибудь о нем знала. Райдер его звали, он был великий путешественник, до того, как он поселился в Большом Вуттоне и стал Мастером Поваром, он многое повидал и многому научился. Но он ушел, когда тебе было всего два года — и на его место не нашлось никого лучше Ноукса, бедняги! Все же, как и ожидалось, пришло время, когда я стал Мастером. В этом году я буду делать свой второй Большой Торт, так что я единственный Повар на памяти людей, кто когда-либо испек второй Большой Торт. Я положу Звезду в него. — Очень хорошо. Я отдам ее тебе, — сказал Кузнец. Он посмотрел на Элфа, как бы стараясь прочесть его мысли. — А ты знаешь, кто ее найдет? — Что тебе до этого, Мастер Кузнец? — Я хочу узнать, знаешь ли ты, кто это будет, Мастер Повар. Тогда мне будет легче расстаться с тем, что мне так дорого. Мой внук, сын моей дочери, еще слишком мал. — Может, будет легче, а может, и нет. Посмотрим, — сказал Элф. В молчании прошли они оставшийся путь до Большого Вуттона. Они подходили к Дому; в мире людей солнце уже садилось, окна Дома пылали красным закатным светом. Он мерцал на позолоченной резьбе огромных дверей, и причудливые разноцветные морды с разверстыми пастями смотрели вниз с водостоков под крышей. Не так давно Дом заново застеклили и перекрасили, в Совете было много споров об этом. Некоторым это не понравилось, и они назвали это «новыми затеями», но те, кто был поумнее, знали, что на самом деле это возвращение старых традиций. Но так как это не стоило никому ни пенни (Мастер Повар сам за все заплатил), то все в конце концов решили, что пусть он делает как хочет. Кузнец никогда раньше не видел Дом в таком свете, и он стоял, очарованный, глядя во все глаза, забыв обо всем. Он почувствовал, что кто-то тронул его за руку. Элф повел его вокруг Дома, к маленькой двери, ведущей в Кухню. Он отпер ее, и они с Кузнецом спустились в кладовую по темной узкой лестнице. Там Элф зажег длинную свечу, отпер буфет и достал с полки небольшой черный ящичек. Это был тот самый ящичек, только теперь он был отполирован и покрыт серебряными узорами. Мастер Повар открыл крышку и показал Кузнецу, что все отделения заполнены свежими пахучими специями, лишь одно, маленькое, было пустым. У Кузнеца заслезились глаза. Он прижал руки к лицу, и когда отнял их, звезда лежала на ладонях, и он вдруг почувствовал пронзительную боль, и слезы потекли по его щекам. И хотя Звезда снова ярко светилась, он видел только неясное сияние, словно издалека. — Я ничего не вижу, — сказал он. — Ты, а не я должен положить ее туда. Он протянул руку, и Элф взял Звезду, положил ее на место и закрыл крышку. Снова стало темно. Кузнец молча повернулся и ощупью пошел к двери. На пороге Кухни он почувствовал, что зрение снова вернулось к нему. Уже спустились сумерки, и в темнеющем небе Вечерняя Звезда сияла рядом с Луной. Когда он стоял, глядя на них, он почувствовал руку на своем плече и обернулся. — Ты дал мне Звезду по своей воле, — мягко сказал Элф, — и если ты все еще хочешь знать, кому из детей она достанется, я скажу тебе. — Да, я очень хочу знать это. — Ее получит тот, кого назовешь ты. Кузнец так растерялся, что долго не мог ничего ответить. — Ну, — сказал он, колеблясь, — не знаю, что ты подумаешь о моем выборе. Пожалуй, у тебя нет особых причин любить Ноуксов, но его маленький правнук, сын его внука, Ноуксов Тим из Тауншенда, приглашен на праздник. Тауншендовские Ноуксы совсем другие. — Я тоже думал о нем, — ответил Элф. — У него мудрая мать. — Да, она родная сестра моей Нелл, но я люблю маленького Тима не только потому, что он мой племянник. Хотя, может быть, это и не лучший выбор. Элф улыбнулся. — Ты тоже не был лучшим, — сказал он, — но я согласен, тем более, что я уже выбрал Тима. — Тогда почему ты просил меня выбрать? — Таково желание Королевы. Если бы ты выбрал кого-нибудь другого, я бы обязан был принять твой выбор. Кузнец долго смотрел на Элфа, потом он неожиданно низко поклонился: — Теперь я понял, Повелитель. Это большая честь для нас. — И я уже вознагражден за нее, — сказал Элф. — Ступай с миром. Когда Кузнец дошел до своего дома на западном краю поселка, он увидел сына у двери кузницы. Тот только что закончил дневную работу, запер дверь и теперь стоял, вглядываясь в белеющую дорогу, по которой его отец обычно возвращался из путешествий. Услышав шаги за спиной, он удивленно обернулся, потому что не ждал отца с этой стороны, побежал навстречу и почтительно взял его за руки. — Отец, я ждал тебя со вчерашнего дня! — сказал он. Потом, взволновано заглянув ему в лицо, он добавил: — Ты такой усталый! Ты, наверное, проделал большой путь? — Да, я был очень далеко, мой сын. Я прошел весь путь от Восхода до Заката. Они вместе вошли в дом, освещенный только пламенем, мерцающим в очаге. Его сын зажег свечи, и некоторое время они молча сидели перед огнем. Великая усталость и горечь утраты были на сердце Кузнеца. Наконец он оглянулся, как бы придя в себя. — Почему мы одни? Его сын с упреком посмотрел на него. — Мать ушла в Малый Вуттон к Нэн. Сегодня ее малышу исполнилось два года. Они хотели, чтобы и ты тоже пришел. — О, да. Я собирался быть там, и я должен был успеть, но я задержался. Мне нужно было обдумать одну вещь и это заставило меня отложить на время все остальное. Но я не забыл о маленьком Томе. — Он достал из-за пазухи небольшой кожаный кошель. — Я принес ему кое-что. Старый Ноукс назвал бы это просто побрякушкой — но она из Сказочной страны Эльфов, Нэд. И он вынул маленькую серебряную вещицу. Она была похожа на лилию с тонким гладким стеблем и с тремя нежными цветками, склонившимися вниз как легкие колокольчики. Это и были колокольчики — когда он тихонько встряхнул игрушку, каждый цветок зазвенел на своей тонкой чистой ноте. При этом нежном звуке вспыхнули свечи и комната осветилась на мгновение сказочным белым светом. Глаза Нэда удивленно расширились: — Можно мне взглянуть на это, Отец? — Он осторожно взял игрушку кончиками пальцев и заглянул в цветок. — Сказочная работа! Папа, колокольчики пахнут! Этот аромат напоминает мне, он напоминает мне, о, что-то, о чем я давным-давно забыл. — Да, этот запах появляется после того, как колокольчики отзвенят. Но не бойся, Нэд, это игрушка, и она сделана так, чтобы ребенок мог играть с ней, не боясь ее сломать, и она не может поранить его. Кузнец положил подарок назад в кошель и спрятал его за пазуху. — Завтра я сам отнесу ее в Малый Вуттон. Может быть, Нэн с Томасом и Мама простят меня. А что до малыша Тома, так он пока еще не считает дней… или недель, месяцев и лет… — Хорошо, Отец, сходи туда. Я был бы рад пойти с тобой, но, видно, не скоро мне удастся выбраться. Сегодня я бы не пошел, даже если бы не ждал тебя. У нас много заказов, и должны принести еще. — Нет, нет, Сын Кузнеца! И у тебя тоже должны быть праздники! Если меня зовут дедом, это не значит, что мои руки уже ослабели. Пусть приносят работу! Теперь каждый день с ней будут управляться две пары рук. Я больше не буду путешествовать, Нэд, во всяком случае, так далеко… Если ты понимаешь меня. — Так вот оно что, Отец! Я все думал, что же стало с твоей Звездой. Тебе так тяжело. — Он почтительно взял руки отца. — Я тебе сочувствую. Но ведь, с другой стороны, это и хорошо для нашего дома. Ты знаешь, Мастер, ты еще многому сможешь меня научить, если будет время. И я говорю не только о кузнечном деле. Они вместе поужинали, и еще долго сидели потом за столом, Кузнец рассказывал сыну о последнем путешествии в Сказочную страну и о многом другом, что приходило ему в голову, — но он ничего не сказал о том, что он выбрал, кому достанется Звезда. Наконец сын посмотрел на него и сказал: — Отец, помнишь тот день, когда ты вернулся с Цветком? Я еще сказал, что твоя тень похожа на тень великана. Тень не обманула меня. Ведь тогда сама Королева танцевала с тобой! И все же ты отдал Звезду. Надеюсь, она попадет к достойному. Этот ребенок будет благодарен… — Ребенок не может знать, — ответил Кузнец. — Об этом не знают, получая. Хорошо, да будет так. Я передал ее и возвращаюсь назад, к молоту и щипцам. Как это ни странно, но старый Ноукс, когда-то насмехавшийся над Подмастерьем, так и не смог выкинуть из головы того, что звезда исчезла из Торта, хоть это и случилось много лет назад. Он разжирел, обленился и забросил все дела, когда ему стукнуло шестьдесят (возраст невеликий для Вуттона). Теперь ему было уже под девяносто, он невероятно растолстел, потому что ничего не делал, но по-прежнему любил поесть и особенно налегал на сладкое. Все свое время он проводил если не за столом, то в большом кресле у окна, а в хорошую погоду на крыльце. Он любил поболтать с соседями, поскольку считал себя сведущим во всех Вуттонских делах, но в последнее время его разговоры все чаще возвращались к Большому Торту, который он все-таки сделал (теперь он был твердо в этом уверен). И во всех снах ему снился Большой Торт. Его бывший Подмастерье иногда перекидывался с ним словечком. Состарившийся Повар все еще называл его Подмастерьем и ждал, что тот в ответ будет называть его Мастером. И Подмастерье всегда так обращался к нему; это говорило в его пользу, хотя у Ноукса были собеседники и поприятнее. Однажды Ноукс дремал после обеда в своем кресле на крыльце. Вздрогнув, он проснулся и увидел, что бывший Подмастерье стоит перед ним и пристально на него смотрит. — А, привет, — сказал Ноукс, зевая, — рад тебя видеть. Знаешь ли, мне опять снился этот Торт. Я вот все думаю о нем. Это был лучший торт из всех, что делал я, а это о чем-то говорит. Хотя, может, ты его уже и забыл. — Нет, Мастер. Я очень хорошо его помню. Но о чем вы беспокоитесь? Это был хороший Торт, он всем понравился и его хвалили. — Конечно, ведь это я его делал. Но не это меня беспокоит. Там была одна штучка, звезда. Никак не могу понять, что же с ней стало. Конечно же, она не растаяла. Я это сказал только, чтобы не испугать детей. Все думаю, что кто-нибудь все-таки проглотил ее. Но разве так может быть? Ты можешь проглотить маленькую монетку и не заметить, но не такую звезду. Она была маленькая, но с острыми концами. — Да, Мастер. Но разве вы знаете наверняка, из чего она была сделана? Не берите в голову. Кто-то проглотил ее, уверяю вас. — Но кто же тогда? Ладно, у меня хорошая память, и этот день как будто отпечатался в голове. Я могу назвать всех детей по именам. Дай подумать. Должно быть, это Молли, дочь Мельника. Она была такая жадная и глотала не прожевывая. Теперь толстая, как мешок с мукой. — Да, есть люди, которые так делают, Мастер. Но Молли ела осторожно и нашла в своем куске два сюрприза. — Вот как? Ладно, тогда это был Гарри, сын Бочара. Бочонок, а не мальчик, и рот до ушей, как у лягушки. — Должен вам сказать, Мастер, что он был хорошим мальчиком, просто широко и дружелюбно улыбался. К тому же он был так осторожен, что сперва раскрошил свой кусок, но ничего не нашел. — Тогда это была та маленькая бледная девочка, Лили, дочь нашего Торговца Сукном. Помню, когда она была маленькая, так ползала по полу и глотала булавки, — и ничего. — Нет, Мастер. Она съела только корку и глазурь, а начинку отдала мальчику, который сидел рядом с ней. — Тогда сдаюсь. Кто же это мог быть? Кажется, ты с них глаз не сводил, если только ты все это не выдумал. — Это был сын Кузнеца, Мастер. И я думаю, что Звезда принесла ему счастье. — Ну, ну! — рассмеялся старый Ноукс. — Я так и знал, что ты меня разыгрываешь. Не смеши меня! Кузнец был тогда тихим и медлительным. Сейчас от него много шума, я слышал даже, что он еще и поет. Но он осторожный… Никогда не рисковал. Как говорится, жует дважды, прежде чем проглотить, и всегда так поступал, если ты понимаешь, о чем я говорю. — Понимаю, Мастер. Раз вы не верите, что это был Кузнец, то я ничем не могу вам помочь. Да теперь это и не важно. Может быть, вы успокоитесь, если узнаете, что Звезда вернулась обратно в ящичек. Вот она! Подмастерье был одет в темно-зеленый плащ, который Ноукс только сейчас заметил. Из складок плаща он извлек небольшой черный ящичек и открыл его прямо под носом у старого Повара. — Вот Звезда, Мастер, здесь в уголке. Старый Ноукс раскашлялся, расчихался, но в конце концов все же заглянул в ящичек. — Так вот она! — воскликнул он. — По крайней мере, похожа. — Это та самая Звезда, Мастер. Позавчера я сам положил ее сюда. А этой зимой я снова запеку ее в Большой Торт. — Так, так! — Ноукс хитро посмотрел на Подмастерье и засмеялся, трясясь, как желе. — Вижу, вижу! Детей было двадцать четыре и сюрпризов двадцать четыре, и звезда лишняя. Выковырнул, тесто в печь, а сам припрятал ее до другого раза. Ты всегда был хитрюгой, шустрым, можно сказать. Все экономил: макового зернышка зря не потратишь. Ха-ха-ха! Вот, значит, как дело было. Я мог и сам догадаться. Ладно, вот все и выяснилось. Теперь можно спать спокойно. — Он поерзал в кресле. — Смотри, чтобы твой ученик не сыграл с тобой такую шутку. Как говорится, на всякого хитреца найдется кто-нибудь похитрее. — Он прикрыл глаза. — До свиданья, Мастер! — сказал Подмастерье, закрыв ящик с таким хлопком, что старый Повар удивленно выпучился на него. — Ноукс, — сказал он, — ваши знания столь глубоки, что я только дважды осмелился заговорить с вами первым. Я сказал, что Звезда пришла из Сказочной страны и что она досталась Кузнецу. Вы посмеялись надо мной. Теперь, когда мы расстаемся, я скажу вам еще кое-что, только не смейтесь. Вы тщеславный старый мошенник, толстый, ленивый и хитрый. Я делал всю вашу работу — и никакой благодарности. Вы всему у меня научились — кроме вежливости и уважения к Сказочной стране, а я ни разу даже не слышал от вас «Добрый день». — Ну, что касается вежливости, так я не вижу никакой вежливости в том, чтобы обзывать людей старших и мастеров своего дела. Оставь себе свою Сказочную страну и всю эту чепуху. Добрый день, если ты этого ждешь от меня. А теперь катись! — Он насмешливо помахал рукой. — Если кто-нибудь из твоих сказочных дружков прячется на Кухне, пришли его ко мне, а я на него посмотрю. Пусть он помашет своей волшебной палочкой и сделает меня снова худым. Может, тогда я тебе поверю. — И Ноукс рассмеялся. — Не уделите ли вы немного своего времени Королю Сказочной страны? — был ответ. И к ужасу Ноукса, с этими словами Элф вырос у него на глазах. Он распахнул плащ, и Ноукс увидел под ним праздничное белое одеяние Мастера Повара, только оно переливалось, мерцало и вспыхивало. Его голову венчала драгоценная диадема — сияющая звезда. Лицо его было молодо, но в глазах — суровая мудрость. — Старик, — сказал он. — По крайней мере, ты не старше меня. А что касается мастерства, так ты частенько подглядывал из-за моей спины. Решишься ли ты и теперь в открытую отрицать это? Он шагнул вперед, и Ноукс дрожа сжался в своем кресле, стараясь отодвинуться как можно дальше. Он попробовал закричать, чтобы позвать на помощь, но смог только еле слышно сипеть. — Нет, Повелитель, — проскрипел он. — Не причиняйте мне зла! Я всего лишь старый бедный человек. Лицо короля смягчилось. — Что ж, ладно! Ты говоришь правду. Не бойся и успокойся. Может, хочешь, чтобы на прощание Король Эльфов исполнил твое желание? Я обещаю тебе. Прощай! Теперь спи! Он снова завернулся в плащ и пошел по направлению к Дому, но еще до того, как он скрылся из виду, вытаращенные глаза старого Повара закрылись, и он захрапел. Когда старый Повар снова проснулся, солнце уже садилось. Он протер глаза и слегка вздрогнул, потому что осенний воздух был холоден. — Ух, ну и сон! — сказал он. — Должно быть, все из-за той свинины, которую я съел на обед. С того дня он стал бояться, что ему еще приснятся такие страшные сны, не осмеливался почти ничего есть, опасаясь, что еда может его расстроить, его трапезы стали очень недолгими и простыми. Вскоре он похудел, его одежда и кожа свисали с него складками. Дети прозвали его «Старик — Кожа да Кости». Он с удивлением обнаружил, что снова может передвигаться и ходить по всему Вуттону с помощью всего лишь палки; и прожил он после этого намного больше, чем если бы продолжал толстеть. Действительно, как говорят, ему недавно стукнуло сто лет, это единственное, что запомнили о нем люди. И до последнего дня он повторял каждому желающему эту историю. — Можете называть его тревожным, но, если задуматься, то это просто глупый сон. Король Сказочной страны! Что ж, у него нет никакой волшебной палочки. Когда перестаешь есть, начинаешь худеть, это естественно. Вполне объяснимо. Никакого волшебства здесь нет. Настало время Праздника Двадцати Четырех. Кузнеца пригласили петь песни, а его жену — помогать управиться с детьми. Кузнец смотрел, как они пели и танцевали, и думал о том, что они красивее и живее, чем были в детстве он и его друзья. На мгновение он задумался над тем, что может Элф делать в свободное время. Казалось, каждый ребенок достоин найти Звезду. Но в основном он смотрел на Тима: довольно пухленький мальчик, танцует неуклюже, но поет приятным голоском. За столом он сидел молча и глядел, как точат нож и разрезают Торт. Вдруг он певуче сказал: — Дорогой Мастер Повар, только отрежьте мне маленький кусочек, пожалуйста. Я уже так много съел, что больше не могу. — Хорошо, Тим, — сказал Элф. — Я отрежу кусочек специально для тебя. Думаю, ты легко с ним справишься. Кузнец смотрел, как Тим ел свой кусочек, медленно, но с видимым удовольствием; хотя, не найдя в нем ни сюрприза, ни монетки, он огорчился. Но вскоре свет полился из его глаз, он засмеялся и повеселел, тихо запел песенку. Потом он встал и начал танцевать с такой удивительной грацией, которую никогда раньше не показывал. Все дети засмеялись и захлопали в ладоши. «Значит, все в порядке, — подумал Кузнец, — ты теперь мой наследник. Интересно, в какие незнакомые места поведет тебя Звезда? Бедный старый Ноукс, он, наверное, так и не догадается, какое волшебное событие произошло в его в семье». Он так и не догадался. Но на этом Празднике произошло одно событие, которым Ноукс был страшно доволен. Незадолго до конца Праздника Мастер Повар попрощался со всеми детьми и взрослыми. — Настала пора и мне прощаться с вами, — сказал он. — Через день-два я уйду. Мастер Харпер уже готов занять мое место. Он очень хороший Повар и, как вы знаете, родился в одном поселке с вами. А я вернусь домой. Не думаю, что вы будете скучать обо мне. Дети весело с ним попрощались и вежливо поблагодарили за красивый и вкусный Торт. Только маленький Тим взял его за руку и сказал: — Как жаль… Хотя в деревне, конечно, были семьи, где очень скучали по Мастеру Повару. Его немногочисленные друзья, особенно Кузнец и Харпер, горевали об его уходе и в память об Элфе следили, чтобы не тускнели позолота и краска Дома. Однако большинство особо не огорчалось. Он и так слишком долго жил в поселке, и никто не жалел о переменах. Но старый Ноукс стукнул палкой по полу и сказал напрямик: — Наконец-то он ушел! Лично я рад. Никогда он мне не нравился. Уж очень был хитрый. Как говорится, чересчур шустрый.
Роджер Желязны Джек-из-Тени
1
Произошло это, когда Джек, чье имя произносят в тени, отправился в Иглес, в Сумеречные Земли, показаться на Адских Играх. Там-то, пока он прикидывал, как расположен Пламень Ада, его и заметили. Пламень Ада представлял собой узкий сосуд из изящно перевитых язычков пламени, которые на самых кончиках удерживали рубин величиной с кулак. Они держали мертвой хваткой холодно сверкавший драгоценный камень. На сей раз Пламень Ада был выставлен на всеобщее обозрение. Видели, что Джек рассматривал его — и это стало причиной для серьезного беспокойства. Не успел он прибыть в Иглес, как его увидали проходящим под фонарями в толпе зевак, которая двигалась через открытый с боков павильон. В нем демонстрировался Пламень Ада. Джека опознали Смейдж и Квазер, которые покинули места, где были сильны, чтобы вступить в спор за этот приз. Они тут же отправились к Распорядителю Игр. Смейдж переминался с ноги на ногу и дергал себя за усы до тех пор, пока в его квадратных глазах не появились слезы, и он не заморгал. Он уставился на своего огромного спутника, Квазера, волосы, глаза и тело которого были одинакового серого цвета, вместо того, чтобы рассматривать живописную персону Бенони, Распорядителя Игр. — Что вам нужно? — спросил тот. Смейдж продолжал таращить глаза и моргать, пока Квазер не заговорил, наконец, голосом, похожим на флейту: — Мы хотим кое-что сообщить. — Я слушаю. Говорите, — ответил Бенони. — Мы кое-кого узнали. Он здесь, и это может причинить некоторое беспокойство. — Кто же это? — Прежде, чем я смогу ответить, подойдем ближе к свету. Распорядитель игр покрутил головой на толстой шее. Когда он по очереди посмотрел на них, его янтарные глаза блеснули. — Если вы решили пошутить… — начал он. — Нет, — не дрогнув, ответил Квазер. — Ну, ладно. Следуйте за мной. — Он вздохнул, и, взмахнув оранжево-зеленым плащом, повернулся, направляясь к ярко освещенному навесу. Тогда он вновь обернулся к ним. — Здесь вам довольно света? Квазер огляделся. — Да, — сказал он. — Здесь нас ему не подслушать. — О ком вы говорите? — спросил Распорядитель Игр. — Известен ли вам некий Джек, который всегда слышит свое имя, если его произнесли в тени? — Джек-из-Тени? Вор?.. Да, я слыхал о нем. — Потому-то мы и хотели поговорить с вами на ярком свету. Он здесь. Мы со Смейджем видели его всего несколько минут назад. Он разглядывал Пламень Ада. — Господи! — Распорядитель Игр вытаращил глаза и забыл закрыть рот. Он украдет его! — сказал Бенони. Смейдж перестал теребить усы ровно на столько времени, чтобы несколько раз кивнуть. — А мы явились, чтобы попытаться выиграть его, — засопел он. — Если его украдут, мы не сможем этого сделать! — Надо его остановить, — сказал Распорядитель Игр. — Как вы думаете, что делать? — Ваша воля тут закон, — сказал Квазер. — Верно… Возможно, следует засадить его в тюрьму до окончания Игр. — Тогда, — сказал Квазер, — нужно убедиться, что там, где его схватят, или там, где его запрут, не будет никакой тени. Говорят, его чрезвычайно трудно удержать где-либо — особенно, если там есть тень. — Но тут везде тень! — Да. В том-то главная сложность, когда сажаешь его под замок. — Ну, тогда решение проблемы — яркий свет или полная тьма! — Но если вы не установите все светильники под нужными углами и вне пределов его досягаемости, — сказал Квазер, — он сможет создать тени и воспользоваться ими. А если ему удастся зажечь хоть крошечный огонек, тени тоже появятся. — Какую силу черпает он из теней? — Не знаю никого, кто знал бы точно. — Значит он человек тьмы? Не простой смертный? — Поговаривают, что он — порождение сумерек, тех, что предшествуют тьме. Там всегда множество теней. — Ну, тогда в нашей программе — Навозные Ямы Глива. — Жестоко, — сказал Смейдж и хихикнул. — Пошли, покажите мне его, — сказал Распорядитель Игр. Они вышли из-под навеса. Серый цвет неба у них над головой переходил в серебряный на востоке и в черный на западе. Небо было чистым. Тьма над вздымавшейся горной грядой была усеяна звездами. Они шли по освещенной факелами дорожке через территорию лагеря, направляясь к павильону, в котором находился Пламень Ада. На западе трепетали огоньки — казалось, у той черты, за которой находились храмы беспомощных богов. Когда они подошли к открытому с боков павильону, Квазер тронул Бенони за руку и мотнул головой. Распорядитель Игр проследил направление его жеста. Там, прислонясь к подпирающему навес столбу, стоял высокий худой человек. Он был темноволосым, смуглым, а в чертах его лица было что-то орлиное. Он был в сером, через правое плечо был переброшен черный плащ. Человек курил какую-то травку из тех, что растут в царстве тьмы, и дым в свете факелов казался голубым. Некоторое время Бенони рассматривал его. Он испытывал чувство, знакомое человеку, столкнувшемуся с существом, рожденным не женщиной, а чем-то темным и загадочным. Люди в таких случаях держатся подальше. Он сглотнул, потом сказал: — Можете идти. — Мы бы хотели помочь… — начал Квазер. — Можете идти! Бенони посмотрел им вслед, потом пробормотал: «Бьюсь об заклад, один продаст другого». Он отправился за яркими факелами и стражей. Во время ареста Джек не пытался ни спорить, ни сопротивляться. Пойманный в центр светового круга, окруженный вооруженными мужчинами, он медленно кивнул и подчинился их приказаниям, не сказав за все это время ни слова. Его отвели в ярко освещенный шатер Распорядителя Игр. Джека вытолкнули к столу, за которым сидел Бенони. Стражники задвигались, чтобы снова окружить его фонарями и зеркалами, уничтожающими тень. — Тебя зовут Джек, — сказал Распорядитель Игр. — Я этого не отрицаю. — А иногда — Джек-из-Тени. Молчание. — Ну? — Мало ли, как можно называть человека, — ответил Джек. Бенони бросил взгляд в сторону. — Приведите их, — велел он одному из стражников. Тот вышел и вскоре вернулся со Смейджем и Квазером. Джек быстро взглянул на них, но его лицо по-прежнему ничего не выражало. — Вы знаете этого человека? — спросил Бенони. — Да, — хором сказали они. — Назовите его имя. — Его зовут Джек-из-Тени. Распорядитель Игр улыбнулся. — И правда, мало ли как можно называть человека, — сказал он. — Но в твоем случае, похоже, все сходятся на одном. Я — Бенони, Распорядитель Адских Игр, а ты — Джек-из-Тени, вор. Бьюсь об заклад, ты здесь, чтобы похитить Пламень Ада. Снова молчание. — Можешь отрицать, можешь соглашаться, — продолжал Бенони, — твое присутствие здесь говорит само за себя. — Я мог явиться для участия в Играх, — рискнул Джек. Бенони расхохотался. — Конечно! Разумеется! — сказал он, смахивая рукавом слезу. — но здесь не состязаются в воровстве, так что тебе не в чем соревноваться. — Вы предубеждены против меня, это нечестно, — сказал Джек. — Даже если я — тот, о ком идет речь, я не сделал ничего, чтобы нападать на меня. — Пока, — сказал Бенони. — Пламень Ада и впрямь отличная штука, а? Глаза Джека, казалось, на миг вспыхнули, а рот дернулся в невольной усмешке. — С этим никто не спорит, — быстро сказал он. — И ты явился сюда выиграть его… по-своему. Человек тьмы, тебя знают, как закоренелого вора. — И это лишает меня права быть честным зрителем на общедоступном празднестве? — Когда речь идет о Пламени Ада — да. Он не имеет цены. Его алчут и те, кто привык к дневному свету, и люди тьмы. Как Распорядитель Игр я не могу терпеть тебя поблизости от него. — Что за беда с дурными репутациями, — сказал Джек. — Что бы ты ни делал, все равно подозревают тебя. — Хватит! Ты приехал, чтобы похитить его? — Только дурак сказал бы «да». — Значит, добиться от тебя честного ответа невозможно? — Если «честный ответ» — сказать то, что вы хотите от меня услышать, то вы правы. — Свяжите ему руки за спиной, — сказал Бенони. Что и было сделано. — Сколько у тебя жизней, человек тьмы? — спросил Распорядитель. Джек не отвечал. — Ну-ну! Все знают, что людям тьмы дана не одна жизнь. Сколько их у тебя? — Мне не нравится, как это звучит, — сказал Джек. — Но ведь ты умрешь не насовсем? — Путь из Навозных Ям Глива на западном полюсе планеты долог, а не идти нельзя. Иногда на сознание нового тела уходят годы. — Значит, ты бывал там раньше? — Да, — сказал Джек, проверяя свои путы. — И я бы не хотел попасть туда снова. — Значит, ты признаешь, что у тебя есть еще самое меньшее одна жизнь. Это хорошо! Тогда меня не будет мучить совесть, если я прикажу немедленно наказать тебя! — Погодите! — сказал Джек, откинув голову назад и оскалившись. — Это же смешно! Я еще ничего не сделал. Забудьте про это, ладно? Прибыл я сюда украсть Пламень Ада, или нет, сейчас-то я не в состоянии сделать это. Освободите меня, и я добровольно подвергну себя изгнанию на время Игр. Я вообще не появлюсь в Сумеречных Землях, а останусь в царстве тьмы. — Чем же ты можешь поручиться? — Своим словом. Бенони снова рассмеялся. — Слово человека тьмы, который к тому же стал героем легенд о преступниках? — сказал он наконец. — Нет, Джек. Я не вижу иного способа обезопасить наш приз, как только убить тебя. И поскольку в моей власти отдать такой приказ, я сделаю это. Писец! Запиши: в этот час я судил его и вынес ему приговор. Горбун с кудрявой бородой расписал перо и начал писать. Его склонности оставили заметные следы на его похожем на пергамент лице. Джек выпрямился во весь рост и пристально посмотрел на Распорядителя из-под полуопущенных век. — Вы, смертные, — начал он, — боитесь меня потому, что не понимаете. Вы привыкли к дневному свету, и жизнь вам дана только одна, а когда она проходит, ждать больше нечего. Мы, люди тьмы, по слухам не имеем души так же, как о вас говорят, будто у вас она есть. Но благодаря процессу, который вам недоступен, мы проживаем несколько жизней. Я полагаю, вы завидуете нам — вот почему вы хотите убить меня. Вы знаете, что умирать нам так же тяжело, как и вам! Распорядитель Игр опустил взгляд. — Это не… — Примите мое предложение, — перебил его Джек. — Я покину ваши состязания. Но если вы допустите до исполнения своего приказа, то в итоге проиграете сами! Горбун перестал записывать и повернулся к Бенони. — Джек, — сказал Распорядитель, — ведь ты же собирался похитить его, а? — Конечно. — Зачем? От него было бы трудно избавиться. Он такой приметный. — Он предназначался одному моему другу, перед которым я в долгу. Ему понадобилась эта побрякушка. Отпустите меня, а я скажу ему, что потерпел неудачу — это и впрямь так. — Я не хочу обрушить на себя твой гнев, когда ты вернешься… — Чего вы не хотите — ерунда по сравнению с тем, что вам предстоит, если вы сделаете мое путешествие неизбежным… — …Но человек в моем положении не может так легко заставить себя поверить тому, кто известен как Джек-Обманщик. — Значит, мое слово для вас — ничто? — Боюсь, что так. Писцу он сказал: — Продолжай записывать. — …И мои угрозы тоже? — Они беспокоят меня. Но на одной чаше весов — твоя месть несколько лет спустя, а на другой — наказание, которое я понесу немедленно, укради ты Пламень Ада. Попробуй понять, в каком я положении, Джек. — Пытаюсь, — сказал тот, оборачиваясь к Смейджу и Квазеру. — Ну, ослиные уши, и ты, гермафродит, вас-то я не забуду! Обоих! Смейдж посмотрел на Квазера, а тот заморгал и улыбнулся. — Скажи это нашему господину, Повелителю Нетопырей, — сказал он. При звуке имени своего старинного врага лицо Джека изменилось. Поскольку в Сумеречных Землях, где процветают науки, колдовство слабеет, то прошло целых полминуты прежде, чем в шатер влетел нетопырь и пронесся между ними. Квазер продолжал: — Мы состязаемся под знаменем Нетопыря! При появлении этой твари Джек перестал смеяться. Увидев ее, он склонил голову, и его подбородок затвердел. И Джек сказал: «Да будет так». Его вывели в центр площадки, где стоял человек по имени Блайт с тяжелым топором в руках. Джек быстро отвел глаза и облизал губы. Блестящий край лезвия неодолимо притягивал его взгляд. Его еще не успели попросить преклонить перед плахой колени, а воздух уже наполнился кожистыми «снарядами». Он знал, что это — рой пляшущих летучих мышей. С запада появлялись все новые и новые твари, но они двигались слишком быстро для того, чтобы создать достаточно тени. Тогда Джек выругался, зная, что его враг прислал своих приспешников поиздеваться над ним в его последний час. Когда дело касалось краж, удача обычно сопутствовала ему. То, что приходилось терять одну из жизней из-за такой скверной работы, раздражало его. В конце концов, он был тем, кем он был… Джек стал на колени и нагнул голову. Ожидая, он размышлял, верно ли, что голова, отделенная от тела, сохраняет сознание еще пару секунд. Он попытался избавиться от этой мысли, но она снова возвращалась. А может быть, это не просто сорвавшееся дел? — недоумевал Джек. Если бы Повелитель Нетопырей пожелал устроить ему ловушку, все это могло бы означать только ее.
2
Тьму прочерчивали тонкие лучи света — белые, серебристые, голубые, желтые, красные, в основном прямые, иногда — колеблющиеся. Они пронизывали тьму насквозь. Некоторые были ярче прочих. Медленнее, медленнее… Наконец, они перестали походить на нити паутины. Лучи превратились в тонкие длинные прутья… затем в палочки… огненные черточки… А потом стали мерцающими точками. Долгое время он лежал, уставившись на звезды, ничего не воспринимая. Лишь много позже в его сознании откуда-то возникло слово «звезды», а перед глазами появилось слабое мерцание. Тишина и способность видеть — больше ничего. И снова, спустя много времени, он почувствовал, что летит. Летит вниз, будто с большой высоты, обрастая плотью, — а потом понял, что лежит на спине лицом вверх, и груз его бытия вновь вернулся. — Я — Джек-из-Тени, — произнес он про себя, все еще не в состоянии пошевелиться. Он не знал, ни где лежит, ни как попал в эту звездную тьму. Ощущения казались знакомыми, возвращение было чем-то, уже пережитым раньше давным-давно. По телу от сердца разлилось тепло, и Джек ощутил покалывание, обострившее все его чувства. Тогда пришло знание. «Черт!» — было первое слово, которое он произнес, потому что с возвращением разума пришло и полное сознание ситуации. Он лежал в Навозных Ямах Глива, на Западном полюсе планеты, во владениях злокозненного барона Дрекхейма, через царство которого обязаны пройти все, желающие воскреснуть. Тогда он сообразил, что валяется на огромной куче отбросов посреди целого озера грязи. Джек в сотый раз повторил себе, что для смертных этим все и начинается, и заканчивается, в то время как подобные ему не могут желать ничего лучше — и лицо Джека озарила злая улыбка. Когда он сумел пошевелить правой рукой, то принялся растирать горло. Боли не было, но перед глазами отчетливо встало недавнее ужасное происшествие. Давно ли это было? Скорей всего, несколько лет назад, решил Джек. Это был обычный для него срок. Он вздрогнул и отогнал внезапную мысль о том времени, когда истратит свою последнюю жизнь. Потом его охватила дрожь, и он не сумел ее подавить. Одежда исчезла, и Джек выругался. Она или разрушилась вместе с его прежним телом, или же, что было куда вероятнее, была изношена в клочья кем-нибудь другим. Он медленно поднялся. Воздуха не хватало, но хотелось, чтобы некоторое время можно было не дышать. Джек отбросил в сторону камень яйцевидной формы, который обнаружил у себя в руке. Теперь, когда он почти совсем стал самим собой, не годилось долго оставаться на одном месте. Куда ни глянь был восток. Скрипнув зубами, Джек избрал путь, который, как он надеялся, будет самым легким. Долго ли он добирался до берега, Джек не знал. Хотя его привыкшие к тени глаза быстро приспособились к свету звезд, он не видел настоящих теней, которыми мог бы воспользоваться. Что такое время? Год — это полный оборот планеты вокруг ее солнца. Внутри таких отрезков времени даты всегда определяются более сложно: по звездам, которые всегда видны, и с помощью магических принципов для того, чтоб определить настроения духов, повелевающих звездами. Он знал, что у смертных есть механические и электрические приспособления, чтобы следить за ходом времени, потому что когда-то украл несколько штук. Но в царстве тьмы они не работали и были никчемными. Разве что годились девчонкам из таверны, которым он выдавал их за предохранительные, очень действенные амулеты. Ободранный и воняющий, Джек стоял на тихом и темном берегу. Он перевел дух и набрался сил, а потом направился на восток. Дорога шла в гору, вокруг было полно луж грязи. Она потоками стекала в озеро — ведь в конце концов вся грязь попадает в Глив. Время от времени грязь вздымала высокие фонтаны, забрызгавшие его. Из трещин и расселин все время пахло сернистым газом. Джек торопливо зажал нос и воззвал к своим божествам. Однако он сомневался, что его мольбы будут услышаны. Он не думал. что боги обратят внимание на что бы то ни было, если оно исходит из этой части света. Он шел вперед, почти не отдыхая. Дорога все поднималась в гору, а через некоторое время начали попадаться камни. Дрожа, Джек пробирался между ними. Он забыл — разумеется, нарочно, — многие из самых скверных особенностей этих краев. Острые камешки впивались в его ступни, поэтому он знал, что оставляет на земле кровавый след. Позади он слышал неясный топот каких-то многоногих тварей, явившихся, чтобы слизывать кровь. Но он слыхал, что оглядываться в этих местах — дурная примета. Джек всегда испытывал легкую грусть, когда теряло кровь какое-нибудь новое тело, особенно, если оно было его собственным. Он шел вперед, а характер почвы менялся, и вскоре он уже шел по гладкому камню. Позже, заметив, что топот затих вдали, он обрадовался. Поднимаясь все выше в гору, Джек был приятно удивлен тем, что запах стал слабее. Он подумал, что это, возможно, просто потому, что у него от непрерывной сильной вони притупилось обоняние. Как бы там ни было, это позволило его телу — и разуму тоже — заняться другими проблемами. Мало того, что он был усталым, грязным, и ноги его болели. Он понял, что к тому же хочет есть и пить. Сражаясь со своей памятью, как с запертой дверью, он вошел и начал искать. Джек как можно подробнее восстановил в памяти свои прежние возвращения из Глива, но, рассматривая на ходу окрестности, не нашел никаких знакомых ориентиров. Он обошел небольшую рощицу металлических деревьев и сообразил, что раньше никогда не ходил этой дорогой. Здесь на множество миль не будет чистой воды, подумал он. Разве что фортуна мне улыбнется, и я найду яму с дождевой водой. Но тут так редко идет дождь… Это страна грязи, а не чистоты. Если же я попытаюсь немножко поколдовать, чтобы вызвать дождь, кто-нибудь это заметит, и меня найдут. Тогда либо меня ожидает гнусная жизнь, либо я погибну и вернусь в Навозные Ямы. Нет, буду идти, пока смерть не замаячит перед носом, и только тогда попрошу дождя. Позже он заметил вдали предмет, явно созданный не силами природы. Он осторожно приблизился и увидел, что тот был в два раза выше него и в два обхвата толщиной. Это был камень; сторона, обращенная к Джеку, была гладкой. Джек прочел высеченную крупными буквами надпись, которая на языке царства тьмы гласила: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, РАБ». Ниже стояла Великая Печать Дрекхейма. Джек почувствовал огромное облегчение. Некоторым — тем немногим, кто избежал служения барону, и с кем Джек беседовал об этом, — было известно, что такие знаки устанавливают в наименее охраняемых областях. Идея была такова, что возвращающийся повернет назад и попадет туда, где будет больше шансов его поймать. Джек прошел мимо камня и плюнул бы, но рот слишком пересох. Он шел вперед, а силы покидали его. Каждый раз, как он поскальзывался, восстановить равновесие было все труднее. Он знал, что в норме за столько времени он бы уже несколько раз поспал. Но он все еще не нашел достаточно безопасного места для ночлега. Не спать становилось все труднее и труднее. В какой-то момент, споткнувшись и упав, Джек был уверен6 что только что очнулся после того, как прошел огромное расстояние, не сознавая, что за местность вокруг. Земля здесь была менее ровной, чем в том месте, которое он запомнил последним, Это родило в нем крошечную надежду, а она, в свою очередь, придала ему достаточно решимости, чтобы еще раз подняться. Почти сразу он увидел место, которое должно было стать его приютом. Идти дальше он не мог. Там, у самого подножия отвесной скалы, было полным-полно обрушенных и косо торчащих камней. Скала вела на более высокое плато. Из последних сил, ползком, Джек исследовал окрестности в поисках признаков живых существ. Ничего не обнаружив, он забрался в камни, сумел дотащиться до каменного лабиринта, нашел относительно ровное местечко, рухнул и уснул. Сколько времени прошло прежде, чем это случилось, он не мог сказать. В глубинах его сна возникло нечто… некое известие. Словно утопающий, он рванулся к далекой поверхности. На горле Джек ощутил поцелуй, а ее длинные волосы легли ему на плечи, как стихарь. Мгновение он отдыхал, собирая остаток сил. И, пока его правая рука двигалась вдоль ее тела, левая ухватила гостью за волосы. Стоило ему проснуться, как он вспомнил, что следует делать, и, с силой оторвав ее от себя, откатился влево. Его голова склонилась вперед всего лишь с десятой долей своей прежней быстроты. Когда все было кончено, он утер губы, встал и посмотрел на безжизненное тело. — Бедная кровопийца, — сказал он. — Немного же в тебе было крови. Вот почему ты так отчаянно жаждала моей и так неудачно пыталась добыть ее. Но и я был отчаянно голоден. Все мы делаем то, что приходится… Облачившись в черные одежды, плащ и облегающие сапоги, Джек перебрался на плато повыше и время от времени проходил через заросшие черной травой поля. Трава обвивалась вокруг щиколоток, пытаясь его остановить. Привычный к этому, Джек пинками отбрасывал ее, расчищая путь, прежде чем она успевала обвиться слишком крепко. Ему вовсе не хотелось становиться удобрением. Наконец он увидел дождевую воду. Несколько часов он с разных точек наблюдал за водоемом, так как это было идеальное место для поимки возвращающегося. Придя к выводу, что охраны нет, Джек подошел ближе, присмотрелся, потом упал на землю и долго пил. Он отдохнул, снова напился, снова отдохнул и напился еще раз, жалея, что с собой нет ничего, в чем можно было бы унести немного воды. Все еще жалея об этом, он разделся и смыл грязь с тела. Потом он проходил мимо цветов, похожих на на змей, пустивших корни. А может, это и были змеи — они шипели и распластывались, пытаясь достать его. Он спал еще два раза, а потом нашел еще один водоем. Этот водоем охраняли, и ему пришлось применить всю воровскую ловкость, чтобы заполучить воду. Заодно он стянул и меч дремлющего стражника, поскольку тому он вряд ли теперь был нужен. Джек забрал еще хлеб, сыр, вино и одежду на смену — это было кстати. Еды было на один раз. Это, а также то, что поблизости не было гор, навело Джека на мысль, что пост где-то неподалеку, и смена может прийти в любой момент. Джек выпил вино и наполнил флягу водой, проклиная ее за малую вместительность. Потом, так как рядом не было ни пещеры, ни расселины, чтобы спрятать труп, он быстро пошел прочь. На ходу он медленно ел, но сначала его желудок воспротивился этому. Тем не менее он съел половину, а половину оставил. Время от времени ему попадались маленькие зверюшки. Но то ли они были слишком шустрыми, то ли Джек слишком нерасторопным. Надеясь убить хоть одну, он набрал камней. Все-таки, когда он в седьмой раз пополнял запас камней, ему удалось подобрать кремень приличных размеров. Через некоторое время он услышал цокот копыт и спрятался, но мимо никто не проехал. Джек знал, что к этому времени он уже сильно углубился во владения Дрекхейма, и задумался, к которой же из границ идет. При мысли, что с одной стороны эти земли граничат с безымянным царством, которым из Хай-Даджен правит Повелитель Нетопырей, его передернуло. С темной земли он послал к ярким звездам еще один призыв. Он продвигался вперед петляя, карабкаясь, иногда бегом, а ненависть росла быстрее, чем голод. Смейдж. Квазер. Бенони. Блайт-палач. Повелитель Нетопырей. Он по очереди разыщет их и отомстит, начав с малого и набирая силу, пока не рассчитается с тем, кто и сейчас может оказаться слишком близко для того, чтобы Джек мог спать спокойно. Ему снилось, что он снова в Навозных Ямах. На этот раз, однако, он был в цепях, так что подобно Утренней Звезде, неотлучно находящемуся у Врат Зари, должен был оставаться там всегда. Джек проснулся в поту несмотря на то, что было прохладно, казалось, зловоние Глива вернулось к нему со всей остротой. Поесть он смог лишь гораздо позже. Но ненависть поддерживала его силы, питала его. Она избавляла Джека от жажды или заставляла забыть о ней. Она давала ему силы пройти еще часть пути всякий раз, как тело умоляло его лечь. Он представлял себе их конец снова и снова. Ему виделись дыба, клещи, огонь и цепи. Он слышал их вопли и мольбы. Он видел куски плоти, моря крови и реки слез, которые он выжмет из ни прежде, чем позволит им умереть.
…И он осознавал, что, несмотря на все трудности пути, больше всего его мучает уязвленная гордость. Быть пойманным так легко, между делом, погибнуть так быстро — словно они избавились от надоедливого насекомого! С ним обошлись не как с наделенным Силой человеком тьмы, а как с обыкновенным вором! Поэтому мысли его были не о простом ударе мечом, а о пытках. Они оскорбили его, покончив с ним подобным образом. Сделай они это иначе, он был бы обижен меньше. Повелитель Нетопырей — вот чье вероломство, возбуждаемое завистью и желанием отомстить, нанесло ему такое оскорбление. Он отплатит! Джек шел, кипя от ненависти. Но, хоть она и согревала его, это не спасало от надвигающегося холода. НЕсмотря на то, что он вряд ли сильно продвинулся к северу, стало заметно прохладнее. Джек улегся на спину и принялся рассматривать темный шар, загородивший звезды посреди неба. Эту сферу — средоточие Сил Щита держали подальше от дневного света, и нужно было все время следить, чтобы с ней ничего не случилось. Где те семь Сил, внесенные в Расчетную Книгу, чья очередь была нести службу у Щита? Какая бы ни шла междоусобица — нет такой Силы, которая отказалась бы соблюдать перемирие Щита, от которого зависят судьбы мира. Самому Джеку приходилось нести эту службу много раз, и пару раз даже вместе с Повелителем Нетопырей. Ему очень хотелось увидеть страницу, на которой сейчас была раскрыта Книга и прочесть записанные там имена. Ему пришло в голову, что одним из них может оказаться его собственное имя. Но с тех пор, как он вышел из Навозных Ям, Джек не слыхал, чтобы кто-нибудь звал его. Нет, на этот раз не я, решил Джек. Открыв свое существо, он ощутил жуткий холод. Он просачивался из внешней тьмы, обтекая сферу, венчающую Щит в его высшей точке. Это было лишь начало утечки, но чем дольше пришлось бы ждать, тем труднее было бы остановить ее. Дело было слишком серьезным, чтобы рисковать. Щит не давал царству тьмы оледенеть среди Вечной Зимы, так же, как силовые экраны жителей дневной стороны не давали им изжариться в немилосердном сиянии солнца. Джек закрыл свое существо. Остался лишь небольшой внутренний озноб. Немного позже ему удалось убить маленькое животное с темным мехом, которое взбиралось вверх по скале. Джек снял шкурку, разделал его ножом и, так как огня не было, съел мясо сырым. Он дробил зубами кости и высасывал мозг. Такая суровая жизнь была ему не по вкусу, хотя среди его знакомых были и такие, которые предпочли бы ее цивилизованной. Он порадовался, что никто не видит, как он ест. Он шел вперед, и вдруг в ушах у него зазвенело.
ДЖЕК-ИЗ-ТЕНИ, И…
И все. Кто бы это ни произнес, в тот момент на губы ему упала тень. Но на слишком короткое время. Джек медленно покрутил головой, определяя направление. Источник находился справа от него, далеко впереди. Если бы он знал, где сейчас находится, то по крайней мере смог бы догадаться, откуда это исходило. Тогда бы он сумел услышать все — от кабацкой болтовни до планов того, кто уже понял, что Джек вернулся. Это последнее долго занимало его. Он ускорил шаг и не стал отдыхать, хотя и собирался. Джек решил, что это приблизит его успех. Вдруг он обнаружил яму с дождевой водой. Охраны не было, и он, оглядевшись, напился. Он не мог как следует рассмотреть свое отражение в темной воде, поэтому напрягал глаза, пока черты лица не стали более четкими: смуглый, вместо глаз — слабые огоньки. Силуэт человека на фоне звезд. — Ах, Джек! Ты и впрямь стал тенью, — пробормотал он. — Затерялся в суровом краю… И все потому, что пообещал Неумирающему Полковнику эту проклятую побрякушку. Ты ведь не думал, что дойдет до такого, правда? Джек рассмеялся — впервые с тех пор, как воскрес. — Ты тоже смеешься, тень тени? — спросил он свое отражение. Возможно, — решил он. — Но будь повежливее. Ты — мое отражение, и тебе известно, что стоит мне узнать, где этот проклятый камень, как я отправлюсь за ним снова. Он того стоит. На миг ненависть покинула его, и он улыбнулся. Языки пламени, стоявшие перед его взором исчезли, и вместо них возникла девушка. Ее лицо было бледным, а глаза — зелеными, как кромка старинного зеркала. Короткая верхняя губка влажно смыкалась с нижней. Подбородок мог уместиться в кольцо из его большого и указательного пальцев, а по лбу были раскиданы пряди цвета меди. Звали ее Ивен, а ростом она была Джеку по плечо. До талии она была в зеленом бархате. Шея напоминала очищенный от коры стройный ствол молодого деревца. Пальцы, танцуя летали по струнам пальмирины. Такова была Ивен из крепости Холдинг. Он была плодом редкостного союза тьмы и света. Отцом ее был Неумирающий Полковник, а матерью — смертная женщина по имени Лорет. Не в том ли ее очарование? — снова подивился Джек. Раз она отчасти порождение света, у нее должна быть душа? Наверное, решил Джек. Он не смел вызвать ее образ силами тьмы сейчас, когда шел от Навозных Ям Глива. Нет! Он прогнал эту мысль. Пламень Ада был ценой, назначенной ее отцом за их брак, и Джек поклялся снова вернуться за ним. Сперва, конечно, он отомстит… Но Ивен поймет. Она знала, до чего он горд. Она подождет. В тот день, когда он отправлялся на Адские Игры, она сказала, что будет ждать вечно. Для нее, дочери своего отца, время значило мало. Она переживет смертных женщин, сохранив молодость, красоту и изящество. Она будет ждать. — Да, тень тени, — сказал он своему отражению в луже. — Она того стоит. Джек торопился сквозь тьму, жалея, что ноги — не колеса. Он услыхал топот копыт и снова спрятался. И вновь всадники проскакали мимо, только на этот раз гораздо ближе. Имени своего он не услышал, но задумался, нет ли связи между тем, что он услышал раньше, и всадниками. Не холодало, но и теплее не становилось. Его все время немного знобило, и, когда бы он ни открыл свое существо, он чувствовал, как сверху, от Щита, что-то медленно и неуклонно перетекает к нему. Навозные Ямы Глива находятся прямо под высшей точкой Щита, сферой, потому-то больше всего это ощущаешь здесь. Может быть, дальше к востоку это будет не так заметно. Он продолжил свой путь, поспал, но больше не слыхал ничего, что можно было бы счесть выходом на связь. Устав, он стал отдыхать чаще и время от времени отклонялся от маршрута, выбранного по звездам, чтобы поискать воду или дичь. Воду он раза два нашел, но ничего съедобного не попадалось. Во время одной из таких экспедиций Джека привлекло слабое красное свечение, шедшее из трещины в скале справа от него. Если бы он шел быстрее, то миновал бы его, не заметив — так слаб был исходивший из расселины свет. Джек как раз поднимался по склону, пробираясь между камней. Заметив свечение, он остановился и задумался. Огонь? Если там что-то горит, то должны быть и тени. А если там тени… Он обнажил клинок и повернулся к камню. Сперва Джек сунул в расселину лезвие, затем, держа меч перед собой, начал пробираться по узкому коридору, через каждый шаг прижимаясь спиной к камню и отдыхая. Поглядев наверх, он прикинул, что скала выше него раза в четыре. Над камнем, который был чернее неба, плыла звездная река. Проход понемногу сворачивал влево, а потом резко оборвался, открывшись на широкий уступ, расположенный примерно в трех футах над ложбиной. Джек стоял, оглядывая это место. Со всех сторон были высокие каменные стены, похоже, естественного происхождения. У их подножия рос черный кустарник, а поодаль — черные травы и сорняки. Однако по периметру круга никакой растительности не было. Круг находился в дальнем конце ложбины, его диаметр составлял примерно восемь футов. Он был идеально очерчен, но никаких признаков живых существ не было. В центре круга стоял большой поросший мхом валун и слабо светился. Джеку стало не по себе, хотя почему — он не понимал. Он оглядел отвесные камни, огораживающие ложбину. Потом он посмотрел на звезды. Действительно ли сияние мигнуло, пока он смотрел в другую сторону, или ему это только почудилось? Он спустился с уступа. Потом осторожно начал двигаться вперед, держась стены слева. Мох покрывал валун целиком. Он был розоватого цвета и, похоже, сияние исходило именно от него. Подойдя ближе, Джек заметил, что в ложбине вовсе не так холодно, как снаружи, возможно, стены создавали некоторую изоляцию. С мечом в руке Джек вошел в круг и двинулся вперед. В чем бы ни заключалась необычность этого места, он рассудил, что сможет извлечь из этого выгоду. Но не успел он пройти и полдюжины шагов, как почувствовал что-то вроде жужжания в голове. — НОВЫЙ ПРИЯТЕЛЬ! МЕНЯ НЕ УДЕРЖИШЬ! — возникла мысль. Джек остановился. — Кто ты? Где ты? — Я ПЕРЕД ТОБОЙ, МАЛЫШ. ИДИ КО МНЕ. — Я вижу только заплесневелый камень. — СКОРО УВИДИШЬ БОЛЬШЕ. ИДИ КО МНЕ! — Нет, спасибо, сказал Джек, а дурное предчувствие росло. Ему не нравился обращавшийся к нему разум. — ЭТО НЕ ПРИГЛАШЕНИЕ. ЭТО ПРИКАЗ. Я ТАК ВЕЛЮ. Джек ощутил, как в него вливается чуждая сила, а с ней — желание идти вперед. Он изо всех сил воспротивился и спросил: — Что ты такое? — Я ТО, ЧТО ТЫ ВИДИШЬ ПЕРЕД СОБОЙ. ИДИ ЖЕ! — Камень? Плесень? — спросил он, стараясь оставаться на месте. Джек чувствовал, что теряет контроль над собой. Если только он сделает хоть один шаг, то второй дастся ему уже легче. Его воля будет сломлена, и каменная штуковина сделает с ним, что пожелает. И верно — правая нога Джека пыталась сделать шаг без его ведома, сама, и он понял, что так оно и случится. Поэтому он пошел на компромисс. Развернувшись в сторону, он поддался давлению, но шаг получился скорее вбок, чем вперед. Тогда его левая нога начала медленно ползти в сторону камня. Подчиняясь и сопротивляясь одновременно, он продвинулся вперед и в сторону. — ПРЕКРАСНО. ТЫ ПРИДЕШЬ КО МНЕ НЕ ПО ПРЯМОЙ — НО ВСЕ РАВНО ПРИДЕШЬ. Шаг за шагом, Джек продолжал бороться, на лбу выступил пот. Но шаг за шагом он по спирали против часовой стрелки приближался к тому, что требовало его. Он не знал, как долго сражается, он позабыл все: ненависть, голод, жажду, любовь. Во вселенной остались только он, да розовый валун. Напряжение, возникшее между ними, заполнило атмосферу подобно надоевшей мелодии, которая звучит постоянно — привыкая к ней, перестаешь ее замечать. Похоже было, что Джеку придется бороться со своим противником вечно. Затем в маленькую вселенную их конфликта вошло что-то еще. Сорок или пятьдесят шагов, давшихся с трудом… Он сбился со счета. Джек оказался в таком положении, что стала видна дальняя часть валуна. Тут его сосредоточенность чуть не поддалась минутному всплеску эмоций, и он почти подчинился чужой воле. Джек споткнулся, увидев перед светящимся камнем груду костей. — ДА. МНЕ ПРИШЛОСЬ ПОМЕСТИТЬ ИХ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ВНОВЬ ПРИБЫВШИЕ НЕ ПУГАЛИСЬ И МОГЛИ ПОПАСТЬ В РАДИУС МОЕГО ВЛИЯНИЯ. И ТЫ, ТЕПЛОКРОВНЫЙ, БУДЕШЬ ТУТ ЛЕЖАТЬ. Восстановив контроль над собой, Джек продолжил поединок. Груда костей сильно подвинула его на это. Он медленно, кругами прошел мимо валуна, миновал кости и двинулся дальше, но теперь был футов на десять ближе. Движение по спирали продолжалось, и он обнаружил, что снова приближается к тыльной стороне камня. — ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ, ЧТО ТЫ ПРОДЕРЖАЛСЯ ДОЛЬШЕ, ЧЕМ ВСЕ ПРОЧИЕ. НО В ТАКОМ СЛУЧАЕ ТЫ — ПЕРВЫЙ, КТО ТАК МНЕ СОПРОТИВЛЯЕТСЯ. Джек не ответил, но, совершая очередной круг, еще раз наткнулся на ужасающие останки. Теперь он заметил, что мечи, кинжалы, уздечки, металлические пряжки лежат нетронутыми, а одежда и прочее тряпье наполовину сгнили. На земле валялась разная мелочь, вывалившаяся из сумок и мешков, но что именно — он не мог разобрать в слабом свете звезд. Если он и вправду увидел то, что, как ему показалось, лежало среди костей, то можно было позволить себе капельку надежды. — ЕЩЕ КРУЖОК — И ТЫ ПРИДЕШЬ КО МНЕ, МАЛЫШ. ТОГДА ТЫ КОСНЕШЬСЯ МЕНЯ. По мере своего движения Джек все больше и больше приближался к скользкой розовой поверхности этого существа. Оно, казалось, вырастало с каждым шагом, а бледный свет, испускаемый им, становился все более рассеянным. Он шел не из одной определенной точки, а со всей поверхности сразу. Снова вперед. Уже можно доплюнуть… Двигаясь теперь сбоку от камня, он мог уже дотронуться до него, вытянув руку. Джек перекинул меч в левую руку и нанес удар, обдирая мшистую поверхность. Из царапины потекла жидкость. — ТЫ МНЕ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ. ТЫ ВООБЩЕ НЕ МОЖЕШЬ МНЕ НИЧЕГО СДЕЛАТЬ. Снова стали видны скелеты. Джек был совсем рядом от напоминающей раковую опухоль поверхности. Он чувствовал, как она голодна, и пинками расшвыривал кости в стороны, слыша, как они хрустят под сапогами, когда он идет к центру круга. Он увидел то, что хотел увидеть, и заставил себя сделать три шага, чтобы до него дотянуться, хотя это напоминало движение навстречу урагану. Теперь от смертоносной поверхности его отделяли только дюймы. Джек бросился к сумкам. Он подтащил их к себе, пользуясь и мечом, и рукой. Заодно он прихватил и лежавшие возле него сгнившие куртки и плащи. Затем он почувствовал, что под действием непреодолимой силы движется назад — и плечо Джека коснулось покрытого лишайником камня. Какое-то время Джек ничего не чувствовал. Потом в том месте, где он касался камня, он ощутил леденящий холод. Это быстро прошло. Боли не было. А потом он понял, что плечо полностью онемело. — ЭТО НЕ ТАК СТРАШНО, КАК ТЫ ДУМАЛ, ПРАВДА? Потом в глазах потемнело и волной нахлынуло головокружение — словно, просидев много часов кряду, он резко встал. Это прошло, но возникло новое ощущение. В его плечо словно вонзили что-то. Джек чувствовал, как силы покидают его. С каждым ударом сердца становилось все труднее сохранять ясность мысли. Онемение начало распространяться на спину и руку. Было очень трудно поднять правую руку и схватить сумку, висевшую у пояса. Время, пока он шарил в ней, показалось вечностью. Сопротивляясь сильному желанию закрыть глаза и опустить голову на грудь, Джек швырнул на землю собранную им кучу тряпья. Ноющей левой рукой он дотянулся до кремня возле нее и ударил мечом. По сухим тряпкам заплясали искры, но Джек продолжал высекать их и после того, как закурился дымок. Когда появились первые языки пламени, Джек с их помощью зажег свечу, которую держал один из мертвецов. Джек держал ее перед собой, и появились тени. Поставив свечу на землю, он понял, что его тень упала на валун. — ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ, ЕДА? Джек отдыхал в своем сером царстве, голова его вновь прояснилась, в кончиках пальцев возникло знакомое покалывание. — Я — КАМЕНЬ, ПЬЮЩИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ КРОВЬ! ОТВЕЧАЙ! ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ? Свеча горела, тени ласкали его. Джек положил правую руку на левое плечо. Покалывание перешло в него и онемение исчезло. Затем, укутавшись тенью, он поднялся. — Что я делаю? — сказал он. — Нет. Сделал. Ты погостил в моем сознании, и я думаю, что будет только справедливо, если я отплачу тебе тем же. Он отошел от валуна и повернулся к нему лицом. Тот попытался снова завладеть им, но на сей раз Джек шевельнул рукой, и на поверхность камня упали тени. Он вложил в возникший калейдоскоп теней все силы. — ГДЕ ТЫ? — Везде, — сказал он. — И нигде. Он вытер меч и вернулся к валуну. Когда от свечи остался огарок, Джек понял, что действовать надо быстро. Он положил руки на губчатую поверхность. — Я здесь, — сказал он. Не в пример прочим власть имущим в царстве тьмы, области влияния который были географически фиксированы, владения Джека были разбросаны в разных местах, и их можно было перегруппировывать, но возникали они только, если можно было создать хоть малейшую тень. Джек начал подчинять валун своей воле. Они поменялись ролями и, конечно, возникло сопротивление. Сила, вынудившая его сражаться, сама превратилась в жертву. Джек наращивал в себе голод, открывая свое существо во внешнее пространство, вакуум. Поток, струйка… объем был заполнен. А Джек кормился. — ТЫ НЕ ИМЕЕШЬ ПРАВА НИЧЕГО МНЕ СДЕЛАТЬ. ТЫ — ВЕЩЬ. Но Джек рассмеялся. Он становился все сильнее, а сопротивление валуна ослабевало. Вскоре тот был не в состоянии даже протестовать. Мох стал коричневым раньше, чем, ярко вспыхнув, догорела свеча, а сияние исчезло. Что бы ни обитало там прежде, оно было мертво. Прежде, чем покинуть ложбину, Джек много раз вытер руки о плащ.
3
Сила, перешедшая в Джека, поддерживала его долго, и он начал надеяться, что вскоре выберется из вонючего царства. Холоднее не становилось, а когда он собрался спать, пошел небольшой дождик. Джек свернулся калачиком возле скалы и натянул на голову плащ. Плащ защищал его очень слабо, но Джек смеялся даже, когда вода добралась до его тела. Это был первый дождь с тех пор, как он ушел из Глива. После дождя осталось достаточно луж, чтобы он смог вымыться, напиться и снова наполнить флягу. Джек решил не спать, а идти дальше, чтобы одежда побыстрее просохла. Оно пронеслось мимо его лица так стремительно, что Джек едва успел среагировать. Это случилось, когда он поравнялся с разрушенной башней. От нее отделился клочок тьмы и, быстро вращаясь, начал падать прямо на него. У Джека не хватило времени обнажить меч. Оно пронеслось мимо него и метнулось прочь. Правда, он успел запустить в него теми камнями, что нес с собой, и вторым камнем чуть не попал. После этого он поник головой и добрых две минуты изрыгал проклятия. Тварь была летучей мышью. Джек бросился бежать, мечтая о тени. На равнине было множество разрушенных башен. Возле одной из них начиналась дорога, которая вела между холмов к горам. Джек, не любивший ходить возле построек, — разрушенных ли, нет ли — все равно, потому что в них могли найти приют враги, старался держаться от них подальше. Миновав башни, он подходил к расселине, как вдруг услыхал свое имя. — Джек! Мой Джекки-Тень! — донесся крик. — Это ты! Это и впрямь ты! Держа руку на рукояти меча, Джек повернулся в ту сторону, откуда доносились слова. — Нет! Нет, Джек! Со старушкой Рози меч тебе ни к чему! Она стояла так неподвижно, что он чуть не прошел мимо. Сморщенная старуха в черном опиралась на посох возле разрушенной стены. — Откуда ты знаешь мое имя? — наконец спросил он. — Ты что же, забыл меня, миленький? Забыл? Скажи, что нет. Он глядел на сгорбленную фигуру, на копну спутанных седых волос. — Сломанная метла, — подумал он. — Она похожа на сломанную метлу. И все же… Что-то знакомое в ней было. Он не мог понять, что. Джек убрал руку с меча и подошел. — Рози? Он подошел совсем близко. Наконец, он заглянул ей в глаза. — Скажи, что помнишь, Джек. И он вспомнил. — Дорога вдоль побережья. «Под Знаком Огненного Пестика». Розали… Но это было в Сумеречных землях так давно… — Да, — сказала она, — это было давным-давно и очень далеко отсюда. Но я всегда помнила тебя, Джек. У девушки из таверны бывает много мужчин… но помнила я тебя. Что с тобой стало, Джек? — Ах, моя Розали! Мне отрубили голову… спешу заметить, несправедливо… и сейчас я как раз возвращаюсь из Глива. А ты как? Ты ведь смертна. Что ты делаешь в жутком царстве Дрекхейма? — Я — Ведунья с Восточных границ, Джек. Признаюсь, в молодости я была не больно-то умна… Потерять голову из-за одних только твоих обещаний! Но чем старше я становилась, тем больше умнела. Мне пришлось ухаживать за одной старой развратницей, когда та уже не могла работать, и она обучила меня кой-какому Искусству. Когда я узнала, что барону нужна Ведунья охранять эту часть владений, я пошла и поклялась ему в верности. Говорят, он злой, но но к старой Рози он всегда был добрым. Добрее многих, кого она знала… Хорошо, что ты помнишь меня. Потом она вытащила из-под плаща какой-то тряпичный сверток и развернула его на земле. — Садись, поешь со мной, Джек, — сказала она. — Как в старое доброе время. Джек расстегнул перевязь и уселся напротив нее. — Прошло немало времени с тех пор, как ты съел живой камень, сказала она, протягивая ему кусок сушеного мяса с хлебом. — Поэтому я знаю, что ты голоден. — Откуда ты знаешь о моем приключении с камнем? — Я уже сказала тебе, что я — Ведунья. В буквальном смысле слова. Я не знала, что ты делаешь, знала только, что с камнем покончено. Я стерегу эти места для барона и знаю обо всем, что происходит. Я вижу всех, кто идет по этой дороге. Все это я сообщаю ему. — О, — сказал Джек. — Должно же было быть что-то в твоей болтовне о том, что ты не просто человек тьмы, а один из облеченных властью, хотя и бедных, — сказала Рози. — Мне кажется, что только тот, кто обладает Силой, может съесть этот камень. Значит, когда ты распускал хвост перед бедной девушкой, ты не врал. Остальное, может, и враки, но это… — Что остальное? — спросил он. — Например, то, что в один прекрасный день ты за ней вернешься, и вы поселитесь в Шедоу-Гард — замке, которого не видел никто из смертных. Ты пообещал ей это, и она много лет ждала. Потом однажды ночью в гостинице заболела старая распутница. Девушка — а лет ей было уже немало задумалась о своем будущем. И заключила сделку, чтобы научиться ремеслу получше. Некоторое время Джек молча смотрел в землю. Он проглотил хлеб, который жевал, а потом сказал: — Я возвращался. Я вернулся, но никто не помнил мою Розали. Все изменилось, люди были не те. И я снова ушел. Она хихикнула. — Джек! Джек! — сказала она. — Твоя утешительная ложь теперь вовсе ни к чему. Для старухи ничего не значит то, чему верила молоденькая девчонка. — Ты говоришь, ты стала Ведуньей, — сказал он. — Ты что же, отличаешь ложь от правды только по догадкам? — Я не хотела бы применять Искусство против Силы… — начала она. — А ты примени, — сказал Джек и еще раз заглянул ей в глаза. Она прищурилась и наклонилась вперед, не отрывая своего взгляда от его глаз. Это вызвало у Джека ощущение падения. Стоило ей отвести глаза и оно исчезло. Рози склонила голову к правому плечу. — И правда, ты возвращался, — сказала она. — Я же сказал тебе. Джек взял хлеб и начал шумно жевать, чтобы не замечать, как ее щеки стали мокрыми. — Я забыла, — наконец сказала она. — Я уже забыла, как мало значит время для людей тьмы. Вы просто не считаете годы. Ты однажды решил вернуться к Рози и не подумал, что она может состариться, умереть или уехать. Теперь я поняла, Джекки. Ты привык к вещам, которые не меняются. Сила остается Силой. Ты можешь сегодня убить кого-нибудь, а спустя десять лет обедать с ним, хохоча над вашей дуэлью и пытаясь вспомнить, что было ее причиной. Да, хорошая у тебя жизнь! — У меня нет души. А у тебя есть. — Душа? — она засмеялась. — Что такое душа? Я никогда не видала ее. Почем я знаю, есть она или нет? А даже если есть, что мне было от нее проку? Я бы мигом продала ее, если бы могла стать такой, как ты. Хотя тут мое искусство бессильно. — Прости, — сказал Джек. Некоторое время они ели молча. — Я хочу тебя кое о чем спросить, — сказала она. — О чем? — Шедоу-Гард и правда существует? — сказала она. — Замок с высокими стенами, залами, полными теней, невидимый для твоих врагов… и для друзей тоже… Ведь ты хотел забрать ту девушку туда? — Конечно, — ответил он и стал смотреть, как она ест. У нее не хватало многих зубов, она часто облизывала губы и причмокивала. Но вдруг сквозь сетку морщин Джек увидел лицо той девчонки, какой она была когда-то. Когда она улыбалась, сверкали белые зубы, волосы были длинными и блестящими, как небо между звезд. А голубые глаза были как небо над дневной стороной планеты, как небо, на которое он частенько смотрел. Ему нравилось думать, что все это было только для него. — Ей долго не протянуть, — подумал он. Девичье лицо исчезло, и он увидел дряблую кожу у нее под подбородком. — Конечно, — повторил он. — А теперь я тебя нашел. Ты вернешься со мной? Прочь из этой проклятой страны, в царство уютных теней. Проведи остаток своих дней со мной. Я буду добр к тебе. Она разглядывала его лицо. — И ты сдержишь свое слово через столько лет… теперь, когда я стала уродливой старухой? — Давай перейдем границу и вернемся в Сумеречные земли вместе. — Зачем тебе это? — Ты знаешь. — Дай руки, быстро! — сказала она. Он протянул руки, и она ухватилась за них, повернув ладонями вверх. Наклонившись вперед, Рози изучала их. — А! Бесполезно! — сказала она. — Я не могу читать по твоей руке, Джек. Руки вора слишком много работают — все линии неверных. Хотя это сильно настрадавшиеся руки… — Рози, ты увидела там что-то, о чем не хочешь говорить. Что это? — Не доедай. Бери хлеб и беги. Я слишком стара, чтобы пойти с тобой. Очень мило с твоей стороны меня пригласить. Той девчонке понравился бы Шедоу-Гард, но я собираюсь провести остаток своих дней здесь… Теперь иди. Торопись! И прости меня, если сможешь. — Простить? За что? Она поднялась и поцеловала его руки. — Увидев, что сюда идет тот, кого я ненавидела все эти годы, я с помощью Искусства послала сообщение и решила задержать тебя здесь. Теперь я знаю, что была неправа. Но стражника барона, должно быть, уже спешат сюда. Иди по этой дороге и ни за что не останавливайся. Ты можешь обойти их с другой стороны. Я постараюсь вызвать бурю и сбить их с твоего следа. Он вскочил и помог ей подняться. — Спасибо, — сказал он. — Но что ты увидела на моей ладони? — Ничего. — Розали, скажи. — Не имеет значения, поймают ли они тебя, — сказала она, — потому что тебе предстоит встреча с Силой страшнее барона… а с ним ты тоже встретишься. Что бы ни случилось — это будет решающим. Не давай своей ненависти привести тебя к машинам, которые думают как люди, только быстрее. Слишком большие силы вовлечены в игру, а они не могут идти рядом с ненавистью. — Такие машины существуют только на дневной стороне. — Я знаю. Иди же, Джекки. Иди! Он поцеловал ее в лоб. — Как-нибудь встретимся, — сказал он, и, повернувшись, бросился к дороге. Рози смотрела, как он уходит, и вдруг почувствовала, что над долиной пронесся холодный ветер. Холмы, склоны которых сперва были пологими и поднимались медленно, теперь стояли вокруг Джека, как башни. Он бежал и видел, как их сменяют высокие каменные стены. Дорога ширилась, сужалась, опять становилась широкой. Наконец он справился со своей паникой и взял себя в руки. Джек перешел на шаг. Не было смысла быстро уставать — медленный, ровный шаг позволил бы ему пройти немало, прежде чем усталость возьмет верх. Он глубоко дышал и прислушивался, нет ли погони. Ничего не было слышно. По скале справа от него скользнула длинная черная змея. Она исчезла в расселине и больше не появлялась. В небе горела одинокая звезда. В ее свете вкрапления разных пород блестели, как стекло. Он подумал о Рози и удивился: что значит иметь родителей, быть ребенком, зависеть от кого-то, чтобы жить. Джек задумался, каково быть старым, знать, что умрешь и больше не вернешься. Вскоре эти мысли, как и все прочие, утомили его. Ему очень хотелось завернуться в плащ, лечь и уснуть. Чтобы не заснуть, он считал шаги — тысячу, потом еще тысячу. Он тер глаза, спел несколько песенок, думал о еде, женщинах, о своих самых крупных кражах, проигрывал в уме пытки и наконец, подумал об Ивен. Стены вскоре стали ниже. Он шел у подножия холмов — таких же, как те, от которых началась дорога. Погони все еще не было. Джек надеялся, что это означает, что его не схватят в пути. Только бы добраться до открытой местности, а уж там он сумеет найти множество укрытий. Над головой загремело и, посмотрев наверх, он увидел, что звезды начали скрываться в тучах. Джек сообразил, что облака собираются очень быстро, и вспомнил обещание Розали постараться вызвать бурю и замести его следы. Когда блеснула молния, грянул гром, и первые капли дождя упали на землю, он улыбнулся. Сойдя с тропы, Джек еще раз вымок насквозь. Буря, казалось, не собиралась утихать. Видно было скверно, но ему показалось, что он вышел на такую же равнину, с разбросанными по ней скалами, как та, которую он ставил по ту сторону гор. Джек почти на милю отклонился от своего курса — самый выгодный маршрут, чтобы уйти из владений барона. Потом он заметил несколько валунов. Джек устроился на сухой стороне самого большого и уснул. Разбудил его цокот копыт. Он полежал, прислушиваясь, и определил, что звук идет от дороги. Джек вытащил меч и положил рядом. Дождь еще шел, хотя и потише. Издалека время от времени доносились раскаты грома. Цокот копыт затихал. Он прижал ухо к земле, вздохнул, потом улыбнулся. Он все еще был в безопасности. Несмотря на то, что все тело болело и протестовало, Джек поднялся и пошел дальше. Он решил идти, пока идет дождь, чтоб уничтожить как можно больше следов. В темной грязи сапоги Джека оставляли углубления, одежда липла к телу. Он несколько раз чихнул и вздрогнул от холода. Ощутив странную боль в правой руке, он опустил глаза и увидел, что все еще сжимает меч. Джек насухо вытер клинок полой плаща и спрятал его в ножны. В просветах между тучами он отыскал знакомые созвездия. По ним он снова взял курс на восток. Дождь постепенно перестал. Джек был весь в грязи, но продолжал идти. Одежда начала просыхать, а бивший его озноб почти прошел. Позади него снова возник и затих цокот копыт. Зачем тратить столько сил на поимку одного человека, удивился он. Когда он возвращался в прошлый раз, все было иначе. Правда, раньше он никогда не ходил этой дорогой. — То ли, пока я был мертв, я стал очень важной персоной, — решил Джек, — то ли люди барона охотятся на возвращающихся просто из спортивного интереса. В любом случае Джек счел за лучшее не связываться с ними. Что имела в виду Розали, когда говорила, что неважно, поймают меня или нет. Если это действительно так, это очень странно. Время шло. Он оказался на еще более высокой и каменистой террасе. Грязь осталась внизу позади него. Джек начал искать место для отдыха, но это была равнина, и он предпочел идти дальше, нежели быть пойманным на открытой местности. Продвигаясь вперед, он заметил в отдалении нечто, напоминающее каменную изгородь. Приблизившись, Джек увидел, что эти камни были светлее соседних, а промежутки между ними, казалось были одинаковыми. Похоже, форма камней не была результатом действия сил сил природы, скорее, их вытесал какой-то маньяк, зациклившийся на пятиугольниках. Джек нашел себе место для отдыха у ближайшего камня и, где было сухо, и заснул. Ему снова снились дождь и гром. Гром гремел, не переставая, и от этого содрогалась вся вселенная. Потом Джек очень долго находился на на грани сна и бодрствования. И все равно он чувствовал, что чего-то не хватает, хотя точно не знал, чего и почему. — Вот оно что, я не промок! — удивленно и раздраженно решил он. Потом, вслед за громом, он вернулся в свое тело. Голова его покоилась на откинутой руке. Мгновение он лежал, совсем проснувшись, а потом вскочил на ноги, сообразив, что на его след напали. Показались всадники. Джек насчитал семерых. Он отбросил плащ за спину, в руке очутился меч. Потом он пальцами взъерошил волосы и протер глаза. И стал ждать. Высоко в небе, за его левым плечом, разгоралась звезда. Джек решил, что удирать пешему от всадников смысла нет, особенно, когда негде спрятаться. Они просто будут гнать его пока он не свалится на землю, а тогда усталость не даст ему достойно сразиться и хоть нескольких из них отправить в Глив. Поэтому он ждал, раздосадованный, что небо светлеет. Кони дьявольских всадников в черном высекали копытами искры из камней. Высоко над землей на него, как горсть раскаленных углей, неслись их глаза. Из ноздрей вырывались струйки дыма, а иногда — пронзительный свист. С ними, опустив к земле голову и вытянув хвост, молча бежала похожая на волка тварь. Там, где Джек, подходя к камням, сворачивал, она тоже меняла направление. — Ты — первая, сказал он, поднимая меч. При звуке его голоса тварь подняла морду, завыла и рванулась, обгоняя всадников. Пока она приближалась, Джек отступил на четыре шага и прижался спиной к камню. Он высоко занес меч, словно собираясь рубить, и обеими руками стиснул рукоять. Из открытой пасти этой твари свешивался язык, а почти человечья ухмылка открывала огромные зубы. Когда она прыгнула, Джек опустил меч, описав им полукруг, и задержал его перед собой, упершись локтями в камень. Тварь не рычала, не выла и не лаяла — напоровшись на меч, она завизжала. Удар выжал из Джека воздух и раскровянил упиравшиеся в камень локти. На мгновение он начал отключаться, но визг и едкий запах, исходивший от твари, удержали его в сознании. Мгновение — и тварь замолчала. Она дважды дернулась на лезвии, содрогнулась и издохла. Джек стал на труп ногой и, с силой повернув, вытащил меч. Потом он снова занес его и повернулся лицом к подъезжавшим всадникам. Они сбавили темп, натянули поводья и остановились в какой-нибудь дюжине шагов от него. Их предводитель — лысый, маленького роста и совершенно необъятный спешился и пошел вперед. Увидев окровавленную тварь, он покачал головой. — Не стоило убивать Шандера, — сказал он. — Голос был хриплым и грубым. — Он не хотел причинить тебе вред — только обезоружить. Джек рассмеялся. Мужчина посмотрел на него снизу вверх. Желтый огонь в глазах говорил о таящейся в нем силе. — Ты дразнишь меня, вор! — сказал он. Джек кивнул. — Если вы возьмете меня живым, я, несомненно, много претерплю от твоей руки, — сказал он. — Не вижу причин скрывать свои чувства, барон. Я смеюсь над тобой, потому что ненавижу. Что тебе нечего делать, кроме как гоняться за возвращающимися? Барон отступил и поднял руку. По этому знаку спешились остальные. Ухмыляясь, он вытащил меч и сказал: — Ты нарушил границу моих владений, верно? — Это единственный путь из Глива, — сказал Джек. — Всем, кто возвращается, приходится пройти через них. — Да, — сказал барон, — и те, кого я арестую, должны заплатить пошлину. То есть прослужить мне несколько лет. Всадники обошли Джека с флангов, образовав полукруг. — Отдай меч, человек-тень, — сказал барон. — Если мы отнимем у тебя оружие, ты вряд ли сумеешь покалечиться в схватке. Мне бы не хотелось иметь увечного слугу. Пока барон говорил, Джек сплюнул. Двое из людей барона посмотрели наверх — да так и остались таращиться в небо. Подозревая, что так они хотят отвлечь его внимание, Джек не стал смотреть, что там такое. Но тут задрал голову еще один, и, увидев это, сам барон посмотрел на небо. Краем глаза Джек заметил появившееся высоко в небе свечение. Тогда он поднял голову и увидел быстро приближавшийся к ним большой шар. Чем ближе он был, тем больше и ярче становился. Джек быстро опустил глаза. Что бы это ни было, такой шанс упускать было нельзя. Он бросился вперед и снес голову крайнему справа, который стоял, глазея на шар. Ему удалось раздробить череп еще одному — тот слишком медленно поворачивался. После этого барон и четверка оставшихся развернулись и кинулись на него. Джек отступал, парируя удары со всей возможной быстротой, не решаясь на ответные выпады. Он попытался обойти камень слева от себя, желая вымотать их. Но они двигались слишком быстро, и Джек обнаружил, что окружен. Каждый удар, который он отражал с близкого расстояния, теперь причинял ладони мучительную боль, а по руке пошли мурашки. С каждым ударом меч казался все тяжелее. Они начали прорывать оборону. На плечах, руках и бедрах Джека появились небольшие порезы. В его мозгу возникло и исчезло видение Навозных Ям. По тому, с какой яростью они нападали, он понял, что теперь они хотят не взять его в плен, а отомстить за погибших. Сообразив, что еще немного — и его изрубят в куски, Джек твердо решил при малейшей возможности захватить с собой в Глив барона. Он приготовился кинуться на него, как только в обороне Дрекхейма наметится брешь. Лучше бы это случилось поскорее, подумал Джек, потому что с каждой проклятой минутой он слабел. Словно чувствуя это, барон дрался осторожно, все время защищаясь. Нападали его люди. Хватая ртом воздух, Джек решил, что больше ждать не может. И все кончилось. Мечи стали слишком горячими, чтобы их удерживать, когда по клинкам заплясало синее пламя. Они с криком выпустили их из рук, и тогда вспышка белого света над головами ослепила их. От мечей летели искры, а ноздри щекотал запах горелого. — Барон, — раздался сладкий, как мед, голос, — ты нарушил границы моих владений и пытался убить моего пленника. Что ты скажешь в свое оправдание? Когда Джек узнал этот голос, его охватил страх.
4
Джек искал тени, а перед глазами его плясали точки. Свет исчез так же быстро, как и появился, и наступившая за ним тьма казалась почти абсолютной. Он попытался воспользоваться этим и добраться до скалы. Он начал ее обходить. — ТВОЕГО пленника? — услышал он вопль барона. — Он мой! — Мы долго были добрыми соседями, барон — с тех пор, как я в последний раз давал тебе урок географии, — сказала фигура, стоявшая на вершине скалы. Теперь ее можно было различить. — Возможно, требуется повторное обучение. Эти скалы — граница между нашими владениями. Пленник стоит на моей стороне… и должен добавить, ты со своими людьми — тоже. Ты, конечно, уважаемый гость, а пленник, разумеется, мой. — Лорд, — сказал барон, — эта граница всегда была спорной. Да будет тебе известно, что я преследовал этого человека на своей земле. Вряд ли честно с твоей стороны влезать в это. — Честно? — донесся в ответ смех. — Не говори мне о честности, сосед… И не называй этого пленника «человеком». Мы оба знаем, что на границе кончается наша сила — сила, а не законы или договоры. Там, куда из Хай-Даджен достает моя сила, земля — моя. То же самое касается тебя в твоих владениях. Если ты хочешь состязаться, чтобы пересмотреть границу давай. Что касается пленника, тебе известно, что и сам он наделен Силой одной из немногих подвижных сил. Он черпает ее не из определенного источника, а из сочетания света и тьмы. То, кто изловит его не может не получить выгоды, поэтому он мой. Ты согласен со мной, повелитель падали? Или мы немедленно начнем пересмотр границы? — Я вижу, Сила не покинула тебя… — И значит, мы на моей территории. Иди домой, барон. Обойдя вокруг скалы, Джек спокойно направился в темноту. Ему представился случай проскочить обратно через границу и, может быть, вызвать драку, но в любом случае он становится чьим-то пленником. Путь только один — лучше удрать. Он пошел быстрее. Оглянувшись, Джек увидел нечто, что могло означать продолжение спора, поскольку барон топал ногами и бурно жестикулировал. Он слышал его сердитые крики, хотя отошел слишком далеко для того, чтобы разбирать слова. Зная, что его отсутствие будет оставаться незамеченным еще недолго, Джек побежал. Он взобрался на небольшой холм и, проклиная потерю меча, сбежал с его восточного склона. Он быстро устал, но заставил себя идти, остановившись только, чтобы вооружиться парой нетяжелых камней. Потом на какое-то мгновение перед ним упала его длинная тень, и он остановился, оглядываясь. Над холмом появилось сияние, в котором, поднимаясь и опускаясь словно пепел или сорванные ветром листья, плясали рои летучих мышей. Прежде, чем он сумел использовать тень, свет потускнел и опять воцарилась тьма. Определяясь, Джек посмотрел на звезды, и заторопился дальше, отыскивая по дороге убежище. Он знал, что будет погоня. Он продолжал оглядываться, но сияние больше не повторялось. Он задумался, чем же закончился конфликт. Барон, несмотря на свою звериную внешность, был известен как довольно чувствительный субъект. Кроме того, ситуация на границе указывала на то, что оба спорщика были одинаково далеки от источников своей Силы. Неплохо было бы, решил он, если бы они уничтожили друг друга. Хотя вряд ли. А жаль. Понимая, что к этому моменту его отсутствие там уже заметили, и что единственное, что может остановить погоню, это начавшаяся драка, он взмолился, чтобы скандал оказался затяжным. Заодно он отметил, что идеальным выходом была бы смерть или тяжкие повреждения у обеих участвующих сторон. Словно в насмешку над его мольбой, очень скоро мимо промелькнул темный силуэт. Джек запустил в него оба камня, но оба раза промахнулся. Решив не идти по прямой, он свернул влево и пошел в этом направлении. Шел он медленно, экономя силы, пот высох и он снова почувствовал озноб. Но только ли поэтому? Кажется, темный силуэт преследовал его слева на некотором расстоянии. Стоило повернуть голову, как он исчезал. Все-таки, глядя прямо перед собой, Джек уголком глаза уловил некоторое движение. Вскоре силуэт очутился рядом с ним. Джек почувствовал его присутствие, хотя едва различал его. Поскольку тот больше не двигался, Джек приготовился защищаться при первом же прикосновении. — Можно узнать, как ты себя чувствуешь? — раздался мягкий приятный голос. Подавив дрожь, Джек сказал: — Я голоден, хочу пить и устал. — Какая жалость. Я прослежу, чтобы вскоре это прошло. — Почему? — Мой обычай — оказывать гостя все почести. — Я не знал, что я чей-то гость. — Все, кто попадает в мои владения, мои гости, Джек. Даже те, кто раньше пренебрег моим гостеприимством. — Приятно слышать. Особенно, если это значит, что ты поможешь добраться до восточной границы твоих владений по возможности быстро и спокойно. — Мы обсудим это после обеда. — Отлично. — Сюда, пожалуйста. Он взял вправо, и Джек последовал за ним, понимая, что больше ничего не остается. По дороге ему удалось мельком увидеть смуглое красивое лицо, наполовину освещенное светом звезд, наполовину скрытое высоким круглым воротом плаща. Глаза напоминали лужицы воска, которые натекают вокруг фитилей черных свечек — горячие, темные и влажные. С неба все время срывались летучие мыши и исчезали в складках плаща. После долгого молчания спутник Джека указал на видневшееся впереди возвышение. — Сюда, — сказал он. Джек кивнул и посмотрел на холм со срезанной вершиной. Малое средоточие Силы, решил он, и находится в пределах досягаемости хозяина. Медленно карабкаясь вверх, они приближались к нему. Когда Джек поскользнулся, то почувствовал на своем локте сильную руку, вернувшую ему равновесие. Он заметил что сапоги его спутника ступали бесшумно, хотя под ногами был гравий. Наконец он спросил: — А что с бароном? — Барон — умный человек, он поехал домой, — блеснув мгновенной белозубой усмешкой, ответил его спутник. Они добрались до вершины и направились к ее центру. Темная фигура вытащила меч и начертила им на земле знаки. некоторые были знакомы Джеку. Затем он отстранил Джека движением руки и провел большим пальцем по клинку так, чтобы его кровь попала в центр узора. При этом он произнес несколько слов. Потом он обернулся и жестом велел Джеку подойти и снова стать рядом с ним. Он очертил вокруг них окружность и снова повернулся к узору. После произнесенных слов тот вспыхнул у них под ногами. Джек старался не смотреть на пылающие линии, но узор притягивал его взгляд, и он начал следить за ним глазами. Когда рисунок полностью овладел его разумом, вытеснив все остальное, он почувствовал оцепенение. Казалось, он движется внутри узора, он — его часть… Кто-то подтолкнул его, и он упал. Он стоял на коленях среди сияния и блеска и множество людей дразнили его. Нет. Те, кто передразнивали его малейшее движение, были всего лишь отражениями. Джек потряс головой, желая вернуть ясность мысли, и тогда понял, что окружен зеркалами и ярким светом. Он встал, рассматривая неясную панораму. Он находился почти в центре большой многогранной комнаты. Все грани были зеркальными, так же как бесчисленные ячейки потолка и сияющий пол. Откуда шел свет, Джек не знал. Может быть, его источали сами зеркала. Неподалеку у стены справа был накрыт стол. Идя к нему, Джек понял, что поднимается в горку, хотя избыточного напряжения мышц не чувствовал, и равновесия не терял. Тогда он торопливо миновал стол и продолжал идти, как полагал, по прямой. Стол был позади него, затем — над ним. Через несколько сот шагов Джек свернул направо и опять пошел к столу. Результат был прежним. Ни окон, ни дверей не было. Имелись: стол, кровать и стулья. Они стояли возле разбросанных по комнате небольших столиков. Похоже было, что его заключили в огромный драгоценный камень, полный сияния. Его отражения и отражения отражений уходили в бесконечность, и куда бы он ни посмотрел, везде был свет. Тени нигде не должно было быть — и не было. Узник того, кто однажды уже убил тебя — подумал он. Конечно, неподалеку от источника его Силы, в клетке, сделанной специально для тебя. Скверно. Очень скверно. Вдруг повсюду началось движение. Зеркала на мгновение показали его бесконечность, потом опять все замерло. Джек огляделся, отыскивая результат этих перемещений. Теперь на висевшем перед ним столе стояли мясо, хлеб вино и вода. Встав на ноги, он почувствовал легкое прикосновение к плечу. Джек мигом обернулся, и ему с поклоном улыбнулся Повелитель Нетопырей. — Кушать подано, — сказал он, указывая на стол. Джек кивнул, подошел вместе с ним к столу, уселся и принялся наполнять тарелку. — Как тебе квартира? — Очень забавная, — ответил Джек. — Кроме всего прочего, как я заметил, тут ни окон, ни дверей. — Да. Джек принялся за еду. Его аппетит был подобен пламени, которое невозможно унять. — После своего путешествия ты выглядишь не слишком хорошо. — Знаю. — Позже я пришлю тебе ванну и чистую одежду. — Спасибо. — Не за что. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя комфортно, а пробыть здесь тебе придется, несомненно, долго. — Как долго? — спросил Джек. — Кто знает? Возможно, годы. — Понятно. Джек задумался. Если я нападу на него с ножом для мяса, сумею ли я его убить? Или сейчас он слишком силен для меня? Сумеет ли он мгновенно умножить свои силы? А если я добьюсь своего, найду ли я выход отсюда? — Где мы? — спросил Джек. Повелитель Нетопырей улыбнулся. Он расстегнул тяжелую серебряную цепь, которую носил на шее. С нее свисал сверкающий драгоценный камень. Он склонился вперед и протянул руку. — Посмотри-ка на него, Джек, — сказал он. Джек дотронулся до камня кончиками пальцев, взвесил его, повертел. — Ну, стоит он того, чтобы его украсть? — Само собой. Что это за камень? — Собственно говоря, это не камень. Это — эта комната. Погляди, какой он формы. Джек проделал это, переводя взгляд с камня на стены и обратно. — Его форма очень напоминает эту комнату… — Они идентичны. Так и должно быть, ведь это — одна и та же вещь. — Не понимаю… — Возьми. Поднеси к глазам. Посмотри, что у него внутри. Джек поднес камень к глазам, прищурился и уставился внутрь. — Внутри… — сказал он. — Крохотная копия этой комнаты. — Посмотри на стол. — Вижу! Я вижу, как мы сидим за столом! Я… Я рассматриваю… Этот камень! — Отлично! — Повелитель Нетопырей зааплодировал. Джек выпустил камень из рук, и его собеседник вернул тот на место. — Посмотри, пожалуйста, — сказал он. Он взял камень свободной рукой и стиснул в кулаке. Наступила тьма. Она пришла лишь на миг и исчезла, как только он разжал пальцы. Тогда он достал из-под плаща свечу, закрепил в подсвечнике на столе и зажег. Потом поднес свисающий с цепочки камень к пламени. В комнате стало тепло, даже слишком. Через некоторое время жара стала угнетающей, и Джек почувствовал, что на лбу выступили капли пота. — Хватит! — сказал он. — Вовсе ни к чему нас поджаривать! Повелитель Нетопырей убрал пламя и окунул камень в графин с водой. Сразу же стало прохладно. — Где мы? — повторил Джек. — Да вот — я ношу нас на шее, — ответил Повелитель Нетопырей, снова надевая цепочку. — Хороший фокус. И где же ты сейчас? — Здесь. — В камне? — Да. — А камень у тебя на шее? — Конечно. Да, фокус неплохой. Выдумать и осуществить это мне удалось быстро. В конце концов, я, несомненно, один из способнейших. Хотя много лет назад несколько моих самых ценных манускриптов по Искусству были украдены. — Какое несчастье. Я полагал, ты более тщательно охраняешь подобные документы. — Их хорошо охраняли. Но был пожар. Во время замешательства вор сумел взять их и исчезнуть в тени. — Ага, — сказал Джек, прикончив последний кусок хлеба и потягивая вино. — Вора поймали? — О да. И казнили. Но я с ним еще не покончил. — Да? — сказал Джек. — И что же ты думаешь делать? — Я собираюсь свести его с ума, — сказал Повелитель Нетопырей, играя вином в своем кубке. — Может быть, он уже сошел с ума. Разве клептомания — не болезнь психики? Его собеседник покачал головой. — Не в этом случае, — сказал он. — Для этого вора это — вопрос гордости. Ему нравится перехитрить власть имущих и завладеть их собственностью. Это, похоже, укрепляет его уверенность в себе. Если подобные желания — психическое расстройство, значит, им страдает большинство. Хотя в его случае желание часто бывает удовлетворено. Удача сопутствует ему, поскольку он обладает кое-какой Силой и применяет ее жестоко и без жалости. Я с огромным удовольствие понаблюдаю, как постепенно он спятит вконец. — Чтобы укрепить свою гордость и уверенность в себе? — Отчасти. Кроме того, это вселит в него некоторое почтение к богине правосудия и пойдет на пользу обществу в целом. Джек засмеялся. Его собеседник только улыбнулся. — Как же ты намерен этого добиться? — наконец спросил он. — Я заточу его в тюрьму, откуда нет выхода. Там ему совершенно нечего будет делать — он будет просто существовать. Время от времени я стану помещать туда определенные вещи и удалять их, — вещи, которые с течением времени начнут все сильнее завладевать его мыслями. Начнутся приступы ярости и периоды депрессии. Я сломаю самоуверенность этого задаваки и с корнем вырву его гордыню. — Ясно, ясно, — сказал Джек. — Это звучит так, будто ты давно собирался проделать это. — Можешь не сомневаться. Джек оттолкнул пустую тарелку, откинулся на спинку стула и пересчитал окружавшие их отражения. — По-моему, дальше ты, пожалуй, заявишь, что твою побрякушку легко невзначай потерять во время океанской прогулки, зарыть в землю, сжечь или скормить свиньям. — Нет, как ты только что сообразил. Повелитель Нетопырей поднялся, небрежно махнув рукой куда-то наверх. — Я вижу, тебе доставили ванну, — сказал он, — и, пока мы обедали, приготовили чистую одежду. Я удаляюсь. Займись собой. Джек кивнул и поднялся. Тут под столом раздался глухой стук, за которым последовало дребезжание и короткий резкий вопль. Джек почувствовал, что его ухватили за лодыжку. Потом он очутился на полу. — Прочь! — крикнул Повелитель Нетопырей, быстро обойдя вокруг стола. — Назад, я сказал! Из складок его плаща вырвались тучи нетопырей и ринулись на то, что было под столом. Оно от ужаса завизжало и так стиснуло лодыжку Джека, что что ему почудилось, будто кости разваливаются в порошок. Он поднялся и начал нагибаться вперед. Потом, увидев это, он на миг остолбенел, и тут была бессильна даже боль. Существо было белым, голым, блестящим и все в синяках. Повелитель Нетопырей пнул его, и оно выпустило Джека, но прежде, чем оно успело загородиться скрещенными руками, Джек мельком увидел его перекошенное лицо. Похоже, это создание было задумано как человек, но так до конца им и не стало. По нему словно прошлись, перекрутили его, а в оплывшей голове, как в сыром тесте, проткнули дыры. Сквозь прозрачную плоть его торса виднелись кости; короткие ноги были толщиной с дерево и заканчивались дискообразными ступнями. С них свисало множество длинных пальцев, похожих на червей или на корни. Руки были длиннее тела. Это был раздавленный слизняк, нечто, замороженное и оттаявшее прежде, чем пропеклось. Это было… — Это — Боршин, — сказал Повелитель Нетопырей, протягивая руки к визжащему существу, которое, казалось, не могло решить, кого боится больше — летучих мышей или их хозяина. Оно колотилось головой о ножки стола, пытаясь ускользнуть от обоих. Повелитель Нетопырей сорвал с груди камень и запустил им в существо, бормоча при этом проклятия. Оно исчезло, оставив после себя лужицу мочи. Мыши вновь пропали в одеждах своего господина. Он улыбнулся Джеку. — Что, — спросил Джек, — такое Боршин? Некоторое время Повелитель Нетопырей рассматривал свои ногти. Потом он сказал: — На дневной стороне планеты ученые уже некоторое время пытаются создать искусственную жизнь. До сих пор безуспешно. Я собирался добиться успеха с помощью волшебства там, где их наука бессильна, — продолжал он. Я долго экспериментировал, потом попробовал. Ничего не вышло… или, скорее, вышло наполовину. Результат ты только что видел. Я избавился от своего мертвого гомункулуса, отправив его в Навозные Ямы Глива, но однажды он ко мне вернулся. Я не могу приписать себе честь его оживления. Силы, питающие нас здесь, каким-то образом стимулировали его. Я не думаю, что Боршин и вправду живое существо… в обычном смысле слова. — Это — одна из тех вещей, предназначенных, чтобы пытать твоего врага, о которых ты говорил? — Да, поскольку я обучил его двум вещам: бояться меня и ненавидеть моего врага. Правда, на этот раз я его сюда не приводил. Он приходит и уходит сам, своими путями. Но я не думал, что они достигают этого места. Этим я еще займусь. — А пока что он сможет являться сюда, когда вздумает? — Боюсь, что так. — Тогда нельзя ли мне иметь при себе оружие? — Увы — у меня нет оружия, чтобы тебе одолжить. — Понятно. — Теперь я лучше пойду. Купайся на здоровье. — И еще одно, — сказал Джек. — Что? — спросил тот, лаская пальцами камень. — У меня тоже есть враг, которому я должен отомстить. Не стану утомлять тебя подробностями, но должен сказать, что моя месть превзойдет твою. — Правда? Интересно узнать, что у тебя на уме. — Я постараюсь, чтобы ты непременно узнал. Оба улыбнулись. — Тогда — до скорого. — Пока. Повелитель Нетопырей исчез. Джек вымылся, долго просидев в теплой блестящей воде. Накопившаяся за время его путешествия усталость, казалось, овладела им мгновенно. Только мощным усилием воли ему удалось встать, вытереться и дойти до постели, на которую он рухнул. Он слишком устал для того, чтобы должным образом ненавидеть или обдумывать побег. Он спал и видел сны. Ему снилось, что он держит Великий Ключ, Кольвинию, — ключ от хаоса и порядка, — и им отпирает небо и землю, море и ветер, приказывая им обрушиться на Хай-Даджен и ее хозяина со всех концов света. Ему снилось, что родилось пламя и Властелин тьмы оказался навеки в его сердце, как муравей в янтаре, но живой, способный чувствовать и лишенный сна. Он, будучи возбужден до предела, вдруг услышал бормотание Великой Машины. От этого знамения он застонал, а по стенам, на пропитанных потом постелях, заметалось множество Джеков.
5
Джек сидел на стуле возле постели, вытянув ноги и сцепив пальцы под подбородком. Он был одет в красно-черно-белый костюм шута, украшенный бриллиантами. Носки туфель винного цвета были загнуты и заканчивались шнурками, от которых Джек оторвал бубенчики. Колпак с бубенчиками он выбросил в помойное ведро. — Теперь — когда угодно, решил он. — Надеюсь, Боршин за ним не пойдет. На столе стояли остатки завтрака — его тридцать первой трапезы в этих стенах. Воздух был холоднее, чем ему бы хотелось. С тех пор, как Джек очутился здесь, Боршин приходил трижды. Он появлялся внезапно и, пуская слюни, пытался схватить Джека. Каждый раз Джек отгонял его стулом, крича изо всех сил, и каждый раз через несколько минут появлялся Повелитель Нетопырей и забирал эту тварь, извиняясь за причиненные неудобства. После первого же такого визита Джек стал плохо спать, зная, что в любой момент он может повториться. Еду доставляли регулярно. Она была весьма однообразной, но он машинально съедал ее, думая о другом. Позже он так и не смог вспомнить, что это было — да и не хотел вспоминать. Он размышлял: теперь скоро. Чтобы не раскиснуть, Джек делал гимнастику. Он уже набрал часть потерянного им веса. Он боролся со скукой, выстраивая и отвергая множество вариантов побега и мести. Потом он вспомнил слова Розали и решил, что делать. Воздух словно наполнился мерцанием, а рядом возник такой звук, словно по кубку постукивали ногтем. Рядом с ним очутился Повелитель Нетопырей — и на этот раз он не улыбался. — Джек, — сразу же приступил он к делу, — ты разочаровываешь меня. Что ты пытался сделать? — Прости. — Ты только что проговорил какое-то слабое заклинание. Ты и правда думаешь, что здесь, в Хай-Даджен, я не замечу попытку воспользоваться Искусством? — Только в том случае, если она будет успешной, — сказал Джек. — Что явно не так. Ты все еще здесь. — Конечно. — Ты не можешь ни разрушить эти стены, ни пройти сквозь них. — Я уже понял. — Тебе не кажется, что ты поправился? — Немного. — Тогда, наверное, пора ввести в твое окружение дополнительные элементы. — Ты не сказал мне, что есть еще один Боршин. Его собеседник издал смешок, и откуда-то появилась летучая мышь. Она несколько раз облетела вокруг него и повисла на цепочке, которая была у него на шее. — Нет, я имел в виду не это, — сказал он. — Я размышляю, насколько у тебя хватит чувства юмора. Джек, лениво оттирая с указательного пальца правой руки пятнышко сажи, пожал плечами. — Когда ты это выяснишь, дай мне знать, — сказал он. — Ты будешь одним из первых. Даю слово. Джек кивнул. — Я бы предпочел, чтобы ты оставил свои упражнения в магии, — сказал Повелитель Нетопырей. — В такой сильно изменившейся атмосфере последствия могут быть весьма суровыми. — Буду иметь это в виду, — сказал Джек. — Великолепно. Извини, что помешал. Занимайся своими делами. Адью. Джек не ответил — потому что был один. Через некоторое время в его окружении появился дополнительный элемент. Осознав, что он не один, Джек внезапно поднял глаза. При виде ее рыжих волос и полуулыбки он на миг от неожиданности чуть не поверил. Потом он встал, подошел к ней, отошел в сторону и рассмотрел ее с нескольких точек. Наконец он сказал: — Отличная работа. Передай своему создателю мои поздравления. Ты прекрасная копия моей леди Ивен из крепости Холдинг. — Я не копия. И не твоя леди, — сказала она, делая реверанс. — Как бы там ни было, ты принесла мне свет, — сказал он. — Могу я предложить тебе сесть? Усадив ее, он пододвинул второй стул и уселся слева от нее. Откинувшись на спинку, он внимательно разглядывал ее. — Ну, а теперь ты, может быть, объяснишь то, что сказала? — сказал он. — Если ты — не моя Ивен и не двойник, созданный моим врагом, чтобы досадить мне, то что ты такое? Или, выражаясь более деликатно, кто ты? — Я? Ивен из крепости Холдинг, дочь Лорет и Неумирающего Полковника, — ответила она, все еще улыбаясь, и только тогда он заметил, что с ее серебряной цепочки свисает странный драгоценный камень, схожий по форме с его тюрьмой. — Но я — не ТВОЯ леди, — закончила она. — Он отлично поработал, — сказал Джек. — Даже голос похож, как две капли воды. — Я даже могу посочувствовать лорду-бродяге из несуществующего Шедоу-Гард, — сказала она. — Джек-врун. Ты настолько знаком со всеми формами обмана, что тебе стало трудно различать, где же правда. — Шедоу-Гард существует! — сказал он. — Тогда не стоит так волноваться, когда это упоминают, верно? — Он хорошо выучил тебя, существо. Смеяться над моим домом значит смеяться надо мной! — Что я и собиралась сделать. Но я — не творение того, кого ты называешь Повелителем Нетопырей. Я — его женщина. Я знаю его тайное имя. Он показал мне мир внутри сферы. Я видела из Хай-Даджен все. Я знаю, что Шедоу-Гард не существует. — Никто, кроме меня никогда не видал его, — сказал он, — потому что он всегда скрыт тенью. Это — огромный замок с залами, освещенными факелами, с высокими потолками, с подземными лабиринтами и множеством башен. Там с одной стороны — немного света, а с другой — полная тьма. Он полон памятных вещиц с самых крупных краж, какие когда-либо совершались. Там много очень красивых безделушек и бесценных вещей. В его коридорах пляшут тени, а множество драгоценных камней сияет ярче, чем солнце над другой половиной планеты. Вот над чем ты смеешься — над Шедоу-Гард, по сравнению с которым замок твоего хозяина просто свинарник. Верно, иногда там бывает одиноко, но настоящая Ивен оживит его своим смехом, зажжет своим изяществом, так, что он сохранит свое великолепие много позже после того, как твой хозяин сойдет в вечную тьму — когда я отомщу. Она тихонько поаплодировала. — Нетрудно вспомнить, как однажды твои речи и твоя страстность убедили меня, Джек. Теперь-то я понимаю, что, говоря о Шедоу-Гард, ты говоришь слишком хорошо для того, чтобы описывать реальное место. Я ждала тебя долго, а потом узнала, что тебе отрубили голову в Иглесе. Я все-таки собиралась ждать твоего возвращения, но мой отец решил иначе. Сперва я думала, что им движет желание обладать Пламенем Ада. Но я ошибалась. Он сразу понял, что ты — лжец и бродяга. Я плакала, когда он обменял меня на Пламень Ада, но я полюбила того, кому меня отдали. Мой повелитель добр тогда, когда ты ни о чем не думаешь, он умен там, где ты просто жесток. Его замок существует на самом деле, он один из самых могущественных в стране. В нем все то, чего тебе не достает. Я люблю его. Джек смотрел ей в лицо, которое теперь было серьезно, а потом спросил: — Как он завладел Пламенем Ада? — Его человек завоевал для него в Иглесе этот камень. — Имя этого человека? — Квазер, — сказала она. — Чемпионом Адских Игр стал Квазер. — Для двойника это умеренно бесполезная информация, — заметил Джек, если это все правда. Хотя мой враг весьма тщателен. Очень жаль, но я не верю, что ты — настоящая. — Вот пример эгоизма, который не дает заметить очевидное. — Нет. Я знаю, что ты — не настоящая Ивен, а нечто, посланное мучить меня. Настоящая Ивен — моя Ивен — не стала бы судить меня за глаза. Она дождалась бы моего ответа, что бы про меня ни говорили. Тогда она отвела взгляд. — Еще одна умная фраза, — сказала она наконец. — Она ничего не значит. — Можешь идти, — сказал он. — И скажи своему хозяину, что у вас ничего не вышло. — Он не хозяин мне! Он — мой повелитель и возлюбленный. — …Или, если не хочешь уходить, можешь остаться. Мне все равно. Он встал, подошел к постели, растянулся на ней и закрыл глаза. Когда он снова открыл их, ее уже не было. Но он заметил то, что она хотела скрыть.
…Я ничего им не дам, решил он. Неважно, какие доказательства они представят. Я буду объяснять это трюками. Пока что я упрячу знание туда же, куда и чувства. Через некоторое время он уснул. Ему снилось красочное будущее таким, каким он себе его представлял. Потом он долго был один. Это его вполне устраивало. Он чувствовал, что загнал Повелителя Нетопырей в угол и дал отпор первому покушению на свой здравый рассудок. Иногда, меряя шагами полы, стены и потолки своей тюрьмы, он посмеивался. Он обдумывал свой план — его опасные стороны, — и прикидывал, сколько лет уйдет на его осуществление. Он ел. Он спал. Потом ему пришло в голову, что, если Повелитель Нетопырей может видеть его в любую минуту, возможно, он находится под наблюдением постоянно. Ему немедленно представилось, как слуги его врага передают этот странный камень из рук в руки. Мысль была стойкой. Независимо от того, чем Джек занимался, у него появилось назойливое ощущение, что за ним подглядывают. Он приобрел привычку подолгу сидеть, уставясь на предполагаемых соглядатаев за зеркалами. Он внезапно оборачивался и делал жесты в сторону своих невидимых спутников. Господи! Сработало! — решил он однажды, проснувшись и быстро оглядев комнату. Он и правда добирается до меня! Я везде подозреваю его присутствие, и это начинает выводить меня из равновесия. Но я буду действовать тайком. Если только он даст мне нужный выход, а все прочее останется по-прежнему, я, возможно, получу шанс. Впрочем, лучший способ отыскать выход — оставаться внешне спокойным. Я должен прекратить расхаживать и бормотать. Он лежал, раскрыв свое существо, и ощущал отрезвляющий холод высоты. После этого случая он замолчал и начал двигаться медленно. Подавить более мелкие реакции оказалось труднее, чем он думал. Но он подавлял их иногда для этого приходилось сесть, стиснуть руки и считать до нескольких тысяч. Зеркала говорили ему, что у него выросла борода приличных размеров. Его шутовской наряд обносился и стал грязным. Частенько он просыпался в холодном поту, не в состоянии вспомнить, что за кошмар мучил его. Хотя рассудок его порой помрачался, теперь он поддерживал в своей вечно сияющей зеркальной тюрьме видимость нормы. — В заклятии ли тут дело? — думал он. — Или это просто результат длительного однообразия? Наверное, дело в последнем. Я думаю, что почувствовал бы это заклятие, хотя в колдовстве он сильнее меня. Ну, теперь-то уж скоро. Скоро он ко мне придет. Он почувствует, что тратит слишком много времени на то, чтобы меня расстроить. Начнется обратный эффект. Забеспокоится он сам. Теперь скоро. Скоро он придет. Когда тот пришел, Джек сделал полезное наблюдение. Он проснулся и обнаружил, что ему доставили ванну — второй раз с тех пор, как он тут очутился (тысячу лет назад) и чистый костюм. Он отдраил себя и влез в бледно-зеленые одежды. На этот раз он оставил бубенцы на носках туфель, а колпак напялил под вызывающим углом. После этого он уселся, хлопнул в ладоши над головой и слабо улыбнулся. Нельзя было показывать, что он нервничает. Когда внезапно раздался знакомый звук и воздух замерцал, Джек, глядя в том направлении, чуть наклонил голову. — Привет, — сказал он. — Привет, — ответил тот. — Как дела? — Да вроде бы пришел в себя. И хотел бы вскоре тебя покинуть. — Когда дело касается здоровья, излишняя осторожность не вредит. По-моему, тебе все еще требуется отдых. Но это мы обсудим позже. — Очень жаль, что я не мог уделить тебе больше времени, — продолжал он. — Я был занят делами, которые требуют моего полного внимания. — Ничего страшного, — сказал Джек. — Вскоре все твои усилия будут сведены к нулю. Повелитель Нетопырей изучал его лицо, словно выискивал в нем признаки безумия. Потом он уселся и спросил: — Что ты имеешь в виду? Джек повернул левую руку ладонь кверху и сказал: — Если все когда-нибудь кончается, значит, любые усилия сведутся к нулю. — Почему это все должно кончиться? — Ты в последнее время не обращал внимания на температуру, любезный лорд? — Нет, — ответил тот, озадаченный. — Физически я довольно давно не покидал своего замка. — Тебе было бы полезно проделать это. Или лучше открой свое существо эманациям Щита. — Пожалуй… Когда я буду один… Но какая-то утечка существует все время. Те семеро, чье присутствие необходимо, чтобы ее прекратить, узнают об этом и примут меры. Нет причин для дурных предчувствий или беспокойства. — Нет, есть. Если кто-то из этой семерки не в состоянии отозваться. Его собеседник широко раскрыл глаза. — Я тебе не верю, — сказал он. Джек пожал плечами. — Когда ты предложил мне свое… гм… гостеприимство, я искал тихое местечко, откуда мог бы высадиться. Конечно, проверить это очень легко. — Почему же ты раньше молчал? — Почему? — переспросил Джек. — Если я должен был сойти с ума, то какое мне дело, продолжит ли свое существование остальной мир или тоже погибнет. — Весьма эгоистическая позиция, — сказал Повелитель Нетопырей. — Такова МОЯ позиция, — сказал Джек и звякнул бубенчиками. — Полагаю, надо проверить твою историю, — его собеседник со вздохом поднялся. — Я подожду здесь, — сказал Джек. Повелитель Нетопырей отвел его в зал с высоким потолком, находившийся за железной дверью, и там перерезал его путы. Джек осмотрелся. На мозаичном полу он заметил знакомые символы, по углам — кучи тряпья темные занавеси на стенах. В центре зала находился маленький алтарь, а рядом — столик с инструментами. Пахло ладаном. Джек шагнул вперед. — Твое имя странным образом попало в Расчетную Книгу, — сказал Повелитель Нетопырей. — А другое имя было вычеркнуто. — Возможно, ангелы-хранители передумали. — Насколько мне известно, раньше такого не бывало. Но если ты — один из семи избранных, пусть будет так. Послушай, что я скажу, прежде чем отправишься нести свою службу у Щита. Он хлопнул в ладоши, и занавес зашевелился. Вошла Ивен. Она подошла к своему господину и стала рядом с ним. — Хотя для этого понадобится твоя Сила, — сказал он Джеку, — не думай, что она столкнется с моей здесь, в Хай-Даджен. Скоро мы зажжем огни, и появятся тени. Даже если я недооценил тебя, знай, что у моей леди были годы, чтобы чтоб изучить Искусство, и что она оказалась исключительно одаренной. Попробуй только устроить что-нибудь помимо того, зачем я тебя сюда привел, и мы с ней объединим свое умение. Неважно, в чем ты уверился, она — не двойник. — Знаю, — сказал Джек. — Двойники не плачут. — Когда это ты видел, чтобы Ивен плакала? — Спросишь ее когда-нибудь. Когда он посмотрел на алтарь и пошел вперед, она опустила глаза. — Я лучше начну. Будьте любезны, станьте в малый круг, — сказал он. Он по очереди раздувал угли в десяти чашах, которые стояли в три ряда — три чаши, четыре и три. Джек добавил ароматические порошки, и они вспыхнули, пуская разноцветный дым. Потом он прошел в дальний конец алтаря и начертил на полу лезвием железного ножа узор. Он заговорил, и тень его разделилась на несколько теней, потом снова собралась в одно целое, заколебалась, застыла, потемнела и, словно бесконечная дорога на восток, простерлась через зал. Несмотря на мигающий свет, она после этого уже не двигалась и потемнела настолько, что, казалось, обрела глубину. Джек услыхал, как Повелитель Нетопырей шепнул Ивен: — Мне это не нравится! — и быстро посмотрел в их сторону. Стоя в кругу, в мигающем свете и клубящемся дыму, он, казалось, становился все темнее и двигался все увереннее. Когда он взял с алтаря маленький колокольчик и позвонил в него, Повелитель Нетопырей крикнул: «Перестань!» — но не нарушил малый круг, потому что возникло ощущение присутствия в зале кого-то еще — напрягшегося, приглядывающегося. — Ты прав в одном, — сказал Джек. — Что касается Искусства, ты — мой хозяин. Я не собираюсь скрестить с тобой мечи, тем более там, где ты властелин. Скорее, я просто хочу на некоторое время занять тебя и обеспечить свою безопасность. Вам, даже обоим вместе, потребуется несколько минут, чтобы сломить Силу, которую я здесь накопил… Ах, тогда вам будет о чем подумать помимо этого. А, вот! Он схватил за ножку ближайшую чашу и швырнул ее через весь зал. Угли рассыпались по тряпью. Оно загорелось, и языки пламени лизнули край занавесей. Джек продолжал: — Меня не призывали нести службу у Щита. Когда обломки стола обугливались в пламени свечи, горевшей у нас за обедом, я изменил запись в Расчетной Книге. Запись, которую ты обнаружил — моих рук дело. — Ты посмел нарушить Великий Договор и играть судьбами мира? — Да, — сказал Джек. — Какой прок от мира сумасшедшему? Ты же хотел свести меня с ума. А на договор мне наплевать. — Значит, отныне ты навсегда становишься вне закона, Джек. Не считай больше своим другом никого из людей тьмы. — Я никогда и не считал. — Договор и его исполнитель, Книга, — единственное, к чему мы все относились с почтением… Всегда относились с почтением. Несмотря на все прочие различия, Джек. Теперь ты в итоге движешься к своему уничтожению. — Ты здесь и так чуть меня не уничтожил. А таким образом я могу с тобой распрощаться. — Я уничтожу то представление о тебе, которое ты создал, и потушу пламя, которое ты зажег. Потом я восстановлю против тебя полмира. У тебя больше не будет ни минуты покоя. Ты кончишь свою жизнь несчастным. — Ты однажды убил меня. Ты отнял мою женщину и сбил ее с пути. Ты сделал меня своим пленником, носил меня на шее, напускал на меня Боршина. Знай, когда мы снова встретимся, не меня будут пытать и сводить с ума. У меня длинный список… и ты возглавляешь его. — Мы встретимся снова, Джекки-тень, может, даже через несколько минут. Тогда ты сможешь позабыть о своем списке. — О, ты сказал «список». Это напомнило мне кое о чем. Тебе не интересно узнать, чье имя я вычеркнул, когда вносил в Книгу свое? — Что же это было за имя? — Как ни странно — твое. Право, тебе нужно почаще выбираться из дома. Если бы ты не сидел тут постоянно, то ощутил бы холод, обратил бы внимание на Щит и прочел бы запись в Книге. Потом ты отправился бы нести службу у Щита, а я не стал бы твоим пленником, и всех этих неприятностей можно было бы избежать. Отсюда мораль: побольше упражнений на свежем воздухе. Так-то. — Тогда ты стал бы пленником барона или опять вернулся бы в Глив. — Спорный вопрос, — сказал Джек, бросив взгляд через плечо. — Теперь занавес занялся, как надо, и можно отправляться. Через… скажем, три сезона, может меньше, как знать?.. когда бы ни закончилась твоя служба у Щита, ты, конечно же, отыщешь меня. Если сразу не получится, не теряйся. Добивайся своего. Когда я буду готов, мы встретимся. Я отберу у тебя Ивен. Я отберу у тебя Хай-Даджен. Я уничтожу твоих нетопырей. Я буду смотреть, как ты идешь от жизни к смерти и обратно — не один раз. Ну, а пока прощай. Он повернулся и пристально осмотрел свою тень. — Я не буду твоей, Джек, — услышал он голос Ивен. — Все, что я говорила, правда. Я скорее убью себя, чем стану твоей. Он глубоко вдохнул ароматный воздух, потом сказал: — Посмотрим. И шагнул вперед, в тень.
6
С сумкой за плечами он шел на восток, а небо тем временем просветлело. Воздух был прохладным, меж серых трав вились струйки тумана. Туманом были полны долины и глубокие ущелья. Сквозь прозрачную пелену облаков пробивался свет звезд. Налетавшие с ближайшего озера ветерки влажно бились о каменистую землю. Джек на минуту остановился и перебросил ношу на правое плечо. он обернулся и посмотрел на страну тьмы, которую покидал. Шел он быстро и ушел далеко. Но нужно было уйти еще дальше. С каждым шагом, который Джек делал к свету, силы врагов, способные сокрушить его, ослабевали. Вскоре он станет для них недосягаем. Но враги и дальше будут искать его, они не забудут. Значит, удрав, он поступил правильно. Он будет тосковать по царству тьмы с его жестокостью и ведьмовством, восторгами и чудесами. Оно было его жизнью: в нем было и то, что он ненавидел, и то, что любил. Джек знал, что ему придется вернуться и принести с собой то, что удовлетворит оба эти чувства. Повернувшись, он продолжил свой путь. Тени перенесли его в тайник неподалеку от Сумеречных Земель, где он хранил накопленные за многие годы магические рукописи. Он бережно завернул их и понес с собой на восток. Как только он попадет в Сумеречные Земли, то окажется в безопасности, а когда минует их, то будет вне всякой опасности. Карабкаясь, он продирался по Рениссалским горам. Там, где горная цепь ближе всего подходила к Сумеречным Землям, Джек увидел самую высокую гору — Паникус. Поднявшись выше тумана, Джек увидел вдали неясный силуэт Утренней Звезды на фоне Эвердон — Вечного Рассвета. Там, на своем утесе, Утренняя Звезда лежал неподвижно, с поднятой головой, лицом к востоку. Непосвященному он показался бы скульптурой, созданной ветром на вершине Паникуса. В самом деле, больше, чем наполовину он был камнем, его кошачий торс был со скалой одним целым. Сложенные крылья были прижаты к спине, Джек знал, хотя подходил к нему сзади, что руки Утренней Звезды все еще скрещены на груди, левая поверх правой, что втер не спутал его похожие на проволоку волосы и бороду, и что лишенные век глаза все еще уставлены на восточный горизонт. Тропинки не было. Последние несколько сот футов подъема Джеку пришлось преодолевать почти отвесный каменный склон. Тени здесь были густыми, и Джек как всегда шагал вверх, будто шел по равнине. Не успел он достичь вершины, как вокруг завизжали ветры, но и они не заглушили голос Утренней Звезды, который шел словно из недр горы. — Доброе утро, Джек. Тот стоял слева от него и смотрел наверх, где черную, как покинутая им ночь, голову Утренней Звезды закрыло облачко. — Утро? — сказал Джек. — Почти. Всегда почти утро. — Где? — Везде? — Я принес тебе выпить. — Я пью дождевую воду из туч. — Я принес вино, сделанное из винограда. Огромная, испещренная шрамами от ударов молний, фигура тут же повернулась к нему, рога склонились вперед. Джек отвел взгляд от немигающих глаз, цвет которых никак не мог запомнить. В глазах, никогда не видавших того, на что должны были бы смотреть, есть что-то жуткое. Он опустил левую руку и перед Джеком оказалась покрытая шрамами ладонь. Джек поставил на нее мех с вином. Утренняя Звезда поднял его, выпил и уронил к ногам Джека. Он утер рот тылом ладони, легонько срыгнул и снова уставился на восток. — Что тебе нужно, Джек-из-Тени? — спросил он. — От тебя? Ничего. — Тогда почему же ты всякий раз, как идешь этой дорогой, приносишь мне вино? — По-моему, ты его любишь. — Да. — Ты, наверное, мой единственный друг, — сказал Джек. — У тебя нет ничего, что мне хотелось бы украсть. У меня нет ничего, что тебе было бы действительно нужно. — Может, тебе жаль меня? Я ведь привязан к этому месту? — Что такое жалость? — спросил Джек. — То, что удерживает меня здесь в ожидании зари. — Ну так во мне ее нет, — сказал Джек, — потому что у меня есть нужда не сидеть на одном месте. — Знаю. Полмира узнало, что ты нарушил договор. — А знают они, почему? — Нет. — А ты? — Конечно. — Откуда? По форме облака я узнал, что далеко отсюда, в одном городе три сезона спустя кто-то поссорится с женой и убийцу повесят раньше, чем я закончу говорить. Падает камень, и по его падению я узнаю, сколько девиц лишилось чести, и как движутся айсберги на другом краю света… По тому, каков ветер, я определяю, куда в следующий раз ударит молния. Я так долго смотрел, и настолько сам часть всего этого, что от меня ничего нельзя скрыть. — Ты знаешь, куда я иду? — Да. — А что я там буду делать? — И это тоже. — Тогда, если знаешь, скажи — сбудется ли мое желание? — Твой план удастся, но к тому времени может получиться так, что ты уже захочешь совсем другого. — Я не понимаю тебя, Утренняя Звезда. — Я знаю и это. Но так со всеми оракулами, Джек. Когда происходит то, что было предсказано, то, кто спрашивал, уже не тот же самый человек, каким был, когда задавал вопрос. Невозможно заставить человека понять, каким он станет с течением времени, а тот, для кого пророчество действительно верно, всего лишь его будущее «я». — Очень мило, — сказал Джек. — Но я-то — не смертный. Я — человек тьмы. — Вы все смертны, неважно, какую часть мира зовете своей родиной. — Я не меняюсь. У меня нет души. — Меняешься, — сказал Утренняя Звезда. — Все, что живет, меняется или умирает. Ваш народ холоден, но ваш мир — теплый и имеющий и обаяние, и очарование, и чудеса. Вы не можете понять тех, кто обитает на освещенной стороне планеты — но их наука так же холодна, как ваши сердца. Они бы приняли ваш мир, если бы так его не боялись, а вам пришлись бы по вкусу их чувства, если бы не та же причина. Тем не менее, в каждом из вас заложены способности. Только страх мешает открыть дорогу пониманию — ведь вы зеркальное отражение друг друга. Поэтому не говори мне о душе, человек. Ты никогда ее не видал. — Ты прав. Я не понимаю. Джек уселся на камень, и стал смотреть на восток вместе с Утренней Звездой. Через некоторое время он сказал: — Ты говоришь, что ждешь здесь рассвета, чтобы увидеть, как над горизонтом встает солнце. — Да. — Мне кажется, тебе придется ждать вечно. — Возможно. — Ты не знаешь? Я думал, ты знаешь все. — Многое — но не все. Это не одно и то же. — Тогда скажи мне вот что. Я слышал, что смертные считают сердце земли расплавленным демоном; говорят, когда спускаешься к нему, жар усиливается. Если земная кора лопнет, вырвутся языки пламени, а расплавленные минералы образуют вулканы. А я знаю, что вулканы — дело рук духов огня, которые, если их побеспокоить, плавят вокруг себя почву и выбрасывают ее наверх. Живут они в маленьких норках. Мимо них можно спуститься довольно далеко, и жара усиливаться не будет. Если зайти достаточно далеко, попадешь в самое сердце земли — оно вовсе не расплавленное. Там находится Машина с огромными пружинами, как в часах, с механизмами, рычагами, противовесами. Я знаю, что это правда, поскольку бывал в тех краях и был неподалеку от Машины. Но смертные все равно находят способ доказать, что верна их точка зрения. Один человек почти убедил меня, хотя я-то знал лучше. Как такое может быть? — Вы оба были правы, — сказал Утренняя Звезда. — И говорили об одном, хотя ни один из вас не видит того, что есть на самом деле. Все вы расцвечиваете реальность в соответствии со своими средствами наблюдения за ней. А если пронаблюдать за ней невозможно, вы ее боитесь. Для тебя это Машина. Для них — демон. — Я знаю, что звезды — прибежище духов и богов… Иногда дружественных, иногда нет, а чаще — равнодушных. Все они рядом, их легко отыскать. Если правильно воззвать к ним, они откликнутся. А те, кто живет на дневной стороне планеты, твердят, что звезды очень очень далеко, и ничего разумного там нет. Опять… — Опять это не что иное, как два способа видеть реальность. И оба верные. — Если существует два способа, может ли не быть третьего? Или четвертого? Или, получается, что их столько же, сколько людей? — Да, — сказал Утренняя Звезда. — Тогда какой же из них правильный? — Все. — Но можно ли, несмотря на это, видеть все так, как оно есть на самом деле? — Утренняя Звезда не ответил. — А ты, — сказал Джек. — А ТЫ видел реальность? — Я вижу облака и падающие камни. Я чувствую ветер. — Но по ним ты каким-то образом узнаешь все остальное? — Я… Однажды… Я жду восхода солнца. Вот и все. — Ты знаешь, куда я иду и что собираюсь делать, — сказал Джек немного спустя. — Ты знаешь, что произойдет, и каким я стану много позже. Ты способен видеть все это отсюда, со своей горы. Может быть, ты даже знаешь, когда я, наконец, умру в последний раз, и как это случится. Из-за тебя моя жизнь начинает казаться бесполезной, а рассудок — чем-то, просто существует и не в состоянии влиять на события. — Нет, — сказал Утренняя Звезда. — Я чувствую, ты сказал это просто, чтобы я не был несчастен. — Нет. Я сказал это потому, что на твою жизнь падают тени, сквозь которые я не могу пробиться. — Почему не можешь? — Может быть, наши жизни каким-то образом переплетаются. От меня всегда скрыто то, что влияет на мое существование. — В любом случае, это кое-что, — сказал Джек. — …Или это, может быть, потому, что, когда ты получишь то, что ищешь, то станешь непредсказуемым. Джек рассмеялся. — Это будет приятно, — сказал он. — Возможно, не так приятно, как ты думаешь. Джек пожал плечами. — Как бы то ни было, выбора у меня нет — я могу только ждать. А там посмотрим. Далеко внизу, слева от него, слишком далеко для того, чтобы услышать мерный рев, водяной вал промчался сотни футов и исчез за остроконечной скалой. Еще ниже, на равнине, через сумрачный лес текла широкая река. Еще дальше на берегу Джек увидал дымы деревни. На мгновение, непонятно почему, ему захотелось пройтись по ней, заглядывая во дворы и окна. — Почему же, — спросил он, Упавшая Звезда, который дал нам знание Искусства, не дал его и смертным тоже? — Может быть, — сказал Утренняя Звезда, — те смертные, что наиболее склонны к теологии, спрашивают, отчего он не дал людям тьмы знание науки. Какая разница? Я слышал, что ни то, ни другое не было даром Упавшей Звезды, что это — изобретение человека, и что его дар, скорее, заключался в разуме, сознании, которое само создает свои собственные системы. Потом, пыхтя, сопя и сильно пульсируя темно-зелеными сосудами, на их каменный уступ опустился дракон. Они не услышали его приближения из-за ветра. Он лежал, часто выдыхая короткие языки пламени. Через некоторое время глаза, похожие на красные яблоки, повернулись вверх. — Здравствуй, Утренняя Звезда, — сказал он шелковым голосом. Надеюсь, тебе не помешает, если я тут минутку отдохну. Ш-ш-ш! — он выдохнул длинный язык пламени, осветив весь уступ. — Отдыхай, ладно, — сказал Утренняя Звезда. Дракон заметил Джека, сосредоточил на нем взгляд и не отводил глаз. — Я стал слишком стар, чтобы перелетать через эти горы, — сказал он. Но ближайшее стадо овец пасется возле деревни на той стороне. Джек поставил ногу в тень, которую отбрасывал Утренняя Звезда, и спросил: — Так почему ты не переберешься на ту сторону? — Мне причиняет беспокойство свет, — ответил дракон. Мне нужно отлеживаться в темноте. И спросил Утреннюю Звезду: — Это твой? — Что — мой? — Человек. — Нет. Он сам по себе. — Тогда я могу сэкономить силы на путешествии и заодно очистить твой уступ. Он больше овцы, хотя, несомненно, не такой вкусный. Когда дракон выдохнул в его сторону огненный фонтан, Джек полностью переместился в тень. Он вдохнул, и пламя исчезло. Джек выпустил его назад в дракона. Тот удивленно фыркнул, прижимая крылья к увлажнившимся глазам. Тогда тень подползла к нему и упала ему на морду. Это пресекло вторую попытку испепелить Джека. — Ты! — сказал дракон, глядя на укутанную в тени фигуру. — Я думал, ты житель Сумеречных Земель, пришедший надоедать бедняге Утренней Звезде. Но теперь я узнал тебя. Ты — тот неизвестный, который ограбил мою тайную сокровищницу. Что ты сделал с моей диадемой из бледного золота с бирюзой, и моими четырнадцатью серебряными браслетами великолепной работы с мешком лучших драгоценных камней, числом двадцать семь? — Теперь это — часть МОИХ сокровищ, — сказал Джек, — а сейчас тебе лучше отправиться в дорогу. Хоть ты и больше куска баранины и, несомненно, не такой вкусный, я могу тобой разговеться. Он опять выдохнул пламя и дракон подался назад. — Прекрати! — сказал дракон. — Дай мне отдохнуть здесь еще немного, и я отправлюсь. — Сейчас же! — сказал Джек. — Ты жесток, человек-тень. — Дракон вздохнул. — Ну, ладно. Он поднялся, балансируя длинным хвостом, и пыхтя, вразвалку направился к краю. Оглянувшись, он сказал: — Ты полон ненависти! — и, перевалившись через край, исчез из вида. Джек подошел к краю и смотрел, как тот падает. Когда казалось, что сейчас он разобьется насмерть о склон горы, дракон расправил крылья и, подхваченный воздушным потоком, набрал высоту и скользнул по направлению к деревеньке на берегу реки в лесу. Удивительно, зачем нужен разум, — сказал Джек, — если он не меняет природы зверя. — Этот дракон когда-то был человеком, — сказал Утренняя Звезда. — Его алчность сделала его таким, каков он сейчас. — Это мне знакомо, — сказал Джек, — поскольку, коротко говоря, однажды мне пришлось быть крысой. — Тем не менее, ты одолел свою страсть и вернулся к людям, — как, возможно, в один прекрасный день вернется и он. С помощью своего разума ты преодолел кое-что из того, что заставляет тебя быть предсказуемым. Разум обычно меняет своего обладателя. Почему ты не убил дракона? — Ни к чему было, — начал Джек. Потом он рассмеялся: — Его труп провонял бы тебе все скалы. — Может, ты решил, что нет необходимости убивать того, кого не собираешься съесть, или того, кто на самом деле тебе не угрожает? — Нет, сказал Джек, — поскольку теперь я несу ответственность за смерть овцы и за то, что в будущем кто-то из жителей деревни останется без пищи. Чтобы распознать возникший звук, Джеку понадобилось несколько секунд. Раздался звенящий, клацающий шум. Утренняя Звезда сжал зубы. Налетел холодный ветер. Свет на востоке потускнел. — …Может быть, ты был прав, — услышал он тихий голос Утренней Звезды, словно тот обращался не к нему, — насчет разума. И он слегка наклонил большую темную голову. Джек, чувствуя неловкость, не смотрел на него. Он следил взглядом за немигающей белой звездой, которая всегда его тревожила. Она пересекала небо на востоке справа налево. — Тот, кто управляет этой звездой, — сказал он, — противится любому общению. Она движется не так, как другие, быстрее. Она не мерцает. Почему? — Это — не настоящая звезда, это искусственный объект, помещенный на орбиту Твилайта учеными с дневной стороны. — Для чего? — Чтобы наблюдать за границами. — Зачем? — Ты ее боишься? — У нас нет никаких таких штук на их стороне. — Я знаю. — Но разве ты сам не наблюдаешь за границей — по-своему? — спросил Джек. — Конечно. — Зачем? — Чтобы знать обо всем, что пересекает ее. — И только? — фыркнул Джек. — Если эта штука и вправду летает над Твилайтом, то она будет подчиняться волшебству так же, как своим законам. Достаточно сильное заклятие ее достанет! Когда-нибудь я сшибу ее оттуда. — Зачем? — спросил Утренняя Звезда. — Чтобы показать, что мое волшебство сильнее их науки… Станет сильнее в один прекрасный день. — Поиски превосходства не пойдут на пользу ни одной из сторон. — Пойдут — если оказаться на стороне, у которой пальма первенства. — И все-таки, чтобы рискнуть, ты воспользуешься их методами. — Я буду пользоваться всем, что понадобится для достижения моей цели. — Интересно, каков будет результат. Джек отошел к восточному склону вершины, перепрыгнул через край, отыскал ногой выступ и посмотрел наверх. — Ладно. Ждать с тобой восхода солнца я не могу. Мне надо идти… и стащить вниз эту штуковину. Пока, Утренняя Звезда. — Доброе утро, Джек. С мешком на плече, словно разносчик, Джек пошел навстречу свету. Он прошел через разрушенный город Дедфут и даже не поглядел на опутанные паутиной изваяния бесполезных богов — его самую главную достопримечательность. С их алтарей красть было нечего. Плотно обернув голову шарфом, он торопливо прошел по знаменитой Улице Поющих Статуй, каждая из которых, будучи по натуре индивидуалисткой, заслышав шаги, начинала свою собственную песню. Перестав, наконец, бежать 9а было это много позже), Джек вышел из города запыхавшись, отчасти оглохнув и с больной головой. Опустив кулак, он растерял слова и замер на середине проклятия. Он не мог придумать, какую кару призвать на эти заброшенные руины, чтобы она была для них внове. «Когда я стану править, все будет иначе», — решил он. — «Города не будут строиться так хаотично, чтобы потом превращаться в такое». Править? Мысль была непрошенной. А почему бы и нет? — спросил он себя. — Если я обрету силу, которую ищу, почему бы не использовать ее для достижения всего, чего я ни пожелаю. Потом, когда я отомщу, мне придется иметь дело со всеми, кто сейчас против меня. Почему бы не выступить в роли завоевателя? Я — единственный, чьи силы не сосредоточены в определенном месте. Если только я заполучу Утерянный Ключ — Кольвинию — то сумею выгнать всех прочих с их земель. Наверное, я все время думал об этом. Я награжу Розали за то, что она подсказала мне путь… А к своему списку я кое-кого добавлю. Отомстив Повелителю Нетопырей, Бенони, Смейджу, Квазеру и Блайту, я доберусь до барона, а также прослежу за тем, чтобы у Неумирающего Полковника появились причины сменить имя. Джека забавляло, что, помимо прочего, в его мешке лежат те самые рукописи, что вызвали гнев Повелителя Нетопырей. Какое-то время он действительно прикидывал, не предложить ли их в обмен на свою свободу. Единственная причина, по которой он этого не сделал, заключалась в сознании того, что либо Повелитель Нетопырей примет их, но его не выпустит, либо — что было бы еще хуже — станет торговаться. Необходимость вернуть украденное стала бы для него самой большой потерей лица, чем когда-либо. А избежать этого можно было только сделав то, чем он теперь и занимался: получив силу, которая даст ему удовлетворение. Конечно, без рукописей это было бы куда труднее, и… У него закружилась голова. Он решил, что бы прав, поговорив с Утренней Звездой. Головная боль была результатом того, что в его сознании возник диссонанс, подобный шуму от двух сотен статуй Дедфута. Вдали справа от него снова появился спутник жителей дневной стороны планеты. По мере того, как Джек шел вперед, становилось светлее. В далеких полях курились дымки. Он заметил впереди первые ростки зелени. Облака на востоке засветились ярче. Впервые за много лет его слуха достигла песня птицы, а когда он отыскал на ветках певца, то увидел яркое оперение. Добрый знак, решил он, когда тебя встречают песней. Он затоптал костер, забросал его вместе с косточками и перьями, и двинулся навстречу дню.
7
Примерно в середине семестра Джек ощутил медленное приближение. Каким образом, он не был уверен. Здесь, казалось, его восприятие было ограничено так же, как и у его товарищей. Тем не менее, нечто искало Джека — ощупью, прячась, петляя, возвращаясь и снова выправляя свой путь. Джек это знал. Что касается природы этого, у Джека не было на этот счет ни малейшего представления. Хотя в моменты, подобные этому, он с недавних пор ощущал, что это существо все ближе. Джек прошел восемь кварталов от университетского городка к Дагауту, минуя высокие здания с окнами, похожими на дырочки в перфокарте, по улицам, где, несмотря на прошедшие годы, выхлопные газы все еще были невыносимыми для его носа. Он, петляя, шел по улицам. На тротуарах валялись банки из-под пива, а из промежутков между домами вываливался мусор. Из окон, с лестниц, из дверей люди с равнодушными лицами наблюдали, как он проходит. Высоко над головой небо разрезал пассажирский лайнер, а потом вечно неподвижное солнце попыталось пригвоздить его к раскаленной мостовой, не давая тени. Возившиеся у открытого пожарного крана дети бросили игру и смотрели, как он идет мимо. Потом появилось что-то вроде намека на ветер, журчание воды, под одним из карнизов раздался хриплый птичий крик. Он швырнул сигарету в сточную канаву и стал смотреть, как она уплывает. Везде сплошной свет, никакой тени, подумал он. Странно, никто ничего не заметил. Где же я это оставил?.. Там, где свет быт тусклее, кое-что переменилось. То ли нечто пришло в этот мир, то ли исчезло из него. Поэтому возникло неосознанное чувство разобщенности — его не было, когда день сиял во всей красе. С ним возникли и другие чувства и образы. Словно тени, несмотря на его невосприимчивость к ним, все еще пытались воззвать к нему. Потому-то, заходя в малоосвещенный бар, Джек понял, что нечто, искавшее его, приближается. Когда он очутился на окраине Дагаута, дневная жара спала. Там, в падавшем сквозь стекло розовом свете свечи, он заметил ее темные волосы, тронутые кое-где оранжевыми отсветами. Пробираясь между столиками, он почувствовал, как спадает напряжение — в первый раз с тех пор, как он оставил свою аудиторию. Он проскользнул в кабину напротив нее и улыбнулся. — Привет, Клэр. Она уставилась на него, широко раскрыв темные глаза. — Джон! Ты в своем репертуаре, — сказала она. — Просто раз — и вот он ты. Джек продолжал улыбаться, разглядывая ее тяжеловатые черты, след от очков, легкую припухлость под глазами, несколько упавших на лоб соломенных прядей. — Как коммивояжер, — сказал он. — А вот и официант. — Пиво. — Пиво. Оба со вздохом откинулись на спинки стульев и стали смотреть друг на друга. Потом она засмеялась. — Ну и год! — заявила она. — До чего же я рада, что семестр кончился! Он кивнул. — Все еще самый большой выпускной класс… — …И несданные книжки, которых мы уже не увидим. — Поговори с кем-нибудь из канцелярии, — сказал он. — Подай им список… — Выпускники игнорируют штрафы. — Когда-нибудь им понадобятся копии диплома. Если они начнут просить их, поставь из перед фактом, что они ничего не получат, пока не расплатятся. Она наклонилась вперед. — Хорошая мысль! — Конечно. Если речь пойдет об устройстве на работу, они родят эти книги. — Когда ты устраивался на кафедру антропологии, ты не услышал зов. Тебе надо было стать администратором. — Я работал там, где хотел. — А почему ты говоришь в прошедшем времени? — спросила она. — Не знаю. — Случилось что-нибудь? — Честное слово, ничего. Но ощущение оставалось. Уже близко… — Твой контракт, — сказала она. — Были какие-нибудь неприятности? — Нет, — сказал он. — Никаких. Принесли пиво. Он взял свою кружку и начал пить. Скрестив под столом ноги, он коснулся ноги Клэр. Она не отодвинулась — но, в конце концов, она всегда веля себя так. Со мной ли, с кем-то другим, подумал Джек. Хорошая девочка, но слишком хочет замуж. За семестр она потеряла со мной всякое терпение. Теперь в любой день… Он отбросил эту мысль. Встреть он ее раньше, он мог бы жениться на ней, потому что возвращаясь туда, где он должен был быть и оставляя жену здесь, был бы абсолютно спокоен. Но он встретил ее только в этом семестре, а его дело близилось к завершению. — Как насчет часов по субботам, о которых ты говорил? — спросила она. — Уже что-нибудь решил? — Не знаю. Это зависит кое от каких исследований, которыми я как раз сейчас занят. — И насколько ты продвинулся? — Узнаю, когда получу машинное время. Я поэтому и пришел. — Скоро? Он посмотрел на часы и кивнул. — Так скоро? — спросила она. — Если результат будет благоприятным?.. Он закурил. — Тогда это может случиться в следующем семестре, — сказал он. — Но ты говорил, что твой контракт… — …В полном порядке, — сказал он. — Но я его не подписал. Еще не подписал. — Ты как-то сказал, что тебе кажется, будто Квилиэн тебя не любит. — Не любит. Он старомоден. Ему кажется, что я провожу слишком много времени у компьютера. И слишком мало в библиотеках. Она улыбнулась. — Я тоже. — Как бы там ни было, я слишком популярный лектор, чтобы не предложить мне возобновить контракт. — Тогда почему ты не подписал его? Хочешь прибавки? — Нет, — сказал он. — Но если я попрошу часы по субботам, забавно будет сказать ему, чтобы он выкинул этот контракт. Не то чтобы я отказался подписать контракт и ушел, если это нужно будет для моих исследований, но я с удовольствием скажу доку Квилиэну, куда ему запихать его предложение. — Значит, у тебя на подходе что-то важное? Он пожал плечами. — Как твой семинар? Она рассмеялась. — Ты — как кость в горле у профессора Уизертона. Он почти всю лекцию посвятил тому, чтобы расправиться с твоим курсом «Философия и обычаи царства тьмы». — Мы расходимся во мнении по многим вопросам, но он там никогда не бывал. — Он намекал, что ты тоже. Он согласен с тем, что там феодальное общество, и что некоторые из тамошних лордов действительно могут считать, что будто в своих владениях имеют непосредственную власть надо всем. Он отрицает саму идею их объединения Договором, который основан на положении, что небеса упадут, если их не поддерживать чем-то вроде Щита, сотрудничая в области магии. — Но что же тогда поддерживает жизнь в этой части мира? — Кто-то задал такой вопрос. Он сказал, что это проблема для физиков, а не для социологов-теоретиков. Хотя лично он считает, что к этому имеет отношение утечка энергии из наших силовых экранов на больших высотах. Джек фыркнул. — Надо бы взять его разок в экспедицию. И его дружка Квилиэна тоже. — Я знаю, что ты бывал в царстве тьмы, — сказала она. — Фактически я думаю, что твоя связь с ним куда сильнее, чем ты говоришь. — Это как? — Если бы ты сейчас мог себя видеть, ты бы понял. Я долго не могла сообразить, в чем дело, но когда заметила, отчего у тебя в таких местах, как это странный вид, все стало ясно… Твои глаза. Они более чувствительны к свету, чем у всех, кого мне приходилось видеть раньше. Стоит тебе попасть из света в полумрак, как здесь, и зрачки делаются огромными. Вокруг них остается только тоненькая полоска радужки. И еще я заметила, что темные очки, которые ты почти не снимаешь, куда темнее обычных. — У меня глаза не в порядке. Вижу я неважно, а яркий свет их раздражает. — Вот я и говорю. В ответ он улыбнулся. Джек смял сигарету, и, словно это было сигналом, из колонки высоко над ними раздалась тихая расслабляющая музыка. Он отхлебнул еще глоток. — Я полагаю, Уизертон фотографировал выкапывание трупов? — Да. «А если я умру здесь?» — подумал он. — «Что будет со мной? Лишусь ли я Глива и возвращения?» — Что-то не так? — спросила она. — В смысле? — У тебя раздуваются ноздри. А брови нахмурены. — Ты слишком много на меня смотришь. Все из-за этой жуткой музыки. — Мне нравится на тебя смотреть, — сказала она. — Давай допьем и пойдем ко мне. Я сыграю тебе что-нибудь другое. И потом, у меня есть кое-что, что я хотела бы показать тебе. И спросить тебя об этом. — Что? — Давай подождем. — Ладно. Они допили пиво и Джек расплатился. Они ушли. Когда они вышли на свет, его опасения уменьшились. Они поднялись на третий этаж и вошли в ее квартиру. Едва переступив порог, Клэр остановилась и тихонько откашлялась. Джек, быстро передвинувшись влево, протиснулся мимо нее и остановился. — Что это? — спросил он, обшаривая комнату взглядом. — Я уверена, что когда я уходила, этого не было. Бумаги на полу… По-моему, этого стула здесь не было. И ящик был закрыт. И дверца шкафа… Он вернулся к ней, поискал царапины на дверном замке и не нашел. Тогда он пересек комнату. Когда он зашел в спальню, она услышала звук, который мог быть только щелканьем складного ножа. Через минуту он вышел, исчез в соседней комнате, а оттуда пошел в ванную. Когда он снова появился, то спросил: — Окно возле столика было открыто, как сейчас? — Наверное, — сказала она. — Наверное да. Он вздохнул. Потом осмотрел подоконник и сказал: — Может быть, бумаги сбросило порывом ветра. Что касается ящика и шкафа, держу пари, ты утром сама оставила их открытыми. И, вероятно, забыла, что переставила стул. — Я очень педантичный человек, — сказала она, закрывая входную дверь. А потом обернулась и добавила: — Но я думаю, ты прав. — Почему ты нервничаешь? Она ходила по комнате, собирая бумаги. — Откуда у тебя нож? — спросила она. — Какой нож? Она захлопнула шкаф, повернулась и посмотрела на него. — Который был у тебя в руке минуту назад! Он вытянул руки ладонями кверху. — У меня нет ножа. Если хочешь, обыщи меня. Оружия ты не найдешь. Она подошла к комоду и задвинула ящик. Нагнувшись, Клэр открыла нижний ящик и вынула нечто, завернутое в газету. — Это не все, — сказала она. — Почему я нервничаю? Вот почему! Она положила сверток на стол и развязала веревочку. Джек подошел к ней и смотрел, как она разворачивает газеты. Внутри оказались три очень старых книги. — Я думал, ты уже забрала их обратно. — Я собиралась… — Мы же договорились! — Я хотела узнать, где и как ты их заполучил. Он покачал головой. — А еще мы договорились, что, если мне надо будет их вернуть, ты не станешь задавать подобные вопросы. Она уложила книги рядком. Потом указала на корешок одной из них и на обложку другой. — Раньше тут этого не было, я уверена, — сказала она. — Это же пятна крови, правда? — Не знаю. — Я пыталась сырой тряпкой стереть пятна поменьше, и то, что сошло, было очень похоже на засохшую кровь. Он пожал плечами. — Когда я сказала тебе, что эти книги были украдены из Хранилища Редких Книг, ты предложил вернуть их, и я сказала — о'кей. Она продолжила: — Я согласилась, что, если ты хочешь их вернуть, я прослежу, чтобы возврат был анонимным. Никаких вопросов. Но я и подумать не могла, что это означало кровопролитие. Одни только пятна не заставили бы меня думать, что произошло именно это. Но тогда я начала задумываться о тебе и поняла, как мало на самом деле знаю. Тогда-то я и начала замечать вещи вроде твоих глаз, того, как тихо ты двигаешься. Я слыхала, что ты в дружбе с преступниками… но тогда ты написал несколько статей по криминологии и преподавал курс этого предмета. То есть тогда, когда я задумывался об этом, это казалось нормальным. Теперь я вижу, как ты с ножом в руке расхаживаешь по комнатам, явно готовый убить того, кто сюда залез. Ни одна книга не стоит человеческой жизни. Наш договор потерял силу. Расскажи, как они к тебе попали. — Нет, — сказал он. — Я должна знать. — Ты устроила эту сцену к нашему приходу просто, чтобы посмотреть, что я стану делать, так? Она покраснела. «Думаю, теперь она попытается шантажировать меня, чтобы я женился на ней», — подумал он, — «если считает, что сумеет раздуть это дело в достаточно крупное». — Хорошо, — сказал он, сунув руки в карманы и отворачиваясь к окну. Я нашел того, кто это сделал и потолковал с ним. Произошло недоразумение мы не поняли друг друга. Я разбил ему нос. К несчастью, кровь залила книги. Мне не удалось отмыть ее всю. Он услышал, как она сказала: «О», потом повернулся и посмотрел ей в лицо. — Вот и все, — сказал он. Потом он шагнул вперед и поцеловал ее. Через минуту она расслабилась в его объятиях. Он гладил ей спину и плечи, потом положил руки на ягодицы. «Весь набор развлечений», — решил он, поглаживая ее бока и медленно поднимаясь к пуговицам на блузке. — Извини, — она вздохнула. — Ничего, все нормально, — сказал он, расстегивая пуговицы. — Все в порядке. Позже, уставившись через сетку ее волос в подушку и анализируя свою реакцию на более ранние события, он еще раз ощутил, что оно приближается. На сей раз оно было так близко, что Джеку казалось, будто за ним наблюдают. Он быстро оглядел комнату, но ничего не заметил. Слушая шум уличного движения внизу, он решил вскоре заняться делами… вот только сигарету выкурит. Наверху раздался акустический удар, словно рукой распахнувший окно. Медленно наползающие облака отчасти приглушили солнце. Джек знал, что приехал раньше времени. Он поставил машину в факультетском дворе и достал из багажника тяжелый дипломат. В машине лежали три тяжелых дорожных сумки. Он развернулся и пошел в дальний конец двора. Джек чувствовал необходимость быть в движении, быть готовым бежать, если будет нужно. Тут он подумал про Утреннюю Звезду, наблюдающего за птицами, скалами и облаками, чувствующего молнии, дождь и ветер, и удивился: правда ли тот знает о каждом его шаге. Джек чувствовал, что так оно и есть, и ему очень захотелось, чтобы его друг оказался рядом и мог дать совет. Узнал ли он а может быть, давно уже знает, — каков будет результат того, что Джек собрался предпринять? Трава и листья приобрели то слабое белое свечение, которое иногда предвещает грозу. Все еще было очень тепло, но теперь легкий ветерок с севера уменьшал жару. Университетский городок был почти пустынным. Джек миновал группу студентов, которые сидели у фонтана и сравнивали только что полученные на экзамене оценки. Ему показалось, что двоих он узнал — они посещали курс «Введение в культуру антропологии», который он читал несколько семестров назад. Но они не обратили на него внимания. Проходя мимо Дрек-Холла, он услышал, что его окликают. — Джон! Доктор Шейд! Остановившись, он увидел приземистую грузную фигуру молодого инструктора по фамилии Пойндекстер, выходящего из дверей. Его тоже звали Джоном, но, так как он был у них новичком, они решили обращаться к нему по фамилии, чтобы не вносить путаницу в разговоры. Когда тот подошел, кивая в знак приветствия, Джек заставил себя улыбнуться. — Привет, Пойндекстер. Я думал, вы в отпуске, восстанавливаете силы. — Мне еще надо проверить несколько лабораторных работ, черт их возьми, — сказал он, тяжело дыша. — Я подумал, надо выпить чего-нибудь горячего, и только закрыл дверь в свой кабинет, как понял, что я натворил. Ключи — на моем столе, а замок защелкивается, когда захлопываешь дверь. В здании больше никого нет, канцелярия тоже закрыта. Вот я и стоял тут, ждал, не пройдет ли вахтер. Я думал, может, у него есть ключ. Вы его не видели? Джек покачал головой. — Нет. Я приехал только что. Но я знаю, что у вахтеров нет доступа к ключам… Ваш кабинет в дальнем крыле, да? — Да. — Как насчет того, чтобы забраться через окно? Я, правда, не помню, высоко ли там. — Слишком высоко. Лестницы нет… А потом, все равно оба окна закрыты. — Идемте внутрь. Пойндекстер утер красноватый лоб и кивнул. Они вошли в здание и прошли в дальнее крыло. Джек вытащил из кармана связку ключей и вставил один из них в замок той двери, на которую указал Пойндекстер. Ключ повернулся, послышался щелчок, Джек толкнул дверь и она открылась. — Повезло, — сказал он. — Откуда у вас ключ? — Это от моего кабинета. Я же говорю — вам повезло. Лицо Пойндекстера осветилось улыбкой. — Спасибо, — сказал он. — Большущее вам спасибо. Вы спешите? — Нет, я приехал раньше, чем нужно. — Тогда давайте я принесу вам что-нибудь из автомата. Мне все еще хочется передохнуть. — Согласен. Он вошел в кабинет, поставил дипломат за дверь. Шаги Пойндекстера постепенно затихли вдали. Джек смотрел из окна, как собирается гроза. Где-то зазвонил звонок. Через некоторое время Пойндекстер вернулся, и Джек взял дымящуюся чашку, которую он принес. — Как ваша мама? — Поправляется. Скоро ее отпустят. — Передавайте ей привет. — Конечно. Спасибо. Очень мило, что вы ее навестили. Они потягивали питье. Потом Пойндекстер сказал: — Слава Богу, что я вас встретил. Возможно, во всем здании одинаковые замки только в наших кабинетах. Черт, я бы согласился, даже если бы мне могло отпереть это привидение. — Привидение? — Да вы знаете. Самая последняя шутка. — Боюсь, я про это ничего не слыхал. — Как утверждают, это — нечто белое. Его заметили недавно, когда оно перепархивало с дерева на дерево и с крыши на крышу. — А когда это началось? — Естественно, совсем недавно. В прошлом семестре это были камни-мутанты в геологическом корпусе. До этого, по-моему, были усиливающие половое влечение средства в водопроводе. Как всегда, закрытие семестра — это конец света. По-моему, сплошь слухи и дурные предзнаменования. А в чем дело? — Ни в чем. Хотите сигарету. — Спасибо. Джек услышал гром, словно громыхала жесть, а вечный лабораторный запах вызвал неприятные воспоминания. Поэтому-то я всегда терпеть не мог этот корпус, понял он. Из-за запахов. — В следующем семестре вы с нами? — спросил Пойндекстер. — Думаю, нет. — А, ваш уход одобрили. Поздравляю! — Не совсем так. За толстыми стеклами очков промелькнуло беспокойство. — Но вы же не насовсем уходите, нет? — Это зависит… от нескольких обстоятельств. — Если вы позволите мне побыть самоуверенным, я надеюсь, вы решите остаться. — Спасибо. — Но если вы уйдете, я думаю, мы останемся в контакте? — Конечно. Оружие, решил он. Нужно что-то получше, чем то, что я достал. Но его я просить не могу. Хотя неплохо, что я зашел. Он затянулся и посмотрел в окно. Небо делалось все темнее, мостовая стала влажной. Он допил и выбросил стаканчик в корзину для мусора. Сминая сигарету, Джек поднялся. — Побегу, а то мне надо отнести это в Уокер до дождя. Пойндекстер встал и пожал ему руку. — Ладно, всего хорошего. Может, какое-то время мы не увидимся, сказал он. — Спасибо… Ключи. — Что? — Ключи. Почему бы вам не взять их со стола и не положить в карман прямо сейчас? Пойндекстер покраснел и последовал его совету. Потом он хихикнул. — Да. Еще раз мне не захочется такое сделать, верно? — Надеюсь, что нет. Джек забрал дипломат. Пойндекстер зажигал над столом светильник. В небе что-то вспыхнуло и раздалось низкое ворчание. — Пока. — До свидания. Джек вышел и заторопился к Уокер Билдинг, задержавшись только, чтобы заскочить в лабораторию и стащить бутылку серной кислоты, закупорив ее.
8
Он оторвал первые листы распечатки и разложил на столике, который занял. Машина продолжала позвякивать, заглушая дождь. Джек вернулся к ней, оторвал следующий лист. Он поместил его рядом с остальными и смотрел на них. Со стороны окна раздался звук, похожий на царапанье. Джек вскинул голову и раздул ноздри. Ничего. Там ничего не было. Он закурил и уронил спичку на пол. Он ходил по комнате. Он проверил, который час. В подсвечнике, мигая, горела свеча, воск стекал вниз. Он подошел к окну, послушал ветер. У двери раздался щелчок, он повернулся туда лицом. В комнату вошел крупный мужчина и посмотрел на Джека. Он снял темную шапочку от дождя, положил на стул возле двери и пригладил редкие седые волосы. — Доктор Шейд, — сказал он, кивая и расстегивая плащ. — Доктор Квилиэн. Мужчина повесил плащ за дверь, вынул носовой платок и начал протирать очки. — Как дела? — Спасибо, хорошо. А у вас? — Отлично. Доктор Квилиэн закрыл дверь, а Джек вернулся к машине и оторвал еще несколько страниц. — Что вы делаете? — Считаю кое-что для той работы, о которой говорил вам… По-моему, недели две назад. — Понятно. Я только что узнал, что вы тут договорились. — Он жестом указал на машину. — Стоит кому-нибудь отказаться — и вы тут как тут, чтобы забрать его машинное время. — Да. Я тут со всеми в контакте. — В последнее время стало отказываться жуткое количество народа. — По-моему, это грипп. — Понятно. Он затянулся. Когда машина перестала печатать, он уронил сигарету и наступил на нее. Повернувшись, он забрал последние распечатки и отнес их на стол к остальным. Доктор Квилиэн наблюдал за ним. — Можно посмотреть, что тут у вас такое? — спросил он. — Конечно, — ответил Джек, передавая ему бумаги. — Не понимаю, — сказал Квилиэн через минуту. — Я был бы очень удивлен, если бы это было не так. Это имеет очень отдаленное отношение к реальности и для статьи мне придется перевести. — Джон, — сказал собеседник, — у меня к вам стали появляться странные чувства. Тот кивнул и, прежде чем свернуть листы, закурил еще одну сигарету. — Если вам самому нужен компьютер, то я закончил, — сказал он. — Я много думал о вас. Сколько вы у нас проработали? — Лет пять. Со стороны окна еще раз донесся какой-то звук. Оба повернули головы. — Что это было? — Не знаю. Через некоторое время Квилиэн сказал, надевая очки: — Вы тут делаете чертовски много того, что вам хочется, Джон… — Верно. Признаю. — Вы пришли к нам вроде бы с хорошими рекомендациями. И оказались отличным специалистом в вопросах культуры царства тьмы. — Благодарю. — Я это задумывал не как комплимент. — Да, правда? — по мере того, как он изучал последнюю страницу, Джек начал улыбаться. — А как же? — У меня странное ощущение, что вы не тот, за кого себя выдаете, Джон. — В каком смысле? — Когда вас брали на эту должность, вы заявили, что родились в Нью-Лейдене. В этом городе ваше появление на свет не зарегистрировано. — Да? Как же вы это обнаружили? — Этим недавно занимался доктор Уизертон. — Ясно. Это все? — Помимо того, что про вас известно, будто вы водите компанию с преступниками, существуют сомнения относительно вашей степени. — Снова Уизертон? — Источник не имеет значения. Заключение таково: ваша степень ничего не стоит. Мне кажется, вы не тот, кем претендуете быть. — А почему вы решили излить свои сомнения здесь и сейчас? — Семестр закончился. Я знаю, что вы хотите уехать. Сегодня вы в последний раз брали машинное время… согласно количеству времени, которое вы запрашивали. Я хочу знать, что вы забираете с собой и куда. — Карл, — сказал он, — что если я признаюсь, что немного неверно представился? Вы уже отметили, что в своей области я специалист. Мы оба знаем, что я — популярный лектор. Что бы ни выкопал Уизертон… что с того? — У вас какие-то неприятности, Джон? Может, я могу чем-нибудь помочь? — Нет. Ничего, все в порядке. Квилиэн пересек комнату и уселся на низкую скамью. — Я впервые вижу одного из вас так близко, — сказал он. — К чему вы клоните? — К тому, что вы — не человек, а нечто иное. — Например? — Вы родились в царстве тьмы. Не так ли? — Почему вы так полагаете? — Предполагается, что при определенных обстоятельствах вам подобных следует сажать в тюрьму. — Я вас понимаю так, что если я скажу «да», возникнут и определенные обстоятельства? — Может быть, — сказал Квилиэн. — А может быть, и нет? Что вам нужно? — Пока что все, чего я хочу — узнать, кто вы. — Вы меня знаете, — сказал он, складывая листы и беря дипломат. Квилиэн покачал головой. — Изо всего, что меня беспокоит, — сказал он, — я только что выделил нечто новое, серьезно меня тревожащее. Допустим на минуту, что вы человек из царства тьмы, перебравшийся на дневную сторону. Есть определенные моменты, указывающие на это и заставляющие меня выяснить вопрос о вашем происхождении. Существует некто, кто, как я полагал, всего лишь персонаж мифов царства тьмы. Я раздумываю — способен ли легендарный вор осмелиться выйти на солнечный свет? А если да, то зачем? Может ли Джонатан Шейд быть смертным эквивалентом Джека-из-Тени? — А если может, то что? — спросил он, пытаясь не смотреть в сторону окна, где теперь нечто заслоняло весь тусклый свет. — Вы приготовились арестовать меня? — спросил он, медленно перемещаясь влево так, чтобы Квилиэну пришлось повернуть голову. — Да. Тогда он сам поглядел в окно и, когда увидел, что прижалось к стеклу, вернулось прежнее отвращение. — Поэтому, я полагаю, вы вооружены? — Да, — сказал тот, доставая из кармана и показывая маленький пистолет. «Я могу швырнуть в него дипломат и рискнуть провести один раунд», решил он. — «В конце концов, пистолет не такой уж большой. И потом, если я выиграю время и подберусь поближе к свету, это может и не понадобиться.» — Странно, что вы пришли один, если задумали такое. Даже если вы имеете полномочия произвести в университете арест в интересах безопасности… — Я не сказал, что я один. — …Хотя, когда я обдумал это, это не так уж странно. Он шагнул к мигавшему свету. — Я говорю, что вы один. Вам бы хотелось проделать все это самому. Может быть, вы просто хотите убрать меня без свидетелей. Или, может быть, вы желаете, чтобы мое задержание было полностью вашей заслугой. Я полагаю, однако, что дело в последнем. Вы ведь, кажется, терпеть меня не можете. Не могу точно сказать, почему. — Боюсь, вы переоцениваете свою способность не нравиться и мое стремление к насилию… Нет, власти поставлены в известность и направляются сюда, чтобы арестовать вас. Я намерен только обеспечить ваше присутствие здесь до их появления. — Можно подумать, вы ждали чуть ли не до последнего момента. Свободной рукой Квилиэн указал на дипломат. — Я заподозрил, что, если расшифровать вашу последнюю работу, она не будет иметь ничего общего с социологией. — Какой вы недоверчивый. Знаете, существуют законы против тех, кто арестовывает людей без доказательств. — Да. Потому-то я и выжидал. Бьюсь об заклад, доказательства у вас в руках… и я уверен, что найдутся другие. Я заметил также, что когда речь идет о вопросах безопасности, законы куда менее строги. — Тут вы правы, — ответил Джек, поворачиваясь так, что свет упал ему на лицо. — Я — Джек-из-Тени! — выкрикнул он. — Хозяин Шедоу-Гард! Я Джекки-Тень, вор, крадущийся в тени и тишине! Мне отрубили голову в Иглесе, но я вновь восстал из Навозных Ям Глива! Я выпил кровь вампира и съел камень! Я нарушил Договор. Я — тот, кто подделал имя в расчетной Книге. Я — узник драгоценного камня. Я однажды оставил в дураках хозяина Хай-Даджен и вернусь отомстить ему. Я — враг своих врагов. Ну, поймай меня, грязная тварь, если любишь Повелителя Нетопырей или ни в грош не ставишь меня, потому что я назвал свое имя — Джек-из-Тени! При этом взрыве эмоций лицо Квилиэна приобрело озадаченное выражение, и, хотя он открыл рот, пытаясь заговорить, его слова утонули в криках Джека. Потом окно разлетелось, свеча погасла, и в комнату прыгнул Боршин. Обернувшись, Квилиэн увидел в дальнем конце комнаты израненную, мокрую от дождя тварь. Он издал невнятный вопль и остолбенел. Джек уронил дипломат, отыскал склянку с кислотой и откупорил ее. Он выплеснул содержимое твари на голову и, не задержавшись чтоб увидеть результат, подхватил дипломат и проскочил мимо Квилиэна. Джек был у двери раньше, чем тварь испустила первый крик боли. Он выскочил в холл, заперев за собой дверь и задержавшись ровно настолько, чтобы стащить с гвоздя плащ Квилиэна. Когда он услышал первый выстрел, то был уже на середине лестницы. Потом последовали другие, но к этому времени он уже пересек двор, придерживая на плечах плащ и проклиная лужи, поэтому он их не слышал. Кроме того, гремел гром. Скоро, боялся он, добавятся еще и сирены. Он бежал, и мысли его были бурными. Кое в чем погода помогала ему, а кое в чем мешала. Движение на улицах сильно замедлилось, а когда он достиг открытой дороги, ее сухая длинная поверхность оказалась достаточно скользкой, чтобы помешать ему идти так быстро, как хотелось. Сумерки, вызванные грозой, заставили водителей при первой же возможности покинуть улицы, а тех, кто уже был дома, в безопасности, при свете множества свечей, заставили там задержаться. Пешеходов не было видно. Все это позволило ему с легкостью сменить машину на другую, не отъезжая слишком далеко. Выбраться из города было нетрудно, другое дело — обогнать грозу. Казалось, они движутся в одном и том же направлении, по одной и той же дороге, давным-давно проложенной им по карте и заученной. Она была одновременно и короткой, и уединенной и вела назад в царство тьмы. В любом другом случае он бы приветствовал ослабление того постоянного сияния, которое сперва пекло, а потом обжигало его не желавшую этого кожу. Теперь же это заставляло его медлить, а рисковать уже было нельзя. Гроза заливала машину дождем, ветер раскачивал ее, а вспышки молний показывали ему линию горизонта, которую он оставил позади. Полицейские фонари, установленные на шоссе, заставили его значительно сбавить скорость в поисках места, где можно было бы свернуть с шоссе. Он вздохнул и слабо ухмыльнулся, проплывая мимо трех столкнувшихся машин. Оттуда на носилках к открытой скорой помощи несли двоих, мужчину и женщину. Он покрутил радио, но слышен был только треск разрядов. Джек закурил и приоткрыл окно. Изредка ему на щеку падала капля. Только сейчас осознав, в каком напряжении пребывал, Джек глубоко задышал, пробуя расслабиться. Только гораздо позже гроза стала затихать, превратилась в непрерывный мелкий дождь, а небо прояснилось. В это время он уже ехал по открытой местности в пригороде, испытывая смешанные чувства: облегчение и предчувствие, что случится что-то скверное. Это последнее возникло с момента его отъезда. «Чего я добился?» — спросил он себя, думая о проведенной на дневной стороне годах. Чтобы освоиться на местности, получить необходимые документы, вникнуть в преподавательскую рутину, потребовалось довольно много времени. Потом возникла проблема устройства на работу в университет, где находилось необходимое оборудование, несущее информацию. В свободное время ему пришлось научиться пользоваться им, а потом разобраться в планах, чтобы управляться с машиной, не задавая вопросов. Потом ему пришлось пересмотреть все полученные первичные данные в соответствии с его подлинными проблемами, получить информацию и привести ее в необходимую форму. Все это в целом заняло годы. И он много раз ошибался. Но на этот раз… на это раз он был так близко, что мог понюхать это, попробовать на вкус. На это раз ему стало ясно, что ответы, которые он искал, рядом. Теперь он удирал с дипломатом, полным бумаг, которые у него не было случая просмотреть. Возможно, он опять ошибся и возвращался без искомого оружия — возвращался в логово врага. Если дела обстояли таким образом, то он лишь отсрочил свой приговор. Но все равно, остаться он не мог — ведь он приобрел врагов и здесь. Он на миг задумался, не было ли какого-нибудь скрытого предостережения, какого-то доступного ему предчувствия, которым он пренебрег, и которое больше сказало бы ему о нем самом, чем о его врагах. Если так, то оно от него ускользнуло. Еще немного… Если бы у него было еще немного времени, он мог бы проверить данные, еще раз сформулировать и при необходимости составить программу заново. Сейчас времени уже не оставалось. Если бы это был затупившийся меч, который он нес, то нельзя было вернуться и наточить его. И потом, были и иные проблемы — личные, которые он хотел бы решить оптимальным образом. Например, Клэр… Потом дождь утих, хотя тучи по-прежнему были сплошными и выглядели угрожающе. Тогда он рискнул прибавить скорость и еще раз попробовал включить приемник. Все еще был слышен треск разрядов, но музыку стало слышно лучше, и он оставил радио включенным. Он съезжал с крутого холма, когда начался выпуск новостей, и только Джек подумал, что услыхал свое имя, как звук настолько ослаб, что нельзя было быть ни в чем уверенным. Сейчас он был на дороге один. Он начал периодически оглядываться через плечо и всматриваться во все ответвления дороги, мимо которых проезжал. То, что у смертных все еще была прекрасная возможность поймать его раньше, чем он обретет силу, приводила его в ярость. Заезжая на более высокий холм, он увидел вдалеке слева завесу дождя и несколько слабых вспышек молнии, но так далеко, что гром был не слышен. Продолжая рассматривать небо, он заметил, что движения на дороге все еще не было, и поблагодарил за это Короля Бурь. Закурив еще одну сигарету, он отыскал станцию, которую было слышно лучше, и стал ждать выпуска новостей. Когда он начался, о Джеке не было сказано ни слова. Джек подумал о том далеком дне, когда он стоял у водоема с водой и обсуждал со своим отражением, что должен сделать. Теперь он пытался представить себе то свое «я», теперь уже мертвое, — усталое, истощенное, замерзшее, голодное, с израненными ногами и дурно пахнущее. Теперь все это сгладилось, стерлось, не считая легкого чувства голода, которое возникло только что и вряд ли стоило того, чтобы равнять его с тем, прежним, больше всего напоминавшим голодную смерть. Но все же, было ли полностью мертво его прежнее «я»? Как изменилось его положение? Тогда он выбирался с Западного полюса Мира, борясь за свою жизнь, стараясь убежать от преследователей и добраться до Сумеречных Земель. Сейчас он бежал в Сумеречные Земли с сияющего Восточного Полюса. Питаемая ненавистью и отчасти любовью, в его сердце горела жажда мести, поддерживая и согревая его. Да и сейчас она не исчезла. Он узнал науки и искусства дневной стороны планеты, но это никоим образом не меняло того, кто тогда стоял у водоема. Он все еще стоял там — внутри Джека — и мысли его были прежними. — Утренняя Звезда, — сказал он, открывая окошко и адресуясь к небу, раз ты все слышишь, услышь и это: со времени нашей последней беседы я не изменился. Он рассмеялся. — Хорошо это или плохо? — спросил он. Эта мысль пришла ему в голову только что. Он закрыл окно и обдумал этот вопрос. Хотя Джек и не любил самоанализ, тем не менее он был любознателен. Во время работы в университете он замечал, как меняются люди. Лучше всего это было заметно по студентам и происходило так быстро — за короткий промежуток времени между поступлением и выпуском. Но и его коллеги тоже менялись — в мелочах, например, в чувствах, оценках. Только он один не изменился. Он подумал: что же это — нечто, присущее ему? Не в том ли одно из основных различий между людьми тьмы и смертными? Они меняются, а мы нет. Важно ли это? Вероятно, хотя мне не понятно, почему. Нам нет необходимости меняться, а им, похоже, есть. Отчего? Продолжительность жизни? Разное отношение к ней? Возможно, и то, и другое. Но все-таки, чем важны эти перемены? Послушав еще один выпуск новостей, он свернул на дорогу, казавшуюся заброшенной. На этот раз объявили, что он разыскивается, чтобы дать показания в связи с убийством. Он развел небольшой костер и сжег все документы, какие у него были. Пока они горели, он открыл сумку и переложил в бумажник новые документы, которые заготовил несколько семестров назад. Джек пошевелил пепел и развеял его. Перейдя через поле, он разорвал плащ Квилиэна в нескольких местах и затолкал в канаву, по которой текла грязная вода. Возвращаясь к машине, он решил побыстрее сменить ее. Потом, торопливо двигаясь по шоссе, он обдумал ситуацию — так, как понимал ее в данный момент. Боршин убил Квилиэна и удрал — несомненно, так же как и пришел, через окно. Властям было известно, почему Квилиэн там оказался, а Пойндекстер подтвердит, что он был в университете, и скажет, где именно. Клэр и многие другие засвидетельствуют, что они с Квилиэном не жаловали друг друга. Вывод ясен. Хотя при необходимости Джек мог бы убить Квилиэна, он возмутился при мысли, что пострадает за то, чего не совершал. Ситуация напомнила ему происшествие в Иглесе, и он, почти не сознавая, что делает, потер шею. Несправедливость причиняла боль. Он удивился: думал ли Боршин, неистовствуя от боли, что убивает Джека, или же просто хотел защититься, зная, что он сбежал. Как сильно он был ранен? Джек ничего не знал о способности этой твари к самовосстановлению. Может быть, она и сейчас искала его след, по которому так долго шла? Послал ли его Повелитель Нетопырей, или Боршина вело собственное чувство ненависти к Джеку? Вздрогнув, он прибавил скорость. Стоит мне вернуться, это станет безразлично, сказал он себе. Но он задумался. На окраине следующего города, через который он проезжал, Джек взял другую машину. На ней он поспешил в Сумеречные Земли, туда, где распевала яркая птица. Он долго сидел на вершине холма, скрестив ноги, и читал. Его одежда была пыльной, под мышками — пятна пота, под ногтями — грязь. Глаза закрывались сами собой. Он все время вздыхал и делал пометки в своих бумагах. На западе над горами слабо светили звезды. Свою последнюю машину он бросил за много миль от этого холма, на западе, и пришел сюда пешком. Машина, прежде чем остановиться окончательно, сперва начала работать с перебоями. Тогда он понял, что миновал то место, где Силы-соперники поддерживали перемирие, и ступил в темноту, прихватив только дипломат. Джек всегда любил забраться повыше. За время своего путешествия он спал только один раз, и, так как сон его был крепким, глубоким, без видений, то Джек, не переставая жалеть свое тело, поклялся не повторять этого, пока не окажется вне досягаемости людских законов. Теперь, достигнув своей цели, нужно было сделать еще только одно, а потом уже позволить себе отдохнуть. Хмуря брови, он переворачивал страницы, отыскал то, что хотел, сделал пометку на полях и вернулся к тому месту, где были пометки в оригинале. Похоже, все было верно. Вроде бы это подходило… Над вершиной холма пронесся холодный ветер. Он принес запахи дикой природы, почти позабытые Джеком в городе. Не было больше городских шумов и запахов, рядов лиц в аудиториях, скучных собраний, монотонного шума машин; не было ни ярких до непристойности красок — все это казалось тающим сном, а над ним неистовым светом сиял Эвридей. Эти бумаги были его единственным достоянием. Обратный перевод, сделанный им с распечатки, так и бросался в глаза, ускоряясь в мозгу, словно внезапно понятые стихи. Да! Взгляд Джека пошарил по небу и нашел белую немигающую звезду, которая пересекала небосклон. Он поднялся, позабыв про усталость. Правая нога Джека оставила в грязи короткую цепочку следов. Он указал пальцем на спутник и произнес слова, которые записал в своих бумагах. Какое-то время ничего не происходило. Потом спутник остановился. Джек продолжал указывать на него, но молча. Тот сделался ярче и начал расти. Потом вспыхнул подобно звезде — и исчез. — Новое знамение, — сказал Джек и улыбнулся.
9
Когда проклятая тварь вернулась в Хай-Даджен, она заметалась по комнатам в поисках своего господина. Наконец отыскав его, когда он отмерял серу в бассейн, заполненный ртутью, в центре восьмиугольной комнаты, Боршин обратил на себя внимание хозяина. Ему протянули палец, и он перевесился через него. Потом (конечно, по-своему) он сообщил новости. После этого его хозяин отвернулся, проделал любопытные действия со свечой, сыром и перышком, и покинул комнату. Он перебрался в высокую башню и долго смотрел оттуда на восток. Потом он быстро повернулся и посмотрел на единственный оставшийся неприступным подступ к его крепости — на северо-восток. Да, и там тоже! Но это невозможно. Если только это, конечно не иллюзия. Он поднялся по лестнице, которая шла вдоль стены против движения солнца, открыл люк и выбрался наружу. Подняв голову, он разглядывал огромный черный шар, окруженный яркими звездами. Он втягивал носом ветер. Глянув вниз, он изучал свой массивный замок — Хай-Даджен, вознесенный его Силой вскоре после того, как он сам был создан на этой горной вершине. Когда он узнал, в чем разница между «быть созданным» и «родиться», когда он обнаружил, что его Сила была сосредоточена именно здесь, он вытянул ее через корни горы и обрушил вниз ураганом с небес так, что тот сиял, подобно вспыхнувшей спичке, и сам занялся творением. Его Сила жила здесь значит, это место должно быть его домом и крепостью. Так оно и было. Те, кто причиняли ему зло, умирали, получив свой урок, или же носились в Вечной Тьме на кожистых крыльях, пока не заслуживали его благоволения. С последними он обращался сравнительно неплохо, так, что снова превратившись в людей, многие предпочли остаться у него на службе. Прочие Силы, в своих сферах, возможно, равные его Силе, мало тревожили его с тех пор, как были установлены приемлемые границы. Но чтобы кто-то сейчас двинулся на Хай-Даджен… Невозможно подумать! На это мог решиться только дурак или безумец. И все-таки сейчас там, где была равнина, встали горы… горы или их видимость. Он отвел взгляд от своего дома и поглядел на силуэты вдали. Его беспокоило, что он не может ощутить в себе тот подъем сил, который был бы нужен, чтобы создать хотя бы видимость гор в своих владениях. Услышав шаги на лестнице, он обернулся. Из проема появилась Ивен, перешагнула порог и подошла к нему. На ней было свободное черное платье с короткой юбкой, перетянутое в талии поясом и схваченное на левом плече серебряной брошью. Когда он одной рукой обнял ее и притянул к себе, она задрожала, почувствовав поднимающиеся в нем токи Силы; она знала, что он предпочел бы не разговаривать. Он указал на горы, которые рассматривал, а потом на другие, на востоке. — Да, я знаю, — сказала она. — Посланец мне рассказал. Вот почему я поспешила сюда. Я принесла твою волшебную палочку. Они приподняла черный шелковистый футляр, висевший у нее на поясе. Он улыбнулся и тихонько качнул головой слева направо. Левой рукой он поднял и снял цепь с драгоценным камнем, висевшую у него на шее. Высоко держа ее, он раскачивал перед ними яркий камень. Она почувствовала водоворот Силы. Мгновение казалось, что она вот-вот начнет падать вперед, внутрь камня. Он рос. заполняя все ее поле зрения. И вот она смотрит уже не на драгоценный камень, а на неожиданно возникшую гору на северо-западе. Она долго смотрела на нее — высокую, величественную, серо-черную. — Как настоящая, — сказала она. — Она кажется такой вещественной… Молчание. Потом, когда звезда за звездой небесные огни стали исчезать за вершинами и склонами, Ивен воскликнула: — Она… она растет! — а потом: — Нет… Она движется, движется к нам, — сказала она. Гора исчезла, и Ивен, как и раньше, смотрела на камень. Потом он обернулся, повернув и ее, и они посмотрели на восток. Снова кружение, падение, рост. Теперь перед ними лежала одна из восточных гор — словно нос огромного странного корабля. Ее контуры были очерчены холодными огнями. Она тоже бороздила небо, продвигаясь вперед. Пока они смотрели, из-за горы поднялись высокие языки пламени и запылали перед ней. — Тут что-то на… — начала Ивен. Но рубин разлетелся вдребезги, а цепочка, внезапно ставшая красной от жара, выпала из руки ее господина. Дымясь, она лежала у ног Ивен. При этом Повелитель Нетопырей внезапно толкнул ее и она отстранилась. — Что случилось? Он не ответил, только протянул руку. — Что? Он указал на волшебную палочку. Она подала ее. Он, подняв палочку, молча созывал своих слуг. Так он стоял долго, потом появился первый из них. Вскоре его слуги, нетопыри, роились вокруг него. Кончиком волшебной палочки он тронул одного из них, и к его ногам упал человек. — Господин! — воскликнул он, склоняя голову. — Какова твоя воля? Тот указал на Ивен. Человек поднял глаза и повернул к ней голову. — Доложись лейтенанту Квазеру, — сказала она. — Он вооружит тебя и скажет, что делать. Она посмотрела на своего повелителя. Он кивнул. Потом он начал касаться палочкой прочих, и они становились теми, кем были прежде. Над башней образовался зонт из летучих мышей, а колонна более крупных существ, казавшаяся бесконечной, двигалась мимо Ивен вниз по лестнице в центральную часть замка. Когда все прошли, Ивен повернулась лицом на восток. — Прошло столько времени, — сказала она. — Посмотри, как она приблизилась. Она почувствовала на плече руку и, обернувшись, подняла лицо. он поцеловал ее глаза и губы, а потом оттолкнул ее от себя. — Что ты хочешь делать? Он указал на люк. — Нет, — сказала она. — Я не уйду. Я останусь и буду помогать тебе. Он продолжал указывать на выход. — Ты знаешь, что там такое? — Иди, — произнес он (или, может быть, она только подумала, что произнес). Стоя в своей комнате в северо-западном крыле замка, она вспоминала об этом, неуверенная в том, что же произошло с того момента, как слово заполнило ее разум и тело. Она подошла к окну, но за ним были только звезды. Потом, каким-то образом, она поняла. И заплакала по тому миру, который они теряли. Они были настоящими, теперь он это знал. Потому что, приблизившись, они разбивались, а он всем телом ощущал вибрацию от их движения. Пока звезды говорили ему, что не за горами худшие — долгие — времена, он не требовал их совета по этому поводу. Он продолжал стягивать к себе Силу, которая воздвигла Хай-Даджен, и теперь он должен был защищать ее. Он начал чувствовать себя так, как бывало в те давние времена. На востоке, на вершине новой горы стала возникать змея. Она была огненной, и он не мог понять, каких же она размеров. В те времена, когда его еще не было, по слухам, существовали подобные Силы. Но те, кто владел ими, в конце концов окончательно расстались с жизнью, и Ключ был потерян. Он и сам искал его — как и почти все, кто имел власть. Теперь же было похоже, что там, где он потерпел неудачу, кому-то повезло… или же древняя Сила вновь зашевелилась. Он смотрел, как змея появилась полностью. Очень хорошая работа, решил он. Он смотрел, как змея поднялась в воздух и поплыла к нему. Ну, начинается, сказал он себе. Он поднял палочку и начал битву. Прежде, чем змея, дымясь и вывалив кишки, упала, прошло немало времени. Он слизнул пот, выступивший на верхней губе. Змея была сильной. Гора приближалась. Пока он сражался с насланной на него тварью, она не сбавила скорость. Теперь, решил он, мне надо быть таким, каким я был вначале. Смейдж расхаживал туда-сюда на своем посту в холле у центрального входа в Хай-Даджен. Он ходил так медленно, как только мог, чтобы не выдать пятидесяти с лишним воинам, ожидавшим его распоряжений, что ему не по себе. Вокруг него пыль оседала и снова поднималась. Каждый раз, как где-то внутри замка на пол со своего места на стене с грохотом срывалось оружие, среди его подчиненных начиналось движение. Он выглянул в окно и и быстро отвел глаза. Снаружи все загораживала гора, которая теперь была совсем рядом. Что-то постоянно громыхало, тьму разрывали неестественные крики. Перед глазами Смейджа подобно молниям проносились и исчезали видения обезглавленные рыцари, многокрылые птицы, звери с человеческими головами и еще нечто, не оставшееся в памяти. Но ни одно из них не задержалось, чтобы напасть на него. Скоро. Теперь это скоро кончится. Он знал это, потому что гора должна была приблизиться к башне, где находится его повелитель. Когда раздался треск и хруст, его сбило с ног, и он испугался, что холл обрушится на него. В стенах появились трещины, а все центральные укрепления замка, казалось, откачнулись на шаг назад. Донесся звук падающих камней и ломающихся балок. Потом, через несколько ударов сердца, он услышал высоко над головой крик. Где-то во дворе слева от него раздался заключительный треск. Потом воцарились пыль и тишина. Он поднялся и объявил своему воинству сбор. Протирая глаза от пыли, он осмотрелся. Все они лежали на полу, и ни один не шевелился. — Встать! — заорал он и потер плечо. Постояв неподвижно еще минуту, он подошел к тому, кто лежал ближе всех, и осмотрел его. Повреждений вроде бы не было. Смейдж слегка похлопал его, но тот не реагировал. Он принялся за следующего, потом потряс еще двоих. То же самое. Они едва дышали. Обнажив меч, он двинулся в сторону двора. Кашляя, Смейдж вышел на двор. Половина небесной тверди была затенена горой, которая уже не двигалась. Двор был завален руинами башни. Выступавшая вперед часть горы сломалась. Теперешняя неподвижность казалась более жуткой, чем прежний грохот и шум. Все видения исчезли. Ничто не шевелилось. Он пошел вперед. И увидел ожоги, словно тут порезвилась молния. Когда Смейдж увидел простертую на камнях фигуру, то остановился. Потом он рванулся вперед. Лезвием меча он перевернул тело. Выронив меч, он упал на колени, судорожно прижимая к груди искалеченную руку. У него вырвался один-единственный всхлип. Он услышал, что за спиной внезапно затрещали языки пламени. Его обдало жаром. Он не двинулся. Он услыхал смешок. Тогда он поднял глаза и огляделся. Никого не было видно. Опять раздался смешок — где-то справа от него. Здесь! Среди пляшущих по накренившейся стене теней. — Привет, Смейдж. Помнишь меня? Тот покосился туда и начал тереть глаза. — Но я… Я не могу увидеть тебя… — Зато я отлично тебя вижу… как ты тут сжимаешь этот кусок мяса. Смейдж осторожно выпустил руку и поднял с вымощенного плитами двора меч. Он поднялся. — Кто ты? — Иди сюда, выясни это. — Это все твоя работа? — он сделал жест свободной рукой. — Да. — Тогда я подойду. Он приблизился к силуэту и взмахнул мечом. Меч рассек только воздух, а Смейдж потерял равновесие. Восстановив его, он прицелился и снова нанес удар. Снова безрезультатно. После седьмой попытки он заплакал. — Теперь я знаю, кто ты! Выходи из теней, посмотрим, что ты за птица! — Ладно. Движение — и тот появился перед ним. На миг он показался высоченным, пугающим, величественным. Рука Смейджа замерла на эфесе меча. Эфес загорелся. Он выпустил его, и, когда меч упал между ними, его противник улыбнулся. Смейдж поднял руки, и их парализовало. Он видел лицо того, другого, сквозь свои пальцы, как сквозь кривые сучья. — Как ты и предлагал, — услышал он. — Похоже, дела мои неплохи. Лучше, чем твои. Приятно было снова увидеться, — добавил он. Смейджу захотелось плюнуть, но слюны не было, да и руки мешали. — Убийца! Зверь! — прохрипел он. — Вор, — любезно подсказал тот. — К тому же я колдун и завоеватель. — Если бы я только мог двигаться… — Сможешь. Подбери меч и постриги своему околевшему хозяину ногти на ногах… — Я не… — Отруби ему голову! Сделай это одним ударом — быстро и чисто! Как палач топором… — Никогда! Он был мне хорошим господином. Он бы добр ко мне и к моим товарищам. Я не оскверню его тело. — Он не был хорошим господином. Он был жестоким садистом. — Только со своими врагами… А они этого заслуживали. — Ну, теперь ты видишь нового господина в его владениях. Доказать ему свою лояльность ты можешь только одним — принеси голову своего прежнего хозяина. — Я этого не сделаю. — Я сказал: сделать это по своей воле — единственный способ сохранить жизнь. — Нет. — Сказано — сделано. Теперь слишком поздно спасаться. И все равно ты выполнишь мой приказ. После этого в тело Смейджа словно вселился чужой дух, и он обнаружил, что нагибается за мечом. Меч жег ему руки, но он поднял его, взял и обернулся. Изрыгая проклятия, всхлипывая, он подошел к телу, встал над ним и рывком опустил поющее лезвие вниз. Голова откатилась на несколько футов, и камни потемнели от крови. — Теперь принеси ее мне. Он поднял голову за волосы и, держа на вытянутой руке, вернулся туда, где стоял Джек. Тот принял ее и небрежно отбросил в сторону. — Благодарю, — сказал он. — Сходство вовсе неплохое. — Он поднял ее, оглядел и снова начал раскачивать. — Нет, правда. Интересно, что стало с моей прежней головой? Ладно, неважно. Ей я найду достойное применение. — Теперь убей меня, — сказал Смейдж. — Извини, но с этой неприятной задачей придется повременить. А сейчас ты можешь составить компанию останкам своего прежнего господина, присоединившись к прочим спящим… кроме двоих. Он сделал движение рукой, и Смейдж, захрапев, повалился на землю. Пока он падал, пламя исчезло. Дверь отворилась, но Ивен не повернулась к ней. После долгого молчания она услышала его голос и вздрогнула. — Ты должна была знать, — сказал он, — что рано или поздно я приду за тобой. Она не отвечала. — Ты должна вспомнить, что я обещал, — сказал он. Тогда она обернулась, и Джек увидел, что она плачет. — Так ты явился украсть меня? — спросила она. — Нет, — сказал он. — Я пришел, чтобы сделать тебя хозяйкой Шедоу-Гард, моей леди. — Украсть меня, — повторила она. — Только так ты теперь можешь завладеть мной, а ведь это твой любимый способ получать желаемое. Только любовь ведь не украдешь, Джек. — Обойдусь без нее — сказал он. — Что теперь? В Шедоу-Гард? — Зачем? Шедоу-Гард здесь. Это и есть Шедоу-Гард, и я не собираюсь покидать его. — Я знала это, — очень тихо произнесла она. — …И ты собираешься править тут, в замке моего господина. Что ты сделал с ним? — прошептала она. — Что он сделал со мной? Что я обещал ему? — сказал он. — …А с остальными? — Они все спят — кроме тех, кто может немного развлечь тебя. Идем-ка к окну. Она неловко подошла. Он откинул штору и указал вниз. Наклонив голову, она проследила за его жестом. Внизу по равнине, которой, насколько ей было известно, раньше не было, шел Квазер. Серый двуполый гигант шел сложным шагом Адского Танца. Несколько раз он падал, вставал и шел дальше. — Что он делает? — спросила Ивен. — Повторяет тот подвиг, который принес ему Пламень Ада. Он будет повторять момент своего триумфа до тех пор, пока у него не лопнет сердце или один из крупных сосудов, и он не умрет. — Какой ужас! Останови его! — Нет. Это не ужаснее того, что он сделал со мной. Ты обвинила меня в том, что я не держу слова. Что ж, я обещал отомстить ему — и ты можешь посмотреть, как я не замедлил исполнить свое обещание. — Какой Силой ты владеешь? — спросила она. — Ты не был способен на такое, когда… когда мы были неплохо знакомы. — Я владею Потерянным Ключом, — сказал он. — Кольвинией. — Как ты заполучил его? — Неважно. Важно то, что я могу заставить горы ходить, а землю разверзнуться, я могу обрушить на нее молнии и призвать себе на помощь духов. Я могу уничтожить любого властителя там, откуда он черпает свою Силу. Я стал самым могущественным существом в царстве тьмы. — Да, — сказала она. — Ты сам назвал себя: существо. Ты им и стал. Он обернулся, чтобы увидеть, как Квазер снова упал, а потом позволил шторе опуститься. Она отвернулась. — Если ты смилостивишься над всеми, кто здесь остался, — сказала она наконец, — я сделаю все, что ты скажешь. Он протянул свободную руку, словно собираясь коснуться ее. Вверху за окном раздался визг, и он замер. Улыбаясь, Джек опустил руку. Слишком хорошо, решил он. — Я узнал, что жалость — такая штука, которой всегда не хватает каждый раз, когда она больше всего нужна, — сказал он. — А когда человек в таком положении, что может жалеть сам, те, кто раньше отказал ему в жалости, рыдая, умоляют о ней. — Я уверена, — сказала она, — что здесь никто не просил пощады. Она снова повернулась к нему и вгляделась в его лицо. — Нет, — сказала она. — Никакой жалости. Когда-то в тебе были зачатки приятного обхождения. Теперь это ушло. — Как ты думаешь, что я собираюсь делать с Потерянным Ключом, когда отплачу своим врагам? — Не знаю. — Я намерен объединить царство тьмы в единое владение… — …И, конечно, править в нем? — Конечно, поскольку никто другой этого не сможет. Я установлю эру мира и законности. — Твоей законности. Твоего мира. — Ты все еще не понимаешь. Я долго размышлял над этим, и, хотя я действительно сперва разыскивал Ключ, чтобы отомстить, я передумал. Я использую Ключ, чтобы положить конец вечным стычкам между лордами и обеспечить благоденствие государства, которое возникнет. — Тогда начни отсюда. Обеспечь хоть какое-нибудь процветание в Хай-Даджен… или в Шедоу-Гард, если тебе нравится так его называть. — Верно и то, что я уже по большей части отплатил за то, как со мной обращались, — задумчиво сказал он, — но все же… — Начни с милосердия — и в один прекрасный день твое имя будет в почете, — сказала она. — Забудь о нем — и можешь быть уверен, тебя проклянут. — Может быть… — начал он, отступив на шаг. При этом Ивен смерила его взглядом с головы до ног. — Что ты сжимаешь под плащом? Ты, верно, принес это, чтобы показать мне? — Так, ничего, — сказал он. — Я передумал, да и дела у меня еще есть. Я вернусь к тебе позже. Но она быстро шагнула вперед и, когда Джек повернулся, вцепилась ему в плащ. Потом раздался вопль, и Джек выронил голову, чтобы успеть схватить Ивен за запястья. В правой руке у нее был кинжал. — Мерзавец! — крикнула она, укусив его за щеку. Он собрал волю, пробормотал одно-единственное слово, и кинжал превратился в темный цветок. Он поднес этот цветок к лицу Ивен. Она плевалась, ругалась и пинала его, но через несколько минут стала слабеть, а глаза начали закрываться. Когда она почти спала, Джек отнес ее на постель. Ивен продолжала сопротивляться, но ослабла окончательно. — Говорят, эта Сила может уничтожить все хорошее, что есть в человеке, — выдохнула она. — Но тебе нечего бояться. Даже не будь этой силы, ты был бы тем, что ты есть — злом. — Пусть будет так, — сказал он. — Но все, о чем я тебе рассказал, произойдет, и ты будешь тому свидетельницей. Со мной вместе. — Нет. Я покончу с собой задолго до этого. — Я подчиню себе твою душу, и ты полюбишь меня. — Тебе никогда не получить ни моей души, ни тела. — Сейчас ты уснешь, — сказал он. — А когда проснешься, мы уже будем мужем и женой. Бороться ты будешь недолго и сдашься мне… сперва твое тело, а потом и душа. Ты будешь лежать смирно, а потом я приду к тебе, и еще. После этого ты придешь ко мне. Спи, пока я не принесу Смейджа в жертву на алтаре его хозяина и не очищу это место от всего, что мне неприятно. Спи крепко. Тебя ждет новая жизнь. И он вышел, и все стало так, как он сказал.
10
После того, как Джек решил все проблемы, связанные с границами, то есть завоевал владения Дрекхейма, присоединив их к своим, и отправил барона в Навозные Ямы, он обратил свое внимание на крепость Холдинг — дом Неумирающего Полковника. Крепость оправдывала свое название недолго, и Джек вошел в нее. Они с Полковником сидели в библиотеке, потягивая легкое вино, и долго предавались воспоминаниям. Наконец, Джек коснулся деликатного вопроса союза Ивен с тем, кто заполучил Пламень Ада. Полковник, на чьих впалых щеках виднелись подобные лунным серпам шрамы, и чьи волосы поднимались вверх от переносицы подобно рыжему смерчу, покачал головой над кубком. Он опустил блеклые глаза. — Ах, ты понял это так, — сказал он. — Так это понял не я, — сказал Джек. — Я воспринял это как задачу, которую вы поставили передо мной — передо мной, а не перед любым желающим. — Ты должен признать, что потерпел неудачу. Поэтому, когда объявился другой поклонник и принес назначенную цену, я… — Вы могли бы дождаться моего возвращения. Я украл бы камень и принес вам. — Возвращение занимает много времени. Мне не хотелось, чтобы моя дочь осталась старой девой. Джек покачал головой. — Признаюсь, я весьма доволен тем, как повернулось дело, — продолжал Полковник. — Теперь ты — могущественный лорд, и моя дочь принадлежит тебе. Я думаю, она счастлива. Я владею Пламенем Ада, и это меня радует. Мы все получили то, чего желали… — Нет, — сказал Джек. — Я могу предположить, что вы никогда не желали видеть меня своим зятем и сговорились с бывшим хозяином Хай-Даджен, как все это получше устроить. — Я… Джек поднял руку. — Я сказал только, что могу предполагать это. Конечно, я так не считаю. Я точно не знаю, что вы там решили… или не решили… кроме вопроса об Ивен и Пламени Ада… И знать не хочу. Я знаю только то, что произошло. Учитывая это, а также то, что вы теперь мой родственник, я позволю вам самому покончить с собой, не отдавая свою жизнь в чужие руки. Полковник вздохнул и улыбнулся, еще раз подняв глаза. — Спасибо, — сказал он. — Очень мило с твоей стороны. Я беспокоился, что ты мне в этом откажешь. Они попивали вино. — Придется мне сменить имя, — сказал Полковник. — Еще рано, — сказал Джек. — Верно. У тебя есть какие-нибудь предложения? — Нет. Хотя пока вас не было, я думал над этим. — Благодарю, — сказал полковник. — Знаешь, раньше мне не приходилось проделывать ничего подобного… Тебе не трудно будет предложить мне что-нибудь особенное? Джек немного помолчал. — Яд — хорошая штука, — сказал он. — Но эффект для каждого индивидуума настолько настолько различается, что иногда это может оказаться болезненным. По-моему, вы добьетесь своего наилучшим образом, если усядетесь в горячую ванну и вскроете под водой вены. Это почти не больно. Как будто вы заснули. — Тогда, пожалуй, я так и сделаю. — В таком случае, — сказал Джек, — позвольте мне дать вам кое-какие инструкции. Он наклонился вперед, взял Полковника за запястье и повернул внутренней стороной вверх. И вытащил кинжал. — Ну, — начал он почти забытым преподавательским тоном, — не повторите ошибки, которые совершают практически все, кто в этом деле не профессионал. Используя лезвие, как указку, он продолжал: — Не режьте поперек, вот так. Свертывание крови, которое последует, может оказаться достаточным для повторного пробуждения. Тогда придется повторить процесс. Так может произойти несколько раз. Несомненно, в результате вы будете до некоторой степени травмированы — как если бы вам сделали недостаточную анестезию. Надо резать вдоль, по синим линиям, вот так, — сказал Джек, демонстрируя. — Если сосуды окажутся слишком скользкими, вам следует приподнять их кончиком своего орудия и быстро повернуть лезвие. Не надо просто тянуть вверх. Это неприятно. Помните об этом. Это поворот — важный момент, если вам не удалось добиться своего при продольном разрезе. Вопросы есть? — Мне кажется, нет. — Тогда повторите. — Дайте мне кинжал. — Держите. Джек слушал, кивая, делая только мелкие замечания. — Очень хорошо. По-моему, вы поняли, — сказал он, принимая кинжал обратно и снова пряча его в ножны. — Хочешь еще вина. — Да. У вас отличные погреба. — Спасибо. Высоко над миром тьмы, под темной сферой, сидя на спине ленивого дракона, которому он скормил Бенони и Блайта, Джек смеялся на ветру, и сильфиды смеялись вместе с ним, потому что теперь он был их господином. Время шло, а Джек продолжал решать споры о границах заново, в свою пользу. А споров становилось все меньше и меньше. Он принялся, сперва лениво, а потом с возрастающим пылом, применять полученные на дневной стороне знания для составления толстого тома под названием «Оценка культуры царства тьмы». Поскольку теперь его власть простиралась почти до на все царство ночи, он принялся собирать ко двору тех, чьи знания или особое искусство могли дать для его работы историческую, техническую или художественную информацию. Он больше, чем наполовину, решил после завершения опубликовать свой труд на дневной стороне. Теперь, когда он установил контрабандные пути и заполучил агентов в главных городах на дневной стороне, он знал, что это выполнимо. Он сидел в Хай-Даджен, ныне Шедоу-Гард, в просторном замке с высокими, освещенными факелами залами, подземными лабиринтами и множеством башен. Здесь было полным-полно прекрасных вещей, вещей бесценных. В коридорах плясали тени, а грани бесчисленных драгоценных камней сверкали ярче, чем солнце над другой половиной мира. Он сидел в библиотека Шедоу-Гард, держа череп его прежнего хозяина на столе вместо пепельницы, и работал над своим исследованием. Он закурил (одна из причин, по которым он установил тайную торговлю с дневной стороной), поскольку находил этот обычай как приятным, так и трудным для отвыкания. Он глядел, как дым смешивается с дымом свечи и поднимается к потолку, когда Стэб — летучая мышь, превращенная обратно в человека, теперь его личный слуга — вошел и остановился на предписанном расстоянии. — Господин, — сказал он. — Да? — Тут у ворот старуха, она хочет говорить с вами. — Я не посылал ни за какими старухами. Скажи ей, чтобы убиралась. — Она говорит, вы ее приглашали. Джек поглядел на низенького черного человечка. Длинные руки и ноги и пучки белых волос, похожие на антенны над слишком длинным лицом делали его похожим на насекомое. ОН уважал его, потому что тот был удачливым вором, попытавшимся ограбить прежнего хозяина замка. — Приглашал? Ничего такого я не припоминаю. Что ты о ней думаешь? — Похоже, она с запада, сэр. — Странно… — …и она требует, чтобы я сказал вам, что это Рози. — Розали! — сказал Джек, убирая ноги со стола и выпрямляясь. Приведи ее ко мне, Стэб. — Да, сэр, — ответил Стэб, отшатываясь — как всегда, когда его господин неожиданно выказывал эмоции. Джек стряхнул пепел в череп и посмотрел на него. — Интересно, твой дух тут еще не бродит? — пробормотал он. — У меня такое чувство, что это возможно. Он нацарапал записку, припомнив, что надо приговорить к смерти несколько групп людей с жестокими головными болями и отправить их патрулировать Навозные Ямы. Джек вытряхнул пепел из черепа и расправлял на столе бумаги, когда Стэб ввел ее в комнату. Поднимаясь, он посмотрел на Стэба, который быстро вышел. — Розали! — сказал Джек, идя ей навстречу. — Как хорошо… Она не ответила на его улыбку, но когда он предложил ей кресло, уселась, кивнув. О боги! Она и впрямь похожа на сломанную метлу, снова решил он, вспоминая. И все же… Это Розали. — Так ты все-таки пришла в Шедоу-Гард, — сказал он. — За то, что ты тогда дала мне хлеба, тебя всегда будут хорошо кормить. За то, что ты дала мне добрый совет, ты всегда будешь в чести. У тебя будут слуги, которые станут купать и одевать тебя и прислуживать тебе. Если ты желаешь овладеть Искусством, я приобщу тебя к высшей магии. Чего бы ты ни пожелала, тебе нужно только попросить. Мы устроим в твою честь праздник… как только подготовим его! Добро пожаловать в Шедоу-Гард! — Я ведь пришла не насовсем, Джек, только поглядеть на тебя еще разок… на тебе новые серые одежды и отличный черный плащ! А сапоги какие блестящие!.. Ты в таких никогда не ходил… Он улыбнулся. — Я не хожу так много, как когда-то. — …и не крался тайком. Теперь в этом нет нужды, — сказала она. Значит, ты обзавелся собственным королевством, Джек… самым большим изо всех, что я знаю. Теперь ты счастлив? — Вполне. — Значит, ты ходил к машине, которая думает, как человек, только быстрее. К той машине, от которой я тебя предостерегала. Верно? — Да. — И она дала тебе Потерянный Ключ, Кольвинию. Он отвернулся, схватил сигарету, закурил, затянулся. Потом он поглядел на Розали и кивнул. — Но я это не обсуждаю, — сказал он. — Конечно, конечно, — сказала Розали, кивая. — Ведь с ним ты получил Силу, которая подходит твоим амбициям, а ведь когда-то ты даже не знал, что они у тебя есть. — Должен сказать, ты права. — Расскажи мне о той женщине. — О какой женщине? — В холле я прошла мимо красивой женщины в зеленом — под цвет ее глаз. Я поздоровалась, и губы ее улыбнулись мне, но ее дух следовал за ней в слезах. Что ты с ней сделал, Джек? — Я поступил так, как было необходимо. — Ты что-то украл у нее… не знаю, что… так же, как воровал у всех, кого знал. Есть ли кто-нибудь, кого ты считаешь своим другом, Джек? У кого ты ничего не взял, а наоборот, дал ему что-то? — Да, — ответил он. — Он сидит на вершине горы Паникус — наполовину камень, наполовину не знаю что. Я много раз приходил к нему и всеми силами пробовал освободить. Но даже от Ключа не было толку. — Утренняя Звезда… — сказала она. — Да, твоему единственному другу только и быть богом проклятым. — Рози, за что ты наказываешь меня? Я предлагаю любым доступным способом вознаградить тебя за страдания, которые ты приняла из-за меня… и не только из-за меня. — Женщина, которую я видела… Сумел бы ты сделать ее такой, какой она была до того, как ты обокрал ее… если бы я больше всего хотела этого? — Может быть, — сказал Джек, — ноя сомневаюсь, чтобы ты попросила об этом. Даже соберись я это сделать, она, я чувствую, стала бы безнадежно безумной. — Почему? — Потому что ей пришлось многое увидеть и перечувствовать. — И в ответе за это ты? — Да, но это и так надвигалось. — Ни одна человеческая душа не заслуживает того страдания, которое я заметила, проходя мимо нее. — Душа! Не говори мне о душе! И о страданиях! Ты что, намекаешь, что у тебя душа есть, а у меня нет? Или ты думаешь, мне незнакомы страдания?.. Хотя ты права в том, что касается ее. Она отчасти человек. — Но у тебя есть душа, Джек. Я принесла ее собой. — Боюсь, я не понимаю. — Ты оставил свою душу в Навозных Ямах Глива, как все люди тьмы. Я вытащила ее оттуда — на случай, если в один прекрасный день она тебе понадобится. — Ты, конечно, шутишь. — Нет. — А как ты узнала, что это — моя душа? — Я — Ведунья. — Дай мне поглядеть на нее. Он потушил сигарету, а Рози тем временем развернула свой узелок с вещами. Она извлекла небольшой предмет, завернутый в чистую полотняную тряпку. Она развернула его и положила на ладонь. — Вот эта штука? — спросил он и захохотал. Это был серый шарик, который на свету стал делаться ярче, просветляться, сперва став блестящим и похожим на зеркало, а потом прозрачным. Поверхность заиграла разными красками. — Это же просто камень, — сказал он. — Он был с тобой в момент твоего пробуждения в Ямах, правда? — Да. Он был у меня в руке. — Почему ты бросил его там? — А почему бы и нет? — А разве он не оказывался с тобой каждый раз, как ты приходил в себя в Гливе? — Ну и что? — В нем заключена твоя душа. Может быть, когда-нибудь ты захочешь соединиться с ней. — Это — душа? И что же прикажешь с ней делать? Таскать в кармане? — Можно придумать что-нибудь получше, чем бросать ее на куче падали. — Дай мне ее! Он выхватил камень у нее из рук и уставился на него. — Никакая это не душа, — сказал он. — Это крайне непривлекательный кусок камня, или, может, яйцо гигантского навозного жука. Он и воняет, как сами Ямы! Он занес руку, чтобы отшвырнуть от себя камень. — Не надо! — крикнула она. — Это… Это твоя душа… — тихо закончила она, когда камень ударился о стену и разбился вдребезги. Джек быстро отвернулся. — Я могла бы знать, — сказала она. — Никому из вас душа по-настоящему не нужна. А тебе — меньше всех. Ты должен признать, что это было нечто большее, чем просто камень или яйцо, иначе бы ты так не взбесился. Ты почувствовал в нем что-то, касающееся лично тебя и опасное. Разве не так? Но Джек не отвечал. Он медленно повернул голову в сторону разбившегося камня и уставился на него. Он проследила за его взглядом. Из камня выплыло туманное облачко. Оно росло вверх и вширь. Вот оно воспарило над ними. Облачко перестало двигаться и начало окрашиваться. Они смотрели, как появляются контуры фигуры, напоминающей человеческую. Когда Джек увидел, что проступающие черты — его собственные, у него захватило дух, и он продолжал таращить глаза. Облако становилось все плотнее и плотнее на вид, пока не начало казаться, что он разглядывает своего близнеца. — Дух, кто ты? — спросил Джек с пересохшим горлом. — Джек, — слабо ответил тот. — Джек — это я, — сказал он. — Кто ты? — Джек, — повторил тот. Оборачиваясь к Розали, Джек проворчал: — Это ты притащила его сюда! Ты его и выгоняй! — Не могу, — ответила она, пригладив волосы и уронив руки на колени. Она начала ломать пальцы. — Он твой. — Почему ты не оставила эту проклятую штуку там, где нашла ее? Там, где ей и место? — Там ей не место, — сказала она. — Она твоя. Отворачиваясь, он проговорил: — Эй, ты! Ты — душа? — Погоди минутку, а? — ответила она. — Я кое-что соображу… Да. Я подумала, и теперь я считаю, что я — душа. — Чья? — Твоя, Джек. — Отлично, — сказал Джек. — Ты и правда отплатила мне, Рози, а? Что, черт побери, мне делать с душой? А как ты избавилась от своей? Если я умру, пока эта штука на свободе, для меня не будет возврата. — Не знаю, что тебе сказать, — ответила она. — Я думала, так будет правильно… когда пошла искать ее и нашла… принести и отдать тебе. — Зачем? — Давным-давно я сказала тебе, что барон был всегда добрым к старушке Рози. Когда ты захватил его земли, то повесил его за ноги и вспорол ему живот. Я плакала, Джек. Он — единственный, кто за долгое время по-хорошему ко мне отнесся. Мне много приходилось слышать о твоих делах, и ничего хорошего я не слыхала. Теперь, с Силой, которой ты владеешь, так легко многим причинить зло — что ты и делал. Я подумала, что если я отыщу твою душу, она, может быть, смягчит твои намерения. — Розали, Розали, — вздохнул он. — Ты дура. Ты хотела, как лучше, но ты дура. — Может, и так, — ответила она, стискивая руки и оглядываясь на душу, которая стояла, уставившись на них. — Душа, — сказал Джек, снова поворачиваясь к ней, — ты слышала. У тебя есть предложения? — У меня только одно желание. — Какое? — Соединиться с тобой. Пройти с тобой по жизни, заботясь о тебе, предостерегая тебя и… — Погоди минутку, — сказал Джек, понимая руку, — Я что для этого нужно? — Твое согласие. Джек улыбнулся. Он закурил сигарету. Руки у него слегка дрожали. — А если бы я не дал своего согласия? — спросил он. — Тогда я стала бы бродячей. Я бы следовала за тобой в отдалении, не в состоянии поддержать тебя и предостеречь, не в состоянии… — Класс, — сказал Джек. — Я не даю своего согласия. Пошла вон. — Ты шутишь? Так с душой не обращаются, это черт знает что. Я тут жду, чтоб поддержать и предостеречь тебя, а ты вышвыриваешь меня пинком. Что скажут люди? «Вон идет душа Джека», — скажут они, — «бедняжка. Общается с духами и низшими астралами, и…» — Выметайся, — сказал Джек. — Обойдусь без тебя. Знаю я вас, подлых ублюдков. Вы заставляете людей меняться. Ну, а я меняться не желаю. Я и так счастлив. Ты — ошибка. Убирайся обратно в Навозные Ямы. Иди, куда хочешь. Делай, что хочешь, только уйди. Оставь меня в покое. — Ты это серьезно? — Точно. Я даже дам тебе новенький красивенький кристалл, если тебе больше нравится сидеть скрючившись в чем-то подобном. — Для этого слишком поздно. — Ну, это лучшее, что я могу тебе предложить. — Если ты не хочешь соединиться со мной, пожалуйста, не вышвыривай меня, как какую-то бродяжку. Позволь мне остаться здесь, с тобой. Может, так я смогу давать тебе советы, поддерживать и предостерегать тебя, а тогда ты поймешь, как я нужна, и переменишь свое решение. — Катись! — А что, если я откажусь уйти? Что, если я просто усилю свое внимание к тебе? — Тогда, — сказал Джек, — я напущу на тебя самые разрушительные силы Ключа, те, которые я никогда не использовал раньше. — Ты уничтожишь собственную душу? — Ты права, черт побери! Убирайся! Тогда она повернулась к стене и исчезла. — С душами покончено, хватит, — сказал Джек, — Теперь мы подберем тебе покои и несколько слуг. Мы проследим, чтобы подготовились к торжеству. — Нет, — сказала Розали. — Я хотела увидеться с тобой. Что ж, вот мы и повидались. Я хотела принести тебе кое-что — и принесла. Вот и все. Она стала подниматься. — Погоди, — сказал Джек. — Куда ты пойдешь? — Подошло к концу мое время быть Ведуньей Западных Границ, и я возвращаюсь на дорогу у моря, в таверну «У Огненного Пестика». Может случиться так, что я найду какую-нибудь молодую шлюшку, из таверны, чтобы она ухаживала за мной, когда я ослабею. За это я обучу ее Искусству. — По крайней мере, побудь здесь хоть немного, — сказал он. — Отдохни, поешь… — Нет. Мне не нравится здесь. — Если ты твердо решила уйти, позволь, я облегчу тебе путь. Тебе не придется идти пешком. — Нет. Спасибо. — Могу я дать тебе денег? — Меня могут ограбить. — Я пошлю эскорт. — Я хочу путешествовать одна. — Хорошо, Розали. Он смотрел, как она уходит, а потом подошел к очагу и развел маленький огонь. Джек работал над своей «Оценкой», становясь в ней все более выдающейся фигурой, и укрепил свое правление в царстве ночи. За это время он повидал свои бесчисленные изваяния, воздвигнутые по стране. Он слышал, как его имя слетало с уст менестрелей и поэтов, но не в старых стихах и песнях о его мошенничествах, а в рассказах о его мудрости и могуществе. Четырежды он позволял Повелителю Нетопырей, Смейджу, Квазеру, барону и Блайту пройти часть пути из Глива, и только потом отправлял их назад каждый раз другим способом. Он решил исчерпать до конца их жизни и таким образом избавиться от них навсегда. На празднестве, устроенном Джеком в честь возвращения ее отца, Ивен плясала и смеялась. Его запястья были еще перевязаны, но он произнес тост и пил вино из погребов, которые некогда были его собственными. — За леди и лорда из Шедоу-Гард, — сказал он. — Пусть их власть и счастье длятся, пока над нами царствует ночь. Потом Полковник, Ни Разу Не Принявший Смерть От Чужой Руки, большими глотками выпил вино, и они веселились. На вершине Паникуса Утренняя Звезда — часть Паникуса — смотрел на восток. Душа блуждала в ночи, изрыгая проклятия. Жирный дракон, пыхтя, нес овцу в свое далекое логово. В сумеречном болоте зверю снилась кровь. Потом настали времена, когда Договор и впрямь был нарушен. Делалось все холоднее, и Джек сверился с Книгой. Он отыскал имена тех, чья очередь была нести службу. Он ждал и смотрел, но ничего не происходило. Наконец он собрал у себя этих лордов тьмы. — Друзья, — сказал он, — пришла ваша очередь нести службу у Щита. Почему вы не делаете этого? — Сэр, — сказал лорд Элридж, — мы пришли к соглашению отказаться от этой обязанности. — Почему? — Вы сами нарушили Договор, — сказал тот. — Если нельзя, чтобы все в мире шло по-прежнему, то мы хотели бы оставить все так, как есть. Так сказать, на пути к разрушению. Убейте нас, если желаете, но мы и пальцем не пошевельнем. Если вы такой могущественный волшебник, отправляйтесь к Щиту сами. Убейте нас и смотрите, как мы будем умирать. — Ты слышал, о чем он просит, — сказал Джек слуге. — Проследи, чтобы их убили. — Но, сэр… — Делай, что я сказал. — Есть. — Я сам посмотрю за Щитом. И их схватили и убили. А Джек двинулся вперед. На вершине ближайшей горы он обдумал эту проблему. Он ощущал холод и раскрыл свое существо. И обнаружил в Щите трещину. Потом Джек принялся набрасывать чертежи. Он выцарапывал их кончиком меча на камне. Пока он делал это, они тлели, а потом засветились. Джек произнес слова Ключа. — Э-э… здравствуй. Он резко обернулся, занеся меч. — Это только я. Он опустил меч. Налетали порывы ледяного ветра. — Что тебе нужно, душа? — Мне было интересно, что ты делаешь. Знаешь, я иногда следую за тобой. — Знаю. Мне это не нравится. Джек снова вернулся к чертежу. — Ты объяснишь мне? — Ладно, — сказал он. — Если ты после этого перестанешь тут ныть… — Я — пропащая душа. Мы как раз всегда ноем. — Тогда скули, сколько угодно. Мне все равно. — Но то, чем ты занят… — Я собираюсь отремонтировать Щит. Мне кажется, я разработал заклинания… — Не думаю, что ты сумеешь. — Что ты хочешь этим сказать? — Я не думаю, что это можно сделать в одиночку. — Посмотрим. — Я могу помочь? — Нет! Он вернулся к чертежу, еще поработал над ним мечом и продолжил заклинания. Мимо проносились ветры, а огни начали струиться. — Теперь я должен идти, — сказал Джек. — Держись от меня подальше, душа. — Ладно. Я просто хочу соединиться с тобой. — Может быть, когда-нибудь, когда мне станет скучно жить. Но не сейчас. — Ты хочешь сказать, есть надежда? — Возможно. Как бы то ни было — не сейчас. Потом Джек распрямился и рассмотрел дело рук своих. — Что, не выходит? — Заткнись. — Не получилось. — Заткнись. — Ты хочешь со мной соединиться? — Нет! — Может, я могла бы помочь. — Попробуй — в аду. — Я только спросила… — Оставь меня в покое. — А что ты теперь будешь делать? — Уйди! Он поднял руки и швырнул в нее Силу. Не получилось. — Я не могу, — сказал он. — Я знала это. А знаешь ты теперь, что делать? — Я думаю. — Я знаю, что делать. — Что? — Сходи к своему другу, Утренней Звезде, он много чего знает. Думаю, он мог бы дать тебе совет. Джек опустил голову и уставился на тлеющий чертеж. Ветер был холодным. — Может быть, ты права, — сказал он. — Я уверена в этом. Джек закутался в плащ. — Пойду, прогуляюсь по тени, — сказал он. И он шел среди теней, пока не достиг нужного места. Там он начал взбираться наверх. Достигнув вершины, он подошел к Утренней Звезде и сказал: — Я здесь. — Я знаю. — И ты знаешь, чего я хочу? — Да. — А получится это? — Это не так уж невозможно. — Что я должен делать? — Это будет нелегко. — Так я и думал. Расскажи. Утренняя Звезда слегка подвинул свое огромное тело. А потом рассказал. — Не знаю, сумею ли я, — сказал Джек. — Кто-то должен. — Ты больше никого не знаешь, с кем я мог бы встретиться? — Нет. — Можешь ты предсказать мне успех или провал? — Нет. Когда-то я говорил тебе про тени. — Припоминаю. На горе воцарилась тишина. — До свидания, Утренняя Звезда, — сказал Джек. — Спасибо. — Прощай, Джек. Повернувшись, Джек ушел в тень. Он вошел в огромный шурф, который вел к сердцу планеты. Местами на стенах тоннеля виднелись пятна света. Там он входил в тень и за короткое время продвигался на большие расстояния. Там, где тьма была абсолютной, он шел, как ходят все прочие. Кое-где попадались странно обставленные боковые галереи и темные дверные проемы. Джек не задерживался, чтобы их исследовать. Иногда, не часто до него доносился топот быстро бегущих когтистых лап и стук копыт. Один раз он прошел мимо открытой топки, в которой горели кости. Дважды он слышал крики, словно женщина мучилась от боли. Он не остановился, но вытащил меч из ножен. Джек миновал галерею, где на паутине толщиной с веревку сидел огромный паук. Паук зашевелился. Джек бросился бежать. Паук не стал гнаться за ним, но через какое-то время далеко позади Джек услышал смешок. Когда он остановился передохнуть, то увидел, что стены там были сырыми, в корке плесени. До него донесся звук, напоминающий шум реки вдалеке. Крошечные похожие на крабов существа разбегались от него, цепляясь за стены. Продолжая свой путь, Джек неожиданно натыкался на расселины и ямы, откуда поднимались едкие испарения. Иногда оттуда вырывались языки пламени. Только много времени спустя он подошел к мосту шириной всего в руку. Джек взглянул на бездну, через которую был переброшен мост, но кроме черноты ничего не увидел. Он подумал и, осторожно балансируя, не торопясь пошел вперед. Когда его нога коснулась противоположного берега, он вздохнул, но оглядываться не стал. Теперь стены тоннеля расступились и исчезли, а потолок стал таким высоким, что не был виден. Вокруг него двигались темные массы разной плотности, и, хотя Джек в любой момент мог создать огонь, чтобы осветить дорогу, он боялся сделать это. Огонь мог бы привлечь то, что двигалось мимо, что бы это ни было. Можно было создать и яркий свет, но только ненадолго — он исчез бы в тот момент, когда Джек вошел бы в мир созданных им теней, и он опять остался бы в темноте. Одно время Джек боялся, что забрел в огромную пещеру и там сбился с пути, но перед ним появилась белая полоска. Он стал смотреть на нее и продолжил свой путь. Когда много позже он приблизился к ней, то увидел, что это был большой черный водоем, над которым, как рыбья чешуя блестели огни. Это отражался слабый свет, который источала плесень, сплошь покрывавшая стены и потолок пещеры. Когда Джек обходил вокруг бассейна, направляясь туда, где на другом берегу тьма была гуще, в воде раздался плеск. Джек обернулся, и в его руке уже был меч. Теперь, когда его обнаружили, он произнес несколько слов — и над бассейном вспыхнул свет. В его сторону по воле стремительно двигалась рябь, словно под поверхностью двигалось что-то очень крупное. Потом по обеим сторонам выросли черные когтистые щупальца, с которых капало, и потянулись к Джеку. Он прищурился против созданного им же света и занес меч, готовясь нанести удар обеими руками. Джек произнес самое короткое из известных ему заклинаний, чтобы исполниться меткости и силы. Потом, как только ближайшее щупальце оказалось в пределах досягаемости удара, он размахнулся и перерубил его. Оно упало возле его левой ноги и, все еще извиваясь, ударило Джека и сбило с ног. Но он счел, что ему повезло. Потому что когда он упал, второе щупальце рассекло воздух там, где минуту назад находились его голова и плечи. Потом над водой с шумом появилась круглая голова около трех футов в диаметре, с пустыми глазами, увенчанная массой извивающихся отростков толщиной с большой палец Джека. В нижней части головы появилось большое отверстие, и существо двинулось к Джеку. Он, не вставая, взмахнул мечом и, сжав его обеими руками, направил прямо на этого зверя. При этом он повторял слова Ключа так быстро, как только мог их выговорить. Лезвие меча засветилось, раздался звук, напоминающий фырканье, и с кончика меча заструился огненный поток. Джек медленно описывал мечом круг. Скоро он почуял запах горелого мяса. Но существо продолжало приближаться, пока Джек не увидел множество белых зубов. Неповрежденное щупальце и обрубок второго дико извивались, нанося удары в опасной близости. Зверь издавал шипящие звуки и плевался. В этот момент Джек поднял меч так, чтобы пламя попало на извивающиеся отростки на голове. Издав звук, очень похожий на всхлип, существо кинулось обратно в воду. Джека окатило волной, которую подняла эта туша. Но прежде чем та обрушилась на него, а чудовище исчезло в глубине, Джек увидал спину зверя и содрогнулся — но не от холодной воды. Потом он поднялся, окунул меч в воду и повторил заклинание, чтобы в тысячу раз усилить мощь, вложенную в оружие. При этом меч в его руках завибрировал так, что Джек с трудом его удерживал. Но он пересилил себя и стоял так, в сиянии света, а перед ним лежало замершее щупальце. Чем больше пугала его набранная им сила, тем дольше, казалось ему, он там стоял. Внезапно по всему телу выступил пот, одев его словно еще одна теплая одежда. Потом с шипением, почти визгом, всколыхнув воду в центре водоема, наполовину вынырнул зверь. Когда он снова исчез под водой, Джек не пошевелился. Он продолжал держать меч, пока вода не закипела. Зверь больше не появлялся. Джек не ел, пока не обошел вокруг водоема и не попал в дальний туннель. Он знал, что не осмелится уснуть. Подкрепив свои силы наркотиком, Джек пошел дальше. Добравшись до места, где горели огни, Джек был атакован двумя косматыми человеко-зверями. Но он отступил в тень и дразнил их, пока они пытались добраться до него. Однако, не желая тратить время на пытки и убийство, он отказался от этого удовольствия и заставил тени перенести его как можно дальше. Освещенное огнями место осталось позади, а чуть позже, на его дальнем краю, Джек понял, что приближается к своей цели. Там он приготовился миновать следующее опасное место, через которое должен был пройти. Шел он долго, а потом начал различать запахи, напомнившие ему Навозные Ямы Глива и нечто, еще более грязное. Он знал, что вскоре опять сможет видеть, хотя света не будет, а значит, не будет и теней, в которых он мог бы исчезнуть. Джек повторил все необходимое. Запахи усиливались, и под конец Джеку пришлось бороться со своим желудком, чтобы заставить его удержать то, что он съел. Потом он постепенно стал видеть — не так, как всегда. Он увидел сырой скалистый ландшафт, над которым, казалось, была разлита скорбь. Место было тихим, в воздухе между скал медленно клубился туман, над неподвижной водой в лужах висели слабые испарения, а невысоко над головой они соединялись с туманом и запахами, чтобы время от времени проливаться дождем, перераспределяя по земле грязь. Кроме этого, ничего не было видно, а озноб пробирал до костей. Джек шел так быстро, как только смел. Не успел он отойти далеко, как слева от себя уловил еле заметное движение. Он увидел, как из одной из обычно неподвижных луж выпрыгнуло крошечное темное создание, покрытое лохматой шерстью. Оно у селось и не мигая уставилось на Джека. Обнажив меч, Джек легонько тронул существо кончиком лезвия и быстро отступил на шаг, ожидая, что же произойдет. Существо начало преображаться, а воздух словно взорвался. Теперь оно возвышалось над Джеком на черных кривых ногах. Лица у него не было. Оно казалось плоским и было словно нарисовано чернейшими чернилами. То, на что оно опиралось, не было ступнями ног. Дергая хвостом, оно заговорило. — Назови свое имя, идущий по дороге, — раздался голос, звучавший подобно серебряным колокольчикам Крелла. — Никто не услышит моего имени, пока не назовется сам, — сказал Джек. Рогатый силуэт испустил тихий смешок. Потом существо сказало: — Ну-ну! Мне не терпится услышать твое имя. — Ну, ладно, — сказал Джек и назвался. Существо упало перед ним на колени. — Господин, — сказало оно. — Да, — ответил Джек. — Меня зовут именно так. Теперь ты во всем должен повиноваться мне. — Слушаюсь. — Именем, которое я назвал, приказываю тебе: отнеси меня на спине к самой дальней границе твоих владений. Спускайся, пока не доберешься до того места, дальше которого нет хода ни тебе, ни тебе подобным. И да не предашь ты меня никому из своих товарищей и сородичей. — Я сделаю, как ты велишь. — Да. — Повтори мне это еще раз, как заклятие. Джек так и сделал. — Теперь пригнись пониже, чтобы я мог оседлать тебя. Ты станешь моим скакуном. Джек взобрался на спину существа, потянулся вперед и ухватился за рога. — Ну! — сказал он, и тот поднялся и тронулся в путь. Раздавался стук копыт и что-то похожее на звон колоколов. Джек заметил, что шкура существа напоминала очень мягкую ткань. Шаг убыстрился. Когда бы Джек ни пытался остановить на чем-нибудь взгляд, то видел размытый пейзаж.
…А потом наступила тишина. Он понял, что в черноте вокруг него что-то движется. Его лицо с регулярностью бьющегося сердца овевали ветры. Потом он понял, что они налетали сверху, гонимые над вредоносной землей большими черными крыльями. Путешествие было долгим. Джек сморщил нос, потому что вонь, исходившая от зверя, была сильнее, чем запах окружающего ландшафта. Они двигались очень быстро, но он успевал заметить возникавшие время от времени в верхних слоях атмосферы знакомые темные силуэты. Несмотря на скорость, путешествие казалось бесконечным. Джек начал ощущать, что его силы иссякают, потому что его ладони болели сейчас даже сильнее, чем тогда, когда он вскипятил черный водоем. Он боялся уснуть, потому что хватка могла ослабеть. И, чтобы отогнать сон, Джек принялся размышлять о самых разных вещах. Странно, подумал он, что мой злейший враг оказал мне величайшую в жизни услугу. Если бы Повелитель Нетопырей не указал мне путь, я бы никогда не отыскал Силу, которой теперь владею. Силу, сделавшую меня правителем. Силу, позволившую мне отомстить сполна и получить Ивен… Ивен… Я все еще не совсем доволен тем, каким образом удерживаю тебя. И все же… Есть ли иной путь? Ты заслужила то, что я сделал. А разве любовь сама по себе — не заклятие? Один любит, другой позволяет себя любить, и тот, кто влюблен, принужден исполнять требования другого. Конечно. Это то же самое.
…А потом он подумал о ее отце, Полковнике, и о Квазере, Смейдже, Блайте, Бенони и бароне. Все они уже заплатили ему, все. Он подумал о Розали, старушке Рози и подивился — жива ли еще она. Он решил как-нибудь справиться о ней в таверне «Под Знаком Огненного Пестика», на дороге вдоль океанского побережья. Боршин. Джек задумался, сумело ли каким-то образом выжить это изуродованное существо и продолжает ли оно где-то разыскивать его след, подгоняемое единственным жгучим желанием, живущим в искореженном теле. Боршин действительно был последним оружием Повелителя Нетопырей, его последней надеждой, на отмщение. Эта мысль, как взрыв стручка ГЕБЛИНКИ, заставила Джека вспомнить то, к чему он давно не возвращался: компьютеры, Дагаут и ту девушку… как ее звали?.. Клэр! Он улыбнулся тому, что вспомнил ее имя, хотя ее лицо от него ускользало. А потом еще и Квилиэн. Джек знал, что ему никогда не забыть лица Квилиэна. Как же Джек его ненавидел? Он хихикнул, вспомнив, что оставил того в лапах обезумевшего от боли Боршина, который, несомненно, принял Квилиэна за него самого. Он припомнил свою безумную поездку по стране, как он ехал, спасаясь от света, стремясь в царство тьмы, не зная, действительно ли те распечатки, которые он везет, содержат в себе Потерянный Ключ, Кольвинию. Ему вспомнилось, как у него захватило дух, когда он это проверил. Хотя больше он не возвращался на дневную сторону, Джек ощутил странную ностальгию по дням в университете. Может быть, это от того, что сейчас я рассматриваю их как сторонний наблюдатель, подумал он, а тогда я сам был частью всего этого.
…И все время его мысли возвращались к возвышающейся подобно башне фигуре Утренней Звезды на вершине горы Паникус. Джек припомнил все, что делал, начиная с Адских Игр до нынешнего положения дел; с того, откуда все это началось, до этого момента его теперешнего путешествия.
…И все время его мысли возвращались к Утренней Звезде на вершине Паникуса, единственному другу Джека. Почему они сдружились? Что у них было общего? Джек ничего не мог придумать. Но все равно он чувствовал, что это загадочное создание его привлекает — чего он никогда не испытывал ни к какому другому существу. К тому же он чувствовал, что по какой-то непонятной причине Утренняя Звезда тоже к нему неравнодушен.
…Ведь это Утренняя Звезда посоветовал ему отправиться в это путешествие, потому что оно — единственный способ довести до конца то, что должно быть сделано… Потом Джек задумался об условиях, господствовавших в царстве тьмы, и понял, что он, Джек, не просто был единственным, кто способен на такое путешествие, но и большей частью нес ответственность за то положение дел, которое сделало это путешествие необходимым. Тем не менее руководило им не чувство долга или ответственности. Скорее это был инстинкт самосохранения. Если царство тьмы погибнет, заледенев в Вечной Зиме, Джек погибнет вместе с ним и уже не воскреснет.
…И все время его мысли возвращались к Утренней Звезде, подобно башне возвышающейся на вершине Паникуса. Тут он вздрогнул и чуть не выпустил рога жуткого существа, которое его несло. Сходство! Сходство. Но нет, подумал он. Эта тварь — карлик по сравнению с Утренней Звездой, который подобно башне подпирает небо. Эта тварь прячет лицо, а черты Утренней Звезды полны благородства. Эта скотина воняет, а от Утренней Звезды пахнет свежим ветром и горными дождями. Утренняя Звезда мудрый и добрый, а эта тварь — злобная и тупая. По чистой случайности оба они имеют рога и крылья. Эту тварь можно подчинить заклятию, а кто может подчинить себе Утреннюю Звезду? А правда, кто? — подумал Джек. — Разве он не заколдован, так же, как эта тварь заколдована мной, хотя и по-другому? Но это было бы под силу только богам…
…И он обдумал эту идею и отбросил ее. Неважно, решил он наконец. Он — мой друг. Я могу спросить этого демона, не знакомы ли они, но его ответ ничего не изменит. Утренняя Звезда — мой друг. Потом мир вокруг Джека стал темнеть, и он ухватился покрепче, испугавшись, что слабеет. Но чем ниже они спускались, чем темнее становилось, тем понятнее было, что они приближаются к границе. Наконец существо, которое несло его, пропело приятным голосом: — Только до этих пределов могу я донести тебя, господин, но не далее. Черный камень перед тобой отмечает границу царства видимой тьмы. Пересечь ее я не смею. Джек прошел мимо черного валуна. Тьма позади камня была абсолютной. Обернувшись, он сказал: — Ну, хорошо. Я освобождаю тебя от служения мне. Приказываю тебе только: если нам придется встретиться еще, ты не попытаешься причинить мне вред и будешь повиноваться моей воле так же, как в этот раз. Теперь приказываю тебе уйти. Иди! Я посылаю тебя вперед! И Джек пошел от границы, зная, что близок к цели. Он узнавал это по слабому дрожанию земли под ногами, по едва уловимой вибрации воздуха, словно вдалеке гудели машины. Он шел вперед, размышляя о своей задаче. Вскоре волшебство потеряет силу, даже Ключ станет бесполезным. Но черное пространство, которое сейчас пересекал Джек, должно было быть свободным от зла. Это просто чернота, простирающаяся до нужного ему места. Джек создал небольшой мигающий огонек, чтобы освещать себе дорогу под ногами. Выбирать направление было не нужно: достаточно было просто идти на звук и ощущать как он усиливается.
…И по мере того, как звук усиливался, способность Джека создавать путеводный огонь слабела, пока, наконец, не исчезла. Из-за этого он стал двигаться осторожно, не слишком сожалея об исчезнувшем огоньке, потому что теперь вдалеке видна была светящаяся точка.
11
Пятнышко света росло, а гудение и вибрация усиливались. Наконец, света стало достаточно, чтобы Джек мог разглядеть дорогу. Через некоторое время свет стал настолько ярким, что Джек выругался — он забыл захватить свои старые темные очки. Яркий свет превратился в светящийся квадрат. Лежа на животе, Джек долго смотрел на него, давая глазам возможность приспособиться. По дороге он не один раз повторил это, испытывая боль. Почва под ногами стала ровной, воздух — холодным, но приятным, лишенным тех запахов, которые преобладали там, откуда Джек недавно ушел. Он шел, пока оно не оказалось прямо под ним. Там не было ничего, кроме света. Это был гигантский выход куда-то — но все, что Джек сумел разглядеть, это желто-белое сияние. Он услышал гудение, звяканье и скрежет, словно там работало множество машин.
…Или Великая Машина. Джек опять лег ничком. Он пополз вперед через этот выход. Он лежал на карнизе и на миг его разум отказался вобрать в себя то, что было внизу. Там было столько механизмов, что потребовалось бы бог знает сколько времени, чтобы все их пересчитать. Некоторые крутились медленно, некоторые — быстро, большие поворачивались к маленьким. Там были кулачки, рычаги управления, рукоятки и маятники. Некоторые маятники были больше Джека раз в двадцать и ходили медленно, тяжеловесно. Там были штуки, которые штопором ввинчивались в цилиндры и выползали наружу из черных металлических пазов. Там были конденсаторы, трансформаторы и выпрямители. Там были огромные корпуса из вороненого металла, на которых располагались циферблаты, выключатели, кнопки и множество разноцветных, все время мигавших лампочек. Слышался непрерывный шум, гудели генераторы, спрятанные еще ниже… или, может быть, это было что-то другое, черпавшее мощность прямо из планеты, от ее тепла, гравитационного поля и определенных скрытых напряжений… Все это гудело в ушах у Джека, словно рой насекомых. Повсюду резко пахло озоном. Стены огромного котлована, в котором все это располагалось, источали яркий свет. Целая батарея вагонеток двигалась по рельсам через весь комплекс, иногда останавливаясь, чтобы выгрузить смазку в разных точках. Там были силовые кабели, похожие на змей, которые пронизывали Машину в разных направлениях — но это ничего не говорило Джеку. Там были крохотные коробочки со стеклянными окошечками, связанные с прочими тонкими проводами, а в них — такие мельчайшие детали, что Джек со своего места не мог различить их очертаний. Там было никак не меньше сотни механизмов, напоминавших лифты. Они все время то ныряли в глубину, то исчезали наверху. На разных уровнях они останавливались, чтобы вытолкнуть из себя в Машину какие-то механизмы. На дальней стороне светились широкие красные полосы. Они мигали. Разум Джека не мог вместить все то, что он увидел, почувствовал, услышал и обонял, хотя Джек понимал, что с этим придется как-то разбираться, и поэтому искал ту часть этой массивной структуры, ту оптимальную точку воздействия, которая уничтожила бы машину. Он обнаружил, что на стенах висели инструменты титанических размеров инструменты, пользоваться которыми для обслуживания этой машины могли бы только великаны. Там были гаечные ключи, плоскогубцы, отвертки, рычаги. Джек знал, что среди них есть нужная ему штука, которая, если правильно ее использовать, сможет сломать Великую Машину. Он еще прополз вперед и продолжал глазеть. Зрелище было великолепным — ничего подобного прежде не бывало и никогда больше не будет. Джек посмотрел вниз и увидел далеко справа от себя металлическую лестницу. Он пошел к ней. Карниз сузился, но Джеку удалось добраться до верхней ступеньки. С нее он рывком перемахнул туда, куда ему было нужно, и занял нужное положение. Он начал долгий спуск. Не успел он добраться до дна котлована, как услышал шаги. Они были еде различимы среди шумов от работающих машин, но он расслышал их и отступил в тень. Тень, хотя и не имела своих обычных свойств, скрыла его. Там, неподалеку от лестницы, рядом с каким-то генератором, Джек выжидал, обдумывая свой следующий шаг. Показался низенький седой человек. Джек рассматривал его. Тот остановился, нашел канистру с маслом и стал закапывать смазку в разные механизмы. Джек наблюдал, как человечек ходит по Машине, отыскивая клапаны и отверстия, и заливает в них масло. — Здравствуйте, — сказал он, когда человечек проходил мимо него. — Что… Кто вы такой? — Я — человек, который пришел к вам. — Зачем? — Я пришел кое-что у вас спросить. — Приятно слышать. Я готов вам отвечать. Что вы хотели бы знать? — Меня интересует, как устроена Машина. — Это очень сложно, — ответил тот. — Еще бы. А нельзя ли поподробнее? — Да, — ответил его собеседник и ошеломил Джека объяснениями. Джек кивал, чувствуя, как его руки напрягаются. — Понимаете? — Да. — А в чем дело? — По-моему, вы собираетесь умереть, — сказал Джек. — Что… — Но Джек ударил его кулаком в левый висок. Он подошел к набору инструментов около Машины, поглядел на огромное количество оборудования. Джек выбрал тяжелый металлический брусок, назначения которого не понимал. Подняв его, он отыскал большой стеклянный корпус, о котором говорил старик. Внутри он увидел сотни крохотных деталек, вращавшихся с разной скоростью. Занеся брусок, Джек раздробил стекло и принялся уничтожать внутренний механизм. С каждым новым ударом, который он наносил, механизмы в очередной части Машины издавали протестующие звуки. За этим последовал пронзительный вой, резкий скрип и скрежет металла о металл. Потом раздался взрыв, и несколько частей Машины задымились. Раздалось прерывистое гудение и звяканье, словно рвалось или разбивалось что-то большое. Один из самых массивных механизмов заработал с перебоями, сбавил скорость, остановился и пошел снова, медленнее, чем раньше. Пока Джек крушил другие корпуса, емкости со смазкой наверху взбесились. Они метались туда-сюда, вываливая свое содержимое и возвращаясь к кранам на стенах за новыми порциями. Запахло горелой изоляцией. Раздались такие звуки, словно что-то лопалось. Пол затрясся, и несколько поршней вырвались на свободу. Теперь в дыму мелькали языки пламени. От едких испарений Джек чихал. Машина содрогнулась до основания, остановилась и снова заработала в бешеном темпе. Пока валы и оси лязгали, а механизмы метались, она тряслась. Машина принялась разрывать себя на части. У Джека от грохота заболели уши. Раскрутившись, он обрушил брусок на Машину и побежал в сторону лестницы. Когда он оглянулся, то увидел, что к машине мчатся огромные фигуры, наполовину скрытые дымом. Слишком поздно, знал Джек. Он взлетел по лестнице, добрался до карниза и помчался в темноту, из которой явился. Так началось уничтожение того мира, который был ему знаком. Обратный путь оказался в определенных отношениях опаснее спуска, потому что теперь земля дрожала, поднимая вековую пыль, стены трескались, обваливались куски свода. Два раза Джеку приходилось, кашляя, расчищать дорогу от мусора, прежде чем он смог пройти. Кроме того, те, кто населял это огромный тоннель, в панике бежали, с новоявленной жестокостью нападая друг на друга. Чтобы пройти там, Джек многих поубивал. Джек вышел из тоннеля и посмотрел на черную сферу высоко в небе. От нее все еще исходил холод, теперь даже больше, чем когда Джек только начинал свою миссию. Он осмотрел шар и отметил, что, похоже, тот слегка сместился из своего прежнего положения. Потом, дабы сдержать данное себе обещание, Джек поспешно воспользовался Ключом и перенесся на океанское побережье, к таверне «Под Знаком Огненного Пестика». Он зашел в эту сделанную из местного дерева гостиницу, тысячу раз чиненую и такую древнюю, что даже Джек с трудом припоминал, когда она появилась. Когда он спустился в центральный обеденный зал, земля дрогнула, а стены вокруг него затрещали. За этим последовала тишина. Потом стал слышен гул голосов, доносившийся от группы обедавших у огня. Джек подошел к ним. — Я ищу старуху по имени Розали, — сказал он. — Она живет здесь? Широкоплечий мужчина со светлой бородой и синевато-багровым шрамом на лбу поднял глаза от тарелки. — Ты кто такой? — спросил он. — Джек из Шедоу-Гард. Мужчина рассмотрел лицо и одежду Джека. Он широко раскрыл глаза, потом опустил их. — Я не знаю никакой Розали, сэр, — тихо сказал он. — А вы, ребята? Остальные пятеро обедавших сказали «нет», не глядя на Джека, и торопливо прибавили «сэр». — Кто хозяин гостиницы? — Его зовут Хэрик, сэр. — Где мне найти его? — Идите через ту дверь в конце зала, справа от вас, сэр. Джек повернулся и направился к двери. Проходя, он услышал, что в тени кто-то прошептал его имя. Он поднялся на два лестничных пролета и вошел в небольшую комнату, где, попивая вино, сидел толстый краснолицый мужчина в грязном фартуке. В свете желтой свечи, которая трещала на столе перед ним, его лицо казалось еще более грубым. Он медленно повернул голову и несколько минут пытался сфокусировать свой взгляд на Джеке. Потом он спросил: — Чего надо? — Меня зовут Джек, и я проделал долгий путь, чтобы попасть сюда, Хэрик, — ответил он. — Я ищу старуху, которая приходила, чтобы прожить здесь свои последние дни. Ее зовут Розали. Расскажи, что ты знаешь о ней. Хэрик наморщил лоб, опустил голову и прищурился. — Погоди-ка, — сказал он. — БЫЛА тут старая швабра… Да померла намедни. — О, — сказал Джек. — Тогда скажи мне, где вы ее похоронили, чтобы я мог сходить к ней на могилу. Хэрик фыркнул и большими глотками допил вино. Вытерев рот тыльной стороной кисти, он поднял руку и промокнул глаза рукавом. — Похоронили? — переспросил он. — Да кому она была нужна? Мы держали ее тут из жалости… и еще потому, что она кое-что смыслила в знахарстве. Челюсти Джека затвердели. — И что же вы с ней сделали? — спросил он. — Как это что? Бросили в океан. Правда, невелика это была пожива для рыб… Джек покинул «Огненный Пестик», а за его спиной, на побережье, пылала гостиница. Теперь он шел вдоль черной плоскости океана. Стоило задрожать земле или воде, и отражения звезд на его поверхности пускались в пляс. Воздух был очень холодным. Джек почувствовал, что сильно устал. Меч, висевший на перевязи, стал чуть ли не слишком тяжелым для него. Ему страшно хотелось завернуться в плащ и ненадолго прилечь. И выкурить сигарету. Он шел, словно сомнамбула, сапоги тонули в песке. Он снова пришел в себя только от шока, увидев, кто появился перед ним. Похоже, это был он сам. Тогда Джек потряс головой. — А, это ты, душа, — сказал он. Душа кивнула. — Вовсе ни к чему было разрушать гостиницу, — сказала она, — потому что скоро моря вырвутся на свободу и могучие волны омоют землю. Эта гостиница исчезла бы одной из первых. — Ты не права, — сказал Джек, зевая. — Причина была: моему сердцу это пошло на пользу… А как это ты узнаешь, как поведет себя море? — Я никогда не удаляюсь от тебя. Я была с тобой на вершине Паникуса, когда ты беседовал с могучим Утренней Звездой. Я спускалась с тобой в недра земли. Когда ты крушил Великую Машину, я стояла рядом. Я сопровождала тебя сюда. — Зачем? — Ты знаешь, чего я хочу. — …А я уже несколько раз давал тебе ответ. — Ты знаешь, что сейчас дело обстоит иначе, Джек. Своими действиями ты лишил себя большей части сил… может быть, всех. Может быть, ты уничтожил все свои жизни, кроме теперешней. Теперь я тебе нужна. Ты знаешь, что нужна. Джек уставился на океан и метавшиеся как светляки звезды. — Возможно, — сказал он. — Но еще нет. — Посмотри на восток, Джек. Посмотри на восток. Джек поднял глаза и повернул голову. — Это горит гостиница, — сказал он. — Значит, ты не увидишь, как мы соединимся? — Не сейчас. Но я и не прогоню тебя. Давай-ка теперь вернемся в Шедоу-Гард. — Отлично. Потом земля затряслась так, как до сих пор не содрогалась ни разу, и Джек пошатнулся. Когда почва снова успокоилась, он вытащил меч и принялся чертить на песке знаки. Джек начал заклинание. Когда он уже был близок к завершению, огромная волна накрыла его с головой и сбила с ног. Он почувствовал, что его выкинуло на площадку уровнем выше. Легкие горели без воздуха. Зная, что произойдет в следующий момент, Джек пытался последовать за волной еще дальше. Перед глазами Джека плавали огни, когда он, зарываясь в песок, пополз вперед. Таким образом он немного продвинулся вперед раньше, чем вода начала спадать. Джек боролся, а волны тащили его. Он цеплялся за песок, греб руками, дрыгал ногами, пытался ползти…
…А потом освободился. Он лежал, наполовину зарывшись лицом в холодный сырой песок, ногти были обломаны, в сапогах — полно воды. — Джек! Сюда! Скорее! Это звала душа Джека. Он лежал, хватая воздух, не в силах шевельнуться. — Джек, ты должен идти! Или немедленно прими меня! Скоро придет еще одна волна! Джек застонал. Он попытался встать, но неудачно. Потом, со стороны горящей гостиницы, которая озаряла весь берег бледным рыжеватым светом, раздался треск — это провалилась крыша и рухнула одна из стен. Стало темнее, и вокруг Джека заплясали тени. Чуть не плача, Джек вытягивал из них силу каждый раз, как тени падали на него. — Надо спешить, Джек! Она повернула обратно! Она идет! Он встал на колени, потом рывком поднялся. Шатаясь, он пошел вперед. Добравшись до площадки, расположенной повыше, он повернул вглубь берега. Душа ждала его впереди, и, заметив это, он пошел к ней. Позади усиливался шум воды. Он не оглядывался. Наконец он услышал, как волна обрушилась на берег, и ощутил водяную пыль. Только пыль. Он слабо улыбнулся душе. — Видишь? Мне, в общем-то, твои услуги не нужны, — сказал он. — Скоро понадобятся, — возвращая улыбку, сказала душа. Джек поискал на поясе кинжал, но океан забрал его себе вместе с плащом. Туда же отправился и его меч, который он держал в руке, когда обрушилась волна. — Стало быть, море ограбило вора. — Он хихикнул. — Это осложняет дело. Джек упал на колени и, морщась от боли, потому что ногти были сломаны, указательным пальцем еще раз начертил на песке знаки. Потом, не вставая, он произнес заклинание. Он стоял на коленях в большом зале у себя в Шедоу-Гард. Вокруг мигали факелы и огромные свечи. Джек очень долго не шевелился, позволяя теням омывать себя. Потом он встал и прислонился к стене. — Что теперь? — спросила его душа. — Может, вымоешься и отоспишься? Джек качнул головой. — Нет, — ответил он. — Я не рискну упустить момент своего величайшего триумфа… или, может статься, поражения. Я немного подожду тут, потом приму наркотик, чтобы оставаться сильным и быть начеку. Потом Джек перебрался в кабинет, где держал свои стимуляторы, отпер дверь, пробормотав заклинание, и приготовил себе снадобье. Занимаясь приготовлениями, он заметил, что у него дрожат руки. Прежде, чем выпить оранжевую жидкость, ему пришлось несколько раз сплюнуть, чтобы очистить рот от песка. Потом он запер кабинет и подошел к ближайшей скамье. — Ты давно не спал… А когда шел к Великой Машине, то принимал те же средства… — По-моему, я это чувствую даже сильнее, чем ты, — сказал Джек. — Тебе предстоит сильное напряжение. Джек не ответил. Немного погодя его затрясло. Он так ничего и не сказал. — На этот раз оно подействовало не сразу, а? — Заткнись! — сказал Джек. Потом он встал и повысил голос. — Стэб! Где ты, черт тебя возьми! Я вернулся домой! Почти сразу появился черный человечек. Он почти бежал. — Господин! Вы вернулись! Мы не знали… — Теперь знаете. Принесите мне ванну, чистую одежду, новый меч и поесть… да побольше! Я умираю с голоду! Ну, шевелись, задница! — Слушаюсь, сэр! И Стэб исчез. — Ты что, не чувствуешь себя в безопасности? Зачем тебе меч в твоей собственной крепости, Джек? Он обернулся, улыбаясь. — Есть особые случаи, душа. Если ты все время была рядом со мной, как ты говоришь, ты знаешь, что обычно в этих стенах я так не хожу. Зачем ты пытаешься вывести меня из терпения? — Тревожить время от времени — привилегия души, можно сказать, обязанность. — Оставь свои привилегии до лучших времен. — Но сейчас великолепный момент, Джек. Такого подходящего момента не было давным-давно. Ты что боишься, что если ты высвободишь свои силы, твои вассалы могут восстать на тебя? — Заткнись! — Ты, конечно, знаешь, что они зовут тебя Злым Джеком? Джек снова улыбнулся. — Нет, — сказал он. — Не выйдет. Я не позволю тебе разозлить меня и обманом впутать в какую-нибудь глупость… Да, я знаю, что за прозвище мне дали, хотя немногие называли меня так в лицо — и никто из них дважды. Ты что, не понимаешь, что, займи мое место кто-нибудь из моих вассалов, он вскоре заработал бы это же прозвище? — Да, понимаю. Потому что у них нет души. — Я не стану спорить с тобой, — сказал Джек. — Хотя я желал бы знать, почему никто ни разу не высказался по поводу твоего присутствия? — Меня видишь только ты — и то только тогда, когда я хочу этого. — Отлично! — сказал Джек. — Почему бы тебе не стать сейчас невидимой и для меня! И не мешать мне вымыться и поесть. — Извини. Я не совсем готова. Джек пожал плечами и повернулся к ней спиной. Через некоторое время принесли наполненную водой ванну. Когда земля дрогнула так, что по стене пробежала похожая на черную молнию трещина, часть воды разлилась. Две свечи опрокинулись и сломались. Из потолка вывалился камень и упал в соседнем покое, но никто не пострадал. Не успел Джек до конца раздеться, как принесли новый меч. Он бросил раздеваться и опробовал его. Он кивнул. Он еще не закончил мыться, а рядом уже поставили стол. К тому времени, как он вытерся, оделся и взял меч, на столе появились прибор и еда. Джек ел медленно, смакую каждый кусок. Съел он неимоверно много. Потом он встал из-за стола и вернулся в кабинет, где держал сигареты. Оттуда он прошел в основание своей любимой башни и поднялся по лестнице. С вершины башни он, покуривая, принялся рассматривать черную сферу. Да, с тех пор, как он выдел ее, она заметно сместилась. Джек выпустил дым в сторону сферы. Он ощущал восторг от того, что сделал — может быть, из-за того, что принял наркотик. Будь что будет, он — хозяин и творец нового положения вещей. — Ты сейчас испытываешь сожаления, Джек? — спросила его душа. — Нет, — сказал Джек. — Это нужно было сделать. — Но тебе ЖАЛЬ, что это пришлось сделать? — Нет, — сказал Джек. — Зачем ты спалил гостиницу «Под Знаком Огненного Пестика»? — Чтобы отомстить за то, как там обходились с Розали. — А что ты чувствовал, когда потом шел по берегу? — Не знаю. — Только голод и усталость? Или что-то еще? — Печаль. Сожаления. — А часто с тобой бывает такое? — Нет. — Хочешь узнать, почему с недавних пор ты стал чаще испытывать подобные чувства? — Скажи, если знаешь. — Потому что я рядом. У тебя есть душа, душа, которую ты освободил. Я всегда неподалеку от тебя. Ты начал ощущать мое влияние. Так ли уж это плохо? — Спросишь в другой раз, — сказал Джек. — Я пришел посмотреть, как обстоят дела, а не болтать.
…И слова его достигли ушей того, кто его разыскивал, когда дальняя гора стряхнула свою вершину, изрыгнула в воздух огонь и пепел и снова затихла.
12
Джек слушал грохот дробящихся камней и наблюдал, как черная точка падает. Он слышал стоны, шедшие из сердца земли. Он видел, как ее пересекали огненные линии. Его ноздрей коснулись едкие запахи подземного мира. Пепел роился в холодном воздухе, поднимаясь и опускаясь, как нетопыри его предшественника. Раньше перемещений звезд в небе по чьему-то приказу не бывало. Вдали от стен стояли семь гор с вершинами, похожими на факелы, и он припомнил тот день, когда заставил одну из них двигаться. Небо постоянно прочерчивало скопление метеоритов, напоминая Джеку, как выглядело небо в день его последнего воскрешения. Иногда облака пара и струйки дыма затемняли созвездия. Земля дрожала не переставая, а далеко внизу Шедоу-Гард дрожал на своем фундаменте. Джек не боялся, что башня упадет, потому что так любил этот замок, что наложил на него сильное заклятие и знал, что пока он обладает Силой, Шедоу-Гард устоит. Рядом с ним молча стояла его душа. Он снова закурил и стал рассматривать склон горы невдалеке. Медленно наползли тучи. Они собирались вдали, где начиналась гроза. Подобно многоногим насекомым с огненными лапками, тучи перепрыгивали с горы на гору. На севере небо от них пылало, их пробивали метеориты, а атакуемая земля плевала в них. Позже Джек сумел расслышать ворчание, означавшее начало столкновения. Еще чуть позже он заметил, что грозовой фронт движется в его сторону. Когда буря была почти над его головой, Джек улыбнулся и вытащил меч. — Ну, душа, — сказал он, — теперь посмотрим, какова моя Сила. С этими словами он начертил на камне узор и начал говорить. Молния и гром разделились, обтекая подобно огненной реке Шедоу-Гард с двух сторон, не затрагивая его. — Отлично. — Спасибо. Теперь они были словно бы в конверте: внизу горела и содрогалась земля, над головой бесновалась буря, небо было исполосовано падающими звездами. — Ну, теперь ты можешь мне сказать? — Могу. Теперь можно сказать уже о многом, правда? — сказал Джек. Душа не ответила. Услышав шаги, он обернулся к лестнице. — Это, должно быть, Ивен, — сказал он. — Она боится грозы и всегда приходит ко мне. Из двери на лестницу появилась Ивен, увидела Джека и кинулась к нему. Она ни слова не сказала. Джек обнял ее одной рукой и завернул в плащ. Она дрожала. — Ты не сожалеешь о том, что сделал с ней? — Отчасти, — сказал Джек. — Так почему бы тебе не исправить дело? — Нет. — Потому что, вспомнив, она возненавидит тебя? Джек молчал. — Она не может меня услышать. Если я спрашиваю, можешь отвечать коротко. Она подумает, что просто что-то бормочешь… Или это больше, чем ненависть? — Да. Оба помолчали. — Ты боишься, что, вспомнив, она сойдет с ума? — Да. — Значит, ты более чувствителен и эмоционален, чем был когда-то. Даже больше, чем я подозревала. Джек молчал. Над ними все еще гремел гром, сверкали молнии, и Ивен, наконец, повернула голову, заглянула Джеку в лицо и сказала: — Тут, наверху, ужасно. Не сойти ли нам вниз, милый? — Нет. Можешь спуститься, если хочешь. Но я должен остаться. — Тогда я остаюсь с тобой. Медленно, очень медленно, гроза стала уходить, затихла, прошла. Джек увидел, что горы еще пылают, а разорванная земля сама изрыгает языки пламени. Обернувшись, он увидел, что в воздухе кружится что-то белое, и понял наконец, что это не дым, а снег. Но снег шел далеко на востоке. Джек внезапно почувствовал, что ничего не выйдет — опустошение было слишком полным. Но теперь делать было нечего, оставалось только смотреть. — Ивен… — Да, господин. — Я хочу кое-что сказать. — Что, любимый? — Я… Нет, ничего! А душа Джека подошла поближе и встала прямо у него за спиной. В нем поднималось странное чувство, и он не выдержал. Снова повернувшись к ней, он сказал: — Мне очень жал. Прости. — За что, милый? — Сейчас я не могу объяснить, но может наступить время, когда ты вспомнишь, что я сказал. Она, озадаченная, сказала: — Надеюсь, что такое время не придет никогда, Джек. Я всегда была с тобой счастлива. Он отвернулся и стал смотреть на восток. На миг он перестал дышать и всем телом ощутил биение сердца. Оно шло по следу сквозь пыль, шум, холод. Пылающий огонь, дрожащая земля, гроза для него ничего не значили, потому что это существо не знало страха. Оно соскальзывало вниз по склонам холмов, как призрак, и струилось среди скал, как змея. Оно перепрыгивало глубокие расселины, увертывалось от падающих камней. Один раз его ударило молнией. Это был комок протоплазмы на ножке, огромный, испещренный шрамами, и не было настоящих причин, чтобы оно жило и двигалось. Но возможно, оно и не жило в полном смысле слова — по крайней мере, оно существовало не так, как прочие, даже жители царства тьмы. У него не было имени, только название. Рассудок его, вероятно, был невелик. Это был комок инстинктов и рефлексов, некоторые из них были врожденными. Чувств у него не было, кроме одного. Но это единственное было очень сильным. Оно позволяло ему вытерпеть крайнюю нужду, массу боли, сильные повреждения тела. Существо не говорило ни на одном языке и все, с кем бы оно ни столкнулось, убегали от него. Пока земля сотрясалась, а камни вокруг грохотали, оно начало спускаться с горы, которая однажды сдвинулась с места, и его сопровождали огненные потоки, а тучи роняли пламя. Ни оползни, ни буря его не остановили. Оно пробралось через валуны, разбросанные у подножия горы, и на миг задумалось о последнем подъеме. След вел туда. Туда и нужно было идти. Высокие стены, хорошая охрана… Но кроме силы, у этого существа была и кое-какая хитрость.
…И одно, единственное чувство. — Выигрываю я или теряю, оно действует, — сказал Джек, и, хотя Ивен промолчала, душа отозвалась. — Теряешь. Потеря это или приобретение для мира — другой вопрос. Но ТЫ теряешь, Джек. И глядя на светлеющий восток, Джек почувствовал, что так оно и есть. Потому что небо побледнело, но не от вулканического огня и не от от грозы. Джек чувствовал, как Сила в нем ослабевает. Повернувшись к западу, он опять увидел, насколько снизилась черная сфера, и в его мозгу взорвался рассвет. Сила ускользала от него, и по мере этого стены Шедоу-Гард начали крошиться. — Теперь нам лучше уйти, да побыстрее. — Какое тебе дело, дух. Тебе нельзя причинить вред. Я не побегу. Эта башня устоит перед зарей. Внизу под ними камни градом сыпались во двор. Стена подалась, обнажив интерьер нескольких покоев. До Джека донеслись крики его челяди, и несколько человек пробежали по двору. Земля опять содрогнулась, и башня качнулась. Джек снова повернулся лицом к розовому небу на востоке. — Потерянный Ключ, Кольвиния, снова потерян, — сказал он. — На этот раз — навсегда. Потому что он попробовал простое заклинание, и оно не подействовало. Он услышал рев, словно открывали шлюзы, и дальняя часть замка рухнула и развалилась. — Если ты не уйдешь, что станет с девушкой, которая стоит рядом с тобой? Джек повернулся к Ивен. Он почти забыл о ее присутствии. Он увидел, что ее лицо приобретает странное выражение. Сначала он не мог понять, что это означает, а когда она заговорила, он заметил, что тембр ее голоса изменился. — Что происходит, Джек? Пока она говорила это, Джек почувствовал, что ее тело цепенеет и слегка отстраняется от него. Он тут же разжал руки, чтобы приспособиться к ее движениям. И его осенило. Когда его магические силы стали слабеть, заклятие, которое он так давно наложил на нее, перестало действовать. Над потревоженным миром разливалась заря, и память Ивен прояснялась пропорционально этому. Он заговорил, надеясь полностью завладеть ее вниманием и удержать от мгновенного осознания происходящих в ней перемен. — Это моих рук дело, — заявил он. — Семеро, вписанные в Красную Расчетную Книгу, не захотели сотрудничать и удерживать Щитом внешний холод, поэтому я убил их. Но я ошибался, считая их заменимыми. Хотя я думал, что справлюсь, я не смог один провернуть все это. была только одна альтернатива. Я разрушил Великую Машину, которая делала мир таким, каким он был. Сейчас мы, жители царства тьмы, черпаем свои легенды из той непонятной штуки, которая зовется наукой, и говорим, что мир движет Машина. Те, кто живет на дневной стороне, точно так же суеверны, и считают, что земное ядро заполнено духами огня и расплавленными минералами. Как определить, кто тут прав, а кто нет? Философы на обеих сторонах часто говорят, что мир чувств иллюзорен. Мне это, в общем, неважно. Что бы ни являлось реальностью, от которой мы постоянно изолированы, я пропутешествовал к центру земли и вызвал там катастрофу. Теперь вы видите ее результаты. Из-за того, что я сделал, мир начинает вращение. Больше не будет ни царства тьмы, ни царства света. Скорее, свет и тьма будут чередоваться во всех частях планеты. Я чувствую, что тьма всегда будет сохраняться в каких-то вещах, привычных для нас здесь, а науки, несомненно, будут процветать там, где свет. Если, добавил он про себя, мир не разрушится. Тут он задумался, каково сейчас было там, на светлой стороне… в университете… увидеть, как приходит вечер, за ним — тьма, увидеть звезды. Решит ли Пойндекстер, что это какая-то студенческая штучка к окончанию очередного семестра? — И значит, — продолжал он, — не нужно будет устанавливать защиту ни от жары, ни от холода. Тепловое излучение звезды, вокруг которой мы движемся, будет не концентрироваться, а скорее распределяться. Я… — Злой Джек! — выкрикнула Ивен, быстро отшатнувшись от него. Уголком глаза он заметил, что над горизонтом появилась сияющая оранжевая дуга. Когда ее лучи упали на них, башня задрожала, затряслась и сильно закачалась. Джек услышал, как внутри башни сыплются камни, и почувствовал сквозь сапоги вибрацию от их движения.
…А Ивен пригнулась, готовясь прыгнуть, и ее глаза за массой освободившихся волос, которые стелились по ветру, были безумными и широко открытыми.
…А Джек увидел, что в правой руке у нее кинжал. Он облизал губы и сделал шаг назад. — Ивен, — сказал он. — Пожалуйста, выслушай меня. Я могу отнять у тебя эту игрушку, но не хочу сделать тебе больно. Я уже причинил тебе достаточно боли. Убери его. Пожалуйста. Я постараюсь сделать… Тогда она прыгнула на Джека, а он потянулся к ее запястью, промахнулся и отступил в сторону. Клинок прошел рядом с ним, за ним — ее плечо и рука. Он ухватил ее за плечи. — Злой Джек! — снова сказала она и с размаху ударила его по руке, рассекая ее. Его хватка ослабла, Ивен вырвалась и накинулась на Джека, подбираясь к горлу. Левой рукой он схватил ее за запястья, а правой оттолкнул от от себя. При этом он мешком увидел ее лицо: клочья пены в уголках рта, струйки крови, текущие из прокушенной губы по подбородку. Она отступила, наткнулась на балюстраду, и та обвалилась почти беззвучно. Джек стремительно кинулся к ней, но успел только увидеть ее развевающиеся юбки, когда она падала вниз во двор. Ее крик был коротким. Когда башня закачалась так, что грозила свалить его с ног, он отступил назад. Солнце взошло уже наполовину. — Джек! Нужно уходить! Замок разваливается! — Все равно, — сказал он. Но он повернулся и пошел к двери на лестницу. Пробравшись в крепость через дыру, зиявшую в северной стене, оно принялось обыскивать коридоры. Когда ему приходилось убивать, оно оставляло тела там, где они падали. В одном месте на него рухнул кусок кровли. Оно выбралось из-под него и продолжало свой путь. Пока бригады водоносов метались, пытаясь потушить огонь, оно лежало за валуном, припав к земле. Оно пряталось в нишах, за портьерами, за дверями и мебелью. Оно скользило как призрак и ползло, как рептилия. Оно пробиралось между обломками, пока вновь не напало на след. След вел все выше, петлял… Туда. Разорванное светом небо, ясно помнящаяся сломанная балюстрада, развевающиеся юбки Ивен, стоящие перед глазами Джека, ее слюна и кровь вот чернила для его обвинительного акта. Громыхание измученной земли, ставшее из-за своей монотонности как бы формой тишины, раздробленные камни, заострившиеся в ясном свете зари, ветры, поющие траурные песни, движение разрушающейся башни — теперь почти успокаивающее… Джек подошел к верхней ступеньке и увидел, что оно поднимается. Он вытащил меч и ждал. Другого пути вниз не было. Странно, подумал он, как инстинкт самосохранения берет верх над чем угодно. Он держал меч неподвижно. Перепрыгнув последние ступени, Боршин атаковал его. Джек проткнул ему левое плечо, но не остановил. Меч вырвался у него из рук, когда Боршин ударил его сзади и склонился над ним. Джек откатился в сторону и сумел занять положение перед прыжком раньше, чем тварь напала снова. Его меч все еще торчал у нее в плече и блестел на свету, кровь по нему не текла, вместо этого по краям раны выступило немного густой коричневой жидкости. Джеку удалось увернуться от повторного нападения и ударить ее обеими руками, но незаметно было, чтобы это что-нибудь дало. Казалось, он бьет по пудингу, а тот остается целым. Ему удалось увернуться от нападения еще дважды. Один раз он лягнул ее по ноге, а потом треснул локтем по затылку, когда она двигалась мимо. Потом она без труда поймала Джека, но он втолкнул меч ей в плечо и удрал в разорванной тунике. Припадая к земле, кружа, стремясь сохранить между ними максимальное расстояние, Джек отклонился назад, схватив два камня. Если бы не это, тварь добралась бы до него. Она очень быстро обернулась, а Джек запустил в нее одним из новоприобретенных снарядов — и промахнулся. Потом, прежде чем он успел прийти в себя после броска, она накинулась на него, повиснув у него на спине. Джек бил ее по голове оставшимся камнем, пока тот не вырвался у него из руки. Его грудная клетка было сломана, а морда твари была так близко от его лица, что ему хотелось закричать — он бы закричал, если бы у него хватало дыхания. — Жаль, что ты сделал неправильный выбор, — услышал он свою душу. Потом тварь ухватила его одной рукой за шею, а другой — за голову и начала крутить. Из глубин его тела поднялась чернота, слезы боли смешались на его лице с потом, а голова оказалась повернутой таким образом, что Джек увидел нечто, мгновенно повергшее его в изумление. Волшебство исчезло, но рассвет все еще напоминал сумерки. В сумерках же Джек мог работать — не как волшебник, а как вор. Потому что в тени он был силен.
…Ни один меч не мог его там тронуть, ни одна сила не могла причинить ему вред. Восходящее солнце, ударив сквозь балюстраду, создало длинную густую тень, которая упала в каком-нибудь футе от Джека. Он попытался дотянуться до нее, но не смог. Тогда он выбросил правую руку в сторону тени так далеко, как только мог. Джек все еще чувствовал боль, позвоночник хрустел, сокрушительный груз все еще давил на грудь. Но только теперь пришло старое чувство тьмы и растеклось по телу. Напрягая мышцы шеи, Джек сопротивлялся обмороку. Пользуясь силой, которую он извлек из тени, он втолкнул в тень руку и плечо. Потом, на пятках и локтях, он сумел впихнуть в глубокую тень голову. Высвободив другую руку, он нашел горло Боршина. Он втащил его за собой в тень. — Джек, что происходит? — услыхал он свою душу. — Я не могу видеть тебя, когда ты в тени. Джек вышел из тени много позже. Он тяжело облокотился на ближайшую балюстраду и стоял там, задыхаясь. Он был перемазан кровью и тягучим коричневым веществом. — Джек? Когда он полез в то, что осталось от его одежды, руки у него дрожали. — Черт… — хрипло прошептал Джек. — Последние сигареты пропали. Казалось, он готов из-за этого расплакаться. — Джек, я не думала, что ты останешься жив… — Я тоже… Ладно, душа. Ты надоедала мне достаточно долго. Я много перенес. Мне ничего не осталось. Хотя я могу сделать тебя счастливой. Делай, что должна. Потом он на миг закрыл глаза, а когда открыл их, душа исчезла. — Душа? — позвал он. Ответа не было. Разницы Джек не ощущал. Правда ли они соединились? — Душа? Я дал тебе то, что ты хотела. Ты могла бы, по крайней мере, поговорить со мной. Ответа не было. — Ну, ладно! Кому ты нужна! Потом Джек повернулся и оглядел опустошенную землю. Он увидел, как косые лучи солнца окрасили сотворенную им пустыню. Ветер немного утих, и, казалось, воздух поет. Несмотря на разруху и тлеющий огонь, пейзаж был красив несущей печать проклятия красотой разрушения. Не следовало так терзать землю, если бы не что-то в нем самом, что принесло боль, смерть и бесчестье туда, где их прежде не было. Тем не менее вне этой бойни или, точнее, над ней, было что-то, чего Джек раньше никогда не видел. Словно все, на что он смотрел, могло стать лучше. Вдалеке виднелись разрушенные деревни, срезанные горы, сожженные леса. Он был в ответе за все это зло он действительно заслужил свое прозвище. И все же он чувствовал, что из этого вырастет нечто иное. Хотя эту заслугу он не мог себе приписать. Он мог лишь нести вину. Но Джек чувствовал, что предвидение того, что может случиться теперь, когда изменился порядок мира, больше не может его напугать. Нет, не то. По крайней мере, еще нет. Но новым порядком станет преемственность света и тьмы, и Джек чувствовал, что это будет неплохо. Тогда он повернулся лицом на восход и, промокнув глаза, продолжал смотреть, потому что ощущал — прекраснее он ничего не видел. Да, решил он, должно быть, у меня есть душа — раньше ничего подобного я не чувствовал. Башня перестала качаться и начала разваливаться. Вот чего я добивался, Ивен, подумал он. Я даже говорил об этом когда у меня еще не было души. Я извинился, и имел в виду именно это: мне было жаль не только тебя. Весь мир. Я прошу прощения. Я люблю тебя.
…И, камень за камнем, башня рухнула, а Джека бросило вперед через балюстраду. Правильно, подумал он, чувствуя, что ударяется о перила. Только так и должно быть. Выхода нет. Когда ветер, огонь и вода очистят мир, а злобные существа погибнут или будут унесены прочь, последний и самый великий из них не должен избежать этого уничтожения. Он слышал сильный шум, словно от ветра — это рухнула балюстрада, и перила скользнули вперед. На мгновение звук стал прерывистым, словно хлопало вывешенное для просушки белье. Когда Джек оказался на краю, он сумел обернуться и посмотреть вверх, падая, он увидел в небе темный силуэт, который рос, пока Джек глядел на него. Конечно, подумал он, он наконец увидел восход солнца и освободился. Сложив крылья, с бесстрастным лицом, вниз, как черный метеор, падал Утренняя Звезда. Приблизившись, он во всю длину вытянул руки и раскрыл огромные ладони. Интересно, подумал Джек, он успеет?
Дмитрий Володихин Сэр Забияка в Волшебной стране Очень древняя повесть в четырнадцати героических сказаниях
…Так вот, как раз об этом самом Забияке никто доброго слова не скажет, но помнят его все. Уже помер старый мудрый вепрь Хук, и Златеника сменила устье, в Хоббитоне произошло великое замирение между Коричниками и Гвоздичниками, а коты продали троллям дохлого дракона, не говоря уже о множестве более мелких, но не менее важных и поучительных историй, но доброму гостю непременно расскажут за кружкой пива в Барлиманове трактире о прытком сэре Забияке и его художествах. Обычно этой историей гостя потчуют между притчей о том, как один незамысловатый художник тягал картошку, и байкой о том, как сборщик налогов никак не мог добраться до столицы. И случится это никак не раньше тридцать третьей кружки. Потому что только после тридцать третьей кружки темного и душистого барлиманова пива[1] местные жители начинают считать гостя стоящим человеком и принимаются рассказывать ему самое интересное. А тот, кто не испытал на себе действие хотя бы десяти кружек и гостем-то по-настоящему не считается. Так, разве что у эльфов. Именно в трактире у Барлимана хранится самый достоверный исторический документ о путешествии сэра Забияки по Волшебной стране. Вдовая фермерша Сванильда, которая работала у Барлимана трактирной прислугой в ту пору, когда сэр Забияка творил свои бесчинства и однажды заявился в трактир, попросила хоббита Кэбиджа, эльфа Танниэля, кошачьего констебля Мрау и одного бродячего менестреля, который так и не назвал свое имя, вырезать на трактирной стене по-хоббитьи, по-эльфийски, по-кошачьи и на языке Королевства одну-единственную фразу: «Иза всехх пассетитилей один Забияк не расплатил па щету. Кто буддет тутт после меня, ничиво ему не давате».
Сказание о том, как сэр Забияка появился в троллячьих горах
Так вот, этого самого Забияку помнят все. Эльф, если например, услышав, как кто-то рассказывает историю о этом типе, непременно встанет и уйдет, ни слова не объяснив. Не любят они, эльфы, осквернять слух такими гадостями. А вот кот, например, зашипит малым боевым шипом и может даже предъявить когти на левой лапе, выдвинутые как раз до половины. Если это будет хвастливый фермер из Хэма, то он сначала сплюнет, потом перекрестится от таких напастей, а потом помянет всех потомков сэра Забияки аж до тех времен, когда еще не было понятно — то ли люди от Адама, то ли от куска глины, в который вдохнули душу. Что ж говорить о хоббитах? Именно ушастикам сэр Забияка принес больше всего неприятностей, и они-то в конце концов и додумалось, как от него избавиться. Так что в хоббитских семьях старшие хоббиты рассказывают эту историю младшим хоббитам как пример замечательной отваги и превосходного здравого смысла, присущего всему хоббитьему роду. Чтобы им, младшим хоббитам, было чем гордиться. В тот год, когда сэр Забияка учинил все свои безобразия в Волшебной стране и был из нее с позором изгнан, мудрейшие хоббитские дядюшки и тетушки собрались в доме[2] у Старого Тука, который любит свинину с бобами. Как раз был конец хоббитьего года[3], и как всегда решался вопрос, какие из историй, приключившихся за год, следует записать в Большую и Великую Хоббитскую Хронику, Которая Хранится в Секретном Месте. Так вот, все сошлись на том, что историю о сэре Забияке следует подробнейшим образом изложить в Большой и Великой Хронике. Но что именно хоббитские старейшины туда поместили, никто теперь не знает, потому что Хроника хранится в Секретном Месте. Одно должно быть понятно любому непредвзятому существу: история изложена хоббитами благочинно и здравомысленно, а также безо всякого преувеличения выдающихся и незабываемых заслуг этого народа в избавлении Волшебной страны от гнусноименного сэра Забияки, поскольку именно хоббиты славятся по всей Волшебной стране как самые скромные из ее жителей. Никто не знает, каким в точности путем сэр Забияка добрался до Волшебной страны. Многие полагают, что пешком он добраться до наших мест никак не мог, поскольку первыми, кто увидел Забияку, были тролли, а они живут ровно в середине Волшебной страны, в старых копях, где кто-то когда-то добывал серебро и свинец, а сейчас там только эти громадины, потому что кто же с ними рядом поселится? Сдается, сэр Забияка приплыл к нам по морю. Именно оттуда приплывает к нам всякая гадость, в то время как из славной и богатой деревни Большой Вуттон приходят достойные люди… и еще там делают отличнейшую конскую сбрую и неплохие бочки. Но, конечно, лучшие бочки делают в Хоббитоне, в этом никто не усомнится, а вот сбруя — да, сбруя в Вуттноне очень хороша. Поэтому сэр Забияка, разумеется, не мог прийти из Большого Вуттона и, стало быть, он заплыл к нам с моря. Но куда девалась его лодка? Никто не видел его лодки? Может быть, кто-нибудь стащил его лодку, и поэтому сэр Забияка и проявил столько сердитости, сколько он ее проявил? В любом случае, если кто-то и похитил лодку сэра Забияки, то это были не хоббиты. Ведь все в Волшебной стране подтвердят необыкновенную порядочность и кристальную честность хоббитского народа. Да и на что хоббитам лодка? Лодка им совершенно ни к чему. Разве что, поудить форель на речном перекате у Серых гор, где гномы так и не отыскали золото, несмотря на все свои копи. Но для таких дел хоббиты, скорее всего, сами сделали бы лодку, во всяком случае, неразумно обвинять хоббитов в том, что они не умеют делать порядочные лодки, как иногда говорят какие-нибудь эльфы. Всем и каждому в Волшебной стране известно, сколь искусные мастера — хоббиты. Так вот, Забиякина лодка куда-то делась. Но хоббиты к этому не имеют никакого отношения. Вообще, Волшебная страна — тихое местечко. Здесь даже ветер не шумит столь же сильно, как в других местах. Да и младенцы-то местные вопят в колыбелях ужасно кротко и благовоспитанно. А уж весенние коты — так те поют с удивительным благозвучием[4]. По правде сказать, мы, местные жители, ладим друг с другом. Бывало, говорят, даже так, что в Барлимановом трактире сидели за одним столом эльф и тролль, хотя никто из эльфов и никто из троллей правдивости этой истории не признает. Но есть свидетели и очевидцы, которые даже называют кое-какие имена. Впрочем, историю об эльфе и тролле рассказывают не раньше, чем после сто сорок четвертой кружки барлиманова пива. Так вот, если даже и попадается какая-нибудь сварливица, вроде миссис Дальтинды, бывшей Оружейниковой жены, с которой он, Оружейник, счастливо разошелся, отдав ей на пропитание дом на выселках прихода Мелкина с пасекой и садом, или, скажем, если даже попадется какой-нибудь сварливец вроде самого Оружейника, который на вежливое приветствие «Добрый день» может ни с того ни с сего закричать, что он, мол, занят, то таких сварливцев и сварливиц у нас тут очень мало, да и они, видите ли, не всегда бывают такими уж сварливыми и несговорчивыми. Что говорить, если даже такое грозное и ужасное существо, как дракон Хризофилакс[5], бывает, позволяет в зимнюю пору устраивать маленьким котятам и хоббитятам ледяные горки из его собственной драконьей спины. Иными словами, такая неприятная и шумная личность, как сэр Забияка, могла появиться только с моря. Или ее принес какой-нибудь враждебный вихрь. Потому и сам сэр Забияка пронесся по Волшебной стране совершенно как дикий вихрь, от которого добрый волшебностранский народ убегал в ужасе. Кроме, конечно, хоббитов. СКАЗАНИЕ О ТОМ, КАК СЭР ЗАБИЯКА ОБИДЕЛ ТРЕХ БОЛЬШИХ ТРОЛЛЕЙ И ОДНОГО МАЛЕНЬКОГО ХОББИТА Был этот сэр Забияка очень велик ростом и чревом, громогласен и награжден от природы густой рыжей бородой, совершенно наподобие той, что у фермера Джайлса, который любит хвастать, как он прикончил из мушкетона[6] дюжину престрашных великанов где-то на полдороге от Большого Вуттона к Хэму. Всякие прыткие существа, например эльфы, каковым эльфам неймется, иногда путешествуют по многочисленным английским королевствам, как, например, по Большому Вуттону, чем серьезные и благовоспитанные существа, например, хоббиты, ни за что не займутся. Так вот, эти самые эльфы говорят, что никаких великанов между Большим Вуттоном и Хэмом не водится, и все великаны, говорят они, в тех местах совершенно повывелись. Но эльфы скрытный народ, и, может быть, они чего-то недоговаривают. Иначе в кого же пулял фермер Джайлс? Всей Волшебной стране известный почтенный хоббит Старый Тук сказал однажды, что скорее всего, великаны там все-таки встречаются, но очень редко, да и не столь уж они велики ростом, а потому не всем кажутся вполне великанами. На что хоббитская тетушка Любелия Сэквиль-Крендель сейчас же ответила, мол, фермер Джайлс — известный враль, и надо бы подальше от него держать хоббитят, иначе как бы не научил их рассказывать совершенно выдуманные истории вместо важных и поучительных историй. И старый Тук ей ответил, мол, враль-то враль, а вдруг не совсем враль, и обо всем этом надо хорошенько подумать и выпить по этому поводу пару кружечек пива. С ним, конечно же, согласились все прочие хоббиты, ибо в хоббитьей природе — пить пиво и размышлять обо всяких важных или непонятных делах. Еще у сэра Забияки был предлинный и тяжелый меч, который наводил страх одним своим сверканием. А также у него было множество других металлических штук для нанесения ущерба добрым и безобидным существам, у которых таких штук нет. Появившись в Серых горах, именуемых также некоторыми жителями Волшебной страны Троллячьими горами[7], сэр Забияка набрел на пещеру, в которой три огромных тролля Томас, Берт и Билл как раз готовили пудинг с кленовым сиропом, чтобы потом угостить этим пудингом маленького хоббитского сорванца по имени Перри, потому что так у них, троллей, водится. И Перри был тут же, стоял поодаль и пускал слюнки. Сэр Забияка сообщил всем присутствующим громовым голосом: — Я странствующий рыцарь Ланселот Копьенесущий, граф Алкуинский и барон Парсифальский, владелец Серой башни, волшебной броши, победитель рыцарского турнира в Зеро-де-ля-Зуш, а также владетельный князь Нижних Мхов и Трех Мостов. Кое-кто зовет меня также Забиякою, но я на этом не настаиваю. — Добрый день, — ответил ему Томас. — Хотите пудинга? — осведомился Берт. — Присаживайтесь, — пригласил странствующего рыцаря Билл. — Нет ли у вас драконов, которых следует извести, сокровищ, которые следует у них отобрать, красавиц, томящихся в неволе, славных бойцов, только ждущих кого-нибудь, с кем можно померяться силой? — Дракон имеется, но он тихого нрава, и его изводить не надо, — промолвил Томас, — а сокровища его вам все равно не достанутся, потому что, по правде говоря, сэр, только не обижайтесь пожалуйста, смотритесь вы как-то хлипко, чтобы с драконами биться. — Красавиц в наших краях не водится, мы с Томасом и Биллом вообще не видели здесь ни одной троллихи… — сообщил Берт. — Да и бойцов сэр, тут не густо. Разве только вы захотите скрестить ваш меч с когтем какого-нибудь бойца из Кошачьего замка, — уточнил Билл. И тут Томас достал знаменитый Кошелек Троллей со многими отделениями, в коих тролли хранят всяческие редкие специи и магические добавки, приспособленные для кулинарных дел. Про Кошелек Троллей в Волшебной стране сложено великое множество историй. Например, история о том, как коты продали троллям дохлого дракона. Или как почтенная Любелия Сэквиль-Крендель прибрала к рукам Большой Котел, и что из этого вышло… но тсс! Историю о Большом Котле рассказывают далеко не всем, и даже если рассказывают, то только после двухсотой кружки барлиманова пива. Так вот, тролль Томас всего-навсего хотел вынуть из Кошелька щепотку чего-то очень пахуче-приятного и придать пудингу особый вкус. Но сэр Забияка, даром что владеет всяческими башнями и мостами, так и впился глазами в Кошелек. — А еще я подозреваю, что маленькому ребенку нечего делать в компании таких чудищ, как вы… — Кто тут ребенок? — осведомился юный Перри. — И, если уж на то пошло, говоря о чудищах, кого вы имеете в виду? — осведомились тролли. Сэр Забияка ничуть не смутился и продолжил свою речь: — …и я собираюсь исполнить долг любого странствующего рыцаря, освободив этого славного мальчугана от столь зловещего плена! — с этими словами он вытащил из ножен меч и устрашающе взмахнул им раз и другой прямо перед тролльими носами. Сей же час храбрый хоббитский сорванец дал злокозненному сэру Забияке отличного пинка, от которого странствующий рыцарь покачнулся и чуть не упал. Но как только сэр Забияка повернулся, чтобы поразить своего обидчика, ему пришлось отведать новых пинков, а надо признаться, Томас, Берт и Билл бывают иногда весьма тяжелы на ногу. Сэр Забияка, отряхнув рыцарский плащ от пыли, принялся наносить бедным троллям удары, но тролли в ответ лишь похихикивали, потому что такой это крепкий народ — тролли. Что им — меч? Меч им — ничего[8]. — А не съесть ли его? — миролюбиво предложил Томас. — Варить не в чем… — откликнулся Берт. — Может быть, запечь на угольях? Под яблочный эль пойдет превосходно, — заметил Билл. Тогда сэр Забияка зловеще захохотал и вскричал: — Так вот вы какие плуты! Ну ничего, сыщется и на вас управа. Тут он вложил свой ужасный клинок в ножны и вытащил из-за пояса железный молоток, каким в старые времена пользовались гномьи горные мастера, а теперь никто в Волшебной стране уже не пользуется, потому что гномов разогнал то ли дракон, то ли коты, то ли кто-то еще, а эльфы никогда и ни за что не полезут в горы, а хоббитам горное дело без надобности, потому что хоббиты и так живут лучше всех в Волшебной стране, и любое благоразумное существо признает это, так зачем хоббитам шастать по горам, пещерам и прочим вертепам? Хоббитам это совершенно ни к чему. Ну вот. Вынув свой кошмарный молоток, разъярившийся сэр Забияка принялся охаживать им тролльи бока, да так, что от несчастных Томаса, Берта и Билла отскакивали маленькие камушки, а кое-где они даже пошли трещинами[9]. Не желая и далее претерпевать такой конфуз, тролли убежали, бросив пудинг и даже Кошелек. А Перри, так тот бежал, не останавливаясь, до самого Хоббитона, жители которого как раз и узнали из рассказа мальчугана, какая чума забралась в Волшебную страну. Охочий до чужого добра сэр Забияка съел пудинг и заглянул в Кошелек Троллей. Не найдя там золота и серебра, отважный рыцарь вывалил содержимое Кошелька наземь и разметал его ногами[10]. Более злобного бесчинства Волшебная страна не знала вплоть до того времени, когда появился пакостный хоббит Бом Бочко-Фингал, удумавший приправлять брусничный пирог кардамоном. Брусничный-то пирог! По сегодняшний день почтенные хоббиты гневаются, вспоминая ту премерзкую вылазку против здравого смысла.
Сказание о том, как сэр Забияка безобразничал в зачарованном лесу
Обидев троллей, сэр странствующий невесть куда рыцарь перешел вброд Безымянную речку и добрался до опушки Зачарованного леса. Речку так, к слову сказать, называют в Волшебной стране по очень простой причине: она столь тиха нравом и неразговорчива, что до сих пор никому не открыла своего имени. Поговаривают, как будто один эльф целый месяц просидел на ее берегу, пытаясь познакомиться. И река, хоть и скромница, поведала ему, как ее зовут, но больше никому не разрешила рассказывать это. Так что проку из эльфова сидения на берегу не вышло, как и бывает со всеми эльфийскими штучками. Кознестроющий сэр Забияка возжелал остановиться на ночлег и развести костер в лесу, где обитает целая клумба всяческих эльфов, которые этот самый лес берегут пуще глаза. И надо же было сэру Забияке удумать обрубать ветви у Древнего Букка! Древний Букк, конечно, дремал и во сне ничего не почуял; он, по правде сказать, вообще мало что чует и все больше дремлет. Но проснувшись через двадцать лет три месяца и четыре дня, после того, как сэр грубиян помахал топором. Древний Букк ужасно расстроился, не обнаружив на месте собственных нижних ветвей. Чье сердце не прослезится, когда такие несчастья творятся в Волшебной стране! Заслышав о костре сэра Забияки, Предводитель лесных эльфов послал против него эльфийскую лучницу. А Владычица леса отправила феечку, искушенную в хитромагических делах. Но лучница по дороге нашла какой-то особенный ясень, всякий ясень у них, эльфов, особенный, не пойми почему, и вот она встала под особенным ясенем и принялась разглядывать совершенно особенный лист. Все листья у них, эльфов, совершенно особенные! Так лучница наслаждалась совершенно особенным листом особенного ясеня два дня и две ночи, и об этом у эльфов даже сложена песня, в каковой песне хоббиты никак не разберут, о чем она, потому что трезвоумным хоббитам, по правде говоря, нечего делать в эльфийских песнях. Зато уж все знают: пока она, лучница то есть, разглядывала листочек, наглоподлого сэра Забияки и след простыл. Феечка же услышала, как играет на флейте эльфийский менестрель Тифанто, и не могла сдвинуться с места, пока мелодии у менестреля не иссякли, а менестрели эльфийские здоровы играть, не переставая, и даже поговаривали, что в стародавние времена тамошняя знаменитость Иварэ давал концерт в столице, и пел без перерыва столько времени, сколько требуется взрослому хоббиту, чтобы съесть тридцать шесть больших пирогов. Одним словом, феечка тоже, конечно, так и не добралась до хулиганствующего сэра Забияки. Все ему сошло с рук, в чем, конечно, виноваты эльфы, и этого не может не признать ни один благоразумный житель Волшебной страны[11].
Сказание о том, как сэр Забияка штурмовал кошачий замок
Не будь злобный сэр Забияка таким любителем срубать и жечь деревья, может быть, ему бы и встретился в Зачарованном лесу кто-нибудь съедобный. И тогда, наверное, этот съедобный был бы убит и съеден[12]. Но все вепри и олени разбежались с пути сэра Забияки, птицы разлетелись, а бедные несчастные напуганные зайцы попрятались по норам и прочим укромным местечкам. Добрел сэр Забияка до Кошачьего замка и загрохотал рукояткой меча по воротам: — Я странствующий рыцарь, а странствующим рыцарям, если вы не знали, полагается бесплатная еда, питье и крыша над головой! Так что открывайте сейчас же. На его стук и всяческие невежливые крики откликнулся сторожевой мыш Джон. Сэр Забияка увидел перед собой открывшееся в дубовой воротине окошечко и мышью морду размером с малый пивной бочонок[13]. — Не знаем мы никаких странствующих рыцарей, убирайтесь-ка, сударь, подобру-поздорову. А иначе я позову кошачью гвардию с ее неустрашимым констеблем, и от вас останутся одни только клочочки, да железные рукавицы, — ответила сэру Забияке мышья морда из окошечка. — А я предупреждаю вас, что ежели вы не откроете и не накормите скромного странствующего рыцаря, я сейчас же разнесу весь ваш замок! — все не мог утихомириться злоречивый Забияка. — Ну, Тогда вы сами выбрали свою судьбу, сэр неучтивый рыцарь. Потом не говорите, что вас не предупреждали… — с этими словами сторожевой мыш захлопнул окошечко, и за дубовой воротиной послышалось какое-то копошение. А сэр Забияка все никак не унимался и даже повернулся спиной к Кошачьему замку, что удобнее было колотить в ворота подкованными сапогами. И вот он услышал малое предупредительное завывание храброго констебля Мрау, а уж этот Мрау большой мастер завывать и наводить страх на вражью силу. Одним словом, гвардейский констебль постарался на славу. — Кошка? — Осведомился сэр Забияка у дубовой воротины, нанося тем самым страшное оскорбление достоинству констебля, потому что Мрау никогда не был кошкой. Все в Волшебной стране от столицы и до прихода Мелкина знают: Мрау, конечно же, кот. В ответ на оскорбительные намеки невежливый сэр Забияка услышал за дубовой воротиной грозный мяв кошачьей гвардии. И так ужасен был этот мяв, как будто вся королевская рать спряталась за воротиной и завывает голосами зрелых и решительных котов. Громогласный сэр Забияка даже приостановил пинание ворот и задумчиво спросил, обращаясь к доброму крашеному дубу: — Мне кажется, вы все-таки не захотели меня впустить? Возможно, вам не понравилось… — Тук-тук! — послышалось у странствующего где ни попадя рыцаря над головой. — …мое упорство. Что ж, я понимаю. И давайте разойдемся мирно… — Тук-тук! — вновь послышалось откуда-то сверху. Сэр Забияка, даром что не хоббит, догадался поднять голову, и с перепугу даже сделал три шага вспять, от ворот. Отважная кошачья гвардия пристроила через стену суковатое бревно, с которого свешивались веревки и специальные люльки. А на веревках и специальных люльках висели гроздья разъяренных котов, яростно натачивавших коготь о коготь. Шерсть дыбом, глаза искрят, и устроился на том бревне, говорят, целый кошачий эскадрон. А всем заправляет неустрашимый констебль Мрау со шлемом из кожи тигровой крысы[14] на голове. — Не бойсь, ребята! — подбадривал он подчиненных, — Не загрызем, так потреплем! Сэр Забияка сделал еще шесть шагов вспять. — Сыпься кучней! — скомандовал командир котогвардии, — Кохтем рази! Поговаривают, что не успел первый же из котов приземлиться, а сэр Забияка уже скрылся из виду. И долго бежал он по Зачарованному лесу, лязгая всяческими металлическими штуками, поскольку опасался, что коты его догонят.
Сказание о том, как сэр Забияка не давал дракону спокойно спать
Волшебная страна — это такое место, где умеют и любят хорошенько поспать. Деревья в наших местах просыпаются, может быть, раз в сорок лет или даже в пятьдесят. Кроме, конечно, самой резвой молодежи, которая оставляет дрему чуть ли не по разу в год, и с перепугу покрывается не теми листьями и плодами, каковые листья и плоды ей положены по самому естеству: с берез падают желуди, на молодых осинках висят яблоки, а клены нагло и бесчинно цветут анютиными глазками. Или, скажем, Старый Ив, смолоду большой баламут, да и теперь никак не успокоится, все бродит, как какой-нибудь бродяга и пошучивает свои жутковатые шуточки. Зато почтенный Эльфийский Дуб в самой середине Зачарованного леса не просыпался уже двести восемьдесят восемь лет и ничуть никого не беспокоит. Или тот же Древний Букк, если б его не потревожил сэр Забияка, может быть, проспал бы еще пятьдесят или сто лет, спал же он до того без перерыва целых сто семь лет! Совершенно так же, как и деревья, подолгу не оставляют свою кошачью дрему коты. Матерые волшебностранские коты спят по двадцать два часа в сутки, и тем счастливы. Да и хоббиты разделяют со всей Волшебной страной эту полезную привычку. Ни один хоббит никогда не встанет с постели раньше рассвета, и никогда не ляжет позже заката. Наипочтеннейший хоббит Старый Тук открывает глаза только в полдень. Самая уважаемая хоббитская деревня, та, что на Вересковом холме, вся, как есть, с рассветом перекатывается с одного бока на другой, но ото сна и не думает восставать, а завтрак самым естественным образом совмещает с обедом. И только в захудалой и шебутной хоббитской деревне Сбрендии кое-какие прыткие типы норовят вскочить с петухами. И за это деревню Сбрендию все серьезные и солидные хоббиты считают несерьезной и несолидной деревней; как ее уважать, когда там ни свет ни заря начинается суета? Совершенно понятно, почему Волшебной стране и дракон достался лежебока-лежебокой. Да потому что в наших краях лежебок любят, холят и лелеют. И дракон сонного нрава очень всем понравился. Нет, поначалу, когда он только-только сюда прилетел, этот самый дракон, именем Хризофилакс, иначе Золотолюб, то частенько летал, пугая всех степенных и порядочных существ клубами дыма, наводил на коров порчу дурным глазом и повсеместно хвастался, сколь бурными были у него молодые годы в Пустынных землях, и с какими ладными драконихами он водился. Вот, с гномами повздорил, но тут не его вина, а скорее всего гномья, потому что все знают, какие проныры эти гномы, и как они любят напускать на себя воинственный вид и хвастаться невиданными подвигами. Конечно. Ни один порядочный хоббит ни за что себе такого не позволит. Но потом выяснилось: годы его не те, чтобы мечтать о драконихах, и больше в Хризофилаксе задору, чем резвости. Сделал себе дракон гнездо на Одинокой горе, подгреб в него, как водится у всех благовоспитанных драконов, гномьи сокровища, да и пристроился на них спать. Просыпается дракон не чаще раза в три месяца, кряхтя, поднимается в воздух и разминает крылья, никого напрасно не тревожа. Разве только один раз был у него серьезный разговор с фермером Джайлсом, но это совершенно особенная история, потому что очень непонятная. Так вот, именно к дракону Хризофилаксу и отправился препротивный сэр Забияка, услышав от кого-то, как видно, о драконьих сокровищах. Обсудив за пивом такое его поведение, хоббиты в трактире у Барлимана пришли к выводу, что сокровища, надо полагать, каким-то невидимым образом притягивают странствующих рыцарей, и куда бы те не странствовали, в конце концов непременно пристранствуют к сокровищам. На злые дела готовый сэр Забияка нашел дверь в пещеру, где как раз обитал Хризофилакс и забарабанил в нее рыцарскими рукавицами. А дракон, как полагается, спал. Шум и грохот, каковые устроил странствующий рыцарь, не дали несчастному дракону досмотреть сон, где он был старым спаниелем из деревни Большой Вуттон, который дремлет и видит сон о том, что он не старый спаниель из деревни Большой Вуттон, а самый настоящий дракон из Волшебной страны. Хризофилакс вышел в ночном колпаке, в домашних тапочках на задних лапах и со свечкой в передней лапе. Бедняга спросонья не разобрал, что там снаружи — ночь или день. Сэр Забияка и говорит грозным повелительным голосом хозяину пещеры: — Я странствующий рыцарь. Я дал обет сражаться с драконами и отбирать у них… э? Хризофилакс как раз в этот момент смущенно забормотал, извините, мол, гостей не ждал, минуточку… И, действительно, вскоре появился на пороге уже без свечки и колпака, зато в нарядной полосатой попоне и второй парой тапочек в зубах. — … э-э-э… отбирать у них сокровища… — Не желаете ли зайти? — вежливо осведомился дракон, предлагая гостю тапочки. — Благодарю покорно! Мне ли не знать всех тех ловушек, которые ожидают меня внутри! — А вы… собственно… кто? — Я уже говорил. — Извините великодушно, кажется я прослушал. Простите старика, не ждал никого, растерялся… — Я странствующий рыцарь! Отдавай сокровища или будем биться! — Рыцарь? — задумчиво повторил дракон и сообщил сэру Забияке, совершенно не изменив своего покойного и дружелюбного тона, — Еда. — А? — Рыцарь это еда. Но я уже старый и не нуждаюсь в мясе. С меня вполне хватает магических эманаций, исходящих от великого гномьего клада. — Так значит, ты признаешь, что похитил чужие сокровища? — Может быть, вы все-таки зайдете? Попьем чайку. Вы предпочитаете с душицей или с мелиссой? — Защищайся, мерзкое чудовище! Дверь в пещеру захлопнулась перед самым носом отвратительного сэра Забияки. Дракон решил поразмыслить в одиночестве, что ему делать с таким шумным и невежливым гостем. Например, открыть дверь и еще раз пригласить для доброй беседы… Нет, у него там меч, и если высунуться слишком далеко, ведь не преминет поцарапать. Нет. Или, скажем, хыкнуть на буяна огнем и хорошенько поджарить? Тоже не очень хорошо: это будет уже тринадцатый странствующий рыцарь, которого Хризофилакс до смерти захыкал огнем, несчастливое выйдет число. Лучше бы остановиться на двенадцати — цифра двенадцать, говорят, приносит удачу. Может быть, дракониха прилетит? С этой мыслью Хризофилакс принялся взбивать подушку, твердо решив оставить происшествие без последствий и посмотреть сон про молодую крыластую дракониху. Но сэра Забияку вид закрытой двери только взбесил: он уже побывал у закрытой двери Кошачьего замка и вовсе не хотел повторять свой опыт. Хоббиты в таких случаях говорят: «Незваный гость хуже странствующего рыцаря!» — Немедленно открой, мы будем сражаться как мужчина с… э-э-э… драконом! — завопил сэр Забияка и принялся молотить по двери носками сапог, не обращая внимания на изящный серебряный Колокольчик работы Мастера из столицы. Но дверной Колокольчик не умел молчать в таких случаях. Его жалобное звяканье помешало Хризофилаксу уснуть, и дракон все-таки подал голос: — Уходите, сударь. Ничего я вам не дам. И драться с вами тоже не хочу, потому что, говорят вам, не нуждаюсь в мясе. — На ремни располосую, мерзкий ты драконишка! — неучтиво отвечал ему странствующий рыцарь. Дракон присел на краешек постели и обхватил голову передними лапами. «Ну что это! — подумывал он, — Какой невоспитанный. Может, и вправду ему дать что-нибудь? Отвяжется и даст поспать спокойно, душа алчная». Хризофилакс больше всего любил золото и драгоценные камни. Ни за что не отдал бы он ни то, ни другое. Зато у него был еще сундук с серебряными монетами. Серебро Дракон любил намного меньше. И поэтому сундук вскоре полетел в сторону сэра Забияки из приоткрытой двери. Пересчитав беленькие кружочки, сэр Забияка вновь заскребся в дверь. — Что вам еще, ужасный вы человек? — Маловато будет. Как-то, в юные годы Хризофилакс прослышал от старших, что у эльфов драконы считаются чуть ли не венцом творения, и они, эти самые эльфы, не торгуясь отдадут целый лес за один драконий зуб, дабы иметь возможность созерцать его и сливаться с ним в общей гармонии. У хозяина пещеры как раз имелся такой зуб. Зубов вообще имелось… многовато. Они в последнее время, честно говоря, приобрели странную привычку: то качаться, то выпадать, то качаться то выпадать… Отчего ж не поделиться таким сокровищем? Драконий зуб, которым Хризофилакс, не глядя, запустил в сэра Забияку безо всякого злого умысла, и даже с явным добрым умыслом, попал прегнусному странствующему рыцарю прямо в лоб. Рыцарь, легонечко булькнув, распластался на камушках у самого входа в пещеру. Благодатно обманутый наступившей тишиной, дракон подумал: «Ну вот, унялось лихо. А то хуже гномья паразитного, честное слово». Хризофилакс аккуратно сложил крылья, одну переднюю лапу сунул под подушку, а другой прикрыл голову, как делают котята… это дракон подсмотрел именно у них. Такая славная дракониха прилетела к нему во сне! Незамысловатый сэр Забияка пролежал безо всякого разумения до первых звезд, потом очнулся и скорым шагом застранствовал подальше от пещеры с сундуком в руке. Историю о новом злодеянии ужасающего сэра Забияки дракон рассказал одной милой Звездочке, та — дверному Колокольчику, Колокольчик — котам, а коты — хоббитам. Старый Тук собрал по этому поводу хоббитскую молодежь и сообщил ей со всей значительностью и назиданием: — Теперь вы видите, что случается с невеждами, которые не знают о предназначении дверного колокольчика? И маленький внучок хоббита Кэбиджа ответил ему: — В них кидают зубом, дядя Тук. Да?
Сказание о том, как сэр Забияка сделал три шага к пасеке старого Беорна
От Одинокой горы беспокойный сэр Забияка отправился на полдень, но по Зачарованному лесу не пошел, потому что ничего съедобного в том лесу ему раньше не попалось, а странствующий всем на горе рыцарь был, наверное, уже очень голоден. И то сказать, все съедобное не такое уж глупое и бесхитростное, чтобы ему попадаться. Шел сэр Недаватель Спать Драконам опушкой Зачарованного леса, и все ждал, что, может быть, хотя бы встретится ему на пути ягодное место или, скажем, орешник с орехами. Но ягодам он не понравился, и все ягоды разбежались кто куда, а орешники попрятались в самую чащу. По пути сэру Забияке попался двор старого Беорна, который умеет оборачиваться зверями, разводит пчел и меняет свой мед на хоббитский сыр, каковым сыром хоббиты славятся по всей Волшебной стране и даже потихонечку торгуют им кое с кем из Большого Вуттона, потому что хоббитам нужна, например, говядина и чай, а чай в Волшебной стране не растет, и неговорящие коровы — тоже не растут; с трактирщиком же Барлиманом у старого Беорна такое соглашение: бочонок меда против трех бочонков пива или против четырех бочонков яблочного эля. Старый Беорн — добрый хозяин, хотя уж больно он большой, и лучше бы он был чуточку поменьше, а то некоторым с ним страшно разговаривать, хотя хоббиты и не боятся никого на свете. Еще старый Беорн все время ссорится с миссис Дальтиндой, бывшей Оружейниковой женой, которая говорит, что у нее мед лучше, но на самом деле не лучше, уж тут не только хоббиты, а хоббиты про мед знают больше всех, но и коты, и тролли, и даже эльфы, хотя эльфы про еду вообще мало говорит, но вот на этот раз высказались, так вот буквально все признают: у старого Беорна мед в полтора раза лучше, а гречишный — в два раза, и только липовый, может быть, в ту же силу… Миссис Дальтинда, что ни месяц, все грозится наподдать старому Беорну метлой или кочергой, но на самом деле не наподдаст, потому что пасечник уж очень большой и сильный, а Оружейникова жена только и умеет, что языком болтать, и про нее и сэра Забияку будет еще своя история. И хотел было беззаконный сэр Забияка свернуть к Беорнову дому. Но только сделал он шаг, как вдруг услышал прямо из-за стены громкое: — Рр-р-р-р-р-р-р-р-р! — Странствующие рыцари ничего не боятся, — ответил странствующий рыцарь и сделал еще один шаг, но не такой широкий, как первый. То, что было за стеной, зазвучало еще неприязненнее: — Грррррррррррррр! — и сэру Забияке, наверное, тут же представился очень большой косматый медведь. Очень-очень большой. По правде говоря, старый Беорн иногда бывал не прочь походить по округе в медвежьем виде, а уж рычать он умел получше настоящих медведей. — Я полагаю, медведи тут не водятся… Здесь ведь дом, а значит, люди живут… — произнес сэр Забияка и сделал третий шаг, даже не шаг, а шажочек, потому что совсем маленький. Сейчас же к «Гррррр» добавилось еще «Дззззззз». Это самое «Дззззззз» зазвенело у странствующего рыцаря над головой. Надо думать, он вспомнил Кошачий замок, где все неприятности тоже началось с «тук-тук», раздавшегося как раз над головой. Посмотрев наверх, сэр Забияка увидел пчел с пасеки. А волшебностранские пчелы, как известно, раз в десять больше неволшебностранских пчел, и лица у них почти совсем человеческие. Так вот, на лицах у тамошних пчел было написано что-то такое, от чего бесстрашный странствующий рыцарь взял все свои три шага назад, да и пошел своей дорогой. Старый Беорн потом долго рассказывал об этом славном деле. Но, конечно, действия, предпринятые хоббитами против сэра Забияки явили Волшебной стране больше величия и отваги, хотя сами хоббиты никогда не хвастаются этим и даже почти не говорят об этом вслух.
Сказание о том, как сэр Забияка ловил корову
Ну вот. Подойдя к Безымянной реке, позорно изгнанный с пасеки сэр Забияка увидел на другом берегу корову и задумал недоброе дело. Корову звали Галадриэль, и была она рыжепестрой, длинноресничной и хорошего удоя. А что имя у нее эльфийское, так это бывает только у коров, которые водятся с хоббитскими фермерами из деревни Сбрендии. Там такие шутки любят — от несерьезности. И коровы тамошние бродят невесть где и даже забредают в Серые горы. А потом кое-кто говорит, что хоббиты сочиняют песни и дают имена коровам, подражая эльфам из Зачарованного леса. Но это неправда. Эльфы из Зачарованного леса с коровами не водятся[15]. Отбилась корова Галадриэль ото всех прочих сбрендийских коров и забрела аж к самой Безымянной реке. Там она себе нашла достойную пару. В самом деле, кого еще встретить странствующей корове, как ни странствующего рыцаря? Нестранствующие коровы с Верескового холма или, скажем, с Кручи, почему-то на странствующих рыцарей никогда не натыкались. И только сбрендийская корова сумела отыскать приключений себе на рога. Только-только нашла корова Галадриэль пристойный лужок и устроилась там пощипывать траву и размышлять о разных философических вещах, как водится у коровьего племени за едой, — прямо из реки объявился непристойный сэр Забияка. Он, этот сэр Забияка, видите ли, только что перешел Безымянную реку, прыгая с камня на камень геройским скоком и с сундуком в руке. Корова, даром что сбрендийская, сразу смекнула, что сэр Забияка — настоящий смутьян и коровам не друг. Хоббитские коровы удивительно благоразумны. Благоразумнее хоббитских коров в Волшебной стране разве только сами хоббиты, да и то не всякие, а только самые почтенные. Злозадумывающий сэр Забияка было попытался успокоить корову, сделав ей комплимент: — Какая же ты красивая… — сказал он, — и упитанная. Корова, однако, усомнилась в добрых намерениях странствующего рыцаря и отошла подальше. Голодный сэр Забияка оставил сундук на берегу, вынул меч из ножен и попробовал подобраться к корове поближе. Но корова была настороже, и отошла еще дальше. Тогда он улыбнулся корове и сделал попытку обойти ее, чтобы напасть сзади. Однако мудрая Галадриэль, глядя на забиякин меч, повернулась к странствующему рыцарю рогами и попятилась задом, чтобы сэр Обманыватель Коров не застал ее врасплох. Недовольный ею хитрец побоялся далеко уходить от своего драгоценного сундука. Сэр Забияка вернулся к сокровищам, а потом с сундуком в руке опять принялся кружить у коровьего хвоста. Предусмотрительная Галадриэль перешла на мелкую рысь, и беспокойный сэр Забияка припустил за ней. Корова быстрее, и он быстрее. Корова в галоп, и он — в галоп. А сундук у него, как видно, тяжелый. Бегут они по полям и лугам. Бегут они по холмам и перелескам. Бегут они по оврагам и пустошам. А надо сказать, что хоббитские коровы — мастерицы убегать от неприятностей, и добрая хоббитская корова запросто обскачет лошадь, особенно если эта лошадь старая или стоит на месте. Так вот, никак не догонит стремительную Галадриэль хищный сэр Забияка. И кричит он ей: — Стой же, мерзавка! А не то отведаешь рыцарского меча! Корова же, благоразумно не сбавляя хода, откликнулась: — Вы совершаете злобное бесчинство, сэр рыцарь! Гонитель коров ответил ей, не разобравшись: — Коровы не умеют разговаривать! И таким ни с чем не сообразным заявлением он до того испугал бедную Галадриэль, что она быстро оторвалась от погони и неслась до самого Барлиманова трактира, где и упала, лишившись чувств у самых дверей. На следующее утро сбрендийские хоббиты повсюду разнесли горестную весть: у Галадриэли пропало молоко. И не было у несчастной Галадриэли молока целых восемь дней!
Сказание о том, как хоббиты обратились за помощью к волшебнику
И тогда хоббиты решили обратиться за помощью к Волшебнику, чтобы Волшебник напугал вредоносного сэра Забияку или даже превратил его во что-нибудь полезное, например, в корову, у которой молоко всегда есть. Но Волшебнику было ужасно плохо, ведь на днях он объелся репой, и не мог думать не о чем, кроме того, что больше никогда-никогда не будет объедаться репой. Поэтому от Волшебника не вышло никакого проку.
Сказание о том, как хоббиты обратились за помощью к фермеру Джайлсу
А потом хоббиты решили пойти к фермеру Джайлсу, который жил в трактире Барлимана, и уговорить его сразиться с мерзопакостным сэром Забиякой, дабы избавить Волшебную страну от напасти. Фермер Джайлс был похож на странствующего рыцаря больше всех прочих жителей Волшебной страны. Что-то у него было с великанами. Кто знает, что именно, но какая-то большая неприятность, а неприятности — это именно то, чего больше всего наплодил и сэр Забияка. Кроме того, у Джайлса была огромная борода, такая, что гномы, когда увидели его в первый раз, приняли за своего собрата, то есть за уродливого гнома-переростка. У сэра Забияки тоже имелась борода. Тот и другой отличались почтенным чревом и манерой похваляться своей силой. Только фермер Джайлс никого не обижал и сидел смирно в трактире, а сэр Забияка разбойничал по полям и лесам. Старый Тук, мудрейший из хоббитов, сказал по этому поводу: «Вот видите, не стоит судить о людях по их внешности. Внешность у этих двух одна, а люди — разные». Наконец, все в Волшебной стране знали: у фермера Джайлса есть меч, который называется Квазимордакс или вроде того. Называется он так, потому что им, по словам Джайлса, нетрудно отделить драконью морду от хвоста. Меч висел в трактире на стене будто бы в память о том, как его хозяин победил огромного дракона, отсек ему хвост длиной ни то в пять, ни то в десять тысяч футов, — в зависимости от того, сколько кружек пива поборол фермер Джайлс на этот раз. Говорят, дракон отдал ему часть своих сокровищ и даже сам доставил их до Барлиманова трактира[16]. Во всяком случае, Джайлс рассчитывался в трактире медными монетками, на которых красовался портрет Трора-Борода-Лопатой, старинного гномьего короля. Именно Трор владел когда-то Одинокой горой, где нынче угнездился дракон Хризофилакс. Вот, кстати, у кого была борода так борода! Нет, не у дракона, конечно. Но о Троровой бороде — особая история; ее рассказывают обыкновенно между притчей о том, как некий неспокойный хоббит Бильбо убрел неведомо куда с гномами вместе, а вернувшись, отсудил у родичей отличную нору… то есть, извините дом, и байкой о том, почему Паука из Зачарованного леса иногда зовут Шелобаном. Так вот, пришли мудрейшие хоббитские дядюшки и тетушки в трактир. И был тут почтеннейший Старый Тук, и норовистая хоббитиха Белладонна, и ужасно спокойный хоббит Хэм, садовник, и Крендели: раздумчивый Булко, какового Булку прочат в хоббитаны, когда Старый Тук решит, что тут ему делать больше нечего, и Булкина сестрица Любелия, любопытная — страсть; пришел также Кэбидж из Сбрендии, все-таки именно у них корова молока лишилась, а Кэбидж как раз из тех хоббитов, которые везде и во всем участвовали, но никто ни за что не вспомнит, о чем они говорили, и какое дело делали, зато все наверняка знают: и там этот хоббит был, и тут тоже был, а значит, — почтенный хоббит. Заходят они в трактир, а там сидит за столом сам Джайлс, пьет яблочный эль и глядит на хоббитов настороженно. Как будто они, хоббиты, пришли отобрать его эль или даже его сокровища, хотя хоббитам нет никакого дела до его сокровищ, нет менее жадного народа во всей Волшебной стране, чем хоббиты, и если у кого-то и появляются мысли, сколько-де монеток осталось у фермера Джайлса в сундуке, то хоббиты о таких разговорах даже не слышали, потому что у них нет привычки к таким разговорам прислушиваться, если только гномы не станут им такие разговоры разговаривать в самые уши. — Доброе утро, — поздоровался с хозяином Квазимордакса Старый Тук. Утро и на самом деле было чудесным: на дворе сияло солнышко, зеленела травка, пиво пенилось в кружках. — Доброе утро? И что же это означает? — осведомился фермер Джайлс. — Желаешь ли ты доброго утра мне или хочешь сказать, что вот мол, утро доброе, только я его порчу своим здесь сидением? Или намекаешь, что у тебя все в порядке и ты не прочь поболтать? А может, у тебя ко мне дело и ты просто начинаешь издалека? — Доброе утро, — вежливо сказала ему Любелия Сэквиль-Крендель. — Ага! Опять «доброе утро»! — вскричал фермер Джайлс, — И какое же дело может быть ко мне у почтеннейших хоббитов? А-а! Сюда как раз недавно прибегала сбрендившая корова… виноват! сбрендийская корова. И напугало ее, говорят, какое-то странствующее чучело с мечом. Иными словами, рыцарь. Может быть, почтенные хоббиты, вы хотите мне предложить заняться этим достойным джентльменом? — Доброе утро, — откликнулся Булко Крендель, и в голосе у него слышалась радость: дело-то — пошло! — Доброе утро? Понимаем! — продолжал фермер Джайлс. — Вы, почтенные хоббиты, надо полагать собрались мне предложить что-нибудь стоящее, например, десять голов хоббитского сыра или пару мешков хоббитского табаку? Чтобы мне, стало быть, легче рисковалось. — Доброе утро, — упавшим голосом произнесла тетушка Белладонна. Сыру они собрались преложить всего семь голов, а если табаком — то всего один мешок и к нему две добрых трубки из красной глины, расписанной по-эльфийски… то есть, конечно, по-хоббитьи, но случайно самую малость похоже на работу эльфов. Насчет двух мешков — надо еще подумать. Хоббитским табаком пользуются по всей Волшебной стране, и даже сам король, говорят, похваливает его. А уж раз сам король сказал, что хоббитский табак — хороший, значит, и все должны признать, что очень хорош хоббитский табак. Ишь ты! Два мешка. — Что за прелесть это твое «доброе утро»! — подхватил фермер Джайлс. — И вы, почтенные хоббиты, надо думать, рассчитываете, что я за два-три мешка табаку и за сыр какой-то там выйду на смертный бой с ужасным и кошмарным рыцарем? И что он снесет мне голову за вашу сбрендившую корову? То есть вы, конечно, надеетесь вон на тот меч. Да, почтеннейшие хоббиты? — Доброе утро, — мрачно сообщил Хэм, и сказал он это из одной вежливости, потому что невежливо так вот сразу заканчивать разговор, когда ясно, что собеседник не в себе. Уже три ему мешка! И сыр, значит, не сам по себе, а к табаку! Зря это хитрый фермер намекает, ничего у него не выйдет. — И вот опять я слышу это «доброе утро»! Что за лукавая манера вести дела! — разошелся фермер Джайлс, — Ну так я вам все объясню. Когда мне мои соседи по деревне на день рождения подарили Квазимордакс и сказали, что это королевский подарок, они, конечно, не ошиблись. Дорогая вещь. Очень приличная вещь. Но она хороша только если пойти на дракона. А у странствующих рыцарей таким мечом морды от хвоста ни за что не отделить, потому что у них, как правило, нет хвоста. Так что даже если бы вы, почтенные хоббиты, пообещали мне четыре мешка табаку и пятнадцать голов сыра… куда же вы, почтенные хоббиты? Ну, может быть, три и двенадцать?.. и одиннадцать?.. — Доброе утро, — угрюмо процедил Кэбидж, решительно захлопывая дверь трактира. А выходил он последним из хоббитов. — Доброе утро… — растерялся фермер Джайлс.
Сказание о том, как хоббиты собрались на большой хоббитий совет
И тогда поняли хоббиты, что придется им самим защищаться от забиякиных бесчинств. Собрались они на Большой и Великий хоббитий совет в доме Старого Тука. Туда пришли все хоббиты, которые вели переговоры с фермером Джайлсом, а еще к ним присоединилась Рози, жена Хэма, про которую сам Хэм сказал, что надо бы ее позвать, потому что она разумная и спокойного нрава хоббитиха, может, скажет чего умного; а сама Рози, когда явилась, сказала, что пришла, потому что особых дел по хозяйству у нее сегодня нету. Началось все вот как: Старый Тук достал трубку и долго ее набивал добрым табачком, а потом так же долго раскуривал. Так уж водится у хоббитов: закуривать неспешно, ведь когда закуриваешь, умные-то мысли в голову и приходят. Глядя на него, все прочие хоббиты тоже задымили, а хоббитихи принялись морщиться и махать руками. Толстыми серыми кольцами дым потянулся к потолку. Под потолком собралось очень много дыма, так много, что потолок совсем потерялся из виду. Как следует покурив, Старый Тук отставил трубку и высказал ту самую мысль, которая пришла ему в голову: — Знаете ли, я уверен, что с этим… э-э-э… Забиякою надо что-то делать. Н-да. — Да-да! — зашумели все хоббиты и хоббитихи, — надо что-то делать. И тут дверь открылась, и в дом вошла Эланор, родная дочь Хэма и Рози. Была когда-то эта самая Эланор маленьким и славным хоббитенком, а потом стала какой-то странной и чудной, совсем как эльф. Вот и тетушка Любелия с тетушкой Белладонной говорят, совсем, дескать, плохое у нее воспитание. Послали ее когда-то в столицу, и там она поднялась на самый верх, с самыми высшими людьми разговаривает, с советниками, с принцессой, чуть ли не с королем. Оно и понятно: чего не достигнет настоящая сметливая хоббитиха! Да и одевается она не как хоббитская девушка, ходит не в башмаках и не в платье с длинной юбкой, а в штанишках, сапожках и плащике. Ну совсем как эльфийка какая-нибудь! — Здравствуйте, почтенные хоббиты. — Здравствуй, милая Эланор. — Как же я люблю вас, мои милые ушастики! Тут Рози и Старый Тук отвечают ей одновременно: — Здравствуй доченька! — Да и сама, поди, не безухая[17]. А все прочие хоббиты и хоббитихи согласно загудели: правильно-де он ее отбрил. Тогда Эланор приняла ужасно важный вид и заговорила совершенно эльфийским голосом: — О, хоббиты! Род, записанный в книге судеб! Род мудрый и не лишенный отваги… Присутствующие кивают. Конечно. Отваги — не лишены. — …король призывает вас встать против бесчинного злодея, угрожающего спокойствию всей Волшебной страны! Старый Тук вставил: — Да уж мы и сами как-то… встаем. — …Да! Всей Волшебной страны! Вспомните о героических деяниях ваших предков! Как сшибали они мечами головы буйных гоблинов и наполняли ими кроличьи норы! Тут Эланор увидела, что все как-то разом перестали на нее смотреть. Да, ушастенькая, дала маху. Не стоило упоминать о кроличьих норах почтенным хоббитам, потому что почтенные хоббиты никакого отношения к кроликам не имеют. — Э… в смысле, свои норы, конечно же, а не кроличьи. Вспомните, как носили ваши отважные предки множество колец на пальцах и пугали неприятеля, щелкая ими со страшным и ужасающим грохотом. Шесть колец, то ли девять колец, то ли даже двенадцать колец[18]! Что скажете вы, мужественные хоббиты? В ответ Старый Тук принялся выбивать трубку. Для настоящего хоббита выбивка трубки — исключительно важное дело. Порядочная выбивка занимает полдня, особенно если ею занимается такой почтенный хоббит, как Старый Тук. Сначала надо вытряхнуть пепел, потом разобрать трубку и почистить ее разными подходящими щеточками, помыть, высушить и как следует отполировать бархатными тряпочками. Но, конечно, Старый Тук порядочную выбивку затевать не стал. Он всего-навсего вытряхнул табак и почистил трубку. Это заняло не более получаса. Затем он вновь набил трубку и как следует затянулся. А затянувшись, пустил три ровных колечка. Помолчал для степенности и рассудительно ответил: — Двенадцать колец — это вряд ли. Пальцев не хватит. И слова его были встречены восторженными кликами хоббитов и хоббитих.
Сказание о том, как хоббиты бились с сэром Забиякой на турнире
Тем временем злопрославленный сэр Забияка перешел реку Златенику у самого Барлиманова трактира, а это совсем недалеко от коренных земель Хоббитона, где испокон веков жил народ хоббитов и паслась хоббитская скотина. Прямо на берегу, посередине Рябиновой поляны, его ожидал достойный противник, а по кустам попряталось множество зрителей. — Эй! — окликнули сэра Забияку. — Эй! Я князь этой страны и великий хоббитан Хэманор! Либо убирайся прочь с моей земли… э-э-э… непонятный рыцарь, либо мы скрестим мечи на славном турнире! Кстати, никто из засевших под кустами почтенных хоббитов не знал, что именно означает слово «турнир». — А это обязательно, уважаемый Хэманор? Я два дня не обедамши, и с большим удовольствием попировал бы с тобой, чем сражаться… — ответствовал сэр Забияка. — Нет, сэр трусливый рыцарь, нам предстоит смертный бой! Гонитель Коров остановился в некоторой растерянности. Лезть обратно в реку ему, понятно, не хотелось. Биться, как видно, тоже. Если б вышел кто-нибудь из хоббитов, которые засели в кустах, и предложил бы ему еды и питья с тем, чтобы сэр Забияка убрался восвояси — на тот берег или вовсе из Волшебной страны, — очень может быть, он бы и убрался. И Старый Тук было полез, кряхтя, из густого малинника, дабы спасти Волшебную страну мудрым словом и хоббитским сыром. Но все дело испортила горячая голова Эланор. И впрямь, что проку в этих эльфах, которые только и могут заморочить бедной девочке голову героическими штуками, а как до дела дойдет, не отыщешь ни одной эльфийской лучницы! Они видите ли, сидят под кленами! Или под ясенями, что совершенно одно и то же! Хоббиты не таковы. Итак, рот Хэманора разверзся, и оттуда вылетела фраза, совершенно сгубившая благое предприятие: — Гнусный сыр рыцарь! Я иду на тебя! И Хэманор шагнул вперед. То есть шагнули ноги старины Хэма, на плечах которого вольготно устроилась Эланор. Эту тайну скрывала очень старая и очень длинная гоблинская кожаная куртка с нашитыми на нее железяками. Про гоблинскую куртку есть своя особенная история, такая древняя, что ее буквально все уже забыли… На голове у Эланор красовался преогромный шлем, принадлежавший в давние времена великому хоббитскому вождю Быкоеду. Или Быковалу. Во всяком случае, многие так говорят. Голос Эланор звучал из-за забрала весьма мужественно и решительно. Девочка замахала мечом, каковой меч сам пять лет назад прибежал к хоббитам от Оружейника, потому что сошел с ума. Странные мечи делает этот самый Оружейник: то они убивают, то они не убивают, то сглупу набрасываются на своих же хозяев. Сумасшедший меч закаляли в тени дятла, сидевшего на дереве и с любопытством наблюдавшего за работой Оружейника. В результате тень у дятла начисто пропала, и дятлихи теперь от него шарахаются. А меч приобрел охоту к дальним перелетам, точнее перебегам, покуда его не изловили хоббиты, которым все в хозяйстве пригодится[19]. Кроме того, меч с удовольствием часами подалбливал острием что-нибудь деревянное на потеху маленьким хоббитятам. Его так и зовут: Сумасшедший меч. Сэру Забияке не оставалось ничего иного, как только вынуть свой собственный меч из ножен. Он и Эланор ударили металлом о металл, еще раз и еще. Но тут старина Хэм поскользнулся на мокрой траве и потерял равновесие. Пока они с дочкой выпутывались из гоблинской куртки, Сумасшедший меч, не заметив, что им уже никто не машет, продолжал азартно скрещиваться с Забиякиным клинком. Только когда две половинки невиданного хоббитского витязя Хэманора покинули место позорного поражения, Сумасшедший меч осознал всю свою неприкаянность и спрятался за дерево. Невоспитанный сэр Забияка горделиво оглядел поле битвы и мерзко захохотал.
Сказание о том, как миссис Дальтинда билась с сэром Забиякой на турнире
Тут из зарослей выскочила с преужасной Кочергой наперевес миссис Дальтинда. Она завидовала славе Старого Беорна, столь легко отвадившего странствующего непутем рыцаря от пасеки, а потому присоединилась в том бесславном походе к почтенным хоббитам. Безо всяких почетных рыцарских слов и предупреждений она кинулась оглаживать Кочергой сэра Забияку. Но тот обращал на нее внимания не больше, чем на злобную земляную муху. Когда миссис Дальтинда ему окончательно надоела, бедоносный сэр Забияка выхватил Кочергу и сейчас же завернул ее одними руками в замысловатый железный крендель, каковые кренделя любит печь для хоббитской осенней ярмарки достойная тетушка Белладонна, посыпая их тертым миндалем и корицею. Миссис Дальтинда испугалась и упала в обморок, да так неудачно, что скатилась в какой-то овражек, откуда почтенные хоббиты потом доставали ее до самого заката. Кочерга же произнесла только одно: — Предупреждали тебя, старая калоша! Впоследствии, когда хоббит Булко Крендель распрямил ее, Кочерга не согласилась возвращаться к Дальтинде и поселилась у него дома.
Сказание о том, как сэр Забияка не заплатил по счету в Барлиманове трактире
Так сэр Вихрь Бедствий проник в самое сердце Волшебной страны. Ибо если головой Волшебной страны следует считать ее столицу, где живет король, его советники и принцесса, то сердцем ее всякий, кроме какого-нибудь эльфа, назовет Барлиманов трактир. Какой-нибудь эльф скажет, что это, мол, Зачарованный лес. Но тут нет, конечно, ни на понюшку табаку правды, ибо в сем достославном трактире пребывает дух Волшебной страны, не говоря уже о бесподобном пиве. И вот к Барлиману заявился беспредельно злобный странствующий рыцарь и крикнул Сванильде, чтобы она принесла ему шесть пива и столько мяса, сколько, по ее мнению, должно бы влезть в голодную медвежью утробу. Публика, сидевшая в трактире, сейчас же разошлась кто куда. И гномы, и коты, и фермер Джайлс, и сборщик налогов из столицы, и даже Лис из Вековечного леса, хотя и хвастался всегда, что никого на свете не боится[20]. А хоббиты даже и не заходили в трактир, потому что неприятно им, хоббитам, сидеть рядом с таким бесчинным существом. Все, кто вышел наружу, сейчас же, конечно, устроились у окон и щелок, посмотреть, что будет. А сэр Забияка опечалился отсутствию компании и принялся пить пиво в одиночестве. Выпив на скорую руку первые шесть кружек, он заказал столько же, чем вызвал у зрителей некий призрак уважения. Вот если странствующий невесть за какими пряниками рыцарь еще и вел бы себя хорошо, тогда его сочли бы почтенным существом. Но, как говорят мудрые хоббиты, на одном пиве репутации себе не сделаешь… Вторые шесть кружек сэр Забияка пил медленно и раздумчиво, а зрители за окнами загибали пальцы: «Восьмая… девятая… Может, не так уж он и плох?» На десятой кружке стало сэру Гонителю Коров совсем скучно, и он заговорил с самой пивной кружкой, глядя на ее опустевшее дно. — Что за страна такая отвратительная, сударыня кружка! Все вокруг умеет разговаривать, от коровы и до кочерги, но никто доброго слова ни скажет… «Сударыня кружка» молчит. — Вот и ты, моя милая, умела бы лопотать по-человечьи, верно, тоже сказала бы какую-нибудь гадость… Что, разве не так? — А ты сам-то как думаешь, дурень? — отвечает ему Кружка. У них, у кружек, нрав, как известно, дурной. Чего наслушаются, то и говорят. Ну, сэр Забияка не стерпел такой обиды. — Тут даже кружки хамят! И грох госпожу Кружку об стол! Но та не раскололась, потому что крепкая, и потому что Волшебник наложил на трактирные кружки Большое и Тайное Неразбивательное Заклятие из ста сорока четырех слов. Кружка, разумеется, тоже не смолчала: — Каков молодчик! — завопила она на сэра Забияку, — а хоть одну кружку ты собственными руками сделал? Остолопам вроде тебя только бы железкой махать! Пышущий гневом сэр Забияка выскочил из трактира, едва не позабыв свой драгоценный сундук. И по счету не заплатил, хотя почтенная Сванильда кричала ему вослед так громко, что некоторые медведи в Вековечном лесу на целую неделю лишились аппетита. Много ль преступлений в Волшебной стране горше чем не заплатить по счету в Барлиманове трактире? Совсем, по правде сказать, мало. Все платят Барлиману. Гномы — драгоценными камушками, Джайлс — медными денежками, эльфы — наливными яблочками, тролли — кулинарными штучками, хоббиты — сухими дровишками… А этот тип — не заплатил! Вся Волшебная страна застыла в немом возмущении.
Сказание о том, как славные хоббиты избавили волшебную страну от сэра Забияки
Полдня отважные хоббиты совещались, но никак не могли придумать достойный способ избавления от сэра Забияки. Эланор унеслась в столицу, сказав, будто бы у нее срочные дела, а какие могут быть срочные дела, когда сэр Забияка у ворот? Сам же гоблиноподобный сэр Забияка опустошал хоббитьи сады-огороды и пугал их почтенных хозяев мечом. От такого плохого настроения даже мысль в голову не лезла мудрым хоббитским дядюшкам и тетушкам. Но вот прибыла к ним большая белая кошка из Кошачьего замка[21] и намурлыкала хитрую кошачью уловку… Отправились хоббитские старейшины на огород к Кэбиджу, где странствующий рыцарь дергал нежные огурчики без пупырышков, каковые огурчики водятся только в Хоббитоне, и ел эти самые огурчики прямо так, совершенно немытыми. Почтенный хоббитан Старый Тук трижды громко откашлялся, прежде чем непочтительный сэр Забияка соизволил обернуться и обратить внимание на хоббитских послов. — Неуважаемый сэр грубиян! — храбро начал Старый Тук. — Вы нарушили покой Хоббитона, смертельно оскорбили корову Галадриэль, не заплатили по счету в трактире и без спросу лопаете немытые огурцы с огорода почтенного хоббита Кэбиджа… Странствующий рыцарь к тому времени пригляделся к хоббитским старейшинам и ляпнул очередную гнусность: — О! Гляди-ка… зайки в штанишках… Старый Тук гневно бросил в лицо возмутительному сэру Забияке перчатку вызова. И попал в самый глаз, отчего оный Забияка принялся тереть глаз, горестно скривившись. — Мы, славный народ хоббитов… э-э-э… не лишенный отваги… вызывает тебя… в смысле вызываем тебя на древнее хоббитское состязание. Если победишь, будешь грабить наши огороды невозбранно, а если проиграешь, немедля уберешься из Волшебной страны восвояси! — Грабить… как ты сказал, невысоклик? невозбранно? — я и так могу. Насчет уйти, надо еще подумать: по правде говоря, я не знаю, как отсюда уйти и все ли я здесь выгреб ценного, чтобы вот так взять и уйти… А вас, паршивцев ушастых, я в любом состязании побью, тут и меряться нечего. — А вот и не побьешь! — вылезла тетушка Любелия. Всегда она вылезает! — Побью! — Ни за что не побьешь — вылезла тетушка Белладонна. И эта не могла отстать от своей подруги Любелии! — Не сомневайтесь, побью! — Да где тебе побить нас! — вылезла тетушка Рози. Ох, эти женщины! — Тут и спорить нечего, побью! — Пойдемте, почтенные мои друзья, — обратился к соратникам Старый Тук, — ибо мы не добьемся толку от рыцаря, который столь труслив и робок. Конечно, он ни за что не решится… — Так что там у вас за состязание, пыльные огородники? Хоббиты выставили от себя Хэма и все состязание состоялось у него в доме. Ибо после того, как Эланор отбыла в столицу «по срочным делам», других виноватых в разгроме на Рябиновой поляне не осталось. Кроме того, Хэм — самый исполнительный и безотказный хоббит во всей стране. Кроме того, тетушка Любелия и тетушка Белладонна обвиняли его в ужасающем пьянстве, но эта история еще до конца непонятна, и говорить о ней нечего. Зато завсегдатаи Барлиманова трактира своими глазами видели, как Хэм трое суток подряд пил яблочный эль, слушал волшебные истории, сам их рассказывал и ушел на своих двоих после двести восемьдесят восьмой кружки. Разве такого хоббита можно обзывать пьяницей? Так вот, именно элестойкость почтенного Хэма и послужила главной причиной для того, чтобы именно он отстаивал дело хоббитов. Ибо традиционное хоббитское состязание состоит именно в том, кто выпьет больше кружек яблочного эля, не упав со скамьи. По правде говоря, Хэм, как полагают многие почтенные и благопристойные существа Волшебной страны, победил бы сэра Забияку безо всяких кошачьих подковырок. Но с подковырками всегда вернее. Даже Волшебник говорит: «С подковырками магия выходит вдвое крепче, чем без подковырок». Принялись они по очереди пить эль, сидя за дубовым столом, каковой дуб срублен был в окрестностях Большого Вуттона, он неговорящий, ибо за говорящий волшебностранский дуб эльфы бы запросто пошли войной на Хоббитон, хоббиты эльфов не боятся, но зачем такой шум? — короче говоря, дубовые доски хоббиты выменивали на расписные трубки и крепкий табачок. Пьют и пьют, еще даже середины не видно. И тогда большая белая кошка — скок на стол и давай тереться о сэра Забияку, да так ласково, что все, кто не знал о кошачьей подковырке, зашикали, мол, каково предательство! А сэр Забияка гладит кошку и приговаривает: — Какая красавица! Хоть что-то у вас тут есть хорошего. О драконьем серебре воровато странствующий по огородам рыцарь забыл. Конечно. Большая белая кошка ласково ответствует: — Милый мой рыцарь! Былау бы яу принцессой, тыу был бы моим возлюбленныммммррррр… — и голос у нее такой, и прищур, что любая принцесса иззавидуется. — О! О! Какая славная кошка! Нигде я не видел такой славной, белой и пушистой кошки, — приговаривает сэр Забияка. А большая белая кошка похаживает у него перед носом, спину выгибает, мурчит, жмурит глаза, игриво поводит хвостом, трется о Забиякины доспехи и нежно когтит стол. — Мой рыцарь! Лучший в миреу рыцарь! Самый могу-у-у-учий, самый отвауауауажный… Сэр Забияка хлоп кружку, хлоп другую, хлоп третью, и дынь — набок. Заснул, как маленький хоббитенок после большой огородной прополки. Губами во сне причмокивает, как будто не он гонялся за коровой. Тут с него сняли меч с ножнами и другие опасные штуки, накрепко связали доброй хоббитской веревкой, прочней которой делали только темные маги в старину, да их и след простыл, а потом выволокли достранствовавшегося рыцаря прямо на улицу и уложили в грядках. Подковырка же кошачья состояла как раз в том, чтобы усыпить громорыкающего сэра Забияку. Сам он опасался всяческих отравлений и усыплений, а потому хоббиты разрешили ему самому выбрать любой бочонок эля в любом доме, притом совершенно бесплатно, — для состязания с Хэмом. Но лукавая кошка, пока ходила по столу и подмяукивала сэру Забияке, натрясла со своей шкуры ему прямо в кружки сонного порошка. Порошок состоял из маковой крошки и какой-то измельченной сушеной травки, ведомой только котам. Совсем чуть-чуть его понадобилось, чтобы злостномогучий сэр Забияка непробудно заснул. Все хоббитские семьи по очереди тащили неподъемного сэра Забияку от дома почтенного Хэма до Вековечного леса, где, как известно всем жителям Волшебной страны, бродит Вековечная дыра. Старина Лис, а он знает тамошние дорожки как собственные когти, согласился проводить хоббитов с их поклажей до самой Дыры. До места добрались уже к вечеру, потому что Хоббитон по всей Волшебной стране славится своими силачами, каковым силачам ничего не стоило быстро донести сэра Забияку. По поляне плавала большая дырища в рост какого-нибудь тролля, и в ней был виден тоже лес, но совсем другой, не волшебностранский, а вуттонский. Через эту самую Дыру хоббиты в строго обговоренные дни устраивают с фермерами из Большого Вуттона торг; тем не менее, вуттонцы до сих пор, как говорят всяческие туда-путешественники, совсем не верят в Волшебную страну. Ну да. А хоббиты не верят в Большой Вуттон, хотя и любят о нем рассказывать хоббитятам в долгие зимние вечера. Конечно. Так вот, хотя никакого Большого Вуттона и нет, но предусмотрительные хоббиты все-таки решили не портить жизнь тамошним жителям. Они упросили фермера Джайлса написать на английском языке письмо для вуттонских фермеров, где говорилось вот что: «Это злодей и очень шумный тип. Если не хотите неприятностей, отнесите его, пока спит, подальше от своей деревни, так, чтобы он не нашел к вам дорогу. Ну а если он уже проснется, то что поделаешь». Письмо перевязали красивой тесемочкой — для заметности, и прикололи малой хоббитской булавкой прямо к камзолу на животе у сэра Забияки. Потом силачи из Хоббитона раскачали странствующего рыцаря и отпустили. Тело его шумно хряпнулось за пределами Волшебной страны. Надо думать, не проснулся. А Вековечная дыра медленно уплыла совсем в другое место. После этого беспримерного и достохвального подвига хоббиты устроили праздник на три дня, и Волшебник даже расщедрился на большой фейерверк прямо над Барлимановым трактиром. А король прислал письмо, написанное на пергаменте золотой краской, в котором почтенный хоббит Хэм и большая белая кошка названы «спасителями отечества». А еще там сказано обо всех хоббитах, какие они мужественные и могучие. Или что-то вроде того. Письмо хоббиты разрезали пополам. Клочок, где про Хэма, висит у него в доме, а клочок, где про всех хоббитов, висит в доме у Старого Тука. Большой белой кошке тоже хотели дать кусочек, но она поменяла эту честь на большущий кусок неговорящей неволшебностранской свинины. К корове Галадриэли вернулось молоко, а к медведям из Вековечного леса — аппетит. Многие спрашивают, куда девался сундук с драконьим серебром, но про это никому ничего не известно. Во всяком случае, вся Волшебная страна уверена, что почтенные хоббиты к его пропаже не имеют ни малейшего отношения. Ну вот. Такая была история с сэром Забиякой. Нету сэра Забияки, и очень хорошо. Он тут никому не нужен. По правде говоря, Волшебная страна — это такое место, где ужасно не любят всяческих забияк. И когда он, наконец, устранствовал к Большому Вуттону, все местные жители вздохнули с облегчением. Чай, обратной дороги не найдет. Но иногда кое-кто из хоббитов начинает сомневаться: вот, мол, когда-нибудь забудут, что надо рассказывать гостям между притчей о том, как один незамысловатый художник тягал картошку, и байкой о том, как сборщик налогов никак не мог добраться до столицы, и лихо опять явится. Подобному унылому хоббиту с полным на то основанием отвечают: «Такое разве забудешь!»
Елена Хаецкая Гуляки старых времен
Этот текст имеет отношение к сказке «За Синей рекой» и представляет собой своего рода приквел всей истории. В частности, здесь действуют молодой Зимородок и молодая Мэгг Морриган. Часть текста написана Тарасом Витковским (вставные новеллы о Золотом звере и Контрабандисте и сиренах). Все стихи в повести — мои. Одно нуждается в пояснении — это баллада, которую поет Молчун, — «Мальчик-поэт на войну пошел». У поэмы два источника. Во-первых, заглавная строчка взята из ирландской песни, которую поют какие-то переселенцы в космической опере «Стар Трек». Песня переведена плохо, за исключением этой строчки, и мне захотелось продолжить. Во-вторых, в 1996 году у меня сидели ролевики всю ночь перед стартом на игру (кажется, на один из московских «Кринов»). Это были мои соратники по Эшберну, Черная Гвардия, мы недавно вернулись с этой игры (ее устраивали под Питером). Бравые наемники расчувствовались и всю ночь пели. Один из них исполнил песню «Наемник вернулся домой». Он рассказал, что эту песню сочинил один парень, он ушел в армию служить, а когда вернулся, то обнаружил, что его песню украли: кто-то ее поет и выдает за свою. Мне спели эту песню и даже позволили ее записать, но с одним условием: я никому не дам переписывать. Я сдержала слово, запись есть только у меня, а историю украденной песни и приблизительное ее содержание (которое хорошо связалось с мальчиком-поэтом, ушедшим на войну) я использовала в «Пьяницах старых времен». Эта повесть была написана специально для т.3 Антологии мировой фантастики — «Волшебная страна» (фэнтези), Москва, «Аванта+», 2003, по инициативе Дмитрия Володихина, составителя антологии. Толчком послужила странная моя встреча в одном из проходных дворов на Петроградской стороне. Там сидели какие-то ветхозаветные благовоспитанные алкоголики, очень вежливые, и благопристойно выпивали. Было лето, росли пыльные лопухи — казалось, не было ни перестройки, ни капитализма, а на дворе по-прежнему семидесятые… У меня в голове стало складываться стихотворение, которое приводится в тексте. Первоначально повесть называлась «Пьяницы старых времен», но по просьбе Володихина название было изменено, поскольку основной читатель Антологии, как предполагалось, — дети, книга должна была поставляться в школьные библиотеки, и если какой-нибудь преподаватель откроет оглавление, а там, о ужас, пьяницы какие-то…
* * *
Пьяницы старых, добрых времен, Где вы, пьяницы старых времен? Краснорожие, вислобрюхие, Пили пиво, стучали кружками, И икали, рыгали, хрюкали, И служанок звали подружками, Пьяницы старых, добрых времен, Где вы, пьяницы старых времен? Пухлым задом, обтянутым юбкою, Кружевами по подолу вспененной, Семипудовою голубкою Опуститься бы на колени вам! Пьяницы старых, добрых времен, Где вы, пьяницы старых времен? Пирожки маслянистой горкою, Мясо с кровью, пива бочонок… Что потом? Ваше пенье, нестройное, громкое, Драки добрые, танцы с топотом… Пьяницы старых, добрых времен, Где вы, пьяницы старых времен?Когда Дофью Грас написал это стихотворение, то многих оно повергло в самое настоящее недоумение. Среди своих товарищей (о них речь впереди) Дофью был известен как сочинитель почтенных застольных баллад — таких, как «Горький пьяница рыжий Ганс», «Эй, привидение, сядем за стол» и бесконечная «Пивная кружка», которую исполняют обыкновенно под самый конец пиршества. — Объясни, как это тебя угораздило представлять свою персону в виде «семипудовой голубки»! — сердито говорил Забияка Тиссен, самый суровый ценитель изящной словесности в округе. Тиссен был лет восьмидесяти, тощ и чрезвычайно складчат; его нос и указательный палец, которым он тыкал в листок со стихами, скрючились, так сказать, в одной позе и выражали одинаковое неодобрение. Дофью Грас, также очень немолодой господин, дородный, весьма румяный (при виде его на ум сама собою вскакивает яичница с ветчиной, пышная и брызжущая здоровьем, — до которой он был, кстати, большой охотник) вынул изо рта погасшую трубку, внимательно поковырял в ней мизинцем и с деланной рассеянностью принялся растолковывать: — Поэт, минхер Тиссен, волен воображать себя кем угодно. Это называется — «лирический герой». — Но почему «голубкой»? — не унимался Тиссен. — Мне доводилось сочинять от лица старого рыцаря ван Хорста — ничего, всем понравилось. А припев в этой песне, между прочим, поется его лошадью — об этом я никому не говорил! — и ничего, все исполняли да нахваливали. Забияка Тиссен побледнел под загаром. — Лошадью? — переспросил он. Дофью расхохотался. — А «Кружка»? — сказал он потом. — Ведь эта баллада написана от имени кружки, которая перечисляет всех славных пьяниц, когда-либо наполнявших ее добрым пивом… «Кружка», к слову сказать, была настоящим шедевром Дофью Граса. И дело даже не в том, что полностью она состояла из восемнадцати куплетов, по восьми строчек в каждом. Каждый куплет заключал в себе сжатое описание жизни, подвигов (а иногда и смерти) знаменитейших ценителей дивного хмельного напитка. Наилучшего в «Кружке» было то, что она неизменно вызывала в исполнителях дух здоровой соревновательности. Как только что упоминалось, к этой балладе приступали только после того, как все прочие бывали спеты, а большая часть бутылей и кувшинов опустевала. Требовалось не забыть ни одного куплета (что само по себе превращалось в вид спорта). Время от времени поющие замолкали, вглядываясь друг в друга блестящими от волнения глазами, а потом кто-нибудь вспоминал очередное прославленное имя и затягивал снова; прочие с облегчением и радостью дружно подхватывали. И все равно восемнадцатый куплет часто оставался неспетым. Замечательно, что автор «Кружки» помнил ее, кажется, хуже всех. Словом, «Кружка» составляла славу Дофью Граса как стихотворца. И раз уж речь зашла об этой балладе, стоит обратиться к Анналам Общества и извлечь оттуда подходящую к делу историю. Так всегда поступают Старые Пьяницы, и мы не видим причины, почему нам следует действовать иным образом. На последнем заседании Общества как раз зашла речь об одном из самых знаменитых персонажей «Кружки» — рыжем Гансе, том самом, которому посвящена, кроме того, отдельная большая баллада — также сочинение минхера Дофью. Начал Густав Таверминне, весьма уважаемый член сообщества, и один из самых давних. — Знаете ли вы, господа, что баллада «Горький пьяница, рыжий Ганс» основана на истинно бывшем событии? — так заговорил он, когда «Кружка» была допета до конца, но расходиться еще не хотелось. Тут все загалдели, поскольку любой уважающий себя выпивоха знал множество событий из жизни рыжего Ганса — и все они были совершенно истинными. Однако не так-то просто оказалось смутить Густава Таверминне, недаром он держал галантерейную лавку, где желающий мог приобрести что угодно, от вышивальной иглы до портянок гномского покроя. — Да, милостивые мои государи, на истинном — да не так, как это принято думать, а с вывертом и, если можно так сказать, с подковыркою, — продолжал Таверминне. — И хоть баллада от этого не утрачивает ни малой толики своей благоуханной поэтичности, а все же не все в ней трактуется под правильным углом зрения. И, говоря все это, он чуть склонил набок маленькую сухую старческую голову, как бы демонстрируя надлежащий угол зрения. Голова у Густава Таверминне была примечательна сплюснутостью. По правде сказать, она была почти совершенно плоской, как коробочка с липкими разноцветными леденцами, столь популярными среди детворы. Рассказ о горьком Гансе Горький Ганс — под таким именем вошел в местные предания этот знаменитый выпивоха былых времен — жил приблизительно за сто лет до описываемой достопамятной беседы. Был это тогда совсем молодой человек, мало чем примечательный — разве что волосами цвета свежеоструганной морковки; трудился он — не слишком, впрочем, усердно — на огороде своей матушки, пока та не умерла и не оставила бедного Ганса совершенно без призора. Здесь требуется заметить, что восемнадцатилетние молодые люди, даже и с морковными волосами, недолго бывают без женского пригляда. Ганс, разумеется, не стал исключением из этого правила. Огород его очень быстро зарос замечательнейшим бурьяном — как раз кстати, чтобы целоваться с одной застенчивой девицей по имени Дагмар. Об этой Дагмар старые люди помнили, что она была крепкая, как яблоко, и такая же румяная; косы у нее были толстые и жесткие, так и топорщились на голове, завязанные лентами с модными тогда бархатными фигурками кошек и мышек. Фигурки свисали с кос на ниточках и вели в волосах Дагмар бесконечную охоту. Избранница Ганса совершенно ему подходила, поскольку, кроме привлекательной наружности, обладала полезной для счастливого брака особенностью: нравом она совершенно была подобна будущему супругу, то есть склонялась более всего к лени, мечтательности и тягучим беседам ни о чем. Ясным летним деньком, когда чуть за полдень, и по небу начинают неспешно перемещаться облачка, — вот тут самое время, улегшись среди распаренных бурьянов и глядя в небо, гадать, какие фигуры этими облаками представляются. И всякий раз, когда Ганс и Дагмар думали об облаках одинаково, их охватывало ни с чем не сравнимое блаженство, и они тут же, не сходя с места, целовались. Подобному времяпрепровождению мешало только одно обстоятельство: и Ганс, и Дагмар были очень бедны. Поэтому они мечтали также и о том, чтобы как-нибудь разбогатеть, только ничего у них не получалось. В разговорах да поцелуях провели они все лето, а ближе к осени Ганса вдруг обуял хозяйственный дух, и он повадился ходить в лес — собирать на зиму грибы и ягоды. Принес он ровнехонько две корзины, где грибы и ягоды лежали вперемешку, да еще с шишками и сухой берестой. Дагмар взялась было разбирать, но ягоды как-то сами собою незаметно съелись, а грибы, высушенные на палочках, почти совсем исчезли — такие черные и сморщенные они сделались. На третий раз Ганс решил набрать всего побольше — чтобы и Дагмар полакомилась, и на долгую зиму хватило — и для того забрел очень далеко. Медленно надвигался вечер; вдруг поднялся из земли густой туман, и вскоре Ганс погрузился как бы в молоко; а затем к привычному лесному запаху подмешалась горечь. Поначалу Ганс не вполне понимал, что это такое, но вот ноги вынесли его на обширную поляну, где хватило места, чтобы ветер разогнался и поприжимал туман к лесной стене. И вот там, на краю леса, увидел Ганс белые клочья, и черные стволы, и выползающих из земли извивающихся оранжевых змей. Они обвивали стволы и уползали под корни, а потом снова приподнимались, как будто танцевали. Горечь сделалась совсем невыносимой — из глаз Ганса потекли кусачие слезы, а в горле поселился толстый колючий шар. Поглядел-поглядел Ганс на черные стволы и желтых змей, а потом вздохнул и упал на землю. Корзина укатилась куда-то, неодолимый сон сморил Ганса. А пробудился он — ничего вокруг себя не узнал. Стоял день — парчовый осенний день. В ледяном, совершенно прозрачном воздухе так хорошо видно каждый лист на дереве, каждого сонного жучка в траве. Повернув голову, приметил Ганс женские босые ножки. Это были очень белые хорошенькие ножки, которые шевелили пальцами, словно бы гримасничая. Чуть выше пальцев обнаружился подол бледно-желтого платья, расшитый стеклянными бусинами. Затем что-то негромко затрещало — тр-р! тр-р! — и подол вместе с ножками медленно взмыл вверх. Тут уж Ганс приподнялся на локте — чтобы получше рассмотреть происходящее. — А! — закричали сверху. — Очнулся, очнулся! И, шурша широкими бархатно-коричневыми крыльями, рядом с Гансом опустилась фея. С крыльев на Ганса строго взирали круглые желтые немигающие глаза. Ганс так и замер в холодной траве, но тут на него упала копна душистых, пахнущих листвой, волос. Сверху эти волосы были покрыты сверкающими паутинками — каждая тонкая нить ловила солнце и отвечала переливами радуги или чистейшим серебром. Затем показалась рука, и из-под волос вынырнуло женское лицо, молочно-белое, с пухлыми губами. Такими губами хорошо пить березовый сок прямо из ствола, а еще — слизывать с них капельки меда. Длинные волоски бровей были украшены крошечными заколочками в форме бабочек — не менее десятка на каждой брови. — Ох! — только и вымолвил Ганс и снова без сил повалился на траву. Фея пощекотала ему нос длинной травинкой. — А ну-ка, — велела она, — рассказывай мне что-нибудь интересное. — Э-э… — замычал Ганс в некоторой тревоге. — А кто ты? Крылья шумно развернулись. Теперь глазки смотрели еще строже. Ганс разглядел синий зрачок. — Меня зовут Изабур, — сказала фея. — Меня — Ганс, — представился Ганс и тотчас поспешно добавил: — А мою невесту — Дагмар. — Как интересно, — проговорила фея, укладываясь на траву рядом с Гансом. Ее крылья, наполовину сложенные, непрерывно двигались, то открываясь пошире, то почти смыкаясь. Волосы феи рассыпались по земле. В вырезе платья, за тонкими стеклянными бусами, видна была маленькая грудь, и это сильно смущало Ганса. — У меня была подруга по имени Дагмар, — сказала фея задумчиво. — А что с ней стало? — испугался Ганс. — Полюбила одного человека и улетела к нему. А ты что подумал? — Не знаю, — пробормотал Ганс. — Я всегда пугаюсь, когда говорят: «У меня была». Вот у меня была добрая матушка — она умерла. Фея на мгновение полностью раскрыла крылья, а потом сжала их. — Как тебя угораздило попасть в пожар? — спросила она. — Это был пожар? — удивился Ганс. Фея чуть повернула голову и с любопытством посмотрела на него. — А ты что подумал? — Я не подумал… — Ганс покраснел. — Мне показалось, что это красиво… — Ты чуть не сгорел, — упрекнула его Изабур. — Ужас. — Ганс закрыл лицо руками. — Ты спасла меня! — Да. — Изабур вытянула вперед руки, взяла в каждую горсть по пучку травы и сладко потянулась, выгнув спину. Ганс восхищенно смотрел на нее. — Скажи мне, Ганс, что бы ты хотел больше всего на свете? — спросила Изабур сонно. И так как этот разговор был таким же медленным и тягучим, как его беседы с Дагмар, и мысли точно так же с одинаковой важностью плавали вокруг самых серьезных на свете вещей и вокруг самых больших пустяков, то Ганс ощутил себя, так сказать, в знакомых водах и ответил фее Изабур так, как ответил бы своей любезной Дагмар: — Я бы хотел жить в достатке, не работая, и чтобы со мной была моя любимая, а людям от меня была бы радость; мне же от них — уважение, хотя бы маленькое. — Это можно устроить, — сказала Изабур, поразмыслив немного над услышанным. Она подвинулась чуть ближе, и вдруг ее ослепительное лицо с диковатыми глазами и бабочками на бровях оказалось совсем близко. — Поцелуй меня, — проговорили медовые губы. Ганс вернулся домой из леса на третий день после того, как расстался с Дагмар. Был он страшно голоден, весь в копоти, одежда оборвалась, корзина потерялась, сам еле жив. Вся деревня вышла на это поглядеть. Тут уж и Дагмар не стала больше таиться — скатилась по ступеням и бросилась ему навстречу, роняя башмаки и заранее раскидывая для объятий руки. Ганс сперва остановился, а потом качнулся, как надломленный, и тоже побежал. Так они посреди дороги и обнялись, а спустя два дня поженились и перебрались жить в маленький гансов домик. Поначалу они — что никого не удивляло — перебивались с хлеба на квас; но затем Ганс открыл пивную торговлю. В подробности он не входил, так что совет местных сплетников всю историю нежданного обогащения рыжего парня сочинил, можно сказать, за него: мол, помер какой-то родственник и оставил деньги… или даже целую пивоварню. Называли разные города и поселки, где эта пивоварня якобы находится. На самом деле никто ничего толком не знал. А пиво Ганс продавал знатное. И не в том было дело, что оно густое или легкое, сладкое или с горчинкой; а в том, что оно всегда оказывалось по погоде, по времени года и даже по настроению, и уж если взял у Ганса кувшин-другой, то можно не сомневаться: этим пивом не поперхнешься, в горле оно комом не застрянет, голова от него не разболится, а настроение только улучшится. Торговала по преимуществу Дагмар, в белом крахмальном чепце с множеством торчащих во все стороны острых углов, вся в бантах и искусственных цветах. От брака с Гансом стала Дагмар еще румяней; ее щеки блестели, словно отполированные масляной тряпочкой, и выглядели они крепче каменных шариков; глаза весело смотрели навстречу любому приходящему, а в ее косах теперь играли не самодельные кошки и мышки, но купленные в городе леопарды и зебры из самого настоящего плюша. С тех пор, кстати, начали примечать различные странности, то и дело происходившие тем, где появлялся Ганс. Так, однажды стадо коров полегло на лугу, как мертвое. Это было замечено девицей, которая отправилась на реку полоскать белье. Сперва слова девицы на веру не приняли, поскольку от нее разило пивом; что до белья в ее корзине, то оно выглядело так, словно его окунали в бочку с этим хмельным напитком. Однако насчет коров решили все-таки проверить и действительно обнаружили их лежащими. Издалека они казались большими валунами, выпавшими из великаньей корзины, — рыжими, белыми, черными и пятнистыми. Пастуха разбудили, когда веревка была уже прилажена к прочной ветке старого дуба. Напрасно бедный парень орал и брыкался — его успокоили ударом кулака в висок, после чего отнесли на место и просунули в петлю. И тут одна из коров зашевелилась, подняла морду и испустила протяжное мычание. Пастуха из петли вынули и бросили под деревом приходить в себя, а сами побежали к стаду. И что же? Все коровы источали пивной перегар и плохо соображали, что происходит; молоко пришлось сдоить и вылить подальше от дома, поскольку то, чем доились в тот день коровы, не пришлось бы по вкусу даже хмельной лесане, что спит под грибницей пьяных грибов. Случай этот заставил Ганса крепко призадуматься — и с тех пор он никогда больше не купался там, куда водят на водопой местное стадо. Избегал он и целовать Дагмар в губы, когда она носила или кормила детей, — а детей у Ганса и Дагмар родилось великое множество. Любая жидкость, к которой прикасался Ганс, превращалась в пиво — таков был подарок милой феи Изабур. Пивное это процветание длилось долго-долго и, говорят, старший сын Горького Ганса унаследовал это чудесное свойство. — А почему, в таком случае, Ганса называли горьким? — осведомился Забияка Тиссен. — Вас послушать, минхер Таверминне, так все в жизни этого Ганса обстояло просто замечательно! — Именно так, — подтвердил Густав Таверминне. — «Горький Ганс» — это сорт пива, который начал продавать его сын, тот самый — наследник. А самого Ганса его супруга Дагмар называла Сладким… Разумеется, многие усомнились в правдивости этой истории и всяк пожелал рассказать собственную версию; однако сейчас совершенно нет времени передавать их все. Можно добавить также, что пиво «Горький Ганс» принадлежало к числу напитков, наиболее уважаемых нынешним Председателем Общества Старых Пьяниц. Другими его достоинствами были: умение с закрытыми глазами распознавать любой из местных сортов пива и чрезвычайно плохая память, так что одной и той же шуткой можно было смешить Дофью Граса до десятка раз — и только в одиннадцатый он принимался мелко моргать глазами, недоуменно прислушиваясь к своим ощущениям, прежде чем сказать: «Кажется, я слышал что-то такое… „А она его уполовником“, да?». Занимался Дофью Грас промыслом пушного зверя, а жительствовал в трех домах от таверны «Придорожный Кит», владельцу которой приходился троюродным братом (а его дочери — крестным отцом; ведь известно, что и феи, и эльфы могут становиться крестными; отчего же не быть стихотворцу и пьянице?). Таков был Дофью Грас — Председатель великого тайного Общества пьяниц древлего благочестия, избранный на этот пост после кончины Кристофера Тиссена. Забияке Тиссену этот Кристофер приходился дядей, и Забияка сильно надеялся на то, что уважение к покойному Председателю обратит сердца сотоварищей в сторону родственного тому кандидата; но этого не случилось. Однако же Забияка считал себя, пусть неофициально, хранителем традиций и, так сказать, их цензором и потому придирчиво исследовал всякое новшество, допускаемое беспечным Дофью. Беседа их проходила в «Придорожном Ките» в поистине хрустальный час: было раннее утро — это что касается времени суток; что же до времени года, то осень только-только поставила на порог свою полную ножку в пестрой атласной туфельке. В далеких лесах, где никто не бывал, феи собирались стайками, готовясь к перелету в более теплые края, а из непроходимых чащоб и душегубных болот выбирались к людскому жилью странные существа, принося с собою для обмена мед, дичину, бочонки мятой гонобобели с пряностями, мешки древесной капусты и резаный кусковой кисель с Молочного ручья, где никогда не ступала нога человека. В «Ките» было тихо и почти безлюдно. Говоря «почти» мы имеем в виду одно небольшое исключение. Оно представляло собою молодого человека — такого, по правде сказать, молодого и тощего, что его здесь, можно считать, и не было. Он самым невинным образом спал на полу возле каминной решетки, где ненастным вечером будут исходить паром многочисленные плащи и сапоги, а сегодня торчал забытый кем-то одинокий башмак, совершенно рыжий и с одного боку обгрызанный собакою. Длинное, сходное с тростью тело молодого человека было плотно обернуто плащом. С одного края этого рулета высовывались босые ступни, а с другого — преимущественно нос и клок светлых волос. — Кто этот франт? — кивнул в его сторону Забияка Тиссен. — В первый раз вижу, — отозвался Дофью. Он чуть пошевелил бровями, пробуя: получится ли в этот раз сдвинуть их, нахмурясь. Но этому намерению, как и всегда, помешала толстая складка на мясистом лбу. Дофью вздохнул. До пробуждения Алисы — так звали его крестницу — оставалось еще по меньшей мере полчаса, ибо эта достойная девушка поднималась вместе с солнцем, а солнце осенью встает несколько позднее, нежели делает это летом. Поэтому собеседникам предстояло томиться голодом не менее пятидесяти минут, пока, наконец, Алиса подаст им первую яичницу с беконом. Разговоры, впрочем, заняли их достаточно, чтобы они почти позабыли о голоде. Речь шла о предстоящей сессии общества, к которому оба принадлежали вот уже пятнадцать лет, а может быть, и поболее. Это общество было засекречено и окружено тайнами — и все ради того, чтобы исключить даже самую вероятность появления среди его членов всех недостойных разновидностей пьяниц. Тех, например, кто топит в вине неудачи, горе или собственную никчемность (известно, что никчемность, будучи опущена в вино, растворяется в нем, а затем, поглощенная вместе с выпивкой, принимает новые, зачастую опасные формы). Или таких, кто пьет от скуки. Злых драчунов, которые с помощью стакана желают укрепить свою злость, набраться храбрости и сокрушить пару мебелей, а то и чью-нибудь голову. Нудных резонеров, кои после второго стаканчика открывают общеобязательный университет под вывеской «Искусство жить как я это понимаю». Нет среди таковых тонких знатоков пива и душевной, поучительной беседы, и потому следует всеми мерами таить от них место и время встречи всех истинных ревнителей доброй выпивки. Почти семь лет таким местом служил охотничий домик барона Модеста фон Эреншельда. Барон Модест был, наверное, самым беспечным из всех людей, со времен Авессалома когда-либо обладавших охотничьими домиками. Он и понятия не имел об этих сборищах, а если б даже и имел, то не слишком бы этим озаботился, поскольку проводил беспечальные дни своей жизни в развлекательных и поучительных путешествиях. По самым точным сведениям, он пускался в дорогу не иначе, как в сопровождении своры собак, большого количества лошадей, парикмахеров для всех двуногих и четвероногих, шести лекарей разнообразных профилей и квалификаций, десятка ученых мужей, занятиям которых барон покровительствовал, и самых различных прислужников, из коих наиболее оплачиваемой была должность штатного развлекателя. Немало таковых, повешенных на придорожных платанах, видели там, где пролегал путь Эреншельда. К одежде их всегда были заботливо подколоты листки с копией контракта найма на работу, где нарочно оговаривались все сопряженные с нею риски, так что никто никогда не считал барона Модеста тираном или, хуже того, преступником; напротив того, он слыл добродушным малым, меценатом и фантазером. Однако годы шли, и в описываемую нами благословенную осеннюю пору старый Эреншельд внезапно умер, оставив после себя титул, значительное наследство, некоторое количество безутешных преданных слуг и никем не учтенных побочных отпрысков, часть из которых получала где-то образование, а часть — влачила вполне крестьянскую жизнь и лишь в минуты особой экзальтации намекала окружающим на некую тайну своего происхождения. Тучных тельцов эта тайна, впрочем, не приносила. Единственным наследником Эреншельда сделался его племянник, сын сестры, по слухам — чрезвычайно ухватистый и реалистический человек, который не только любил деньги, но и умел это делать. Сейчас он надвигался из столицы со сворой своих землемеров, управляющих, учетчиков, крючкотворов и советников. Охотничьему домику, а вкупе с ним и обществу старых пьяниц, грозила таким образом большая опасность. И вот эту-то опасность и обсуждали Председатель этого почтенного Общества и многоумный Забияка, выискивая разные ходы и выходы из приближающейся ситуации. Они разговаривали вполголоса; но молодой человек, лежавший у очага, как оказалось, превосходно их слышал, потому что совершенно неожиданно он произнес: — А почему бы вам не принять его в почетные члены? Аристократам льстит внимание. Оба старика так и подскочили и в ужасе поглядели на незнакомца, столь внезапно подавшего признаки жизни. Забияка спросил: — Ты давно не спишь? Молодой человек выпутался из плаща, сел и признался: — Да уж порядком… — Ну так иди к нам, — предложил Дофью Грас. — Ты, братец мой, вообще-то неприлично молод, чтобы давать нам советы. Молодой человек вытащил из-за пазухи сверточек, развернул его и извлек из мягкой тряпицы трубку. Делал он это как бы между делом, мало интересуясь в этот момент окружающими; на самом же деле в этом заключался определенный умысел, поскольку мало кто из бывалых людей не узнал бы работу лучшего в здешних краях трубочника Янника Мохнатая Плешь. Как известно, нет ничего слаще, чем вволю посплетничать; поэтому и наше повествование то и дело перебивается различными, в сущности бесполезными, сведениями. Взять, к примеру, этого самого Янника. Плешь у него действительно была мохнатой, то есть поросшей бледным зеленоватым мохом — иные отчаянные женщины уверяли (шепотом), что на ощупь эта плешь совсем как старая плюшевая игрушка. Янник произошел от союза болотного тролля и беспечной ягодницы Катрины. Об этом рассказывают вполне достоверно и даже показывают украдкой Катрину — почтенную, очень старую женщину, окруженную множеством вполне человечьих правнуков. Случилось так, что болотный тролль загрустил, поскольку непременно желал завести детей. Красть в деревне не хотелось — желательно, чтобы бедокурила в доме родная плоть и кровь. И вот забрела на болота беспечная ягодница Катрина. Тут-то и похитил ее тролль. Для начала он напугал ее так, что она потеряла сознание а затем напоил одурманивающими травами. В полусне прожила она на болоте чуть менее года; когда же ребенок наконец родился, тролль снабдил Катрину богатым приданым и вынес на дорогу, ведущую в город, а сам преспокойно ушел. Случившееся Катрина помнила очень плохо и никогда не горевала о тролленке, зато приданым распорядилась весьма здраво. Янник же вырос сущим уродом как по людским меркам, так и по тролльским и оттого предпочитал уединение. Лишь очень немногим удавалось снискать его дружбу и доверие, а уж заполучить трубку янниковой работы — это, господа мои, говорило о человеке очень и очень многое! Поэтому Дофью Грас, ни слова не произнеся, вынул из кармана собственную трубку — старшую сестру той, что продемонстрировал незнакомый парень, — и положил ее на стол. Юноша не спеша достал мешочек с табачком, и Грасу предложено было угоститься. Ах-ах, знатным оказался табачок, и вскоре кольца дыма, сплетаясь восьмерками и как бы кривляясь на легком сквознячке, поплыли над столом и макушкой Тиссена, исчезая в конце концов возле арочного проема, за которым располагался вход в таверну. Дофью Грас думал о том, что незнакомый юноша отменно учтив и умеет себя держать; а также и о том, что солнечный луч уже ощупывает ставни, проникая в щели и норовя взломать преграду, а стало быть и Алиса уже поднялась и повязывает фартук, и ветчина, извлеченная из погреба, истекает напрасными слезами. Вскоре Алиса действительно спустилась по ступеням, приветливо махнула обоим старикам и молодому человеку и скрылась в кухне. С утра ее чепец и одна щека были несколько примяты, но когда она выступила из кухни с огнедышащей яичницей, как бы пронзенной множеством длинных тонких розовых ломтиков, то и щеки, и чепец, и фартук хозяйки чудесным образом разгладились и радовали глаз: первые — румянцем, вторые — белизной, разве чуть-чуть сдобренной веселыми золотыми брызгами масла. Словом, все вокруг в этот час сверкало, шкворчало и бурчало. Алиса поцеловала Дофью в мясистый лоб, Тиссена в запавший висок, а незнакомого парня — прямо в губы, назвав при этом Зимородком, после чего ушла опять в кухню — варить кофе. — Зимородок? — переспросил Тиссен, с подозрением щурясь. — Это тебя так зовут? Молодой человек усердно покивал, не переставая поглощать свой кус яичницы. — Хо-хо! — молвил Дофью Грас. — Знатно готовит наша Алиса. — Смотри, чтоб она не пронюхала как-нибудь про «семипудовую голубку», — предупредил Забияка Тиссен. Грас изумился: — А при чем тут Алиса? — Женщины, — жуя, ответил Тиссен, — мнительны. — Это точно, — подтвердил и Зимородок. Яичница закончилась, по обыкновению всех представительниц своего коварного желтого племени, очень быстро, и трое сотрапезников погрузились в волнительное ожидание вчерашнего пирога с кофе. И вот, слово за слово, стала сплетаться у них беседа; каждый извлек из закромов то, чем был богат; и когда уж и кофе, и разогретый пирог с корочкой отошли в область преданий, готов был отменный план, как сбить молодого Эреншельда с истинного пути, чтобы никогда не найти ему охотничьего домика в своих лесных угодьях. А коли заговор вполне созрел, то и нам больше нечего делать в таверне «Придорожный Кит», поскольку ничего любопытного там больше в тот день не происходило. А вот недели две спустя заглянуть туда не мешало. Давно уже не видели здешние края такого наплыва темного сукна, удушливых воротничков и серых физиономий с пуговичными глазами, совершенно плоскими. Такие глаза хорошо приспособлены к разглядыванию денег, счетов, лицензий, схем застройки, завещаний и иных предметов, не обладающих профилем; что до захолустных уголков, подобных тому, где царил «Кит», то там преобладали предметы округлые и выпуклые, и оттого трудно даже предположить, какими предстали в то утро молодому Эреншельду достойная хозяйка Алиса, ее пухлые пироги и пузатые пивные кружки. Во всяком случае, покинув экипаж и ступив на дорожку, ведущую к таверне, Эреншельд прищурился и молвил: «Гм». Молодой Эреншельд был лет сорока, с острым аккуратным носиком и странно отвисшими щечками на худом лице. Они свисали с костлявой челюсти как два пустых мешочка, жаждущих наполнения, что придавало их обладателю — невзирая на хорошо пошитую одежду из качественного сукна, с восемью жемчужными пуговицами на каждом манжете — вид если не голодный, то, во всяком случае, алчущий. Он поднялся по трем ступенькам, сморщившись, как от кислого, когда они заскрипели, занял кресло возле камина и поднял в воздух длинный палец, призывая хозяйкино внимание. Алиса тотчас приблизилась и не без изумления получила заказ на рагу из тушеной капусты брокколи и каменной маркрови. — Брокколи? — переспросила она, хмурясь, отчего ее милое личико, которое так славно выглядывает поверх горки румяных пирожков, сделалось старообразным. — Это такие маленькие зеленые катышки? Эреншельд медленно и важно опустил голову, что обозначало утвердительный кивок. Алиса, таким образом, была сразу и озадачена, и поставлена на надлежащее место. Свита нового барона закусывала, чем придется, — со всеми этими землемерами хозяйка решила не церемониться и вывалила им на блюдо черствых булочек (иные оказались даже понадкусаны), холодной говядины с жилками и ноздреватым жиром и слипшейся фасоли. Все это они ковыряли ножами и вилками, тоскуя, пока Эреншельд величаво дожидался своего овощного рагу. Из других посетителей в «Ките» имелся только Зимородок. Он весело поглощал пирог с капустой, обильно запивая его темным осенним пивом, а до приезжих господ ему и дела не было. И до чего же бывалый вид был у Зимородка этим утром! Одни только сапоги из мягкой оленьей кожи чего стоили! Они вздымались выше колена, обладали шнуровкой — что там корсаж жеманницы Анны-Сванны из модного романа «Ухищрения Анны-Сванны»! — и страшными разбойничьими раструбами. А куртка, вышитая по подолу и вокруг ворота специальным болотным узором, где в переплетении нитей виднеются бородатые рожи с выпученными глазами, и лоси, что сшиблись и перепутались рогами, и рыбы, у которых из жабер вырастают длинные ветвистые растения с шипами и кусачими листьями! А волчий клык на сыромятном ремешке, что болтается на шее вкупе с пучком переливающихся перьев и хвостиком пушного зверька! Словом, каждый квадратный дюйм Зимородка оповещал нечаянного зрителя о том, что перед ним — искуснейший следопыт, какого только возможно встретить на окраинах цивилизованного мира. И потому нечего удивляться тому, что Эреншельд, расправившись с брокколи и каменной маркровкой, поглядел в сторону Зимородка и поднял палец. Зимородок в ответ поднял брови и приложился к своей кружке. Эреншельд продолжил безмолвный диалог и чуть согнул палец, подтверждая свое намерение видеть Зимородка подле себя. Следопыт как бы нехотя поднялся, забрав с собою пиво в кувшине, и перешел к камину. — Приятное утро, — молвил Зимородок. Это замечание поставило Эреншельда в тупик. Он поморгал несколько раз, а затем неподвижным взором уставился в стену — как раз туда, где копоть от факела оставила пятно, напоминающее голую женщину. — Я к тому, что погодка дивная, — пояснил Зимородок. — Э… — выговорил Эреншельд. — Вы, сударь мой, должно быть, из местных? — Я-то? — переспросил Зимородок и поковырял в ухе мизинцем. — Я из разных мест. А что? — И почем вы берете? — поинтересовался Эреншельд. — Смотря по работе, — ответил Зимородок. — Скажем, извести тролля-детоеда — одна цена, а набить мяса бегепотама — совершенно другая. Смотря по степени риска, затратам времени — понимаете? Эреншельд поморщился, как будто все эти речи доставляли ему неудобство. — Мне требуется консультант, — выговорил он наконец, немного неуверенно, как будто и сам не до конца понимал, что именно ему нужно. — Ну… — протянул Зимородок. — За консультации я беру по три гульдена в день. Эреншельд так и подскочил, тряхнув щечками-мешочками. — Что это за расценки! — вскричал он. — Да вы сами, как я погляжу, людоед! — Объясню, — произнес Зимородок невозмутимо. — Консультация занимает у меня почти все время. Ни тебе пива попить, ни поразмыслить о важных вещах. Никакого досуга. Только консультируй да консультируй. Да и работа умственная, а за умственность цена выше. — Справедливо, — нехотя согласился Эреншельд. — Но уж зато я полностью ваш, — добавил Зимородок и повернулся чуть боком, чтобы Эреншельду лучше были видны волчий коготь и вышивка с рожами, оленями и так далее. — Вы приняты, — решил Эреншельд. Зимородок набил трубочку и склонил голову набок, показывая, что слушает. От Эреншельда он узнал, естественно, только то, что и без того было ему хорошо известно: о наследстве, необходимости учета новых богатств и дальшейшего их использования (Эреншельд предполагал построить фабрику — в зависимости от обнаруженных ресурсов). Наследник барона Модеста был неприятно удивлен тем обстоятельством, что обжитые земли заканчиваются, собственно, «Придорожным Китом» и дорога, дотоле ровная и наезженная, здесь обрывается, а далее простираются леса и болота, населенные зверьем и всякой нечистью. Впрочем, Зимородок уверял, что при наличии толкового и опытного консультанта вполне возможно обследовать значительный участок лесного массива без всякой опасности для себя. Договор скрепили рукопожатием, после чего Эреншельд удалился отдавать распоряжение свите и собирать дорожный нессесер, куда были сложены желудочные пилюли, счетные приспособления, тетрадь учета и носовые платки. Зимородок запасся у доброй Алисы связкой вяленой говядины и фляжкой яблочного сидра. Алиса позволила поцеловать себя в румяную щеку, покрытую легоньким белым пушком, и тут появился Эреншельд, кислый, но вполне готовый к путешествию. Выступили немедленно и почти сразу погрузились в лесную чащу. Осень в ту пору наливалась красками. Листья как будто потяжелели, взяв на себя бремя яркого цвета, и держались на ветках уже не столь уверенно, но все же пока не поддавались. Мох под ногами пружинил, а по кочкам расстелились сети, затканные зеленобокой клюквой. Эреншельд, надо отдать ему должное, шагал легко, не отставал и не жаловался. Время от времени промокал каплю, возникавшую на острие носа, да зорко оглядывал плоскими глазами кочки, словно подсчитывал количество имеющихся в наличии клюквин. В разговоры он пока что не вступал и видно было, что странные красоты окружающего производят на него невеликое впечатление. Несколько раз чуть в стороне от тропинки в болоте вздувался пузырь, и в мутноватом полупрозрачном куполе показывалась недовольная физиономия тутошки — в реденькой розоватой шерсти, с выпученными белесыми глазами. Тонкие ручки липли к внутренней стороне пузыря, а когда он вертелся, то сзади хорошо были видны мокрые, смятые мушиные крылья. Эреншельд только раз глянул в ту сторону, но ни о чем не спросил. Зимородок поводил его по лесу до вечера и устроил привал на Грибной кочке — сравнительно сухой поляне, которая несколько возвышалась над общим уровнем болота. Говорили, будто на самом деле никакая это не кочка, а спина (иные поправляли — мягкие части) старой лесани, которая в свое время так напилась пива, что упала носом в болото и в таком положении крепко заснула. Звали лесаню не то Таита, не то Саливата, а может, одновременно обоими именами; из всей ее внешности наиболее примечательным считался нос. Собственно, нос-то и подвел: пока она спала, он пророс и сделался корнем большой грибницы. Грибы Саливаты, напоенные пивными парами, служили для приготовления особого хмельного напитка. Кроме того, пьяными испарениями полны были пузыри, что вздувались в топях окрест Грибной кочки, так что тутошки вылетали из них совершенно нетрезвые и выделывали в воздухе различные фортеля, отчего нередко падали обратно в топь — и, случалось, погибали. Обо всем этом Зимородок собрался было рассказать Эреншельду, но тот опередил следопыта. Пока Зимородок разводил костер и водружал над огнем котелок, новый барон вынул из своего несессера счетное приспособление, хитро перевязал на нем несколько узелков, отметив их белым шариком, надетым на ту же нитку; после чего молвил: — Ну что ж, можно считать, что первый день ревизии прошел успешно. Я доволен. Богатый торф. Возможно, залежи железной руды. Зимородок задумчиво глядел в огонь, а мысли так и скакали в его голове, иные ощутимо бились о крышку черепа. По-своему Эреншельд был достоин уважения: он явно обладал бесстрашием и в точности знал, что именно ему требуется. Сбить такого человека с пути будет труднее, чем представлялось вначале. Перед тем, как улечься спать на лапнике, который настелил заботливый Зимородок, барон объявил, что решительно всем доволен, и выдал своему консультанту три гульдена. Ночью было холодно; продрог даже Зимородок, хоть и просидел у костра в тяжких раздумьях. Что до Эреншельда, то утром он имел измятый вид и, едва открыл глаза, как принялся отчаянно чихать и кашлять. — Да вы простужены, барон! — воскликнул Зимородок. По правде сказать, следопыта глодала совесть: вчера Эреншельд так уважительно отнесся к познаниям специалиста в области, неведомой ему самому, что заслуживал лучшего, нежели хождение кругами по одному и тому же болоту в поисках какой-нибудь нечисти, способной запугать горожанина. — Пустяки, — сипло объявил барон. — Я готов выступить немедленно. — Ни в коем случае, — сказал Зимородок. — Как ваш консультант я настаиваю на возвращении в «Кит». Вы нуждаетесь в хорошем уходе. Слабенький ход — но сделать его стоило. — А я как ваш наниматель приказываю продолжать, — возразил Эреншельд свистящим шепотом и сорвался в кашель. Он поспешно рванул к себе нессесер и выхватил оттуда целую пачку платков. — По крайней мере, позвольте напоить вас горячим перед тем, как мы пустимся в путь, — сдался Зимородок. Эреншельд кивнул, уткнув лицо в платки. Зимородок собирал ветки, чтобы согреть воды, и тут ему повезло: на склоне кочки он обнаружил гриб. То был последний отпрыск некогда славного и многочисленного рода хмельных грибов нынешнего года. Как и полагается младшим сыновьям разорившихся фамилий, он нес на себе все признаки вырождения, но отличался стойкостью и гордым нравом. Ножка его была длинна и тонка, шляпку объели улитки — да она и без того выросла кривобокой. Иней, покрывший шляпку ночью, растаял, и по грибу стекала кристальная вода. Зимородок лизнул — сладкий винный вкус мгновенно согрел язык и небо. Гриб был сорван и подложен в чай. Барон проглотил питье, заметив при этом, что совершенно согрелся и взбодрился и готов идти дальше. Глаза у него заблестели и сделались как будто менее плоскими. Теперь он замечал вокруг разные разности, а не только акры пригодного для разработки торфа. Он даже остановился, когда мимо по воздуху медленно проплыла паутина с сидящей в центре эльсе-аллой. Обернутое сверкающей нитью тельце красиво изгибалось, на маленьком личике играла веселая улыбка. Десятки белых косичек, уложенных на голове самыми причудливыми петлями, переливались на солнце. Эльсе-алла ловко управляла полетом, вытягивая то одну, то другую нить, и, озорничая, сделала круг над головой барона, после чего улетела, подхваченная попутным ветром. — Кто это? — спросил Эреншельд. Зимородок сделал удивленное лицо: — О ком вы, барон? Здесь никого нет, кроме нас с вами. — Странно, — пробурчал Эреншельд, с подозрением поглядывая на Зимородка. К вечеру, едва только между кочками начали появляться подушечки тумана, барону стало совсем худо. При этом барон, казалось, не вполне понимал, что это с ним такое происходит. От жара, волнами ходившего в теле, окружающий мир воспринимался им совершенно в новом свете. По деревьям пробегали разноцветные блики, время от времени в поле зрения попадал какой-нибудь яркий лист с резными краями. Он производил на барона особенно сильное впечатление и долго потом не покидал его мыслей. Лес был полон красок и звуков. Красота внезапно напала на Эреншельда со всех сторон, изумила его и окончательно лишила сил. Зимородок водил его по болоту, стараясь не забредать в чащобу, где жесткие ветки сгрызли бы барона до костей, а сам все думал: где бы им остановиться на ночлег. Безумием было спать под открытым небом сейчас, осенью. Эреншельд поражал следопыта все больше и больше: не жаловался, ни в чем не обвинял, не давал советов. В конце дня опять вручил три гульдена. — Скажите, — обратился барон к Зимородку, пока тот укладывал деньги в кошель, — много ли в здешних лесах браконьеров и опасны ли они? — Как и везде, — уклончиво отозвался тот. — Я к тому, что вон там, кажется, какие-то огни, — пояснил барон. Зимородок вскинул голову, охваченный сильным мгновенным предчувствием. Впереди действительно горел огонек. Но это было не пламя костра — горело слишком ровно. — Окно, — пробормотал Зимородок. — Там какой-то дом. Он стоял, расставив длинные ноги в замшевых сапогах со шнуровкой, — лихой следопыт, знаток непроходимых болот, — и недоуменно оглядывался по сторонам. Нет, не мог он сбиться с дороги настолько, чтобы вывести нового барона к потаенному охотничьему домику — логову Старых Пьяниц. Это, братцы мои, совсем в другой стороне. И однако же домик между деревьями стоял, окошко в нем светилось — и вдобавок ветер донес ни с чем не сравнимый дух печного дыма. — Иллюзии так не пахнут, — сказал Зимородок сам себе. Барон был болен и даже не догадывался, насколько серьезно. Даже если в избушке засели злые браконьеры, лучше уж сдаться на их милость, чем провести вторую ночь на холодной земле. И Зимородок, приняв такое решение, зашагал прямо на огонек. Избушка словно обрадовалась приближению неожиданных гостей и почти сразу проступила между стволами. Можно было подумать, что она двинулась навстречу путникам, желая поскорее распахнуть перед ними двери. Зимородок остановился. Домик был теперь очень хорошо виден. Отродясь не имелось в здешних краях такого домика. И тем не менее он стоят — и именно тут — и, более того, выглядел очень старым, на треть вросшим в землю. Большие бревна, из которых он был сложен, почернели; крупные щели между ними недавно заткнуты белыми космами свежего мха. Мох свисал повсюду длинными прядями; иные были заплетены в косицы и украшены бантом из травы, другие разлохмачены, а по одному важно разгуливала маленькая длинноклювая птичка. Из окошка изливался гостеприимный желтый свет, а за низенькой дверью угадывались тепло и запах печи и овчины. Устоять перед таким искушением Зимородок, естественно, не смог. Он постучал и вошел, а барон Эреншельд, не раздумывая, двинулся вслед за ним — и оба замерли на границе темных длинных сеней и большой комнаты, перегороженной в двух местах низкими черными балками. В комнате жарко пылала печь, возле которой имелась целая поленница дров, предназначенных на убой. Смолистые поленья точили липкие слезы, а огонь клацал с веселой кровожадностью и все шире разевал свою оранжевую пасть. На большом столе стоял огромный, чуть меньше бочонка, чайник, покрытый толстым жирным слоем копоти. Его носик горделиво изгибался, как лебединая шея с разинутым клювом, а ручка была, для удобства, обмотана лоскутом ткани, тоже в пятнах сажи. За столом, среди чашек, огрызков печенья, рыбных костей, хлебных корок, сморщенных моченых яблок и щепоток сфагнума в кисло-сладком рассоле сидели трое троллей и играли в карты. Зимородок сразу понял, что это тролли, потому что водил знакомство с Мохнатой Плешью и знавал даже его отца; что до барона, то он поначалу ничего не понял, потом удивился, но после краткого раздумья принял благоразумное решение ничему не удивляться — и тотчас последовал ему. Тролли были очень носаты, обладали значительным количеством бородавок (что у некоторых племен считается признаком красоты) и огромными заостренными ушами. Их одежда, расшитая бусинами и косточками различных животных, отороченная мехом и бахромой, источала острый хорьковый дух. Вообще же все трое пребывали в очень хорошем настроении, несмотря на то, что у одного имелся под глазом свежий фонарь, а у второго левое ухо совсем недавно сделалось ощутимо крупнее правого и тихо мерцало трагическим багрянцем; но все это лишь потому, что они плохо мухлевали в карты. Тут задергал носом один из них и сказал: — Люди! Все трое побросали карты и развернулись носами к Зимородку и его подопечному. Зимородок вежливо поклонился и молвил так: — Мир этому месту и благоволение болота его обитателям. Да пребудет с вами благорастворение его пузырей! Носы одобрительно покачались в воздухе, потом старший из троих ответил: — Порог ногам, балка макушке, котелок для пасти, скамья — для задницы. Входи, брат! Кто это при тебе? — Мягкого тебе сфагнума, — еще вежливее отозвался Зимородок, — а братьям твоим сладкой гонобобели! Это барон Эреншельд, новый владелец здешнего торфа. — Хо! Хо! — взревел другой тролль. Его темно-рыжие волосы топорщились из-под платка, повязанного узлом назад, а на шее висела связка куничьих хвостов и лапок. — Слыхали! Слышь, брат Сниккен, барон пожаловал! — Добрый вечер, — невнятно выговорил барон. — Бокам лежанка, брюху буханка, спине — овчинка, балде — мякинка! — закричал тролль, которого называли брат Сниккен. — Барон, да ты весь горишь! Лечь тебе надо, лечь! — Это правда, — сказал Зимородок, делая шаг вперед. — Как бы не уморить нам барона до смерти, господа мои и братья, ведь он нешуточно простудился минувшей ночью. — Я совершенно здоров! — неожиданно твердым голосом проговорил Эреншельд и склонил голову в четком поклоне. Перед глазами у него то плыло, то вдруг замирало. Разум время от времени вообще переставал воспринимать происходящее, оставляя своего обладателя наедине со странными образами. — Оно и видно! — завопил брат Сниккен, подпрыгивая на лавке. — А иди-ка сюда, барон, откушай малость, да полезай на печку! — Меня тошнит, господа! — еще более твердо произнес барон. — Видали? — развел руками Зимородок. И вот уже барона поят крепким чаем с дымком и запахом шишек, а после препровождают на лежанку и закутывают в лохматое, заплатанное одеяло, которое время от времени оживает и принимается углом, как лапой, чесать одну из заплат. Тем временем Зимородок (теперь уже брат Зимородок) сидит с троллями за столом, проигрывает им в карты баронские гульдены и ведет поучительные беседы. — А скажи вот, брат Хильян, — спросил он у того, что был с подбитым глазом, — как это вышло, что ваш распрекрасный дом оказался в наших краях? Отродясь я не видывал такого превосходнейшего дома! Брат Хильян снисходительно рассмеялся. Глядя на него, и остальные засмеялись тоже. — Ты, брат Зимородок, многого еще на болотах не видел. Это Гулячая Избушка. Слыхал про такую? — Гулящая? — переспросил Зимородок. Брат Хильян оскорбился. — Это сестра твоя — гулящая, — сказал он, — а наша избушка — Гулячая. Потому что гуляет где ей вздумается. Ее называли еще Бродящая, но нам не нравится. Гулячая — как-то нежно. Как «гули-гули». И Зимородок узнал, как в начале времен та самая Мировая Курица, что снесла первое в мире Яйцо, была поймана и разрублена на части Грунтором-Мясожором, Отцом всех Великанов, и этот Грунтор извлек из ее утробы множество маленьких недоразвитых яичек. — И знаешь, что он с ними сделал? — спросил брат Сниккен. Зимородок не знал. Грунтор-Мясожор отнес их в Первозданный Лес и оставил там на Солнечном Пригорке. И когда Первородное Солнце озарило их лучами, то они быстренько покрылись скорлупой и оттуда по прошествии времени вылупились… — Цыплята? — сказал Зимородок. На него замахали руками, а брат Хильян презрительно высморкался. Потому что вылупились вот такие гулячие избушки. Их было около десятка, но несколько сожрал Грунтор, еще три разбрелись по свету, а одну сумел заарканить храбрец-удалец Грантэр-Костолом, Отец всех Троллей, и она стала троллиным наследством. — Переходит из поколения в поколение, понял, брат Зимородок? Брат Зимородок сдал карты и увидел, что дело его совсем плохо — обчистят его тролли, как бы без сапог не остаться. Брат Сниккен взял щипцами из очага пару красных угольков и бросил их в чайник, а после налил себе и остальным освеженного таким образом чая. Разговор за игрой (шлеп — шлеп) перешел на нового владельца здешних акров торфа. — Стало быть, старый Модест помер, — сказал брат Сниккен задумчиво. — Сменил болото, — кивнул брат Хильян. — Перекинулся в пузырь, — вздохнул брат Уве по прозвищу Молчун. — Именно, — подтвердил Зимородок. — А новый из себя каков? — поинтересовался Сниккен. — Говорят, он городской, — вставил брат Хильян. — Деньги любит, — добавил брат Уве. — Жадный, — сказал брат Сниккен. — Ни таракана в нашей жизни не смыслит, — объявил брат Сниккен. — Дурак дураком, — сказал брат Хильян. — Да вон он, на печке лежит, — показал Зимородок. Все посмотрели на печку. Одеяло тотчас перестало чесаться, встряхнулось и свернулось у барона на ногах. Барон не то спал, не то грезил; глаза его под полузакрытыми веками двигались. — Этот? — протянул брат Сниккен. — А говорили, будто он хочет все тут переворотить. — Это правда, — признал Зимородок, — хочет. — Ты для чего в болота его завел? — напрямую спросил брат Хильян. — Не для того разве, чтобы утопить? Зимородок отвел глаза. — А, угадал, угадал! — завопил брат Хильян и в восторге затопал под столом ногами. — Штрассе, — молвил Молчун и посмотрел на Зимородка. Сниккен стремительно протянул через стол длинную руку и начал быстро шарить у Молчуна за пазухой и под мышками, но ничего не нашел. — Нет, это честная штрассе, — сказал Молчун. Брат Сниккен плюнул и полез за деньгами. — Топить барона не будем, — решительно произнес Зимородок. — Тебе что, его жалко? — удивился брат Сниккен. — Странный ты какой-то, брат Зимородок, вот что я тебе скажу! — Утопим — земли отойдут городскому магистрату Кухенбруннера, — объяснил Зимородок. — Я уже интересовался. Вам что, нужны тут все эти бюргеры? Тролли дружно посерели. — А мы их тоже уто… — начал было брат Хильян, но остальные уставились на него, и он замолчал. — Барон не так плох, как показался поначалу, — заговорил Зимородок. Изба чуть накренилась. Брат Сниккен хватил кулаком по стене: — Цыц! Стоять! Изба замерла. Две чашки — те, что не успели прилипнуть к столу, — съехали и приникли к чайнику. Молчун сказал: — Подумать надо бы. Они стали думать и перебрали множество вариантов. Барон Эреншельд пробудился в странном месте от странного ощущения: впервые за долгие годы у него нигде ничего не болело. Не свербило, не ныло, не мозжило. От стояния за конторскими столами у него развились разные болезни костей. Он уже свыкся с ними и даже привык считать себя стоиком во всех смыслах этого слова — и вот, удивительное дело, в поясницу больше не вступает, колено больше не выворачивает и так далее. Барону сделалось легко. Удивляясь этому ощущению, он передвинулся на лежанке и высунул лицо наружу. Одеяло, гревшее его, потянулось и перевернулось поперек. Барон машинально поскреб ногтем красную заплатку на шкуре, потом еще пестренькую. В комнату просачивался серенький утренний свет. Четыре фигуры за столом дули чай и негромко беседовали. На фоне оконного переплета выделялся носатый профиль брата Сниккена. Уве Молчун, чьи огненные кудри подернуло золой предрассветной мглы, задумчиво трогал маленькую арфу. — Тихо!!! — гаркнул вдруг брат Сниккен так оглушительно, что остатки сна панически покинули барона. — Молчун будет петь! — Это еще не обязательно, — возразил брат Хильян. — Обязательно! — отрезал брат Сниккен. Молчун еще немного побулькал арфой, а потом затянул воинственно и вместе с тем уныло: Мальчик-поэт на войну пошел, Взял арфу и меч с собою, Оставил свой дом и лохматого псаИ девушку с русой косою. В атаку ходил он и кровь проливал, И видал короля он однажды, Он ранен был, он арфу сломалИ раз чуть не умер от жажды. Один его друг от стрелы погиб, А другой без вести пропал, А третьего он после битвы самВ чужой земле закопал. Мальчик-поэт вернулся домой, Он долго был болен войною, Но подруга осталась ему вернаИ стала его женою. Мальчик-поэт ей песни пелПро звезды, закат и луну, Про собак, про ветер — про все что угодно, Но только не пел про войну, Никогда не пел про войну! Арфа брякнула еще несколько раз и затихла. Уве Молчун намотал на палец рыжую прядь и задумчиво выглянул в окно. Капельки, покрывшие маленькие стекла, вдруг вспыхнули разноцветными огоньками. — Они прекрасны, как бородавки, — заметил брат Уве, отрешенно созерцая их. — Проклятье! — взревел брат Сниккен. — Я всегда плачу, когда он это поет! Всегда плачу, как проклятая жаба-ревун! Четверо сидевших за столом были так увлечены чаепитием и песней, что даже не заметили, как барон пробудился ото сна. Смысл и содержание их застольной беседы настолько поучительно, что имеет смысл передать их здесь, хотя бы вкратце. Вот о чем они говорили. Рассказ о кочующем кладе Во времена короля Брунехильда Толстопузого жил-был один злодей именем Госелин ван Мандер. Говорили, что в молодости он был солдатом и выгодно сумел устроить свою жизнь, обыграв в карты одного долговязого, носатого, в полосатых красно-белых штанах. Другие считали, что он нажил богатство, занимаясь грабежами и даже обирая тела своих погибших товарищей. Но какой бы ни была молодость Госелина ван Мандера, с годами он превратился в гаденького старикашку, сварливого и неряшливого, который жил в страшной нищете и проводил дни, таскаясь по тавернам. Когда ни зайдешь, бывало, в «Кита» — выпить сидра и поболтать с соседями — а Госелин уже сидит там, брызжет слюной да рассказывает, какой он был удалец-молодец, скольким за жизнь вспорол брюхо и выпустил кишки — можно подумать, что это великое достижение! А под конец непременно затягивал эту самую песню — «Мальчик-поэт на войну пошел»… Уверял, будто это его сочинение; только пел он ее так фальшиво, что никто в такое не поверил бы, даже если бы захотел. И хоть ни один человек не мог знать наверняка, как получилось, что Госелин ван Мандер поет эту песню, но само собою сделалось известно, как украл он ее у погибшего солдата вместе с тощим его кошельком, локоном любимой в золотом медальоне и узелком свежих сухариков. Но больше всего любил Госелин — уже перед самым своим уходом — намекнуть окружающим на несметные сокровища, которые сумел скопить неправедными трудами. И хранятся, мол, эти сокровища так, что ни одна каналья не сумеет до них добраться, ни при жизни Госелина, ни после его смерти. Потому как клад этот, будучи кладом наемника, не знавшего родины, также не признает оседлого образа бытия и кочует, где ему вздумается, так что и сам Госелин подчас понятия не имеет о местонахождении своего сокровища. Таким вот образом Госелин куролесил по всем окрестным тавернам, а потом однажды его нашли у перекрестка трех дорог, припорошенного снегом и окоченевшего, как коряга, — с растопыренными руками и сильно торчащим твердым носом. С той поры никогда не переводились охотники отыскать кочующий клад Госелина ван Мандера. И многие сгинули на этом пути; однако нашлись и такие, которые преуспели, в том числе — профессор Вашен-Вашенского университета Ульрих фон Какой-То-Там, написавший несколько научных работ на эту тему, например: «Архетип кладоискателя в свете мифопоэтики Кочующих Кладов», «Нематериальные сокровища, их преемственность и недостижимость», «Заклички, заклинания и ловля клада за хвост как образ жизни» — и многие другие. Уже на памяти Зимородка одна отчаянная девчонка, трактирная служанка по имени Мэгг Морриган, выследила клад ван Мандера, проведя на болотах не менее месяца. Неизвестно уж, что она хотела оттуда забрать, только в последний момент клад обернулся полосатым камышовым котом с медными усами. Мэгг повисла у него на хвосте, и почти целую ночь, до самого рассвета, камышовый кот таскал ее по болотам, а с рассветом хвост оторвался и рассыпался жемчугом, который весь потонул в трясине. Мэгг Морриган после этого случая долго ходила молчаливая и только спустя год снова начала разговаривать как все люди. Братья-тролли — те устроили на клад настоящую облаву, окружили его кострами синего пламени и в конце концов поймали, бьющимся и мокрым, под поверхностью болота, на глубине двух саженей. Клад метался, рычал даже и бил всеми шестью когтистыми лапами, а когда вытащили его и пригвоздили особым оленьим рогом, обточенным нарочно для этого случая, вдруг обернулся той самой песней, которую украл когда-то ван Мандер. Рассказывали еще об одном удачливом портняжке, который женился на девушке с рыбьей кровью. Кровь нашептала жене, а жена сказала мужу — и вот уже они вдвоем идут на болота, а там, дожидаясь их, цветет трава папур, яснее ясного показывая, где сидит клад старого Госелина. Они, не будь дураки, набросали вокруг рыбьей чешуи от шести разных пород рыб и начали копать. Поднялся тут страшный вой и выскочила наружу перемазанная тиной девчонка, голая и скользкая. Попробовала выскочить и удрать, но наколола о чешую босые ноги, а тут-то ее и сцапали за зеленые косы. Девчонка присмирела и обернулась сундучком с хорошими золотыми дукатами. На эти дукаты портяжка построил дом, накупил тканей, ниток и иголок и нанял пятерых толковых работников, из которых трое умели шить, а остальные два тоже приносили пользу. Но такое везение случалось редко; а сколько людей погибло навек, только тем и занимаясь, что гоняясь за Кочующим Кладом! Иному, например, во сне видятся монеты, либо красавица с ног до головы осыпанная самоцветами, а то и библиотека драгоценных книг и нот… все, пропал человек! И вот, пока велись все эти беседы, в голове барона Эреншельда сам собою начала складываться картинка: Возьмут они с Зимородком хлеба и насыплют на болоте крошек повсюду, а потом сядут в засаду и будут ждать, терпеливо и очень тихо. И придет олень или какое-нибудь другое сказочное животное и начнет эти крошки мягкими губами подбирать. Тут-то надо выскочить и оленя напугать. Олени, если их застать за едой с человеческого стола, превращаются в деревья. Это оленье дерево и будет кладом ван Мандера. Так думал бедный Эреншельд и ведать не ведал, что клад проклятого Госелина кочует не только по болотам, но и по рассудкам самых разных людей, непрерывно при том изменяясь. По правде сказать, ведь и сам Госелин впал под старость в такое ничтожество из-за этого самого клада, потому что в один прекрасный день клад ухитрился удрать от собственного владельца. Ах, давно-давно ускакали, мелькая белыми панталонами и сапогами с нечистым, рваным голенищем те годы-денечки, когда по всему миру вольготно разгуливали войны, а Госелин ван Мандер был молод, пригож и нужен повсюду. Даже и не верится в такое, и тем не менее это правда, как правда и то, что в те годы носили дурацкие полосатые штаны и рукава с десятком буфов, а уж бантики пришивали повсюду, куда только простиралось воображение портного. Госелин ван Мандер, золотоволосый удалец, таскал, положив на шею, длинный меч в ножнах, и повсюду, куда ни приходил, нанимался за хорошую плату служить то одному, то другому графу и таким образом везде успел оставить по себе злую беду. Ибо, если все эти графы дрались между собою как любители, то Госелин ван Мандер был настоящим профессионалом. Это делало его одиноким. И не то, чтобы Госелину ван Мандеру так уж требовались друзья или там родственные души, но иной раз не с кем было даже в карты сыграть. И вот как-то раз шел себе Госелин из одного графства в другое — и споткнулся о чьи-то непомерно длинные ноги, протянутые поперек дороги. Что за леший! Только что никаких ног тут и в помине не было — и вот нате: как шлагбаум, полосатые и тощие и такие же твердые. Госелин растянулся в пыли, чуть сам себе голову не отрубил, а незнакомец громко расхохотался, подскакивая на месте и стукаясь костлявым задом о камень, на котором сидел. Так вот и подружились. Звали долговязого Дитер Пфеффернусс — рот до ушей, нос — впору грибы нанизывать и над огнем сушить, волосы белые, и весь он ломается и кривляется, что бы ни делал. Вместе прошли по всем окрестным графствам, и всюду, куда бы они ни приходили, тотчас начиналась война и требовался ван Мандер; а ван Мандер — вот он, готов служить, и кошель его жадно разинутым хлебалом глотает деньги совершенно без всяких ограничений и различий. А Дитер Пфеффернусс, неизменно находясь рядом, довольствуется тем, что обирает мертвых. В конце концов Госелину это надоело, и он так и сказал: — Вечно ты таскаешься за мной, Дитер Пфеффернусс, и воруешь у меня самым беспардонным образом! Ведь это я лишаю жизни всех этих людей! А если уж мне удалось отнять у них самое драгоценное их достояние, то будет только справедливо, если я заберу и все остальное — их кольца, ожерелья, денежки из кошелька, одежду и сапоги, съестные припасы и все, чем они дорожили! — Это ты ловко рассудил! — согласился Дитер Пфеффернусс. — Однако, боюсь, все равно ты никогда не сумеешь ограбить мертвеца так ловко, как это делаю я. Ведь я забираю себе не только их деньги и одежду — эдак всякий дурак сможет! — но и то, чего не видно глазом: стихи, музыку, забавные истории из детства, замыслы технических диковин, даже воспоминания о любви. А это, согласись, наивысший класс для мародера, и тебе, при всех твоих умениях, никогда не достичь такого. Тут ван Мандер, понятное дело, раззавидовался, надулся, целый день ходил хмурый — придумывал, как бы ему приятеля обойти, и в конце концов вечером обыграл того в карты. Дитер Пфеффернусс поглядел-поглядел на четыре туза, которые выложил перед ним ван Мандер, и решил не показывать свои (разумеется, плутовали оба одинаково хорошо; однако Дитер Пфеффернусс умел просчитывать не только карты, но и кое-что еще). Дитер Пфеффернусс сказал так: — Клянусь перченым орешком, из которого появился я на свет! Вот не повезло — так не повезло. Хорошо, Госелин ван Мандер, твоя взяла — отныне ты самый лучший в мире мародер. Нет такого сокровища, видимого или невидимого, которым ты не сможешь завладеть после смерти истинного его обладателя. Складывай все награбленное в ларец, — тут в длинных пальцах Дитера Пфеффернусса сам собою появился большой, окованный железом ларец, — и храни под замком, да не на лавке, а в той самой земле, на которой живешь сейчас. Настанет тебе пора перебираться на другое место — тотчас выкапывай ларец и перевози с собою, а там, смотри, опять тотчас же зарывай его — да поглубже. — А вдруг его украдут? — засомневался Госелин ван Мандер. Дитер на это только расхохотался, дергаясь всем телом, и помотал головой. Госелин ему сразу поверил и спросил еще о другом: — А как все богатства в этом ларце не поместятся? — Поместятся! — сказал Дитер и снова затрясся от смеха. Острый кончик его носа, прыгая, зачертил в воздухе огненные линии, но Госелин ван Мандер, охваченный алчностью, этого не заметил. — Ты будешь очень богат, Госелин ван Мандер, неописуемо богат! — выкрикивал Дитер Пфеффернусс. — Только запомни вот что: в тот день, когда ты украдешь сам у себя, твой клад сбежит от тебя, и остаток дней ты проведешь гоняясь за ним. — Украду сам у себя? — тут и Госелин ван Мандер принялся смеяться, да так сильно, что слезы сами собою потекли из его глаз, и он протер их кулаками, а когда отнял от лица руки, то увидел, что Дитер Пфеффернусс исчез, и только на столе лежат его карты — четыре туза и король. У Госелина пятой картой была дама, чему он ни тогда, ни впоследствии не придал значения. — И что же, обокрал он сам себя? — спросил Зимородок у брата Сниккена, который рассказывал всю эту историю под дружные кивки двух других троллей. Брат Сниккен выдул из уголка рта большой зеленый пузырь. Пузырь оторвался от губ тролля, пролетел на середину комнаты и там лопнул, наполнив воздух тучей пушистых бледно-зеленых пылинок. Солнечный луч вошел в самую их гущу, и они запрыгали вокруг него, то и дело ныряя в золотое сияние. — Обокрал ли ван Мандер самого себя? — важно переспросил брат Сниккен. — Еще как! Злейший враг не смог бы обчистить его ловчее. Все дело было в девушке. В красивой девушке, которая стояла на стене осажденного замка и смотрела, как среди рваных палаток и осадных орудий расхаживает ладный красавец Госелин ван Мандер — меч в полтора Госелина длиною, штаны — в шесть Госелинов шириною, волосы цвета октябрьской липовой листвы, очень грязные и длинные. — Влюбилась! — ахнул брат Уве Молчун. — Именно, — кивнул брат Сниккен и насторожился. — Ты-то чего ахаешь? Слыхал эту историю раз уж двести! Эка новость — влюбилась! Брат Уве смутился. — Всякий раз хочется, чтоб повернулось иначе, — пояснил он. — Иначе не бывает, — отрезал брат Сниккен. — Она уже случилась, эта история, и тут уж ничего не изменишь. Девушка влюбилась. А Госелин, когда захватил замок, украл то, что и без всякой кражи принадлежало ему… После, разграбив замок до основания, направился он прямиком в рощу, где зарыл свой ларец, и… — Пусто! — выкрикнул брат Хильян и захохотал. — Пусто! Сперва Госелин ван Мандер не поверил собственным глазам. Дважды перекопал землю, перетряс все палатки, зарубил своим геройским мечом какого-то пса, который невовремя пробегал мимо с плутоватой мордой, — все напрасно. Ларца как не бывало. Пал Госелин носом в разрытую землю и зарыдал крупными ядовитыми слезами. Слезы эти проросли и спустя несколько месяцев из них вылупились гаденькие махонькие швайгеры, те самые, которые мнят себя непревзойденными ландскнехтами и бродят из дома в дом пьяными ордами, рубя кротам лапки, мышам — хвостики, котам (только спящим) — уши, кроша сыр в кладовых, протыкая на грядках сладкие ягоды — чтоб гнили, словом, чиня всяческие непотребства, как и подобает вольным мечам столь крошечного роста. Слушает все это, лежа на печке, новый барон Эреншельд, а у самого в голове вырисовывается, как бы совершенно без участия разума: положим, удастся выгнать из земли клад и остановить его, превратив в дерево, — не то ли это будет дерево, на котором растут говорящие веточки? — То, то самое, — нашептывало в уши Эреншельду, — именно что то самое… А что делать с этими веточками — это барон превосходно знал, потому что лучшая в мире коллекция говорящих веточек (знатоки называют их «жезлами») находится совсем неподалеку отсюда, в городе Гольденкрак, у известного золотопромышленника ван Пупса. Обложенные тончайшим узорным листовым золотом — на каждом сообразный рисунок — они хранятся в шкафу, за цветным стеклом, и разговаривают между собою на самые разные, в том числе и ученые, темы. Минхер ван Пупс — обладатель веточек, говорящих на самых разных языках и наречиях; однако та, которую непременно добудет Эреншельд, окажется из всех редчайшей. Эреншельд на лежанке под одеялом задумался: каким же языком будет владеть эта веточка? Возможно, троллиным. Только не лингва-трольсден, а каким-нибудь малораспространенным диалектом. Ван Пупс отвалит за такую вещь целую гору золота. Даже голова кружится. Несметные сокровища в двух шагах, и достать их — легче легкого, а он до сих пор еще не в пути! Рыжий Уве глянул мельком в сторону печи, на барона, и молвил между делом: — По-моему, он готов. Хоть сейчас — под чесночный соус и на стол. — В таком случае, братья, — сказал Зимородок, — вынужден попросить о завтраке, а после и о прощании. Брат Сниккен свистнул. Одеяло спрыгнуло с Эреншельда и полезло куда-то в щель между печкой и бочкой с квашеными листьями. Хильян поднял руку, сунул ее под балку, нащупал там веревку и потянул. С другого конца комнаты важно приплыла большая корзина. Там оказались черствые булочки, которые, вместе с остатками вчерашней тушеной медвежатины, составили довольно сытный и уж точно вкусный завтрак. Барон кушал рассеянно; ни компании троллей, ни странному месту больше не удивлялся — крепко засел в его мыслях Кочующий Клад. Зимородку страсть как хотелось узнать, в какой облик отлилось сокровище ван Мандера, когда оказалось в баронской голове; но спрашивать напрямик он не решился — велика была опасность спугнуть барона. Простились тепло. Братья-тролли даже обняли своих гостей и снабдили их мешочком лекарственной пакости — лечить господина Эреншельда. Не успели путники сделать и десяти шагов, как Гулячая Избушка скрылась между деревьями. И то диво, что целую ночь на месте простояла, подумал Зимородок. Шли по болотам, по мху, по толстому лиственному ковру, иной раз выбираясь на более сухое место, к осинам, — а те почти перестали кричать на ветру, стояли голые и трясли тонкими безмолвными веточками; но чаще ничего вокруг двух путешественников теперь не было, кроме редких, погубленных болотом деревец. То гать под ногами — черная, скользкая; то бледный мох. Барон после ночлега у троллей переменился совершенно. Хворь телесная из него ушла и заместилась странным душевным недугом, более всего приметным по блеску в глазах и лихорадочной поспешности движений. Сам себе он казался теперь человеком, который определенно знает, чего хочет; Зимородок же видел, что Кочующий Клад перекочевал в бедную баронскую голову и вовсю лязгает там крышкой сундука. А ему, Зимородку, только одно и остается: за свои три гульдена в день научить господина барона разводить огонь на болоте, на снегу и в любой сырости; устраиваться на ночлег таким образом, чтобы к утру проснуться и к тому же не умирающим; различать звериные следы и отыскивать себе пропитание, когда закончатся сухари. Самое позднее в начале зимы Эреншельд возомнит себя настоящим следопытом, истинным лесовиком, — и тогда барона можно будет предоставить самому себе и при том не считаться убийцей. Кочующий Клад довершит дело; одичавший Эреншельд долго будет еще бродить по здешней глухомани, ведомый призраком. А теперь временем Общество Старых Пьяниц будет без помех собираться в охотничьем домике, отдавая дань сидру и пиву и приправляя братские трапезы поучительной беседой и нестройным хоровым пением. Так что Зимородок шагал весело и на все вопросы Эреншельда отвечал весьма охотно. Рассказывал ему о всякой тропке — куда ведет и откуда выводит; о любой встреченной мелкой лесной твари и о разных опасностях, которые могут таиться на пути. Эреншельд моргал, кивал, двигал бровями. Зимородок ожидал, что после первой же недели бродяжной жизни господин барон начнет опускаться, станет неряшливым, небрежным, перестанет беречь одежду и мыться, полагая, как и большинство мягкотелых горожан, что в этом-то и состоит признак опытного в лесной жизни человека. Однако — ничуть не бывало! Эреншельд продолжал оставаться опрятным, исправно умывался по меньшей мере два раза в день и до сих пор не потерял ни одной пуговицы. Это наводило Зимородка на определенные размышления, от которых сомнения то и дело тихонечко царапали его сердце — так, самую малость, не сильнее едва прозревшего котенка. Во-первых, если барон — крепче, чем представлялся поначалу, — не значит ли это, что он может не одичать и даже одолеть очарование Кочующего Клада? Когда их совместное путешествие подобралось ко второй недели, Зимородок не был уже ни в чем уверен. Во-вторых, если барон — достойный человек, следует ли вообще губить его жизнь, отдав ее во власть морока? Однако «в-третьих» освобождало от первых двух, поскольку оставляло уверенность, по крайней мере, в том, что Эреншельд при любых обстоятельствах не пропадет. Успокоенный этим третьим доводом, Зимородок засыпал у костра. А Эреншельд таинственными лесными вечерами подолгу размышлял над услышанным и увиденным за день. Жизнь, которая открывалась ему — день за днем, час за часом — поражала его и захватывала. Напрасно Зимородок говорил — кстати, довольно вяло — о монотонности лесных будней. Кого он хотел запугать однообразием — человека, проводившего доселе время за конторской стойкой? На исходе дня — это было в середине третьей недели их бесконечного путешествия по кругу — Эреншельд отсчитал Зимородку очередных три гульдена и улегся возле огня, радуясь теплу, горячему питью из коры и остатков чайного запаса, шепоту капель, которые где-то далеко, в глубине леса, падали на лиственный покров. — В этом году ранний листопад, — сказал Зимородок лениво. Из чащи на следопыта посматривали, наверное, звери, но он давно привык к этому. Эреншельд вдруг заговорил. Рассказал об олене, который превратится — непременно превратится, если застать его врасплох! — в дерево с говорящими веточками. Об коллекционере, золотопромышленнике ван Пупсе, который отвалит за эти веточки целое состояние. Нужно только отыскать то самое место… Эреншельд говорил и говорил, а Зимородок старался не слушать, но все-таки перед его глазами нарисовалась эта картина: шевелится, вспучиваясь, земля, разрастается с глухим гулом большой горб, листья и хвоя осыпаются с него, обнажая голую землю, — и вдруг этот горб лопается, как пузырь, взрывается, разбрасывая во все стороны комья земли, и из разоренной сердцевины поднимается олень, гладкий, словно бы облитый серебром… О, нет! Зимородок затряс головой. А барон, словно не замечая, говорил и шептал, бормотал и даже напевал, а потом вдруг всхлипнул и принялся быстро хлебать из своей кружки. Зимородок смотрел на него — как думалось самому следопыту, холодно и оценивающе — а в действительности с сочувствием и даже испугом. Котенок в его душе, как выяснилось, за эту неделю подрос и цапнул довольно сильно… Тогда Зимородок стал думать о братьях-троллях и их Гулячей Избушке. Как бредут они сквозь холодную ночь, в темноте, по хрусткой чащобе — неведомо куда тащит их взбалмошное жилище; а там, внутри, в полумраке, гудит и пылает печь, и эльсе-аллы построили себе гнезда, наподобие ласточкиных, под их потолком, чтобы в тепле пересидеть неласковую зиму…
…Серебристый олень, качнув тяжелой от рогов головой, взметнулся вверх и застыл прямо в прыжке, как будто воздух вдруг затвердел и охватил со всех сторон сильное звериное тело, — а затем, медленно вытягиваясь превратился в дерево, и только оленья морда с дико блестящими темными глазами угадывается среди густых ветвей… «Это все будет моим, — подумал Зимородок, вздрагивая от восторга, — скоро я на самом деле увижу все это, это станет моим воспоминанием — навсегда…» Он сделал еще одну попытку избавиться от наваждения. Начал — не без усилий — вспоминать «Придорожного Кита», и Алису — милую хозяйскую дочь, и Дофью Граса — такого чудного старика, стихотворца, который курит трубку работы самого Янника Мохнатой Плеши… Но тут мысли скакнули от трактира к трактирной служанке по имени Мэгг Морриган — а ведь ей удалось схватить Кочующий Клад, пусть даже за кончик хвоста! — и тотчас вернулось видение стройного дерева, ветви которого негромко переговаривались между собою на красивом непонятном языке, где было много придыханий. — Только одну веточку, — бормотал Эреншельд, круглые слезы катились по его щекам, подпрыгивая, словно бы в нетерпении, и падали в чай и барону на колени. — Одну-единственную… А потом все исчезнет… Лопнет с тихим звоном, наполнив напоследок воздух сиянием… множеством мерцающих бабочек… листьев… может быть, паутинок? капель?.. — Брыз-ги пи-ва! — строго промолвил в голове Зимородка голос Дофью Граса. — О чем ты только думаешь? И Зимородок проснулся. Было уже утро. Он так и не понял, когда заснул и что из случившегося вечером возле костра ему попросту пригрезилось. Но после этого случая Зимородок начал остерегаться таких разговоров и беседовал с бароном только о самом простом и необходимом. В начале четвертой недели их путешествия неожиданно к полудню выпал первый снег. Он лежал, вроде бы, не вполне уверенный в том, что имеет право здесь находиться, — однако с неба валились все новые и новые хлопья взамен тех, что имели глупость растаять, и в лесу сделалось сыро. От тяжести налипшего снега обрывались листья и ломались тонкие веточки. Между мокрыми стволами летели, в обнимку и порознь, белые, желтые, красные комья. Ярко-зеленая трава на болоте сделалась ломкой. Барон сказал Зимородку: — У меня закончились деньги. Я хотел попросить вас — как своего консультанта — поверить мне в долг, пока мы не вернемся в город. Там я полностью с вами рассчитаюсь. — Хорошо, — ляпнул Зимородок, не подумав. Он хотел даже добавить, что теперь все это неважно, но спохватился и промолчал. Снег все падал и падал. Глядя на это бесконечное падение, Зимородок лихорадочно пытался сообразить, что же ему делать дальше. Заманить барона в город, чтобы переждать зиму там? Сослаться на деньги — мол, нет платы, нет и консультаций… а там отказаться выходить в лес до весны. Но ведь Зимородок уже брякнул, что согласен работать в долг… Кроме того, с барона станется — кладоискатель может остаться на зимних болотах и один. Вполне в его духе. Нет уж. Теперь — другой вопрос. Где бы сегодня заночевать? Зимородок быстро прикинул в уме. Поблизости — в дне ходьбы — только два дома. Один, чуть поближе, — на западе; обиталище Янника Мохнатой Плеши. Другой, подальше, — на северо-западе. И как раз туда идти не следует ни при каких обстоятельствах, потому что этот второй дом — охотничий домик старого Модеста, штаб-квартира Общества Старых Пьяниц. Мохнатая Плешь, вероятно, взбесится, если Зимородок явится к нему без дела, да еще притащит с собой незнакомого человека. «Поглазеть?! — разорется Янник, не стесняясь присутствием гостя. — Вам тут не балаган! Глазеть — это на голых баб, пожалуйста!» Зимородку даже страшно было вообразить, что еще может наговорить в припадке ярости полутролль Янник. В гневе отпрыск беспечной ягодницы Катрины безобразен и жалок, и Зимородок заранее ненавидел себя за то, что собирается подвергнуть Мохнатую Плешь такому испытанию. Но он потом все ему объяснит. Но он потом ему даже отдаст все баронские деньги. Искупит, загладит. Все что угодно. Мохнатая Плешь поорет-поорет, но поймет. Возможно. Приняв наконец решение, Зимородок, втайне млея от ужаса, бодренько захрустел по снегу. Барон пошел следом, шаг в шаг, как уже привык. От хлопьев и листьев в глазах то и дело начинало мельтешить. Безопасную тропинку, ведущую через болото к дому Янника, занесло, но из-под снега торчали знакомые Зимородку приметные вешки: надломленный ствол осинки, перевязанный в косу орешник — и так далее. Спустя два часа даже зимородковы сапоги промокли, и следопыт еще более утвердился в намерении заночевать у Мохнатой Плеши. Хоть в сарае! Он обернулся к барону. Тот имел вид мечтательный и вместе с тем унылый. Над головой и плечами Эреншельда жиденько клубился парок, хлопья дерзко лежали на его одежде и волосах. Эреншельд, как и следовало ожидать, промок насквозь. «Только не останавливаться, — подумал Зимородок. — Пока идем — не замерзнем». Понадеявшись на долгую осень, следопыт не взял зимних плащей — чем опытнее лесной странник, тем меньше барахла он тащит с собой — и теперь в полной мере пожинал плоды собственной бывалости. — Нам идти до сумерек, — сообщил он барону. Барон молча кивнул. Зимородок отвернулся и зашагал снова. У Мохнатой Плеши странный характер. Иногда он радуется неожиданному гостю, тащит его поскорее в дом, топит в глубоком мягком кресле, поит чем-нибудь вкусным собственного изготовления — особенным пьяным киселем, например, или сладкой и густой гонобобелевой компотокашей. И при этом болтает, болтает без умолку. Призывает благословение на головы болотного духа, который пожалел бедного полутролля и прислал ему доброго собеседника. В такие дни Мохнатую Плешь распирают идеи, одна интереснее другой; он охотно делится соображениями по самым неожиданным вопросам и любит рассказывать забавные истории о своем детстве. Но случается — и это бывает, надо признать, куда чаще — что полутролль впадает в угрюмство. Тогда он расставляет вокруг своего жилища капканы, а на тропинку, ведущую к двери, приманивает какую-нибудь плотоядную пакость, раздразнив ее запахом тухлой рыбы или еще чем-нибудь, что возбуждает ее аппетит. Никому не известно, чем занимается в такие дни Мохнатая Плешь. Может, трудится над своими знаменитыми трубками, способными угадывать настроение владельца. Или втайне от всех пишет поэму «Тролль-Изгнанник, или Три косматых души» (ходили такие слухи). Или готовит пивную окрошку — свое любимое блюдо, которым никогда никого не угощает. Неизвестно. И никогда заранее не угадаешь, какая сейчас полоса настала в жизни Янника Мохнатой Плеши.
…Крр-р-рак!.. Под сапогом Зимородка что-то хрустом раздавилось и лопнуло. Он остановился на мгновение, а затем шарахнулся назад, сбив Эреншельда с ног. Барон ухнул в рыхлый сугроб, под которым сразу обнаружилась лужа, и оттуда с запозданием глухо крякнул. Прямо перед Зимородком из растоптанного белого пузыря вылетели мириады крошечных пылинок, часть которых тотчас осела на его одежде, лице и руках, а часть сгинула в снегу. Зимородок тихо застонал сквозь зубы. Барон барахтался среди развороченного сугроба, путаясь в листьях и прутьях. Зимородок отбежал в сторону, зачерпнул снега и принялся яростно тереть лицо. Но он знал, что это уже бесполезно. И еще он знал, какое сегодня настроение у Янника Мохнатой Плеши. Отвратительное. Далеко от этого места, в «Придорожном Ките», смотрела на ранний снегопад славная Алиса, и мятежно было у нее на душе. Что-то поделывают сейчас Зимородок с баронским наследником? Ушли налегке — и до сих пор ни слуху от них ни духу. Алиса готовила пудинг из молока и хлебных корок и попутно раздумывала, сладким его сделать или соленым. А еще в ее мыслях то и дело всплывал дядюшка Дофью Грас и — совсем уж краешком — мелькал там некий пригожий молодец по имени Витеус, у которого на левой щеке ямочка, а на правой таинственным образом ничего подобного нет. Тепло в трактире, а за окнами сыро и снежно, и по стеклу ползет сквозь пар капля, оставляя улиточный след. Ах, Алиса… Рыдает, не стыдясь, Зимородок, воет в голос — хорошо, что ты этого не слышишь. Барон — весь в налипших листьях — метнулся было подбежать, но Зимородок, растягивая рот плаксивым уродливым овалом, заорал: — Стой! Нет! И Эреншельд замер где стоял. Зимородок заговорил с ним, торопясь. У него уже распухал язык, начинали неметь губы, и каждое следующее слово выходило менее внятным, чем предыдущее. — Тебя как звать, барон? — первое, что спросил он. Барон подумал немного и ответил: — Мориц-Мария. Зимородок быстро закивал. — Ладно. Слушай, Мориц-Мария, эта дрянь, которую я раздавил, — это людожорка, гриб — понимаешь? — Он криво помахал в воздухе кистью левой руки, правой держась за щеку. — Споры, понимаешь? Вылетают споры. Они везде. Маленькие такие. Прорастают на человеке, на звере любом, на птицах. Им лучше, если кожа гладкая. Я сдохну, понимаешь? Эреншельд смятенно проговорил: — Понимаю. — Не подходи, — хрипел Зимородок. — Зацепишь… и все. Мориц! Мария! Там — Янник, на болотах. Скажешь — мой друг. Ему скажи, что друг. Понимаешь? Мой. Этот Янник… он не виноват. Он тролль. Наполовину. Ты понимаешь меня? Понимаешь? Я сдохну! — Хорошо, Зимородок, — с поразительным и даже, как показалось Зимородку, гнусным спокойствием отозвался Эреншельд. — Я тебя понимаю. Янник — тролль. Захлебываясь слюной, Зимородок опять заворочал во рту непослушным поленом, которое прежде было его языком. — Он вылечит… Янник… или подохну. — Заладил! — вдруг рассердился Эреншельд. — Жди здесь. Только никуда не уходи. Я вернусь. Ты меня слышишь? — Ма… рия… — попытался сказать Зимородок и улыбнулся. Отнял руку от щеки — там уже появилось безобразное бурое пятно. Оно чуть выдавалось над поверхностью кожи и, если присмотреться, видно было, как оно шевелится. Барон чуть раздул ноздри, поджал губы и отвернулся. Браво зашагал по тропинке, размахивая руками и то и дело проваливаясь в ямы под сугробами. Зимородок смотрел ему в спину, чувствуя, как прыгает у него угол рта. В голове воспаленно бродило: «презирает… конечно… противно ему…» Следопыт обнаружил поблизости бревно, сел, свесил между колен руки. Жар ходил по телу, но не согревал; ноги по-прежнему мерзли в мокрых сапогах. Зимородку казалось, что он ощущает, как его едят заживо. Неисчислимое множество крошечных челюстей отгрызают от него каждое мгновение по малюсенькому кусочку. Плохо, очень плохо, что этих мгновений так много. Снова повалил снег. Иногда пушистые хлопья попадали на больную щеку и приятно студили ее, но она скоро утратила чувствительность. Зимородок мычал — разговаривал с белыми хлопьями, но потому него заболело горло, и он замолчал. Сидел, водя головой из стороны в сторону; а после начал раскачиваться всем телом, пока не повалился набок в снег. Одним глазом он увидел, как из сугроба поблизости выбирается, отряхиваясь и гневно фыркая, олень, весь в инее. Запах звериной крови накатил и опьянил, у Зимородка защипало в глазах. Ему казалось теперь, что голова у него опухла, стала бесформенным комом, но ощупать ее и определить, так ли это на самом деле, сил не было. А может быть, это и вовсе не приходило Зимородку на ум. Бессильно наблюдал он, как олень водит мордой по снегу, что-то разрывает и шумно вынюхивает, — а потом вдруг поворачивается и, подбросив зад, одним прыжком исчезает в пустоте. Воздух вокруг заволокло розоватой мутью. Она подрагивала от жара и попахивала тухлым. Зимородок думал о том, что в действительности он сам превращается в эту муть, посреди которой еще плавает, мигая, его сознание. Ему показалось правильным найти в студенистом море хотя бы один твердый островок и высадить туда свое сознание, которое без этого захлебнется и утонет. Огромным усилием воли он отыскал в памяти образ Алисы — есть ли что-нибудь более незыблемое, чем трактирная хозяйка! — когда она, такая милая, домашняя, утром, в «Ките», спускается по лестнице на кухню… И тут к нему пришло Великое Знание: на самом деле он — протухший пудинг. — Нет, — захрипел Зимородок. — Не тухлый… свежий… Муть внезапно разорвалась и разошлась, как занавеска, и очень далеко, словно бы в освещенном окне, он увидел кухню и там девушку в фартуке с горошками; у нее были сильные, быстрые руки с ямочками, руки, от которых пахло ванилью. Она взбивала молоко и рассеянно улыбалась. Зимородок забарахтался в луже — снег под ним растаял — но встать не смог. И тут сверху на него упала тяжесть, источающая сладковатую вонь — гнилые грибы? — и Зимородок под нею исчез. А тем временем в охотничьем домике уже вовсю разливали по кружкам пиво, и Дофью Грас, отрадно-красномордый, провозглашал первый тост. Каменную кладку стен пиршественного зала украшали оленьи рога, оскаленные медвежьи головы, лапы дракоморда, срубленные по локтевой сустав, скрещенное оружие, портреты Эреншельдов в охотничьих костюмах и картины со сценами былых пиров. Подумать страшно, сколько яств ушло в небытие из стен этого скромного на вид зданьица! Произведения живописные — так сказать, полновесные, в красках, — слегка разжижались скромными гравюрами, изображавшими некоторые выдающиеся события из жизни Старых Пьяниц, а также два памятных портрета: основателя Общества, Кристофера Тиссена — в сбитой на ухо шляпе, цветком в углу рта и выпученными водянистыми глазами, и одной замечательной рыженькой собачки по имени Аста, большой подруги Дофью Граса. Почтенный Председатель предложил первую здравицу в честь юного Зимородка, который сейчас, на холодных, бесприютных болотах, морочит голову наследнику старого Модеста. — Благодаря этому превосходному юноше мы с вами, господа, смогли по традиции собраться в нашем излюбленном пристанище, — разливался Грас, а сам уже прикидывал, в какое время ловчее будет огласить перед достойными сотоварищами новое стихотворение, то самое, что вызвало столько возражений со стороны Забияки Тиссена. Пока что все складывалось наилучшим образом. Первый бочонок исчез так быстро, что никто толком не успел заметить, как же это случилось. Принесли жареную оленину с мочеными яблоками, клюквой и чесночным соусом в огромной серебряной супнице. Стало еще веселее. С загроможденного стола, по давней традиции, ничего не убирали, чтобы всякий мог кусочничать, когда захочет. Правилами Общества дозволялось посещать соусницу своей ложкой или ломтем хлеба и даже хлебать его через край, как кисель. После третьего бочонка некоторые закурили трубки, и тогда-то и потекла более связная беседа, нежели в первые часы, когда томимые голодом и жаждой Старые Пьяницы изъяснялись весьма отрывисто. Начал Тиссен. Отмахиваясь клетчатым красно-синим платком от колец дыма, пускаемых Дофью нарочно в его сторону, он принялся сетовать на теперешнее грустное положение дел. «Не доверяю я этому Зимородку, что бы там ни говорил о нем Грас, — заявил Тиссен и потряс перед носом маленьким жилистым кулачком. — И надеяться нечего. Нагрянут клерки — и все, прощай охотничий домик… Нынешние — они ни на что не способны. Вот мое мнение, если оно кого-нибудь интересует». Разумеется, немедленно нашлись желающие возразить — и так, словно за слово, разговор перешел на проблемы благородных и отважных поступков (известно — и из легенд, и опытным путем — что благородные поступки порождают проблемы, иной раз даже немалые). Столь важная тема требовала серьезного подтверждения, и один из Старых Пьяниц в конце концов взял на себя труд сообщить собравшимся одну захватывающую и поучительную историю, добавив между прочим (не без намека), что она вполне годится для того, чтобы какой-нибудь стихоплет претворил ее в длинную, исторгающую слезы балладу. Звали повествователя Сметсе Ночной Колпак, а история, рассказанная им, была занесена в Анналы Общества, и оттого мы приводим ее здесь — более или менее в том виде, в котором она прозвучала впервые. Рассказ о контрабандисте и сиренах Черепушка — так назывался остров, на котором размещалась тюрьма. Остров был идеально кругл и лыс, желтовато-белого цвета и, казалось, покачивался в черных волнах, как самый настоящий череп, притопленный по надбровные дуги. На самую макушку острова арестантской четырехугольной шапочкой было нахлобучено здание тюрьмы — слегка набекрень, крыша и северная стена примяты. Авантюрист Пер Ковпак успел отсидеть три года. Начальник тюрьмы, Цезарь Мрожка, человек с желтым лицом и болью в печени, подошел к нему и сказал: — Ну-с, если до сих пор к нам не пришел казенный пакет с веревкой для вашей виселицы, стало быть, вас помилуют. Вопрос только — когда? — И добавил: — Вам хорошо. Вас вешают или милуют, а я здесь уже двадцать лет. Начальник ушел, пошатываясь. Ковпак, трудившийся над барельефом, изображающим голую красавицу, уронил черенок ложки — свое орудие, упал на топчан и закрыл лицо руками. Тюрьма на Черепушке была наихудшим местом на свете. Арестантов там редко скапливалось более десятка. Поэтому еда была сносной и обильной — тюрьму по старой памяти снабжали на «двадцать рыл». Единственный надсмотрщик, хромой идиот Мавпа, боялся своих подопечных и заискивал перед ними. Повар, он же врач, он же палач, сам был из каторжных и регулярно «входил в положение» по части выпивки. И все же тюрьма на Черепушке медленно убивала Пера. Его сводил с ума ветер. Весной и летом он звенел в ушах высоко и тонко, почти пищал. Осенью и зимой ветер ревел — гулко, хрипло, сердито. Полгода он дул в одну сторону, полгода — в другую. — От этого ветра в голове заводятся черви, — сообщил повар, когда Пер чистил батат на кухне. — Правда? — спросил Пер Ковпак. — Погляди на Мавпу, — ответил повар и хрюкнул в передник рваным носом. — А почему у Мрожки не завелись? — Мрожка ходит заспиртованный, — сказал повар. — Для того и пьет. — А у тебя? — А я слово волшебное знаю. — Что за слово? Повар скосил глаза и расцвел гнилой улыбкой. Глядя на его пухлые руки, покрытые ямочками и мерзкой говяжьей кровью, Ковпак крепче стиснул кухонный нож. На четвертый год, весною, когда Ковпак закончил барельеф и отучался разговаривать сам с собою, Цезарь Мрожка позвал его к себе в кабинет, угостил хлебной водкой и сказал: — Через три дня наш карбас приведут в порядок. Нужно сходить на континент и обратно, забрать провизию. Я болен, целую неделю меня рвет желчью. Даже мысль о качке выбивает пол у меня из-под ног. Мавпа один не справится. Я знаю, вы когда-то занимались контрабандой и пиратством. Пообещайте, что не удерете — и я отпущу вас вместе с Мавпой. Впрочем, попав в Совиную гавань, вы расхотите бежать… Пер Ковпак, оглушенный и раздавленный, на следующий день уже руководил покраской и конопаченьем косопузой посудины. Всю зиму она валялась на берегу килем вверх — пять месяцев в году море в этих широтах непригодно для плаванья. В октябре карбас делает восемь рейсов туда и обратно — привозит зимние припасы. После чего в апреле его снова ставят на воду. «Мавпу — за борт, — соображал Пер Ковпак. — На обратном пути, чтобы с припасами… Пройти вдоль берега до Смертельной Расчески, забрать к северу… что же дальше?» Дальше он не помнил. Ему не приходилось бедокурить в этих краях. Прежде он предпочитал теплые страны, чтобы море было зеленым, а не черным, чтобы небо отливало яркой синевой… Арестанты конопатили лодку так же скучно и неумело, как делали любую другую работу. Особенно неприятно копошился опустившийся тихий старик, у которого борода и шевелюра соединялись в один свалявшийся комковатый шар сизого цвета. Старика все называли Вонючий Дед. Теперь он перемазался смолой и все ронял на песок клочья пеньки. Пер не выдержал и отвесил Вонючему Деду пинка. В день отплытия звук ветра усилился. Это было особенно заметно на пристани. В монотонном завывании Пер различил отдельные голоса — они заползали в уши подобно щупальцам и щекотали мозг. Ковпак вспомнил, как первые месяцы заключения это сводило его с ума — он колотил себя по голове кулаками и рычал. Есть он тогда не мог. Вонючий Дед подбирался бочком к его миске и запускал в нее пальцы, хныча и обжигаясь. Убрали сходни. Мавпа, приседая, сворачивал швартовые концы. Волна шваркнула лодкой о причал, следующая подхватила кораблик. Баркас зачерпнул кливером воздушную струю. Цезарь Мрожка, скрючившийся на пристани, сделался меньше ростом. Грот, твердый от стирки в соленой воде, размотался, как свиток коры. — Шевелись, макака! — кричал Пер Ковпак. Мавпа, волнуясь, колдовал над рифовым узлом. От киля до клотика разболтанный кораблик скрипел, вихлялся и подрагивал. Румпель, закрепленный в нужном положении, вдруг сорвался и ударил Пера в поясницу. Мавпа заметил это и побелел — забоялся, что ему влетит. Но Пер Ковпак только сплюнул за борт. Он боролся с приступами дурноты. Мавпа, облокотившийся о борт, вынул из-за пазухи ноздреватый, зеленеющий сухарь и принялся, чавкая и пуская слюни, точить его деснами. Отламывая большие куски, он сплевывал их в тяжелые волны и приговаривал при этом: «Гули-гули-гули!». — Что ты делаешь? — удивился Пер. Мавпа с ужасом глянул на него, съежился и пробормотал: «Ничего». — Врешь. Ты подкармливаешь рыб? — Сухарик больно черств, — ответил Мавпа и жалко улыбнулся. «Чего я, в самом деле, привязался к идиоту?» — подумал Ковпак про себя. А потом вспомнил, что этого идиота ему, Перу, придется вываливать в черную холодную воду и слушать его крики. Ковпаку стало мерзко. — Говори, что ты делаешь, иначе я покрошу рыбам тебя! — крикнул он и надвинулся на надзирателя. — Я кормлю сирен. Сирен. Ничего плохого… — запричитал Мавпа, закрываясь руками. — Сирен? — Ковпак рассмеялся. — Что ты мелешь? — Тут, в волнах… — Мавпа понял, что бить его не будут, ожил и завертелся, тыча пальцем в воду. — Они живут. И поют. Всегда поют. Никто не слышит, только я и еще трое. Один, правда, умер. Не выдержал. Кровь пошла у него из ушей и вся вышла. И остальные тоже умрут. Все, кто слышит, умрут. Только я не умру, нет, нет… Пер тряхнул Мавпу за ворот, потому что глаза у Мавпы закатились, ноги связались узлом, а подбородок его задергался из стороны в сторону. Встряхиванье не сильно помогло, и тогда Пер, со стоном брезгливости, ударил Мавпу по колючему мокрому лицу. Надсмотрщик ожил, заулыбался и продолжил: — Да, сегодня особенно громко. Голова раскалывается. Сначала. От этого умирают медленно. Года четыре… Последний год ЭТО слышно все громче и чешутся глаза, а во рту — вкус моря. Кровь начинает сочиться из носа и ушей. А потом — хлынет и конец. Крышка. Вся до капельки. Я знаю. Ковпак отпустил Мавпу, и тот аккуратно упал на почерневшие палубные доски. Через шесть часов показались рыжие холмы, меж которыми пряталась Совиная гавань. «Тоска», — сказал Пер, завидев убогие строения и обглоданные временем скелетики рыбачих лодок на отмелях. От занозистого причала пахло древесной гнилью. Поселок был тих. Даже собаки за дырявыми заборами перелаивались шепотом. Ветер волочил по земле чью-то рванину и соленые ледяные крупинки. Сточная канава ничем не воняла, потому что желтый лед на ней еще не растаял. Никого кругом не было. До почты встретился им только мальчик лет четырнадцати с землистым лицом. Он курил, сидя на пустой бочке, и методически бросал камнями в стену сарая. На здании почты было написано «Почта». На доме шерифа — «шериф». На почте пахло мышами и сургучом. Мавпа старательно поморгал в сумерки за конторкой, но ничего из этого не вышло. В тишине было слышно, как хлопает дверью сквозняк. Мавпа молчаливо довершил бессмысленный ритуал и вышел. Пер Ковпак двинулся за ним. У причала уже стояла фура, и двое личностей, белоглазых и беловолосых, сносили в карбас ящики, коробки и тюки. В них была мука, вяленое мясо, крупа и табак, крепкий и вонючий, как ругательство. аВ одном бочонке плескало — он подтекал можжевеловым самогоном. — Идем, — сказал Мавпа, возбужденно подрагивая ноздрями. — Здесь таверна. Я угощаю. Ковпак так удивился, что и сам не заметил, как они вошли в закопченное зальце. Надсмотрщик долго трезвонил в колокольчик, подвешенный у стойки. Наконец в волнах чада заколыхался хозяин, белоглазый и серолицый, с нехорошей улыбкой. Он смерил глазами Пера и не отрывая от него взгляда нацедил два стакана маслянистой мути. Мавпа лизал пойло языком, цокал и заводил глаза. Ковпак выпил свой стакан одним глотком. Ему по-прежнему слышались сирены. Он поверил надсмотрщику. Люди, способные слышать сирен, рождаются теперь редко. Еще реже, чем сирены, которые, как известно, выводятся из яиц, отложенных на каменистых и сумрачных берегах острова Ту-Тао, раз в сто лет поднимающегося из черных волн Полуночного моря. Пер Ковпак ведать не ведал, что он — один из таких людей. «Непременно надо бежать», — подвел Пер итоги своим размышлениям. Хотя бежать ему теперь действительно не очень хотелось, как и предсказывал Цезарь Мрожка. Окружающий мир, свободный и тихий, представлялся Перу холодным, полным белоглазых грязных людей, и люди эти клейко улыбались, липко поглядывали и хмыкали, словно собирались затеять ссору. У каждого за пазухой угадывался кривой рыбацкий нож, воняющий чешуей. Такие ножи удобнее всего втыкать в спину. Тошнота, вызванная пойлом, улеглась, и в эту же минуту дверь с улицы распахнулась, неохотно впуская свежий холодный воздух. На пороге оказалась молодая, довольно привлекательная особа с усталым, обветренным лицом, но не с землистым, не с серым, а вполне людским. От таких лиц отвык Пер Ковпак. Женщина вошла в гнездилище вони совершенно бесстрашно. Хозяин нагло и изумленно уставился на нее, заклокотав горлом. Женщина устремилась к Ковпаку, поклонилась ему сдержанно и, глядя жестко и прямо, спросила: — Вы — офицер тюремной охраны? Хозяин таверны закашлялся смехом и стукнул вялой ладонью по стойке. Мавпа втиснулся между Пером и незнакомкой, по-птичьи задвигал головой и пробормотал: — Это я, госпожа, я старший надзиратель… это я. Не обращая на него внимания, женщина оглядела Пера внимательно и, как ему показалось, презрительно. — На острове отбывает срок заключенный Ангел Ракоша. Я — его дочь. Ему вышла амнистия… Курьер с комиссией приедет только через месяц, и я сама… — С заключенным не можно разговаривать, — сказал Мавпа. — Вы давно ждете нас здесь? — спросил Ковпак. — День и одну ночь, — женщина потупилась. — В этой таверне? — Нет, в рыбацком сарае. Трактирщик требует особой уплаты с постоялиц. Денег ему не надо, однако он украл мой багаж. Хозяин таверны снова прыснул. Пер поглядел на него пристально. Трактирщик подмигнул ему и повел локтем. Дескать — смотри, какая фифа, из городских. Ковпак перевел взгляд на женщину. Руки она держала сложенными на груди. Руки были в нитяных перчатках — митенках. Голые пальцы посинели от холода. — Вы передадите пакет начальнику тюрьмы? — спросила дочь заключенного. — Я передам… я надзиратель, я передам. — Мавпа все кивал и кивал головой. Пер наклонился над стойкой в раздумье. Трактирщик сказал ему: — Действуй, парень. Мне не обломилось, а ты можешь уговорить эту цацу. Не упускай случая. Я вам комнатку дам на полчаса. Чур, расскажешь потом, с продробностями… Пер неожиданно ухватил трактирщика за загривок и крепко стукнул его лбом о стойку. Тот повалился и около минуты копошился где-то внизу, приглушенно рыдая. — Дашь ей комнату, почище. Вещи вернешь. Понял меня? — У, каторжный! — рыдал хозяин. — Развелось вас… я жаловаться буду! — А я сожгу твой притон, — спокойно заявил Ковпак. — Скажи ему, Мавпа, я ведь могу. — Могёт, могёт, — подтвердил Мавпа. — Он могёт, а я надзиратель при нем… Давайте ваш пакет, госпожа. Он могёт… — Я привезу ее отца через неделю, — сказал Ковпак. — Если у госпожи Ракоша будет хоть одна жалоба, я истреблю всю вашу деревню. Это здорово очистит воздух на побережьи. Женщина наблюдала за происходящим без особого ужаса и брезгливости, вполне терпеливо. Когда Пер произнес свою тираду, она передала Мавпе конверт с гербовой печатью. — Что ж, неделю я подожду. — За неделю с вас двадцать гульденов, — крикнул из-под стойки хозяин. — Деньги вперед. Ковпак вышел прочь. На карбасе, среди пения сирен и бесчеловечного холодного ветра Пер Ковпак предпринял последнюю попытку к бегству. От ящика с луком отскочила тяжелая медная скоба. Эту скобу Пер взвешивал на ладони — она идеально ложилась в руку. Один загнутый конец был слегка приплюснут и заострен. Ковпак подошел к Мавпе и примерился для удара. Одного-единственного в висок было бы достаточно. Но, как нарочно, Мавпа повернулся и заморгал гноящимися глазками. — Не бойся меня, — сказал Ковпак и выбросил скобу в море. — Скажи лучше, кто такой этот Ангел Ракоша? Мавпа неловко попытался скрыть улыбку и ответил смущенно: — Ты знаешь его. Это Вонючий Дед. Известие об амнистии слегка оживило тюремную холодную духоту. Вонючего Деда загнали в подвал, где умельцы сымпровизировали по такому случаю внеочередную баню. В три дня на Деде свели насекомых. На четвертый день мытья от него уже не воняло. Повар, зажав голову Деда между коленей, остриг сизый войлок и даже подравнял бороду. Старик орал, из глаз его, воспаленных от мыльной воды, текли черные слезы. — Я отвезу его один, — сказал Ковпак Мрожке. — Нет, — ответил начальник тюрьмы. — Я справлюсь. — О да. В этом я уверен. — Вы не доверяете мне? — Нет. Потом Мрожка скрючился, обмок холодным потом и добавил: — Если вас увидят без конвоя, меня отдадут под суд. Ковпак оставил его в покое. Сирены пели прямо у него в голове. В воскресный день карбас швыряло волнами. Мавпа плевал в буруны жеваным сухарем. Преображенный Дед в чистой одежде — ни дать ни взять отец семейства — держался за борт и скулил. Ковпак довольно ловко галсировал. У входа в бухту ветер боролся с течением, но карбас удачно повернул и шел ровно, хоть и медленно. На причале стояла дочь арестанта. Пер издали заметил ее. Деда он пустил по сходням впереди себя. Ракоша смотрел не в лицо дочери, а себе под ноги. Иногда он с тоской оборачивался в сторону залива, пытаясь углядеть Черепушку. Ковпак и Мавпа оставили их вдвоем. Скоропортящийся груз — подтухающие яйца и мороженое мясо — требовал забот. Поселок был охвачен оттепелью, что не шибко его украсило. Прямо за досками пристаней темнела обширная лужа. В ней плавали удивленные рыбьи головы и луковая шелуха. Не хватало двух бочек солонины. — Ничего не знаю, — сплевывал на доски грязнолицый бригадир грузчиков. — Груза не частные, груза казенные. Подписуй. — И тыкал испуганному Мавпе в лицо захватанным свитком. Ковпак взял парнягу за ворот и макнул в лужу. Грузчики тупо и равнодушно глядели на него. Госпожа Ракоша подошла к Перу. Выглядела она очень устало. — Я должна вас поблагодарить, — сказала она. — Хотите денег? Ковпак покачал головой. — Может, передать кому письмо? — Здесь есть почта, — ответил Пер. — Экой вы… — Женщина поглядела исподлобья. Мавпа на корме карбаса потрясал тесаком в сторону грузчиков. — Пора, — сказал Ковпак. — Еще выйдет буза из-за солонины. — Прощайте, — сказала женщина. Ковпак отцепил швартов и перемахнул на зыбкую палубу. Карбас отваливал боком, пока поднятый парус не захлопал в воздухе. Мавпа переложил руль. Ковпак стоял и смотрел, как госпожа Ракоша провожала его взглядом. Серый ее дорожный плащ развевался. Женщина приложила ладонь козырьком ко лбу. Вонючий Дед Ангел Ракоша в чистенькой одежде бессмысленно топтался сзади нее. — Хороший ветер, — сказал Мавпа, когда Совиная гавань утонула в дымке. — Пошел ты! — крикнул Ковпак, привалился к борту и зарыдал. Невидимые сирены торжествовали. Три дня он провалялся в беспамятстве. Повар осмотрел его и сказал: «Это горячка». — Тиф? — спросил Мрожка. — Просто горячка. Перу пустили кровь, приложили уксус к вискам, а после напоили хинной настойкой. Он выжил, но долго был слаб. — Вы саботажник, — сказал ему Цезарь Мрожка. Теперь начальник сам вынужден был ходить на карбасе и с отвычки едва не утопил посудину, заблудившись в тумане. Мавпа ухитрился разглядеть в опасной близи зубья Смертельной Расчески, спас карбас и ходил гоголем по этому случаю. Однажды повар напоил его до бесчувствия. Мавпа выполз из здания тюрьмы, подошел к краю берега, оскользнулся и погиб в черных волнах. Арестанты шептались, что он увидел поющую сирену прямо у берега и решил посчитаться с нею. Повар говорил, что черви в голове у Мавпы взбунтовались супротив пьяных паров и Мавпа кончил с собой, спасаясь от страшной боли. Мрожка до осени героически ходил на карбасе один. За сутки он начинал пить для куража, пьянел мертвенно, а после как бы приходил в себя, существуя в тумане. Взгляд его горел очень нехорошо, а лицо, обыкновенно желтое, бледнело и опухало. — Скапучусь в море, а вы тут подыхайте с голоду, — кричал он арестантам, стоящим на берегу. — Еще сами друг дружку лопать будете, черти! При этом Мрожка зычно смеялся. Но ничего, не скапутился. Пер проболел всю осень. Сирены пели. «Это конец,» — решил он, когда кровь капнула у него из носа во время умывания. Но ничего не произошло. Навигация приближалась к концу. Мрожка перевез много припасов. Рапорт о смерти Мавпы он написал, а потом сжег в печке, чтобы не сократилось довольствие. Потом он сказал: «Какая разница!» и напился. В полночь ему стало дурно. Мрожка изошел желчью. Утром было ясно, что выйти в море он не сможет. — Кто пойдет? — спросил он слабо. Староста арестантов вышел вперед и сказал, что добровольно никто не хочет идти. Море злое. — Угля не подвезли раньше, — сказал Мрожка, — Баржа с углем ждет в Совиной. Без угля нам карачун. До весны не доживем. — Доживем, — сказал староста. — Будем топить шкафчиками. — Без угля я не смогу готовить еду, — заявил повар. — Вы будете жрать сырые клубни и мерзлые коровьи сердца. У нас не будет хлеба. Вы налопаетесь муки и подохнете, когда у вас склеятся кишки. — Ты начальник, я дурак, — отвечал староста. — Но добровольно никто не пойдет. — Я пойду, — сказал Пер. — Только, боюсь, вас отдадут под суд. У меня не будет конвоира. Мрожка рассмеялся и харкнул чем-то черным. — Оденете перевязь Мавпы и его кожаную шапку. Будете сами себе конвоир. Ковпак вышел в море через час. Северо-западный ветер обдирал лицо. «Обратно выйдет хуже, — прикидывал Ковпак, изучая капризы течения. — А ведь придется волочить за собою плоскодонную баржу». Между волн уже скакали льдины. Редкие солнечные лучи, продравшиеся сквозь низкое, вязкое небо, поблескивали на ледяных корочках. Пер старался не думать о сиренах. Черная глубина уже не страшила — манила. И это было плохо. Но на счастье сорвался шкот, и обледеневшая веревка рассекла лицо Ковпаку. Холод обжег рану, крови почти не было. Ковпак отвлекся. Рыча от боли и плюясь проклятиями, он добрался в Совиную. Там было спокойнее. Вода вяло шевелилась, словно покрытая пленкой прогорклого масла. В трактире он влил в себя два стакана джина, пахнущего дымом. Третий стакан плеснул себе в лицо. Рана оттаяла, и кровь потекла. — Обождите шквал, — сказал ему рыбак, карауливший баржу. Пер махнул рукой и спросил еще стаканчик. Пока он пил его, раскрылась входная дверь и в чаду стало темнее. В смерче холодного пара укутанная и мокрая фигура оглядывала комнату. — Вы узнаете меня? — спросила госпожа Ракоша. Она сняла капюшон. Ковпак не ответил. — Помните, я сказала, что хочу вас отблагодарить? Она улыбалась. — Вот ваша свобода. Я знаю ваше имя и кто вы. Вас помиловали, давным-давно. Больше года. Но бумаги ваши затерялись. Она из-за пазухи извлекла конверт со знакомой уже печатью. — Это удача, что вы здесь. Мне сказали, что за углем придут из тюрьмы обязательно. Но теперь вам можно не возвращаться. — Нельзя, — подал голос Пер. — Вот как? — Я один вышел в море. — Ох! — сказала женщина. Помолчали немного. — Хорошо! — Она тряхнула головой. — Я подожду вас до завтра. Вы вернетесь, вас перевезут. — Не перевезут, — сказал Ковпак. — Некому. — Глупости, — встрял старый рыбак. — Начинается тура, ветер-убийца. Всякий, кто попадет в волны, погибнет. Госпожа Ракоша топнула ногой. — Это какая-то недобрая выдумка, — заявила она. — Послушайте, уезжайте отсюда, — сказал Ковпак. — Вам нечего делать здесь. Спасибо за помилование, извините, что придется ему подождать полгодика. Женщина разозлилась. — Да кто вы такой, чтобы мне указывать? Я найду, чем себя занять. Сколько вас не будет? Два месяца? Три? — Пять, — сказал рыбак. — Пять месяцев. — Я подожду. Она присела на скамью и положила руки в митенках на колени, словно так и собиралась ждать все пять месяцев. Пер Ковпак рассмеялся. — Зачем вам это все? — спросил он. — Незачем, — госпожа Ракоша пожала плечами. — Я одна. Отец умер… — Она снова рассердилась. — У вас сегодня скверное настроение? Пер коснулся кровоточащей щеки и кивнул. В трактир впал высокий костистый парень, совершенно ошалевший и пьяный. — О, каторга! — закричал он. — Ты тут? Эт-то напрасно. Шторм. Тура идет! Ветер усиливается. Катись поздорову, а то через час совсем не выйдешь. Потопнешь еще в бухте. Уматывай! Если останешься, тебя забьют деревенские. Сказав, парень притопнул весело и убрался наверх, гремя заиндевевшей одеждой. — До весны, — молвил Пер. Женщина смолчала. В ее глазах отражались огоньки свечей. Когда карбас соскакивал с волны и летел вниз, хуже всего было, что баржа, влекомая буксирным тросом, падала следом и почти сокрушала корму. Ветер орал. Кожаная шапка улетела за борт. — Тура! — кричал Ковпак. — По мою душу? Кто меня слопает раньше, ты или сирены? Сирены пели испуганно и злобно. Пер боролся с рулем. Плоскодонную баржу бросало волной то влево, то вправо. Буксир натягивался и гудел, карбас разворачивало, и он получал другой волной, как кулаком по скуле. «Меня снесло с курса, — отметил Пер. — Теперь надо держать право, на юго-запад». Он пил прямо из горла и не пьянел, только злился. — Ну, гадина, — орал он на волну, — только тронь меня! А-ах! И карбас снова получал по скуле. Румпель неистово дергало. Только Пер ложился на него, чтобы не пустить в одну сторону, как он летел в другую, и Ковпак падал на соленые мокрые доски. Черепушка маячила уже близко. Ее сигнальные огни выскакивали то слева, то сзади, то справа, но почти не отдалялись. Это радовало. — Ну и крутит, ну и вертит! — пел Ковпак. И тут сзади, над кормой, возникла змеистая волна и замерла. Ковпак побледнел и обхватил руками голову. Сирена лежала на самом гребне. Зеленовато-черная, в пятнах, нагая женская фигура, отлитая из переливчатого металла, венчалась страшной и бессмысленной харей глубинной рыбы. Во рту, распахнутом хищно, торчали спицеобразные зубы. Выпученные глаза, красные, неживые, остановились на Ковпаке. Сирена исторгла пронзительную ноту и провалилась в воду, когда Ковпак бросил в нее бутылку. Пошатываясь, Пер переложил парус, уперся о румпель спиной и обвязал себя веревкой. Второй конец он примотал к трюмовой решетке. Он терял силы и боялся, что ветер утащит его за борт. — Это глупо, — сказал он себе. — Согласиться на пять месяцев ада… Как глупо… Он принялся думать о госпоже Ракоша. — Чудачка! Приехала… такая чудачка… Неужели дождется? Кого? Меня? Ему стало смешно. Он не заметил, как сирена выбралась на борт карбаса. Из холодной тьмы выпрыгнула рыбья пасть. Пера обдало вонью. Ему были видны глаза ее и ниточки слизи, висящие на зубах. Сирена передвигалась по палубе, как гусеница. Сдвоенный черный хвост был ободран и сочился белым. Вероятно, ураган настиг ее неожиданно и унес из гнезда, и теперь она пыталась спастись. Инстинкт загнал ее на этот странный плавучий остров, инстинкт велел ей теперь избавиться от человека. Чешуя на ее загривке приподнялась и зашуршала. Пер закричал на нее и топнул ногой. Она ударила его головой в грудь, и Пер вылетел за борт. От холодной воды он оцепенел, но, ухватившись за веревку, стал выползать, прилипая к мокрому борту. Сирена почуяла его и кинулась сразу, едва он перевалился внутрь. Длинный зуб пропорол ему левую руку. Помимо пения сирена издавала еще и шипение, от которого все чесалось внутри. «Все, — решил Ковпак. — Судьба». Когда сирена бросилась опять, Пер схватил баковый фонарь и ударил ее по морде. Ворвань с шипением растеклась по мокрому телу чудовища. Огонек погас. Теперь только два глаза горели во тьме. Пер шагнул назад, запутался в собственной веревке и упал на спину, ударившись затылком о борт. Сирена шипела где-то рядом. Потом карбас подбросило на волне. Ковпак увидел сзади и сбоку баржу, которая обрушивалась на карбас. Он закрыл глаза. Послышался треск. Что-то ударилось о палубу, громко и тяжко. Пер приподнялся, но ничего не смог разобрать. Их несло прямо на Черепушку, мимо отмелей. Ковпак отчетливо слышал звяканье тусклых колоколов на бакенах. — Эй! Эй! — кричали с Черепушки. — Я здесь! — закричал Пер в ответ. На четвереньках он пополз к румпелю. Встав у руля, он понял наконец, что случилось. Упала мачта и размозжила сирене голову. Она трепыхалась еще и шипела, но пение прекратилось. Вообще. Перу даже показалось, что он оглох. — Она была здесь одна, — сказал Пер. — Только одна. Собратья ее ушли в другие места или издохли, а эта упрямо жила именно здесь и сводила меня с ума… Она одна пела здесь на разные голоса, одна в черной воде между белых камней. Слушала собственное эхо… Она пела, чтобы родственная душа услышала ее наконец и пришла к ней. Она пела и пела… Карбас взломал пристань, но его пришвартовали намертво, подтянули баржу и сразу же принялись сгружать уголь. — Унесет еще, — бормотал Мрожка. — Ну и дела. — Я свободен, — сказал Ковпак. — И в апреле уйду. — Да, — ответил начальник тюрьмы. — Что делать с сиреной? — Она моя, — сказал Ковпак, потирая разбитый затылок. — Что ты будешь с ней делать? — Выброшу ее в море. В море… — Да, — промолвил Дофью Грас, незаметно вытирая вместе с пивной пеной тайно пущенную слезу, — это стоило услышать, Сметсе! Благодарим тебя от всего сердца — и пьем за твое здоровье! — Здоровье Сметсе! Здоровье Ночного Колпака! — грянул недружный, но воодушевленный хор, и оглушительно застучали кружки. — Превосходно; только какое отношение имеет ко всему вышеуслышанному этот ваш Зимородок? — осведомился Забияка Тиссен, демонстративно вздыхая и отставляя пустую кружку. — Ох, Дофью, Дофью Грас! Ох, старина Дофью! Кому только ты вверил нашу судьбу? — Я в него верю, — объявил Дофью Грас и с вызовом прикусил зубами трубку. — А если он достойно справится, я лично предложу принять его в наше сообщество. — Ты еще женщин начни принимать, — не без яда заметил минхер Тиссен, сам не ведая, на какой опасной близости к истине он находится. Причина, по которой Мохнатая Плешь заминировал подступы к своему жилищу, заключалась в том, что он принимал у себя гостя и не хотел, чтобы им помешали. Гостем этим была та самая Мэгг Морриган, о которой уже упоминалось раз или два в связи с Кочующим Кладом. После того случая она бросила прежнюю работу трактирной служанки и сделалась лесной маркитанткой. Имелся, видать, у нее особый талант, у этой Мэгг Морриган, потому что не нашлось бы такого заказа, за который она бы не взялась и не выполнила. Зная об этом, Янник Мохнатая Плешь зазвал как-то раз ее к себе, угостил особым суфле собственного изобретения (ингридиенты сохранялись им в строгой тайне), был страшно, почти неестественно любезен — и таким образом вошел к ней в полное доверие. Зачем-то (этого он и сам не понимал) Янник очень старался понравиться ей. Расстались они в наилучших отношениях, сговорившись напоследок видеться как можно чаще. Янник так ей и сказал при прощании: «Заходите ко мне, милая Мэггенн, как можно чаще». Наутро он вспомнил об этом и помертвел от ужаса. Как представил себе, что она и впрямь к нему зачастит… Бегал по комнатам, стеная, выскакивал из дома — катался по хвое, занозил палец на левой руке… Проклинал себя полутролль страшным проклятием: кто за язык тянул? зачем только поддался минутному порыву? суфле это дурацкое… К счастью, Мэгг Морриган оказалась умнее, приглашение Мохнатой Плеши всерьез не приняла и в следующий раз явилась только через полгода, когда шок от приступа внезапного гостеприимства у Янника уже прошел. С этого и началась их настоящая дружба. Мэггенн, натура одинокая и мечтательная, хорошо понимала полутролля. Приходила к нему нечасто и всегда по делу — с каким-нибудь товаром или известием. Это Янник чрезвычайно ценил. В те скорбные часы, когда Зимородок погибал на болотах, Мохнатая Плешь и лесная маркитантка распивали медовый чай с хрусткими жабьими пряниками и вели неторопливую беседу. Мэгг Морриган доставила в этот раз очень редкую вещь — щепоть пыльцы с крыла молодой бабочковой феи. Такие феи в здешние края, как правило, не заглядывают; большинство из тех, что прилетают, принадлежат к стрекозиному роду. Но Мэггенн недаром обладала даром отыскивать что угодно. Нынешним летом она ушла в верховья Черной реки — как чуяла! — и провела там почти месяц в становище мушиных фей. Дни те ушли, мушиные феи давно снялись с лесной поляны и перебрались в теплые страны, едва лишь потянуло первыми холодами, а Мэгг, взвалив за спину корзину с товаром, направилась в деревню — и вот теперь гостит у Янника. Ну и сами посудите — хотелось ли Мохнатой Плеши, чтобы кто-нибудь из шастающих по лесу бездельников, да хоть бы тот же Зимородок, притащился сейчас в дом и превратил серьезный, неторопливый, содержательный разговор в беспредметную болтовню, которая у иных болванов призвана служить «поддержанию отношений»! Мэгг Морриган солидно отхлебывала чай, училась курить трубку, нахваливала пряники и особенно их начинку — нарезанное до тонкости бумаги и прожаренное в масле с сахаром мяско молодой жабы; а между делом — рассказывала. Табор мушиных фей прилетел в эти края впервые. Обычно они бродят южнее, но тут их согнали с прежних мест куробычки, вот они и перебрались к Черной реке. Другие феи не слишком-то жалуют мушиных — те, всегда чумазые, смешливые, в каждое мгновение готовые оскорбиться и наговорить гадостей, — летают с громким жужжанием и горланят песни на своем гортанном наречии. Кто понимает — те переводить отказываются. Мушиные феи боятся кукушку, знают прошлое любой вещи и неохотно вступают в общение с чужими — разве что щипнут исподтишка. А Мэгг Морриган спала на поляне и вдруг проснулась от жужжания мушиных крыльев и приглушенного хрипловатого смеха. Увидела рядом с собой загорелые почти до черноты лица, глазищи в полтора раза больше человеческих, острые длинные носы и маленькие губки, вытянутые трубочкой, как для поцелуя. В зеленовато-черных волосах было понатыкано цветов — частью уже увядших. Феи разглядывали спящую девушку и пересмеивались. — Мы-то сперва решили, ты из наших, — объяснила одна из них лесной маркитантке. — Люди, бывало, ловили нас и отрывали нам крылья, за это мы страсть не любим людей… — Да нет, у меня никогда не было крыльев, — призналась Мэгг Морриган. — Все равно, ты на нас похожа! — закричали мушиные феи и запрыгали рядом, тряся многослойными, лохматыми своими одеждами. Мэгг села, похлопала по своей корзине. — Здесь у меня много доброго товара! — сказала она. — Ленты, платки, зеркальца… Вам понравится. — У, у! — загалдели мушиные феи и потащили ее в становище. Целый месяц Мэгг Морриган сладко бездельничала там — кормилась за разноцветные ленточки, а пыльцовым вином ее поили за просто так. Слушала песни, сама научилась одной или двум. Там-то и встретила она бабочковую феечку — совсем юную. Крылья у нее — как у простой капустницы, беленькие с черной сеткой. И лицо милое. Влюбилась в смуглого глазастого красавца и с ним сбежала, бросив родных, — пошла за любовью, как поступают все феи. Она была всегда немного грустная. Мэгг Морриган подружилась с нею, насколько обыкновенная женщина вообще может дружить с феей. Янник слушал с неослабным вниманием. Сердечные тайны фей его, правда, занимали мало, зато все остальное… Правда ли, что мушиные умеют отводить человеку глаза? Правда ли, что они всегда видят, едва взглянут, каким будет человек или вещь перед смертью и оттого никогда ничего не рисуют и себя рисовать не позволяют? Правда ли, что они отрезают своим деткам, едва те родятся, мизинчик на левой ноге, потому что верят, будто этим мизинчиком живое существо уже стоит на краю могилы? Кстати, действительно ли мушиные живут благодаря этой операции вечно? И если да, то нельзя ли отрезать мизинец уже в зрелом возрасте — или придется жертвовать целой ногой? Уже и последний пряник был съеден, и пыльца пересыпана в особый сосудик, и лучина запылала в клюве у медного горбатого журавля, стоящего на одной ноге в тазу с водой, и по этой воде заходили красные круги от огня, — а беседа старых друзей все тянулась, такая неспешная, такая подробная, сущее наслаждение. За окнами таинственно синел снег и чуть шевелилась тяжелая еловая лапа. На ней выделялись шишки, похожие на огурцы, — как будто их нарочно там повесили. В самый спокойный час, когда день уже отдал все свои долги и в тишине доживал отпущенные ему минуты, за этим волшебным окном вдруг раздался отчаянный воющий крик. Мэгг Морриган заметно вздрогнула. Янник пожал плечами. — Наверное, какой-нибудь болван на арбалетную стрелу нарвался, — заметил он неохотно. — Сиди спокойно, Мэгг. К утру околеет — сходим, посмотрим. Мэгг Морриган решительно накрыла его ладонь своей. — Нет, Янник, друг мой, так не годится, — сказала она, стараясь говорить спокойно и ласково. — Что ты, в самом деле! Ведь это живое существо. Оно страдает. — Невелика потеря, кто бы ни был, — заворчал Янник и с досадой стукнул по столу ладонью. — Эх, вот гады! Передавил бы всех!.. Вечно им надо припереться и все испортить. — Да ладно тебе, — примирительно улыбнулась Мэгг Морриган. — Пойдем лучше, глянем, кто это попался. Вдруг что-нибудь интересное. Едва только она это сказала, как — словно бы в подтверждение ее слов — к окну из темноты приклеилась растопыренная пятерня, а затем, снизу, поднялось белое лицо с выпученными глазами. — Впустим? — просительным тоном произнесла Мэгг Морриган. — Я был о тебе лучшего мнения, — хмуро сказала Янник и отвернулся. Мэгг Морриган поднялась со своего места и скользнула к двери мимо насупившегося хозяина. «Припадочная», — проговорил он сквозь зубы. Мэггенн приоткрыла дверь, и сразу в дом ворвались, разрушая теплое очарование очага, чайного запаха, беседы — морозный воздух и звериный дух чужого страдания. Лесная маркитантка едва не упала, когда человек с тонким древком в плече повалился прямо на нее. Он разевал рот неестественно широко и как-то криво и тоненько завывал. Янник вскочил и забегал по комнате, колотя себя кулаками по плеши. — Жаба! Пузырь! Бегепотам! — восклицал он. Не обращая на это внимания, Мэгг Морриган втащила в дом незнакомца, ногой прихлопнула дверь, а после припечатала крепкую длань к его щеке и таким образом разом привела его в чувство. Он поморгал и взглянул осмысленно. — Янник? — спросил он у Мэгг Морриган. — Почему? — удивилась Мэгг Морриган. Едва не своротив журавля, к ним подскочил полутролль и завопил: — Я, я — Янник! Не видишь, что ли? Глазеть явился? Глазеть? Глазей! — Я сяду, — молвил Эреншельд и тихо опустился на стул. Янник опять начал метаться из угла в угол. Некоторое время все трое молчали: Мэгг Морриган — разглядывая пришельца, Янник — избывая тоску от вторжения, а Эреншельд — превозмогая боль и острую обиду. Затем Эреншельд сказал: — Я лучше лягу. Одним прыжком Мохнатая Плешь оказался подле него, нагнулся над гостем и заорал: — Нет! — Ну, хватит, — оборвала Мэгг Морриган. — Приготовь ему лежанку. Сам виноват. Наставил кругом арбалетов. — Лучше б ему в лоб попало, — сказал Янник. — Мы бы и не узнали. Спокойно допили бы себе чай и легли спать. И нечего вокруг моего дома шастать. — Зимородок, — сказал Эреншельд. — Друг Янника. — Ты убил его? — осведомился Янник и поджал губы. — Наступил на гриб… — продолжал Эреншельд. — Он послал меня сюда. Он сказал, что Янник — его друг. — Зимородок наступил на гриб? — переспросил Мохнатая Плешь, явно не веря собственным ушам. — И все? И ради этого ты притащился сюда? Сообщить мне о том, что Зимородок наступил на гриб? — Затем он на мгновение замер, и тут на его физиономии начал проступать ужас. — Зимородок… наступил на гриб? — повторил он в третий раз совершенно другим тоном. Мэгг Морриган тем временем рылась в своей корзине. Там, на дне, приглушенно и зловеще звякали завернутые в тряпицу инструменты — щипцы, тонкий нож. Эреншельд следил за ней, кося глазами. — Брось его! — заорал неожиданно Янник. — Подождет! Подай мне это, дай мне то, сними с полки, вынеси из подпола! Он размахивал руками, указывая сразу в десятках направлений, так что казалось, будто число конечностей у полутролля увеличилось в несколько раз; а основной парой рук он перетирал в яшмовой ступке подаваемые ему интгридиенты. Пестик стучал и бился о стенки сосуда, а иногда, при особенно тщательном нажиме, вдруг производил скрежет, и тогда на губах Янника вырастала зверская ухмылка. — Эй, была не была! — ухарски крикнул Янник и отправил в зелье драгоценную щепотку пыльцы, привезенную лесной маркитанткой. — Для друга ничего не жаль! Мэгг Морриган села, сложив на коленях руки. Склонила голову набок. Янник уже умчался в сени и там грохотал лыжами. — Пересыпь в мешочек! — вопил он ей из темноты. — И принеси мне сюда лампу! — Где у тебя лампа? — спросила Мэгг Морриган. Из сеней на мгновение высунулся Янник. Короткие волоски на его плеши стояли дыбом, глаза вращались, из широко раздутых ноздрей заметно шел пар. — Дура! — проскрежетал он и скрылся. — Ты же сам посадил там гриб! — сказала Мэгг Морриган. — Но я ведь не знал, что это будет Зимородок! — ревел полутролль, сражаясь с лыжами и санями, которые норовили упасть ему на голову с полки в темных сенях. Снова послышался грохот. — Кроме того, я посадил его летом! С тех пор я о нем и думать забыл! — Это все из-за раннего снегопада, — вдруг проговорил Эреншельд. — Никто ведь не знал, что выпадет снег. Мэгг Морриган подошла к окну и выглянула. В ярком лунном свете на тропинке перед домом стоял Янник — на лыжах, мрачный. Мэгг Морриган постучала пальцем по стеклу. Полутролль обернулся. Лесная маркитантка выбежала из дома и вручила ему мешочек с порошком. — Отменная, кстати, штуковина, — заметил Янник, препровождая мешочек себе за пазуху. — Убивает все живое, если оно гриб. — Он, наверное, там замерз, — сказала Мэгг Морриган. — Не учи ученого! — огрызнулся Янник, и тут оказалось, что фляги со спиртным он действительно с собою не взял. Мэгг Морриган еще раз сбегала в дом и принесла мушиного самогона из своих припасов. Янник быстро заскользил прочь и скоро скрылся из виду. Рассказ о том, как полутролль Янник, лесная маркитантка и барон Мориц-Мария Эреншельд спасали незадачливого следопыта впоследствии вошел в Анналы Общества Старых Пьяниц; одновременно с этой историей всегда рассказывалась и другая, где также участвуют лыжи, фляга со спиртным, стрелы для арбалета и лука, полуопытный юнец и чудесное животное. Рассказ о ловле золотого зверя — Все пьют кофе с перцем или не все? — переспросил Жан Морщина. Как и в прошлый раз, ему не ответили. Морщина пожал плечами и вытряхнул в котелок остатки черного горошка из мешка. Не застегивая дохи, Гисс вышел из сруба, утопая ногами в тяжелом мокром снегу. Заснеженный лес, раскинувшийся на многие переходы вокруг, дышал тяжело и сердито. Снегопад почти прекратился, и далеко на востоке небо очистилось от туч. Звезды блистали ослепительно. Утром ударит мороз. Гисс вернулся в избушку, где тишина сменилась громким разговором. Трубки, тихо посапывавшие несколько минут назад, теперь трещали прогорающим табаком. Говорил Прак: — Я не понимаю, для чего нужно было собираться. Мужское соглашение, твердите вы. Соглашение в чем? Кто первый добудет зверя, тот и прав, и дело с концом. Морщина ухмыльнулся и ударил себя кулаком по колену. Ванява, угрюмый бородач, стукнул кружкой о столешницу и крякнул. — Не разорять чужих ловушек. Не подъедать чужих припасов. Не стрелять друг другу в спину — вот о чем испокон веку было наше мужское соглашение. Закон лесных джентльментов. Он был нерушим, пока в наши края не наползло всякой сволочи с востока. Прак пошел пятнами. — Что касается сволочи… Ты что, намекаешь, будто я собираю по чужим силкам? — В прошлом году кто-то убил Скотта и унес всю его добычу. У меня нет доказательств, но сдается мне, что в Троллиной пади, кроме него, охотился еще и ты, — сказал Ванява. — Брось. Любой мог это сделать, — заявил Гисс. Он подумал, что Прак кинется на Ваняву, и тогда Ванява его убьет. — Я — не мог! — сказал Морщина. — Я лежал у себя со сломанной ногой. — Ну разве что, — Гисс спокойно снял запотевшие очки и вытер их углом байкового шейного платка. — Мне плевать, что обо мне думает Ванява, да и все вы заодно. Я такой же охотник, как и большинство из вас, — произнес Прак. — Я белый мужчина, живу здесь пятнадцать лет и добываю мех и золото. Никто из вас не ловил меня за руку. Теперь меня заманивают сюда, я трачу время и — мало того! — должен ночевать под одной крышей с синемордым ублюдком. Эй, тунгулук! Не смей здесь сидеть! Пошел в предбанник! Все обернулись на угол за печку, где на корточках сидел тунгулук Хуба-Мозес. Хуба остался неподвижным и с окаменевшим лицом смотрел поверх голов. — Не ори на него. И вообще — не ори. Катись к себе на восток и там ори, — сказал Мак Спешный. Он перематывал узким кожаным ремешком рукоять огромного ножа. — Любитель тунгулуков, да? Поцелуй его в синюю задницу! — Дед Хубы был рабом моего деда, — рассудительно проговорил Мак. — Его отец сеял кукурузу для моего отца. Я это к тому, что нам хотя бы известно его происхождение. Чего нельзя сказать о твоей родословной. Мать Хубы плела циновки, корзины и толкла камнерепу. А чем занималась твоя? Неизвестно. Прак выхватил из рукава метательный нож и замахнулся, но ловкий Морщина плеснул ему в лицо кофейной гущей. Нож с дребезгом вошел в притолоку высоко над головой Спешного. Все засмеялись. Прак шипел и тер глаза. — Кофе-то с перцем, — сказал Жан Морщина. Опять посмеялись. — Будет, — молвил Ванява, огладив бороду. — К делу. Ванява умел говорить весомо и значительно. Окружающие боялись в нем неторопливой и прочной уверенности. Глядючи на этот могучий остов, подпертый короткими, мощными ногами, снабженный руками невероятной силы, многим думалось: опасно с ним ссориться. — Завтра в рассвет — начинаем, — продолжал Ванява. — Расходимся в разные стороны, но леса промеж собою не делим. Лес общий. — Понятно, что каждый пойдет к своим ловушкам, — вставил Спешный, ухмыляясь. — Если бы зверя можно было добыть ловушкой, я давно бы его добыл, — добавил Морщина. — Но ведь это напрасный труд. Зверь хитер и силен. — Зря мы стараемся в одиночку, — сказал Гисс. — Зверь еще и опасен. Вышли бы парами. Награда за него велика, можно и поделиться с компаньоном. — Я ни с кем не собираюсь делиться, — снова завелся присмиревший было Прак. Он с яростью поглядывал на Мака и бросал злые взоры на насупившегося Ваняву. — Ни с кем из здесь присутствующих. Спешный осклабился, показал Гиссу на Прака большим пальцем и кивнул головой. Ванява засопел и наморщил приплюснутый нос. — После случившегося со Скоттом я также не доверяю никому. Извини, Гисс. Извините и вы, джентльмены. Зверь — вопрос мастерства. Златошерстный приз. Добыча его — чрезвычайно опасное мероприятие. Именно поэтому мы должны действовать в одиночку. Он встал, подбоченился и заговорил уже во весь свой страшный голос: — Прежде считалось, что лес обдирает с человека все дрянное, что лес воспитывает мужчину — смельчака, товарища, воина. Когда-то так и было. Но среди нас завелась гниль. Не дергайся, Прак, я говорю даже не о тебе. Гниль в воздухе, в воде, она оседает в наших печенках. Пора встряхнуться, джентльмены. Лес — лучший судия. Зверь — воплощение судьбы. Если такая вонючка, как Прак, сумеет добыть зверя или, тем паче, отбить его у меня — значит, так тому и быть. Но мне лучше не видеть этого, мне лучше околеть в лесу. — Согласен, — сказал Прак, сверкая глазом. — Согласен, — сказал Мак Спешный и вонзил свой нож в доску стола перед собой. — Согласен, — сказал Морщина. — Согласен, — эхом отозвался Гисс. — Ху-ху! — выдохнул Хуба-Мозес, не изменив выражения лица. После этого выпили спирту и улеглись, забравшись в мохнатые спальные мешки. В печке прогорали поленья. Утром Гисс проснулся от густого запаха, распространяемого Хубой-Мозесом. Гисс никогда не испытывал к тунгулукам брезгливого отвращения, но к их запаху тяжело было привыкнуть. Хуба заметил сморщенный нос Гисса, сказал «Двойные Глаза, доброе солнце» и открыл крошечное окошко. Тяжелый, сухой, морозный воздух обжег лицо. Гисс поднялся, нащупал очки и принялся завязывать ремешки меховых сапог. Больше никого в срубе не было. — Что же ты, Мозес, не ушел? — спросил Гисс. — Хуба знает, когда ему выходить, — отвечал тунгулук. Он стоял прямо перед окошком и дышал морозом, как рыба — свежей водой. Изо рта его не шел/выходил пар. Гисс выскочил за надобностью, обежал после два раза кругом избушки, у порога зачерпнул рассыпчатого, чистого снега и обтер лицо, спрятав очки в карман. Хуба тем временем разгорел чифирь и настрогал мороженой рыбы. Подкрепившись, Гисс проверил арбалет, убедился, что хороших «дельных» стрел, которые сгодились бы на зверя, у него всего три. Он не верил, что добудет или хотя бы увидит зверя, но в лесу и кроме него встречаются опасные твари. Шатун-буркатун, огнегривая росомаха, мечеклык. Свой брат, лесной джентльмен, проплутавший пять дней в лесу, трясущийся, пустоглазый, способный убить из-за пачки чайных листьев и недокуренной трубки… «Ванява говорит, что раньше такого не было,» — подумал Гисс и усмехнулся. Гисс приехал в эти края пять лет назад. Стрелял он неплохо, из-за чего местные довольно скоро перестали насмехаться над его очками. Иные считали даже, что «оккуляры» суть волшебное приспособление, прибавляющее меткости владельцу. В остальном Гисс был неумеха и белоручка, хотя и брался за любую работу. Он гонял плоты на реке Потёме, мыл золото с полукаторжными субъектами, собирал для чародеев гриб-девятисон, рыбачил и охотился. Вернуться домой он уже не мог. А приехал он, надо сказать, с тем, чтобы наняться в учители в какую-нибудь богатую семью. За пять лет он не прочел ни одной книги. Рука его не коснулась пера или грифеля. Лабазник Дмитро, тороватый и злой, из пьяного куражу выписал столичные клавикорды для своей рябой дочери Барбы. Всем поселком ходили потешаться над «вздорным струментом». Среди прочих зашел и Гисс. Он открыл под общий смех лакированную крышку, зажмурился и, надавив пальцами, исторг из «струмента» нескладный, глупый аккорд. Сам усмехнулся, отошел прочь и более не пытался никогда. За пять лет Гисс стал крепче, шире в плечах, избавился от привычки сутулиться. Но среди коренных жителей по-прежнему смотрелся плюгавцем. Даже борода росла у него несолидная, драненькая. Он сбривал ее, чтобы не срамиться перед обладателями густых, окладистых, черных бород, курчавых и твердых. За бритье его иногда дразнили «белым тунгулуком» — у тунгулуков, как известно, борода не растет. В настоящую минуту Гисс перекладывает свой наплечный мешок, проверяет состояние ножа и густо мажет широкие лыжи вонючим жиром ледовой саламандры. Сейчас конец декабря — пушные звери в самом меху. Пусть остальные гоняются за златошерстным призом. Он, Гисс, просто обойдет свои ловушки и соберет добычу. Он нашел хорошие места. Даже в случае сугубого невезения ему достанется десяток «алмазных» соболей и штук тридцать белок. Вырученных денег хватит до весны. А весной он подработает на плотине и купит себе подержанную лодку, на которой уйдет далеко вниз по Потеме, до самого озера Андалай. Каждая третья песчинка на берегу этого озера — золотая, а на дне, говорят, лежат тяжелые самородки, круглые, как голыши. Ходит в прозрачных водах радужный омуль, рыба-чечун с длинным, жирным хвостом, хрюкающий угорь и рыба-солнце с красной короной на голове. А в лесах вокруг — ягоды, земляника с кулак, голубика, грибы по полпуда весом. Нагулявшийся кабан полощет рыло в опавших желудях. Глухарь и тетерев спорят — кто вкуснее. А по вечерам, разгоняя крыльями теплый туманец, ступает босыми ножками по колкой хвое черноглазая, черноволосая фея озера Андалай. Ищет себе полюбовника среди рыбаков и охотников. Кого выберет — оглянет царским взором, величаво руку подаст и уведет прямо в туман. После отпустит и одарит золотом сообразно мужской стати и камнями громовыми, черными — без счета. Камни эти у городских колдунов в страшной цене. Черны они, как глаза самой Андалай. Если камни эти между собой потереть, отскакивает от них кусачая молния и раздается гром — от того и название. Вот такие чудеса, и совсем рядом. Нужно только достать лодку. Гисс не понимал лесных джентльменов, порешивших добыть зверя во что бы то ни стало. Он подумал с минуту и вспомнил его научное название — куница кистеухая исполинская. Синелицые, холодные тунгулуки, исконные обитатели этих мест, называют его аблай. А пришлые белые зовут его просто зверь. Называть его как-нибудь еще — скверная примета. Зверь велик — побольше годовалого теляти, и ловок, и бесстрашен. Его боятся и снежные львы, и огнеклык, и росомаха. Глупые волки, нападая на его след, бегают от дерева к дереву, а он, где по ветвям, где по низу, косой пробежкой, уводит их в непролазную чащу. Падает тенью сверху, без звука, без запаха — и скрадывает по одиночке всю стаю. Если он спешит, движения его неуловимы людскому глазу — вроде золотистой ряби проплывет в воздухе — и все. Иногда он режет скот, особенно погибелен для овец. Опьянившись кровью и покорностью стада, зверь уничтожает всех, от старого барана до ягненка. Зверь редок и дорог. За одну лишь шкуру его (в хорошем состоянии) дают: теплый большой дом, огород под камнерепу, впридачу — лабаз, три пары лыж, полтыщи хороших стрел, муки, табаку, выделанной замши, ткацкий станок, спирт и, если повезет, хорошего злого щенка. Но есть еще и струя из желез. Она меряется на золотники и лечит от жидкокровия, слепоты и страшной болезни, при которой человек лишается волос, зубов, ногтей и умирает от зуда. Есть еще когти зверя — любая тунгулукская колдовка отдаст белому в наложницы свою дочь за связку когтей с одной только лапы. Есть еще зубы зверя. За один только клык целый род синелицых уйдет в рабство. Есть сердце зверя — врачует от ста недуг. Есть печень зверя, в которой желчь, заживляющая раны. Лыжи у Гисса, благополучно пережившие уже трех владельцев, обладали нравом строптивым. Они убегали от нынешнего хозяина — скользили прочь даже на ровной поверхности, причем в разные стороны. И теперь Гисс покорил их не с первой попытки. К тому же крепление на левой лыже сломалось. Следовало вернуться в сруб, отыскать на полу достаточно длинный кусок упругой толстой проволоки, особым образом согнуть его и произвести еще целый ряд неприятных манипуляций, располагая из инструментов лишь тупой стороной ножа и оселком. Но Гиссу хотелось скорее уйти подальше от духа суровых мужских разговоров — ими пропитался сруб и поляна вокруг него. Хотелось на волю, где спокойно можно говорить с самим собой и беззвучно посмеиваться. Да еще Хуба-Мозес, скрестив руки на безволосой груди, глядел ему в спину. Хуба знал, что белые не выносят его взгляда, особенно в спину. Гисс вздрагивал всем телом. Запасная лямка от мешка — вот что поможет ему. Он не будет чинить крепления, ставить новую скобу — просто примотает стопу к планке. Ненадежно и небезопасно. Если он упадет, то может подвернуть ногу. А то и сломать. Зато быстро. Раз-два и готово. Хуба неодобрительно покачал головой, но осуждающе поцокать языком не снизошел. Гисс не выдержал. — Знаешь, Мозес, почему тунгулуки чулков не носят? — спросил он. Хуба отрицательно нахмурился. — Потому что чулки на лыжи не налезают. И, дивясь собственной глупости, Гисс поднял капюшон и двинулся прочь. Утренний мороз зол, но весел. Он кусает и бодрит, делает нервы чуткими, нос — восприимчивым. Воздух прозрачен. Розоватый снег пушист, скрипуч. Совсем не страшно утром в лесу, даже новичку. Ели и сосны — как в детской книжке с картинками. Иная ветка, оттянутая снегом до земли, вдруг разогнется, взмахнет в воздухе — и из бело-розовой сделается зеленой, а на солнце мерцает, колеблется алмазная, серебристая, изумрудная — снежная пыль. Береза, отлитая из инея, вздрогнет всем своим телом, хрустнет и снова заснет. Днем розоватое превращается в белое и голубое. Тени отчетливее, солнце слепит, запахи — шалят, обманывают чутье. Белки и соболя теряют осторожность. Тут — не зевай. Смотри по верхам, поглядывай и вниз. А мороз уже не весел. Рука без рукавицы за несколько минут костенеет и перестают слушаться пальцы. Гисс до темноты обошел свои ловушки. Результат был более чем удовлетворительный. Но предчувствие неприятного свойства мешало обрадоваться по-настоящему. Тяжесть перекатывалась в груди. К тому же краешком левого глаза Гисс иногда видел кое-что. И не на долю мгновения, а на несколько мгновений видение задерживалось перед ним, когда он оборачивался. Так показался ему стоящий на снегу черный, закопченный котел, булькающий зеленым зельем. А спустя час он увидел нагую рослую женщину с грустным лицом, заросшим сплошь длинным мягким пухом. Пух шевелился, как на ветру, хотя никакого ветра не было и в помине. Женщина зашла за дерево и исчезла. Гисс с чувством отхлебнул из фляги. В тавернах любят повествовать о таких наваждениях. Обычно одинокие, бывалые охотники сталкиваются с лесными миражами за несколько часов до гибели. Гисс потешался над этими россказнями. Если погибший был один и найден уже мертвым, кто мог рассказать о том, что он видел? Тунгулукский шаман? Гисс твердо решил держать себя в руках и выпил еще. Тепло разбежалось по всему тело, и противная дрожь унялась. Гисс привесил к мешку мертвых зверьков, чьи тельца были странно-тверды под мехом. Верхушки елей уже окунуло в кобальд, тени стали густыми. Скоро выйдет мертвенная луна. Холодный пронзительный свет проникнет в потаенные уголки зимнего леса, достигнет глубин непролазной чащи — куда солнечный луч не заглядывает никогда; потревожит норы, щели в древесной коре. Оживит существа, большие и малые, о которых человек, конечно, догадывается, но никогда не знает наверняка. Гисс незаметно для себя перешел на очень скорый шаг и быстро оказался на знакомой тропе. Вдоль нее две лыжные колеи убегали в синий сумрак. Мак Спешный прошел здесь несколько часов назад. Гисс узнал его манеру слегка подворачивать правую ногу. Спешный двигался торопливыми длинными шагами, почти бежал. На тропе Гисс посмелел. Ему стало любопытно. Что, в самом деле, старина Мак тут забыл? Его любимые места начинались по другую сторону болота. Гисс направился по следу. Сквозь обширный перелесок след вывел на опушку. Ее поперек перечеркивал другой след, отчетливый в синем снегу, — узкие беговые лыжи Прака. Спешный вышел ему наперерез, но опоздал и бросился догонять. «Он убьет его, — подумал Гисс. — Он не простил метательного ножа. Уже, наверное, убил. Зачем я иду туда?» Вопрос остался без ответа, но Гисс все равно шел по следам, охваченный любопытством. Лыжные полосы разбежались за болотом. Оба — Прак и Спешный — отчаянно петляли между сугробами, словно в прятки играли. За искривленной елкой Мак Спешный стоял довольно долго — ушел в снег по пояс. Что он там сторожил? Осматривая взрыхленный снег, Гисс внезапно ощутил дурноту и тяжелый мутный страх. Он обернулся и успел увидеть золотистую рябь, мелькнувшую в синем столбе лунного света. На этот раз — не мираж. Осторожно Гисс проделал несколько шагов. Так и есть — следы. Совсем не похожие на следы куницы. Крупные, но неглубокие, словно животное невесомо. Гисс коснула следа рукавицей и понюхал ее. Сладоватый, терпкий запах. Это он. Дурнота то усиливалась, то вдруг отпускала. Особенно неприятным было покалывание в шее сзади, там, куда зверь запустит при случае острый длинный клык. Гисс снял капюшон. Жалко уши, но ничего не поделаешь — ему нужен обзор. Медленно взвел он арбалет и положил «дельную» стрелу. Если попасть правильно… если б попасть! Дурнота отступила совсем. Сразу заболели уши. Зверь по-прежнему недалеко. Просто человек надоел ему, и он ушел глубже в лес. Гисс понял, зачем сюда стремился Спешный. Он следил за Праком, чтобы тот вывел его к зверю. Зверь по нескольку дней кружит в одном месте, таковы его повадки. Странный получался поединок. Двое охотников и зверь. Все против всех. Тут Гиссу пришло на ум, что и он теперь участвует в этом поединке. И Прак, и Спешный, увидев его, захотят убрать ненужного конкурента. Прак пустит стрелу холодно, Спешный — вздохнет, но все равно ведь выстрелит. Оба давно не промахивались. — А ну вас, ребята, в бучило, — сказал Гисс. — Буду-ка я выбираться от греха. В двух часах пути скорым шагом находился его лабазик, где — печка, спиртовая лампа, пушистое одеяло, чайник… До утра славно там можно отдохнуть. Нужно только, высматривая в лунных лучах, найти свои метки. Здесь можно срезать — по дну оврага и сразу на полночь, миновать прошлогоднее пожарище и все, рукой подать. Гисс снова ощутил волну страха, но волна эта не задержалась, прокатилась и миновала. Он сказал: «уф!» — и тут дыхание его перехватило. Давешняя женщина с пуховым лицом смотрела на него из-за ствола сосны. Ее тело отливало холодной синевой. Гисс снял очки и через секунду снова надел. Женщины не было. — Скорей, скорей, скорей… — шептал Гисс. — Бегом, бегом, бегом… Снег скрипел под лыжами. Вот уже и овраг. — Скорей, скорей, скорей… Когда его лыжи уперлись на ходу во что-то твердое, Гисс досадливо и испуганно вскрикнул. Поперег оврага лежал Спешный — лицом вниз, раскинув руки. Капюшон его дохи был пригвожден к затылку стрелой. — Какого лешего? — удивился Гисс. Стрела принадлежала не Праку. Это вообще была не арбалетная стрела. Такими стреляют из луков. Из больших костяных луков с варварской резьбой, с пучками засаленных ленточек. — «Его дед был рабом моего деда», — вспомнил Гисс. — Ай да Хуба-Мозес, ай да ловкач! Спешный был холоден и тверд. Час он тут лежит? Три часа? Наверняка только его убийца мог это знать. А с ним совершенно не хотелось встречаться Гиссу. Он обошел тело и тронулся дальше. Снег все так же поскрипывал и похрустывал. Гисс замер, задержав дыхание. Невдалеке под чьими-то лыжами взвизгнуло и хрустнуло дважды. Кто-то сделал два шага и остановился. — Эй! — крикнул Гисс. — Это я, Гисс! Я ухожу. Пропадите вы с вашим зверем! Мне он не нужен. Дайте мне уйти. В это мгновение снег перед кончиками его лыж взорвался, взметнулся вверх. Что-то темное, большое, суматошно хлопая крыльями, повисло в воздухе. Гисс дернул руками и подался назад. Стрела ударила в цель, как в плотную сырую подушку, и отбросила ее назад, далеко. Гисс даже успел увидеть кружащее перо. Но он не сохранил равновесия и упал в сугроб. От боли в ноге у него остановилось дыхание. Он копошился в снежном мешке и выл. Снег набился в уши. Очки сгинули в сугробе. Левая нога у щиколотки сгибалась вбок, словно обрела новый сустав. Слезы заледенели на щеках Гисса и кололи уголки глаз. Он продолжать завывать, стиснув зубы. Попытался ослабить петлю, которой сам привязал ногу к лыжной планке. Тут же боль усилилась. Но от лыжи нужно было избавиться. Плача и ругаясь, Гисс ножом перепилил затвердевшую лямку. Опустил искалеченную ногу на снег, выронил нож. — Очки, — пробормотал он, всхлипнув, и принялся шарить вокруг себя. Сквозь рукавицы ничего не почувствовав, он сбросил их и зарылся пальцами поглубже. Пушистый сверху, внутри снег оказался жестким, царапал обмерзшую кожу. Попадались какие-то веточки, черенки от листьев, почерневшая хвоя… Наконец дужка зацепилась за пальцы. Увы — барахтаясь в сугробе, Гисс сам раздавил свои очки. С проклятием он отбросил бессмысленную оправу. — Запасные в мешке, — сказал он сам себе. Подышал на пальцы. Снял со спины мешок, зубами развязал шнур и запустил внутрь обе руки. Потом, выругавшись, расширил горловину и вывалил содержимое перед собой. Очков запасных не было. Гисс по одному перебирал предметы и метал их далеко, через спину — не то! Улетели и трубка, и мешочек с чаем, и брикет вяленого мяса, за ними — трутница, складная бритва, оселок, осколок зеркальца, кисет… — А без очков-то каюк, — сказал Гисс. Свернутая — или сломанная — нога горела от стопы до колена, но при этом была как чужая, ватная и тяжелая. От долгого сидения в снегу онемело седалище. Опираясь на лыжу, как на костыль, Гисс попробовал подняться. Он не будет собирать пожитки, шарить близорукими обмерзшими ладонями в скрипучем снегу. Он попробует добраться к себе. Но идти невыносимо тяжело. Снег глубок. Здоровая нога вязнет, больная упирается коленом, волочится. Гисс пополз на четвереньках. Ему показалось, что так проще. В пяти саженях убитых глухарь уже застыл. Пр-роклятая птица! Глупая птица… Издохла непонятно про что. И Спешный… Посмейся теперь, пошути, охотничек. Объест тебя огнегривая росомаха. Вороны выдолбят мозг. Узнают тебя весной по бисерному амулету — если найдут. — Ползу-ползу-ползу, — шепчет Гисс. Он слишком часто падает лицом в снег. Лицо щиплет, кончик носа раньше болел, а теперь уже не болит. Гисс трет нос колючей от снега рукавицей, плачет и ползет, ползет… С четверенек все выглядит по-другому. Вот кончился овраг, вот метка — зарубка. Все то, да не то. Деревья-то какие высокие, мамочка… Запрокидывай сколь угодно голову — не видно верхушек, залитых лунным мерцанием. Верхушки расплываются в черноте. А голова кружится от боли, от страха, от холода — и пляшут бесконечные стволы, маячат тени на снегу. Вот тень страшная, как снежный лев, вставший на дыбы. Елка. Тьфу! Ползу-ползу-ползу… Вперед-вперед-вперед… Хорошо, что такая светлая луна. Очень хорошо. Гисс переворачивается на спину, чтобы передохнуть. Выдыхает струи пара, глядит на звезды. Без очков — расплывающиеся горящие пятнышки на мутном фоне. Луна — пятно сильно побольше, поярче. Если ее закроет туча, Гисс ослепнет вообще. Он вытягивается, замирает, услышав визжание снега, мерное, приближающееся. — Эй! Помоги! — кричит Гисс. — Я здесь! Шум утих на мгновение, голос невнятно выбранился и чьи-то лыжи заторопились, чиркая по снегу. — Сюда! — кричит Гисс. Жан Морщина склоняется над ним. — Угораздило, братец, — произносит он с сожалением. — Да уж! — отвечает Гисс. — Перелом, кажется. — Не повезло, — вздыхает Морщина и добавляет с деловитым любопытством: — Ты встречал кого-нибудь? — Старину Мака встретил, — говорит Гисс. — Там, в овраге? — В овраге… — Плохо, братец. Такое время, смотреть надо в оба. — Послушай, — не выдерживает Гисс, — старина Мак, сидел с нами вчера… и мертвый лежит в овраге. Со стрелой в башке! Пил с нами вчера — и со стрелой в башке… — Ну и делов, — Морщина сопит и хмурится. — Поверить не могу! — Э! Да что там… Тебе, братец, хуже. Больно? — Уже нет. — Это хорошо. Неприятное предчувствие укалывает Гисса под сердце. Он не может осознать до конца, что происходит — и произойдет прямо сейчас. — Ну, — тянет он, — помоги же мне. Доведи хоть до лабаза. Здесь недалеко… Словно не услышав его, Жан Морщина произносит задумчиво: — Зверь-то поблизости, знаешь? — Да, я видел его. — Видел? — Он смотрел на меня. — Да, братец, — опять говорит Морщина. Ему очень неловко. — Помоги же мне! — Гисс теряет терпение. — Выпить хочешь? — Морщина откупоривает флягу. — Не хочешь? Зря. — Он делает глоток и шумно дышит несколько секунд. — Понимаешь… — бормочет он изменившимся голосом. — Я хочу уехать отсюда. В город. В Кандай или Пнинск. Хочу жить в каменном доме, чтобы внизу была лавка, в которой все есть — и свечи, и мыло, и хлеб… Там ведь есть такие лавки. И улицы мостят. Такое дело, братец, — всю жизнь коплю, а не накапливаю. Карманы худые. А тут — зверь. Я, братец, в сторонку отойду и влезу на дерево. Зверь-то к тебе подойдет… Как он твоей крови напьется, так задуреет. А я его возьму. — Чепуха, — шепчет Гисс. — Жан, Жан, что ты говоришь? Помоги мне, Жан… У меня немного денег, но я продам кое-что… Жан! — Не унижайся, Гисс, — говорит Морщина. — Жизнь, какую мы ведем в этих проклятых местах, не стоит унижений. — Идиот! Я ведь околею скоро! Зверь падали не ест. — Часа два-три протянешь, — спокойно отвечает Жан Морщина. Гисс щурится из последних сил — ему кажется, что Морщина опирается на странный изогнутый предмет. Но что это, он разглядеть не может. — Я удивился, что ты не знаешь простого фокуса — как передвигаться со сломанной ногой. Я прошлой зимой сломал правую, но ничего, добрался, — повествует Морщина и пьет из фляги. — На коленях. Встаешь коленями на лыжи и привязываешь двумя ремнями каждую ногу. Один — под коленом, другой — под икрой. И руками знай толкайся. Я много тогда прошел таким образом. Так и не рассказал никому — а знаешь, хотелось… похвастаться. Я ведь хитрый. — Ты Скотта убил? — понял Гисс. — Быть не может! — Почему, братец? Может. — Там, у тебя, что? Не лук? — Гисс закашлялся, догадываясь обо всем. — Лук. Хороший, тунгулукский. Замечательная вещь, дорогая, но этот себя уже окупил… — А остальные? — Что — остальные? Ванява в болоте завяз, в полынье, я его вешки еще третьего дня переставил. Прак заколот собственным метательным ножом. Последние версты я шел в его лыжах. Старина Мак клюнул и попал в ловушку. Такие времена, братец… — Ты гад, Морщина… — Ну уж и гад! Скажешь иногда… Думаешь, я хищник? А ты, братец, какого лешего сюда поперся? Ягоды собирать, вроде, не сезон. Я тебе лыжу испортил, чтобы ты, дурья башка, провозился, ее починяя. Я тебя, щенка, пожалел. Ан нет, гляжу — тащится. Ну, соображаю, судьба. Понимаешь, братец, судьба. Не поборешься с ней. — Я буду дальше ползти, — хрипел Гисс. — Слышишь, сволочь? Буду ползти! — А я тебя свяжу. Жан Морщина незаметным, единым движением освободился от лыж и вдруг прыгнул, наваливаясь на Гисса. Он ловко наступил на искалеченную Гиссову ногу. В ноге что-то громко хрустнуло, и от боли Гисс вскрикнул почти по-женски. Тут же Морщина ударил его в подбородок. Гисс выдохнул и обмяк. Морщина приподнял его за плечи, зашел за спину и принялся спутывать отведенные назад руки Гисса кожаным ремешком. Гисс бессознательно мотал головой, но в последний миг страх и ярость распрямили его, как пружину. Он откинул голову назад, и глаза противника, удивленные, желтые от ужаса, оказались прямо перед его глазами. И никакой преграды, ни малейшей — стекол очков не было. Гисс зарычал и вцепился зубами в холодный хрящеватый нос Морщины. Кровь обожгла небо. Морщина боялся дергать — он орал и бил Гисса по голове. Гисс захлебнулся кровью, закашлялся и разжал зубы. Жан Морщина немедленно схватил его за горло. Гисс механически сделал то же самое. Вкус крови удесятерил его силы. Искаженное лицо врага расплывалось перед Гиссом. «Как долго человек может обходиться без дыхания», — подумал он, не особенно удивляясь. Его пальцы стали уставать. Морщина почувствовал это и с отвратительным хрипением подался вперед. Правая рука Гисса разжалась и тут же нащупала за плечом Морщины бороздки оперения. Морщина носил стрелы в колчанчике на спине. Пальцы Гисса обхватили стрелу сами, без участия воли. «Не успею», — подумалось Гиссу. Жан Морщина, видимо, решил, что уже победил. Он ослабил хватку и встряхнул Гисса. Гисс, булькая горлом, вздохнул. А потом выдернул стрелу из колчанчика, стремительно размахнулся и вонзил ее глубоко, прямо в вытаращенный желтый глаз. Подождав, когда Морщина перестанет сучить ногами по вспаханному, заляпанному снегу, Гисс поднимается на четвереньки. — Становишься коленями на лыжи и привязываешь каждую лыжину… под коленом… и под икрой… У него есть теперь лыжи, нож Морщины, длинный кожаный ремень. А вот фляга Морщины. Один глоток — смыть вкус крови. Хорошо! Очень хорошо. орошо также, что край неба розовеет и лес словно вздыхает — это приближается утро. Морозно, очень морозно. Но фляга еще полна… Ворона, вещая птица, приплясывает на ветке и хрипло смеется, глядя на чудного короткого человека, который скользит на лыжах, отталкиваясь не по росту длинными руками. Ворона знает, что другой, оставшийся лежать, никуда не денется. Через несколько часов, когда Гисс уже сидит у печки, приматывая обломок лыжи к ноге, в лесу теплеет. Небо мгновенно заволокло розовой пеленой, и густой-густой снег валит безудержно и щедро. Все погибшие этой ночью обзавелись могилами до весны, белыми, очень нарядными… Гисс оставляет заслонки открытыми, чтобы не угореть, допивает содержимое фляги, валится на пол и засыпает. Во сне он видит, как зверь — златошерстный приз — танцует под снегопадом. Розовые отсветы утра переливаются на его спине, он прыгает и кувыркается в воздухе, катится по снегу золотой рябью, скачет бочком, выгнувшись, как кошка. Зверь танцует, а женщина с лицом, поросшим пухом, нагая, поет, стоя под заснеженной сосной. Песня ее без слов, без мыслей, и Гиссу одновременно и страшно и очень хорошо слышать эту песню. Он вглядывается в карие, звериные глаза женщины, видит, как пух на ее лице, весь в снежинках, шевелится от ветра. Гисс бормочет во сне, всхлипывает и замолкает. Зверь танцует, женщина поет… Каждый, слышавший этот рассказ, без сомнения, согласится, что нет ничего лучше, чем жить в местах, где случаются такие вещи. Или, во всяком случае, гостевать там — иногда. У добрых знакомых. Или — что, возможно, еще лучше — слышать о них рассказы со всеми возможными подробностями. Для того, кстати, и существуют Анналы. Зимородка, еле живого, густо облепленного целебным порошком, разведенным на слюне полутролля (троллиная слюна, как доказано многолетними исследованиями Вашен-Вашенского университета, обладает бактерицидным действием) доставили под утро. Укрытый семью одеялами из шерсти семи разных животных, очень тощий и твердый, с белым носом, он то бормотал, то всхлипывал, а то вдруг принимался грозно храпеть. — Мария… — молвила Мэгг Морриган, прислушавшись к его бреду. — Зовет какую-то Марию… — Она подняла бровь. — Хотела бы я знать, кто это. — Это я, — подал голос Эреншельд и густо покраснел. Несколько секунд Мэгг Морриган рассматривала его в упор. Даже самое пылкое воображение не позволяло заподозрить в бароне переодетую женщину. — Мориц-Мария Эреншельд — так меня зовут, — пояснил барон. Мэгг Морриган захохотала, а барон обиженно отвернулся к стене. Янника в доме не было — отлучился по делам сразу после того, как водворил на печи Зимородка. Ожидая вскорости хозяина домой, Мэгг Морриган поставила согреваться воду и развела муку, чтобы испечь лепешки. Мохнатая Плешь действительно вернулся довольно быстро — но не один; с ним пришли все члены Общества Старых Пьяниц — точь-в-точь такие, какими воспел их Дофью Грас: с красными щеками, блестящими глазками, распространяющие в морозном воздухе густой пивной запах. — Барон! Эй, барон! — загалдели веселые голоса. Эреншельд, которому Мэгг Морриган помогла добраться до окна, смотрел на них широко раскрытыми глазами. — Я и не подозревал, что в этих безлюдных диких лесах обитает столько народу, — признался он. Из толпы выступил вперед Дофью Грас. Расставил ноги пошире, выпятил брюхо, взмахнул огромной пивной кружкой и заорал во всю глотку: — Любезный барон Эреншельд! Мы пришли просить вас оказать нам честь и сделаться, как и мы, Старым Пьяницей! Барон забился у окна, как мотылек. — Что говорит этот человек? — страдая, спросил он у Мэгг Морриган. — Я ничего не понимаю! Почему я должен стать старым пьяницей? Я вовсе не так стар и совсем не… Но было уже поздно — все собравшиеся громогласно и крайне нестройно распевали бесконечную «Пивную Кружку».
Примечания
1
Не подумайте, что в трактире подают одно только темное барлиманово пиво. Фирменный напиток трактира — яблочный эль. Его делает прямо из речной воды Волшебник, но перед этим Волшебнику обязательно нужно наесться яблок до отвала. Там есть и светлое пиво на легком солоде, с малой добавкой троллячьей магии — после первой же кружки каменеешь на весь вечер. Есть также достойное во всех отношениях кошачье пиво с настоем из корня валерианы, она же духовитка, если хотите знать, как ее зовут в наших краях. Очень хорошее пиво. Но не следует пить его чрезмерно, иначе в один прекрасный момент придете в себя и можете обнаружить, что задорно покачиваетесь на какой-нибудь занавеске, а из пасти у вас… простите покорно, изо рта… капает пена. Или, скажем, пиво гномьей диаспоры. Когда-то в Волшебной стране жили гномы. Потом они куда-то делись, припрятав сокровище в пещерах Одинокой горы. Про это, кстати, есть одна поучительная история… И если пожелаете, вам ее непременно потом расскажут. Так вот, гномов то ли разогнал дракон Хризофилакс, который все больше спит, и совершенно непонятно, как он с таким характером отобрал у гномов их сокровища… впрочем, кое-кто утверждает, что гномов невзлюбили коты, а это, знаете ли, миром не кончается. Нет так уж, понимаете ли, важно, куда девались гномы, потому что с недавних пор они взяли моду возвращаться и посиживать в трактире, нагло приглядываясь к хоббитским огородам. Намного важнее другое: они оставили почтенному Барлиману рецепт гномьего пива. После первой кружки на дне второй мерещутся золотые слитки. После второй на дне третьей видятся серебряные монеты. После третьей на дне четвертой посверкивают алмазы и рубины. Зато четвертая ставит точку: в голове у тебя откуда-то всплывает печальная фраза «нет золота в Серых горах», после которой ты сам себе кажешься таким ма-аленьким, беззащитным и слабым, что непременно от одних этих мыслей упадешь со скамьи. И это, конечно, далеко не все сорта пива, какие можно заказать в трактире Барлимана.
(обратно)2
Старая порода хоббитов жила исключительно в больших и просторных норах, с терпением и искусством вырытых на каком-нибудь солнечном пригорке, или же прямо в живописном холме. Потом некоторые взяли манеру подражать людям и понастроили домов. В конце концов большинство нашло как совместить старые добрые времена с новыми веяниями: дома хоббитские невысоки, и у них круглые окна — как будто выход из норы. Под домом каждой уважающей себя хоббитской семьи вырыты всяческие погреба, ледники, тайники и прочие секретники. Да и попасть в хоббитский дом можно только по подземному ходу. Но никто не должен говорить хоббитам, что они до сих пор живут в норах, ибо нет способа горше обидеть этот маленький, но гордый народ.
(обратно)3
Как известно, хоббиты считают концом года тот осенний день, когда с полей снято, а в лесах собрано все, что можно съесть, и хозяйкам остается только варить пиво, солить на зиму соленья, а хозяевам — ходить на рыбалку или же на охоту, каковой охоты хоббиты не любят и почти всегда возвращаются с пустыми руками, разве что стащат что-нибудь у эльфов. Однако хоббиты — добродушный и веселый народ. Поэтому они празднуют и королевский новый год, который, как известно, 31 декабря, и даже эльфийский новый год, только не выряжаются, как эльфы, и не пляшут на лужайках, а чинно и достойно съедают по два кекса с чаем и по куску жареной свиной колбасы с острой приправой.
(обратно)4
Хозяин Кошачьего Замка Тевильдо и все его подданные не любят Владычицу Зачарованного леса именно из-за соперничества в чистоте и красовитости пения. Однажды на Буковой поляне Зачарованного леса эльфы и коты устроили состязание между Тевильдо и менестрелем Тифанто. И до сих пор не могут разобраться, кто победил. Коты утверждают, что Тевильдо, а эльфы — что Тифанто. Совершенно, с точки зрения хоббитов, бесполезный спор, поскольку лучше всего поют, конечно, в Хоббитоне, с этим не станет спорить не одно трезвомыслящее существо.
(обратно)5
Но, конечно, даже дракон не настолько грозен и ужасен, как исполчившиеся на войну хоббиты. Знаете ли вы, какие чудеса творит хоббитский хирд на поле боя!
(обратно)6
Мушкетон это железная трубка с раструбом и разными железными же финтифлюшками, принадлежащая фермеру Джайлсу. С тех пор, как он заблудился в крапиве у нового курятника в Большом Вуттоне и попал в Волшебную страну в обнимку со своим псом Гармом, который тоже любит пиво, фермер каждое утро пытается сделать что-нибудь со своим мушкетоном, а мушкетон не хочет ни работать, ни разговаривать с Джайлсом. Почти все здравомыслящие хоббиты уверены: мушкетон — это какая-то глупая безделица, и чего фермер так держится за нее? Но милая и ужасно красивая хоббитиха Фиалка Крендель утверждает, будто мушкетон — это такая музыкальная дудка, вроде рожка на фуражке у почтмейстера, только выпрямленного. И никто не хочет с ней спорить, поскольку зачем ее огорчать?
(обратно)7
Ни один хоббит так не скажет, поскольку слово «Троллячие» неблагозвучно и похоже на «телячие».
(обратно)8
Зато хоббиты — куда более верткие, а если уж придется бегать взапуски, то любой хоббит без труда обставит самого быстроногого тролля.
(обратно)9
Ежели вы пообещаете Берту оплатить четыре кружки барлиманова пива, после восьмой приметесь вежливо уговаривать его показать вам трещину, которую оставил забиякин молоток, то после двадцатой этот тролль непременно вам ее покажет. А вот Томас и Билл не покажут, хотя некоторые говорят, что Билл однажды показывал свою трещину после девяносто девятой кружки. А вот Берт охотно показывает и после двадцатой, и все дело тут в том, что Берт прочих троллей не в пример благонравнее.
(обратно)10
Волшебная страна, узнав о такой потере, горевала и печалилась повсеместно — от Вековечного леса до прихода Мелкина, а особенно в столице, в королевской поварне, потому что тролличье кулинарное искусство любят буквально все, кроме, пожалуй, эльфов, у которых своя, эльфийская кухня, впрочем, по правде сказать, кто не знает, какая у них там кухня! — одно только название, что кухня, ибо эльфам бы только петь и бродить по лесу, а мастерство кулинара требует серьезности и тщания, тут уж не попоешь и не побродишь; вот например, пирог с начинкой из ревеня и всяких трав по рецепту тетушки Любелии… эх! ингредиентов не меньше, чем лет Старому Туку; спрашивается, какая-такая кухня может быть у эльфов? и что они могут понимать в ценности Кошелька Троллей? — говорят, нигде по всему свету нет кое-каких магических добавок, хранящихся в драгоценном Кошельке… Но вскоре Томас, Берт и Билл объявили, что у них был еще совершенно отдельный запас, а потому карманцы Кошелька не иссякли, и еще порадуют Волшебную страну.
(обратно)11
Не успели трезвомыслящие и мужественные хоббиты избавить Волшебную страну от бедствий, причиняемых сэром Забиякой, как Тифанто и феечка принялись зазывать всех, кого можно, на свадьбу. Приглашены были и хоббиты, поскольку неразумно и невежливо обходить приглашением народ, столь густо украшенный заслугами перед Волшебной страной. Свадьба феечки и менестреля — особая история, ее обыкновенно рассказывают между притчей о том, от чего помер старый мудрый вепрь Хук, никогда не якшавшийся с дикими свиньями, и байкой о том, для чего одному кузнецу в детстве приделали звезду к самому лбу. Стоит однако упоминания многомысленное мнение хоббитов о феечках и тому подобных эльфийских красавицах. Так вот, столько было разговоров о красе эльфиек, а хоббитихи, между тем, намного лучше!
(обратно)12
В Волшебной стране нет более беззаконного дела, чем убить и съесть кого-нибудь. Как можно есть оленя, который перед самой гибелью своей настойчиво упрашивал вас пожалеть его детишек, хотя бы потом и выяснилось, что детишек этот шельмец так и не успел завести. Да что там олени! Куры и коровы Волшебной страны дают яйца и молоко в обмен на пшено и солому по доброй договоренности с фермерами, а никак не по принуждению. Свиньи не дают ничего, поэтому волшебностранским свиньям ничего от фермеров и не достается, и они, волшебностранские свиньи, ходят по лесу, гордо и дико похрюкивая между собой о невежливости и неблагодарности хоббитов, а иногда, бывает, накидываются на случайного путника и отнимают у него сумку с чем-нибудь съестным. И чтобы пристыдить народ свиней и преподать ему урок, хоббиты, прославленные по всей Волшебной стране своей воспитанностью, вывезли из Большого Вуттона бессловесных свиней, каких не водится в Волшебной стране. Любая серьезная и зажиточная семья хоббитов холит и лелеет своих домашних свинок, всячески о них заботясь. Все это делается хоббитами из исключительного свинолюбия, а вовсе не потому, что хоббитам по нраву в большие праздники лакомится тушеной свининой в горчичном или ореховом соусе и непременно с бобами. И уж подавно дело тут не в свиной колбасе. Ибо жители Волшебной страны не едят ничего говорящего, кроме форели, карасей и ершей, потому что форель, караси и ерши говорить не умеют, а если кто и считает рыбье разевание пасти за умную беседу, так это разве что какие-нибудь эльфы, а эльфы не едят форель, карасей и ершей, потому что они эльфы, а не хоббиты. Бывало, уже на праздничном столе выяснится, что какой-нибудь пирог выучил три-четыре слова, и тогда тот пирог уже не едят, а сажают за стол и ставят перед ним тарелку с угощением.
(обратно)13
Раньше по всей Волшебной стране водились мыши великанской породы. Но затем мышиный король созвал свой народ и отправился с ним в большое странствие, так что в наши времена великанских мышей почти не осталось. Разве что потомки отставших и заболевших, которые пошли на службу к котам — сторожами. Хотя, по правде говоря, лучше бы нанимать в сторожа хоббитов, потому что хоббит глаз не сомкнет от заботливых мыслей о чужом добре, которое поставят его сторожить.
(обратно)14
Во всяком случае, фермер Джайлс после одиннадцатой кружки пива как-то признался в Барлимановом трактире всем известной хоббитихе Фиалке Крендель, что своими ушами слышал, как менестрель Иварэ в том же трактире после семьдесят седьмой кружки пива говорил, что непобедимый констребль Мрау после девяносто девятой кружки пива в том же трактире именно так назвал свою полосатую и очень твердую шапочку.
(обратно)15
Нет способа горше обидеть маленький, но гордый народ хоббитов, чем если вы скажете, что они подражают эльфам. Да и как они могут подражать эльфам? Каждый хоббит с детства знает: когда создавался мир, то самой первой появилась Волшебная страна; сначала никого и ничего не было в Волшебной стране, даже леса, — только земля и перводырка в ней. Так вот, из перводырки прежде всех прочих вылез первохоббит, а уж потом — первоэльф. Уж что-что, а это установлено твердо.
(обратно)16
Странная это история, и ее редко рассказывают, потому что живой дракон в Волшебной стране всего один, и зовут его Хризофилакс; был еще один дохлый, которого коты продали троллям, но это особая история, и кошачью хитрость в Волшебной стране считают мошенничеством века, так же, например, как похищение Черного меча у Оружейника считают кражей века; так вот, других живых драконов в Волшебной стране не водится, а у Хризофилакса, как известно, хвост цел. Кого же лишил хвоста фермер Джайлс? Котокнязь Тевильдо, а он живет со своими котами как раз неподалеку от Одинокой горы, рассказывает совсем другую историю. Подбили как-то эльфы фермера Джайлса заняться драконом и всеми его сокровищами. Тот пришел к Одинокой горе со своим Квазимордаксом, посмотрел на дракона, и решил, что этакую морду от хвоста никаким мечом не отделить. Тогда пошел Джайлс на хитрость. А все дело в том, что наша Волшебная страна — это местечко, жители которого не отказываются лишний раз выпить чего-нибудь веселящего. И делится она как раз надвое: одни поддерживают добрую старую проверенную традицию пить пиво — таковы, конечно же, хоббиты, коты, гномы и тролли; другие горазды наливаться до самых ушей вином — таковы эльфы, хотя эльфы иногда все-таки приходят в здравый рассудок и выпивают немного яблочного эля, оттого их и зовут эльфами, да еще дракон, а драконы, как водится, ни пива, ни эля не пьют, а только вино. Драконам, в смысле, дракону, если что и нравится в эльфах, то это их вино. Единственный житель Волшебной страны, который пьет и вино, и пиво — фермер Джайлс, и за это его многие уважают. Прознал этот самый Джайлс, что эльфы дракона не любят, а дракон эльфов не уважает, и пить, стало быть, дракону не с кем, и очень ему одиноко, набрал у эльфов отличнейшего вина и напросился Хризофилаксу в гости. Так они с драконом хорошо посидели, так хорошо! В благодарность за премилое гостевание и умную беседу Хризофилакс подарил бесстрашному фермеру сундук с медными монетами, а чтобы это было как бы сражение, и о фермере бы не говорили плохо, похыкал огнем вокруг и доставил сундук к самому трактиру. В мемуарии у Старого Тука обе истории записаны как совершенно достоверные, потому что настоящий хоббит никогда не покажет кому-нибудь, что вот, он этому кому-нибудь не верит; хоббиты — очень учтивый народ.
(обратно)17
По правде говоря, в старину, давньм-давно, когда и дракона-то не было у Одинокой горы, хоббиты имели уши, которые кое-кто мог бы назвать немного длинноватыми. Сейчас у хоббитов почти совсем не длинные уши, ну, может быть, только самую малость… Во всяком случае, никто не смеет назвать хоббита «кролем» или «заем»! Вообще, нет способа горше оскорбить маленький, но гордый народ, чем намекнуть на… на… на уши, одним словом. И что эта самая Эланор? Они и рада бы стать совсем эльфийкой, да родные уши мешают. И нет на свете ничего прекраснее изящных хоббитьих ушей!
(обратно)18
История эта известна всем и каждому по всей Волшебной стране, и ее расскажут любому даже раньше десятой кружки пива. Однажды в Волшебной стране расплодились гоблины, темные маги и разнообразные мрачные чудища. Храбрые хоббиты заманили их на вулкан Городун-Бородун и побросали все свои кольца в самое жерло, а потом быстро убежали. Жерло засорилось, вулкан взорвался, погубив всех гоблинов, магов и чудовищ. С тех пор началась новая эпоха, хоббиты больше не носят колец, а на месте вулкана осталась Одинокая гора. А Одинокая гора намного безобиднее всяческих вулканов.
(обратно)19
Все признают, что нет в Волшебной стране народа более хозяйственного, чем хоббиты.
(обратно)20
Старина Лис потом говорил, что он, мол, вовсе не испугался, да и чего тут бояться, по его мнению, мол, тут и бояться нечего, он мол, не понимает, отчего все так боятся этого типа Забияку, а ушел он, в смысле Лис, только потому, что этот тип, в смысле Забияка, уж очень противный с виду. И хоббиты, конечно, сказали Лису, что совершенно верят ему во всем.
(обратно)21
Коты, как известно, в давней дружбе с хоббитами. То есть в древние времена, когда хоббиты еще жили в норах, а уши у них были чуть-чуть длиннее, чем сейчас, коты враждовали с хоббитами из-за своей вредной и неучтивой привычки. Всякий хоббит вылезал из своей норы головой вперед. А впереди головы, разумеется, наружу лезли хоббитьи уши. И наглый кот, пристроившись у самой норы, дожидался появления хоббитьих ушей и принимался их трепать лапой. Хоббит втягивал голову в плечи, а потом опять пытался выглянуть… И опять наглый кот трепал хоббитьи уши. Так — до семи раз! Впоследствии хоббиты научились защищаться от котов. Если покидающий нору хоббит подозревал, что сверху его ожидает коварный кот, он принимался быстро-быстро пылить задними лапами… то есть, извините, ногами. Кот, если он там был, разумеется, чихал. По этому чиху сметливый хоббит понимал, какая опасность грозит его ушам, и выбирался наружу в другом месте. Но постепенно коты и хоббиты подружились, потому что и те, и другие любят вкусно поесть и недолюбливают эльфов; кроме того, хоббиты обожают кошачье пение, а коты — хоббитью запасливость.
(обратно)



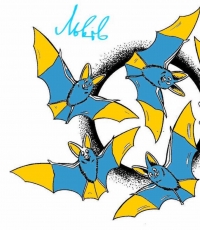
Комментарии к книге «Антология мировой фантастики. Том 3. Волшебная страна», Роджер Желязны
Всего 0 комментариев