Танит Ли Владычица Безумия (Сага о Плоской Земле — 4)
Посвящается Розмари Хоули Джермен, заклинательнице шарообразного мира.
Часть первая. НОЧНАЯ ОХОТА
1
Над миром сгущались сумерки и юноша, сидевший на высокой плоской крыше, закинул голову, любуясь величественным куполом неба. Затем опустил глаза к книге, которую держал в руках, и громко прочел:
— «Синие очи у возлюбленной моей, синие, как вечернее чистое небо. Звезды прекрасны в сияющем одеянии своем, но ни одна из них не сравнится с моей любимой.»
Его товарищи приподнялись на локтях и заинтересованно взглянули в его сторону, ожидая продолжения. Юноша захлопнул книгу и заявил:
— Любовь — это тоже простая разновидность безумия.
Ответом ему были хохот и непристойные жесты.
— Любви не существует! Это слово придумали женщины, чтобы дурачить стариков, не знающих, на что потратить денежки!
— Любовь — это просто похоть, плотское вожделение. Зачем слагать песни о предмете, недостойном высоких слов?
Юноша молчал. Он был необычайно красив: бледный, с очень светлыми волосами, тонкий в кости, изящный, словно изысканный цветок. Его глаза цвета расплавленного янтаря светились в сумерках, подобно двум тлеющим искрам. Весь его облик был исполнен какой-то поэтической грусти. Он вздохнул, как вздыхают поэты: печально и в то же время наигранно.
— Ах, бедняга, как он страдает! — расхохотались его товарищи. — И что же вселяет такую скорбь в нашего Олору нынче вечером?
— Ответ, для которого нет вопроса, — ответил Олору.
— Загадка! — понимающе кивнул один из молодых бездельников. Остальные, наскучив обсуждением этой темы, повторили его улыбку и крикнули: — Рассмеши нас, Олору!
Глаза юноши вспыхнули, словно у лисы, почуявшей зайца. Он вскочил с места единым движением, как будто распрямилась стальная пружина. Окинув приятелей озорным взглядом, он встал на руки и принялся подпрыгивать, смешно дрыгая ногами, приговаривая с расстановкой от прыжка к прыжку:
— Как это — утомительно! А ну — вознесите — молитвы — светлым богам, — чтобы я — обрел умение — передвигаться — как-нибудь — иначе!
Молодые люди хохотали, хлопали в ладоши, выкрикивали имена богов и обрывки молитв. Олору по-прежнему подпрыгивал на руках, не обращая ни малейшего внимания на то, что одна из его шелковых перчаток уже порвана почти в клочья. Он запрыгнул на невысокий парапет, окаймлявший крышу, и развернулся на самом краю, вытянувшись во весь рост. Звезды уже усыпали темнеющий небосклон горстями алмазной пыли, так что казалось, будто юноша попирает их ногами.
— Смотрите! — крикнул Олору, глядя на пылающую полоску заката. — Солнце ушло за край мира. Оп-ля!
Он подпрыгнул снова, но на этот раз его руки вместо теплого камня схватили звездную пустоту. Олору исчез.
Юные бездельники, пировавшие на крыше трактира, повскакали на ноги с криками изумления и ужаса. Они хорошо знали, что их господин, герцог этих земель и могущественный маг, снимет им головы за своего любимца. История о том, что они, развеселившись, не успели удержать Олору, когда тому вздумалось шутить на крыше трактира высотой в шесть этажей, не покажется герцогу ни забавной, ни остроумной.
Но перегнувшись через парапет, они не увидели внизу ничего, кроме деревьев вдоль узкой аллеи, где тьма чередовалась с пятнами света, льющегося из окон трактира.
В ночном воздухе над городом звенели чьи-то голоса, смех и обрывки песен. На площадях и улицах зажигались фонари, на вершинах башен вспыхивали сторожевые костры. Повсюду царили огни и веселье, но собутыльникам Олору было не до смеха. Если на них падет гнев Лак-Хезура, ни одна дверь в этом городе не раскроется перед ними, ни в одном доме не смогут они найти себе прибежища. Они в суеверном страхе оглянулись на дворец герцога — и увидели, как один за другим зажигаются огни в его высоких окнах, словно открываются сотни всевидящих глаз. И все эти глаза были устремлены на них.
Встряхнувшись, молодые люди решили, что следует предпринять хоть что-нибудь. Двое или трое бросилось к лестнице, намереваясь разыскать мертвое тело, остальные принялись выдумывать историю, призванную оправдать их в глазах герцога. И в самый разгар обсуждения на крыше снова появился Олору — с противоположной стороны, спрыгнув с высокого дерева, чьи ветви подступали к самым окнам трактира.
— Да, любовь — это тоже безумие, — провозгласил он. — И вообще все в этом мире. Жалость, благоразумие, удовольствие, сострадание — все это лишь различные названия одного и того же. Да что говорить, самая наша жизнь…
— Олору! — завопил наконец кто-то, и вся ватага кинулась к шутнику.
Юноша поспешно юркнул к спасительному дереву.
— Ох, простите, друзья мои, но… Что я такого сделал, что вы так разозлились?
«Друзья» собрались у края крыши, заставляя Олору теснее прижаться к стволу. Лица у них были самые мрачные. Отлично зная, что распроклятый мальчишка — отчаянный трус и готов уделать штаны от одного только вида холодной стали у собственного горла, они подходили к Олору все ближе, с удовольствием наблюдая, как тот бледнеет и в страхе забирается поглубже в густые ветви. Он что-то лепетал, объясняя, что зацепился за каменный карниз под парапетом и незаметно прокрался вдоль стены, думая развеселить их неожиданным появлением… Он совсем не хотел пугать их, только рассмешить. Молодые люди молча слушали его сбивчивую речь, от души наслаждаясь тем, как дрожит его высокий голос и наполняются слезами янтарные глаза. Под конец, решив, что они достаточно помучили маленького негодника — под ним уже начали прогибаться и хрустеть ветви, — они вскочили на парапет и с хохотом втащили Олору обратно на крышу, тормоша и тиская его, как это принято у самых закадычных друзей. Они хлопали его по спине, трепали по щекам и повторяли, что готовы простить ему все, что угодно, ведь они так его любят. Олору неуверенно улыбнулся. Но лица его приятелей светились такой искренностью, что он махнул рукой и принялся хохотать вместе с ними. А когда его попросили спеть, охотно сел на прежнее место и взял в руки маленькую арфу из темного дерева. Голос у него был подстать облику — чистый, юный и столь прекрасный, что в окна трактира начали высовываться постояльцы, чтобы послушать неземные звуки его песни.
— В стране, где грезы спят, где грезят сны, Ты даришь песню звуком тишины; Твой взгляд, как острый меч, в меня проник, Твой голос — словно шепот древних книг, Улыбка, словно птичий свист, тонка…— И лесть помимо воли льется с языка… — послышался чей-то голос. — Верно, Олору? Ты всегда льстишь мне, но льстишь так тонко, что этому невольно веришь.
Лак-Хезур, чей плащ был темен, как наступившие сумерки, бесшумно возник на крыше, словно сгустился из крадущейся с запада тьмы. Он и его миньоны, двое из которых сейчас серыми тенями маячили у него за спиной, могли, если хотели, передвигаться очень тихо. Подобное внезапное появление герцога часто нарушало и менее невинные развлечения его двора. Поэтому все приближенные Лак-Хезура никогда не теряли головы и никогда не пьянели — по крайней мере настолько, чтобы позволить себе какую-нибудь дерзость по отношению к своему господину. Этот могущественный волшебник мог таиться в любой тени, скрываться за каждой дверью. Бледная кожа и пепельно-серые волосы делали его похожим на призрака, а драгоценные перстни сверкали на темном бархате перчаток, словно тусклые звезды на бархате ночи. Вслед за ним на крышу вбежали две большие гончие, светло-рыжие и поджарые. Оглянувшись на хозяина, они сели, вывесив языки, сгорая от вечного нетерпения преследовать и хватать того, на кого укажет рука в черной перчатке.
Все головы, темные и белокурые, склонились в немом приветствии. Но именно на голову Олору опустилась ладонь в черном бархате. Юноша поднял глаза и с привычной улыбкой принял поцелуй своего герцога.
— Нынче вечером мы отправимся на охоту, — объявил Лак-Хезур.
Молодые люди, пировавшие на крыше, возможно, имели другие планы на этот вечер, но немедленно выкинули их из головы. И только голос Олору смущенно пробормотал:
— Но мой повелитель, я ненавижу смотреть на то, как льется чья-то кровь…
— Ничего, мой нежный мальчик, — усмехнулся герцог. — Если тебе станет очень страшно, ты спрячешь лицо у меня на груди.
* * *
Взошла луна, и охота началась. Эта ночь была ночью полнолуния, и городские испарения вкупе с магическими дымками, вившимися над тысячью труб, сделали луну зеленоватой и разбухшей. Словно всплывающая утопленница, поднималась она все выше над башнями, цепляясь неповоротливой тушей за каждый флюгер. Забравшись достаточно высоко, она начала скапливать вокруг себя тучи, как будто готовила себе перину помягче. Но ее холодный, призрачный свет, лился сквозь эту пелену щедрым потоком, очерчивая серебряной каймой черноту плащей, зажигая сотнями искр рыжие спины гончих, сверкая на меди охотничьих рожков, переливаясь на гранях самоцветов и отражаясь огоньком азарта в каждой паре глаз.
Городские ворота изрыгнули темный, стремительный поток верховых, гончих и пеших факельщиков. Сразу за городом дорога выходила в широкую плодородную долину: небольшие рощи разделяли пастбища и ухоженные виноградники. Но к западу горизонт выгибался плавной линией холмов, над которыми вставал лес, чьи деревья были много старше самой первой виноградной лозы. Об этом лесе ходили странные слухи. Говорили, будто порой там пропадали люди, а по ночам вдоль опушек расхаживали твари — иногда схожие с человеком, но чаще совсем иного вида. Но герцога и его клевретов не пугали сумрачные тайны этой чащи. Лак-Хезур нередко навещал темные холмы, ибо его интересовало все, что связано с ночью и ее порождениями. Быть может, оттого, что его кожа годами не видела солнца, она имела матовый, почти белый цвет.
Стояла пора урожая, и охотники, проезжая темными полями, время от времени видели костры: крестьяне, уставшие от дневных трудов, часто ночевали прямо в поле, чтобы с первыми лучами зари вновь взяться за работу. Заслышав конский скок, простолюдины вскакивали на ноги и, усердно кланяясь, бормотали приветствия и благодарственные молитвы за то, что знатные господа выбрали именно их поле, чтобы проследовать по своим надобностям. Герцог не обращал на эту суету ни малейшего внимания. Но когда до черной стены леса оставалось не более мили, знатный колдун внезапно привстал на стременах и сощурился: какой-то едва различимый во тьме огонек заинтересовал его. Охота подъехала ближе и увидела посреди большого луга высокий шест с масляным фонарем, а под ним — коленопреклоненного крестьянина. Неподалеку от шеста возвышалось одинокое дерево, к его стволу была привязана девочка. Ее тело светилось в лучах луны, словно драгоценная жемчужина, ибо единственной одеждой ей служили длинные темные волосы, перевитые гирляндами из белых цветов.
Лак-Хезур придержал коня; его свита тоже замедлила бег своих скакунов. Крестьянин подбежал к краю дороги и снова бухнулся на колени.
— Говори, — оборонил Лак-Хезур.
— Это дочь моей сестры, ей всего двенадцать лет и она девственница.
Герцог бросил короткий взгляд на привязанную девушку. Его свита переглянулась с плотоядными улыбками.
— Когда-то, — проговорил Лак-Хезур, — подобные жертвы оставлялись для ублажения драконов. Неужели в наших краях завелся дракон?
— Н-нет, конечно же нет, повелитель Хезур. Это… это по ее просьбе. Она намеревалась таким образом немного развлечь нашего повелителя, вот и все…
Лак-Хезур спешился. Он пересек луг и остановился перед деревом, где девушка уже почти висела на веревках, полумертвая от ужаса. Свита могла видеть этих двоих всего несколько мгновений — девушку и склонившегося к ней дракона. Затем внезапное дуновение черного ветра окутало их плотной завесой. В самом сердце этой завесы загорелось темное пламя, в нем проступили очертания огромного змея, чей хвост метался по траве, разбрасывая огненные искры, такие яркие, что глазам было больно. Дважды из волшебного пламени донесся пронзительный стон, но это были единственные звуки, которые смогли расслышать наблюдатели.
Простолюдин, приготовивший герцогу такой необычный дар, по-прежнему стоял на коленях, опустив глаза долу. Свита же преспокойно потягивала вино из серебряных фляг, оглаживала лошадей и успокаивала повизгивающих гончих.
Лак-Хезур отсутствовал не слишком долго. Луна не успела подняться и на ладонь, когда он вынырнул из тьмы, наведенной его чарами, и направился к своим спутникам, спокойный и невозмутимый, как будто сходил с коня лишь для того, чтобы сорвать пригоршню ежевики. Едва он отошел от дерева, туча начала рассеиваться, открывая всем взорам несчастную девушку: ее белое тело неподвижно лежало меж корней, в растрепанных волосах запутались лепестки смятых цветов.
— Ну, на какую награду ты рассчитывал? — обратился Лак-Хезур к простолюдину. — Полагаю, ты не проявишь излишнюю жадность, поскольку племянница твоя меня разочаровала.
— О нет, нет, мой повелитель, я просто хотел доставить тебе небольшое удовольствие, ничего сверх того.
— Удовольствие и впрямь было не большим. Но ты, конечно же, хотел как лучше. И я не буду слишком суров с тобой. Ты удовлетворен?
— Великий государь, я раб твоих рабов.
Вся процессия двинулась прочь. Те, кто украдкой оглянулся, могли видеть, как новоявленный раб герцога склоняется над бледным пятном плоти среди темной травы и тормошит девушку за плечо. Но та не пошевельнулась даже тогда, когда дядя довольно сильно пнул ее.
— Что с тобою, мой Олору? — заботливо спросил герцог у юноши, когда они въезжали под черные своды колдовского леса. — Ты выглядишь удрученным.
— Я? — переспросил Олору. — Нет, мой герцог, я просто задумался над новой песней в твою честь.
— Вот как, — отозвался Лак-Хезур. — Отлично. Позже ты непременно споешь ее мне.
* * *
Лес обступал их со всех сторон. До сердца его чащи оставалось еще много миль — этот лес был столь древен, столь запретен, что его сердца мог достичь разве что легендарный герой прошлого. А, быть может, этот лес имел не одно сердце, каждое из которых билось в торжественном медленном ритме — по одному удару в столетие.
Во всяком случае, в этой чаще было несколько особых, заповедных мест, где колдовство древности чувствовалось особенно остро. Одним из таких мест являлся пруд, чьего дна не достигал ни один ныряльщик, и чью холодную воду редко осмеливались пить даже лесные звери — если таковые вообще водились в этих холмах. Про это озеро говорили, что если из него напьется человек, он тотчас обернется диким зверем — волком, оленем или чем-нибудь похуже, вроде рогатой жабы или бородавчатого паука.
Над озером царила ночь. Сквозь плотную лесную крышу из ветвей и листьев скупо сочился лунный свет. Она карабкалась по небосклону все выше и пылала теперь ровным ледяным огнем, превращая бестревожную гладь воды в поверхность стального зеркала.
Здесь, у самой воды, загонщики подняли стадо оленей. Призрачными тенями они помчались сквозь притихший лес и вся охота ринулась им вослед. Верховые зажгли факелы, треск пламени вторил треску ломающихся под копытами веток. Гиканье и охотничий клич разносились по всему лесу. Треск и гомон вспугивали заснувших птиц — или иных крылатых тварей — и те добавляли шума к общей сумятице, спасаясь на верхних ветвях деревьев. Стрелы охотников пронзали воздух, но не достигали цели. Вперед вырвался конь Лак-Хезура. Чародей выбросил в воздух правую руку — и удирающего оленя окутала тонкая призрачная сеть. Тренькнула тетива арбалета, ошеломленный зверь споткнулся, замер и повалился на бок, истекая кровью. Из его глотки вырвался стон, подобный стону роженицы, такой громкий и жалобный, что миньоны герцога невольно содрогнулись. Но гончие, сорвавшись с поводков, облепили подранка, словно мухи — падаль, и стоны несчастного зверя скоро затихли.
Это была оленуха, но такая крупная, что вся охота, удовлетворившись пока первой добычей, спешилась и вернулась к озеру, подобному стальному зеркалу. Несмотря на бесконечные шутки по этому поводу, никто не собирался утолять жажду озерной водой — да и к чему, если герцогские слуги припасли им огромные корзины с бутылями, всяческой снедью и посудой? Загонщики разожгли костер, и вскоре веселые язычки пламени отражались в хрустале и серебре больших кубков, осушаемых в честь герцога.
Сам Лак-Хезур был занят: он следил за тем, как разделывают и потрошат оленуху. Время от времени он отрезал особо лакомые куски мяса и бросал своим любимым гончим. Олору, всюду следовавший за своим господином, стоял поодаль, прислонившись к дереву, прикрывая нос и рот рукой в шелковой перчатке.
— Поди ко мне, мальчик, ты будешь моей гончей и я дам тебе лучший кусок потрохов, — позвал его Лак. Но Олору лишь передернул плечами и отвернулся, спрятав полный отвращения взгляд под длинными, загнутыми вверх ресницами.
Накормив собак, герцог омыл руки и подсел к кострам, на которых уже жарилось мясо. Олору с облегчением устроился рядом с ним.
— Ну, теперь спой мне ту песню, — потребовал Лак-Хезур.
— Она еще не закончена, — ответил Олору, поднимаясь на ноги и поспешно отходя на несколько шагов.
Чародей тронул пальцем в замшевой перчатке одно из своих колец. Из него вырвался голубоватый луч — тот самый, что пленил и удушил оленуху. Олору знал, что кольцо это действует не только на животных.
— Я даю тебе, любовь моя, ровно три удара сердца на то, чтобы закончить твою хвалебную песнь. А поскольку твое сердце бьется сейчас так, будто вот-вот выскочит, я думаю, время пришло.
Олору опустил взгляд и запел своим высоким, нежным и чистым голосом:
— Наш герцог охотился как-то на днях. Набрел на простушку в пшеничных полях, Не дарами прельстил, а злобою взял. Их обоих закрыла волшебная тьма, Их не видел никто, но была там одна, Вещь, понятная всем, кто за тем наблюдал: Господину едино: что женщин любить, Что под куст у дороги отлить.Мгновение назад над озером разносились смех и веселые выкрики. Тишина, наступившая после того, как Олору пропел свою песню, могла сравниться только с тишиною склепа. Окаменев и раскрыв рты, не донеся до губ расплескавшихся кубков, уставились приближенные герцога на мальчишку, которого до сих пор считали трусом. Не изменились в лице лишь телохранители Лак-Хезура, — а о них поговаривали, что они не совсем люди, — но бледные пальцы их рук сомкнулись на рукоятях длинных кинжалов.
Окончив песню, Олору взглянул на своего господина с легкой полуулыбкой, а Лак-Хезур посмотрел на него с точно таким же выражением лица. Неспешно поднявшись со своего места у костра, герцог сжал пальцы правой руки и в них появился меч. Выставив клинок перед собой, герцог приближался к Олору до тех пор, пока острие не коснулось груди юноши.
— Теперь я тебя убью, — спокойно проговорил Лак-Хезур. — Это будет медленная и мучительная смерть. Но ты, разумеется, имеешь право попытаться помешать мне убить тебя так, как мне хочется. Поэтому начинай, пока я не передумал.
Он произнес длинное непонятное слово, и в руки Олору упал второй меч. Но юноша, бледный, как молочная пена, сжался и тотчас уронил предложенное оружие.
— Подними его, — сказал Лак-Хезур. — Подними меч, дитя мое, и мы немного позабавимся. После этого я буду кромсать тебя на кусочки и скармливать моим собакам, дюйм за дюймом.
— Мой п-повелитель, — выговорил Олору трясущимися губами, — это была просто шутка, и я…
— И ты умрешь за эту шутку. Поскольку она не показалась мне веселой, ты теперь должен развеселить меня чем-нибудь другим, мой Олору.
— О милосердный господин…
— Подними меч, любовь моя. Подними его.
— Я прошу тебя…
— Подними меч. Я не хочу, чтобы обо мне болтали, будто я убиваю своих друзей безоружными.
— Тогда я оставлю его на земле…
— Тогда я убью тебя без него.
Олору закрыл лицо руками. Слезы текли у него по щекам, золотые в свете желтых факелов.
— Прости, о, прости меня! — выкрикнул он.
Лак-Хезур усмехнулся и силой заставил юношу опустить руки. Затем снова указал на меч, лежащий в траве.
— Посмотри сюда, подними оружие и умри как мужчина.
Одну долгую минуту смотрел несчастный юноша на блестящий клинок, а затем закатил глаза и упал без чувств прямо под ноги Лак-Хезуру.
Все же Олору удалось рассмешить своего герцога. Вместе с колдуном захохотали, радуясь забавному разрешению неловкой ситуации, ловчие и придворные, но Лак оборвал их смех одним коротким взглядом. Они замолчали, словно в горло каждого вонзился тот самый меч, рукоять которого все еще сжимала ладонь герцога. Но минуту спустя клинок исчез, вместе с ним исчез и второй, лежавший на траве, и только вслед за этим телохранители герцога убрали оружие. Лак-Хезур поднял Олору на руки и, все еще смеясь, унес его в свой шатер, прочь от чужих взглядов.
Олору, слагатель песен и злых шуток, очнулся на шелковой постели герцога. Он лежал, уткнувшись лицом в парчовые подушки, чувствуя на себе вес тяжелого тела колдуна, ощущая щекой его горячее дыхание.
— Один лишь ты, мое сокровище, отваживаешься так дерзко шутить со мной, — прошептал Лак-Хезур, склоняя голову на подушку, так что его темные глаза смотрели прямо в расплавленный янтарь глаз Олору. — Но я прощаю тебя. Потому что в тебе говорила ревность.
— О мое сердце, ты станешь так одинок, если разрушишь эту крепость, — ответил Олору. На это Лак-Хезур лишь усмехнулся. Ибо это была правда.
— Расскажи мне о демонах, — велел Лак-Хезур, извиваясь и раскачиваясь, словно гигантский удав, в третьем своем танце за этот вечер. — Расскажи мне об Азрарне, Хозяине Ночи.
И Олору тихо заговорил, хотя иногда его голос срывался, а слова застревали в горле:
— Говорят, жила на свете одна колдунья, дочь короля, по имени Сивеш любившая прекрасного юношу. Его звали Сайми, а, может, Сайви. Но он не любил ее. Зато в колдунью влюбился Азрарн, Повелитель Демонов. И вот она выстроила волшебный шатер с куполом, расшитым мерцающими звездами. В этом шатре двигались облака и дули ветры — послушные ее магии…Азрарн принял купол шатра за небо и думал, что в мире царит ночь, и пропустил восход солнца, а ведь солнце, говорят, убивает демонов…
— Говори, мой Сайми, мой Сайви.
— И тогда, — задыхаясь, продолжал Олору, — пойманный ведьмой в волшебном шатре, Азрарн был вынужден исполнить ее желание: власть, богатство и красота превыше любой земной красоты…
Спина Олору изогнулась, последние слова застряли в горле, из глаз брызнули слезы. Но когда его повелитель успокоился и они оба просто лежали на подушках, юноша продолжил:
— И все же, если она была такой великой колдуньей, почему не добыла себе все это сама? Она получила свою красоту обманом и предательством, а ни обман, ни предательство не украшают никого. И как могли одурачить Князя Демонов призрачные звезды и магический ветер — ведь он сам великий маг? Быть может, он и в самом деле сделался безумен и захотел подвергнуться опасности, быть обманутым? Безумию, Лак-Хезур, все равно, кто ты, великий Азрарн или последний нищий. Оно владело им, потому что он стал безумен от любви, а что такое любовь, если не безумие? Девушка с волосами, как лунный свет и мерцающими, как звезды, глазами. Любовь, время и смерть — вот что рано или поздно одерживает верх даже над самыми могущественными Повелителями обоих миров. А над ними царит безумие, танцуя под щелканье ослиных челюстей.
Но Лак-Хезур не слышал его слов. Он спал. Спал так крепко, словно выпил целую реку эля. И потому не почувствовал и не заметил, как Олору осторожно высвободился из его объятий. Равно как и не заметил, что выпало на пол и блеснуло там в умирающем свете ламп — всего лишь на мгновение.
Человек, испивший из вод стального озера, трансформировался — в животное или в элементаль, или в чудовище. Но Олору пил только вино. И прозрачная, как роса, вода лесного озера, осталась непотревоженной, когда облик юноши начал меняться.
Вся охота разделяла сон своего герцога. Те, кто еще не спал, просто застыли в немом и слепом оцепенении. Поэтому никто не заметил маленькую желтую песчаную лисицу, вынырнувшую из-под полога шатра. Лисица огляделась, высунув розовый язык, словно смеясь над спящими людьми, повернулась и неспешной трусцой скрылась за деревьями.
2
Ночь укрывала землю, каждый ее дюйм, ибо земля была плоской под выгнутым куполом неба и день и ночь сменяли друг друга в бесконечном споре, кому же властвовать над этим королевством. Не было леса, поля или реки, не объятых всепроникающей тьмой, посеребренной тихим светом луны. Не было горы, чело которой не венчали бы звезды. Но ниже, в мире, простиравшемся во все стороны, бесконечном и неизменном, никогда не бывало ни дня, ни ночи.
Нижний Мир, страна демонов, расцветал под лучами бесконечного сияния, исходившего из самого воздуха. Легенды гласили, что этот свет, всепроникающий, как свет солнца и мягкий, как свет луны, был прекраснее, чем драгоценности всех земных светил. И в этом свете, в самом центре бескрайней страны демонов, переливался всеми цветами и огнями волшебный город, сердце Нижнего Мира.
Город демонов, как и свет, тоже не менялся с течением времени. Его драгоценные башни и высокие стены вечно оставались неизменным образчиком для всех архитекторов обоих миров. Но сейчас блеск Драхим Ванашты (ибо таково было имя этого города, Сияющий Собственным Светом, Что Ярче Солнца) туманила дымка, которую не мог развеять даже всепроникающий свет Нижнего Мира. Зыбкий темный покров одинокого, скорбного — и беззвучного — плача: печаль Азрарна.
На земле своим чередом шло земное время. Быть может, миновали уже годы и годы. А под землей время не шло, а ползло подобно самой медлительной черепахе, ибо для демонов оно иное, нежели для людей. Оно имело меру, но не уносило с собой ни памяти, ни молодости, ни сил. И это являлось гордостью и проклятие всех Ваздру, племени высших демонов, к которому принадлежал и сам Азрарн. Ничто, раз случившееся, не могло быть забыто. Ни мгновения величайшего наслаждения, ни часы величайшей боли. А старая поговорка гласит, что ноющую рану демона можно залечить лишь человечьей кровью.
И все же Азрарн не отомстил. Он даже не наказал виновных.
Об этом редко говорят, но мудрецы знают, что из всей вереницы его увлечений, разнообразных и схожих, как морские волны, по-настоящему единственной страстью всегда оставалась Данизэль, Душа Луны. С волосами, подобными лунному свету, с глазами, сравнимыми лишь с первыми сумерками, с белым прекрасным телом, в котором, словно цветок в теплице, росло их с Азрарном дитя. Быть может, Князь Демонов потому и отказался от мести, что его возлюбленная была чиста и нежна, как ребенок, мысль о крови и страданиях никак не увязывалась у Азрарна с ее светлым образом. Во всяком случае, первое время. И теперь, охваченный скорбью по Данизэль, он просто тосковал, и с ним тосковал его город.
В своем ребенке, в своей дочери, он тоже не искал утешения. Быть может потому, что это дитя было слишком близко к понятию «месть» — ведь именно ради насаждения лжи, мучений и боли позволил он ей появиться на свет. Ибо таков был удел Повелителя Демонов: нести людям страх и боль. Он готовил этого ребенка к жестокой и страшной роли — но теперь словно забыл о существовании девочки. Он не желал ее видеть — быть может, потому, что не мог вынести взгляда синих, так похожих на материнские, больших внимательных глаз.
Поэтому, принеся ребенка в свою страну, он поселил ее как можно дальше от собственного дома. Там она и оставалась, почти забытая.
* * *
Озеро было таким огромным, что могло считаться внутренним морем — впрочем, все его так и называли. На человеческий счет оно лежало в трех днях пути от города демонов, но что такое три дня для бессмертного существа? Далеко было до озера или близко — зависело от настроения того, кто к нему приходил.
В прозрачном воздухе Нижнего Мира воды озера походили на жидкий хрусталь. Даже самые темные его глубины просматривались с поверхности прозрачной чистой воды. В ней двигались чьи-то тени, проплывали, словно призраки, плоские манты, резвились крылатые рыбы. Рассмотреть все в мельчайших деталях мешала только бесконечная череда волн, ибо озеро знало приливы и отливы, словно подчинялось движению далекой земной луны. Или имело свою, никому неизвестную луну, с которой жило в вечном движении.
Приливы и отливы прятали и обнажали череду островов, большинство которых было так мало, что не уместило бы и птицу. На некоторых росли деревья, склоняясь над светлой водой, полоща ветви в ее струях. Иные являли собой вид грозных неприступных утесов, в сотни футов высотой, словно огромные сторожевые башни. Все эти острова, большие и малые, искрились красками и огнями, известными лишь Нижнему Миру, яркими, как краски первого дня творения. И озеро-море отражало эти краски и огни, умножая их красоту.
А посреди этого великолепия из воды поднимался остров, во всем подобный земным островам — не таинственный и не устрашающий, просто клочок суши посреди воды. Здесь не играли чудесные огни, напротив, серая сумеречная дымка словно навеки окутала неприветливые берега. Он казался туманным призраком, парящим над водой, видением, не существующим в реальности. Быть может, так оно и было.
Тому, кто хотел бы взглянуть на призрачный остров, пришлось бы войти в его белесый туман — а на это никто не отваживался. Поэтому обитатели призрачной страны — если таковые существовали — жили одиноко, отрезанные от внешнего мира.
* * *
Она жила внутри полого камня, одинокая дочь Азрарна.
То, что этот камень был прекрасен чистой, холодной красотой, присущей всем вещам Нижнего Мира, мало ее трогало. Она жила в башне из прозрачного кварца, башне с живыми галереями, покоями и переходами, образующими сложный лабиринт пещер. Всепроникающий свет тускло искрился на слюдяных гранях кристаллов. Туман, окружавший остров, просачивался и сюда, и потому каждая искра представала в волшебном ореоле дымки. Временами в каменный дом залетал ветер, тонко гудя в высоких полых колоннах.
Две самых больших пещеры служили ей комнатами. По велению Азрарна — кто бы еще мог здесь распоряжаться? — они были обставлены с королевской роскошью. Но Князь Демонов не изволил явиться взглянуть на то, что получилось. А зрелище заслуживало восхищения. Толстые ковры устилали каменный пол, шелковые и парчовые драпировки свешивались вдоль стен, лампы цветного стекла бросали вокруг мерцающие тени. Витражные волшебные окна закрывали проемы в камне: стоило взглянуть на дам, рыцарей, демонов и богов, изображенных на витражах, как те оживали и разыгрывали целые спектакли.
За легким пологом, поддерживаемым двумя колоннами из красной яшмы, пряталась постель, достойная принцессы.
На шелковых простынях лежала, обратив к потолку стеклянные глаза, большая кукла. Белизну ее одежды и лица нарушала только волна черных, как сама тьма, густых волос. Водопад локонов обрамлял ее бескровное лицо, если бы кукла поднялась с постели и выпрямилась, концы прядей стелились бы по полу. Ее синие глаза никогда не закрывались. Видела ли она синее небо Верхнего Мира сквозь эти прозрачные синие линзы или просто бездумно смотрела на потолок своей пещеры? Если бы ее спросили, она бы промолчала. Ибо она никогда не разговаривала — даже в то время, когда была еще девочкой и жила в Верхнем Мире со своей матерью. И не потому, что была из низшей касты демонов. Эшвы, слуги Ваздру, говорят выражением глаз, прикосновением, учащенным дыханием. Но дара речи им не дано. Те смертные, что провели детство под их опекой (к примеру, прекрасная Сивеш, возлюбленная Азрарна), после говорили, что слышали голоса эшв. Но, похоже, им просто нравилась образность этого выражения. Дочь Азрарна тоже знавала нескольких эшв. Они принимали роды у ее матери. Они вскормили ее кровью демонов, они прислуживали ей с самого рождения. Они сопровождали ее и здесь, на этом пустынном острове, чтобы исполнять любое ее желание. Но томились бездельем. Ибо их хозяйка не нуждалась в услугах. Отлученные от повелителя, лишенные всего того, что любили, они слонялись по острову, и слезы их ясно говорили: «Я тоскую». Бессмертные, они оказались ввергнуты в вечное умирание. И песни ветра в утесах становились все печальнее.
Иногда синие глаза девочки обращались к ним с почти скорбным выражением. Ей было жаль их. Она тяготилась рабами при себе, особенно такими, которые не могли ее покинуть. Но по-прежнему молчала.
Она вступила в Нижний Мир ребенком, но выглядела гораздо старше, чем любое человеческое дитя ее лет. Она не могла не чувствовать ауру царства Азрарна, и воздух Нижнего Мира поначалу вверг ее в подобие сна наяву. Годы пролетали над ее головой, словно легкие мотыльки, едва задевая девочку своими крыльями. Она потихоньку взрослела, не чувствуя этого, пока не пришел срок, и первые капли крови — демонской черной крови — не упали на мягкий ковер ее комнаты. И тогда она закричала, первый раз в жизни, обнаружив, что у нее все же есть голос. За семнадцать дней Верхнего Мира, что длился ее крик — ибо в Нижнем Мире прошло всего несколько секунд — она повзрослела на семнадцать лет.
Обеспокоенные эшвы примчались на ее крик, принялись хлопотать вокруг. Она принимала их заботу со странным безразличием. Когда дни крови прошли, эшвам вновь стало нечем заняться подле нее и они вновь скорбными тенями бродили по острову. А она лежала, уставив в потолок широко раскрытые глаза. Запертая дверь.
Эшвы не могли отпереть ее. Они могли лишь жаловаться на свою судьбу — невольные тюремщики собственной госпожи. Их беззвучный плач туманом оседал на траве и камнях, окружая остров плотной пеленой. И день за днем призрачные слуги все больше походили на настоящих призраков, истончаясь, угасая.
Впрочем, иногда она вставала и тоже отправлялась бродить по острову. Но так, словно не видела земли у себя под ногами. Бывало, она бледным лунатиком балансировала на самом краешке высочайших скал — но, как все лунатики, никогда не падала. Иногда она прислушивалась к печальной музыке эшв, иногда смотрела на то, как они сидят на берегу и смотрят на бесконечную череду волн. И тогда в ее глазах появлялось нечто, похожее на жалость.
У нее не было учителей, но она училась. Училась с первого дня своего существования, ибо ее обучение началось в тот миг, когда она появилась на свет. Ее изначальные знания были запредельны, непостижимы, запретны для человеческого ума. Но она, несомненно, не понимала, чем владеет. Как не понимала и высоты своего рождения. Она помнила те сказки, которые ей рассказывала мать, когда дочь еще пребывала в утробе, помнила ужасную смерть Данизэль, помнила, как из мира людей ее перенесли на этот остров. Однако ни одно из этих воспоминаний, похоже, не затрагивало ее сердце и разум. Она не знала, что она такое. Так как же ее может трогать что-то извне, если она не может уяснить своей внутренней сути? Но она по-прежнему молчала.
Она лежала на своей роскошной постели посреди острова в море, что в трех днях пути — или в трех тысячах лет — от Драхим Ванашты. Быть может, она даже чувствовала, как чувствуют звери далекую грозу, эхо неистребимого горя Азрарна. Но даже если это чувство посещало ее, оно не давало ни пищи для ума, ни страданий для души. Это было не ее горе. Это было горе отца, отвернувшегося от нее.
И она жила в одиночестве дальше — или не жила.
3
— Нет, он совсем не плохой сын, — сказала вдова. Стискивая пальцы, она расхаживала взад и вперед. — Те, кто говорят о нем, говорят только хорошее. Все так боятся его господина… И опасаются говорить плохо о моем сыне, потому что это бы значило… значило плохо говорить о Лак-Хезуре. Но при этом так многозначительно отводят взгляд. «Какие вести от твоего сына?» — спрашивают они, а в глазах у них ясно читается: «От этого шута горохового при дворе злого колдуна.» — Женщина наконец прекратила мерять комнату шагами и села в резное кресло. Ее старшая дочь, сестра Олору, подошла и взяла в ладони руку матери. — А я скажу вот что, — продолжала вдова, — это просто свойство характера. Простительная слабость. Никто же не бранит ребенка, слепого от рождения, верно? Или калеку, сломавшего ноги и теперь ползающего в пыли. За что же тогда винить слабого духом и телом? Разве может он что-то изменить в себе? Не более, чем слепой или безногий.
— Мама, мама, — проговорила девушка. У нее была стройная фигура и прекрасные золотые волосы, такие же, как у Олору.
— Ты славная девочка, — улыбнулась вдова. — Вы обе у меня славные девочки. Но бедный мой сынок…
Небо за окном сияло ясными звездами, луна клонилась к горизонту. До рассвета оставалось всего несколько часов. А где-то далеко от стен старого дома возвышался, подпирая верхушками елей небо, древний лес, в котором охотился нынче ночью герцог. Старая дорога делала широкую петлю, сворачивая к городу. Как раз по этой дороге год назад Олору ушел из отчего дома искать счастья. Тот, кто рожден в сорочке, но беден, заявил он, должен найти себе какого-нибудь великого человека, чтобы служить ему. И он нашел себе такого. Он нашел Лак-Хезура, в чьей мощи и славе не смел сомневаться никто. Равно как и в его жестокости и бессердечии.
— Лучше бы Олору оставался здесь с нами, — пробормотала мать. — Здесь он был счастлив.
— Быть может, теперь он счастлив не менее, — печально отозвалась девушка.
Во всяком случае, письма любимца герцога заставляли думать, что скорее счастлив. Он никогда не рассказывал, чем именно занимается при дворе, но подробно описывал богатые пиршества, роскошные одежды и разнообразные увеселения. Подарки, которые он слал родным время от времени, только подтверждали эти волшебные описания.
— Это все лес, — прошептала мать. — Проклятый лес виноват во всем.
Девушка искоса взглянула на черную полосу на фоне светлеющего неба и украдкой сделала знак, оберегающий от зла.
И в самом деле, где-то за месяц до того, как отправиться искать счастья, с Олору произошел странный случай. Здесь, у самой границы колдовского леса, такие случаи были нередки. Мудрые люди опасались заходить под его сень даже при свете дня, но Олору, единственный сын одинокой вдовы, часто высмеивал подобную осторожность. Мелкая дичь, добытая им в лесу, не раз спасала семью от голода, хотя мать и бранила его за безрассудство. Но вот однажды их старый слуга, оруженосец и дядька еще покойного мужа, вбежал в дом, задыхаясь и держась за сердце. На рассвете они с Олору оправились в лес и каким-то образом разделились. Слуга проискал своего господина все утро, но не нашел и следа. Наконец, не на шутку встревоженный, он вернулся в селение за подмогой.
Вдова провела в ожидании несколько самых томительных часов в своей жизни. Не осмеливаясь сама отправиться в ужасный лес, она с двумя дочерьми до самой темноты простояла в воротах, молясь, плача и причитая. Солнце, одевшись огненной короной, уже коснулось дороги, простелив по земле голубые длинные тени. Стволы деревьев казались черными головешками, охваченными красным пламенем листвы. Закат почти догорел, когда на дороге показалась тонкая фигурка. Юноша шел от леса, спокойно и размеренно, словно возвращался с городской ярмарки. Это был, конечно же, Олору.
Все семейство бросилось ему навстречу, плача и смеясь одновременно. Он вскинул руки в приветственном жесте и ускорил шаги.
И тут случилось то самое. Мать и сестры, не добежав до юноши, остановились в растерянности, старый слуга таращил глаза и бормотал невнятную божбу. Олору тоже остановился. Голова его склонилась, щеки вспыхнули неожиданным румянцем.
Мать смотрела на него во все глаза. Неужели же это ее сын? Ну да, конечно, кто же это еще может быть? Ее Олору, которого она за это вечер уже мысленно оплакала и похоронила. И все же она смотрела и смотрела, и ее сердце билось так часто и сильно, что темная пелена начала застилать глаза. После женщина часто уговаривала себя, что дело было именно в этом, она переволновалась и слишком быстро бежала, вот ей и померещилось. В конце концов она все же бросилась ему на шею, а он в ответ обнял ее не менее пылко.
— Мама, прости меня! Впервые в жизни я заблудился в лесу. Но, как видишь, все же нашел тропинку и вернулся домой, к тебе.
Едва его волосы коснулись щеки старой женщины, наваждение исчезло, она взглянула сыну в лицо и удивилась: как могла она сомневаться? Конечно, это ее сын, ее Олору.
Однако, если это и был морок, то он привиделся сразу всем четверым: и матери, и сестрам, и старому слуге. Что-то было не так, что-то изменилось в Олору. Позже старшей дочери приснился странный сон: как будто ее брат возвращается из леса, и левая сторона лица у него прикрыта маской. А когда он снял эту маску, под ней оказалось лицо самого дьявола: безобразное и отталкивающее. Младшая дочь тоже видела сон, в котором глаза у Олору были подобны закату, черные и красные одновременно, и девочка проснулась с криком. Но Олору как будто не собирался превращаться в красноглазого демона, так что сны вскоре забылись. Юноша ничуть не изменился, оставаясь все таким же шутником, мечтателем и поэтом, каким его все знали.
Им казалось даже, что за этот месяц они полюбили его даже больше, чем раньше, особенно после того, как он сказал, что уходит. И в конце концов действительно ушел, променяв дом на дворец, а семью — на покровительство герцога.
Судя по его письмам, лучше доли и желать было нельзя, но мать почему-то очень беспокоилась о нем. Она часто вставала ночами и расхаживала взад-вперед по комнате, как теперь. «Нет, он не плохой, — повторяла она. — Просто у него такой характер.» И еще она часто повторяла: «Проклятый лес, вот кто виноват во всем.»
Девушка наконец поднялась с колен и сказала:
— Я пойду зажгу новую лампу, в этой масло почти прогорело. И не надо отчаиваться, мама. Быть может, он очень скоро утомится от своей новой шумной жизни и вернется к нам.
На это мать лишь тяжело вздохнула.
Старшая сестра Олору вышла и, возвращаясь с новой лампой, ненароком взглянула в окно. У девушки вырвался крик, лампа упала на пол и разбилась.
— Что? Что такое? — кинулась к окну мать.
— Т-там… там… благие боги! Там какой-то зверь с горящими глазами…
Мать высунулась из окна, всматриваясь в темноту. Обе женщины внимательно оглядели пустой двор. Ворота стояли запертыми на ночь, сквозь них не проскользнула бы и кошка. И все же обеим показалось, что какое-то существо шевелится у колодца.
— Вон, вон он! — прошептала дочь. — Его видно даже в звездном свете, как будто у него волшебная шкура!
— Зажги новую лампу, — велела мать. — Пойдем посмотрим, что это такое.
Мерцающий огонек лампы едва разгонял тьму вокруг окна. Чья-то тень мелькнула у дерева, что росло рядом с колодцем. У девушки едва не вырвался новый крик, но мать радостно воскликнула:
— Благие боги! Что ты стоишь, как неживая? Это же твой брат!
И в самом деле, под деревом стоял Олору, разодетый, как принц или какой знатный вельможа, и его янтарные глаза, обращенные к женщинам, сияли ярче всех драгоценностей пышного наряда.
Очень скоро весь дом был полон огней и шума. Олору проводили в центральную залу и усадили на самое почетное место. Печально зрелище являла собой эта зала, когда-то богато убранная и завешанная коврами. Но сначала вдове не по средствам стали слуги, которые должны были содержать дом в надлежащем порядке, а затем на рынок пошло и убранство, и ковры. Но в кладовой все еще оставалось в достатке свечей, а в погребе — доброго вина, чтобы достойно принять дорогого гостя.
— Я совсем ненадолго, — сказал Олору. — Но скоро приду опять. И тогда он прибудет со мной.
— О ком это ты? — в ужасе вскричала вдова.
— Ну как ты думаешь, о ком я? Я собираюсь привести герцога посмотреть на наш дом и побыть моим гостем. Он сядет в то кресло, в котором сейчас сижу я, а мы будем кружить-служить вокруг, как пчелки. Он увидит моих сестер и возжелает обеих.
Девушки невольно содрогнулись.
— Ты смеешься над нами, Олору? — спросила старшая.
Но мать, качая головой, только тихо повторяла:
— Он сошел с ума!
Олору рассмеялся.
— Неужели ты не веришь мне, мать? Мне, своему единственному сыну?
Ледяным холодом дохнуло в зале от этих веселых слов. Пламя свечей словно съежилось, готовое погаснуть. Женщины едва не плакали, изумленные и напуганные. Но Олору снова рассмеялся и протянул им свои изящные, унизанные перстнями руки.
— Я знаю, что это опасно, — сказал он самым вкрадчивым голосом, на какой был способен. — Но я должен это сделать. И ты, мать, должна мне в этом помочь. Потому что другого выхода у меня нет.
— Что ты такое говоришь! — пролепетала несчастная вдова.
— Я говорю, что сам еще не знаю, как поступить. Но одно я могу пообещать вам наверняка: никакого урона этому дому нанесено не будет. Слышите? Я клянусь вам. Ну, чем я должен поклясться, чтобы вы поверили?
Какое-то время мать смотрела на него совершенно безумными глазами, затем проговорила, словно во сне:
— Поклянись жизнью своей.
— Жизнью? Ну нет, есть вещи куда более ценные. Я клянусь вам могуществом любви, что будет так, как я сказал.
Пламя свечей вспыхнуло с новой силой. Холод оставил старую залу, вытек сквозь высокие окна — как будто услышал достаточно и более не интересовался происходящим.
— Что ты такое говоришь, — повторила мать. — Что за чушь, в самом деле!
— Нет, мать. Это не чушь. Это самая что ни на есть непреложная истина. — Хлопнув ладонями по столу, он вскочил на ноги. — А теперь я вас покину. К полудню мы будем здесь, я и это чудовище, и вся свита его. Будьте наготове.
С этими словами он выбежал из дверей залы и оказался во дворе быстрее, чем кто-либо успел раскрыть рот. Когда женщины выбежали к воротам, Олору уже не было. Только ворота стояли распахнутыми настежь.
— И все же, что за тварь тогда была у колодца? — спросила старшая сестра, не обращаясь ни к кому и ко всем одновременно.
Но лес и ночь по-прежнему были слишком близко, чтобы обсуждать подобные вещи. Могло случиться так, что у колодца и вовсе никого не было.
* * *
Лак-Хезур, колдун и повелитель этого края, очнулся от своего тяжелого сна. У входа в шатер стояла тонкая, призрачная фигурка, темная и зыбкая, с глазами, сотканными из звездного света. Герцог пробормотал заклинание, которое должно было прогнать незваного гостя, явное творение потусторонних и, возможно, враждебных сил. Но призрак исчез раньше, чем слова заклятья слетели с губ Лак-Хезура.
— Что за чушь, — нахмурился колдун. — С каких это пор подданные Азрарна тревожат мой покой? Или мне привиделось?
— Конечно, привиделось, — отозвался медовый голос. — Сон еще смотрит из твоих глаз, повелитель. — Что, в самом деле, могло понадобиться здесь демонам?
— Их всегда притягивает колдовство. Это известно даже младенцу.
— Но ты спал, повелитель. Какое же колдовство могло притянуть этого демона?
— Лес полон чар. И даже спящий, я — это я. А кто я, по-твоему, Олору?
— Мой повелитель, — ответил Олору. Он сидел в ногах у герцога, откинувшись на груду подушек. — Солнце моей жизни. Могущественный волшебник. Я признаю свою ошибку и раскаиваюсь в ней. Конечно же, демоны должны следовать за тобой, словно овцы за своим пастырем.
Лак-Хезур усмехнулся. Олору явно не заметил никакого демона. Должно быть, он тоже спал… Но тут герцог заметил, что его миньон полностью одет.
— И где же тебя носило?
— По лесу, повелитель повелителей.
— И что ты там делал, дитя мое?
— Возвращал земле то, что она мне когда-то одолжила. И как же изменилось это вино на запах и цвет, когда я вернул его земле!
— Пусть так, — отозвался герцог, снова улыбаясь. — Скоро рассвет. Иди ко мне, мой мальчик, я приласкаю тебя.
— Я вдруг подумал, — сказал Олору, — как там у меня дома? И как поживают мои родные? — Лак-Хезур не ответил, гладя его волосы, и Олору продолжал: — Представь, повелитель, что я лежу в пыли дороги у твоих ног. И представь, что я говорю: вот она и она, это мои сестры. Одной пятнадцать, другой тринадцать, и обе девственницы.
— А что, у тебя в самом деле есть сестры? — лениво поинтересовался Лак-Хезур.
— Да, и каждая похожа на меня, словно отражение в зеркале. Хотя, пожалуй, младшая самая белокожая и самая красивая из всех нас.
— Зачем ты говоришь мне об этом?
— Просто чтобы доставить тебе маленькое удовольствие.
— Считай, что ты достиг цели.
Бронзовая колотушка, предназначенная отпугивать злых духов, упала, когда герцог потянулся к Олору всем телом, вновь превращаясь в гигантского змея. Она прокатилась по полу с неприятным, щелкающим звуком. Как будто стучали старые челюсти.
* * *
Мать и сестры Олору тоже предпочли бы думать, что увидели этой ночью какой-то дурной сон. Злая воля леса могла сотворить и не такое. И все же, едва наступило утро, женщины спешно принялись хлопотать по дому, готовя его к приезду высоких — и незваных гостей.
Солнцу было уже на полпути к зениту, в точности как говорил Олору, когда темный лес изрыгнул пышную кавалькаду. Не прошло и нескольких минут, как Лак-Хезур со своей свитой уже стоял у самых ворот.
Хозяйка и дочери едва не упали в пыль посреди двора — так низко они поклонились герцогу, равнодушно взиравшему на них с высоты своего коня и немалого роста.
— Он рассказал мне о вас, — сказал герцог, обращаясь к девушкам. — И рассказал хорошо. Он сказал, что вы ловкие девчонки и еще не знали ни одного мужчины. Что же, все мужчины в этих краях безглазы? Или просто кастраты?
Несчастные девушки не сразу поняли, что им сказали комплимент — в честь того, что они являлись сестрами любимцу повелителя. А когда поняли, присели в поклоне еще ниже.
Наконец герцог слез с коня и проследовал в дом. Женщины так дрожали, что едва передвигали ноги.
— Повелитель, — прошептал Олору, — если это возможно, отошли свою охрану и свиту. Ты видишь, они напугали девушек своими кинжалами.
— Я полагал, что их напугал я.
— Нет, мой повелитель. Ты знаешь, про твоих рабов ходят страшные слухи. Отошли их, и тогда весь девичий трепет достанется тебе одному.
Лак-Хезур расхохотался. В каменном крепком доме, чьими обитателями были только трое женщин и старый слуга — если, конечно, не считать его женоподобного Олору, который падал в обморок от одного только вида меча, — колдуну не могла грозить никакая опасность. Поэтому он отослал и телохранителей, и свиту, чем последняя была немало раздосадована. В дом вошли шестеро — трое мужчин и трое женщин — и большие дубовые двери захлопнулись.
Герцог веселился от души. Он хотел казаться светским и милым гостем. А потому уселся на предложенное место во главе большого стола и говорил с вдовой и ее дочерьми как с хозяйкой и девушками из борделя. Охота удалась, и гостя вскоре ждали жаркое из свежезабитой дичи и вино из хозяйских запасов — единственная драгоценность старого дома. Лак-Хезур пил его кубками, словно воду. Олору тоже принял участие в потехе. Его шутки заставили бы покраснеть и шлюху, а стишки вывели бы из себя и камень, но герцог только смеялся. Понемногу девушки освоились с шумным гостем и присоединились к обеду. Они даже начали иногда смеяться, хотя и поглядывали искоса на брата, боясь допустить какую-нибудь оплошность. Время бежало незаметно, и когда солнце начало клониться к западу, Олору взял в руки свою маленькую арфу. Его песни были полны любви и сладкой тоски, их герои страдали и умирали от возвышенных, почти неземных чувств. Одна из песен рассказывала о поэте Казире, о его странствии в Нижнем Мире через Спящую реку, ради того, чтобы своей страстью сердца победить изощренность ума самого Азрарна.
— Вот самый яркий из моих драгоценных камней, — сказал Лак-Хезур, обращаясь к матери Олору. При этом он так игриво ущипнул юношу за зад, что у вдовы не осталось никаких сомнений: эта драгоценность сияет не только меж поэтов и сказателей, но и между шелковых простыней.
Меж тем герцог продолжал:
— Однако каким убогим и скучным кажется мой дворец после уюта и простоты вашей дикой жизни! Хозяйка, подлей мне вина.
Свита герцога тоже наслаждалась простой дикой жизнью: не зная, чем заняться, они разнесли остатки дворовых построек, развели посреди двора большой костер, зажарили ту дичь, которую оставил им герцог, а после, наевшись и напившись, принялись справлять нужду в колодец.
Солнце, равнодушное ко всем этим бесчинствам, тем временем уже приближалось к лесу, окрашивая облака в ярко-розовый и лиловый цвета. Вечерняя звезда зажглась в бирюзовом небе, как одинокий огонек, оставшийся от большого фейерверка.
— Что ж, моя госпожа, — сказал герцог, вставая из-за стола. — Я устал. В каком покое я буду спать?
Вдова проблеяла в ответ что-то неразборчивое.
— Надеюсь, — добавил Лак-Хезур, — что спать я буду не один.
На это у бедной женщины не нашлось даже блеянья. Герцог махнул рукой в сторону Олору. На сестер он даже не взглянул.
— В коридорах темно, — сказал Олору. — Я провожу тебя, господин мой.
Они двинулись через темный дом, и Лак, как всегда, двигался бесшумно и легко, словно тень. Олору тоже производил шума не больше, чем крадущаяся кошка. Наконец юноша открыл одну из дверей. За ней была лучшая спальня во всем доме. Огромная кровать на высоком постаменте, почти касалась резными колоннами потолка.
— Отлично, — сказал герцог. — Ты знаешь мои обычаи: если твои сестры не придут ко мне через час, я сам отправлюсь искать их. Или найду способ призвать их ко мне — только вряд ли им это понравится.
— Разумеется, — отозвался Олору. — Только я все же не могу понять: что хорошего в насилии? Что за удовольствие вкушать плотские радости под крики и стоны? Разве что от того, кому в радость быть мучимым и кричать сколько душе угодно. Но, с другой стороны, разве мать, что непременно подслушивает у дверей, отличит вопли боли от воплей счастья?
— Он знает меня, этот негодник, — сказал Лак-Хезур. — Ну, что ты задумал?
— Мой повелитель, я знаю, что старшая под коркой льда скрывает горячее сердце, а ее похоть способна ошеломить самого опытного мужчину. Что же до младшей, то ее даже не надо будет опутывать чарами — она так трусит, что просто потеряет сознание от одного взгляда на достоинства моего повелителя.
— Хорошо, так что же ты предлагаешь? Чего ты добивался, мое сокровище, когда волок меня в этот убогий дом с убогими обитателями?
— Он знает меня, этот колдун. — Так вот, я задумал…
И Олору рассказал Лак-Хезуру, что именно он задумал.
Некоторое время колдун размышлял над услышанным. Его ничуть не трогал смысл того, что предлагал ему юноша. Скорее он вертел это предложение так и эдак, как иной гурман вертит мозговую кость, проверяя, не пропустил ли он какого-нибудь лакомого кусочка.
— ты поэтому завел песню о Казире? — спросил он наконец. — Что вообще натолкнуло тебя на такую мысль?
— Тот демон в твоем шатре. И все разговоры о демонах, которые мы обычно ведем.
— Но ведь ты — отчаянный трус, любовь моя. И не боишься пускаться в такой опасный путь?
— С чего мне бояться? Я под защитой твоей светлости. Или темности, если тебе так больше нравится.
— И ты полагаешь, что я смогу защитить тебя от Азрарна?
Олору тонко улыбнулся.
— Кое-кто может услышать, — сказал он и, привстав на цыпочки, прошептал Лак-Хезуру в самое ухо: — Да.
Колдун был польщен. Ему чрезвычайно нравилось воображать себя чем-то вроде земного Азрарна, пусть смертного, но все же повелителя демонов. Темные волосы, кошачьи, светящиеся в темноте глаза, власть над неземными силами, страх мелких людишек, окружавших его. Его изощренная жестокость, вошедшая в поговорку… Все это казалось Лак-Хезуру признаками сходства с Князем Ночи. Из того же тщеславия он часто называл Олору именами тех, кто когда-то пленил Азрарна юностью и красотой. Герцог выпил немало вина, выслушал немало песен — и был распален настолько, что мог бы пойти на любое рискованное предприятие. Так или иначе, но когда-нибудь он все равно вызвал бы Азрарна на поединок, так почему не сделать это сегодня же?
— Сделай с женщинами то, что обещал, и я рискну, — сказал герцог. — Только, боюсь, когда пойдет настоящая потеха, ты побежишь впереди собственного крика. И если это случится, не советую тебе после приближаться ко мне больше, чем на день пути! И о сестрах твоих тоже сможешь больше не беспокоиться. Я о них, гм, позабочусь!
— Может, они только о том и мечтают, — хмыкнул Олору.
Герцог улегся поверх одеял, и юноша вышел из спальни.
Нет, Олору передвигался ничуть не громче, чем его господин. Он скользил вдоль темных коридоров, словно пушинка, подхваченная ветром. В окна, выходившие во двор, он мог видеть — и слышать — пьяное веселье свиты колдуна. Видел он и старого слугу, замершего у двери спальни хозяйки, готового защищать госпожу до последней капли крови. Проходя мимо старика, Олору приложил палец к губам и получил в ответ сдержанный кивок. Миновав коридор, юноша оказался в большой зале. Над миром уже царила ночь, и в зале горели только три тусклые лампы. Так что не было ничего удивительного в том, что вдова и две ее дочери не заметили Олору, бесшумно крадущегося вдоль стенки. Женщины сидели за столом, неподвижные, с белыми лицами.
И тогда Олору заговорил. Он произнес два слова, которые прочел в колдовской книге. Заклинание тотчас же подействовало.
Тихий вздох пронесся по зале. Затем все замерло. Даже пауки застыли на своих паутинах.
Вскоре Олору уже стучался в дверь спальни своего господина.
— Что сперва, мой повелитель, веревка или жаровня?
— давай и то, и другое.
Затем, прямо сквозь запертые двери дома, в залу вступили три тени — одна впереди, две следом за ней. Их призрачная плоть была белее мрамора, волосы — словно паутина, собравшаяся в тугой ком. Свет ламп маслянисто отражался в их черных, как сама ночь, глаз и сверкал на торчащих белоснежных клыках. Их приход сопровождали стоны, крики и плач, но были ли это вопли экстаза или крики агонии, никто бы уже не смог определить.
* * *
Масло в лампах почти прогорело, когда сестры и старая вдова открыли глаза и оглянулись вокруг. Похоже, они задремали прямо за столом. Это само по себе вызывало удивление, но еще больше удивились женщины, когда не нашли в зале никого, кто мог бы их разбудить — всех троих разом, одновременно. Стояла глубокая ночь. Даже пьяные крики во дворе сменились дружным храпом.
— Что здесь произошло? — спросила наконец мать. — Неужели Олору убедил его быть милосердным с нами?
— Не думаю, — сказала старшая сестра. — Олору наверняка даже и не пытался это сделать.
— Тише, — шикнула мать. Поднявшись из-за стола, она долила масла в лампы. Живой теплый свет немного взбодрил всех троих. И тут младшая зашлась криком:
— Мама, взгляни, у твоих ног! И у моих тоже!
— О боги, ну что еще? — воскликнула старая женщина, опуская глаза. Но увидела всего лишь собственную тень на полу. Она пожала плечами, но, переведя взгляд, обнаружила, что ее дочь не отбрасывает тени. Вокруг девушки было ровное пятно света, словно кто-то просто выкрал тень у нее из-под ног.
— Милостивые боги, защитите ее! — прошептала вдова.
— Меня тоже, — не без сарказма заявила старшая дочь. — Потому что моей тени при мне тоже нет.
Это теперь тенью называется просто та часть света, которую закрывает какая-либо форма. Но в некоторых странах плоской земли тень считалась вместилищем души или по меньшей мере той ее части, что имеет какое-то физическое выражение. Тень не была просто тенью. Тот, кто терял свою тень, терял некую часть себя — иначе каким образом свет беспрепятственно проходил сквозь него? И то, что тень исчезала, считалось весьма дурным предзнаменованием.
Сестры, рыдая, бросились к матери, и та утешала их, как могла.
Внезапно старшая подняла мокрое от слез лицо и отчеканила:
— Это делишки нашего братца! Он что-то сделал с нами на потеху своему господину. — Она отерла глаза и пригладила растрепавшиеся волосы. — Скорбь дает дорогу гневу. Я поднимусь к ним и спрошу, чего они хотели добиться, делая это.
— Нет, пожалуйста, дорогая, не ходи, ради нашей же безопасности…
— Нет, я пойду. Ранить плоть уже считается достойным осуждения делом. Но похищать души — это уже слишком! И если будет на то воля добрых богов, я добьюсь от этих двоих правды.
Бедная девушка заблуждалась: уже в то время богам не было никакого дела до человечьего племени. Но, не зная этого, она решительно направилась к выходу из залы. Там она застала посапывающего у порога слугу, обошла его и направилась прямо к парадной спальне. Встав перед дверью, она с силой стукнула по дереву костяшками пальцев и крикнула:
— Немедленно впустите меня!
Ответа не последовало.
— В таком случае я вхожу! — заявила девушка. И, толкнув незапертую дверь, шагнула в спальню.
И в первый момент не узнала ее. Большая комната была залита ярким светом — десятки, сотни белых длинных свечей горели в ней. И тем темнее казались сгустки мрака, что сновали туда-сюда в этом ярком сиянии. И эти призрачные формы не только двигались — они бормотали, бранились, стонали и вздыхали — девушка не знала, заклинания это или просто жалобы на незавидную участь. Волосы у нее на голове приподнялись и зашевелились, жуткий холодок пробежал по спине. Посреди комнаты, в танце теней и света, лежал герцог — неподвижный и бездыханный. Если это и был сон, то очень близкий к смерти. Девушка так перепугалась, что, не глядя, шагнула назад к двери, думая только о том, как бы сбежать из этой ужасной комнаты.
Хоровод теней внезапно нарушился, и к старшей сестре подплыли два призрака. Она вытаращила глаза, потеряв дар речи. Перед ней стояли две призрачные девушки: обнаженные, в ореоле золотистых светящихся волос. Старшая сестра знала обоих. Одна была ее сестра, а вторая — она сама. Сквозь обе тени беспрепятственно проходил свет, озаряя их изнутри мягким сиянием.
— Не бойся, — проговорила призрачная старшая сестра настоящей. — Олору высвободил меня из тебя и Олору дал мне власть сказать тебе об этом.
— Что… что ты такое? — пролепетала девушка.
— Твоя тень. Некая часть тебя, но не ты сама. С моей помощью и с помощью вот ее, — она указала на вторую тень подле себя, — это чудовище, Лак-Хезур, осуществляет свои желания. Ему кажется, что он обладает властью над духом и плотью человеческими, но это не так. Его чары слабы, как молодое вино. Когда мы вернемся к вам, вы даже не почувствуете, что мы отлучались.
— Но ты — моя бессмертная душа! — воскликнула девушка, напуганная еще больше. — Что за гадости он вытворяет тут с вами!
— Нет, мы не души. Души выглядят иначе. Мы — лишь подцвеченный воздух. Позволь, я вернусь на свое место, и ты проймешь, что ничего не изменилось.
— Конечно, возвращайся! — поспешно согласилась старшая сестра, гадая одновременно, не кошмар ли ей снится. Но призрак вошел в нее, едва скользнув по коже, как скользит лунный луч. С великим облегчением девушка увидела, что ее тень снова на своем месте — на полу и стене коридора.
— Теперь иди и приведи сюда ту, которой принадлежу я, — сказала вторая тень, и девушка не без содрогания заметила, что призрак говорит голосом точь-в-точь как у ее сестры.
— Но этот… — сказала она, — указывая на тело Лак-Хезура, простертое на полу.
— Он теперь занят другим.
— Но где же тогда мой брат Олору? — спросила старшая сестра. Вернув тень она успокоилась и вновь обрела ту уверенность, с какой собиралась ворваться в спальню гостя. Но призрак не ответил, только нахмурил брови и притопнул маленькой ножкой — так, как это делала младшая сестра, когда сердилась.
Девушка поняла, что лучшим решением сейчас будет бежать вниз и привести из залы младшую. Мысленно вознеся богам молитву за брата: ведь это он сделал так, что ее тень вернулась к ней в целости и сохранности, — она помчалась в залу, начисто забыв, что именно брат был причиной исчезновения этой самой тени.
4
Но зачем же понадобилось Олору устраивать всеобщий переполох? Что за корысть ему была оставить герцога-колдуна посреди ярко освещенной спальни в обществе белесых призраков? И в самом деле, если Олору сам являлся сведущим магом, зачем же ему понадобилось вовлекать в свою игру Лак-Хезура, который явно не мог справиться с такой задачей в одиночку?
Вниз, вниз, вниз. Мили и мили вниз, за пределы людских земель, за пределы людского понимания. Вниз, к Нижнему Миру, к стране демонов.
Границу этой страны обозначала Спящая река, лениво влекущая свои тяжелые черные воды из ниоткуда в никуда. Берега ее поросли леном, белым, как снег, прямым, как путь вниз. Здесь, на этих льняных берегах часто слышался лай и шум погони: это кроваво-красные гончие ваздру преследовали беспомощную дичь. Добычей им служили не львы и не олени; собаки гнали вдоль черной ленты реки души спящих людей, и те с криками бежали прочь. И хотя это были души всего лишь смертельно больных или безумцев, ваздру искренне наслаждались погоней. Впрочем, пойманную рыдающую дичь всегда отпускали — охотников гораздо больше интересовал сам гон, нежели добыча. Теперь же охоты устраивали редко — равно как и другие увеселения: танцы, игры, праздники любви. Драхим Ванашта притих, словно пораженный страшной болезнью. Даже молоты дриннов, этих кузнецов и ювелиров Нижнего Мира, с некоторых пор стучали реже и тише. Всякая тварь, ползучая или крылатая, певчая или безголосая, всякий родник с чистой звонкой водой, всякий цветок словно закутались в траурные вуали. Тише был щебет, бледнее краски; всяк старался залезть поглубже в свою норку. Азрарн страдал, и вся его земля страдала вместе с ним.
И все же, пусть притихший и поблекший, Нижний Мир по-прежнему переливался красками, которые не снились ни одному человеку. Столетия назад Казир — при помощи колдовства, разумеется, — пересек Спящую реку. Он отправился сюда, чтобы в одиночку сразиться с самим Азрарном. Но, хотя Олору тоже был поэтом, ему показалось слишком опасным пускаться в такой путь одному, и он прихватил с собою Лак-Хезура. И какие же песни сложат потом об этом! Вот как искушал он своего повелителя, и тот не устоял.
Обычно смертные не могут проникнуть в мир демонов, если только те сами не расчистят им путь. Для того, чтобы попасть в Нижний Мир, поэту следовало заручиться помощью могущественного колдуна. Легенды говорят, что Казира сопровождала сюда сильнейшая магия. Олору же решил просто прихватить мага с собой.
Дело в том, что в Нижний Мир может попасть только душа человека, его астральная субстанция, нечто гораздо большее, чем простая игра теней и света. И хотя она похожа на тень человека, душа в таких странствиях сохраняет все знания и умения своего хозяина, какими бы они ни были.
Видимо, умения и знания Лак-Хезура показались Олору вполне достаточными для такого путешествия. А вот уж за то, что привело сюда кичливого колдуна, Олору не в ответе. По его мнению, герцога вело то же, что заставляло великого Азрарна целыми днями тосковать в своем пустом дворце. Безумие.
Когда все приготовления были завершены, женщин оставили лежать за столом, словно заснувших пьянчужек, а Лак, воодушевленный вином и лестью своего поэта, взялся совершать все действа, требуемые для извлечения души из тела.
— Но прошу тебя, — умолял его трусливый Олору, — не подвергай тому же испытанию и мою душу. Возьми меня с собой, как Азрарн взял с собой Сивеш — он стал орлом, а Сивеш — малым перышком у него на груди. Ты — повелитель повелителей, а я… я всего лишь цветная отделка на твоем плаще.
Герцог лишь высокомерно улыбался. Пределов его могущества не знал никто, он и сам их, вероятно, не знал. Но то, о чем говорил Олору, было ему, как видно, вполне под силу.
Дыхание магии медленно заполнило спальню, тело Лак-Хезура стало холодно и неподвижно, а душа оправилась странствовать. А Олору исчез. Исчез, не оставив ни малейшей пылинки в ярко освещенной спальне. Ну разве что ресницу на шелковой подушке.
* * *
Воды Спящей реки всегда полны образов, смутных призраков и дымных плодов долгих раздумий. Сквозь эту суетливую, странную толпу не так-то просто пробиться незванному гостю: ведь нет ничего более заманчивого и загадочного, чем чужие сны и грезы. Но колдун и его верный поэт благополучно миновали эту преграду и в конце концов оказались на берегу, поросшем белыми цветами льна.
Встав на ноги, они какое-то время изумленно озирались вокруг, созерцая просторы серебристых лугов и удивляясь свету, исходящему отовсюду и ниоткуда одновременно.
Впрочем, на ноги встал один только Лак-Хезур. Даже здесь, в мире мертвых, его душа выглядела так, как подобает выглядеть душе владыки. Но души Олору он подле себя не увидел. Ни даже единого следа. Хотя, нет, как раз один след и остался: на груди герцога горел мягким светом прозрачный топаз, похожий на те камни, что создают все маги, когда хотят заключить в них демона или просто призрачного слугу. Лак-Хезур вгляделся. Да, это, несомненно, был Олору.
Легенды говорят, что в ясный день блеск драгоценных башен Драхим Ванашты виден даже с берегов Реки. Но это человечьи сказки. В Нижнем Мире нет погоды — ни плохой, ни хорошей, нет даже понятия такого «день». Увидит или нет вновьприбывший свет города демонов еще от самых границ Нижнего Мира, зависит только от его умения видеть. Увидел ли его Лак, так и осталось неизвестным. Но желтый камень, спрятавшийся облачком тумана у него на груди, разумеется, видел все.
Быть может, желтый камень вел колдуна, а, быть может, колдун и впрямь обладал немалой силой. Так или иначе, но оглядевшись, Лак-Хезур уверенно зашагал в направлении города. Его путь лежал через рощи, в которых деревья казались водопадами серебра, стекающими по стволам из слоновой кости. Черные ивы полоскали длинные косы в черной воде, постанывая и бормоча невнятные проклятия. Но герцог не сдерживал шага, чтобы полюбоваться на все эти диковины. Когда чья-нибудь тень или просто обернувшийся живой тварью сгусток колдовства выскакивали на него из-за деревьев, он произносил нужное слово или делал нужный жест, не задумываясь об этом: так спешащий по лесной тропе человек машинально отмахивается от надоедливых комаров.
За рощей их — герцога и его камень — ожидала широкая дорога, мощеная белым мрамором. Вдоль нее тянулась череда изящных тонких колонн. Она вела прямо к городу, и на мгновение Лак-Хезур остановился, не решаясь ступить на ее ровные плиты. Но чем более дерзким будет его вызов, тем большая ожидает его слава, решил герцог и уверенно шагнул меж высоких колонн.
Но едва он коснулся подошвой сапога гладкого белого мрамора, им овладело неприятное, зудящее чувство. Он не раз, когда с любопытством, а когда и с презрением, наблюдал это чувство у других, но впервые обнаружил в себе. Страх. Это оказалось пренеприятнейшим ощущением, тем более, что никакого видимого источника этому страху Лак-Хезур обнаружить не мог. Воздух, прозрачный и звонкий, чуть колыхался над белой дорогой, нигде не слышалось ни звука, ни шороха. Только вдалеке, у самого горизонта, виднелся неясный блик, в который упиралась белая дорога — город демонов. Впрочем, неизвестно, видел его Лак-Хезур или нет. Поэтому герцог стиснул зубы и пошел вперед. Страх не исчез, он рос с каждым шагом, герцогу уже немалых трудов стоило не броситься сию секунду в постыдное, но спасительное бегство. Он даже оглянулся через плечо, словно хотел проверить, свободен ли еще путь назад. И остановился, не веря своим глазам. Белая дорога, по которой он сделал не более двух десятков шагов, тянулась за его спиной уже мили и мили. Это обстоятельство никак не ободрило Лак-Хезура.
— Странная дорога, — сказал он вслух, обращаясь к желтому камню. — Я уверен, что демоны нарочно сделали ее такой, чтобы сбить с толку незваных гостей. Я думаю, имеет смысл вернуться к началу этих плит, чтобы проверить, повсюду ли действуют их странные чары. — И, поскольку никакого ответа не последовало, герцог покровительственно улыбнулся. — Что, моя радость, ты уже в глубоком беспамятстве?
Но подняв ладонь к груди, чтобы накрыть камень, как он, бывало, закрывал глаза Олору, когда тот не желал видеть крови или уродства, Лак-Хезур не нашел самоцвета. Он исчез.
Этому исчезновению могло быть множество объяснений. Герцог сам мог потерять камень, пробираясь сквозь деревья. Его мог стащить один из духов, что приставали к герцогу в роще. В конце концов, панического страха колдуна вполне могло оказаться достаточно, чтобы зыбкая форма вылетела обратно в Верхний Мир, подобно легкому пузырьку воздуха. Но почему-то ни одно из этих разумных объяснений не пришло в тот миг в голову Лак-Хезуру. Он подумал совсем другое. Быть может, его проницательность и в самом деле соответствовала тем льстивым словам, которые он слышал десятки раз на дню. Не найдя камня, колдун в одну секунду понял: его предали. Его каким-то образом обвели вокруг пальца.
На то, чтобы уяснить, какие выводы из этого следуют, Лак-Хезуру потребовалось не более минуты.
И в это самое мгновение сонный воздух Нижнего Мира наконец исторг первый звук. Источник его был еще очень далек от Лак-Хезура, но желание немедленно бежать охватило колдуна с новой силой, ибо он узнал этот звук. К берегам Спящей реки приближалась охота. Герцог ясно различал рога, топот копыт и лай собак, почуявших добычу. Молва гласила, что попасться в зубы своре псов-демонов много хуже, чем оказаться среди стаи голодных волков. Если тот, за кем охотилась свора, успевал очнуться от своего кошмара, он просто просыпался с криком и в холодном поту. Тот же, кто спал слишком крепко, был вынужден спасаться бегством, а лай и тяжелое дыхание псов мчалось вслед за ним по пятам, нагоняя, сводя с ума…
Лак-Хезур, могущественный маг и властелин большого края Верхнего Мира, встал посреди белой дороги и принялся быстро и отчетливо проговаривать заклинание, которое должно было немедленно вернуть его обратно на землю. Но заклинание не сработало. Открыв глаза, он увидел, что по-прежнему стоит посреди белой дороги Нижнего Мира, а из-за каждой колонны несется, терзая ему слух, истошный лай гончих Ваздру. Лак-Хезур взглянул на дорогу и увидел, что над ней клубится темная туча, полная блесток золота и серебра, разноцветных бликов, пронзающих ее, словно маленькие молнии. И эта туча надвигалась прямо на него.
Тогда могущественный маг и властелин Лак-Хезур повернулся и бросился бежать. Он помчался обратно к роще и спасительным берегам Сонной реки. Власть волшебства оставила его, власть герцога Верхнего Мира ничего не значила здесь, в Нижнем. Он стал всего лишь безликой дичью, добычей, полной ужаса и единственного желания: бежать! И он бежал, бежал изо всех сил, а белая дорога все так же ровно стелилась ему под ноги, оставляя рощу и заросшие льном берега столь же недостижимыми для герцога, как и Верхний Мир. Чтобы добежать туда, Лак-Хезуру теперь не хватило бы и столетий. Между тем лай слышался все ближе, словно гончие были готовы вот-вот броситься ему на плечи. Он не смел обернуться и посмотреть, близко ли собаки, но спиной чувствовал их горячее дыхание убийц, жаждущих крови.
Но внезапно, как только и бывает в кошмарных снах, белая дорога оборвалась, а череда колонн сменилась стволами застывших деревьев. Лак-Хезур помчался вперед так, как никогда не бегал. И в тот самый миг, когда его нога коснулась головок серебристых цветков льна, острые когти впились ему в плечи, раздирая одежду, душный запах псины и паленой шерсти обдал лицо. Герцог споткнулся и пропал под нахлынувшей на него волной охотничьей своры.
Красные гончие повалили его на траву у корней огромной ивы. И хотя тело герцога лежало недостижимое для их зубов, под защитой темного дома, в Верхнем Мире, душа злосчастного колдуна истекала кровью, пусть такой же прозрачной, как вода, но все же кровью. Он видел их жуткие глаза, слышал, как лязгают их огромные страшные пасти. Если они сейчас разорвут в клочья тумана его душу, то к утру свита найдет своего повелителя таким же холодным, как вода в Спящей реке.
Герцог уже мысленно простился с жизнью, как услышал над собой чей-то резкий окрик. Повинуясь ему, красная свора отхлынула, оставив свою добычу, перепачканную кровью, землей и травой, в жалких лохмотьях вместо нарядной одежды, униженную и обессиленную. Собаки, виляя хвостами с видом невиннейших щенков, принялись тыкаться в ладони своих хозяев.
Один из них сделал шаг вперед и остановился над истерзанной душой Лак-Хезура, вернее, над тем, что от нее осталось — а осталось, надо заметить, немного. И как ни был затуманен взор герцога, он все же поднял глаза, чтобы взглянуть на предводителя охоты демонов. Тот был высок и худ, с волосами темнее самой ночи, с черными глазами, глубокими, как ночное небо, одетый в траур, подобный бархату звездной полночи. Его красота была невыносима, как пытка, как яд, пролитый в открытую рану. И Лак застонал — громче, чем стонал, терзаемый красными псами, ибо эта красота внушала больший ужас, чем свора адских гончих. Но Азрарн, Князь Демонов, поднял руку, и стон застрял в горле Лак-Хезура.
— Что это еще такое? — проговорил Азрарн. Вопреки ожиданию герцога, в этом голосе слышалось больше брезгливой усталости, чем гнева, и у Лак-Хезура появился проблеск надежды. — Это ведь всего лишь человек. Меня обманули. — Вот теперь герцог услышал гнев, холодный, бешенный гнев, и ему захотелось умереть прежде, чем он услышит этот голос еще раз. — Ты можешь вернуться и рассказать своим братьям, — обратился к нему Азрарн, — что собственными глазами видел Ваздру на берегах Спящей реки.
С этими словами он повернулся и исчез.
Вместе с ним исчезла вся охота. Истерзанная душа герцога застонала снова, и воды Спящей реки поднялись и сомкнулись над ней.
* * *
А где же был Олору, зачинщик всего этого? И что он был такое, если сумел избежать тех злоключений, что выпали на долю его господина? Похоже, подобно Казиру, его предшественнику, этот поэт тоже стремился в Нижний Мир с некой определенной целью. И эта цель предполагала замаскировать свое появление — например, проскользнув незаметным камнем на груди Лак-Хезура, чтобы отвлечь на него охоту Ваздру.
У Олору не имелось души. Поэтому он не мог бесплотной астральной тенью появиться на берегах Спящей реки. Это, однако, не означало, что он вовсе не мог появиться в мире демонов. Ничего подобного. Но Олору отлично знал, что стоит ему оказаться в своем истинном виде в царстве Азрарна, на его голову обрушится весь гнев Повелителя Ночи. Разумеется, Азрарн почуял дерзкого поэта даже когда тот притворился простой безделушкой, и устремился на льняные берега вовсе не за душой несчастного Лак-Хезура. Однако Олору успел исчезнуть раньше появления Князя Демонов на белой дороге.
Пробравшись вслед за герцогом в Нижний Мир, Олору тотчас направился прочь и от Лак-Хезура, и от белой дороги, ведущей к Драхим Ванаште. Город демонов его не интересовал. И по мере того, как он удалялся от Спящей реки, внешний вид его постепенно менялся. Камень трансформировался в тонкий прут, похожий на короткий хлыст. От прута исходило желтое сияние расплавленного янтаря.
Его путешествие длилось часы, годы и столетия. А, быть может, заняло всего несколько минут. Так или иначе, но спустя какое-то время Олору был уже над внутреннем морем. И видел острова, встающие из воды — иные маленькие, иные побольше, поросшие лесом, иные подобные каменному персту, указующему прямо в небо, которое-не-было-небом. Видел разноцветные блики над водой. И наконец увидел тот, единственный остров, лишенный огней и света: остров, окруженный туманом.
Янтарный прутик вонзился в туман, словно лезвие ножа. Миновав эту плотную завесу, он упал к ногам одной из прислужниц-эшв, что сидели в своем вечном ожидании — кого и чего? — на безрадостном берегу.
Будучи низшими, бессловесными демонами, Эшва не обладают ни могуществом, ни хитроумием Ваздру. Но они все же демоны, и потому их природа изменчива и может принимать любые формы. Обычно в мире людей они появляются как прекрасные создания — в зависимости от обстоятельств, мужского или женского пола — с глазами-звездами и длинными черными волосами, в которых играют серебряные змейки. Но с тем же успехом они могут быть водой, дуновением ветра, камнем на морском берегу. Та эшва, у ног которой упал Олору, превратилась в огромный бирюзовый валун — так ей было легче ждать неизвестно чего и тосковать в этом вечном ожидании.
Но в тот миг, когда янтарный прут воткнулся в тусклый песок, камень пошевелился.
Сначала он вытянулся и помягчел — бирюза превратилась в большой ком голубой глины. Этот ком, еще бесформенный, согнулся над неожиданной находкой. Затем из него появилось две тонких, голубоватых руки. Они подняли прутик и поднесли к белому алебастровому лицу, проступившему в глине. На лице тотчас появились глаза.
— Оно живое! — воскликнула эшва. Это восклицание выразилось изумлением в ее глазах, резким жестом руки. Но Олору услышал. И вспыхнул в ответ яркими переливами красок, задрожал, словно осиновый лист на ветру, как будто собирался выскользнуть из пальцев служанки. Та, боясь упустить удивительную вещь, крепко прижала ее к груди.
Все, выходившее за рамки сонного не-бытия острова, казалось его обитателям чем-то знаменательным и необычайным. Неудивительно, что эшва так вцепилась в находку. Эта вещь, свалившаяся на нее из ниоткуда, давала служанке повод без зова появиться в покоях своей повелительницы.
Дочь Азрарна лежала, по своему обыкновению, на шелковой постели меж красных колонн, погруженная в вечное созерцание пустоты. И несмотря на то, что это оцепенение во всем походило на смерть, девушка выглядела прекраснее всех принцесс обоих Миров. Кровь есть кровь, сказал бы любой, кто увидел ее.
Дальнейшие события в земных легендах описываются так: прекрасная служанка ворвалась в спальню своей царственной повелительницы, восклицая: «Взгляните, принцесса! Я нашла на берегу очень странную вещь. И принесла вам, чтобы вы посмотрели и решили, что с нею делать.» Но царственная повелительница даже не пошевельнулась. Служанка ждала ответа почти весь день, стоя на коленях у постели, но так ничего и не дождалась. Тогда она тяжело вздохнула и, проливая слезы по своей госпоже, вновь вернулась к морю, чтобы сидеть на берегу и ожидать неизвестно чего. А янтарный стержень остался лежать подле постели.
Так или иначе, но Олору остался в зале. Один. Вернее, наедине с той, к которой так стремился. Теперь никто не мог помешать ему. Эшвы не представляли для поэта серьезной угрозы, а демоны не заглядывали на туманный остров. Даже Азрарну не могло придти в голову, что кто-то чужой сумеет пробраться незамеченным в самое сердце его страны. К тому же, Азрарн сейчас мчался по белой дороге вслед за сворой красных гончих, натравленных на душу несчастного Лак-Хезура. Истинной целью их был не он, а то, что он принес собой в Нижний Мир. Но Олору к этому времени успел улизнуть.
Итак.
Янтарное сияние начало шириться, разрастаться, обретать форму и контур, пока наконец не превратилось в юношу в богатой и причудливой одежде, с шелковыми золотыми волосами и горящими в полутьме янтарными глазами. Этот обольстительнейший юноша приблизился к постели и взглянул на прекрасную принцессу, погруженную в сон — или в сонное не-бытие, или в медитативный транс, неважно. Последний раз он видел ее еще ребенком. Теперь ее детское очарование сменилось такой красотой, что у Олору на миг перехватило дыхание. Затем он склонился над ней так низко, что пряди его золотых волос коснулись ее щеки. Осторожно и бережно, словно выпивая росу из чашечки диковинного цветка, он тронул губами ее веки, такие выпуклые и прозрачные, что, казалось, глаза девушки смотрят сквозь них. Она не пошевельнулась. Тогда, едва дыша, он поцеловал ее в губы. От этого поцелуя пробудился и зазвучал весь остров, как пробуждается музыка, едва чьи-нибудь пальцы коснутся струн лютни.
И тогда она, конечно же, открыла глаза.
— О прекраснейшая и удивительнейшая из всех девушек, — проговорил Олору так тихо, что едва ли услышал сам себя. — Твой отец ненавидит тебя и предал опале. Но я, твой давний паж и слуга, вернулся к тебе. Быть может, ты помнишь меня?
Синие глаза — что за короткое и пустое слово «синий»! оно означает цвет, но не в силах передать его — внимательно оглядели того, кто утверждал, будто давно знает дочь Азрарна. Губы девушки не шевельнулись ни разу, но взгляд сказал внятно и не без иронии: «Нет, не помню. Но ты можешь попытаться напомнить мне.»
— Верно. Но не здесь и не сейчас. Здесь и сейчас я в большой опасности. Я пошел бы на любые муки ради того, чтобы ты была счастлива. Но если ты хочешь услышать мою историю, вели рассказать ее в более безопасном месте.
Говоря это, он взял ее руки в свои. Она спокойно и отрешенно смотрела на него, даже не подняв головы от подушек. Она не знала, сколь высоко ее рождение, сколь благородна кровь, текущая в ее жилах, но знала, что мать называла ее Завех — «пламя», а отец, пусть и шутя, дал ей свое имя — Азрарна.
Тогда она заговорила. Олору услышал одно-единственное слово:
— Как?
Олору поцеловал ее руки — одну за другой. Она не удивилась, только горькая улыбка тронула ее губы. Сначала о ней всячески постарались забыть, теперь этот гость целует ей руки и умоляет о чем-то. Неужели теперь так будет всегда?
Олору почувствовал эту улыбку и поднял глаза. И начал объяснять, что для него не составит никакого труда избежать всех опасностей, если он будет с ней, потому что она в любой миг может уйти — не только с острова, но и из самого Нижнего Мира. Она снова улыбнулась, на этот раз недоверчиво.
— Нет, это правда, — настаивал Олору. — Только подумай. Он — Азрарн. Но кто такая ты? Ты — дочь Азрарна. — И с удовлетворением увидел, что она задумалась над этим — явно впервые в жизни.
Поднявшись с постели, она принялась расхаживать взад-вперед. Ее длинные волосы шлейфом волочились по коврам. Остановившись, она снова взглянула на Олору. Тот по-прежнему стоял на коленях у постели, но смотрел на нее. Она протянула ему руку решительным и властным жестом. Сжав ее пальцы своими, затянутыми в цветной шелк, Олору повлек ее к выходу. Словно дети, проскакали они по ступеням, выбитым в темном камне, и помчались по мощеной дорожке к берегу.
У моря сидели бестелесными глыбами эшвы. Почти не замедляя быстрого шага, дочь Азрарна пробормотала что-то, и они послушно посторонились с дороги.
Над самой кромкой прибоя клубился туман, накрывая плотным куполом весь остров. Дочь Азрарна сложила из пальцев какую-то сложную фигуру и заливисто свистнула. Это был совсем не тот свист, которым мальчишки Верхнего Мира пугают птиц, получившийся звук вообще не походил на свист, он скорее напоминал трель маленькой серебряной флейты. Она слышала этот звук лишь однажды, когда отец пришел за ней, чтобы забрать в свое царство. Но прекрасно могла его воспроизвести. Она знала, что означает этот свист. Им отец призывал лошадей.
Ее сердце, еще недавно подобное куску льда, теперь билось очень часто, и ровно через семь ударов сгусток мглы прорвал завесу тумана, а прибой вспенился, подняв тучу брызг. Конь, черный, как ночь, с адамантовыми глазами, выскочил на песок и принялся бить копытом, порываясь вновь взмыть в небо.
Дочь Азрарна взглянула на Олору.
— Я готова. А ты?
— А я отныне — всецело в твоем распоряжении. И полагаюсь на твое великодушие. И нет во всем мире иной вещи, которой я отдался бы с большим восторгом.
— О ты, ниспровергатель демонов, — сказала она негромко. Затем вновь сплела пальцы. Она делала этот жест впервые в жизни, но так, как будто ей уже неоднократно приходилось проносить своих слуг через границу между двумя мирами. Олору — или тот, кто скрывался за его личиной, — исчез. Тогда она протянула руку, и на ладонь ей упал желтый топаз. У ее платья не было карманов, она не носила перчаток, а зажать камень в кулаке ей показалось не слишком надежным. Поэтому она сунула его в рот и прижала языком.
Затем вскочила на черного коня. Движение ее коленей сказало ему, куда хочет отправиться всадница. Он коротко ржанул и, вновь пробив пелену тумана, помчался над водой к далекому берегу.
За все время ее заточения ей и в голову не приходило, что уйти будет так легко. Она даже не думала о возможном бегстве. Она просто была оставлена всеми. Этот юноша призвал ее к жизни — и она проснулась. Для того, чтобы совершать какие-то действия, нужно желание. А на острове у нее не было никаких желаний. И неужели так должно было быть всю ее жизнь?
Под ней проносилась страна демонов, она впервые увидела сверкающие башни Драхим Ванашты — и едва не свалилась с коня, разглядывая их. Никто здесь не знал ее. Но зато ее знало все. Вся страна почуяла, что ее покидает дочь Азрарна. Ее конь черной молнией проносился над озерами и рощами — и кристальная вода вздымалась огромными мутными волнами, а над деревьями, за миг до того казавшимися вырезанными из камня, рождался ветер, взметывая вверх их ветви. Каждый тонкий прутик, каждая капля воды пыталась удержать ее, но она отстраняла их, как королева отстраняет суетливых слуг.
Как выглядит выход из Нижнего Мира, она помнила еще с первого своего путешествия — правда, тогда он был для нее входом. Трое врат, наружные — из темного огня, вторые — из голубой стали, внутренние — из черного агата. За ними — разверстая пасть спящего вулкана, ведущая к стране жидкого огня — центр плоской земли, крыша Нижнего Мира.
Она приблизилась к первым воротам.
Перед ее отцом они раскрылись сами — ведь он был правитель этой страны. Перед его дочерью они остались неподвижны, как горные кручи. Черный конь танцевал перед ними, злобно фыркал, но пройти не мог. Она же почти в отчаянье дергала повод, пытаясь успокоить своего скакуна. Всею спиной она чувствовала ту бурю, что поднимается в оставленной ею стране. Но ворота оставались закрыты. Что же делать?
Что-то царапнуло ей язык, словно надкушенная долька лимона. Спрятанный топаз.
Это напомнило ей о чем-то столь забавном, что она затрясла головой, чтобы не рассмеяться и не выронить камень. Ибо хотя отцом ее был Демон, мать ее являлась смертной, более того, родилась в момент прохождения солнечной кометы.
Солнце.
Она произнесла роковое слово, эта девушка верхом на черном коне, произнесла мысленно, но с такой верой в свое право произнести его при надобности вслух, что это прозвучало самым могущественным заклинанием, какое произносилось пред этими вратами. Огненные створки дрогнули, нехотя подали назад, пропуская упрямую девчонку. Та пришпорила коня, направляя его в образовавшуюся щель, хотя тому это не слишком нравилось. Ворота из стали тоже не выдержали слепящего образа в мозгу девочки и распахнулись настежь. Вслед за стальными, не дожидаясь, когда убийственная мысль будет направлена и на них, раскрылись и агатовые створки.
Над девушкой раскрылся туннель, полный мертвой тьмой — жерло потухшего вулкана.
Здесь черный конь замотал головой и стал, как вкопанный. Ему хотелось обратно в золотистый вечный свет Нижнего Мира, он испуганно приседал на задние ноги, визгливо ржал и косил глазом. Она слезла с его спины и позволила скакуну вернуться домой прежде, чем створки ворот снова сомкнутся за ее спиной.
Здесь, у жерла вулкана, ей уже не нужно было спрашивать камень, что делать дальше. Дочь Азрарна подняла руки и подставила ладони холодному потоку воздуха, проходящему сквозь черный зев. Золотой парус, сотканный из этого потока, поднял ее и понес, все выше и выше, сквозь самую высокую на свете печную трубу, из всех, что когда-либо упирались в земное небо.
Это небо оказалось серым, окаймленным голубыми горами в красных коронах. Зрелище было столь величественно, что девушка какое-то время бездумно смотрела на светлеющее небо и только когда над одной из гор показался край золотого диска, она догадалась, что это — рассвет.
Ветер, ее покорный раб, пронес девушку вдоль склона горы и опустил на зеленом холме. Отсюда она могла видеть, как первые лучи выбирают себе путь меж горных круч, озаряя мир золотым живым светом. Она смотрела и смотрела, и понимала, что будет на тысячу лет проклята Азрарном за этот взгляд — она снова оказалась одинокой и отринутой.
Но взамен ей оставались тысячи лет восходов солнца. И зеленая трава, и голубые горы. И все краски земли. Она прекрасно переносила день и солнце, на что, как известно, не способен ни один демон. Однако, будучи человеком лишь наполовину, она все же наполовину оставалась демоном. И потому предпочитала тень яркому свету солнца.
Вынув изо рта топаз, она оставила его на белом валуне, а сама отошла в тень высокой скалы.
Говорят, что на солнце слезы, текшие из ее синих глаз, превращались в сапфиры — она плакала драгоценными камнями. Для людей это были сапфиры, а для нее — настоящие слезы.
Олору подошел к ней, снял подбитый мехом плащ и обернул ей плечи. Поцелуями он осушил ее сапфировые слезы.
— Здесь, в этом Верхнем Мире, моя сила постепенно покидает меня, — сказал он. — Но пока…
Плащ развернулся, и тогда стало видно, что один его край черен, как звездное небо, а другой — сияет солнечным светом.
И зеленый склон холма опустел.
5
Тот же рассвет, что увидела дочь Азрарна, вставал и над домом вдовы. День начинался вполне мирно — спящие у прогоревших костров люди и собаки, фыркающие лошади в стойлах и у коновязи. Первые лучи солнца коснулись черной громады леса, она ожила, из колдовской чащи превратившись в обычный старый лес. Сотни птиц проснулись и запели свои утренние гимны. Но тем, кто проснулся с рассветом во дворе старого дома, было совсем не до песен. С сонным ворчанием они поднимались с земли и шарили вокруг себя неловкими руками — в поисках остатков вина или хотя бы воды. Кое-кто пришел в себя настолько, что заинтересовался, где же все-таки их господин, Лак-Хезур. Еще некоторое время спустя благородные господа уже колотили во все окна и двери дома, выкрикивая проклятия и насмешки: неужели груди здешних девственниц столь холодны, что они заморозили бедного герцога насмерть?
И поскольку никакого ответа на их справедливое требование видеть господина дано не было, они взломали двери и всей ватагой ворвались в дом. Здесь они услышали новую песню.
Но эта песня не имела ничего общего с утром и солнцем. Древняя, как людской род, она могильным холодом вползала в уши. Свита остановилась, мгновенно забыв о насмешках. «Что, что это такое?» — спрашивал каждый. Такие стоны и крики мог издавать разве что безумец. «Опять этот Олору дурачит нас!» — решила свита герцога. А раз так, значит и с герцогом все в порядке. И люди поспешили выйти из мрачного темного дома во двор, где светило солнце и пели птицы.
Но едва они сделали это, как где-то наверху, на втором этаже, распахнулись ставни окна, и в проеме возникла человеческая голова. В первый миг никто из ловчих и свиты не мог узнать этого лица. Выпученные глаза, перекошенный рот со струйкой крови, стекавшей изо рта говорили, что перед ними настоящий безумец. Человек в окне был гол и изранен; завывая, как волк на зимнюю луну, он еще больше раздирал себе ногтями лицо и грудь. И только по пепельно-серым длинным волосам изумленная свита опознала наконец своего господина.
Издавая невнятные, весьма похожие на стоны безумца, вопли, люди кинулись прочь. Многие вскочили на лошадей и тотчас умчались за ворота. Иные просто застыли от изумления, не в силах пошевельнуться. Кто-то неуверенно обратился к герцогу по имени — и тотчас пожалел, что сделал это. Жуткая тварь в окне завыла еще громче, вылезла на карниз и стала спускаться во двор прямо по стене.
Этого не смог уже вынести никто. Лак-Хезур, и в здравом уме не отличавшийся милосердием, сделался безумен и, несомненно, разорвет на куски всякого, до кого доберется.
Во дворе не осталось ни одной лошади. Вся охота отбыла так же шумно и стремительно, как и явилась накануне.
По дороге в город люди несколько пришли в себя. Нашлось даже несколько светлых голов, сообразивших, что именно следует рассказать в столице. Было решено объявить, что Олору и его домашние оказались колдунами. Причем такими могущественными, что сумели победить самого Лак-Хезура. Пусть об этом помнит каждый и опасается даже на милю приближаться к дому Олору, к самому Олору, к его ведьме-матери и девственным сестрам. Ибо что могут смертные противопоставить столь сильным чарам? (Эти соображения подтверждались еще одним фактом, который из-за паники все упустили из виду, зато вспомнили теперь. Молчаливые телохранители Лака не пришли ему на помощь. Хуже того, они просто стояли во дворе, словно каменные болваны. Если даже эти демонические создания оказались бессильны против Олору и его присных, то простому смертному лучше вовсе не пытаться вставать у них на пути.)
Что же до самого герцога, то последний уезжавший со двора всадник видел, как тот, плача и стеная, бежал к черной стене колдовского леса. А всем и каждому в городе было известно, что за странные создания бродят там. Герцога околдовали и теперь он стал еще одной тварью в черной чаще, и кто осмелиться искать его там, где вода озер превращает людей в чудовищ?
— Что же мы можем поделать? — снова и снова сокрушались всадники. — Мы всего лишь обыкновенные люди.
Это означало, что они слишком дорожат своими шкурами, чтобы пускаться на столь опасные, а, главное, никому не нужные подвиги.
В это время домашние Олору, трое женщин и старый слуга, сидели в потайном погребе под большой залой, завалив каменную дверь бочками и всяческой рухлядью. Они сбежали туда, едва услышали крики во дворе и стоны в верхних покоях. И оставались до тех пор, пока все не стихло.
Наконец старшая сестра и старый слуга отважились выйти, чтобы посмотреть, убрались ли наконец беспокойные гости. И обнаружили настоящий погром во дворе и в доме. Но сами разбойники исчезли все до одного. И все же успокоились хозяева только обыскав весь дом от погреба до самой крыши. Солнце щедрым потоком вливалось в окна, на уцелевших в саду деревьях щебетали птицы. Один только лес с его обитателями, несомненно, знал, что случилось с герцогом, который оказался безумен настолько, чтобы бросить вызов Ваздру в их собственном царстве.
После того, как женщины и слуга прибрали во дворе и в доме, о посещении Лак-Хезура напоминало только одно: каменные изваяния, застывшие у ворот вечными стражами. Они выглядели столь живописно, что вдова решила не убирать их, хотя понимала, что появление окаменевших воинов как-то связано с визитом герцога. Но до этого ей не было никакого дела. Об ином она вздыхала и роняла слезы.
— Он снова оставил нас, — повторяла она. — Мой сын, мой Олору. Он ускакал со своим господином, не сказав мни ни слова на прощанье.
— Зато он избавил нас от прощания с Лак-Хезуром, — резонно заметила старшая сестра. — И от его чар тоже. И пусть только теперь кто-нибудь попробует сказать при мне, что мой брат — ни на что не годный бездельник.
— Нет, он хороший сын, — кивнула вдова, вытирая слезы. — Взгляните только на эти камни и золотое шитье плаща герцога, что он оставил нам в награду. Мы снова заживем безбедно, ни о чем не печалясь. И это все сделал мой сын. Он не бездельник, просто у него мягкое сердце. Но как бы я хотела, чтобы он остался с нами! Я отдала бы все камни на свете за то, чтобы он сидел вечерами у нашего очага! Такая жизнь не для него.
— Кто знает, — проговорила младшая сестра. — Быть может, однажды он пресытится такой жизнью и вернется к нам.
6
Эта поляна могла находиться в том самом лесу, где охотился накануне Лак-Хезур, или в любом другом лесу Верхнего Мира. Во всяком случае, это был очень темный и старый лес, не чуждый колдовства и коварства. Ясным днем солнечные лучи лились в каждую щель в его зеленой крыше, поэтому поляна казалась залитой струями золотого дождя. В лунную ночь дождь становился опаловым.
Это было самым лучшим местом для того, кто предпочитал сумерки полудню и старался не подставлять лицо прямым солнечным лучам.
* * *
Закат. Если сравнивать его с дождем, то это был коралловый дождь.
Синеглазая ведьма сидела на берегу пруда, глядя на свое отражение меж белых лилий. Вода лесного озерца вечно пребывала в беспокойном движении — сюда впадал шумный родник, и дочь Азрарна никак не могла разглядеть своего облика в этом изменчивом зеркале. Ясно видны были только глаза, огромные и синие. Ей внезапно пришло в голову, что в детстве они были прозрачнее и светлее, похожие скорее на синие льдинки. «Ничего удивительного, — подумала она. — Я расту, и мои озера становятся глубже.»
На другой стороне озера, близкой, как дом на соседней улице, приподнявшись на локте, лежал он, ее страж, ее волшебный принц, пробудивший поцелуем спящую красавицу. Это он принес ее сюда на своем плаще. Но плащ лежал, скомканный, на земле и казалось, что часть золотоволосого юноши исчезла из виду вместе с подкладкой этого плаща. Она смотрела на него и не могла вспомнить никого похожего. Все лица, мелькавшие перед ней в бесконечном хороводе, пока длилось ее земное детство, казались либо слишком обыденными, либо слишком старыми рядом с этим лицом.
Так они провели в молчании несколько часов или даже дней, эти двое беглецов из Нижнего Мира. Наконец она, не выдержав, выпалила:
— Что ж, мой прекрасный похититель, не назовешь ли ты мне наконец имя?
Но он только поклонился в ответ, очаровательный, остроумный Олору, и ответил не без насмешки:
— Сначала скажи, кто ты такая, чтобы я знал, как называть тебя?
— Ты знал меня, ты говорил об этом.
— Я? Разве что во сне или в бреду…
— И теперь ты, надо думать, видишь не меня, а новый ночной морок?
— Я помню только, что нашел тебя, как Казир нашел Феразин, цветок, росший в тени. Но все остальное — нет, я не помню.
— Почему? — спросила она, и глаза ее стали такими, какими были в детстве: две холодные льдинки, два твердых сапфира. Подобные остриям кинжалов голубой стали, — такие, какими он видел их в святом городе Белшаведе, день спустя после гибели ее матери. Но Олору не вспомнил ни Белшаведа, ни того рокового дня. Поэтому он лишь грациозно пожал плечами:
— Почему? — переспросил он. — А почему бы и нет? Прости, я немного сумасшедший и потому часто занимаюсь настоящей ерундой. Спроси кого хочешь.
— Да, — молвила она, — весьма недурно — забыть самого себя. Зато вспомнила я. Ты тот, кто убил мою мать своей ерундой. Так почему бы мне не вспомнить о мести и не покарать тебя за это, как хочет покарать тебя мой отец? Он будет вечно гнать тебя до края мира и дальше, я слышала, как он поклялся в этом, глядя тебе в лицо. Вернее, в обе половины твоих двух лиц, которые рано или поздно вернутся взамен этого юношеского облика. А поклявшись перед тобой, он затем поклялся передо мной и унес меня в свое царство. Но затем убрал меня с глаз долой и забыл обо мне, как будто я ничего не стоящая вещь. Ни там, ни здесь. — Она, наполовину человек, наполовину ваздру, протянула руку и коснулась лепестков белой лилии. — О, мои возлюбленные родители, — произнесла она, и лилия задрожала от этих слов, — той ночью, когда Данизель умерла и оставила меня без защиты и поддержки, она искала Азрарна. Ее дух пришел к нему и обернулся плотью ради него, и та ночь была ночью их любви. Как я могла вмешаться тогда? Что я была им тогда? Ничто. Он сотворил меня для того, чтобы поставить в центр своего замысла, но утратил к нему интерес. А она — она носила меня под сердцем, но исторгла прочь… Когда я была ребенком, — говорила девушка, сидевшая на берегу лесного озера, — Данизель рассказывала мне множество сказок. Пребывая в ее утробе, я уже слышала ее голос, мелодичный, как песня звезд. Но даже для нее я была лишь чем-то, принадлежащем ему, а он всегда ненавидел меня.
— Твои глаза лишают меня разума, — прошептал Олору.
— Ну так оставайся безмозглым, придворный шут, — ответила она гневно. — Играй свою роль, а я предоставлю тебе гадать, предам я тебя когда-нибудь или нет.
Олору замолчал, и она продолжала, тихо и почти угрожающе:
— Он называл меня Азрарной, чтобы все знали, что я принадлежу ему. Но я — не вещь. Она дала мне имя, мое первое имя, Лунное Пламя, Завех. И хотя теперь у меня больше нет матери, я лучше буду принадлежать ей, а не ему. И потому буду зваться Завех.
— Твои глаза, — пропел Олору, — сжигают плоть с моих костей. Твои глаза убивают меня.
— Ну так умри, как будто ты можешь умереть.
— Когда я стану мертвой золой у твоих ног, подумай вот над чем. Ты — колдунья, и как бы ты не назвалась, твое имя должно говорить об этом.
Она искоса взглянула на него и кивнула.
— Хорошо. Азрарна имеет нужный слог, но я все же не хочу брать это имя. Значит, «аз» или «эйз». Тогда пусть будет Совейз. Это напоминает мамино имя и означает «огненная ведьма». Да, отныне я — Совейз.
— Совейз, ты прекрасна, — сказал Олору. — Ты подобна вечерней звезде, гиацинту, превосходящему небо своим нежно-лиловым цветом, подобна серебристым лучам луны.
— Быть может, и так, — ответила Совейз без улыбки. — Но мне кажется, ты дурачишь меня.
Сказав это, она замолчала. Слова все еще казались ей чем-то лишним, чем-то разбивающим безупречное зеркало тишины.
Нагнувшись над водой, она опустила в озеро концы своих длинных локонов. Лилии застенчиво посторонились от этих черных змей, колышущихся в мелкой ряби озера. Совейз могла бесконечно наблюдать игру лунных и солнечных бликов меж изящных, похожих на лебедей, лилий. Так сидела она какое-то время, полоща концы волос в холодной озерной воде, — быть может, семь или восемь часов, — пока многоголосую тишину леса не нарушил резкий, еще далекий звук. Именно этот звук не так давно заставил насторожиться злосчастного Лак-Хезура. Лай гончих, приближающихся с каждой минутой со всех сторон разом.
Та, что теперь называлась Совейз взглянула на своего спутника. Невозмутимый и прекрасный, Олору спал. Между тем звук охоты нарастал, заполняя испуганный лес. Казалось, он сгибает и ломает ветви, выдирает с корнем шелковую траву. Ни одно живое существо, будь то лист или зверь, не могли притвориться, будто не слышат этого звука. То, что Олору продолжал спать, являлось наивысшим притворством. Она готова была убить его за это — и одновременно искренне восхищалась им. И в то же время думала: «Эта охота Азрарна — не за мной. Что за удовольствие ему охотиться на меня? Он, наверное, даже еще не знает, что я убежала из своей золотой клетки. Он не заглядывал туда годами, не заглянет и теперь. А даже если и заглянет, просто пожмет плечами. Я — ничто для него. Нет. Он ищет что-то другое.»
И она легонько пнула в бок это «другое», когда обходила озеро, чтобы оказаться в центре прогалины у его берега.
Она была Ваздру, эта девушка, в ее жилах текла кровь Повелителя Ночи. Вся сила ее была с ней. Когда свора красных гончих приблизилась настолько, что помимо лая можно было различить тяжелое дыхание и повизгивание огромных псов, поляна и озеро пропали, как пропадает пламя, соприкоснувшись с водой. Искусству Совейз позавидовал бы любой земной маг. Даже Азрарн, проносясь со своей дикой свитой по лесу, не заметил ничего, хотя и обернул голову на что-то, как ему показалось, мелькнувшее меж деревьев. Это был блеск ее синих глаз — но она вовремя смежила веки, и отец проскакал мимо. «Меня здесь нет, Азрарн, Повелитель Повелителей. И его тоже нет здесь, этого другого Повелителя, которого ты ищешь.»
Охота промчалась по лесу стремительно, словно буря. Конский скок и лай постепенно стихли вдали. Дальше, дальше, прочь из этого леса, прочь из этого мира.
А Совейз вернулась к озеру. Долго-долго стояла и смотрела она на Олору, который назвал ее Вечерней Звездой.
— Ну вот, он, как и обещал, гонится за тобою. Он знает, что ты осмелился вступить в его земли, глупец и безумец. И он был сейчас очень близко от тебя. Скажи, ты все еще боишься своего не-брата? Ладно. Я не выдала тебя. Похоже, нам предстоит стать друзьями.
Она улыбнулась и присела рядом.
— Что? — сонно спросил Олору, приоткрывая один янтарный глаз.
— Я сказала: глупец и безумец, — повторила Совейз. — Только глупцы и безумцы забывают сами себя. Может быть, он никогда не найдет тебя. Но сейчас, нежный мой паж…
Она взяла его руки в свои и внезапным и резким жестом сдернула обе шелковые перчатки. Олору уставился на собственные ладони.
Левая его рука имела безукоризненную форму, но была серой, словно вода северной реки. Большой палец оказался черным, а длинные ногти — окрашенными в ярко-красный цвет. Олору поспешно зарыл руку в траву, чтобы не видеть всего этого. Но оставалась еще правая рука. Ладонь ее казалась сделанной из бронзы, а четыре пальца извивались и шипели четырьмя маленькими змейками. Большой палец был из темно-синего камня.
Олору застонал, и вскочив на ноги, начал описывать круги по поляне, словно кошка, к хвосту которой привязали колокольчик. Он пытался стряхнуть с себя ужасную руку, но она, разумеется, оставалась при нем, и змеи извивались и шипели, лязгая крохотными зубами.
Обезумев от ужаса, бедный юноша бросился напрямик сквозь чащу леса, сам не зная куда.
Совейз не стала ждать, когда пройдет этот припадок, она бросилась за ним через лес, быстрая и легкая, как оленуха. Меньше чем через минуту догнала она его и схватила за шелковый рукав. Олору остановился, прижался лбом к ближайшему дереву и заплакал навзрыд, как ребенок, содрогаясь всем телом, призывая на помощь всех богов Белшаведа.
— Боги? — переспросила Совейз. — Кому как не тебе знать, что им нет дела до людей. Да какая тебе нужда в богах?
— Ты… ты наложила на меня какие-то чары, да? — спросил Олору дрожащим голосом. — Молю тебя, сними их!
— Чары? Это ты мне говоришь о чарах? Посмотри на них, это твоя плоть и кровь! Неужели ты не вспомнишь наконец?
Олору снова взглянул на свои руки. На красные ногти и живых змей. Затем прикрыл свои янтарные глаза и сполз по стволу на землю с видом полнейшей обреченности.
Она хохотала целое мгновение, эта ведьма Совейз. Но смех ее вскоре стих, уступив место какому-то новому чувству, для которого она еще не знала имени. Умолкнув, она вновь опустилась рядом с Олору. Она прижала его к себе. Всей кожей она почувствовала в своем «нежном паже» искусителя, умелого игрока, настоящего врага наконец. В эти секунды смятения она почти поняла своего отца. Но это прошло.
* * *
Жил да был на свете благородный юноша, отважный, но бедный. Он жил в заброшенном старом доме со своей овдовевшей матерью и юными сестрами. Дом этот стоял почти у самого леса, куда юноша часто ходил охотиться, взяв с собою одного только старого слугу, потому что больше взять было некого. И однажды слуга отстал от своего господина и потерял его в этом черном лесу, и звал его и метался среди деревьев. Но господин пропал. И появился только на закате, вынырнув из пасти колдовского леса, про который ходили разные жуткие слухи.
Когда-то имя этого юного охотника было Олору. Но он лишился своего имени. Иное имя выместило его. Иное имя проросло сквозь старое, детское, как вылезает змея из старой шкуры.
А произошло это вот как.
Он никогда не был жесток, тот старый Олору, со зверьем и любой живой тварью в черном лесу. Он охотился только ради еды, потому что шестой за их столом всегда восседала незваная гостья, госпожа Голод, и если Олору не приносил что-нибудь из леса, тарелки его домашних часто оставались пусты.
Так или иначе, но Олору забивал молодых и глупых оленей, ставил силки на неосторожных кроликов, стрелял на озерах диких уток.
А лес наблюдал за этим с неизменной настороженностью. Это был колдовской лес. Всяк в округе знал это. Один только Олору не обращал внимания на россказни кумушек. Он так часто бывал в самом сердце этого леса, к тому же его дом стоял чуть ли не опушке. Как мог он предположить, что лес захочет украсть у него имя, а заодно и душу?
Итак, одним прекрасным утром старый Олору поднялся вместе с птицами, разбудил слугу и отправился в лес. Он шел, негромко напевая, пребывая в наилучшем расположении духа, поскольку не видел ничего дурного в том, что делал, и никак не думал, что это может показаться дурным кому-то еще. Нырнув под темный зеленый полог, Олору почувствовал неожиданный холод, словно вся лесная роса внезапно превратилась в снег. Оглянувшись, чтобы спросить у слуги, почувствовал ли он то же самое, Олору обнаружил, что остался один. За его спиной, там, где только что была тропа, сплошной стеной стояли деревья. Казалось, весь лес превратился в одну гигантскую стену. Олору оказался заперт в огромной высокой башне из тесно сомкнутых стволов — или чего-то еще более древнего, спавшего до поры до времени, пока чьи-нибудь чары не вызовут его из самых черных глубин леса.
Олору, конечно же, сильно испугался. Но старого Олору никто не мог бы назвать трусом. Уперев руки в бока, он поинтересовался, известно ли лесу чувство справедливости. И тотчас получил ответ: да, известно.
Откуда-то извне поднялся рокот, и в башню хлынула вода. Олору никогда не пил из источников и озер леса, просто не имел в том нужды. Но сейчас ему подумалось, что, видимо, следует испить от того ключа, что забил внезапно у него под ногами. Повинуясь скорее звериному инстинкту, чем голосу разума, Олору нагнулся над водой и зачерпнул ладонью. Вода оказалась холодной и сладкой на вкус. Но если над ручьем нагибался человек, то от ручья поднял голову рыжий лис. Крутя хвостом, он принялся танцевать со своей тенью, подтявкивать и подвывать от избытка жизненных сил. Лес расступился, и зверь прыгнул в чащу. Все человеческие качества оставили его, он и не помнил, что когда-то был человеком. От одного глотка воды до другого им обоим суждено было пребывать в неведеньи относительно друг друга. Так что для Олору это никак не могло считаться наказанием. Вернее, старый Олору, вероятно, был бы в отчаянье, но новый Олору вовсе не считал такие вещи поводом для печали. Славный рыжий лис больше никогда не вышел из темной чащи, прожил жизнь, достойную лучшего из лисов и в положенный день мирно скончался, оплакиваемый своей подругой, самой красивой лисицей во всем лесу.
Итак, Олору не был наказан. Наказана была его оболочка, лишенная души. Она осталась подле ручья, невидимая глазу простого смертного, но явная для любого, кто кое-что смыслит в подобных вещах. В лес вошел юный охотник, лес обернул его рыжим лисом. Но запах, память, некое астральное тело — или, быть может, все это вместе, осталось легкой дымкой над волшебным ручьем. И если бы любая живая тварь подошла к этой дымке достаточно близко, она, сама того не особенно желая, приняла бы в себя эту страдающую без души оболочку.
Так случилось, что тварь подошла. И тварь эта была достаточно живой, чтобы умертвить множество менее живых тварей.
Чуз, Князь Безумия, слонялся по земле, нигде не находя себе пристанища. После его последней встречи с Азрарном он был несколько не в форме — в буквальном смысле этого слова. Во всяком случае, эта встреча заставила его кое о чем задуматься. Данизель, возлюбленная Князя Демонов, погибла из-за выходки Чуза. Само по себе это ничего не означало, разве что еще одну смерть. Но вот что интересовало Чуза: являлась ли эта выходка обдуманным действием или он сделал это в припадке безумия? Но никто, кроме него самого не мог судить о его разуме — или отсутствии такового. Снова и снова вспоминал он слова Азрарна, полные гнева и горечи. Боялся ли Чуз его угроз? Конечно, он сам являлся Повелителем, но в отличие от Князя Демонов, не располагал таким количеством сил, как все Ваздру и Эшва вместе взятые. Кому бы ни досталась победа в их схватке, она будет добыта немалой ценой. Эти соображения заставляли Чуза держаться пока подальше от владений своего возлюбленного не-брата.
Одно время было принято считать, что все Повелители Тьмы не выносят земного солнца, оно якобы оставляет на их теле ожоги, и даже может испепелить. Но в полной мере это утверждение было верно только относительно Азрарна, ибо он не признавал иного обличья, нежели тело Демона. Конечно, остальные три Повелителя тоже предпочитали ночь и сумерки для своих козней и игр. Именно поэтому тем жарким днем Чуз оказался в прохладном лесу, наслаждаясь его сумрачностью и колдовством, которым здесь был пропитан каждый лист. Так иной человек наслаждается ароматом цветов в пышном саду. И, как запах особенно изысканного цветка, привлек его запах превращения Олору. Найдя у источника покинутую оболочку, испуганную и растерянную, он подхватил ее, как воришки подхватывают с веревки платье, вывешенное для просушки. Весь день он устраивался заново в этой неожиданно подаренной ему лесом личине, и к закату уже был готов выйти в мир людей.
Ему, несомненно, сказочно повезло. И его тело, и его душа имели по крайней мере половину, принадлежащую самому красивому существу на свете. К тому же, он давно научился прятать от людей безобразную сторону своего лица — совсем недавно он блистательно продемонстрировал это в Белшаведе. А даже первый Олору был, несомненно, красив. К тому же имел поэтическую, нежную натуру, а все поэты и мечтатели — немного безумцы. Чузу оказалось так просто вжиться в это юное, красивое тело с оленьими глазами, что он почти не заметил разницы. И почти не заметил, как превращаясь в Олору, он действительно превратился в Олору. Чуз забыл, что он — Чуз, Князь Безумия.
Прежде неутоленная жажда мести Азрарна могла учуять не-брата за сотни и сотни миль, поскольку каждый из Повелителей Тьмы оставляет в мире свои, отличные от других, следы. Теперь же на месте Чуза был Олору, всегда только Олору. И никто, кроме самого Чуза, не знал, что скрывается за янтарными глазами юноши. Но Чуз тоже забыл об этом.
Правда, время от времени демонические существа чуяли в Олору нечто, близкое к ним самим, особенно ночной порой. Иногда они даже подходили поближе, чтобы убедиться в своих подозрениях. Но перед ними каждый раз возникал молодой смазливый бездельник, обожающий развлекать и пугать друзей дурацкими шутками. Импульс, исходивший от Олору, состоял из ощущения молодости, неудовлетворенности в любви, нервозности и желания денег и славы. А все эти качества могли соответствовать только смертному. И заинтригованный демон тотчас терял к нему всякий интерес и отправлялся дальше по своим делам.
Тоска и скорбь Азрарна тоже оказались на руку Чузу. Давно он уже вынашивал один довольно-таки дерзкий план, и в тот миг, когда новый Олору вышел из леса, этот план, до тех пор весьма неопределенный, начал превращаться в четкую последовательность конкретных действий.
И потому вплоть до самого появления Чуза в Нижнем Мире Азрарн не вскидывал голову, шумно втягивая воздух, словно волк, почуявший оленя. А когда наконец очнулся и бросился в погоню, его дичь успела улизнуть, подставив вместо себя герцога-колдуна. Камнем у него на груди перенесся Чуз в Нижний Мир и, оставив запах своего недавнего пребывания при господине, помчался прочь. Но даже проделывая все эти превращения, он верил, что сам он — просто Олору, придворный поэт и шут.
Чуз, конечно же, мог бы обойтись и без Лак-Хезура, сотворив силой своей магии некую абстрактную душу, которая отвлекла бы внимание Ваздру. Но Олору не имел подобной власти. Чуз, будь он в собственном теле, никогда не осмелился бы вот так просто взять и войти в Нижний Мир — это было бы безумием за пределами даже его безумия. Но Олору не видел во всем этом и сотой доли тех опасностей, о которых знал Чуз.
Когда чары начали ткать свою мерцающую паутину, Чуз-Олору, бессмертная сила и смертная плоть, устремились вниз желтым топазом. Будучи Повелителем, Чуз не имел души в человеческом смысле этого слова. Он сам был — чистая энергия, заключенная в обманчивую оболочку плоти.
Все действия Олору, вплоть до путешествия через внутреннее море к туманному острову, могла показаться чистейшим безумием. Но, конечно же, таковым не являлись. Более чем за год до этого, в тот миг, когда принимал на себя человеческую личину, Чуз отложил в полусонное сознание юноши внятный приказ: разыскать себе господина, сведущего в магии достаточно, чтобы спуститься в Нижний Мир, и соблазнить его. Заставив господина отважиться на путешествие в страну Демонов, разыскать там всеми забытого ребенка: отверженную дочь Азрарна, дитя погибшей Данизель.
На самом деле — хотя девушка вряд ли знала об этом, — она составляла единственную цель второй жизни Олору. Найти ее и увести прочь из Нижнего Мира — вот то единственное, ради чего напяливал на себя Чуз новое лицо.
С самого начала эта девушка притягивала Князя Безумия. Он смотрел и смотрел на нее целыми днями еще тогда, когда она мирно дремала в материнской утробе. Он не раз говорил Данизель и ее возлюбленному, что намерен стать добрым дядюшкой этому ребенку. Конечно, подобные заявления принимались Азрарном с тою же охотой, с какой лошадь принимает удары кнута. И Чуз, разумеется, знал об этом. Но он хотел, хотя тщился желать обратного, он принял чуждый облик Олору, чтобы забыть о своем желании — хотел быть рядом с дочерью Данизель.
Он говорил себе, что поскольку сам он — один из четверых, его притягивает все, что имеет отношение к этим четверым. Но на самом деле его притягивали самые разнообразные вещи — к примеру, рыжий лис с еще не выветрившимся запахом человека. Его притягивал и Лак-Хезур, самовлюбленный колдун, безумие которого было с самого начала очевидно Чузу. (Надо сказать, он потратил немало сил, чтобы оно стало очевидно и всем остальным.) Так быть может, дочь Азрарна просто являлась еще одним таким магнитом?
И да, и нет. Ибо в тот миг, когда он встал на колени перед ее постелью, он начал вспоминать себя. Его поцелуй был полон памяти о тех, бестревожных солнечных днях, когда она ребенком играла на крышах храмов Белшаведа. И разве иной поцелуй мог бы пробудить ее?
Бегство из Нижнего Мира, головокружительный полет навстречу восходу — все это были подвиги Чуза, не Олору. Но здесь, на поляне у земного озера, демон вновь отошел назад, уступив тело и сознание истинному владельцу. Но не навсегда. Ни одна шкатулка не удержит дыма, ни один демон не сможет скрываться под личиной смертного, не выдавая себя. Достаточно было Чузу один раз взять верх над человеком, как тело Олору изменилось. Под перчатками оказались руки Князя Безумия.
И теперь этот Чуз-Олору сидел на земле, всхлипывая и вздрагивая от вида собственных ладоней. Повелитель Тьмы содрогнулся, заглянув в собственное лицо. Впрочем, кто бы удержал крик изумления и испуга, заглянув внутрь себя самого?
А рядом с ним, обнимая его за плечи, сидела девушка-демон, его приз в безумной игре. Она прекрасно понимала, что творится сейчас на душе ее нежного пажа. И просто сидела рядом, наслаждаясь теплом юного тела того, кто бы старше корней гор.
7
Полночь. На землю, пробиваясь сквозь зеленую крышу, лился дождь. Обычный мокрый дождь из темной тучи. Но каждая капля влаги, осевшая на ветвях и кончиках листьев, светилась, словно маленький бриллиант.
Ресницы Совейз тоже были влажны от дождя. Она подняла веки, чувствуя, как влага затекает в глаза, — и увидела, что Олору тоже не спит и смотрит прямо на нее.
— Кажется, какое-то время я все-таки был мертв, — пробормотал он, не отводя взгляда. Умытый лес сиял, как будто его заполнили сотнями светляков. Каждый пень блестел россыпью мельчайших огоньков, а белые лилии поднимались из воды как короны бледного пламени. В этом калейдоскопе огней казалось, что от Совейз тоже исходит тихое, едва различимое сияние. Олору взглянул на себя в свете этой необычной лампы.
— Я… кажется, спал, — проговорил он, поворачивая так и эдак свои тонкие белые руки, рассматривая каждую черточку на сгибах холеных пальцев. (Совейз, разумеется, сумела восстановить целостность своего поэта — ей вовсе не хотелось новых слез и испуганных выкриков.) — И рад, что Повелитель Смерти не оставил меня навечно своим гостем. Я явился к нему за временным пристанищем, не более. У него и так достаточно постояльцев, моя синеглазая Совейз. Но они продали ему свои души на тысячи тысяч лет. Смерть, — добавил он задумчиво, — не ходит там, где все и так мертво. Она не посещает земли богов. И земли демонов тоже обходит стороной. И даже те существа, что видят свою смерть в стране Азрарна, видят не смерть, а только призрак ее, хотя и очень похожий призрак… Легенды, которые гласят иное, сложены лжецами.
— А ты, значит, не лжец? — спросила Совейз с улыбкой, но такой мягкой, что она засветилась на ее лице.
— Лжец? Я?
— Да, я думаю, ты любишь приврать, — кивнула Совейз. — Ибо говоришь о стране демонов так, как будто никто из нас никогда не бывал там.
Олору зажмурился и вцепился в траву, словно боялся, что сейчас из-под земли выскочат демоны и утащат его в свое царство.
— Не говори так! Твои слова… Они как будто из моего сна. — Совейз на это лишь качнула головой — похоже, ее паж теперь все на свете будет считать сном. Этого она в виду не имела. Хотя, с другой стороны, что такого примечательного произошло за всю ее жизнь, чтобы считать эту жизнь чем-то большим, нежели страшным сном?
— Я думаю, — сказала она, — стоит условиться о том, что мы нашли друг друга в этом лесу. Я — сирота и искала смерти. А ты — бежал от своего обезумевшего господина и чудом спасся.
— Да, — произнес Олору, и на мгновение в его глазах появился странны огонек — словно глаза Чуза вынырнули из глубины и тотчас спрятались обратно. Славно, успели сказать эти хитрые, горящие лисьим огнем глаза, очень славно. Ты увидишь, как весело играть в такие игры вместе.
И ее глаза, впитавшие лесную тьму и синеву звездного неба, ответили, туманясь дымкой грусти: посмотрим, так ли это весело, как ты обещаешь.
Они по-прежнему смотрели друг другу в глаза, когда улеглись на мокрую траву и сплели руки. Их второй поцелуй был так же не похож на первый, как земля несхожа с небом. Одно лишь желание было в нем и ни тени колдовства.
— О прекраснейшая из всех смертных женщин, — солгал Олору.
— О прекраснейший из всех смертных мужчин, — солгала Совейз.
Рассмеявшись, они выскользнули из одежды, как змеи выскальзывают из кожи, и сплели тела так же крепко, как мгновение назад сплели пальцы рук.
Расстелив по земле длинные волосы цвета тьмы, цвета полночи, она медленно и плавно двигалась на нем, лежащим под ней, подобно покорной овце под руками стригаля. Ему казалось, что это движется ночное небо, что эти сосцы — звезды в черном уборе ночи, что это тело — тени деревьев, раскачивающихся под ветром. Девственная и в то же время не имеющая девства, невинная, и в то же время прекрасно осведомленная обо всем, танцевала над ним Совейз свой медленный танец. И когда он проник в нее, он проник в ночь, в темный лес, в чрево теплой земли, на которой лежал. Весь мир сплелся с ним в любовном танце вместе с Совейз.
И тогда Олору прошептал:
— Нет.
— Нет? — повторила она едва слышно, не отнимая губ от его рта. Ее язычок, словно лепесток белой лилии, танцевал по его раскрытым губам.
— Нет, Совейз, нет, иначе я окажусь в конце пути гораздо раньше чем ты, и наше странствие завершится.
Но ее глаза собрали в себя все моря, все озера и реки, ее руки стали руками земли, корнями деревьев, обвившими его влажную спину. И дракон, что спал в своей берлоге, начал просыпаться.
— Когда достигнешь золотых врат, кричи, — сказала она, не прекращая своего мерного движения. И я тотчас нагоню тебя.
Дракон проснулся. Весь лес вспыхнул в алом пожаре, озарившись сотнями огней. Подобная натянутому луку, изогнулась над ним Совейз, выставив острые груди навстречу небу. И когда он закричал, она закричала вместе с ним, нагая и прекрасная. Их крик пронзил мокрую крышу леса и яркой кометой умчался ввысь, туда, где ничего не знают о подобных криках и даже не пытаются узнать.
Потом, успокоившись и улегшись рядом с ним на влажные листья, она сказала:
— Это тоже смерть. И это моя судьба. Когда-нибудь я умру, теперь я знаю это наверняка.
— Наше племя не умирает, — возразил Олору, на мгновение забыв, что он все забыл.
Но она ему не ответила.
Часть вторая. ЛЮБОВНИКИ
1
— Азрарн! — напевно звали множество голосов, беззвучных, но столь прекрасных, что даже воздух, казалось, наполнялся благоуханием их музыки. — Азра-арн!
Быть может, это были голоса-мысли подвластных ему эшв, а быть может, это звучал неслышный, но неумолчный голос всего королевства демонов, каждого корня его деревьев, каждого камня его скал. Это пели колонны величественного города, самоцветные окна дворца Азрарна. Или, быть может, этот голос звучал внутри него самого, голос незнакомца, делящего с ним тело. Почему бы и нет? Ведь даже в мире смертных встречаются люди, в теле которых теснится не одна душа.
Как бы там ни было, но голос донимал Азрарна даже в собственном дворце, преследуя Повелителя Демонов все дни и ночи смертного мира в его бессмертном мире, лишенном смены дня и ночи. И этот голос мучал его. Словно тигр, мечущийся по клетке, Азрарн расхаживал по своему огромному дворцу, по всем его залам и лестницам, время от времени выходя на плоские, ступенчатые крыши. Останавливаясь, он замирал, глядя в пустоту, созерцая самое сокровенное, следя взглядом за малейшим пустяком: за порхающими рыбками Нижнего Мира, за живыми бриллиантами светляков, которые, встретив его пустой взгляд, падали замертво в черную траву лужаек.
— А-азра-а-арн…
— Я слышу, — пробормотал он. — Утихни.
И воцарилась тишина. Словно все королевство разом замерло в оцепенении, боясь шелохнуться.
Пораженный этой тишиной, Азрарн вышел из дворца и направился в парк, примыкавший к цветнику. Среди деревьев мерцали золотые блестки разноцветных рыб, замеревших в воздухе, словно маленькие звезды. У большого пруда одна из высокородных ваздру рвала зеленые ирисы. Она тоже застыла и напоминала теперь изящную раскрашенную статую. Капли воды, стекавшие с ее пальцев, так и не долетели до зеркальной поверхности пруда: ведь даже малейший всплеск мог нарушить угодную повелителю тишину. Азрарн удивленно воззрился на незваную гостью: в последнее время мало кто из его подданных осмеливался подойти так близко к обиталищу своего господина. Ваздру стояла и смотрела прямо в глаза Повелителю Демонов. Она была молода и необычайно красива, но ведь все ваздру вечно молоды и прекрасны.
Азрарн вопросительно поднял брови, и Ваздру поклонилась ему.
— Зачем ты здесь? — спросил он. — И зачем тебе красть цветы именно из этого сада?
— Зеленые ирисы, цветы боли, — прошептала она. — Ими заросли теперь почти все пруды в твоем саду, мой прекрасный Князь. Я собираю их и уношу в пустоши. Там звучит их печальная, тихая песня, пока они не гибнут, засохнув, как засыхает твое королевство.
Азрарн пожал плечами и повернулся, чтобы уйти.
— Твое королевство гибнет, повелитель! — выкрикнула Ваздру. — Твоей наперсницей стала боль. Мы — часть тебя и терпим те же муки, что и ты. Эшва просто растворятся в небытие, тихо скорбя о твоей и своей участи. Но ваздру — иное дело. Мы сгинем, навечно превратившись в черные камни в кольцах глупых земных колдунов. И все из-за какой-то несчастной смертной, порожденной этой отвратительной штукой, этим солнцем!
— Назови мне, пожалуйста, свое имя, — тихо попросил Азрарн.
— Вашт, — ответила демонесса и встряхнула влажными цветами. Капли воды с громким плеском обрушились вниз.
— Неужели тебе настолько не терпится испытать на себе силу моего гнева, Вашт? — все так же тихо продолжал Азрарн. — Неужели лишь за этим ты смеешь напоминать мне о моей любви, утраченной навсегда?
— Ты убиваешь нас своей скорбью, — ответила Вашт. — А поскольку мы бессмертны, это означает, что наша пытка будет бесконечна. Какая кара может быть страшнее этой?
— Не надо сердить меня, — проговорил Азрарн.
— А разве это еще возможно — рассердить тебя? — подхватила она с неожиданным гневом. — Тебя, объявившему войну Чузу? Ты дважды гнал его по всему свету до края мира и дважды возвращался сюда, в то время как весь Верхний мир потешался над тобой от мала до велика. И это не рассердило тебя! А когда ему захотелось большего веселья, он взялся за твою дочь, за того самого ребенка, что родила от тебя эта лунно-солнечная девица, твоя Данизель. Но ведь это я была твоей возлюбленной, Азрарн! Да, это было давно, очень давно по счету Верхнего мира, но ведь было! Ты поймал кусочек земного звездного неба и сплел из него кольцо для меня. Всего лишь три сотни человеческих лет назад ты любил меня, Азрарн! Но затем черви, называемые людьми, стали тебе дороже, ты даже отдал в их мир часть своей плоти! А теперь ты не можешь вспомнить моего имени. Ты, который подарил мне звездное небо!
Она выронила цветы и закрыла лицо руками. Темные стебли попадали на землю со звуком скрестившихся мечей.
— Так Чуз и моя дочь теперь странствуют вместе? — только и вымолвил на это Азрарн.
— А ты не знал? Да об этом шепчет каждый стебель травы, каждый камень пустыни! Каждое облако, наплывающее на лунный лик, оставляет на нем письмена об этой паре! О том, как он одурачил тебя и заставил малышку верить, что ей больше не нужна твоя опека. Даже эти ирисы слагают об этом песни. И у меня уже болят уши от всех этих сплетен!
— Что ж, теперь знаю. А что до твоего имени, то ты сама напомнила мне о нем.
С этими словами Азрарн повернулся и пошел прочь. Вашт последовала за ним. Ее длинные черные волосы змеились вслед за ней по траве, высекая маленькие искры, словно кошачья шерсть.
— И что ты намерен теперь делать, Азрарн Великий, узнав об этом? Вернуться в свою башню из тьмы и безмолвно лить кровавые слезы?
Азрарн остановился так резко, что Ваздру едва не ткнулась лицом ему в спину. Но встретила его горящий взгляд без тени страха или смущения.
— Чего ты хочешь добиться, Вашт?
— Я хочу, чтобы ты снова был со мной, хоть та изменила тебя почти до неузнаваемости.
— Вашт, прекрасная Вашт, — проговорил он в задумчивости. — Я помню тебя. Ты была подобна рассвету, подобна первому лучу зари. Но день светлее.
— Ты… ты сравниваешь меня со светом? Ты говоришь, что день прекраснее утра? Но ведь ты ненавидишь солнце, ненавидишь день! Это она научила тебя таким словам! И что же, твоя Данизель была прекрасна, как день?
— Я покажу тебе, — ответил Азрарн. — Коль скоро ты столь глупа, чтобы спрашивать, я покажу тебе.
Он поцеловал Вашт в губы и отступил на шаг. Одного удара сердца хватило ему, чтобы окинуть прощальным взглядом прекрасную женщину, которую он любил когда-то, но уже не помнил об этом. В следующий миг она исчезла в сполохе бледного пламени, подобного клочку зыбкого тумана. А еще мгновение спустя этот туман вытянулся в белую струйку и пропал. На темной траве осталась лишь серая горстка золы. Из этого праха поднялось нечто столь же легкое и зыбкое, как сама зола: маленькая бабочка с крыльями цвета зеленых ирисов. Перелетев лужайку, она порхнула под сень огромных деревьев и затерялась в сплетении ветвей. Азрарн не следил за ее полетом — его взор вернулся к ажурным башням и аркам города, а мысли — к тому голосу, что звал его все эти дни.
Конечно, он знал, всегда знал. Или по крайней мере, всегда мог узнать. Две прерванные охоты, в Нижнем мире и за его пределами, все еще будоражили его кровь. Но он забыл о мести — на время. Забыл о том бегстве… Да, теперь ему не было никакого дела до Вашт, бывшей возлюбленной, однако она сумела пробудить в нем эхо того, настоящего гнева, который клокотал в нем когда-то, иссушая разум и сердце… Нечто, похожее на первые лучи зари, предвещающие восход ослепительного солнца… Рассвет набирал силу: теперь Азрарн думал о Чузе и о ребенке, чьего облика уже не помнил, только большие, широко распахнутые глаза. Повинуясь его мысленному приказу, трое эшв возникли перед ним тремя дымными столбами.
— Идите, — велел Азрарн. — И разыщите мне ту.
* * *
И Эшвы помчались, пронзая время и пространство.
Быть может, это были те самые эшвы, что когда-то прислуживали Азрарну-Совейз на острове полого камня, и теперь хотели искупить свою вину, коль скоро они позволили девушке оставить убежище. Неизвестно, наказал ли Азрарн хотя бы одну из нерадивых служанок. Но, пребывая в вечном трепете перед Повелителем, эшвы и без наказания были готовы на все, лишь бы доказать свою преданность и рвение.
Пронзая время и пространство…
Они так спешили исполнить приказ, что после в лесах и рощах не один день бродили перепуганные, рыдающие девушки — все, как одна, темноволосые и синеглазые. Кого-то потом нашли, а кого-то и нет… «О, где моя дочь (или «моя сестра», или «невеста»)? Ее похитили демоны!» Вот какие вопли преследовали неутомимых ищеек. Они хватали без разбора всех похожих девушек, потому что, хотя и не знали, как выглядит теперь дочь Азрарна, не могли ошибиться, едва заглянув ей в лицо.
Но та была хорошо запрятана. Даже эшвы не смогли бы разыскать ее. Даже они. Ибо она, дочь Азрарна, по прежнему оставалась им хозяйкой — такой же, как ее отец. К тому же Чуз Безумный, Повелитель Безумия, положил немало сил на то, чтобы никто и никогда не нашел Азрарну.
И все же эшвы искали — потому что не могли иначе — искали темноволосую девушку в сопровождении мужеподобного создания с двойным ликом — одна половина прекрасна, вторая изуродована. И когда мысль Повелителя обращалась к ним, они раз за разом повторяли: «Ты видишь, мы ищем. Мы переворачиваем небо и землю в своих упорных поисках».
А в Подземном Мире Азрарн неподвижной статуей замер у изумрудного окна, наблюдая полет маленькой зеленокрылой твари. Впрочем, все крылатые твари — равно как и трава, и деревья — казались зелеными сквозь кристалл окна. Азрарну было все равно.
В этом зале с изумрудными окнами хранилась одна книга. Величиной с трехлетнего ребенка, сделанная из тончайших бронзовых пластин, украшенная дивными самоцветами, названия которых давно затерялись во мраке времени, лежала она на высоком постаменте в самом центре зала. Зеленокрылое создание исчезло среди деревьев. Отвернувшись от окна, Азрарн подошел к бронзовой книге и заговорил. Покорные магии его слов, страницы ожили, зашелестели, переворачиваясь, и наконец замерли. Азрарн заглянул в раскрытый том. Любому смертному знаки и символы этих страниц показались бы нелепыми рисунками, но Повелитель Демонов нахмурился: предсказание оказалось недобрым.
И тотчас три тени, неспешно пересекающие яркий лик луны в ночном небе, замерли и насторожились, словно услышали новый приказ. А затем, подобные хищным чайкам, ныряющим в воду за живым серебром рыб, устремились вниз, к темному колодцу сонной земли.
2
Множество легенд было сложено о том, как дитя Демона вернулось на землю. И все эти легенды прекрасны в своей жестокости. Так прекрасен танец змеи, так прекрасно стальное лезвие меча, отлично знающего, что он создан не для красоты, а для битвы. Так прекрасен ребенок, играющий с куклами и замками, если за каждой куклой — человеческая жизнь, а за каждым замком — сгоревший город. Если есть в мире отравленная красота, то именно ею пропитаны эти легенды. На вид Совейз было не более семнадцати лет, но ее разум, конечно, сильно отличался от разума едва созревшей девушки. Внутри же она пока оставалась ребенком, которому еще расти и расти. Или ей было суждено навсегда нести в себе этот отпечаток детства и незрелости? Она знала, что такое красота и свет — но ближе ей всегда казались тьма и колдовство, и собственная воля, заставляющая клониться вниз самые негибкие шеи. Ее любовником был убийца ее матери.
Легенды собирались вокруг нее, как пчелы вокруг меда.
Но существовала одна легенда, которую не любили рассказывать: в ней Совейз прожила тихую, мирную жизнь — насколько это вообще возможно для такой женщины, как она. И, быть может, именно эта легенда более всего приближалась к истинному положению вещей, потому что как же тогда такие искусные ищейки, как эшвы, не смогли найти ее на плоском лике земли?
* * *
— В наших лесах творятся жуткие вещи, там поселились колдуны, — шептались кумушки у деревенских колодцев. «Да? — переспрашивали их. — Откуда вы знаете?» И они отвечали: — Охотники уж навидались всякого. Один вышел из чащи на закате и увидел, что за ним по дороге тянется клок светящегося тумана, как сеть, набитая гнилушками. А другой заснул на опушке и проснулся с ослиными ушами.
Иногда ветер доносил со стороны леса чарующие ароматы или нежные звуки музыки, словно перезвон серебряных колокольцев. Зверь больше не ходило старыми тропами, казалось, оно вовсе оставило очарованный лес. Семеро купцов, примчавшихся в город с круглыми от ужаса глазами, говорили, что видели в лесу летающий ковер — он парил в нескольких футах над землей, а на нем сидели двое — не то люди, не то призраки. Девочки, часто ходившие в рощи за орехами, рассказывали о прекрасном дворце на поляне. Он весь из белого мрамора и золота, а окна у него из драгоценных камней. Но смотреть на него можно только искоса, краем глаза, если взглянешь прямо, он исчезнет, как и не было. А на его месте останется только пустая заброшенная сторожка.
Вероятно, девочки не лгали, и в лесу действительно что-то было — ведь не могли же Совейз и Олору дни и ночи проводить под открытым небом. В холодную пору в их жилье ярко горел очаг из валунов — или гигантский мраморный камин посреди огромного пышного зала, в зависимости от того, хотели любовники провести ночь в шалаше или во дворце. На огне всегда кипела похлебка, даже если стол был уставлен магическими яствами, и крохотный огонек масляной лампы всегда горел над их ложем — когда из пуховиков и перин, а когда из еловых веток, застеленных плащом Олору. Иногда, в жаркие дни их жилье превращалось в огромный сад с цветниками и прохладными фонтанами.
Однажды, когда солнце уже перевалило заполдень и двинулось в сторону заката, случайный прохожий увидел опрятный домик, прилепившийся к склону холма, и остановился, чтобы рассмотреть его поближе. Огромный платан свешивал над старой крышей пышную крону, заслоняя окна от жаркого солнца. Путник захотел подойти, чтобы приветствовать хозяев, но деревья сгрудились поперек тропы, сплели ветви, выставили узловатые, похожие на гигантских змей, корни.
К этому времени старая тропа уже почти заросла: люди предпочитали ходить через лес кружным путем — лишь бы не встречаться со странным домом-перевертышем. Ибо лес ополчался против них каждой ветвью, так что им приходилось в страхе спасаться бегством. Этот путник не испугался и не побежал. Под зелеными кронами раздался негромкий смех — ухищрения старых пней позабавили прохожего.
Звук его смеха как-то особенно звонко разнесся среди притихших деревьев.
У самого склона холма крыша маленького дома заканчивалась ровной площадкой, где как раз могли уместиться двое влюбленных. Нежившиеся на солнце юноша и девушка разом подняли головы — золотую и цвета воронова крыла.
— Что это было? Какая-то птица?
— Нет, не птица, — проговорил Олору. — Это рыжий жук взбирается к нам на холм. Наверное, вспотел, бедняга.
Совейз придвинулась к краю площадки и заглянула вниз. Брови ее сошлись на переносице.
Движением руки она простелила витую лесенку с крыши внутрь дома и вышла к дверям в обвисшем, старом платье.
У порога, щурясь на еще яркое солнце, сидел человек. Его нищенские лохмотья действительно имели цвет пламени, а множество ярких заплат делало его наряд пестрым, как лоскутное одеяло. Тряпка, накинутая на голову, заменяла ему капюшон. В одной руке он держал кружку с медяками, а в другой сжимал посох, вырезанный из огромного корня.
Открыв дверь, Совейз молча застыла на ступенях. Восприняв ее ожидание как вопрос, нищий пробормотал:
— Милосердия, добрые господа! — Голос у попрошайки был приятный, но незнакомый. Совейз ничего не ответила на его приветствие; все тем же живым изваянием стояла она на ступенях. — Проявите доброту, — продолжал нищий, — ибо кто знает, быть может, однажды вас постигнет та же судьба, что выпала мне, и вам тоже придется скитаться по миру в поисках куска хлеба. Некогда я был властителем богатой земли. Теперь — гол и нищ. Милосердия, добрые господа! — Повторив свою монотонную молитву, он снова рассмеялся странным гортанным смехом, похожим на крик какой-то птицы. — Ибо кому в этом мире, — добавил он, — дано избежать того, что ему уготовано судьбой?
Совейз скорчила гримаску — будь она кошкой, она прижала бы уши и зашипела на этого человека. Распахнув деревянную дверь — за которой скрывалась вторая, из литого серебра с золотыми рунами, ведьма отошла в сторону и сделала приглашающий жест.
— Мы живем очень скромно, — заметила она насмешливо. — Но ты разжалобил меня почти до слез.
Нищий поднялся и прошел в дом.
Жилище и в самом деле выглядело достаточно скромным — для дочери Азрарна, разумеется. Хрустальные полы устилали пушистые ковры, а в цветные витражи окон лился солнечный свет, окрашивая в яркие, небывалые цвета стены и утварь. На нижних ступенях витой лестницы сидел Олору. В руках у него была лютня, струны которой он рассеянно теребил. Увидев нищего, юноша оживленно вскочил на ноги.
— И куда же мы направляемся, одевшись в пламя? Повидать царственных родичей? — спросил он.
Гость поднял голову и сбросил тряпку.
Теперь, когда он стоял посреди богато убранной комнаты, нищий выглядел совсем иначе, чем на крыльце. Его лицо, отмеченное множеством лет скитаний в стужу и непогоду, походило на бронзовую маску. На смуглокожей голове не росло ни единого волоска. Заплаты на его огненном одеянии превратились в куски цветной парчи, на которых были вытканы и травы, и звери, и люди, но каждая картинка казалась разорванной на множество частей, в беспорядке нашитых одна на другую. Нищенская кружка оказалась золотой, с россыпью сверкающих камней по краю. Темный посох был тоже искусно изрезан самыми разными изображениями, и в старом дереве тоже светились драгоценности и золотые накладки. Вверх и вниз по посоху сновала маленькая юркая ящерица. Сейчас она вскочила нищему на плечо и уставилась на хозяев блестящими бусинами глаз. Нищий тоже смотрел на молодую пару — ярко-желтыми глазами без зрачков. Выдержать такой взгляд сумел бы не каждый.
Олору вздохнул и прикрыл глаза. Чуз поклонился вошедшему.
— Не здравствуй, не-брат. Ведь я не ошибаюсь, ты со мною в близком родстве? Я кое-что забыл за последнее время.
— Да, наше с тобой родство можно считать весьма близким, — согласился гость.
— Зачем ты здесь? — поинтересовался Чуз из-под личины Олору. Он бросил в ящерку золотой, и та поймала монету змеиной пастью.
— Не надо кормить мою любимицу, — сказал гость, отнимая золотой. В его руках золото рассыпалось горстью золы. Длинные ногти нищего тоже сверкали золотом. Ящерка сердито зашипела. — Зачем я здесь? А почему бы мне и не быть здесь? Я иду сквозь все миры и все времена. Ты видишь меня здесь, а другие сейчас проклинают меня в каком-то совсем ином месте. Третьи же утверждают, что я вездесущ. Какая-то часть тебя, безумный Князь Чуз, тоже присутствует во всех безумствах мира.
Все это время Совейз молча и внимательно разглядывала странного посетителя. Теперь она заговорила.
— Я знаю тебя, — произнесла она, — и в то же время не знаю. Король-нищий? Так ты назвал себя у наших дверей? Или ты имеешь другое имя?
Гость медленно повернул к ней свое бронзовое лицо и улыбнулся. На его безволосой голове сверкнула золотая корона. Ящерка заметила ее появление и потерлась о золото, словно кошка о ноги хозяина.
— А какое имя я еще называл тебе?
— Ты упомянул Судьбу.
— Значит, я и есть Судьба.
— Властитель Судьбы, один из Повелителей Тьмы, — произнесла Совейз и поклонилась ему с невыразимой грацией. — Вежливое напоминание о том, что даже мне не избежать уготованного тобой?
— О, перестань. Ты столько прожила с ним и так ничего и не узнала? Я — только тень того, что зовется судьбой. Безликий символ. Подобно бедняге Смерти, еженощно влекущему по земле свои полные мертвых корзины и мечтающем только об одном — вернуться в нежные объятия своей подруги, Кассевиш. Или подобно другому из нас, который сошел с ума, пытаясь доказать, что он существует на самом деле, а не является лишь еще одним символом. Но на самом деле реален лишь твой отец, ибо он был первым из нас. Но с тех пор, как мы все появились в этом мире, мы переплелись настолько, что уже сами не разберем, кто из нас реальнее остальных.
— Что за ерунду несет этот забавный человечек? — вмешался Олору, вытеснив на мгновение Чуза. — Похоже, он хочет поразить нас истиной вроде изречения: «Того, что достаточно, недостаточно никогда».
Но Князь Судьбы, если это был он, взглянул на Совейз и проговорил:
— Он уже очень близко.
— Кто это «он»?
— Азрарн. Кто же еще.
— Судьба предрекает мне мою судьбу. И что же, этот единственно реально существующий хочет теперь убить меня?
— Каким образом? И как он мог бы хотеть этого?
— Ты ошибаешься, — тихо сказала Совейз. — Ему нет дела до меня.
Гость не ответил, лишь принялся разглядывать комнату: огромный камин, стол, застеленный парчовой скатертью, темные бутыли с вином и сверкающие кубки на столе. Ящерка соскочила с его посоха и вбежала в теплое пятно солнечного света. Пока она сидела на темном дереве, ее кожа имела коричневатый оттенок, теперь же хамелеон окрасился в янтарно-желтый цвет.
— Что ж, — сказала Совейз, — значит, ты пришел ко мне от него?
— Как ты полагаешь, я похож на мальчика на побегушках? Я всегда делаю лишь то, что считаю важным для себя.
— Поведай мне тогда о том, что ты считаешь важным.
— Я здесь, — просто ответил Князь Судьбы. — Ты увидела меня. И этого более чем достаточно.
Сказав это, он призвал ящерку обратно на посох, шагнул в солнечный луч, окрашенный витражом в цвет крови, и растворился в этом огненном мареве.
На закате в роще зазвучали голоса сверчков и ночных птиц. И одновременно с последним солнечным лучом, скользнувшим за горизонт, Совейз выскользнула из объятий возлюбленного. Площадка, на которой они лежали днем, опиралась на маленькую галерею у восточного крыла дома. Сюда, побродить между яшмовых колонн, и вышла Совейз. Звезды яростно изливали на нее свой свет, подобный белым иглам, сверчки истошно зудели в траве. Совейз тихо окликнула Олору, подзывая его к себе. Обняв его за плечи, она сказала одними глазами: в этом мире нет мне покоя. Давай уйдем в ночь и забудем обо всем.
И они ушли во тьму леса, где вокруг них носились, играя, рыжие лисы, и ночные цветы поворачивали свои чашечки им вслед, источая дивный аромат. Временами любовникам казалось, что в звездном свете перед ними мелькают пять зыбких теней. Три из них вскоре исчезли, и в спящих ветвях пронесся тихий ухающий звук, словно шум больших крыльев.
Выйдя из лесу аллеей древних, как мир, стволов, Совейз и Олору увидели какой-то город в долине, раскинувшейся за ночным лесом.
— Пойдем туда. Пойдем посмотрим, что человеки делают в самые восхитительные ночные часы, когда в воздухе уже пахнет рассветом.
Олору задорно улыбнулся. (Человеки?) Мгновение спустя ей уже улыбалась хитрая морда лиса, трущегося о ее колени. Совейз кивнула, но не стала принимать звериный облик. Она нравилась себе такая, какой появилась на свет, к тому же превращения были ей пока непривычны.
Главные ворота города стояли запертыми, но, обойдя стену, ночные путешественники нашли другой вход, поскромнее. Совейз дунула, и створки медленно распахнулись.
Женщина, укрытая мантией из черный волос, и рыжий лис, вьюном крутящийся вокруг нее, двинулись по улицам города. Через несколько шагов Совейз пришло в голову, что личина все же, наверное, не помешает, и следующий шаг по мостовой уже сделал юноша — в мягких замшевых сапогах, с короткими, стянутыми в хвост волосами, с острым кинжалом у бедра. Те, кто знали Олору до его превращения, наверняка поспорили бы, что по темным улицам идет хорошо им знакомый юный охотник.
Редкие фонари почти не давали света. Гораздо больше улицы города освещались яркими окнами трактиров и постоялых дворов. Время от времени в черных стенах домов встречались одинокие освещенные окна тех, кто уже проснулся или страдал бессонницей.
«Я могла бы, — размышляла Совейз, — сухим листком подняться ко всем этим темным окнам и заглянуть внутрь. Я могла бы заснуть пушистой кошкой на любом пороге — и пробраться в дом желанной гостьей, едва хозяйка откроет дверь. Или еще можно превратиться в ночной кошмар и заставить весь город стонать и метаться во сне. Или обокрасть их всех, или убить. Я могла бы даже поднять их всех на ноги и гонять взад-вперед по улице, объятых настоящим, не призрачным ужасом. А мой возлюбленный, который ничего не помнит, с охотой тотчас бы вспомнил все, что нужно, чтобы помочь мне.»
Над ее головой алмазной сетью мерцали звезды. Все созвездия высыпали этой ночью на небо, чтобы посмотреть на Совейз, дитя Демона.
«Но только зачем мне это? Неужели это и есть вершина всех желаний — власть над бестолковыми людьми? Неужели цель всего — лишний раз доказать им мощь зла и призрачного мира? Лишний раз покривляться шутом, теша себя и пугая их?»
Подумав это, она почувствовала, как рука в шелковой перчатке коснулась ее щеки.
— Шутовство? Ты теперь называешь нашу любовь этим словом?
— Наша любовь, — ответила она Чузу, который вторым Олору шел теперь рядом с ней, — наша любовь — лишь игрушка для этого мира. И какое же малое значение имеет она для него, наша любовь!
Чуз рассмеялся лисьим тявкающим смехом. А Олору проговорил, тихо и печально:
— Ты разбиваешь мне сердце.
— В таком случае, если ты покачаешься из стороны в сторону, то будешь звучать, как храмовый колокол, когда осколки зазвенят друг о друга.
Так, смеясь и дразня друг друга, они оказались у дверей винной лавки. В окнах ее горел свет, и Совейз шагнула внутрь так уверенно, словно этот погребок и был изначальной целью их прогулки.
Засидевшиеся посетители погребка мирно спали, воздев на бочки ноги в грязных сапогах или уронив головы на скрещенные руки.
Совейз и Олору расположились у дальней бочки в углу. К ним тотчас подскочил толстяк в заляпанном фартуке. Как видно, лавочка одновременно являлась и таверной, а посетители могли получить не только бутыль вина, но и ужин.
— Что желаете, молодые господа? — спросил толстяк у Совейз. — Вина, пива?
— Местное вино, — нараспев во всеуслышанье проговорил Олору, — годится только на то, чтобы разбавлять свиное пойло.
— Верно, — согласился толстяк. — Так будете вы его заказывать или нет?
— А в этом есть своя логика! — рассмеялся Олору еще громче. — Во всяком случае, эти вот свиньи, возлежащие на бочках, выглядят вполне довольными!
Спавшие люди зашевелились и подняли головы. Толстяк, не задавая больше никаких вопросов, исчез за дверью у стойки.
— Кто это назвал меня свиньей? — взревел один из посетителей.
— Только не я, — заявил Олору. — Я никогда бы не осмелился. Но какой-нибудь искренний поборник истины непременно усмотрел бы в тебе именно это животное.
Вскочив на бочку, за которой сидел, Олору простер руки в стороны и запел:
— О великолепный свин! В этой лавке, полной вин, Возлежишь ты на столе И мечтаешь о ботве. Всякий, и поэт, и льстец Обожает холодец. И готовы как один Петь хвалу тебе, о свин!Источник его вдохновения, еще слишком пьяный, чтобы понять все изящество поэзии Олору, тем не менее понял, что над ним насмехаются. Выставив перед собой красные кулачищи, он двинулся на обидчика. Совейз заступила ему дорогу.
— С чего это ты так разозлился?
— Отойди, парень! Твой приятель любит песни, так он сейчас услышит, как поет мой кинжал, когда вспарывает животы юным наглецам!
— Что он тебе такого сделал? — серебряным голосом вопросила Совейз. — Назвал свиньей? Но посмотри на себя, разве ты не вылитый боров, грязный и пьяный?
Этого верзила вынести не мог. С ревом, достойным скорее быка, чем борова, он выхватил кинжал и замахнулся. Но рев превратился в крик изумления, а кинжал, пронзив воздух, воткнулся в доски пола. Посреди таверны, поднявшись на задние ноги и болтая в воздухе передними копытцами, стояла свинья, настоящая живая свинья, очень большая и злая. Хрюкая и повизгивая, она мотала головой из стороны в сторону и угрожающе щерила желтые клыки.
После такого оборота проснулись и вскочили на ноги самые сонные любители ночной выпивки. Раздались крики, и самым громким из них был истошный вопль:
— Колдовство!
Опрокидывая табуреты и прихватывая по дороге недопитые бутылки, люди бросились из погребка вон. Как заметили шутники, пьянчуги даже не слишком удивились — просто поспешили оставить страшное место. И чему тут было удивляться, если все окрестности полны слухами о том, что в здешних лесах завелись колдуны?
И только огромная свинья осталась стоять посреди опустевшей лавки, все еще злая, но уже забывшая из-за чего разозлилась. Похрюкивая, она направилась в обход зала в поисках чего-нибудь съестного.
— Умница, — похвалил ее Олору. — Можешь возвращаться домой и с честью доесть свои помои. Из тебя выйдет отличная ветчина.
— А потом, — подхватила Совейз, — можешь подняться в спальню к своим хозяевам и соснуть у них на подушках. Посмотрим, каково будет их пробуждение!
Свинья хрюкнула и, выбравшись из лавки, уверенно затрусила по темным улицам. Олору вздохнул.
— И все-таки мы были слишком снисходительны. Постой-ка, я знаю одного лиса, который может прогнать эту свинью по всему городу и наделать такой переполох…
— Тише, — оборвала его Совейз. — Смотри. Один из забулдыг остался. Отчего бы это?
И Олору замолчал, побелев, как стена. Следуя указующему пальчику Совейз, он взглянул в дальний темный угол погреба. Там, едва различимый в полумраке, и в самом деле сидел еще кто-то, с ног до головы закутанный в черный плащ. Из-под плаща виднелась только узкая белая рука, выводившая какие-то знаки на донышке бочки. Знаки слабо светились. И так же слабо светились камни в перстнях на тонких пальцах.
— Если это человек, — пробормотал Олору, — то я, пожалуй, попрошу от него защиты у благих богов!
— Ты бы и попросил, если бы сам был человеком, — отозвался голос из-под капюшона. — Хотя, тебе, конечно, виднее.
Олору и Совейз переглянулись. В глазах у юноши стояли слезы. Не замечая их, он тихо предложил:
— Давай-ка переберемся куда-нибудь из этой вонючей дыры.
— Отличная мысль, — подхватил незнакомец. — Отправляйтесь. Я буду поджидать вас там.
Его голос звучал нездешней, невообразимой музыкой, он был так прекрасен, что из щели в полу вылезла мышь, чтобы послушать эти чарующие звуки. И в то же время от слов незнакомца веяло чем-то недобрым, словно тучи заклубились на горизонте, предвещая близкую грозу.
— Похоже, — заметила Совейз, — эта ночь посвящена Магии Речи.
Незнакомец не ответил ей. Но один из знаков, нарисованных белым пальцем, скатился со стола и разбился об пол. По осколкам было видно, что это фигурка огненноволосой женщины в белом одеянии.
Совейз положила горячую ладонь на плечо Олору.
— Мой друг не один здесь, — сказала она шутнику в углу.
Ответом ей был ослиный крик, такой громкий и пронзительный, что мышь, очнувшись о грез, с испуганным писком поспешно юркнула в свою нору.
— Ах вот как, — проговорила Совейз.
Оставив Олору там, где он застыл, словно примерзнув к полу, она шагнула вперед и, резким жестом стряхнув на пол бутыли и кубки, уселась на длинную скамью у стены. Теперь ее и закутанную в плащ фигуру разделала только пустая бочка, на широком донышке которой мерцали диковинные игрушки.
Незнакомец поднял голову. Из-под капюшона сверкнули его темные глаза. И Совейз увидела лицо, которое ей не дозволялось видеть с того дня, как отец, принеся ее в свое царство, оставил дочь в одиночестве на туманном острове. В углу темного вонючего погреба, положив руку на изъеденную червями старую бочку, сидел Азрарн, Князь Демонов. Совейз припомнила, что с тех пор видела его еще раз, у лесного озера, когда он проносился мимо нее во главе своей охоты. Но и тогда он явился не за ней, по-прежнему равнодушный к своему отпрыску. Всегда равнодушный. Кто он ей? Не отец, не друг и даже не господин. Она не приносила ему клятвы верности. Наверное, ей следовало быть ему благодарной хотя бы за то, что он дал ей жизнь, но и этот дар мало интересовал Азрарна, когда он отдавал его — не ей, а ее матери, своей возлюбленной.
Так они смотрели друг на друга, пока Совейз не произнесла наконец голосом, в котором теперь стали было больше, чем серебра:
— И как, похожа я на свою мать?
— Твоя мать никогда не смотрела на меня ни с ненавистью, ни даже с неприязнью, — ответил он.
— Ну, вероятно, у нее для этого имелось меньше оснований.
— Их имелось предостаточно. Но она не умела ненавидеть. Ты же — мое дитя, и потому ненависть у тебя в крови. Злопамятный, гордый, жестокий — все те эпитеты, которыми меня восхваляют на земле, годятся и для тебя. Но ты еще очень молода и твоя ненависть незрела. Когда ты наберешься опыта и научишься ненавидеть по-настоящему, мы посмотрим, на что ты способна. Тебя породила на свет Данизель, но ты — моя точная копия во всем.
При этих словах он улыбнулся с полным сознанием собственной правоты.
Именно на эту улыбку набросилась Совейз, плюнув в лицо отцу. Но ее слюна превратилась в серебряный цветок, едва отделившись от бледных от ярости губ девушки. Азрарн подхватил его и протянул дочери, все еще улыбаясь. Совейз поднялась со скамьи, повернулась на каблуках и, сделав три шага, сказала, не оборачиваясь:
— Ты просчитался, обольститель слабых женщин. Я — мало похожа на всех тех женщин, с которыми ты до сих пор имел дело. Как ты верно заметил, я — точная твоя копия.
— И ты полагаешь, что я не в силах уничтожить тебя с тою же легкостью, что и породил?
Совейз чуть повернула голову и бросила через плечо:
— Так сделай это.
Азрарн выпустил цветок из пальцев и тот исчез, коснувшись деревянного днища бочки.
— Ты забыла, — проговорил он, — что я создавал тебя не для простой забавы. И я сказал тебе уже: подождем, пока ты наберешься опыта и сил. И когда обида уступит в тебе место пониманию. Тогда ты придешь ко мне такой, какой должна быть почтительная и любящая дочь.
— И все волки в лесу сдохнут, — проворчала Совейз.
Очаровательный юноша в лиловом платье уселся на ближайшей бочке, поджал под себя длинные ноги и заметил:
— Увы, про меня опять все забыли.
— Ты ошибаешься, Чуз, и потому лучше тебе сидеть как можно тише, — отозвался Азрарн. — Эта женщина, в гневе своем, считает, что мало значит для меня. Если это так, то я здесь исключительно из-за тебя. Вообще я начинаю думать, что мои преследования становятся похожи на приставания покинутой возлюбленной.
— О да, — с наслаждением проговорил Чуз. — Это было бы, конечно же, просто великолепно. Но согласись, немного невежливо предаваться любовным утехам прямо здесь, да еще на глазах у прекрасной дамы. Нет, о таких радостях жизни нам, наверное, придется забыть, возлюбленный не-брат мой.
— Наверно, придется. Я обещал тебе войну, Чуз. А я держу свои обещания.
— Единый твой или мой жест сейчас, — невозмутимо заметил Чуз, — снесет с лица земли этот маленький город. А что станется с ее обликом после того, как наша битва будет окончена, просто страшно подумать. А ведь эта прекрасная госпожа тебе небезразлична. К тому же, ты никогда не сможешь истребить меня навсегда. Я появлюсь на свет заново с первым же безумством.
Азрарн поднялся на ноги. Он сделал шаг вперед, и вся тьма из угла переместилась вместе с ним. Но эта тьма горела огнями — плывущими в воздухе гнилушками и темным пламенем гнева Повелителя Ночи. Звезды горели в складках его плаща, отражаясь в драгоценных перстнях. В его глазах зарождались и умирали вселенные — чтобы возродиться снова. Очень тихо, так что ночь застыла, чтобы расслышать его слова, он произнес:
— Ты ранил то, что было дорого мне и пребывало под моей защитой. И ты должен заплатить за это.
— Я уже говорил тебе когда-то, — заметил Чуз, по-прежнему восседая на своей бочке, но уже во всем похожий на Олору, — в этом нет моей вины. Вини того, чье бормотание привело нас всех сюда этой ночью. Ибо Князь Судьбы недавно посетил нас в нашем лесу и выгнал оттуда. Вини себя. Вини Данизель, которая знала, что будет принесена в жертву и отказалась от иного жребия. Вини кого угодно, только не меня. Я — лишь орудие. — Чуз покачал золотой головой. Его лицо принадлежало Олору, но не имело никакого сходства с человеческим. Из каждой его черточки проглядывало огненно-черное существо. — Но я лгу. Ты знаешь, что я лгу. Это мой способ существовать в этом мире, невзирая на течение времени и изменения облика земли. Да, наверное, меня можно обвинить в ее смерти. Но даже если это и так, то почему вы все уверены, что я желал ее смерти? Даже такое безумное существо, как я, не может желать смерти столь прекрасному, невинному и мудрому созданию, как она. Но ни красота, ни мудрость, ни чистота не помогли ей изменить ни слова в Книге Судеб. И, вспомнив это, суди как хочешь, не-брат.
Соскочив с бочки, Чуз вплотную подошел к Азрарну. Глядя в его пылающие черным огнем зрачки взглядом не менее жутким, он проговорил:
— Ты не сможешь истребить меня. И оба мы окажемся одинаково безумны, если вздумаем воевать друг с другом. Если ты так жаждешь мести, вот он я, перед тобой, мсти, если хочешь и как хочешь. Я не спорю, это тоже безумие. Не меньшее, чем драка двух Повелителей Тьмы. Но помни, что ты делаешь это только потому, что я позволил тебе.
С губ Азрарна сорвалось проклятие. Все огни в погребе разом погасли. Чадящие фонари на улицах мигнули в последний раз, и город погрузился во тьму. И только звезды сияли в вышине неба, ибо им было все равно.
— Ты умен, Безумец, — сказал Азрарн в этой черной тишине. — Я не могу не признать это. Я принимаю твое предложение. Эта ночь пусть считается первой, следующая — второй, а на третью можешь ожидать моего ответа. И своей казни. Думаю, она не покажется тебе такой уж ничтожной, Чуз.
Последнее слово отзвучало в тишине, и на месте Князя Демонов возник столб темного пламени. Черный ветер загасил его, и ночь восстановила свою целостность.
И тогда наконец прошуршали крылья совы, донесся откуда-то лай собаки и лист, замерший в полете, достиг желанной земли. Из собравшихся над городом туч хлынул дождь. В его потоке стены и крыши домов казались красными, словно омытыми кровью.
* * *
— Если бы я была женщиной, я наверное сказала бы: «Что теперь с тобою будет?» И заплакала бы. Потому что он изобрел тебе какую-то немыслимую пытку, и послезавтра я лишусь тебя. Я не знаю, что он задумал. Но наверняка что-то ужасное.
— Если бы я был мужчиной, обнял бы тебя, как сейчас, и поцеловал бы твои волосы, вот так, и слезы, синие-синие слезы из твоих синих-синих глаз потекли бы прямо в мои глаза. И я сказал бы: «А что еще мог я поделать?»
— Почему ты убил мою мать?
— А разве я убивал твою мать?
— Почему ты подчинился моему отцу?
— А разве я ему подчинился?
— Лгун и глупец.
— Разве эти слова — о нас? Время бесконечно и оно принадлежит нам. Любовь и смерть лишь фигуры на нашей доске.
— Ты был мне отцом, ты был мне братом, ты был мне возлюбленным. Если бы я была женщиной, если бы я была ребенком, я могла бы плакать. О, пожалуйста, пусть я научусь плакать!
3
Два дня и одна ночь оставались им. И что им было делать в эти последние мгновения, оставшиеся до конца света? Бессмертные и всемогущие, они могли растянуть или изменить время, но заставить его повернуть свое течение вспять или остановиться неподвластно даже Повелителям Ночи.
Их дом был полон народу, огней и музыки. Их развлекали, их забавляли, их проводили через тысячу врат удовольствий, им воздавали царские почести. Кто-то из их колдовских слуг так и остался потом на земле в человечьем облике, а кто-то превратился в лягушек и сов, наполнивших темный лес.
Их дом стоял пуст, тих и темен. Совейз пекла хлеб из серой муки и трав. Чуз, окончательно утративший сходство с Олору, хотя сохранивший его облик, ломал еловые ветви для постели и рубил дрова для очага. Вплетя в волосы полевые цветы, они сидели за скудной трапезой, которая в любой момент могла обернуться роскошным пиршеством — стоило им только захотеть.
На вторую ночь, когда начался отсчет тех часов, которые остались до разлуки, они отправились в лес. Все озера сверкали, словно наполненные звездами, все ночные звуки превращались в нездешнюю музыку. Все дневные птицы очнулись от сна и распевали для них этой ночь. Они лежали на шелке мягких трав бок о бок и заново изучали друг друга. И говорили друг другу все те слова, которые говорят друг другу любовники перед долгой разлукой.
На третью ночь, после их скромного крестьянского ужина, они снова ушли в лес, но на этот раз заперли дом и не оставили в нем света. Они забрались в самую чащу, где царила вечная ночь, где не появлялись ни птица, ни зверь, ни человек, ни демон — они были первыми. И там они сели на черную мертвую землю и стали ждать Азрарна.
Они ждали долго, очень долго — или, быть может, Азрарн, Князь Демонов заставил их думать, что они ждут уже целую вечность. Луна забралась высоко в черное небо, и тонкий ее бледный лучик пробился к любовникам и разогнал кромешную тьму.
Тогда Совейз спросила устало:
— Как ты думаешь, что он уготовил тебе?
— Я могу только догадываться. Но я думаю, что то самое, о чем он говорил мне уже много лет назад.
— Это страшно?
— Наверное. Смотря с какой точки зрения.
— Перестань говорить как человек. Отвечай мне как Чуз, Повелитель Тьмы, мой паж, мой господин.
— О, моя возлюбленная, душа моей несуществующей души, рассвет моей ночи.
— Замолчи. Я хочу, чтобы ты отказался. Иначе я не буду ни душой твоей, ни рассветом.
— Это невозможно. То, что должно произойти, должно произойти.
— И что же тогда будет говориться о тебе в легендах? — спросила Совейз с горечью. — Что ты, Повелитель Тьмы, принял судьбу из рук какого-то Ваздру — только потому, что убил его возлюбленную?
— Ага, а что же случилось с «ты убил мою мать»?
— Ничего. Но она принадлежала только ему. Может ли вино воззвать к кувшину: «Мама, мама!» — когда уже выпито? Она была моим кувшином, а вино выпил Азрарн.
Но время шло, и луна исчезла за деревьями. Любовников снова поглотила кромешная тьма, живая, словно дыхание большого зверя.
И внезапно тихий и осторожный, как стук в дверь, перед ними загорелся свет. Азрарн не хотел быть невежливым — ведь они с Чузом заключили договор. И потому предупредил о своем появлении.
Он возник сразу вслед за светом, озарившим поляну. Его черная фигура неподвижно застыла над ними, словно призрак из ночного кошмара.
И, как незадолго до того Совейз, явившийся демон спросил:
— Догадываешься ли ты, что тебя ждет?
— Думаю, что да.
— Согласен ли ты на это?
— Мы договорились, — просто ответил Чуз.
— Азрарна, — сказал демон.
— Это не мое имя, — ответила она.
— Это твое имя, — возразил Азрарн. — Азрарна, что ты намерена делать теперь, когда он оставит тебя? Я не проявляю заботу, мне просто любопытно.
— Подавись своим любопытством, — беззлобно ответила Совейз. — Я последую за ним.
— Быть посему. А теперь я скажу тебе, за кем именно ты последуешь. Доныне он был человеком, прекрасным юношей, часто творившим разные выходки, о которых он любил говорить, что это — просто его безумства. Но, следуя нашему соглашению, он готов выдержать то, что я назначу. Итак, он должен будет уравновесить собственный титул и власть, данную ему над безумием. Князь Безумия должен стать отныне безумен. Действительно безумен, таков, каковы все безумцы. Он будет стонать, плакать, нести околесицу и раздирать себе лицо ногтями. Он будет больше подобен зверю, чем любой осел или шакал. Он станет отверженным в любом людском племени — и мишенью для насмешек среди всех иных племен. Для демонов он уподобится новой игрушке, забаве, которая, впрочем, всем быстро наскучит. Отныне он не Князь, не Повелитель и не маг. Безумный и отверженный, одинокий скиталец по равнодушному лику земли. Ибо, как бы ты не отрицал это, земной мир равнодушен к тебе, о Шут-при-Свете-Дня, точно так же как он равнодушен к Повелителю Ночи. Но свет дня не сумеет защитить тебя. И эту казнь придется тебе нести ровно одну человеческую жизнь, пока смерть или чья-нибудь рука не нанесут тебе последнего удара, еще более подлого, чем ты сам. Только тогда Чуз снова станет Чузом. И, если ты принимаешь все это, то быть посему. Если же тебя что-то не устраивает, то мы можем придумать новую казнь.
— Дорогой мой! — с преувеличенным воодушевлением воскликнул Чуз. — Что же еще может так притягивать меня, как попытка прожить — всего лишь одну человеческую жизнь, так невероятно мало! — прожить это время так, как живут все мои дети. Я буду просто счастлив!
— Отлично, — сказал Азрарн. — В таком случае будь счастлив.
— Нет, — сказала Совейз. Голос ее звучал холодно, и холодной была рука, которой она схватила запястье возлюбленного. — Ты — Олору. Ты мой. Ты не можешь вот так оставить меня только по его приказу. Какое тебе дело до его развлечений?
— Он оставит тебя, — сказал Азрарн. — Он любит мои развлечения.
— Тогда он тоже предаст меня, как предал ты! Чуз, ты слышал, что я сказала? Если ты подчинишься ему, я буду считать, что это твое собственное желание!
Но лицо Чуза оставалось на удивление спокойно.
— Точно так же, как жизнь людской плоти прерывает смерть, — сказал он, обращаясь к Совейз, — так и бессмертные имеют свои пределы. На этот раз умру я. Он — он умирал уже неоднократно. Когда-нибудь одним прекрасным днем — ох, прости, конечно же, ночью, — ты, не-брат, вспомнишь, как это все было. А сейчас Олору говорит тебе, любовь моя: среди всех звезд, всех цветов, всех песен земли, Нижнего Мира и Верхнего, ты — самая прекрасная, самая желанная, самая лучшая. Чего же нам с тобой бояться? Придет время, и мы встретимся вновь.
С этими словами он повернулся и пошел прочь, в темноту еловых лап и черных стволов. Он уже исчез за деревьями, когда ветер донес ликующий ослиный крик, а за ним — стон и треск ломаемых веток. Птицы, мирно спавшие в своих гнездах, взвились вверх и в панике разнеслись во все стороны от страшного места.
И тогда Азрарн, все это время стоявший и глядевший вслед Чузу, проговорил:
— Я удовлетворен. По крайней мере, сейчас.
Искоса взглянув на дочь, он добавил.
— Ну, ты видела, в какую сторону он ушел. Птицы укажут тебе путь, если ты все еще хочешь следовать за ним.
Она молча встала и пошла туда, где еще кружили испуганные обитатели древесных крон. Поравнявшись с Азрарном, она произнесла единственное слово Нижнего Мира, которое дрины, искусные кузнецы царства демонов, иногда пишут на стенах домов соседей.
— Отныне я буду звать тебя только так, — добавила она. — Ибо ты и есть то самое.
— Во имя твоей матери, — отозвался он, — я сдерживаю сейчас мою руку. Но рано или поздно настанет полночь, когда ты захочешь получить этот полный отеческой любви подзатыльник.
— Не раньше, чем все раки охрипнут от свиста, моря станут травой, а трава — огнем. Не раньше, чем боги спустятся на землю, чтобы целовать следы смертных в дорожной пыли. Вот тогда я приду. Быть может.
Азрарн не произнес больше ни слова. Она тоже. Она и так сказала более чем достаточно.
Повернувшись, она поспешила догонять Чуза, призывая его, словно потерявшийся в лесу напуганный ребенок.
Часть третья. СПРАВЕДЛИВОСТЬ НЕСПРАВЕДЛИВА
1
Безумие в той или иной форме всегда существовало на земле. Появившись впервые, оно еще не имело имени — равно как и множество других вещей. Но вскоре люди, дававшие имена каждой травинке, каждой живой твари, каждому проявлению жизни, изобрели имя и для него. И после того, как у безумия появилось имя, у имени появилась Суть, которая в свою очередь была названа Повелителем Чузом, и с тех пор так стало, и с тех пор так было всегда.
И теперь он стал частью самого себя. Так, как сказал Азрарн. Лишенный отныне своей привлекательности. Лишенный даже своей двойственности — половина на свету, половина в тени, подобно безумной луне. Обретший форму того извечного страха, того «оно», присутствие которого заставляет спрашивать на пороге двери, не открывая ее: «Кто там стучит и сопит так громко?» Даже звери боялись его теперь, даже лес содрогался при его появлении. Оно брело через рощи и болота, поднималось на холмы и продиралось сквозь кустарник. Небо посветлело в предчувствии зари. У поваленного дерева оно остановилось передохнуть. Выйдя из леса, оно оказалось на деревенской улице, и тогда в него полетели камни, а некоторые мужчины взялись за копья и стрелы, торопясь прогнать чудовище. И чудовище, стеная и хныча, пробежало через деревню и скрылось в полях. На его шкуре осталось немало ссадин, оно даже получило несколько ран, но ни одна из них не могла считаться смертельной, ибо конец был пока что еще очень далеко. Разве не обещал Азрарн ему все это?
Безумие сделалось безумно. По-настоящему безумно. Безумное царство Чуза выворачивалось теперь ему своей изнанкой. А на изнанке были крики, стоны, порывы убить себя или кого-нибудь другого. На изнанке каждый день ожидался как конец света, каждая новая заря наливалась кровью, а каждый человек становился зверем. Это была та часть его царства, что проносится по земле всеиссушающим ветром, бурей, сметающей все на своем пути.
Впрочем, безумие давно царило в этом мире. И кто бы мог сказать, что когда-то было иначе? Все эти басни о Золотой Эре, о всеобщей любви, о Святой Невинности годились всегда разве что для детей и старых дев. Да, безумие и людской род всегда шли рука об руку по плоскому лику земли. Просто они не любили смотреть друг другу в лицо.
А в деревушке, где еще час назад раздавались крики: «Кто это так громко стучит и сопит у дверей?» — и матери поспешно уводили детей в дома, а отцы брались за оружие, теперь слышалось удивленное: «Кто эта прекрасная девушка?» И люди, как безумные, таращились из окон и выглядывали в двери.
Совейз прошла мимо, не удостоив их даже взглядом.
Земля с ее людьми — что она теперь была для дочери демона? Наследство, долго отчуждаемое и наконец отданное в полное право, драгоценный дом, злая чужая пустыня?
Кто-то видел ее как прекрасную деву, босую, в белом одеянии, с глазами-звездами и черным плащом волос. Кто-то видел в ней дикого юношу-охотника, грациозного, как пантера. Кто-то вовсе не сумел ее увидеть, а лишь почувствовал ее присутствие и долго разглядывал отпечаток маленькой ноги в дорожной пыли.
Не обошлось и без происшествий. Молодой государь этих земель, которому, конечно же, тотчас поведали о чуде, увидел этот самый отпечаток, заботливо сохраненный жителями деревни — и, разумеется, влюбился в него, по одинокому следу тотчас вообразив себе и ногу, и тело, и лицо прекрасной незнакомки. После чего утратил сон и аппетит и разослал по округе своих солдат, чтобы те привели ему всех женщин, старых и молодых, шлюх и девственниц. Жены, монашки, вдовы — все были приведены под собственные громкие стоны и проклятия мужей. И, конечно же, всех их свезли в деревню у леса, на улице которой оставила отпечаток своей ноги Совейз. «Та, что прошла здесь, — объявил он, — сделала это нарочно, чтобы привадить меня, а самой скрыться при помощи нехитрого женского колдовства. Ибо всем известно, что от сотворения мира женщина обольщает и исчезает, повторяя «нет», а мужчина преследует и берет свое, говоря «да». Она может скрываться даже под личиной старухи, ибо владеет чарами. Но я разыщу ее. Даже если она окажется двенадцатилетней девочкой.»
Сказано — сделано. И все женщины его земель, кто с раздражением и страхом, а кто и с великой охотой, ставили свою левую ногу в пыль рядом с драгоценным отпечатком. И ни один след не совпал. Молодой государь, глядя на это, бледнел все больше, пока не сделался бел, как беленые стены хижин. И наконец подошла девушка, из числа последних десяти девиц. Она поставила свою ножку рядом на заново выровненную землю и — о чудо! Следы совпали, словно две половинки яблока.
Правитель вскочил на ноги и бросился к ней. Девушка оказалась в самом подходящем возрасте, возрасте поздней весны, и, как и ожидал несчастный влюбленный, весьма хороша собой. Он взял ее за руку и не без самоуверенности заявил: «Теперь ты уж от меня не сумеешь скрыться!» — «Да, государь,» — ответила девица и опустила глаза долу. Она была дочерью бедного овчара и всю жизнь провела среди своих любимых овечек. Но она признала, не без смущения, что и в самом деле влюблена в молодого правителя и нарочно оделась в нищенское платье, проверяя его. «Ибо, — сказала она, — мне лучше, чем всякому другому известно, как застит взоры богатство. Моим родным отомстил один злой колдун — за что, я сейчас не буду говорить. Но когда-то мой отец был королем.» — «Я воздам ему все полагающиеся почести», — ответил правитель, ни на миг не усомнившийся в правдивости рассказа. (Так что в истории принимала участие не только нога Совейз, но и рука Судьбы.) Правитель женился на девушке, а ее отца и братьев взял во дворец, где каждому нашел место сообразно их высоким титулам. И жили они все долго и счастливо.
А Совейз тем временем следовала за безумной тварью, в которой видела своего государя и возлюбленного. И ломала в отчаянье руки, когда временами теряла след.
В эти мгновения ее охватывали невеселые мысли. Он тоже оставил ее подобно всем остальным. Для него эта пытка была всего лишь забавным приключением, он сам так сказал. Он предпочел справедливость Азрарна ее любви.
И все же она вставала и снова пускалась в путь. Ее сила росла с каждым днем — она чувствовала это, даже не испытывая ее в деле. Быть может, ей даже удастся превозмочь проклятие Азрарна. Хотя Чуз, так страстно желавший наказания, мог и отвергнуть ее непрошеную помощь.
* * *
Легенды гласят, что не первая Совейз оказалась в подобном странствии. Вспомнить хотя бы историю Шезаэль Половинки и безумного героя Дрезаэма, в чьем теле жила вторая половина ее души. Или Сейми, которая, еще будучи девочкой, последовала за своим возлюбленным, Зиреком. В то время он еще не был даже магом, а всего лишь священнослужителем, изгнанным и отверженным, а потому безумным от ярости. И обе эти пары, разумеется, после всевозможных опасностей и приключений, в конце концов воссоединились. Последняя, впрочем, продержалась недолго. Судьба — или демоны — разлучили Сейми и Зирека. После, много времени спустя, они встретились вновь, но тогда Сейми, умелая ведьма, была уже мужчиной, ибо могла менять пол по своему желанию. Она — вернее, он, — украла часть Бессмертия, чем очень озаботила Ульюма, Повелителя Смерти. На восточном краю земли она выстроила свой город, город бессмертных, и правила в нем. Там Зирек и нашел ее, но уже не увидел в ней ни возлюбленной, ни друга. И теперь город Сейми, Сеймирад, поглощен морской пучиной.
Возможно, эти примеры, о которых Совейз, разумеется, знала, поддерживали девушку в ее отчаянном преследовании.
Когда идешь за кем-то, лишенным разума, можешь оказаться в самых мрачных и темных уголках земли. Или в круговерти бессвязных, беспричинных и бесцельных свершений.
* * *
Лес, что так долго служил домом двум влюбленным, остался далеко позади. Перед Совейз лежали холмы и горы, где не росло ничего, кроме серебристой, бледной травы и лишь пролетающие облака давали зыбкую тень. Она, дочь Князя Демонов, не питала ненависти к солнцу, а иногда, особенно на заре, утренней или вечерней, чувствовала, что готова полюбить этот сверкающий, прекрасный диск. Однако в жаркий полдень Совейз спешила укрыться от его палящих лучей в пещерах или тенистых ущельях. Поэтому передвигалась она большей частью все-таки в темное время суток, под бледным оком луны и алмазными слезами его, звездами, вечными спутниками всех скитаний земли. Когда уставали ноги или тропинка становилась чересчур узка, Совейз шла прямо по воздуху, остужая натруженные ступни в потоках утреннего горного ветерка. Иной раз она призывала птиц, и те несли ее на своих огромных черных спинах, а иногда творила себе летающий ковер. А один раз, оказавшись у какого-то древнего заброшенного склепа, она увидела каменную статую льва, охранявшую вход. Он прослужил ей отличным конем, послушным и преданным, целых два дня и три ночи, прежде чем она разрешила ему вернуться к своим мертвым.
Хотя, впрочем, никто не обратил бы внимания на то, что древняя могила лишилась стража. В седой траве обитали разве что мыши.
И безумие. Его следы были повсюду. Невидимые глазу, но понятные сердцу. Идя по этим следам, Совейз оказалась на вознесенном в небо плоскогорье. Пересекая его, она к рассвету вышла на другую сторону гор. Из-под гигантского обрыва уступами сбегали вниз холмы, а за ними до самого горизонта тянулись просторы степи.
Пока она созерцала предстоящий ей новый путь, из-за гребня утеса внизу появилась процессия людей в причудливой одежде. Они выползали ей навстречу из всех щелей и пещер, как черви из земли.
— Девушка! — окликали они ее. В их голосах звучал страх, но, как отметила Совейз, скорее за нее, чем за себя. Наконец из толпы выступил бледный старик, чья не то мантия, не то просторная рубаха была украшена нашитыми золотыми пластинами. Золотой же массивный обруч охватывал ему голову; из-под обруча развевались легкие, как пух, седые пряди волос. Он воздел вверх длинный серый палец, на котором золотой и огненной искрой сверкнуло драгоценное кольцо.
— Девушка, не ходи дальше! Опасайся ступать на равнину! — проскрипел старик. — Там, за рекой, которая превратилась теперь в канаву с нечистотами, лежит город. Некогда он был прекрасен и полон жизни, теперь же подобен выгребной яме. Возвращайся туда, откуда пришла. Или, если хочешь, отдохни сперва у нас. А там, может, и останешься.
— Благодарю за участие, — отозвалась Совейз. — Но откуда такая забота о первой встречной? Может, на самом деле город по-прежнему прекрасен и полон жизни, а вы — изгнанники и просто из злобы дурачите путников?
Старик нахмурился.
— Это верно, мы — изгнанники. Спускайся сюда, и я поведаю тебе причину нашего изгнания.
— Нет уж, благодарю еще раз! Меня не интересует ни ваша история, ни ваши россказни о городе за рекой!
Прокричав это, Совейз двинулась вдоль края плоскогорья прочь. Ее и в самом деле интересовала в этом мире одна-единственная вещь, и если ради нее придется спускаться в долину — что ж, она спустится, какие бы ужасы не ожидали ее там.
Позади нее еще какое-то время слышалось бормотание и причитание отверженных жителей пещер, но вскоре стихло.
Над миром поднялось солнце и его лучи теплым поцелуем коснулись головы Совейз. Она, уставшая душой и телом, тяжело вздохнула.
Около полудня она нашла себе небольшую пещеру и остановилась там, чтобы переждать жару.
Похоже, Чуз тоже провел в этой пещере час или два. В ее сухом воздухе еще витал отзвук его плача, на желтых меловых стенах остались выцарапанные им странные, бессмысленные знаки. В глубине пещеры по камням сочилась тонкая струйка воды, и Совейз напилась из этого мутного источника, как пьют люди, когда испытывают жажду. Она жажды не испытывала никогда, но от прикосновения холодной воды к губам ей ненадолго стало легче.
Потом она заснула. И, как и всем Ваздру, ей снились сны, невнятный калейдоскоп видений и образов, схожий с песней или музыкой — больше пищи для чувств, чем для ума. Но когда солнце начало клониться к закату, она проснулась и грезила на грани яви и сна еще несколько мгновений, и в эти мгновения увидела сон, который мог быть сном любой земной женщины: Олору-Чуз, юный, сильный и прекрасный ее возлюбленный. Открыв глаза, она поняла, что это всего лишь сон. «Неужели я так и буду вечно идти за ним и вечно терять из виду? — почти в отчаянье подумала она. — Неужели вместе с ним Азрарн наказал и меня, пожалев о том, что когда-то породил на свет?»
Обрамленное черным зевом входа, в пещеру заглядывало солнце. Совейз неподвижно лежала на камнях, и размышляла над своим сном, когда увидела, что у входа появилось еще несколько солнц, поменьше: факелы. Племя отверженных нагнало ее, пока она спала, и теперь отыскало ее убежище. Старик с золотым обручем сидел у нее в ногах. Совейз шевельнулась и обнаружила, что эти люди связали ее во сне. Помимо неумелых узлов, веревки держало еще и заклятие, довольно сильное. Убедившись, что ее власти вполне хватит, чтобы справиться и с веревками, и с людьми, дочь Азрарна успокоилась и принялась ждать, когда эти сумасшедшие не объяснят ей, зачем все это проделали.
И объяснение не заставило долго ждать.
— Теперь, упрямая девушка, — объявил скрипучим голосом старик, — ты выслушаешь нашу историю.
— Хорошо, — согласилась Совейз, — я выслушаю. И будь, пожалуйста, по возможности краток.
Но старик, похоже, не услышал ее слов.
— Далеко на равнине, за мили и мили отсюда, протекает река, а у ее излучины стоит город, называемый Шадм, хотя некогда его звали иначе. Черные чары и колдовской туман царят на его улицах. А правят в нем шестеро Хозяев и три Хозяйки. Я знаю это, потому что сам присутствовал при вступлении Правителей во власть. А теперь, подобно медведю-шатуну, я скрываюсь в пещерах и слежу за городом силой своей мысли, и отвращаю от него тех путников, которых вижу. И рассказываю всем об этом городе, чье имя теперь — Шадм, Поделенный.
Совейз зевнула, прикрыв рот ладонью. При этом, разумеется, один из узлов распался, словно веревки были просто накиданы поперек рук девушки. Но если старик и заметил это, то не подал виду. Закат догорал извне, факелы чадили и разглядеть что-либо в этой душной темноте было почти невозможно. Рассказчик историй про павшие города наклонился к Совейз и спросил:
— Что ты ищешь в Шадме?
— Ты испытываешь мое терпение, старче, — проговорила колдунья. — Рассказывай свою сказку или убирайся.
Но про себя подумала: «Что бы я ни искала, я никогда это уже не найду. Я могу искать это здесь — или на другом краю земли, или под землей, теперь уже все равно. Лето моей любви миновало. Идет зима.»
А старик, приосанясь, вымолвил с важностью:
— Мы поведаем тебе историю Лайлий, Огненных Яблок.
После чего начал говорить, чуть раскачиваясь в такт плавному течению своей речи. Его рассказ был столь живописен, подробен и обстоятелен, что собственная жизнь показалась Совейз бледным ожерельем мифов, пришедших из тьмы столетий.
2
ИСТОРИЯ ЛАЙЛИИ
Некогда в городе, теперь называемом Шадм, жил богатый торговец, глава старейшин этого города. У этого торговца рос единственный сын, наследник всего его благополучия. Юношу звали Жадред. И у этого юноши, как говорится, не было разве что птичьего молока или золотых яблок, — торговец так любил своего сына, что не мог отказать ему почти ни в чем.
Когда юноша достиг совершеннолетия, пошли разговоры о скорой свадьбе. Но ни одна из юных красавиц тех земель не казалась юноше достаточно совершенной. Ему показали множество портретов, перед ним открыли множество дверей и подняли множество покрывал, но юноша так и не выбрал ни одной из достойнейших. Меж тем торговец старел и торопил сына, ибо хотел еще до своей кончины увидеть молодую пару в любви и счастье, а, может, и понянчить внуков.
Однажды на закате к городским воротам прибыл путник. Несмотря на то, что свита его была весьма невелика, богатая одежда и изящные манеры выдавали в нем человека высокого происхождения. Его, разумеется, тотчас впустили и приняли со всевозможным почетом. Вступив в дом торговца, он застал отца и сына за игрой в шахматы и обратился к ним с такими словами: «Государи мои, я слыхал, в этом доме ищут невесту для юноши, обладающем всеми достоинствами, а посему ждут, что девушка найдется также прекрасная и полная совершенства. Знайте же, что я служу могущественному господину, у которого растет дочь-красавица. И он послал меня, чтобы моими устами сказать вам: «Пусть благородный юноша этой же ночью последует за моим гонцом, и тогда он втайне сможет увидеть мою дочь, никем незамеченный, и судить сам, подходит она ему или нет.»
Отец и сын были немало удивлены такой странной речью.
«Кто же он, твой могущественный повелитель?» — спросил торговец.
«Сейчас я не вправе открыть вам это. Ведь может случиться так, что твоему сыну не понравится дочь моего повелителя и, хотя ничего постыдного в этом нет, каждому по нраву свое, о девушке может пойти дурной слух — она, мол, вовсе не так хороша, как об этом рассказывают. А потому мой повелитель пожелал, чтобы все было сделано ночью и втайне.»
Торговцу эти слова пришлись не очень-то по вкусу. Но юноша, как это свойственно молодым, обожал приключения, а потому тотчас захотел последовать за гонцом. Склонившись к отцу, он горячо зашептал ему на ухо, а гонец меж тем терпеливо ждал их решения. Золотые яблоки!
Не прошло и часа — золотое яблоко солнца как раз коснулось румяным боком молочно-белой глади реки — как Жадред уже следовал за своим провожатым. Еще на пороге дома торговца тот велел ему: «Держись от меня ровно в семи шагах, не говори со мной и с теми, кто заговорит с тобой по дороге. Иди за мною след в след, не уклоняясь в сторону и не останавливаясь.»
Предупреждение оказалось не лишним, поскольку, не прошли они и двух улиц, как столкнулись с веселой компанией молодых господ этого города, среди которых у Жадреда, разумеется, имелось немало приятелей. Они размахивали факелами, бутылями с вином и кубками. Завидев друга, многие стали звать его присоединиться к их веселью. Но он лишь молча покачал головой и, не замедляя шага, проследовал за гонцом дальше.
Некоторое время спустя они вышли на узкую улочку, которая вела к западному краю городской пристани, протянувшейся на целую милю, ибо многие товары прибывали сюда именно по реке. Здесь, у тусклого масляного фонаря, сидела грязная нищенка. Она громко стонала и взывала к милосердию прохожих. Жадред хотел было кинуть ей монетку, но, взглянув на своего спутника, увидел, как тот сделал резкий предостерегающий жест. И юноша прошел мимо, а нищенка грязно выругалась ему вслед.
Внезапно узкую улицу перегородила процессия жрецов из близлежащего храма. Они шли, распевая гимны и ударяя в бубны. Жадред почти прижался к стене, чтобы миновать их как можно скорее, но один из служек схватил его за рукав и прокричал: «Тело лишь прах, не стоит потакать ему в его желаниях! Лишь о своей бессмертной душе должен заботиться ты день и ночь!..» С этими словами служка протянул ему кубок со священным напитком. Но юноша отстранился и оттолкнул кубок, едва не выбив его из руки служки.
Его провожатый шел вперед все тем же размеренным шагом. Солнце уже почти скрылось за краем мира.
Жадред обнаружил, что они каким-то образом прошли через старый город и оказались в приречном загородном квартале. За высокими стенами, окружавшими богатые, старинные усадьбы, угадывались в темноте купы деревьев. Городские фонари остались позади, глухую черноту ночи нарушал лишь свет далеких звезд. Вместе со светом ушли и звуки ночного города, гомон гуляк у трактиров, крики сторожей — здесь царила тишина, нарушаемая лишь шумом ветра в древесных кронах. Жадред начал уже подозревать недоброе и, вспомнив все предостережения отца, нашарил на поясе рукоять кинжала. Но в этот самый миг слуга внезапно остановился у малоприметной калитки в толще беленой стены. Отперев калитку своим ключом, он сделал приглашающий жест.
Жадред колебался не более секунды. Он решительно шагнул в калитку — и оказался в большом саду, немного запущенном, зато полном восхитительных ароматов. Юноша сощурился, вглядываясь в темноту: ему привиделся огонек среди деревьев, а порыв ночного ветра принес ему вздох серебряной арфы.
«Чего ты ждешь? — прошептал слуга в самое ухо юноше. — Каждый вечер дочь моего хозяина играет на арфе в маленькой беседке. Ступай к тем трем персиковым деревьям, и ты сможешь увидеть и услышать достаточно.»
Вслед за перебором струн юноша услышал нежный девичий голос — он пел какую-то балладу, слов было не разобрать, но само пение звучало столь чарующе, что Жадред, словно околдованный, бросился к трем персиковым деревьям, чтобы сквозь ветви увидеть источник этих небесных звуков.
Посреди сада, едва различимая под сплошной завесой цветущего плюща, стояла беседка. В ней горели три большие лампы из чистого золота, усаженные крупными самоцветами. Но та, что сидела в их свете за большой сладкоголосой арфой, излучала сияние, превосходящее блеск всех алмазов и сапфиров мира.
Потрясенному юноше показалось, что такой красоты доселе не видывал смертный мир — и, быть может, он был не так уж далек от истины. Перевитые золотыми нитями, ее волосы имели тот самый восхитительный оттенок темного пламени, какой бывает у солнца на закате. Огненно-рыжим потоком стекали они с ее плеч, становясь золотыми в свете ламп. Ее пальчики, унизанные перстнями, казались белее снега. Она пела, перебирая струны арфы, и огоньки драгоценных камней блестящими мушками мельтешили перед Жадредом. Но ее глаза, ярче всех драгоценностей, просто ослепили юношу.
Невидимый, он слушал ее песню из тьмы сада, и думал, что никогда еще не встречал девушку с таким восхитительным голосом. Он готов был сам пустить корни в этом саду, чтобы каждый вечер стоять здесь персиковым деревом и слушать это пение, обращенное к звездам.
Закончив балладу, девушка отставила арфу в сторону, поднялась на цыпочки и погасила светильники. Ее грацию Жадред мог сравнить лишь с грацией танцующей птицы. Меж тем девушка вышла из беседки и удалилась по направлению к темному дому, быстро пропав из виду.
Жадред, словно зачарованный, вернулся к калитке, где его, скрестив на груди руки, поджидал давешний слуга.
«Я…»- пролепетал юноша.
«Сейчас, прошу тебя, не говори ничего, — перебил его слуга. — На дороге тебя поджидает экипаж, и вознице велено отвезти тебя со всей поспешностью домой.»
Жадред выглянул из калитки, и действительно увидел карету, запряженную тройкой прекрасных жеребцов. На козлах скорчился темнолицый возница, больше похожий на обезьяну, чем на человека.
«Мы хотим получить ответ, подобающий случаю, составленный по всем правилам сватовства — если оно, конечно, будет,» — добавил слуга.
«Конечно, будет, — с жаром ответил юноша. — С первым светом!»
«Такая спешка нам не к чему. Жители этого дома придерживаются правила «вечер утра мудренее». Присылайте ответ с началом сумерек.»
С этими словами слуга вошел в калитку и запер ее за собой.
Жадред, все еще не пришедший в себя, сам открыл дверцу кареты и уселся на бархатные подушки. Кучер хлестнул лошадей, и юноша не заметил, как оказался у собственного дома. Погруженный в сладостные мечты, он не обратил внимания ни на чудных лошадей, принесших его домой в мгновение ока, ни на чудного возницу.
Представ пред отцом в тот же вечер, Жадред объявил:
«Или я женюсь на ней, или не женюсь вовсе!»
Торговец был удивлен, но — золотые яблоки!
* * *
После проведенных с такими предосторожностями смотрин дела покатились со скоростью снежной лавины — но уже без какой-либо таинственности, так что под конец даже благородный торговец не находил в этом ничего удивительного или настораживающего. Выяснилось, что хозяином пришедшего гонца был весьма известный и весьма уважаемый господин. Господин этот к тому же был очень стар, последние годы тяжело болел, а теперь почти стоял на пороге смерти. Имея множество сокровищ и единственную дочь, он перед кончиной желал разумно распорядиться своим достоянием. Размышляя над тем, кто мог бы заменить его возлюбленной девочке отца, он нашел, что глава старейшин города будет самым подходящим свекром. Ибо дом торговца славился своим богатством и пышностью, а его сын многим девицам казался весьма завидной партией. Оба родителя обменялись множеством изящных и вежливых писем, к коим каждый раз прилагались щедрые дары. Отец девушки не раз извинялся за то, что сам не может предстать перед новой семьей его дочери, ибо прикован тяжкой болезнью к постели. Зато сама девушка не раз посетила дом жениха, выказав себя воспитанной и почтительной дочерью, во всем покорной воле отца, — к немалому удовольствию влюбленного Жадреда.
Звали девушку Лайлия. Помимо красоты она обладала кротким нравом и изящными манерами, могла читать и писать на нескольких языках и восхитительно музицировала. К тому же была столь чиста и невинна, что походила на ребенка, вызывая всеобщее умиление и восторг. Все эти качества, — несомненно, дарованные ей великолепным воспитанием отца, — вполне искупали одну особенность девушки: будучи преданной и любящей дочерью, она проводила с родителем большую часть своего времени. А его болезнь включала в себя такой неприятный недуг как светобоязнь: глаза старика не выносили ярких огней или дневного света. Поэтому и девушка вставала с закатом солнца и бодрствовала в ночные часы, а отдыхала днем до новых сумерек.
Это объяснение устроило почти всех. И более всех — молодого мужа. Ему казалось очень заманчивым отсыпаться днем, ночью занимаясь всем тем, чем обычно занимаются молодожены.
Итак, обмен письмами и подарками состоялся, жрецы благословили союз и назначили день свадьбы, угодный богам (которым, как всегда, угодно было лишь одно: чтобы их оставили в покое). Все необходимые приготовления были закончены, новые покои ждали молодых. И наконец настала долгожданная ночь, когда, при свете факелов Жадред явился сочетаться браком с юной Лайлией. Это должно было произойти в саду, в укромной беседке, ибо всем показалось невежливым устраивать празднество в доме, где лежит смертельно больной старик.
Лайлия уже поджидала его — цветок среди цветов, источающий неземной аромат. Ее приданое — весьма немалые богатства — выставили здесь же, среди клумб, на всеобщее обозрение. Больной родитель, разумеется, не смог присутствовать — да этого никто и не ожидал. Более достойно было удивления то, что с девушкой не вышли в сад слуги и подружки, но Лайлия объяснила, что подруг у нее, по причине уединенной жизни, нет, а слуги в этом доме содержатся в большой строгости и потому, конечно же, подглядывают из-за деревьев за церемонией, но выйти не решаются.
Жадреда бы устроило любое объяснение. Он был совершенно счастлив.
В ту же ночь их поженили. Свадьбу справляли в доме отца жениха, и потом весь город твердил, что не было свадьбы более пышной, а спальни молодых более изысканной, чем у этих двоих.
Оставшись наедине с молодой женой, Жадред нетерпеливо обнажил ее юное тело, и увидел, что свершилось все, о чем он только мог мечтать. Она, разумеется, была девственна, доказательства чему представила Жадреду в тот же час, но, к изумлению мужа, оказалась изобретательной и страстной любовницей. Их взаимным ласкам не было конца, пережив одну волну неземного удовольствия, они тотчас седлали вторую, а когда юношу покидали силы, Лайлия умело и нежно возрождала в нем угаснувшее было желание. В одну из таких передышек, постанывая от наслаждения под губами возлюбленной, Жадред раскинул руки и перевернул стоявший подле кровати драгоценный хрустальный кувшинчик с ароматическим маслом. Кувшинчик разбился и поранил ему руку.
«О, мой дорогой господин!» — вскричала Лайлия, увидев кровь на его запястье.
«Ерунда, царапина,» — ответил Жадред.
Но Лайлия, нервная, как все юные девушки, испуганно помотала головой.
«Нет, нет! Кто знает, какой злой дух болезней может подкрасться к нам и через самую маленькую ранку!» (Ну да, подумал Жадред снисходительно, она же столько времени провела рядом с больным стариком!) «И, если ты позволишь мне, — продолжала эта заботливейшая из жен, — я знаю способ удалить любой яд из любой раны.» Сказав это, она припала губами к царапине. Жадред удивленно и ласково погладил ее по плечам. То, что из раны можно таким образом отсосать почти любой яд, он, конечно же, знал. Но кто бы мог подумать — его так любят, что чуть ли не плачут при виде обычного пореза! Убедившись, что кровь больше не течет, а края царапины сошлись, Лайлия наконец подняла голову, отерла рот и улыбнулась. Ее губам вскоре нашлась новая работа, а еще немного времени спустя она уже сидела верхом на своем муже, исполняя самый чарующий танец, какой только видели глаза мужчины. Она раскачивалась и извивалась на нем и провела его через все семь ворот ночи. «О, что за жену подарила мне судьба!» — думал восхищенный Жадред. Их крики под конец путешествия были так громки, что с росшей под окном яблони упало несколько переспелых плодов.
Проснувшись на рассвете, Жадред увидел, что жена уже оставила его ложе и отправилась в свои затемненные покои, которые он, будучи влюбленным и заботливым мужем, велел приготовить заранее. Эта ночь стоила ему немалых сил, и окончательно проснулся он уже ближе к вечеру.
* * *
Медовый месяц пролетел как одна неделя. Но, как ни пытался Жадред приучить свою жену к солнечному свету — помалу, неспешно, она по-прежнему бодрствовала ночью и пряталась в доме днем. Но за это никто не мог винить юное создание. «Все потому, — с любовью думал Жадред, — что она так любила своего отца.» Каждый раз она мягко отказывалась выйти на солнце, а он не мог приказать ей с должной строгостью. Все те же золотые яблоки.
Именно по этой причине молодые проводили вдвоем меньше времени, чем хотелось бы Жадреду, ибо днем у юноши, как у всех молодых людей, находились дела, и он не мог, подобно своей жене, не смыкать глаз всю ночь напролет.
Помимо светобоязни у Лайлии обнаружилась еще одна странная особенность: она ничего не ела и обходилась лишь двумя-тремя глотками воды в день. Сначала это приписывали излишнему волнению, затем скорби из-за разлуки с возлюбленным родителем. Но дни шли, молодая становилась полноправной хозяйкой в доме — и по-прежнему ничего не ела, во всяком случае, на глазах у мужа. Она объяснила ему, что за годы, проведенные в тихом, полном ожидания смерти доме, она привыкла есть у себя, и лишь один раз в день. Жадреду ничего не оставалось, как пожать плечами и смириться с новым ее капризом, хоть все эти отговорки и начинали его беспокоить.
Прошло около пяти недель, и беспокойство Жадреда начало расти день ото дня. Однажды утром он проснулся до света, намереваясь нежными ласками разбудить дремлющую супругу. Но несмотря на ранний час — восточный край неба только начал сереть — Лайлии уже не было в спальне. Жадред поднялся с постели в самом дурном расположении духа и за одинокой трапезой сильно выбранил служанку за то, что она просыпала соль. Ведь всем известно, что это — к несчастью. Но вместо того, чтобы прибрать и сгинуть с глаз долой, женщина разразилась рыданиями.
«О, господин мой! — запричитала она. — Вот именно, что к несчастью! Пусть милостивый господин позволит своей рабе рассказать ему о том, что хранится в моем сердце вот уже три дня и наполняет меня таким ужасом, что я, кажется, скоро лишусь рассудка!»
Изумленный Жадред тотчас позабыл о своем гневе.
«Говори, — велел он. — Говори, не бойся. Раз ты так напугана, я больше не буду бранить тебя. У всякого может дрогнуть рука, если он едва не плачет.»
И вот что рассказала ему плачущая служанка.
Как и все домашние слуги, она частенько вставала еще до первых петухов. И вот однажды рано утром, примерно за полчаса до рассвета, она наполняла кувшины водой из колодца, что во дворе. Внезапно ей послышался какой-то странный звук — он раздавался очень близко и, казалось, шел прямо из-под земли. Служанка, конечно же, испугалась, но любопытство пересилило страх. Поэтому она оставила кувшин у колодца и спряталась в кустах под стеной, которой были обнесены все дворовые постройки. И едва не лишилась чувств, когда увидела, как одна из огромных каменных плит, тех самых, что укрывают весь двор, приподнялась и отошла в сторону. Прямо из-под земли во двор выбралось какое-то призрачное существо: женщина не могла разглядеть его хорошенько в сумеречном свете, увидела только, что одето оно в белый саван и черный плащ. Выбравшись из лаза, существо приподняло тяжелую плиту и с легкостью водрузило ее на место, словно это был не камень, а пуховая подушка. Затем призрак внимательно огляделся — вот когда служанка порадовалась, что успела спрятаться! — и распрямился. Свет разгорался все ярче, и служанка смогла увидеть, что пред ней стоит женщина, вся покрытая пылью и чем-то темным и липким, слабо отблескивающем в первых лучах солнца. Кажется, это была кровь. Подойдя к колодцу, призрачная женщина вытянула полное ведро и тщательно обмылась. И когда она смыла с себя пыль, комья земли и кровавые потеки, онемевшая от ужаса служанка узнала свою молодую хозяйку, Лайлию!
«И где она побывала в ту ночь, я не знаю, да и знать не хочу. И не знаю я, что с ней случилось, а только я видела, что она убила бы любого, кто застал бы ее в этот час у колодца в таком виде. Умывшись, она распустила свои прекрасные волосы и как ни в чем ни бывало отправилась в те покои, где проводит, запершись, все дни. И теперь, — добавила несчастная женщина, — я очень боюсь, господин мой, что она как-нибудь прознает про меня и убьет меня за то, что я увидала.»
«Если кто и прибьет тебя, так это буду я! — вскричал Жадред в сильном гневе. Но голос его дрожал, ибо сердце юноши сжималось от страха. — А заодно я вырежу твой лживый язык!»
«Нет, нет, хозяин, я не лгу, и я могу доказать это!» — вскричала служанка.
«Так докажи.»
И она доказала. Она привела Жадреда к той плите, откуда, как она видела, появилась ее хозяйка. Плита и в самом деле выглядела так, словно ее неоднократно поднимали. Но самое страшное для Жадреда было то, что он нашел под ней защемленный клок огненно-рыжих волос.
«Она снова ушла этой ночью и снова вернулась за час до рассвета. Я слышала, как она сдвигал плиту и потом видела ее у лестницы в верхние покои. Нынче она почему-то торопилась. Прядь ее волос защемило плитой и она отгрызла их своими собственными зубами — да-да, я видела это так же ясно, как вижу сейчас тебя, мой господин! И никто не заметил бы этой пряди, если бы не искал, как это сейчас сделал ты, хозяин. Я пыталась поднять эту плиту, но мои руки слишком слабы. Попробуй сделать это, господин, и мы узнаем, привиделось мне все это или нет.»
Жадред попытался сделать, как она сказала. Но даже используя свой кинжал как рычаг, он не смог поднять камень больше, чем на дюйм. Но и этого хватило, чтобы убедиться: отрезанная прядь уходит глубоко под плиту, которую, видимо, гораздо легче поднять снизу, чем сверху.
Распрямившись, Жадред сказал торжествующей служанке:
«Ты сказала правду. Но пока никому не говори об этом, ни даже моему отцу. Проследи и дай мне знать, когда она снова пойдет сюда. И тогда я сам посмотрю, куда это она ходит каждую ночь.»
* * *
В тот же день юноша предпринял кое-какие шаги. Поскольку в детстве ему не могли отказать ни в чем, он еще мальчишкой нередко лазал в погреба и кладовые, расположенные под кухней дома. Эти помещения были лишь частью целой сети переходов, тянувшихся глубоко вниз, к сердцу города. Но, позволяя сыну исследовать самые темные закоулки этого царства, где не водилось ничего страшнее крыс да столетней пыли, отец Жадреда распорядился завалить камнями все выходы, ведущие из погребов в более глубокие тоннели. Ибо один из них, и это было известно всем, проходил через весь город к древнему захоронению у берега реки, вне городских стен. Кладбище стояло почти заброшенным, там хоронили только самых бедных покойников. А потому это место пользовалось дурной славой.
Прихватив молот и стальной прут, Жадред, никем не замеченный, пробрался в самый дальний угол винного погреба и принялся расковыривать кладку. Потрудившись несколько часов, он наконец пробил тонкий слой камней — ведь преграда ставилась, чтобы удержать ребенка, ибо ни один взрослый по своей воле не полез бы в эти катакомбы — и, чихая от пыли и каменного крошева, оказался в кромешной тьме тоннелей. При себе у него была лампа и небольшой чертеж, руководствуясь которым, он довольно быстро вышел в подземных ход, пролегавший как раз под внутренним двором. Дойдя до плиты, которую, как оказалось, снизу действительно открывал мощный рычаг, Жадред обнаружил в пыли множество следов одних и тех же ног, многократно прошедших туда и обратно по лабиринту тоннелей. И, к его ужасу и горю, это были очень маленькие ноги, с плотно прижатыми друг к другу пальчиками. Помимо отпечатков ног он разглядел в пыли и другие метки. Приблизив лампу к одной из них, он убедился, что это запекшаяся кровь…
Он никогда не подозревал свою Лайлию, он любил ее, как только молодой муж может любить свою прекрасную жену, но увидев эти кровавые следы, он понял все. И когда все части головоломки сложились в ясную картину, ему только оставалось удивиться, как это он не видел всего этого раньше…
* * *
«Прости, любовь моя. Сегодня ночью я не смогу разделить с тобою ложе, как это подобает мужчине. Я очень устал.»
Сказав это, Жадред повернулся на бок и притворился спящим, ожидая, что Лайлия тотчас вскочит и побежит к подземному ходу. Но она лежала рядом с ним, гладя его плечи и перебирая волосы, пока в ночном небе не показалась полная луна.
Убедившись, что она ушла, Жадред открыл глаза и вскочил с постели. Наскоро одевшись и повязав вокруг пояса меч, он крадучись прошел в погреб и оттуда знакомой дорогой вышел к ходу под внутренним двором.
У него была с собою лампа, крошечный огонек которой еле-еле разгонял тьму на два шага вперед. Еще в детстве исследуя подвалы старого дома, он научился хорошо ориентироваться в кромешной тьме переходов и теперь уверенно шел вперед, прикрывая огонек ладонью. Несколько раз тоннель резко сворачивал, и перед одним из таких поворотов Жадред укрыл лампу плащом — на всякий случай. И вовремя! Впереди во тьме тоннеля мелькнул белый отблеск и послышался тонкий тихий звон — это звенели золотые браслеты на запястьях и щиколотках его жены. Она шла вперед быстрым шагом, не оглядываясь и не останавливаясь, как будто шла на базар по хорошо знакомой улице. Юноша, стиснув стучащие зубы, осторожно последовал за ней.
Тоннель неожиданно кончился, открывшись анфиладой больших пещер, полных дыр и проемов, в которых сияло мириадами звезд ночное небо. Под потолком попискивали и хлопали крыльями стаи мышей, и Жадред поспешно погасил свою лампу, боясь потревожить их. Лайлия скользила впереди все той же легкой тенью, схожая с ночным мороком или привидением. Так ни разу и не оглянувшись, она вылезла наверх и прошла сквозь пролом в старой кладбищенской ограде.
Полная луна заливала равнину молочно-белым сиянием. Под городской стеной, укрытые сенью старых деревьев, высились могильные камни и склепы. Некоторые дома мертвецов были столь велики и роскошны, что скорее напоминали небольшие дворцы, пусть разрушенные непогодой и временем, но все же величественные и прекрасные. Жадред вздрогнул: эти постройки напомнили ему старый пригород, куда привел его странный слуга, чтобы познакомить с будущей женой.
Следуя за Лайлией, он оказался в тени огромного склепа. Крыша его давно провалилась, но резные колонны были все еще целы, уцелели так же и прекрасные статуи, украшавшие могилу. Из всех щелей и провалов склепа изливалось жуткое зеленоватое свечение, почти осязаемое, словно густой туман. Лайлия, словно веселая козочка, проскакала по ступеням к дверям гробницы, которые широко распахнулись ей навстречу. Темный зев могилы поглотил ее и двери снова закрылись.
Жадред остался среди могил, словно громом пораженный. Его кровь давно превратилась в лед, и многие отважные юноши на его месте давно бы бросились в спасительное бегство. Но гнев, как и любовь, иногда способен творить немалые чудеса. Вознеся молитву одному из самых благих божеств Верхнего Мира, Жадред вскарабкался на дерево, чьи ветви нависали прямо над склепом. Пробравшись меж полуразрушенных барельефов, он отыскал подходящую дыру и заглянул внутрь.
Внизу царил настоящий праздник. В центре склепа высился огромный каменный саркофаг, из которого давно выселили его законного обитателя. Вдоль саркофага, словно пиршественные скамьи, стояли большие лари, в которых опускают в могилу все, что может понадобиться ее хозяину в загробном мире. Видно, эта гробница некогда принадлежала могущественному повелителю, ибо повсюду в ней сияли в призрачном свете жемчуга и драгоценные камни, парча, похожая на смятое золото и бархат с истершимся от времени рисунком. Свет исходил от жидкости, налитой в две плоские чаши, вознесенные на золотых подставках в рост человека. Помимо этих ламп повсюду мерцали кипящей фосфоресцирующей жидкостью светильники поменьше. За саркофагом, как за праздничным столом, сидело девятеро гостей. Перед каждым стоял изукрашенный камнями золотой кубок — и в каждом кубке плескалось вино иного цвета. Эти девятеро смеялись, шутили, целовались и всячески выказывали друг другу свое расположение. В их манерах, речах и облике ясно читалось родство, так что Жадред решил, что видит некий семейный совет или просто праздник. Каждый был тонок в кости, белокож и обладал копной ярко-рыжих, так хорошо знакомых Жадреду, волос. Их одеяния напоминали ночные сорочки — или, что было ближе к истине, могильные саваны. И девятой за этим столом сидела, разумеется, его жена, Лайлия.
«Давайте выпьем, — промолвил один из пирующих. Он был похож на Лайлию, словно брат-близнец. Быть может, он и был ей родным братом. — Давайте выпьем за нас, за наше бессмертие, за нашу долю, за наш успех и за всех тех слабоумных тщеславных людишек, что бегают днем по улицам этого города. Пусть они и далее пребывают в неведенье о нас, а мы выпьем за их здоровье!»
И гости выпили, а затем обменялись кубками и снова выпили. Вино, которым они угощали друг друга, постоянно меняло цвет: оно было то красным, то желтым, то зеленым, то белым, то черным. И при этом они обменивались бесконечными шуточками и насмешками над людским племенем, над его привычками и повадками, над его глупостью и смертностью.
Затем открылась новая дверь, ведущая в самое сердце склепа, и у пиршественного стола появились слуги. Иные из них походили на людей, иные больше напоминали обезьян. Среди них Жадред, к ужасу своему, увидел и того слугу, который сопровождал его в ночном путешествии. Слуга низко поклонился и объявил, что кушанья готовы.
Девятеро оживились и с жадностью набросились на еду, принесенную слугами на золотых подносах. Они ловко орудовали ножами и вилками, подкладывая друг другу особо лакомые кусочки. Но Жадред, едва увидел, что именно принесли пирующим слуги, лишился чувств и упал замертво среди холодных камней.
* * *
Когда он пришел в себя, восточный край неба уже наливался светом утра. Ночная роса увлажнила древние камни, холодные и совершенно мертвые. Ничто не говорило о том, что в полночь здесь кто-то пировал и предавался веселью. И все же Жадред был уверен, что те девятеро не привиделись ему. Он вознес богам благодарственную молитву и, еле шевеля затекшими членами, сполз по дереву вниз.
Итак, бедный юноша убедился, что служанка не солгала. И, хотя племя этих нелюдей и обладало бессмертием и невиданной силой, им все же зачем-то понадобился он, живой и смертный человек. Как же сумели они обвести его вокруг пальца? Значит, не было ни дома, ни сада, ни экипажа, ни лошадей? Одни только склепы и призраки? Он видел девятерых, одной из них была его жена. Означало ли это, что остальные восемь тоже живут среди обычных людей где-то в городе? И каждую ночь еще восемь постелей остаются пустыми, а жены и мужья — одураченными? Что ж, теперь ему было понятно, почему Лайлия так упорно отказывалась есть вместе с ним. Она делала это по той же причине, по которой пряталась от солнца. Прекрасная девушка оказалась умертвием.
Жадред знал, что ему теперь следует делать. Он должен пойти домой и дождаться сумерек. И когда она снова придет к нему разделить супружеское ложе, он убьет ее.
Решив это, он зашагал прочь от кладбища, охваченный одновременно скорбью и гневом, а солнце меж тем неспешно вставало у него за спиной. И так жутко он выглядел в этот час, испачканный землей, с искаженным лицом, что жители домов, ютящихся у самых городских стен, поспешно прятались от него, приговаривая, что вот он, тот самый дьявол, что пугал их все эти годы и грабил могилы, унося тела их родных и близких. Но Жадреду было не до глупых крестьянских сплетен.
* * *
Случилось так, что именно в этот день отец Жадреда отправился по делам и вернулся лишь к ужину. Юноша, не успевший ему ничего рассказать, распорядился лишь, чтобы эту трапезу приготовили с особым тщанием и роскошью.
На закате торговец и его домашние, а также несколько друзей дома расселись за большим столом в главном зале дома. Все эти люди были здесь и в тот вечер, когда справлялась свадьба Жадреда и Лайлии. До сих пор молодая ни разу не выходила к столу. Но сейчас юноша велел послать за ней.
«Я хотел бы, чтобы она наконец поела вместе со всеми,» — пояснил он. Гости, отлично знавшие о «странностях» хозяйки, весело рассмеялись.
Лайлия пришла и села за стол, сложив на коленях белые руки. Жадред сел рядом с нею и начал упрашивать отведать «вот этого великолепного вина».
«Прошу извинить меня, господин мой,» — ответила она, отстраняя кубок.
«Нет. Сегодня ты должна выпить за мое здоровье»
«Но ведь ты знаешь, господин мой, что я не пью вина.»
«Удивительная жена, — заметил один из гостей. — Создана из одних добродетелей!»
«Ну тогда, — настаивал Жадред, — съешь хотя бы кусочек мяса.»
«Нет, прости меня.»
«Вот этот персик».
«Нет, прости.»
«Ну, хотя бы ложечку меда…»
«Прости меня господин мой, — покачала головой Лайлия. — Но я уже поела. У себя, как обычно.»
«Странный обычай!» — заметил один из гостей.
«Верно, очень странный, — усмехнулся Жадред. — И тем не менее, моя жена всегда ест без меня. Но скажи нам, нежная Лайлия, что именно ты ешь? Слуги говорят, что кушанья, которые они тебе приносят, остаются почти нетронутыми, а то, чего недостает на тарелках, получают собаки, ждущие под твоим окном.»
Гости рассмеялись. Лайлия потупилась.
«Ну, теперь ты выпьешь вина? Хотя бы для того, чтобы окрасить румянцем твои бледные щеки? И съешь хотя бы крошку хлеба — ради меня?»
«Прости, господин мой. Но я неголодна.»
«Да, — сказал Жадред странно изменившимся голосом. — Вот здесь ты сказала правду. Ибо прошедшей ночью ты, несомненно, насытилась на целые сутки вперед.»
И так страшен и зловещ был его голос, что на этот раз никто не рассмеялся. В зале повисла неловкая тишина. Даже пламя свечей выпрямилось, словно ожидая, что же ответит мужу Лайлия. Но та не подняла глаз.
«О чем ты говоришь, Жадред? — удивленно спросил торговец. — Ты же только что сказал, что она не ест при тебе, откуда же ты тогда знаешь, что она наелась на сутки вперед? Смотри, бедная девушка напугана. Нельзя так мучить ее.»
«Нельзя? — повторил Жадред. — Что ж, сейчас все мучения окончатся.» — Голос юноши был необычайно тих, а лицо — смертельно бледно. — Этой ночью я, собираясь проверить сплетни, последовал за своей женой туда, куда она похоже, уходит от меня каждую ночь. Я спустился за ней в подземный ход, уводящий за город, к старому кладбищу. И там я увидел, как она присоединилась к своим родичам, пировавшим в склепе. Вместо вина они пили кровь, желчь и другие соки человечьего тела, а на ужин им подали отрезанные груди мертвых женщин. И она ела и пила вместе с ними, смеясь над глупостью и слабостью рода людского.»
Ужас сковал всех, кто сидел в том зале. Ни у кого не было сил даже пошевельнуться, но тут Лайлия вскочила на ноги и кинулась к торговцу, протягивая к нему молитвенно сложенные руки.
«Спаси меня, отец мой! — вскричала она. — Ибо сын твой сделался безумен!»
«Да, в ту ночь я был очень близок к помешательству, — ответил Жадред. — Но если вы, мои друзья и родичи, не верите моему слову, расспросите слуг. Среди них найдется по крайней мере одна живая душа — кто это, я пока не хочу говорить — которая видела, как наша хозяйка уходит под землю, а под утро возвращается, вся в пыли и крови, и умывается возле нашего колодца.»
Тогда Лайлия снова вскочила на ноги и обвела гостей диким, страшным взором. Вся ее красота и невинность исчезли, перед изумленными людьми стояло жуткое умертвие. Одного только взгляда на ее перекошенное лицо было довольно, чтобы более не сомневаться ни в одном слове Жадреда.
«И что же, — проговорила Лайлия, — о ты, изощреннейший и хитроумнейший из всех мужей, сумевший выследить меня, намерен делать теперь?»
«А вот что», — ответил Жадред. Шагнув к ней вплотную, он выхватил кинжал и по самую рукоять вонзил в ее сердце.
Из ее груди вырвался хриплый, каркающий крик, и она упала к ногам мужа, а язычки всех свечей притухли, словно не желали видеть этой ужасной картины.
3
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ЛИЛАЙИ
Все те, кто присутствовал в тот вечер за столом, поклялись страшной клятвой молчать об увиденном до конца дней своих. Также договорились они, что юная жена Жадреда умерла за столом при всех, внезапно и скоропостижно, ибо подавилась костью, и никто из гостей не успел ничего предпринять. В остальном все было в деснице богов, ибо в еще восьми домах несчастного города обитали мертвецы, никем не подозреваемые, всеми любимые. Каждый поспешил в свой дом, дабы убедиться, что среди его семьи нет и не может быть подобного ужаса.
Лилайю похоронили на следующий же день, с превеликим плачем и скорбью. Жадред, как говорили, просто сломлен горем и едва держится на ногах. Он велел изготовить для своей возлюбленный отдельный, ранее невиданный склеп, равного по пышности и убранству еще не видели кладбища земли. На самом деле единственной причиной этой спешной постройки было, конечно же, нежелание Жадреда оставлять свою жену даже мертвой в фамильном склепе, среди праха его предков.
Горожане весьма сочувствовали горю главы совета старейшин и даже объявили трехдневный траур в память о нежной Лилайи. Все три дня дом торговца стоял наглухо запертым.
Такому затворничеству тоже, конечно же, нашлась веская причина. Все три ночи с того вечера, в который он убил свою жену, Жадред метался в постели, будя домочадцев криками и воплями. Он и в самом деле очень горевал, но вовсе не о смерти своей молодой жены. Он был просто в отчаянье оттого, что не мог убить поганую ведьму второй раз. Что ж, такова любовь.
* * *
На третью ночь, за несколько часов до рассвета, когда заходящая луна вынырнула из туч и протянула к земле бледные руки, Жадред внезапно проснулся и вскочил на постели.
И было от чего. В первый момент юноше показалось, что он просто еще не проснулся. Ибо то, что сидело в изножье его кровати, могло быть только ночным кошмаром. Морок имел образ Лилайи, имел даже ее запах, тонкий аромат ночных цветов, исходивший от ее белой кожи и медно-рыжих волос до пят. Видение, согнувшись, сосало кровь из ранки на левой щиколотке Жадреда.
Содрогнувшись всем телом, он уже набрал в грудь воздуха, чтобы позвать на помощь, но ужас, который можно испытать лишь в страшном сне, сжал его гортань. Тогда он ущипнул себя, заклиная ночное видение исчезнуть, но ночное видение подняло голову и улыбнулось ему кровавым ртом. «Лежи спокойно, возлюбленный господин мой, — проворковала Лилайя. Положив ему руку на грудь, она заставила юношу снова лечь. В ее маленьких белых ладонях таилась невиданная сила — Жадреда словно придавило каменной плитой. Меж тем Лилайя продолжала: — Чему ты так удивлен? Разве жена не обладает правом придти ночью в постель своего мужа? Ты же, надеюсь, не думаешь, что в самом деле убил меня, а? Такую плоть как моя нельзя убить, ее лишь можно обездвижить, и то на время. Ни сталь, ни железо, ни камень, ни кость, ни вода, ни огонь не могут причинить мне большого вреда. И разве ты не слышал, как мы обсуждали все это в склепе прекрасного принца?»
Весело рассмеявшись, она встала, откинула назад длинные волосы и пропала в столбе черного дыма.
«Благодарение богам, это был всего лишь сон,» — с превеликим облегчением пробормотал Жадред.
Закрыв глаза, он заснул снова. Но наутро обнаружил ранку на ноге и почувствовал большую слабость, как бывает при потере крови.
* * *
После этой ночи в доме торговца поочередно побывали три мага. Первый явился с многочисленной свитой; когда он вошел в главный зал дома, один его паж тотчас подставил ему золоченое складное кресло, а второй лег на пол, дабы служить ему скамеечкой для ног. Яркая мантия мага пестрела письменами и загадочными символами, а в руке он держал жезл, на конце которого время от времени вспыхивала крошечная молния.
«Этот юноша, — проговорил маг, — подвергся нападению вампира. Она жаждет не только крови, но и мести. И постарается уничтожить его, если сможет.»
«Обо всем этом мы уже догадались и сами,» — проворчал торговец.
«Я рад, что вы так хорошо осведомлены в подобных материях», — заявил маг и прищелкнул пальцами. К нему подскочил один из его слуг, держа в руках хрустальную чашу с большой зеленой жабой. Маг приподнял жабу и выдавил из нее фосфоресцирующую жидкость с резким мятным запахом. Отпив из чаши, маг продолжал: «Комната, в которой почивает юноша, должна быть убрана диким терном и шиповником. Пусть он заплетет все окна и двери. Перед сном юноша должен натереться маслом, благословленным жрецом одного из тех богов, которому доводилось воскреснуть из мертвых. И если после этого вампир все-таки посмеет приблизиться, юноша должен повторять вслух молитву, которой я тайно обучу его.»
Все было сделано так, как сказал мудрец. В городских предместьях нарубили колючего кустарника и заплели им все окна и двери. Жадреда вымазали маслом с ног до головы. Он лежал, не смея заснуть два или три часа после захода солнца, но ближе к полуночи его сморила дрема, а когда он открыл глаза, то увидел, что чертовка снова сидит на постели и сосет его кровь. Тогда Жадред принялся выкрикивать слова молитвы.
Лилайя подняла голову.
«Ни железо, ни сталь, ни камень, ни кость, ни вода, ни огонь, — сказала она. — Ни колючий терновник, ни дурацкое масло. И уж тем более ни слова.» И прежде, чем Жадред успел хотя бы пошевельнуться, она острым, как кончик ножа когтем прочертила длинную вертикальную царапину у него на груди и набросилась на струйку крови с жадностью голодного волка.
Юноша закричал от ужаса и боли, и в его спальню тотчас сбежались стоявшие на страже слуги — с мечами и копьями. Но Лилайя только рассмеялась им в лицо. Сначала ее тело сделалось прозрачным, а затем развеялось легким облачком, которому, конечно же, не могли повредить ни мечи, ни копья.
Второй маг был одет в мрачный черный балахон и не имел при себе даже мальчика на побегушках. Его лицо закрывала искусно вырезанная деревянная маска, в темных прорезях которой горели два недобрых глаза. Из-под маски доносилось непрестанное бормотание: маг возносил молитвы своим богам, ежеминутно напоминая им, что не забыл об их существовании. И когда он обратился к торговцу, его речь звучала столь же монотонно, как речитатив служки в каком-нибудь храме.
«Да склонится твой слух к речам недостойнейшего служителя всеблагих и всемогущих, — пробубнил он. — Исходя из скудных знаний моих, кои собрал за десятки лет неустанных трудов и опасных странствий, я посоветую вам сделать вот что…» По его словам, юноша должен будет поститься весь этот день и от рассвета до заката семь раз омыться в холодной воде. За час до наступления сумерек он должен явиться к месту успокоения своей жены, один или в сопровождении доверенных лиц, которым тоже следует выдержать пост и омовения. Войдя в склеп, они должны выждать, пока край солнца не коснется горизонта, тогда быстро вскрыть саркофаг. Возможно, они увидят там совершенно нетронутый тлением труп, возможно, она даже откроет глаза и встанет. Но прежде, чем она успеет что-либо сделать, ее муж должен отрубить ей голову, вырезать из груди ее сердце и бросить то и другое в огонь. После чего разделить на части остатки тела и сжечь на семи разных кострах.
«Но ведь она сказала, что ни сталь, ни огонь не могут причинить ей вреда,» — попробовал возразить Жадред.
«Слушайся голоса моих богов! — сурово прогудел из-под маски маг. — Им лучше знать!»
Жадред был в большом сомнении, но проделал все в точности так, как велел этот старец в черном. Хотя семь ледяных купаний пришлись ему совсем не по вкусу.
На закате он и несколько слуг подошли к пышному склепу, в котором лежали останки его жены.
Едва солнце коснулось земли, они сорвали покров с саркофага и сняли тяжелую каменную крышку. Как и ожидалось, Лилайя лежала в гробу прекрасна и свежа, словно спящая принцесса. Люди переглянулись в нерешительности — ни у кого не хватало духу поднять на нее оружие первым.
Но тут умертвие открыло глаза, и Жадред не стал более мешкать. Одним ударом меча он отсек ей голову, а затем исполнил все действия мерзкой процедуры, предписанной магом. Но когда расчлененное тело положили на семь костров и подожгли, в треске сучьев всем послышался торжествующий женский смех.
Разметав прогоревшие костры и развеяв пепел, люди отправились домой. И каждому из них, особенно Жадреду, постоянно мерещилось, что кто-то невидимый идет за ними след в след. Войдя в дом, они крепко заперли двери и окна. Все мужчины дома, вооружившись, собрались в большом зале, ожидая и страшась неизвестности. Черный маг, закрывшись маской, бормотал молитвы в углу.
Так прошло несколько часов. И уже под утро, за час или два до света, страшный удар обрушился на двери дома, сорвав их с петель. Пепел и зола семи костров вихрем ворвались в зал, запорошив людям глаза. А вслед за вихрем в зал вошла смеющаяся Лилайя. На ее прекрасном теле не осталось ни царапины, она по-прежнему была жива и невредима.
«Ни железо, ни сталь, ни камень, ни кость, ни терновник, ни масло, ни слова, ни костры, ни ритуалы, ни тем более бормотание старого глупого мага не могут разлучить меня с тобою, мой любимый! — прокричала она. — Я так люблю тебя, что осушу до дна! Не сегодня, нет, я подожду, когда ты будешь один. Завтра я приду за тобой. И если с тобой по-прежнему будет охрана, я убью их всех одним мановением руки. Защищайся, бормочи молитвы, но помни: ничто не спасет тебя от меня. Я выпью твою кровь, я высосу мякоть из твоих костей. Дождись завтрашней ночи, господин мой. А пока я возьму себе на память вот это!»
В один прыжок она оказалась рядом с Жадредом, схватила его левую руку, откусила большой палец и исчезла, растворившись в воздухе.
«Благие боги, спасите меня, ибо я проклят!» — вскричал несчастный юноша. Выхватив меч, он хотел пронзить себе сердце, но слуги успели удержать его от этого силой.
Разумеется, второй маг был немедленно изгнан из разоренного дома. А на рассвете явился третий маг.
Он был одет в обычный наряд и поношенный, видавший виды плащ. Длинную седую бороду не украшали амулеты, а крепкий ясеневый посох походил скорее на дорожную палку, чем на магический жезл. Взглянув на бледного Жадреда, он промолвил успокаивающим тоном: «Никогда не надо отчаиваться, молодой человек.» Затем он попросил вина и уселся с отцом и сыном за большим столом у камина, обсуждая предмет их волнений так же спокойно, как если бы речь шла о цене на зерно. Расспросив их обо всем до мельчайших подробностей, маг проговорил:
«Очень жаль, что ваш дом — не единственный в городе, пораженный этой чумой, и жаль, что об остальных восьми так ничего и не известно. Об этом следует позаботиться во вторую очередь. Что же касается твоей бывшей жены, Жадред, то о ее племени известно немногое, но уж что есть. Это правда, что род этих существ древен и темен. Они ненавидят и презирают людей, но вынуждены жить с ними бок о бок, ибо те дают им пищу. Видимо, когда-то их род был един с человеческим племенем, но в силу каких-то причин разделился. Думаю, это произошло во время сильного голода, когда людям, чтобы выжить, пришлось пожирать собственных собратьев. И те, кто выжил тогда, уже не могли отказаться от человечины. Их начали преследовать, а они продолжали учиться выживать. И поскольку учеба длилась столетиями, они постигли это искусство в совершенстве. Мы называем их умертивиями, потому что, убитые, они каждый раз встают из могилы, но на самом деле название неверно, эти существа гораздо живее, чем мы с вами. Поэтому нет никакого смысла снова и снова убивать ту, что называла себя Лилайей. Ибо с каждой новой смертью ее искусство воскресать только совершенствуется.»
«Значит, я обречен,» — горестно сказал Жадред.
«Я так не думаю. Если ты наберешься храбрости попробовать еще раз и будешь достаточно проворен, тебе, быть может, удастся отнять у нее большую часть сил, так что она не сможет ничем повредить тебе в дальнейшем.»
«Как это?» — спросил Жадред и надежда блеснула у него в глазах.
«Слушай меня очень внимательно. На земле не существует ничего, что не отбрасывало бы тени. Не имеют теней, если захотят, лишь воистину бессмертные. Ибо что такое тень? Препятствие на пути прямого света. Не отбрасывает тени лишь то, чье тело или субстанция настолько прозрачны, что свет беспрепятственно проходит сквозь них.
«А Лилайя?»
«А Лилайя, судя, по всему, тень имела. Ибо это ты заметил бы сразу, можешь мне поверить. Нет, племя Лилайи, как и мы, имеет тени, но их тени сильно отличаются от наших. Человек состоит из обычной плоти, плоть же таких существ, как Лилайя, совсем иная, необычная. Тень человека — просто более темное пятно, тень вампира — его немаловажный орган. Ибо когда на их тела падает свет, он проходит сквозь плоть, отдавая тени немалую часть их сил. Именно поэтому они так не любят больших источников света и не выносят солнца. Попади они в его лучи, две трети их сил ушло бы в тень.»
«И что же?» — нетерпеливо спросил Жадред.
«А вот что. Нынче вечером не ложись в постель вовсе. Просто сиди в своей спальне и жди. Позволь ей подойти к тебе вплотную. Но в спальне должна находиться яркая лампа, а у тебя под рукой — припрятан кинжал. Умоляй ее, сули ей сокровища, упади перед ней на колени — ибо эти существа тщеславны и властны, они любят видеть людей униженными и молящими о пощаде. Но встань так, чтобы она развернулась против света, чтобы ее тень легла у нее за спиной. А затем режь эту тень своим кинжалом у самых ее пяток. Отрезав, хватай эту тень, поскольку она вполне материальна, и прячь в какой-нибудь сосуд или мешок, который можно накрепко запечатать или завязать. Но учти: и то, и другое не должно пропускать ни воздуха, ни света. Лилайя бросится к тебе, будет умолять и сулить все земные сокровища — не вздумай поддаться на эти уговоры! Ибо она пустит в ход все свои чары, теперь, впрочем, неопасные, поскольку лишится своей силы.»
«И тогда я смогу убить ее?» — спросил Жадред, сверкнув глазами.
«Такую тварь, как она, убить не так-то просто, — ответил маг. — Но ты увидишь, что она во многом станет подобна обычной смертной женщине. Ты сможешь по своему желанию запереть ее под стражу или отослать в иные земли и таким образом избавиться от ее происков.»
Солнце свершило свой круг по небу и неспешно закатилось за край мира. На землю спустилась ночь, и Жадред заступил на свою бессонную стражу в собственной спальне. Подле его кровати горела яркая лампа, а под подушками был спрятан острый кинжал.
Последние краски заката отгорели в распахнутых окнах, их сменила черная тьма, словно весь дом погрузился в недра могилы. Жадред в беспокойстве мерил шагами маленькую комнату. Наконец рядом с окном, над самым полом, сгустилось облачко лунного света. Оно превратилось в высокий дымный столб, а из столба вышла Лилайя.
«Любимая, — тотчас сказал Жадред. — Я знаю, что ты явилась убить меня. Ты ведь поклялась в этом.»
«Вот именно,» — заявила ведьма и подняла руку с острыми, как ножи, ногтями.
«Об одном прошу я тебя, дай мне несколько мгновений, и я объясню тебе кое-что.»
«Твоя кровь и раздробленные кости послужат лучшим объяснением всему,» — ответила Лилайя, но не двинулась с места.
«О любимая, я только хотел сказать, что жестоко ошибался. Теперь мой страх перед тобой и твоими родичами исчез, и я буду лишь счастлив принять смерть из твоих прекрасных рук. Я понял, что все же люблю тебя превыше всего на свете и теперь не желаю иной смерти, нежели от твоих поцелуев. Да, я пытался предать тебя, даже убить, но теперь понял, что это было глупо, что я, как ребенок, сделал то, что мне велели другие. Я должен был понимать, что близость с тобой, существом высшей расы, уже есть величайшее наслаждение, и лишь глупец может отказаться от такого счастья. А потому я признаю себя глупцом и прошу у тебя прощения за это. Если моя смерть развлечет и порадует тебя — что ж, убей. Твоя красота не сравнится ни с чем в этом мире. Я пил из этой чаши, на которую немногие смели даже смотреть, и я почитаю себя счастливейшим из смертных. Уж лучше любить тебя всего месяц и затем принять смерть, чем всю жизнь жить с простой смертной женщиной и состариться рядом с ней.»
Взглянув в глаза своей жены, юноша понял, что старый маг не ошибся: эти бессмертные твари были о себе весьма высокого мнения, и потому Лилайя очень легко поверила в искренность слов Жадреда.
«За это, — сказала она, — я убью тебя не так мучительно, как собиралась.»
«Нет, о нет! — вскричал Жадред, словно в молитвенном экстазе, — Пусть моя боль будет моим последним даром тебе. Не щади меня, терзай и мучай, сколько тебе угодно. Ибо служить тебе, моя бессмертная богиня, есть мое самое сокровенное желание.»
Говоря все это, он приблизился к Лилайе, взял ее за руку и подвел к кровати. Яркий свет лампы озарил ведьму, и длинная темная тень протянулась от нее по ковру.
И тогда Жадред выхватил кинжал, упал перед Лилайей на колени и полоснул по ковру рядом с ее босыми ногами. И тотчас тень съежилась, словно смятый шелк, а в месте пореза выступил прозрачный ихор, словно кровь из раны. Страшно закричала Лилайя, которую предали во второй раз. Разъяренной львицей бросилась она на Жадреда, намереваясь разорвать его на куски, но теперь в ее руках уже не было прежней силы.
А Жадред подхватил с порезанного ковра нечто, похожее на легчайшую кисею, скомкал его в крошечный сверток и отскочил в дальний угол комнаты, подальше от беснующейся Лилайи.
«О, муж мой, пожалей меня, пощади! — взмолилась она. — Я принесу тебе несметные сокровища…»
«У меня уже есть твое величайшее сокровище,» — ответил Жадред, показывая ей сжатый кулак.
«Я сделаю тебя королем, — завывала Лилайя. — И буду любить тебя до скончания дней!»
«Нет уж, дважды я не попадусь в одни и те же сети,» — заявил Жадред и сунул тень в маленький кожаный мешок, после чего тщательно перевязал его крепкой веревкой. А когда Лилайя бросилась ему в ноги, грубо оттолкнул ее.
Но она продолжала обнимать ему ноги, разметав по полу огненные волосы, содрогаясь от ненависти и рыданий.
«Что ж, похоже, я и в самом деле не в силах убить тебя, — проговорил Жадред. — Но теперь и не хочу. Ибо ясно вижу, что отныне твоя жизнь станет для тебя куда горшей казнью, чем удар меча. Мои люди отведут тебя в горы или в болота за дельтой реки. Там можешь делать что хочешь: хочешь, живи; хочешь — умри.»
«О, Жадред, — простонала Лилайя из-под мантии своих волос. — Я и в самом деле ничего не смогу больше сделать ни с тобой, ни с собой, но у меня есть одна тайна, которую тебе следует знать.»
«Я лучше послушаю завывание ветра в печных трубах, чем твои тайны.»
«Ты помнишь, как мы пировали, я, мои сестры и братья, в том королевском склепе?»
«Конечно, помню. Такое не забывают. И ты и твои родичи будут прокляты за это навеки.»
«А ты помнишь, что угощая друг друга, мы пили за наш успех и за наше бессмертие?»
«Проклятая потаскуха, и ты смеешь напоминать мне об этом! Я не могу лишить тебя жизни, но зато могу отрезать тебе язык! Довольно я слушал твои речи!»
«Послушай еще немного. Неужели ты никогда не спрашивал себя, что мы тогда имели в виду?»
«Победу над людским племенем, которое вы одурачили.»
«Не просто победу. Мое племя немногочисленно, и ради того, чтобы кровь не портилась в наших жилах, мы не можем сочетаться друг с другом постоянно. Раз в несколько столетий мы поселяемся в каком-нибудь городе и вступаем в брак с людьми — наши мужчины с вашими женщинами и наши женщины с вашими мужчинами. Ради того, чтобы зачать детей. И моя утроба приняла твое семя, Жадред. И подобное свершилось еще в восьми семьях.»
Юноша застыл, словно громом пораженный. Кожаный мешок с тенью становился все легче и легче в его руках. Лилайя, обессиленная и сломленная, лежала перед ним на полу. Ее кожа посерела, волосы потускнели, глаза утратили блеск. Но голос оставался в се так же полон меда и яда, и этот голос говорил ему:
«О Жадред, со мною ты волен делать все, что угодно. Но в моей утробе растет твой сын. И все, что ты сделаешь со мной, ты сделаешь и с ним тоже.»
* * *
Третий маг, отказавшись от богатых даров и взяв лишь небольшой кошель с золотом, выехал со двора. Но покой так и не снизошел на дом торговца, хотя, конечно же, большинство слуг могло теперь по крайней мене не опасаться спать ночами в своих постелях.
Но зато остальные не спали еще много ночей.
Не так-то просто мужчине отказаться от своего первенца.
Для Лилайи приготовили покои в одном из помещений погреба, за надежной железной дверью. Там прожила она все время до родин, под опекой самых преданных слуг. Теперь ведьма напоминала пустой сосуд, лампу, в которой сгорело все масло. Она угасала и таяла с каждым днем. Под конец она утратила разум, став подобной годовалому младенцу. Сын торговца никогда не навещал ее в ее тюрьме. Но служанка, приставленная к Лилайе, каждый день докладывала ему о том, как растет в ее утробе ребенок. Казалось, все оставшиеся силы ведьмы ушли в ее большой, белый живот. Изредка, в погожие дни, ее выводили на крышу дома подышать свежим воздухом, ибо теперь она была безразлична к солнцу. Лишившись большей части своих сил, она уже не пеклась об оставшейся.
И наконец подошло время родин. Она мучалась всю ночь и под утро разрешилась здоровым и крепким младенцем.
Слуги разбудили Жадреда и сообщили, что ведьма умерла, вся сморщившись и иссохнув, как осенний увядший лист. За несколько часов у нее поседели волосы и выпали все зубы, а когда она испустила дух, ее тело стало похоже на мешок с тонкими, хрупкими костями.
Но ребенок…
«Я пойду и взгляну на него, — сказал Жадред отцу. — И тогда приму решение. В его жилах течет кровь живого мертвеца. И я не знаю, дала ли эта кровь ему все повадки и привычки его матери. И если да, то он не мой сын и должен быть уничтожен.»
Торговец взглянул на бледное, страшное лицо сына, и не нашелся с ответом.
Жадред спустился в погреб и вошел в комнату, чье маленькое оконце выходило во внутренний двор. Солнце щедрым потоком лилось сквозь стекло. И в этом потоке лежал ребенок, весь омытый золотым сиянием. Это был прехорошенький мальчишка, с пухлыми губами и умными глазенками. Кожа его была бледна, как самый белый пергамент, а пух на маленькой голове пламенел ярко-рыжим сполохом.
Жадред, нахмурясь, склонился над ребенком. Он уже занес над младенцем руку — ту самую, с откушенным пальцем, — но малыш улыбнулся беззубым ртом и ткнул в ладонь отца обоими крошечными кулачками.
«О сын мой, — проговорил Жадред. — Ты и в самом деле мой сын!»
И он взял малыша на руки, а солнце заглядывало в окно, будто огромное золотое яблоко.
4
— И вот, — продолжал рассказчик, — когда прошло еще несколько лет…
— С меня довольно, — сказала Совейз. — Ты рассказывал столь подробно, что дальнейшие события я могу описать сама. Смотри, даже тьма побледнела, пока слушала тебя.
Совейз была права. Новое утро вытесняло стареющую ночь.
Но старик, нимало этим не смущаясь, взглянул на Совейз из-под насупленных бровей. Девушка повела плечами, разминаясь и сбрасывая веревки, и села на камнях, подобная воплощению самой ночи.
— Раз ты так прозорлива, скажи мне, чем все кончилось, — не без ехидства предложил старик.
— Пожалуйста. Вот тебе конец: хотя многие из клана девяти были уничтожены, кое-кто все же остался. И остались их дети. Детей тщательно оберегали, они росли, окруженные всеобщей любовью… — Эти слова прозвучали в ее устах с какой-то особенной жестокостью, почти с насмешкой — у нее ведь так и не было детства. — И глупые родители, и смертные, и бессмертные, точно так, как их родители прежде, не могли отказать им почти ни в чем. И наконец эти младенцы превратились в настоящих, взрослых умертвий, воспитанных так, как предписывает обычай живых мертвецов — в неге и холе, не знающих отказа, избалованных крайне. И тогда они накинулись на своих живых родителей, захватили власть в городе, обратили все на пользу себе, уничтожая несогласных и принуждая к повиновению слабых. Они породили новых умертвий, и город стал обиталищем нежити. А ты, старик, и есть тот Жадред, желавший себе невесту, созданную из одних только совершенств и без единого недостатка.
— Женщина, — пробормотал рассказчик, побледнев, — как узнала ты это? Тебе кто-то поведал историю нашего города или ты сама колдунья? Ты развязала веревки, ты даже не заметила чар, которые я наложил на тебя, а ведь я — могущественный маг. Сила Шадма, Поделенного, велика. Он притягивает к себе все новые и новые жертвы. И они идут и идут к нему со всех концов земли, сами не зная почему. Богатые купцы, храбрые рыцари, прекрасные девы. Все они идут к излучине реки через эту вот равнину. Ибо Шадм, город живых мертвецов всегда голоден и всегда жаждет новых сокровищ. И даже одинокий странник — желанная пожива для этой утробы. И я буду вознагражден за тебя. Взгляни. Ты видишь эти бесценные кольца? Вот это сияло на пальце одного богатого торговца. Теперь оно мое, а ведь такому камню позавидовал бы и король.
— Но раз вы с твоим сыном по-прежнему такие большие друзья, почему ты отговариваешь меня идти в Шадм? — удивилась Совейз.
— Потому что я не бессердечен, — ответил старый Жадред. — Мне жаль юных дев, идущих прямо в пасть дракону. И иногда я волен по своему выбору отвратить невинную душу от этого вместилища скверны. Но упрямые девицы, а также ведьмы — вот они отдаются прямо в город, без пощады и милости. Живые мертвые очень любят занятные игрушки.
Он захихикал, и тогда истрепанные грязные обноски упали с его плеч и плеч его свиты. Под мерзкими тряпками оказались сверкающие парчой и драгоценностями одежды магов; ожерелья и камни силы сияли маленькими солнцами даже в тусклом свете факелов. Но Совейз заметила, что некоторые украшения, которые эти люди носили с таким сознанием своей мощи — не более чем драгоценные безделушки, погремушка для обезьяны. Жадред заговорил с веревками, все еще лежавшими поперек Совейз, и те снова обвились вокруг ее запястий, а по новому слову старика превратились в стальные оковы.
— Ты — ведьма, — произнес Жадред с силой. — Но твое колдовство — слабая потуга против той власти, что дана им. И мы только что в этом убедились. А теперь идем. Идем в город.
Свита старика, с ужимками и хихиканьем, подхватила связанную Совейз и повлекла вон из пещеры. Прыгая с камня на камень, они спустились с гор и вышли в просторы степи. Дочь человека, наверное, уже трижды умерла бы от страха. Но дочь демона предоставила событиям идти своим чередом. Она была абсолютно спокойна и не проронила ни слова.
* * *
Весь этот долгий день толпа изгнанников влекла ее через равнину — не останавливаясь и не замедляя шага, лишь время от времени меняясь, ибо, как ни легко было тело Совейз, ничьи руки не могли бы нести ее без передышки много часов подряд. Наконец, когда солнце уже коснулось верхушек трав, процессия достигла гигантского погоста. Все могилы здесь стояли перекопанными, вывороченные из земли камни громоздились один на другой, с ветвей деревьев свисали полуразложившиеся трупы и кости. Над этим оскверненным кладбищем, подобно темному надгробному камню, высились стены города. По ними, как и говорил старик, протекала река. Вернее, когда-то, быть может, в ней и текла вода, но теперь русло заполняла жидкая, маслянисто блестящая грязь. Солнце садилось, и «воды» реки наливались кровью. В небе кружили стервятники, на ветвях высохших деревьев сидели черные голодные вороны. Поглядывая на процессию круглым хищным глазом, они чистили свои крепкие, как сталь клювы или забавлялись тем, что катали человечьи черепа вдоль дороги перед воротами.
Толпа подходила к стенам все ближе, и все яснее различала Совейз голос этого города. И если иные города распознаются по шуму карет и телег, веселым выкрикам акробатов и гомону на рыночной площади, то этому городу были присущи дикая визгливая музыка флейт и цимбал, взрывы демонического хохота и вопли, полные отчаянья и муки. В воздухе стоял запах горящего масла, бесчисленных факелов и костров. Но яснее всего чувствовался запах тления — и в воздухе, и в криках, и в музыке. Казалось, его источают даже городские стены.
Ворота стояли закрытыми, но, видно, о приближении Жадреда узнали заранее, потому что едва процессия подошла вплотную, створки широко распахнулись, и старик, вместе со своей свитой людей и нелюдей, с Совейз, вознесенной высоко на поднятых руках, вступил в город.
Каким бы он ни был ранее, теперь Шадм, город живых мертвецов выглядел самым темным городом на земле. Черные прямые улицы напоминали скорее щели меж стен домов, так они были узки. Нередко между домами над улицей висели шесты, на которых плескались на ветру черные флаги и ленты. То здесь, то там на углах и пересечениях улиц высились колонны резного камня, сплошь покрытые изображениями и письменами на множестве языков. Совейз могла прочесть их все, но не вынесла из надписей ничего интересного: это были многократно повторенные славословия живущим в городе умертвиям. Изображения рассказывали о их бесчисленных — и наверняка выдуманных — подвигах. Над таким поистине детским тщеславием можно было только посмеяться. Нередко фасады домов украшали страшные маски из темной, зеленоватой бронзы. Глазами им служили стеклянные шары, наполненные фосфором, и маски светились жутким гнилушным светом. Над входами в храмы, дворцы и дома старейшин — их Совейз могла определить по богатому убранству и некоторым не слишком тщательно затертым надписям — висели разнообразные крючья, ножи и пилы. Со всех этих инструментов стекала свежая кровь, а из-за дверей доносились душераздирающие вопли.
Прохожие на этих темных улицах встречались редко, а те, что встречались, были закутаны в плащи и скрывали лица за бронзовыми масками. Завидев процессию Жадреда, они останавливались и бурчали что-то приветственное. Совейз видела, как загораются лисьим огнем глаза умертвий в бронзовых прорезях масок. Она даже, пожалуй, не удивилась бы, если бы они облизывались при виде свежей добычи. Некоторые протягивали бледные руки, чтобы тронуть рукав парчового одеяния Жадреда; ногти на этих руках больше походили на окаменевшие лепестки белых астр — тонкие и острые, как когти. Но Жадред никак не отвечал на все эти знаки внимания: он и его присные все так же деловито стремились по улицам, унося с собою вожделенную пленницу. Несомненно, это шествие являлось далеко не первым. Улучив момент и оглянувшись, Совейз увидела, что мертвецы хорошо знают порядок: все новые и новые бледные тени присоединялись к процессии. Они шипели что-то неразборчивое, они сжимали пальцы, словно вонзали свои когти в теплую плоть, — но держались поодаль.
О чем же думала Совейз, когда молчаливые стражи несли ее по улицам, напоминающим крысиные норы в заброшенном склепе?
Ну разумеется, ее мысли были далеки от тех, что могли бы проноситься в такой миг в голове глупой крестьянской девушки или даже умелой колдуньи. Ни одна колдунья земли не могла сравниться с дочерью Азрарна. Воздух этого города преобразил ее, запах тления и чар окончательно вытеснил из нее человека. Теперь она была демон. Демон, таящийся под личиной невинной и прекрасной девушки.
Наконец процессия остановилась. Перед Совейз открылась большая площадь, с трех сторон ограниченная домами. Река здесь делала небольшую петлю, и когда-то, наверное, ее сверкающие на солнце игривые струи часто радовали горожан, собиравшихся здесь на праздники или ярмарки. Но теперь изгиб реки напоминал змееподобный ухмыляющийся рот. Две большие арки в домах могли сойти за пустые черные глаза, а гигантский черный шатер, стоявший посреди площади на небольшом возвышении, довершал картину. Два полотнища шатра были отогнуты к куполу, подобно двум лепесткам черного цветка, и в них, словно в ноздрях дракона, полыхал красный свет. К этому шатру и поднесли Совейз. В нем горел огромных размеров очаг, а вокруг располагалось множество светильников, так что купол шатра терялся где-то вверху в мечущихся черных тенях. Но время от времени оттуда доносилось хлопанье крыльев или хриплый злорадный карк: видимо, купол, как огромная черная труба, раскрывался к небу, так что вороны могли свободно влетать и вылетать из шатра. Помимо очага и светильников в шатре находилось множество вещей, явно вытащенных из могил. Эти сокровища были расставлены и разложены так, что несчастной жертве, попавшей сюда, казалось, будто над ним выросли стены склепа. А меж резных плит и золоченых барельефов, в бронзовых складных креслах сидело около десятка мужчин и женщин. Все они казались на одно лицо: одинаково бледная кожа, одинаково черные длинные вьющиеся волосы. Их одежда, богатая и всячески изукрашенная, покроем напоминала могильные саваны. Кое-кто щеголял настоящим саваном — белым и полу истлевшим. Впрочем, подумала Совейз, можно ли требовать от умертвий хорошего вкуса? Рабы, смотревшие на своих хозяев с чисто собачьим обожанием, ходили меж кресел совершенно нагими. Вид ничем неприкрытой плоти явно возбуждал сидящих, время от времени кто-нибудь пощипывал рабов за особенно мясистые и аппетитные места. Один из благородных мертвецов стоял подле чана из толстого стекла, помешивая в нем золотой ложкой. В чане плавала прекрасная утопленница; облако ее волос колыхалось в золотистой кипящей жидкости. Мертвец попробовал варево и заявил, что пиву следует повариться еще немного.
Этот юноша больше походил на человека, чем остальные. К нему обращались с особой почтительностью, он явно распоряжался здесь всем и вся. Припомнив, что младенец в рассказанной ей истории спокойно лежал под лучами солнца, Совейз решила, что дневное светило, видимо, не может повредить им и теперь. И все же эта компания явно предпочитала ночь, отсчитывая новые сутки не с восходом солнца, а с закатом. Будучи сама демоном лишь наполовину, Совейз все же не могла не согласиться с тем, что это, конечно же, разумнее.
Отложив золотую ложку, юноша обернулся к вошедшему Жадреду. Старик простерся ниц.
— Возлюбленный сын мой! — проскулил он. — Погляди, какую славную дичь добыл я тебе в наших горах!
— Клянусь тенью моей усопшей матери, — проговорил мертвец, — ты заслужил нынче нашу благодарность! Ибо из тех сотен тысяч, что я уже видел здесь, эта девушка воистину одна на тысячу!
С этими словами он подошел к Совейз вплотную и оглядел ее с ног до головы.
Увидев, что лицо его пленницы совершенно спокойно, юноша удивленно вскинул тонкие брови.
— Ты не боишься? Разве ты еще не поняла, какая судьба ожидает тебя в стенах этого города?
Совейз улыбнулась. Мертвец поморщился — он не привык, чтобы жертвы улыбались ему в лицо. Но улыбка Совейз была не насмешлива, скорее — безмятежна.
— Быть может, — пропела она своим серебряным голосом, — ты расскажешь мне, что здесь, по-твоему, со мною будет?
— Ах, как славно! — непритворно умилился сын Жадреда. — Полагаю, я сохраню тебе жизнь на одну ночь и один день. Но с новым закатом ты, нежная и невинная дева, будешь подвергнута медленной и мучительной смерти, ибо таково желание моих братьев и сестер. Равно как и мое. А затем мы тобою пообедаем — и с немалым аппетитом. Но эти волосы я сохраню, — добавил он, взвешивая на руке тяжелую массу вьющихся волос Совейз. — Они будут чудным украшением к моему новому платью. А твои прекрасные глаза мы поместим в хрустальный шар. Я велю оправить его в золото и буду носить как браслет с самыми драгоценными сапфирами в мире. И вспоминать тебя с нежностью и любовью. О, вот прекрасная мысль! Я сложу о твоей смерти балладу и так оставлю твое имя в веках! Скажи, как твое имя, прекрасная дева?
Совейз услышала, как зароптали остальные мертвецы. Не так уж часто хочется едоку знать, как звали то мясо, которое лежит теперь на его тарелке. Впрочем, все тут же согласились, что мясо настолько прекрасно, что вполне заслуживает такой чести. Но будущее кушанье не оценило, сколь высоко его вознесли, прежде чем зажарить.
— Мое имя ни к чему тебе, — ответила Совейз, — а твоя песня — ни к чему мне. Также нет мне дела до твоих ночных и дневных развлечений и уж тем более до твоего обеда. Все, что меня сейчас заботит, это придумать, что бы такое сотворить с вами.
Эти слова прозвучали совсем иначе. Услышь ее сейчас Азрарн, он расхохотался бы и повторил свои недавние слова: «Ты — истинная дочь моя!» Ибо в этот миг Совейз была плоть от плоти его и кровь от крови.
Однако в городе Шадме, видимо, забыли о том, что существует Нижний Мир — или полагали себя тоже причастными к племени демонов, как и жителей Драхим Ванашты. (Что являлось грубейшей ошибкой.) Поэтому сын Жадреда взглянул на грозящую ему девушку лишь с веселым изумлением.
— Я полагаю, те, первые чары все еще действуют? — вопросила Совейз прежним тоном. — Ничто не может нанести вреда вашему племени — ни огонь, ни сталь, ни камень, ни кость?
— Да, моя сладенькая. Ничто из этого.
— Равно как и солнце безвредно для вас, ибо вы — полукровки?
— И снова да. Его лучи не опалят нашей кожи, хоть мы и не любим этот сверкающий шар, ибо он — уродливая ошибка богов.
— А как насчет ваших собственных теней? — спросила Совейз, и голос ее был полон яда и меда.
— Смотри, — сказал юноша и поднял руку так, что ее тень четко обрисовалась на неровной поверхности барельефа. — У нас есть тени. Только совсем не такие, как у людей. Нам нельзя повредить, ткнув в нашу тень кинжалом или отрезав ее от наших ног. Можешь попробовать, если хочешь.
— В таком случае, возможно ли вообще убить вас? — задумалась Совейз. — Есть ли у вас уязвимые места?
— Ах, — рассмеялся юноша, — не утруждай свою прекрасную головку такими рассуждениями. Подумай лучше о том, что я вскорости сделаю с тобой.
Смеясь, он взял ее руку, поцеловал, а затем лизнул гладкую кожу. Совейз и не подумала вздрогнуть или вырваться. Чем увереннее в себе эти полутрупы, населяющие Шадм, подумала она, тем легче с ними будет справиться. Юноша, который, конечно же, не мог читать ее мысли, рассеялся еще громче.
— Подумать только, какая невозмутимость! Дорогой отец, за эту добычу я уделю тебе кусок со своего стола и накормлю своими руками!
Дрожь прошла по телу Жадреда. Он согнулся еще почтительнее, и только жуки и маленькие могильные черви, из которых состоял ковер в этом шатре, могли видеть, как загорелись глаза старика. Он был просто счастлив.
— О, — сказала Совейз. — Так вы и людей кормите человеческим мясом? А мне он, помнится, говорил, что не изверг.
— А мы все не изверги, — ответил юноша. — И потому не можем оставить голодными наших слуг и гончих. Они едят не хуже нас, поверь мне. Но человечьего мяса им перепадает редко, лишь в виде большого лакомства. Этот вожделеющий твоей плоти старик сейчас чуть ли не умирает от счастья, полагая, что я уделю ему кусочек от тебя. Но ему достанется иное кушанье. А тебя я приберегу для себя и своей любимой сестры.
Сборище умертвий расхохоталось, а юноша повел свою жертву мимо светильников и плит, в самый темный угол шатра. Здесь, наполовину врытая в землю, стояла дверь, из которой открывался ход вниз, под город. Еще во времена человеческого правления под Шадмом уже была прорыта целая сеть подземных переходов, и умертвия беспрепятственно перемещались по ночам туда, куда хотели. Теперь же этот лабиринт сильно увеличился и обрел множество новых лазов, ведущих ко всем площадям города.
В подземелье не горел ни один факел, здесь было темно и влажно, но юноша прекрасно ориентировался в кромешной тьме. Однако ведя за руку свою жертву по извилистым тоннелям, он обнаружил, что девушка видит в темноте лучше, чем кошка. Вслед за ними отправился один из присных Жадреда, гнусное обезьяноподобное существо — то ли охранять пленницу, то ли в качестве свиты правителя. Так, следуя за умертвием и слыша тяжелое дыхание мерзкого существа за спиной, Совейз прошла по тоннелям и поднялась по небольшой пологой лестнице. Юноша вывел ее из-под земли на другой конец города, к большому, украшенному множеством колонн дворцу на берегу реки.
Этот дворец совсем не походил на дом, который упоминал в своем рассказе старик. Казалось, над ним прошел ураган. Штукатурка осыпалась, каменная кладка покрылась сетью трещин, а в одном месте и вовсе проломилась. В немногих уцелевших окнах были вставлены красные стекла, и за ними жутким фосфоресцирующим светом горели огромные лампы, так что прямоугольники красного света ложились на мостовую. Войдя в дом и поднимаясь по скрипучим лестницам на верхний этаж, Совейз увидела, что все комнаты этого дома заполняли живые уродливые статуи с перекошенными лицами и горящими фосфором глазами.
— Не бойся их, — сказал ей юноша. — Это наши дети, рожденные от людей. Они слабы и почти лишены нашей крови. Хотя человечье мясо любят ничуть не меньше. Но в них мало красоты и силы. Мы позволяем им иногда бывать с нами. Это нас развлекает.
Сын Жадреда привел ее в комнату, лишенную окон и почти лишенную обстановки, за исключением огромной кровати, спрятанной за парчовым пологом. Юноша прикрыл за собою дверь, оставив обезьяноподобного стража снаружи и проговорил:
— Сними свое платье, чтобы я мог увидеть плоть, которой жажду вкусить с новым заходом солнца.
Совейз снова улыбнулась ему, и что-то в этой улыбке показалось умертвию странным, потому что он нахмурился и повторил свой приказ куда грубее.
— Как пожелаешь, мой повелитель, — ответила Совейз.
Она расстегнула свое платье у ворота и вынула руки из рукавов. Ее белое одеяние скользнуло по телу и упало к ногам. Глазам повелителя живых мертвых открылось странное зрелище.
— Наваждение, — пробормотал он насмешливо, но все же отступая на шаг. — Этим ты меня не запугаешь.
Перед ним, чуть покачиваясь на огромном чешуйчатом хвосте, стояла женщина с телом змеи. Синие глаза превратились в желтые горящие щели с вертикальными зрачками. Чудовище улыбнулось и проговорило:
— Прости мне, мой возлюбленный. Как могу я создать иллюзию, которую ты не распознал бы тотчас же? Приди же, насладись мною. Мы немного развлечем друг друга, а затем я буду счастлива превратиться для тебя в то блюдо, которое ты сам пожелаешь.
— Старые трюки балаганных шутов, — заявил юноша по-прежнему насмешливо, но делая еще один шаг назад. Чудовище тотчас придвинулось к нему. — Прими вид, присущий тебе от рождения!
— Так я и сделала, — возразила женщина-змея. — Я с радостью выполю и другие твои повеления.
Тогда бледный юноша выхватил из складок своего одеяния длинный волнистый кинжал. Ведя ее в эту комнату, он полагал обнажить совсем иное оружие, и теперь был разочарован.
— Похоже, мне все-таки придется убить тебя сразу, — сказал он.
— Убей, — согласилось чудовище. — Если сможешь, конечно.
Все еще с гримасой сожаления на красивом, холеном лице, юноша замахнулся и ударил. Он был уверен в своем оружии: этот кинжал он лично вынул из гробницы древнего государя, сгубившего немало чудовищ. Но едва лезвие коснулось чешуйчатой груди, оно разлетелось на три куска, словно было стеклянным.
— Наваждение, — вкрадчиво и тихо повторила Совейз. Тихонько раскачиваясь, она начала обвиваться вокруг ошеломленного юноши. Он сдернул с шеи украшение в виде петли с перекладиной — его острие могло пробить даже камень — и ударил снова, целясь чудовищу в желтый глаз. Но и это оружие постигла судьба предыдущего. — Я знаю одного Повелителя, он мастерски владеет искусством Наваждения, и он преподал мне немало уроков. Наваждения и Безумия, мой прекрасный мертвец. Ну, что ты скажешь теперь?
Говоря все это, чудовище, чем бы оно ни было — плодом воображения, наваждением, призраком из горячечного бреда или дочерью самого Повелителя Демонов, — все крепче сжимало юношу в своих объятиях, так что под конец он не мог шевельнуть даже пальцем. Чешуйчатые кольца сдавили его с невиданной силой, он не мог набрать воздуха, чтобы позвать на помощь. Единственное, что ему оставалось, это прошипеть змее прямо в желтые глаза:
— Ты можешь раздробить мне все кости, но все равно не убьешь таким образом.
— Ах, ты разбиваешь мне сердце, — ответило бредовое видение, чей голос теперь весьма напоминал — и звучанием, и насмешливыми интонациями, — голос некоего Олору. — Я отдаю тебе всю страсть юного тела, а ты почему-то говоришь о раздробленных костях и смерти.
Юное змеиное тело еще больше сжало свои кольца, и голова бедного юноши откинулась назад, как у мертвой птицы. Любой смертный уже давно испустил бы дух в таких объятиях. Но мертвец остался жив — хотя сейчас мог считаться мертвецом более, чем когда-либо.
Совейз отступила на шаг, позволив телу упасть на пол. Действительно ли она изменила свою сущность или создала лишь иллюзию удушающих объятий, и в том, и в другом случае она сотворила сейчас самое сильное колдовство из всех, какие ей до сих пор приходилось пропускать через себя. И теперь наслаждалась первой своей победой — более ощутимой и сладкой на вкус, чем любые иллюзорные творения.
Стоя над юношей и зная, что он, хоть и бездыханный, прекрасно слышит ее, Совейз произнесла:
— Увы тебе и твоему городу, правитель! Напрасно старик принес меня сюда. Ведь я не хотела войны. Но теперь я уничтожу тебя и твой город. Я — ваше самое уязвимое место. Раз уж я, ваша смерть, явилась сюда, я воцарюсь здесь.
Вся ее женская гордость, вся гордость дочери Азрарна была уязвлена. Как, какие-то мертвяки смеют хватать ее, вязать во сне, пытаться убить и съесть? Ее, порождение куда более черной ночи и куда более яркого света? Ей и без того есть о чем горевать и чего бояться. Она прошла огромный путь, не плача и не жалуясь, но только теперь поняла, что город умертвий стал последней каплей, переполнившей ее чашу терпения. И теперь она даст волю своему гневу!
Она вышла из комнаты. У двери ее встретило обезьяноподобное существо, полагавшее, что охраняет своего господина. Совейз направила на уродца указательный палец, и тот лопнул, словно бычий пузырь, проколотый иголкой. Совейз спустилась по лестнице вниз, и глупые неповоротливые нелюди попытались задержать ее. Девушка взмахнула рукой, растопырив пальцы, и ближайших к ней мычащих созданий испепелило на месте. Молнии заметались по залам, поджигая истлевшие занавеси и разбивая красные стекла. Армия нелюдей бросилась наутек, дико вереща от ужаса. Совейз видела, как они, словно белки, карабкаются по стенам на крышу, ища спасения от ужасных молний.
Покинув дворец, девушка двинулась вдоль темных городских улиц. Давно этот злосчастный город не видал такого зрелища! Она шла, одетая сетью голубых искрящихся разрядов, сметая все на своем пути. Несколько раз кто-то пытался заступить ей дорогу, но Совейз, прекрасная и устрашающая, просто шла вперед, а смельчаки просто разлетались, обожженные, в разные стороны.
Она сжигала траурные полотнища и опрокидывала стеллы, изукрашенные лживыми надписями. Небо над городом по-прежнему оставалось темным, запах тления не исчез, и мученические вопли и крики стервятников по-прежнему слышались отовсюду, ибо оргия полночи набирала силу. Но не меньшую силу набирало голубое пламя Совейз, отражаясь белым сполохом в темной чаше неба и в широко распахнутых глазах обитателей Шадма, города живых мертвецов. Эти глаза смотрели на Совейз отовсюду: из темных окон, из провалов дверей, из-за углов и колонн. И тотчас прятались, едва встречали ее полыхающий взгляд.
И когда она подошла к тем самым воротам, в которые люди Жадреда внесли ее на закате, в сердце города возник нарастающий грохот колес по каменной брусчатке и звон множества лошадиных подков.
Совейз остановилась в проеме меж двух башен, прямо перед высокими воротами, и принялась ждать.
Вскоре на главной городской улице показались колесницы. Их влекли лошади, чьи ребра выпирали из-под натянутой на них шкуры, чьи пустые глазницы исторгали пламя, чье дыхание было холодным, как лед. Колесницами правили призраки, подобные мерцающим облакам. И лишь когда они подъехали ближе, Совейз разглядела, что это брат и сестра, Властители Умертвий. Осадив лошадей, они вытянули на Совейз указующие персты. Позади них неровной темной бахромой колыхалось воинство их присных.
Юноша на колеснице взмахнул плетью и крикнул:
— Мы благодарны тебе за то, что предоставила нам такое славное развлечение! Но теперь мы все же сделаем с тобой, что собирались!
— Ну так подойдите и сделайте, — ответила на это Совейз.
— Ну нет, — улыбнулась ей со своей колесницы девушка. — Не так сразу. Доброе вино не пьют одним глотком.
— Что ж, — сказала Совейз. — Я рада, что вы собрались здесь, чтобы пожелать мне доброго пути.
С этими словами она повернулась и толкнула створки ворот своей маленькой ладонью. Из руки выметнулся шар огня, который пожрал и дерево, и стальные засовы, словно они были сделаны из бумаги.
Увидев такое, некоторые из мертвого воинства швырнули в нее копья, надеясь удержать, но оружие, остановившись в воздухе и поразмыслив немного, повернуло и полетело обратно. Призрачные лошади заржали и вскинулись на дыбы. Юноша упал на мостовую с собственным копье в груди, изрыгая самую черную брань.
— Завтра я буду снова жив! — крикнул он. — И тогда берегись меня!
— О, завтра! — пренебрежительно отозвалась Совейз.
Ворота города стояли открытыми перед ней — вернее, их не было вовсе — и она беспрепятственно вышла наружу.
Все призрачное воинство, возглавляемое оставшейся колесницей, помчалось ей вдогонку и преследовало всю ночь, но не приблизилось к девушке и на дюйм. Она шла через равнины, спокойная и отрешенная, и трава мягко стелилась ей под ноги, а темные волосы развевались за спиной, как крылья птицы. Но сразу за ней воздух густел, а трава поднималась кустами шиповника и ежевики, колючки обдирали шкуры с боков лошадей, плети кустарника врастали в спицы колес, град камней и снопы молний обрушивались на головы мертвецов. И, хотя мертвого нельзя убить дважды, они все же падали замертво, когда молнией им отрывало голову или когда камни дробили им позвоночник.
Совейз могла, если бы захотела, водить их так за собой до рассвета, покуда последних преследователей не опалит взошедшее солнце и они будут вынуждены повернуть домой. Но она не захотела.
* * *
Солнце вставало над равниной. В его лучах золотилась тоненькая фигурка, застывшая посреди бескрайнего моря травы. Где-то далеко темной тучей над горизонтом виднелся Шадм, город живых мертвецов.
Она подняла вверх белые руки, словно приветствовала пробуждение дневного светила, вновь вернувшегося из тьмы хаоса, в котором оно каждое утро рождалось заново.
До самого полудня она стояла так, протянув руки к солнцу, ведя с ним долгую неспешную беседу. Для ее матери оно было неизменным источником силы и радости, ее отца мгновенно превратило бы в золу. Как относились друг к другу Солнце и Совейз, не знал никто, но всякий в те утренние часы мог бы видеть это слияние света и тьмы. Но никто не видел. В степи обитали разве что кузнечики и ящерицы, а ним не было никакого дела до того колдовства, что творила Совейз.
Город лежал от нее за многие мили, но она прекрасно видела его темные стены, возвышающиеся над рекой.
И вот, ровно в полдень, над его черными крышами и башнями, выглядевшими в дневном свете скорее уродливо, чем устрашающе, начал сгущаться воздух. Огромным неподвижным комом застыл он над городом, готовый вот-вот раздавить его своей непомерной тяжестью. Он загустел настолько, что вскоре стал непрозрачен, и солнце едва просвечивало сквозь него, словно сквозь темное стекло. Весь город был погружен в этот черный твердеющий слиток, ни извне, ни снаружи не раздавалось ни звука, ни шороха, ни даже дуновения ветерка. Даже крылатые пожиратели трупов застыли в этом слитке, словно мошки в янтаре. Шадм был запечатан. Запечатан, подобно склепу. И сверху, и снизу, и со всех сторон разом. Даже подземный лабиринт не мог теперь ни впустить, ни выпустить ни одного из обитателей Поделенного.
Шадм, город живых мертвецов оказался заключен в прозрачную сферу, зажатым со всех сторон, словно цыпленок в своем яйце. Так прошел полдень, отгорел закат, сгустились сумерки и настала полночь. И до самого рассвета ни одна тварь в городе и не подозревала, что поймана в ловушку.
Меж тем испарения и удушливые дымы копились под этой сферой, сделав воздух, оставшийся в городе, совершенно непригодным для тех, кто привык дышать. И мертвяки, чья кровь содержала слишком много человеческой, начали чахнуть и задыхаться.
Тогда всемогущие правители начали искать выход из города — сначала обычными способами, затем магическими. Ничего не помогло. Тогда они призвали своих мертвых богов, воскурив им в храмах полу истлевшее мясо. Но дым курений не проник сквозь хрустальный купол Совейз. Тогда они запричитали и застонали на все лады, но их стоны и крики услышала одна лишь Совейз, которая сидела в отдалении на обломке скалы и ждала.
Говорят, что она просидела так не один день и даже не один месяц, а целый год, наблюдая из равнины падение Шадма, города живых мертвецов. Иногда она подходила поближе и заглядывала внутрь темной хрустальной сферы, дабы удостовериться, что все идет, как надо. Или, поднимаясь на высокие утесы, призывала к себе соколов и спрашивала у них: «Как там мои мертвецы в Шадме, Поделенном?» И птицы рассказывали ей, что они видели. Но иные утверждают, что Совейз в тот же день ушла от обреченного города, вернувшись к своим бесконечным поискам Чуза в облике безумного Олору. И что она не стала наблюдать все корчи и агонии, которые увидели птицы и черные стены, но часто воображала их или призывала магический кристалл, чтобы полюбоваться на дело рук своих. А полюбоваться было на что. Шадм был заперт сам в себя, и все, кто жил в нем, живые и мертвые, оказались как бы в ином мире, отрезанным от земного. Сначала оголодавшие мертвецы сожрали своих рабов, которых рано или поздно все равно ждала эта печальная участь. Затем тех смертных, которые остались в свите Жадреда — ведь они, ожидающие своей награды, так и не вернулись в пещеры у отрогов гор. Затем — своих ублюдков. С этими было проще всего, ибо они частью передохли сами, поскольку не могли жить в том удушливом воздухе, которым была наполнена сфера. Те же, в ком еще теплилась жизнь, так и не поняли, что произошло, когда волнистые лезвия ножей перерезали им горла. И в конце концов в городе не осталось никого, кроме самих умертвий. И тогда, обезумев от голода, они набросились друг на друга, пожирая брат сестру и сестра брата. После такой смерти уже не было ни воскрешения, ни новой жизни, ибо нечему было воскресать: плоть была съедена и переварена. Под конец то, что осталось от последних умертвий, растащили последние птицы — что еще на несколько дней отсрочило их собственную смерть.
Так Совейз расправилась с городом, вообразившем, что она всего лишь еще одна глупая девочка и не захотевшем узнать, что перед ними — Азрарна-Совейз, дочь Князя Демонов.
И вот, однажды ночью, семь или восемь месяцев спустя, считая от того дня, когда она запечатала Шадм, на заброшенной горной тропе Совейз повстречала одинокую путницу. Река, чьи зловонные воды давно миновали Шадм и очистились, наполняясь множеством горных ручьев, шумела где-то внизу, в ее говорливой воде отражались белые утесы и звезды. Незнакомка обладала огненно-рыжей копной волос, белой, как утесы кожей не и отбрасывала тени. Быть может, Совейз заступил дорогу бесплотный призрак. Она подняла тонкую руку, на которой сверкнули в звездном свете золотые кольца (и Совейз тотчас заметила, что незнакомка вся была усыпана золотом: оно блестело на ее запястьях, на шее, в рыжих волосах).
Быть может, это была Лилайя?
— Мой сын, — проговорила женщина. — Ты убила его.
— Как ты узнала? — поинтересовалась Совейз. — Старый Жадред шепнул тебе от этом, умирая? Громко ли он стонал, когда той сын, как мясник на бойне, разделывал его еще живое тело? Было ли ему при этом так же весело, как в ту ночь, когда он хотел получить кусочек меня?
— О смерти сына мне сказало сердце. А ночной ветер прошептал мне на ухо имя его убийцы.
— Но что тебе до твоего сына? — удивилась Совейз. — Ты ведь погибла при его рождении.
— Мое дитя, — прошептал призрак, сжимая пальцы так, что длинные ногти издали неприятный клацающий звук. — Я отдала свою жизнь за то, чтобы он жил.
— Что ж, даже ваше племя любит своих детей. Золотые яблоки. О, отец мой, дорогой мой отец, неужели ты единственный, кто равнодушен к собственному ребенку?
И такой боли был исполнен этот крик, что призрачная женщина разлетелась, как сгусток тумана при дуновении ветра. Совейз, уже успокоившись, лишь пожала плечами. В конце концов, призрак есть призрак, не более того. Кому и знать об этом, как не ей.
И Совейз двинулась дальше по горной тропе. Этой ночью она наконец нашла его — своего возлюбленного Олору, своего не-брата Чуза, свое Безумие — в одной из пещер в толще утесов.
5
Но почему она по-прежнему искала его? Она же знала, каково будет ей найти то, чем теперь стал ее возлюбленный. Иногда так трудно вести себя разумно или даже просто отдавать себе отчет в том, какую боль могут причинить неразумные действия. Ведь ребенок, глядящий на пламя в камине, чувствует его жар и понимает, что обожжется, но все равно тянет руки к ярким и жадным язычкам.
Так и Совейз, отлично зная, что ждет ее в этой похожей на разверстую пасть пещере, не задумываясь, ступила прямо в огонь.
Сначала она увидела лишь темное пятно во тьме; бесформенное и безликое, оно неуверенно передвигалось по пещере.
Совейз стояла, немая и неподвижная, но тихое свечение, вызванное ею, озарило мрачную берлогу.
Темное пятно отпрянуло, сторонясь света, бормоча что-то невнятное. Эти всхлипывания не имели ничего общего с человеческой речью.
— Говори, — велела она. — Я приказываю тебе.
Тогда темная тварь выпрямилась, придвинулась к ней на несколько шагов и остановилось поодаль, все еще жалобно сопя и раздирая себе лицо ногтями, которым позавидовала бы даже Лилайя.
В этом порождении тьмы уже никто не узнал бы юного насмешливого Олору, в нем вообще не осталось ничего от человеческого облика — за исключением больших, золотистых глаз, теперь налитых кровью, с вечным выражением испуга, да светлых вьющихся волос. Но зато Чуз присутствовал здесь в полной мере. Выражение лица, изгиб кошачьей спины, непрестанно дергающийся рот, непристойные жесты, в которых эта тварь наверняка не отдавала себе ни малейшего отчета. Она дергалась, кривлялась, стонала и хныкала, словно марионетка в руках сумасшедшего кукольника. И имя этому кукольнику, дергавшему за ниточки, хихикающему и всхлипывающему кукольным ртом, было — Чуз, Повелитель Безумия. Совейз горько усмехнулась про себя. Вот он, ее любовь, защита и опора.
Но на лице девушки не отразилось ни горечи, ни радости, ни просто удивления. Она словно превратилась в единую глыбу льда.
И наконец во тьме пещеры прозвучал ее полный презрения голос:
— Приветствую тебя, Хозяин Иллюзий, Повелитель Тьмы, Князь Безумия, Великий Чуз. Ныне я сподобилась чести видеть твою левую половину. До сих пор ты скрывал ее от меня это создание, полное жалости и любви к одному только себе. И где же пальцы-змеи, где прочие признаки твоего божественного происхождения? Где трещотка, что звучала в Белшаведе в день смерти моей матери? Где ослиные челюсти с их вечным жизнерадостным хохотом?
Из всей ее речи безумное существо поняло, кажется, только последнюю фразу, потому что немедленно осклабилось и заорало по-ослиному, да так, что под потолком пещеры заметались в ужасе летучие мыши. Совейз лишь холодно оборонила:
— Вот он, нежный дар неразделенной любви к моему отцу. Не-братья, вы ближе друг другу, чем каждый из вас — ко мне. Глупец. Ну так наслаждайся же его карой. Я больше не побеспокою тебя.
Сказав это, она, не дожидаясь возражений или вообще каких-либо действий со стороны уродца, повернулась и вышла из пещеры.
За спиной у нее раздался стон и визг, мерзкая тварь выползла наружу и устремилась прочь от девушки, карабкаясь по отвесной скале с ловкостью ящерицы-геккона. Убегая, она ухала, гикала и хохотала — быть может, над Совейз?
— О Чуз, — прошептала девушка, — дай мне силы возненавидеть тебя.
Говорят, что следы ее босых ног еще долго дымились, словно наполненные лавой, когда Совейз выходила из гор, возвращаясь на дорогу.
* * *
Наутро она наконец вышла к дельте реки Шадма. Острые клыки гор искрошились в пологие каменистые холмы, те, в свою очередь, сменились одинокими валунами посреди топкой низины. Здесь стоял туман, густой и зловонный, его не мог разогнать даже мелкий дождик, пролившийся около полудня. Ветер свистел в камышах, острых и прямых, как лезвия кинжалов.
Сквозь этот туман, оступаясь и пачкаясь в болотной грязи, брела Совейз весь день и всю ночь. Луна огромным фонарем светила ей сквозь тростник. А рядом, у ее бока, немой и печальный, шагал призрак Олору, и она никак не могла прогнать его, хоть и почти прокляла его при расставании. Она шла и несла свою боль перед собой в раскрытых ладонях, и ничто в этих зловонных болотах не посмело потревожить ее: ни рои жадных до крови насекомых, ни поджарые, вечно голодные дикие собаки. Даже ветер стихал, подавленный ее горем, даже топкие кочки старались отползти в сторонку, оставляя ей сухие клочки земли.
На рассвете, когда разбухшая от болотной воды луна провалилась наконец в трясину, а из тростников выбралось заспанное солнце, Совейз стояла над маленьким озерцом с чистой, черной от донного торфа водой — такая же слабая и гибкая тростинка, как тысячи ее сестер, что росли вокруг.
— Оставайтесь навсегда такими ядовитыми и убогими, — пожелала Совейз болотам. — Красота никому не приносит счастья.
И тотчас новое, хоть и гораздо бледнее небесного, солнце поднялось из глубин маленького пруда. Это был розовый, как заря и прекрасный, как сон лотос. Достигнув поверхности воды, он раскрылся, словно протянутая ладонь друга. И на этой раскрытой ладони, прямо в золотистой чашечке, лежал аметистовый самоцвет.
Это появление камня было уже третьим по счету. Первый раз он возник из озера в самом сердце Белшаведа, для еще не рожденного ребенка, когда Чуз заявил, что желает быть ей добрым дядюшкой. А второй раз — в храме Белшаведа, когда дочь Данизэль уже увидела свет. В первый раз этот дар отверг Азрарн, во второй — она сама лишь покосилась на камень, но оставила его лежать там, где появился. Но теперь она была уже не ребенок, а взрослая женщина, рядом с ней не было ни отца, ни матери, которые могли бы решить за нее, и она нагнулась к лотосу и взяла камень в руки. Цветок вспыхнул, как белое пламя и рассыпался тысячью серебряных искр.
Совейз не заметила этого — она рассматривала камень, так и эдак поворачивая его в пальцах. В отличие от большинства игрушек Чуза, которые он постоянно таскал с собой — желтые, красные, черные драгоценности — этот не был помечен никаким знаком. И все же кое-какие письмена читались на его гранях — смутные, словно полу стертые. Когда Чуз подбросил толпе россыпь своих игрушек, в то время как та бесновалась в бессильной ярости, но не могла уничтожить Данизель, этот камень был в числе тех, что полетели в возлюбленную Азрарна.
Ибо Данизель пытались побить камнями. Озверевшая толпа швыряла в нее все, что попадалось под руку, но обычные камни не причиняли матери Совейз ни малейшего вреда. Но когда, пущенный чьей-то рукой, в нее полетел крошечный, черный, как тьма, алмаз, Данизель погибла, сраженная этой песчинкой. Ибо камень был ничем иным как каплей крови Ваздру, каплей крови самого Азрарна. Эта кровь пролилась гораздо раньше, посреди пустыни, но Чуз заботливо сохранил горсть найденных им черных камешков. И пустил в дело вместе со всеми остальными своими игрушками. И маленькая капля крови оказалась тем единственным оружием, которому не смогла противостоять магическая защита Азрарна, наложенная на Данизель.
А, быть может, лиловый камень, хоть и принадлежал, несомненно, Повелителю Чузу, не участвовал в тех печальных событиях. Быть может, это был сам Чуз, его правая, не тронутая безумием, половина. Разве не явился он на помощь Совейз в виде желтого топаза?
Так обстояли дела или иначе, но это был странный знак любви. Ибо ничем иным, нежели знаком любви, этот камень являться не мог.
Новые сумерки Совейз встретила по-прежнему посреди болот. Камень лежал в складках ее одежды, надежно припрятанный. Мысли Совейз витали где-то очень далеко. Аметистовое небо отражалось в аметистовой воде, и гигантским самоцветом выходила из камышей бледно-лиловая луна.
Около полуночи девушка нашла себе местечко посуше и прилегла на несколько коротких часов отдыха. И ей явился сон, подобный тому сну, который она видела еще пребывая в утробе матери — ибо была зачата не как обычный ребенок, чей разум спит до самого момента рождения. Нет, она видела мир глазами Данизель, слушала ее сказки, смотрела ее сны. И проснувшись теперь, Совейз призвала к себе зверя — из каких-то иных стран или из каких-то забытых легенд, или просто соткав его из предрассветной дымки. Огромной птицей пересек он мутный лик заходящей луны и спустился в болота, напугав лягушек и подняв истошный лай среди диких псов. Он подошел к Совейз — огромный крылатый лев жемчужно-голубого цвета, с синей гривой, с золотыми глазами на умной, немного задумчивой морде. Этот зверь приснился когда-то Данизель. Теперь ее дочь сотворила его — или его подобие — наяву.
Совейз вскарабкалась на белую спину и села, скрестив ноги, между двух огромных крыльев.
Но куда же ей было идти? Она безмолвно переговорила со своим конем, обращаясь прямо к его разуму, вкладывая в его память те картины, которые помнила она. Он раскинул бесшумные совиные крылья, сильные, как ветер, подпрыгнул на мощных лапах — и взлетел, оставляя далеко внизу и позади болота и дельту реки.
Сны. И куда же ей было еще отправиться, если не в Белшавед?
6
Прошло всего несколько лет, — не так уж много даже на людской счет, — с той ночи, в которую, как говорят, куски луны разбились о землю: с той ночи, в которую умерла Данизель, а Азрарн объявил войну Чузу и забрал с собой синеглазого ребенка. Однако этого времени оказалось достаточно, чтобы белый цветок завял и погиб под натиском песков пустыни.
Белшаведу Священному, Сосуду Богов, выпал злой жребий. Судьба города была решена в тот самый миг, когда Азрарн обратил на него внимание. И теперь, заброшенный и необитаемый, встречал он ту, которая неслась через рассветное небо, догоняя уходящие на покой звезды. Ветер времени оборвал лепестки с цветов каменных башен Белшаведа. Песок и сухие листья засыпали мраморные плиты мостовых, ибо магические машины давно рассыпались и развалились на части, так что больше некому было убирать мусор. Дорога, что вела через дюны, замолчала навсегда, некогда зеленые рощи, окружавшие город, превратились в черные остовы, а прекрасные статуи разбились или просто оказались погребенными под песком. Ворота Белшаведа давно свалились со своих позолоченных петель, и ни одного стекла цвета летнего неба не осталось в окнах. Сокровища города давно растащили разбойники, драгоценные реликвии превратились в обычную пыль. Центральный храм пострадал сильнее других — с него ободрали все золото, сорвали драгоценные пластины даже с алтаря. Ходили слухи, что те, кто поживился сокровищами города, не зажились на свете, ибо да будет проклят тот, кто посягнет на святыню. Воры и в самом деле не заживались, но совсем не по этой причине: проклято было само золото, проклято Азрарном, который поклялся стереть Белшавед с лица земли. Он вполне сдержал слово: город походил на песчаный замок, некогда красивый и величественный, возведенный на берегу и забытый. И первая же волна прилива превратила изящное строение в обычную груду песка. Ничего волнующего и таинственного не было в развалинах Белшаведа. Просто унылая груда песка и камней. Разбитый Сосуд Богов, никому не нужные черепки.
Однако этим утром в проеме ворот, прямо на замолчавших плитах дороги, сидел Повелитель Кешмет в своей залатанной парчой огненной одежде, и наигрывал на флейте что-то легкомысленное.
Светлеющее небо перечертила птица. Она летела слишком высоко даже для орла — чуть выше утренней звезды. Приглядевшись, в ней можно было узнать синегривого льва. Он приземлился недалеко от входа в город, и Совейз ступила с белой спины на мощеную плитами дорогу. Кешмет даже не поднял головы ей навстречу. Песенка флейты летела над песками как ни в чем ни бывало. Совейз подошла так близко, что ее тень коснулась края распластанных на плитах красных одежд, и почти пропела:
— Вот в солнечных лучах, ткущих ловушку для ветра, стоят заброшенные стены Белшаведа. И кто же еще, как не сама Судьба может сидеть здесь и наигрывать на костяной флейте перед двойными воротами Священного Города?
Кешмет, Князь Рока, отнял флейту от губ и заметил в пространство:
— Ну, ворот, двойных или каких-либо еще, тут уже давно нет. И флейта у меня вовсе не костяная.
— Скажи мне, четвертый Повелитель Тьмы, — проговорила Совейз, — почему ты здесь?
— Потому что колесо Судьбы находится в постоянном движении, и то, что когда-то было вверху, рано или поздно окажется внизу. Это закон. Воззри на Белшавед, опустившийся вниз вместе с поворотом колеса. Ниже опуститься нельзя, и поэтому я здесь, дабы отметить этот предел.
— Но почему именно в этот час?
— Потому что, — ровно ответил Кешмет, — потому что ты пришла сюда в поисках своей судьбы. И ты найдешь ее здесь. Или по крайней мере часть ее.
— И что это за судьба?
— Не допрашивай меня, Совейз-Азрарна, дочь Князя Демонов. Я не знаю твоей судьбы, я всего лишь покажу ее тебе.
Он поднялся на ноги, спрятал флейту (которая, кстати сказать, была вырезана из светло-зеленого нефрита), и с галантным поклоном протянул руку Совейз, приглашая ее войти в город.
— Позволь мне, — проговорил он, — показать тебе могилу твоей матери.
— Нет, — ответила Совейз, отпрянув, как от змеи, и ее лев с глухим рычанием подошел поближе.
— Как хочешь, — пожал плечами Кешмет. — Хочешь — иди за мной. Хочешь — оставайся здесь.
С этими словами он повернулся и вошел в ворота, а оттуда направился вдоль одной из улиц.
— Лично я хочу навестить ее, — услышала Совейз его голос. — Ибо твоя мать, Даонис-Эзаель, Душа Луны, была моей прилежной ученицей. Поскольку, конечно же, являясь не простой смертной, так или иначе должна была столкнуться с тремя из нас: с безумием, которое было у нее в крови, ибо ее мать излечилась от безумия только с приходом кометы; с собственной судьбой и со смертью. Только Зло, чьим началом является четвертый Повелитель, ничего не могло поделать с Данизель. И поэтому она, разумеется, стала наперсницей Зла.
Совейз, еще немного помедлив, прошла в ворота и молча последовала за Кешметом, меж развалин храмов и обрушившихся алтарей. Лев трусил за ее спиной, время от времени останавливаясь, чтобы почесаться.
Здесь, в этом городе, она появилась на свет. Здесь ее вынесли, чтобы показать народу, который верил, что ее мать — Избранница бога, чье дитя — божественного происхождения. Словно перелистывая заново когда-то прочитанную книгу, Совейз теперь совсем иначе видела свое детство — сначала здесь, а затем в Нижнем Мире. Боль, чувство потерянности и одиночества стали отступать и впервые Совейз задумалась: а что же все-таки за цель была у ее отца, когда он затевал все это?
Солнце карабкалось все выше, отражаясь в осколках оконного стекла, синего, как глаза Совейз.
Кешмет, не оборачиваясь, шел впереди. Поскольку Совейз молчала, он снова вынул нефритовую флейту. На ее звуки из развалин башен и храмов слетелись голуби — белые, как призраки или обрывки памяти Белшаведа — и уселись ему на плечи и покрытую капюшоном голову. Лев шумно втянул ноздрями воздух и облизнулся.
А одинокие гости тем временем подошли к тому месту, где находился самый прекрасный сад Белшаведа. Теперь он стоял запущенным и засохшим, цветов не было и в помине, черные стволы деревьев походили на застывших в диком танце ведьм — так перекручены и выгнуты были их ветви. Озеро обмелело и помутнело. Вместо рыбы здесь теперь водились разве что жуки-плавунцы.
— Вот ее могила, — сказал Рок, указывая на маленький холм, обложенный зеленым дерном.
Над холмом на берегу озера не было никакой надписи, никакого знака, говорившего, что земля не пуста, но Совейз знала, что Кешмет не лжет. Тело Данизель покоилось в безвестной могиле, никто не позаботился о том, чтобы кто-то помнил о ней, даже Азрарн — видимо, потому, что не смог уберечь эту прекрасную плоть от безвременной гибели. Впрочем, разве руины Белшаведа не были надгробием, которое он воздвиг над могилой своей возлюбленной? Но саму могилу, вероятно, не посещал никто и никогда.
Совейз вспыхнула щеками, повернулась и пошла прочь от могилы. Но не пройдя и трех шагов, остановилась, тяжело вздохнула и вновь подошла к холму. Сев подле, она положила обе ладони на зеленый дерн — единственное пятно жизни посреди всеобщего запустения. Путешествуя по горам и болотам, она позаботилась одеться как опытная странница — в высокие сапоги, в замшевые штаны и куртку — и потому не было ничего удивительного в том, что на поясе у нее висел кинжал. Этим кинжалом Совейз отсекла прядь своих вьющихся волос и положила ее на могильный холм, что-то шепча. Вскоре прядь ушла под землю, а на ее месте выросли черные гиацинты, но этого Совейз уже не видела. Спрятав кинжал, она встала и пошла вдоль озера.
— Вот здесь она пришла к нему в их первую встречу, еще живая, — бормотала девушка на ходу, — и здесь же пришла к нему, когда была уже мертва. Здесь они любили друг друга и здесь он поклялся стереть этот город с лица земли.
Остановившись, она присела на корточки и заглянула в темный пруд. В его черной воде светилось отражение четырех мостов и гордых храмов над ними, и белых башен — хотя теперь все это давно рассыпалось и обветшало. Затем она увидела отражение своего льва, который носился в безоблачном небе за белыми голубями. И Кешмета, который подошел и встал за ее плечом. И тогда из глубин поднялось и ее собственное отражение, но не успев утвердиться на поверхности воды, исчезло, словно смазанное ветром. Вместо себя и Кешмета Совейз увидела два столба пламени — белого и огненного золотого. Затем краски смягчились, отражение вновь замерцало, как солнечный зайчик на поверхности воды, и на черной глади пруда появилось двое мужчин — один с волосами цвета спелого хлеба, а другой — с черными, как вороново крыло.
Что бы не означало появление этих видений, Совейз знала, кто отражается в озере — Сейми, укравшая бессмертие у богов, и Зирек, один из величайших магов земли, ибо он обучался магии не у кого-нибудь, а у самих обитателей моря, а такое мало кому удавалось.
— Скажи, ты видишь то же, что и я? — спросила Совейз.
— Наверное, нет, — ответил Рок. — Скорее, ты видишь это не вместе со мной, а из-за меня. Поскольку все необычайные события имеют свои знамения. Я — предвестник.
Пока он произносил эти слова, отражение Сейми пропало и на его месте возникло отражение самого Кешмета. Но на месте Совейз все так же подрагивало на воде лицо Зирека.
— И какая же была она, судьба Зирека, Великого Мага? — спросила Совейз.
— Он был благословлен — или проклят, как посмотреть — неуязвимостью, но не получил вечной молодости. Он хотел поступить в услужение к твоему отцу, Азрарну, но тот отказался от его услуг — по каким-то своим причинам. И тогда Зиреку, который не мог умереть так, как ему хотелось, пришлось иметь дело с другим Повелителем, Ульюмом, Владыкой Смерти.
— Этой легенде уже много веков. И что же, этот неуязвимый Зирек по-прежнему жив?
— Мне думается, — с улыбкой сказал Кешмет, — что хоть Зирек и умер во всех смыслах этого слова — телом, душой и разумом, его неуязвимость и кошачья живучесть все еще держат его в своих объятиях. Где-то он, наверное, все еще живет, вернее, все еще существует. Но даже если так, то он давно безумен. Иначе и быть не может, ведь таково было наказание Сейми, которую Зирек так любил и так ненавидел. Быть может, в этом есть какая-то связь с тобой? Вернее, с твоим возлюбленным.
Совейз сжала зубы и швырнула в пруд первый попавшийся под руку камень. Лицо Зирека дрогнуло и исчезло.
— Ты говорил, что я найду здесь мою собственную судьбу, Кешмет. Так где же она?
В ответ на это, хоть и без всякого вмешательства извне, исчезло и отражение Кешмета. А вместе с ним и сам Князь Рока.
Губы Совейз искривились в улыбке. Похоже, вся ее родня сговорилась дурачить ее, по крайней мере, все ее не-родичи-мужчины.
Синегривый лев носился по небу. На вкус белые призрачные голуби оказались похожими на дым от горящего сахара, и каждый раз попадая в пасть, бесследно исчезали. Но льву нравилось гоняться за ними в полуденном небе пустыни.
Совейз брела по занесенным песком улицам города. Она тщательно избегала тех мест, в которых бывала с матерью. И к могиле тоже больше не вернулась.
Когда солнце укоротило тени, а воздух над плитами начал дрожать, Совейз зашла во двор одного из храмов и прилегла в тени каменного портика. Ей приснился Зирек, в одеянии жреца, с тяжелым нагрудником, усыпанном драгоценными камнями. О цвете его глаз было сложено немало легенд, в них говорилось, что его глаза были подобны воде в глубоком озере, где отражается зелень деревьев — или зеленым морским волнам в синих сумерках. Но в сне Совейз у Зирека были темные глаза, почти черные, страшные и пустые. Он разлепил бескровные губы и холодно промолвил: «Сердце мое было полно добра, но про меня сочинили столько злых сказок, что мне пришлось оправдывать их. Я причинил много зла. Забудь голос своей матери, которая говорила тебе, что Азрарн любит эту землю, что он создал первого кота просто для собственного удовольствия, ради той радости, что приносят в дом кошки. Посвяти себя злу, как это сделал я. Никто не может противиться своей судьбе. Она бежит впереди, позади и вокруг тебя. Она — это дыхание и кровь.»
— И где же теперь, — спросила его Совейз в своем сне (совсем человеческом сне, не таком, как ее обычные сны Ваздру), — где же теперь ты бесконечно творишь это свое зло, чтобы умилостивить беспощадную судьбу?
— Теперь я не творю ни добра, ни зла, теперь я никто и ничто. Не злодей и не маг. Я не знаю, кто я, у меня нет лица, нет имени, нет власти.
— Откуда же тогда ты знаешь обо мне?
— Я ничего о тебе не знаю. Это ты знаешь обо мне.
Когда Совейз проснулась, солнце почти село. Она призвала к себе крылатого льва и они улетели на закат, изливавший на них потоки кроваво-красного света. Они летели прочь от Белшаведа, прочь от всех земель, к самому краю мира, туда, где два моря встречаются у берега земли и становятся единым океаном.
* * *
Она заявила, что никогда не будет искать его, никогда не выкажет должного уважения и почтения, во всяком случае, не раньше, чем все раки охрипнут от свиста, моря станут травой, а трава — огнем. «Не раньше, чем боги спустятся на землю, чтобы целовать следы смертных в дорожной пыли.» И Азрарн тогда ничего не ответил ей.
А теперь Совейз стояла на берегу моря и вызывала магическое видение, и видение обретало контуры и формы, становясь явью по ее слову.
Там, где два моря сталкивала свои волны, чтобы стать океаном, вода расступилась и вскинулась вверх зелеными побегами. Они росли все выше и выше, и синяя зелень воды превращалась в зеленую синь степи, колышущейся под влажным ветром. А с берега на эту степь нападало и шипело у кромки травяного моря яростное пламя, пожирающее само себя, ибо каждая травинка над обрывом стала рыжим язычком пламени, живым и голодным. А через всю эту картину всеобщего безумия протянулась сверкающая лестница, соединив море и небо. По траве побежала торная пыльная дорога, на ней возник человек в истрепанной всеми ветрами одежде. У человека глаза вылезали на лоб и рот распахивался в беззвучном возгласе изумления, потому что с неба к нему сошло нечто, не имевшее вида мужчины или женщины, но благое и сияющее, словно радуга. Достигнув последней ступеньки лестницы, божество упало в пыль и принялось покрывать ее поцелуями.
Близился восход луны, хотя ее бледного лика и не было видно за сплошной пеленой туч. Озаренный светом горящей травы, прямо из земли поднялся столб темного пламени. Совейз опустилась на колени, сложила руки на груди и склонила голову, замерев в позе наивысшего самоуничижения.
Столб достиг штормового неба, соединив его с землею не хуже сверкающей лестнице. Но появилось из него вовсе не божество. Тьма сгустилась и съежилась, сделавшись оторочкой черного плаща. Капюшон качнулся из стороны с сторону — пришелец оглядывал творение Совейз.
— Прекрасная шутка, — сказал он. — Ты — настоящая Ваздру. И отныне ты сможешь творить любые катаклизмы, поражая своей мощью небо и землю. Тебе осталось лишь произнести внятно и раздельно: «Я признаю, что провинилась перед тобой.»
И Совейз, по-прежнему не поднимаясь с колен и глядя в пылающую траву, внятно и раздельно произнесла:
— Я признаю, что провинилась перед тобой.
Азрарн прищелкнул пальцами, и ветер взвил и разметал травяное море, дав дорогу соленой воде. Лестница исчезла, божество развеялось облачком тумана. Язычки пламени взметнулись вверх и снова стали травой. Лента пыльной дороги взметнулась вверх и превратилась в сияние луны, восходящей в ясном ночном небе.
Совейз по-прежнему стояла на коленях.
— Ну, ты оказалась достаточно умна, чтобы вызвать меня, не теряя достоинства, — сказал Азрарн. — Чего ты хочешь?
— Я хочу принять твою волю, — бархатным голосом проговорила Совейз. — Я хочу искупить свою вину. Я покорна и почтительна. Я — твоя рабыня.
— О ты, изменившая свое сердце, — так же мягко проговорил Азрарн. — Скажи мне, почему ты сделала это?
Вот тогда Совейз подняла глаза и взглянула на него с неожиданной гордостью и вызовом. Она совсем не походила на рабыню.
— У меня нет выходя, — неприязненно сказала она. — ты создал меня для своих целей. И я хочу исполнить то, для чего предназначена.
— Ты научилась ненавидеть людей?
— Те, кого я любила или ненавидела, недостижимы ни для любви моей, ни для ненависти. Я никого не люблю. Я ни к кому не питаю ненависти. Но я почтительна. Я послушная дочь. Я обрезала волосы и оставила цветы на могиле моей матери. И теперь я на коленях пред тобою.
— Встань, — сказал Азрарн.
Отвернувшись от нее, он воззвал к ночи, и ему навстречу вышел крылатый лев. Грива его была в беспорядке, шерсть вздыблена, а перья взъерошены. Когда началась буря, он с радостным рычанием помчался навстречу ветру, и тот немного потрепал огромного зверя. На его жемчужной шкуре искрилась звездная пыль — казалось, он успел долететь до луны, выкупаться там в сияющих звездным светом сухих морях, и вернуться обратно. Подойдя к Совейз, он сел на землю и начал вылизываться.
Тогда Азрарн воззвал второй раз, и со стороны моря показалась колесница. Отлитая из прочной бронзы, она вся была покрыта серебром. Украшавшие ее жемчужины сияли ярче, чем звезды, а россыпь сапфиров на спицах колес могла синевой поспорить с морскими волнами. Черные агаты смотрели из жемчуга, словно зрачки гигантских глаз. Впряженная в колесницу тройка лошадей имела шерсть черную, как агаты, жемчужно-белые копыта и синие, как сапфиры, длинные хвосты и гривы. Возница-ваздру сжимал поводья, сотканные, казалось, из лунного света. Лошади, разметав испуганные волны, ворвались из ночи на притихший берег, и стали, как вкопанные. Остановив лошадей, Возница взглянул на своего господина, перевел глаза на Совейз — и в его черных зрачках отразилось восхищенная почтительность. Он соскочил с колесницы, приветствовал Азрарна так, как должно Ваздру приветствовать своего государя, а затем отвесил девушке глубокий поклон. Ее еще никто не знал среди Ваздру, и потому высокородный демон просто отдавал должное ее красоте, а также тому, что она стояла рядом с его повелителем.
Азрарн взошел на колесницу. Повернув лицо к Совейз, он промолвил:
— Я знаю, что у тебя нет настоящей власти превратить море в траву, но твоя иллюзия была столь великолепна, что другие могут поверить в обратное. Это вряд ли понравится морскому народу. Поэтому нам лучше уйти отсюда как можно скорее.
— Означает ли это, что мой царственный отец боится морского народа?
— Соленая вода, — ответил он, — время от времени оказывала мне самые разные услуги.
И тогда вдалеке, на озаренной луной глади возникли два призрака: несущаяся во весь опор лошадь, а вслед за ней — мерцающий огнями гордый корабль. Оба видения мелькнули и пропали, словно облака, гонимые ветром.
— Я как-то слышала эту историю — ее часто рассказывают в тавернах, — сказала Совейз. — Сайви многоликая. Твоя возлюбленная, которую ты уничтожил. Похоже, тех, кто осмеливаются назваться предметом твоей любви, неизменно подстерегает злой рок.
— Пусть это тебя не беспокоит, — отозвался Азрарн. — Злой рок — не для тебя.
Над головами лошадей звонко щелкнул кнут. Колесница сорвалась с места — вперед и вверх, выше самых высоких деревьев. Сияющие спицы слились в движении в единый слепящий диск, лошади дико заржали, задирая головы. В несколько мгновений колесница с обоими Ваздру скрылась в ночи.
Но Совейз вспрыгнула на спину своему льву.
«За ними.»
Лев нагнал колесницу и несколько часов они бок о бок летели в черноте ночи. И те, кого мучила в эту ночь бессонница, могли увидеть зрелище мало с чем сравнимое: белый лев с черноволосой всадницей, летящий под плащом Князя Демонов на сияющей, как луна, колеснице с черными тучами-конями.
Луна, взобравшаяся уже на самый верх небосвода, обернула бледное лицо к западному пределу мира. Что же выслеживала она там, на самой кромке? Ничего, кроме ярящегося хаоса, не было за краем земли, но он не мог повредить ни луне, ни солнцу, вечно желая их и никогда не получая в жадно отверстую пасть.
Лев и колесница летели навстречу луне, пересекая пустыни, леса и озера, летели так долго, что даже ветры, пустившиеся было с ними наперегонки, вскоре выдохлись и отстали.
Но легенды рассказывают, что полет их не был непрерывен. Время от времени Азрарн, проверяя, верна ли Совейз своему обету быть послушной и почтительной дочерью, спускался у какого-нибудь храма или города, или поселения, и велел ей творить разные нехитрые фокусы, чтобы развеселить его в этой долгой дороге.
Поэтому, говорят легенды, той ночью многие крыши превратились в гигантские ломти сыра, а камешки, которыми были обложены дорожки — в драгоценные камни. Встречались в ту ночь совы, говорившие человечьим языком и люди, внезапно утратившие дар речи и только ухавшие по совиному. Многим приснился голос, нашептывающий в самое ухо: «Берегись, я знаю твою ужасную тайну, и утром о ней узнают все.» И услышав этот голос, почти все, мужчины и женщины, вскакивали на постели с криком. Везде загорались огни и слышались крики, стоны и проклятия, а в домах позажиточнее слугам досталось немало колотушек. Многие просто выбегали из домов, седлали лошадей и мчались при факелах в ночь — кто на молитву в ближайший храм, а кто — просто подальше от ужасного места. Иные покончили с собой, а иные — со своими соседями. И очень, очень немногие, заслышав вкрадчивый голос, просто поворачивались на другой бок, ворча: «Что еще за ужасная тайна? Нет у меня никаких ужасных тайн.»
Итак, если легенды не лгут, эта ночь выдалась беспокойной. Паника, брань и проклятия следовали за Азрарном и его колесницей повсюду, пока он не остановился и не промолвил со смехом:
— Довольно. Я вижу, у тебя изощренный ум и хорошее чувство юмора. Но твои шутки — шутки ребенка. И все же это почтительный и послушный ребенок.
От его смеха замерзла свежевыпавшая роса на траве и листьях. Но возница хлестнул лошадей, и все снова взвились в ночное небо.
Вскоре под ними показался город. За эту ночь они уже посетили несколько городов, но этот был самый большой и шумный. Он лежал на берегу реки, окруженный цветущими садами и тучными пашнями. Каменные звери восседали у обоих его врат и похожие статуи, только поменьше, украшали многие крыши. В лунном свете камень казался белым, как соль. И белой казалась река, в чьих водах купалась заходящая луна. Весь город был озарен призрачным, белым сиянием.
— А что мне сделать здесь? — спросила Совейз.
— Я слыхал, ты уже расправилась с одним городом у реки. Шадм Поделенный сделался прекрасной гробницей для своих правителей. Можешь сотворить то же и с этим. Или, если хочешь, я отдам его тебе, чтобы ты стала в нем божеством.
— А я должна желать такого дара?
— О, почтительнейшая из дочерей! — расхохотался Азрарн. — Можно сказать, да. Ибо я хочу сделать тебя божеством в каком-нибудь процветающем крае, поскольку намерен показать этому миру природу богов.
— И какова же их природа?
— Безразличие и жестокость. И нелюбовь к людям.
— В Белшаведе, — проговорила Совейз, — я видела стеллу с высеченой на ней легендой о том, как добрые боги спасли мир от чудовища, которое в той стране был известен под именем «Азрарн». И что это случилось не один, а несколько раз.
— Именно за такие стеллы они и заслуживают моего урока, — проговорил Азрарн, хмурясь. Помолчав, он добавил: — Я не стану наказывать тебя за дерзость. Но не забывай, что я не забываю ничего.
— Я наказана самой жизнью, что ты дал мне, — ответила на это Совейз. — А поскольку эта жизнь будет длиться вечно, то вечным будет и мое наказание.
Тогда Азрарн сошел со своей колесницы, подошел к дочери и положил ладонь на ее черноволосую голову. И мягко проговорил:
— Ваздру не плачут.
— А кто здесь плачет? Только не я.
— Каждое произнесенное тобою слово было горше слезы.
Он смотрел на нее с пристальным вниманием, но когда Совейз подняла глаза, Азрарн тотчас отвернул лицо, подставив его ночи. Что бы он ни сказал, показалось бы недостаточно нежным после стольких лет отлучения. Ее нестерпимо-синий взор не мог не напоминать ему о Данизель — каждую секунду, каждый миг, что он смотрел на нее. Он ненавидел ее, пока она была просто ребенком, но теперь перед ним стояла взрослая женщина, прекрасная, как солнечный свет. И каждый ее взгляд, гневный или вопрошающий, пронзал его, словно раскаленный клинок. И все же он не мог любить ее в полной мере — ведь он создавал эту женщину для определенной цели, сконцентрировав в ней всю свою ненависть, всю изощренность. Не этого ли добивалась от него Данизель, когда исторгала из него и из себя их ребенка, вобравшего ее красоту и его ненависть?
Не убирая руки, он проговорил голосом, в котором ласки было не больше, чем тепла в ледяной глыбе:
— Теперь скажи, как твое имя?
И она ответила:
— Азрарна.
Что означало всего-навсего: Колдунья, Дочь Князя Демонов.
7
ИСТОРИЯ О СПИНЕ ЖЕРЕБЦА
Городом, у которого стояли в ту ночь Совейз и Азрарн, равно как и всей землей каменных белых кошек, Неннафиром, правил когда-то король по имени Кураб. В тот день, когда он появился на свет, в спальню к его матери пришла старая ведьма, растолкав всех служанок и мамок. Склонившись над постелью роженицы, ведьма сказала:
«Твой сын станет королем Неннафира, великим и славным, и ни один человек не поднимет против него оружия, ни одно зло его не заденет, и имя его останется в веках. Если…»
Услышав это «если», все служанки затаили дыхание и навострили уши, и только мать Кураба тяжело вздохнула.
«Если, — продолжала ведьма, — он, уже став королем, ни разу не сядет на спину жеребца. Ибо если такое случится, он утратит королевство и расстанется с жизнью.»
Выслушав это, мать Кураба откинулась на подушки и долгое время не говорила ни слова. Со стороны могло показаться, что она просто задумалась. В конце концов роженица заговорила.
«Что ж, — сказала она, — это было бы воистину удивительным поворотом судьбы, поскольку я даже не жена повелителя, а его наложница. Но если уж мой сын станет королем, то, конечно, ему не так уж сложно будет избежать спины жеребца, ибо в его конюшнях сыщется множество меринов и резвых кобыл. Сходи, мой верный слуга, и принеси всем вина, и мы все выпьем за удачу моего новорожденного сына — все до последней служанки. И в каждый кубок я брошу по жемчужине из моего ожерелья, а в кубок мудрой женщине я положу целых три жемчужины.»
После таких слов все оживились и засмеялись. Принесли вино, разлили по кубкам, и каждый кубок подносили к матери Кураба. И в каждый кубок она бросала по драгоценной жемчужине, а в кубок ведьмы бросила целых три. Кубки раздали, и все, кто был в комнате, выпили — кроме самой матери, поскольку она была еще слишком слаба, чтобы пить вино. А через мгновение или два все, кроме нее, со стонами попадали на пол и умерли. Ибо в каждый кубок, помимо жемчужины, мать Кураба уронила по капле яда из своего перстня, а в кубок ведьмы попали все три. И сделала она это потому, что подумала: «Только я могу знать об этом, я и мой сын. Если об этом узнает кто-нибудь еще, он может подстроить так, что мой сын сядет именно на жеребца.» Мать Кураба была умной женщиной. Как только все, кто был в комнате, упали замертво, она принялась стонать и кричать. Сбежались люди, и она рассказала, что злая колдунья предложила ей стать любимой женой владыки Неннафира, если та поможет ей погубить нынешнего короля. Мать Кураба отказалась, и тогда ведьма навела чары на вино, и все, кто выпил его, погибли, мать Кураба же осталась жива потому, что была слишком слаба, чтобы пить. И когда она увидела такое злодейство, то уничтожила ведьму одним могущественным заклинанием, которому ее научил когда-то старый добрый священник.
Все, разумеется, восславили богов за чудесное избавление от ведьмы. То, что при этом погибло пятеро человек было, конечно же, не в счет. И, разумеется, очень скоро слух об этом дошел до короля.
«Вот преданная мне душа!» — сказал он. И через некоторое время навестил мать Кураба и был поражен ее красотой не меньше, чем в ту первуя ночь, когда зачал с ней ребенка — с тех пор он уже успел забыть лицо своей наложницы.
А дальше все пошло так, как это обычно происходит у людей.
Наложница стала одной из младших жен короля, он пожаловал ей земли и драгоценности. Мать Кураба подлащивалась к каждой из трех младших жен, каждой обещая свою преданность и дружбу, каждой говоря вещи, приятные любой женщине. «Мой сын не может сравниться с твоими сыновьями», — говорила она. «Я — ничто, — говорила она каждой из королев, — но да пребудет с тобой радость моей любви. Я давно замечаю, как ты прекрасна и как желанна. Я уверена, что король любит тебя больше других, даже, может быть, больше верховной королевы Неннафира — ведь всем известно, что их брак был предрешен еще во младенчестве. Я думаю, он бы с радостью низложил ее и поставил бы тебя на ее место, если бы смог.» Она говорила также множество других вещей, настраивая одну женщину против остальных двоих, нашептывая бедняжкам, что собственными ушами слышала, как та или другая клялась отравить соперницу или ее ребенка. И однажды, решив, что сделала достаточно, мать Кураба сама отравила двоих из трех младших королев. Но накануне она тайно явилась к верховной королеве, пала перед ней в ноги, плача и стеная, и на коленях поведала ей, что младшие королевы замышляют хитроумный заговор против нее, верховной королевы. Но что мира нет даже между заговорщицами, и что одна из них, самая молодая и властная, решила убить соперниц и наверняка сделает это очень скоро, а после того доберется и до самой владычицы. Поэтому когда наутро в комнатах младших королев обнаружили два мертвых тела, каждый знал, что две негодницы получали по заслугам, а третья, самая молодая и властная, была схвачена, подвергнута пыткам, во время которых созналась во всем, а затем повешена. Ее тело не было похоронено, а так и осталось на растерзание птицам подле большой виселицы, охраняемой тремя белыми каменными кошками.
После этого доноса верховная королева приблизила к себе мать Кураба, сделав ее своей любимой наперсницей. Так продолжалось все тринадцать лет, что мальчик Кураб рос и мужал. Мать научила его быть подозрительным и хитрым, умным и осторожным, уметь унижаться самому и унижать других. И она сказала ему: «Я поведаю тебе одну тайну, о которой больше никто не должен знать. Ты — король этой страны.» И Кураб улыбнулся и ответил: «Как это может быть, мать? Было бы здорово, если бы стало так, как ты говоришь!» Но каждому из сыновей верховной королевы он говорил: «Я — ничто, я пыль у твоих ног. Но позволь мне быть твоим рабом, ибо я преклоняюсь перед твоим умом и совершенством, более близким мне, чем совершенство богов.» И, завоевав доверие принцев, ему уже легко было внушать им, под видом дружеских советов, злобу и недоверие к своим братьям. Он пересказывал сплетни, выставляя других в самом невыгодном свете, выворачивая чужие слова и придавая шуткам смысл настоящего заговора. И в течение всех тринадцати лет мать Кураба медленно травила верховную королеву, так что та в конце концов тяжело заболела и умерла. После смерти матери, сыновья верховной королевы перессорились между собой и многие поубивали друг друга. И однажды ночью Кураб, уже взрослый юноша, стройный и красивый, явился к королю, преклонил колени и поведал, что сыновья верховной королевы задумали завладеть троном, убив отца, но не пришли к согласию и теперь многие из них мертвы, но тем больше решимости осталось у тех, кто победил. И наутро двое старших сыновей покойной королевы были привязаны к диким лошадям и разорваны в куски. Их останки бросили к ногам все тех же кошек, вечно созерцающих медленное течение реки. А Кураб стал наследником короля.
Прошло еще три года, король старел и седел, но с радостной улыбкой смотрел на своего наследника, почтительного и послушного сына. Когда юноше исполнилось шестнадцать, он пришел к отцу и прошептал ему на ухо: «Дорогой отец и повелитель, позволь мне говорить с тобою наедине.» Король охотно исполнил просьбу сына. И когда они заперлись вдвоем в дальнем покое дворца, Куроб сказал: «Отец, доволен ли ты своим недостойным сыном?» Больной правитель кивнул седой головой и со слезами на глазах ответил: «Из всех моих сыновей ты — единственный настоящий сын, добрый и почтительный, воистину достойный трона.» — «Ну так знай, — сказал на это Кураб, — что из всех твоих сыновей я — единственный предатель и лжец.» И он рассказал королю, как случилось, что погибли его жены и умерла его любимая королева, и перессорились его старшие сыновья. И сердце старого короля не выдержало этих речей и разорвалось.
Когда корона Неннафира была возложена на чело молодого государя, его мать пришла к нему, одетая в траур, но сверкающая бесценными каменьями.
«Теперь слушай меня очень внимательно, сын мой,» — сказала она. И поведала сыну о приходе ведьмы в тот самый день, когда родился Кураб, и о ее предсказании: он станет королем над всей этой землей, но, став королем, он не должен ездить верхом на жеребце, иначе утратит свое королевство и расстанется в жизнью. «Я не говорила об этом ни одной живой душе, — сказала мать Кураба. — А все, кто слышал эти слова в день твоего рождения, замолчали навсегда, ибо я об этом позаботилась. Ибо если эту тайну узнает кто-либо помимо над с тобой, он может подстроить так, что в рассвет своего царствования ты окажешься на спине жеребца и погибнешь.»
«О моя мать, — ответил король, — благословен тот день, когда ты появилась на свет! Есть ли у кого еще такая мать? Ты — хитроумнейшая из всех женщин и лучшая из всех матерей. Я запомню твое предупреждение. И никто не будет знать об этом и впредь, кроме нас двоих.»
Но, несмотря на свои восхищенные речи, из всех женщин на свете Кураб более всего не доверял именно своей матери, хотя она так стремилась доставить ему всяческие блага. Она действительно была в его глазах хитроумнейшей из женщин — и потому юноша не без резона считал, что ее следует опасаться. Она всю его жизнь обучала сына быть недоверчивым и двуличным, и преуспев в своих стараниях, обратила жало этой змеи против самой себя же. А что, если однажды они рассорятся так крепко, что эта женщина захочет его погибели, забыв, что сама вознесла его так высоко? Или, став старой, выживет из ума и проболтается служанкам, когда будет в горячке или просто во сне?
Поэтому Кураб поцеловал свою мать и одарил ее множеством сокровищ, но, когда она отправилась в свои покои, послал за нею верного человека, и тот утопил несчастную в ее золотой ванне. Дело было представлено как несчастный случай. Разве не этому учила она его долгие шестнадцать лет?
* * *
Еще шестнадцать лет и половину от этого срока правил Кураб в Неннафире, и вот ему исполнилось сорок лет. Он правил в блеске и славе, и ни один его подданный не обращал против него своего гнева. И, хотя его правление было на редкость кровавым и деспотичным, все звали его «наш добрый король» и никто не мог сказать про него дурного слова.
И все эти годы в его конюшнях под королевским седлом бывали только кобылы или мерины. Ни один жеребец и близко не подпускался к королевскому двору.
Однажды утром Кураб отправился на охоту. За цветущими садами и пашнями вдоль реки простирались заливные луга с ясными, солнечными рощами, в этих рощах жили голубые барсы, а на лугах паслись газели с белоснежной шкурой, ценившейся на вес золота. Но в этот день охота оказалась неудачной, и король становился все мрачнее, а чем кончалось такое его дурное расположение, знала даже последняя борзая его своры. Наконец, уже на закате, у небольшого пруда, заросшего высокой осокой, король увидел желанную добычу: белую, как самый белый снег, молодую газель, с черной звездочкой во лбу.
Вся охота тотчас поднялась на нее, и газель помчалась прочь, как белая стрела. Ловчие и свита старались, как могли, ибо помимо азарта охоты их вело желание угодить своему государю. Ибо от удачного исхода дня зависела их жизнь. Но газель летела среди равнины, словно вечерний ветер, быстрая и неуловимая, уводя их все дальше и дальше на запад, в то время как за их спинами солнце уже коснулось верхушек травы.
И все же ловчие скакали за желанной добычей, и бросали копья, и стреляли из луков. Но каждый раз газель уходила от выстрелов и ударов и неутомимо неслась все вперед и вперед. Вскоре, на третьем или четвертом часу этой погони, лошади начали выбиваться из сил. Солнце заперло за собою ворота дня, и ночь вползла на небо, рассыпав булавки звезд.
Один за другим всадники бросали поводья и останавливались, ибо их кони не могли далее нестись за неуловимой дичью. И только король нахлестывал и нахлестывал своего коня. Его свита не осмелилась предложить ему прекратить погоню, но сама предпочла спешиться, чтобы не загнать вконец своих лошадей, и теперь шла на запад вслед за господином, сильно отстав. А белая газель и ее преследователь, неутомимые и не видящие ничего вокруг, умчались вперед и пропали во тьме ночи.
Кураб очень не любил, когда кто-то или что-то ускользало от него. Он был упрям и капризен, и чем неодолимее казалось препятствие, тем яростнее он добивался желаемого. Он думал, что в конце концов загонит волшебную газель, но та, казалось, даже не утомилась и продолжала нестись вперед, словно белый сполох. И тогда Кураб, возможно, в шутку, возможно, всерьез, добавив немного колдовства, позвал ее: «Моя нежная козочка, все, что я хочу, это быть подле тебя! Позволь мне подойти поближе! Единственное мое желание — это оградить тебя от стрел и копий остальных охотников!»
И, к изумлению и ужасу Кураба, ветер донес до него внятный ответ: «Не старайся, Кураб, я знаю, что ты лжешь! Это я научила тебя льстивым и лживым речам и по-прежнему помню, как ты отплатил мне за это!»
Волосы короля встали дыбом, он похолодел, затем облился потом, затем похолодел снова. Ибо голос, который он слышал, принадлежал его матери.
Воспользовавшись его замешательством, газель нырнула в небольшую рощицу и белой вспышкой пропала среди деревьев. Кураб обогнул рощу, но не увидел ни самой газели, ни ее следа в высокой траве. Войдя под сень деревьев, он не нашел своей дичи и там.
«Колдовство, — пробормотал король, делая знак, охраняющий от порчи. — Или призрак этой суки. Пожалуй, я нынче же принесу богатые дары жрецам и совершу возлияние над ее могилой.»
Он остановил своего коня, но тот, едва стал, рухнул под всадником замертво, едва не сломав королю ногу.
С проклятьями король поднялся с земли и огляделся. Он был один среди деревьев, его люди сильно отстали и не могли еще слышать его призывных криков. Кураб покричал еще немного, но затем ему внезапно захотелось побыть одному, ибо кто угодно может устать от своего титула, даже если он «добрый король Неннафира».
Выйдя из рощи, он пошел к холмам, видневшимся невдалеке, у склона одного из них обнаружил хижину углежога. В окне горел огонь, а из трубы тянуло запахом нехитрой стряпни. Рядом с хижиной в траве было выгорожено небольшое пастбище, а на пастбище паслась молодая, здоровая лошадь. Подойдя к ней поближе, Кураб убедился, что это обычная крестьянская кобыла.
Король восславил свою удачу, которая наконец вернулась к нему после бесплодной погони, и толкнул дверь хижины. Внутри у огня сидел человек. Кураб ударил его и сказал: «На колени, смерд. Я — король Неннафира.» И бедняк растянулся на полу, приветствуя своего повелителя, в то время как его похлебка выкипала из горшка.
«Что пожелает от меня мой возлюбленный повелитель?» — спросил углежог, еле жив от страха.
«Мне нужна твоя лошадь.»
«Увы, — ответил крестьянин, — моя лошадь, что пасется за оградой, никак не подходит государю. У нее нынче гон, она недавно побывала с жеребцом и стала очень норовиста.»
«До этого мне дела нету,» — усмехнулся Кураб.
«Но пусть мой повелитель выслушает меня: у меня есть жеребец, молодой и сильный, и прекрасно объезженный. Он домчит государя, куда тот пожелает!»
Король Кураб изрыгнул страшное проклятие. Он уже слышал крики и стук копыт, сказавшие ему, что свита нашла в роще мертвого коня повелителя и теперь ищет повсюду короля, и вот-вот будет в хижине. И король подумал: «Если я сейчас откажусь от этого жеребца, этот углежог задумается, а почему я это сделал, и о том же подумают мои люди, которые будут здесь с минуты на минуту. Кроме того, у нас, помнится, были запасные лошади, и среди них — прекрасные жеребцы, от которых я тоже буду вынужден отказаться. И мои люди удивятся этому и вспомнят, что я за всю жизнь никогда не ездил на жеребце, а значит, у меня есть какая-то тайна, и однажды они, пусть даже ради шутки, могут подвергнуть меня той самой опасности, о которой меня предупреждала мать.»
Поэтому он вынул меч и отрубил коленопреклоненному крестьянину голову. Затем, выйдя из хижины, он остановился рядом с кобылой и принялся гладить ее и чесать за ушами. И когда его свита, громко и искренне радуясь его спасению, подъехала ближе, он велел им: «Снимите седло и уздечку с моего павшего коня и оседлайте мне эту кобылу, ибо она мне понравилась настолько, что я хочу на ней отправиться домой.»
Его желание было тотчас исполнено без возражений, хотя жеребцы под его придворными были весьма обеспокоены появлением рядом с ними молодой горячей красотки. Как и говорил крестьянин, лошадь оказалась с норовом, и Курабу стоило больших усилий заставить ее повиноваться.
Но поскольку кобыла, несмотря на все недостатки характера, оказалась резвой и выносливой, король решил оставить ее в своих конюшнях. И вскоре забыл о ней за иными делами. Но однажды утром, увидев в окно резвящихся на дворе жеребят, он послал за своим старшим конюхом и спросил у него, как себя чувствует новая кобыла.
«Ах, государь, она умерла. Она оказалась беременна, и плод вышел раньше срока, вперед ножками, разорвав ей брюшину и нанеся множество ран. А если бы этот жеребеночек выжил бы, он стал бы настоящей драгоценностью твоих конюшен, повелитель! Даже недоношенный, он был такой сильный и большой! Но мы не смогли выкормить его. И какая жалость, что ты скакал на нем всего один раз, да и то, когда он был еще в утробе своей матери!»
Услышав эти слова, добрый король Кураб сделался бел, как полотно. Подняв руки, он снял со своей головы корону, стянул с шеи драгоценную цепь правителя города и ссыпал в шкатулку самоцветные перстни со своих рук. «Грехи мои нагнали меня, — сказал он. — Проклятие моей матери исполнилось, как она и хотела.» И он призвал своих слуг и снял с себя тяжелые расшитые золотом и каменьями одежды, снял даже башмаки. И, взяв с собой один только остро отточенный кинжал, он вышел из своего дворца, один, без свиты, в рваных обносках и босиком. Весь город в страхе и оцепенении смотрел, как он вышел к темной реке, на которую вечно глазели каменными зрачками белые кошки.
Кураб не хотел дожидаться неминуемой смерти, ибо слишком часто он обрекал на смерть других или убивал сам. И он рассудил, что смерть от собственных рук будет для него наименьшим из всех зол. Он перерезал себе горло и был уже мертв, когда его тело упало в холодную темную воду.
А те, кто смотрел за этой казнью — а было их множество сотен — заламывали руки в ужасе и изумлении, ибо они не понимали, почему их повелитель решил внезапно лишить себя жизни. Но никто не кинулся к нему, чтобы вырвать оружие из рук, никто не остановил его, и никто не проронил ни слезинки.
8
Возможно, вся история о спине жеребца являлась выдумкой от первого до последнего слова. А, быть может, в ней содержалась лишь часть правды. Король Кураб мог просто бояться жеребцов — в легенде не говорилось, насколько искусный он был наездник. К тому же, оставалось неясным, почему он внезапно взял и зарезался, если после того, как он прокатился на спине не рожденного жеребенка, так ничего и не произошло. Возможно, для его самоубийства были гораздо более веские причины, о которых знал он один.
Так или иначе, он лежал, где упал, на мелководье, уткнувшись лицом в песок, окрашивая струи реки в алый цвет свежей крови.
Его смерть видело несколько тысяч народа — кто выбежал из города на берег, кто смотрел с высоких крыш или с городских стен. Иные забрались на пристань или влезли на мачты пришвартованных к пирсу барок, чтобы получше разглядеть рану бывшего правителя страны. Весть в единый миг облетела все дома, а к вечеру о самоубийстве знали уже по всему Неннафиру. «Неужели это правда? — вопрошали все в один голос. — Зачем ему-то было убивать себя? Он имел все на свете — богатство, славу, власть. Да у меня вдесятеро больше причин для смерти, чем у него!»
Но мертвец не слышал этих криков. А если и слышал, то не подавал виду. Он по-прежнему покачивался лицом вниз на мелководье.
И кто-то сказал: «Он был плохим господином. Но тот, что придет за ним, может оказаться худшим.»
Кураб оставил много сыновей и дочерей от множества жен и наложниц. Иные его отпрыски были еще совсем детьми, иные — уже взрослые. Старшим исполнилось двадцать пять и даже больше. И любой из его старших сыновей мог претендовать на трон и власть. Равно как все остальные могли оспаривать их старшинство. Могли начаться распри. А нет ничего страшнее для страны и ее жителей, чем межвластие.
Затем, много ниже по реке, очевидцы печального события (видимо, искавшие новых интересных зрелищ), получили новое развлечение: прямо посреди стремнины, где не было ни моста, ни даже брода, шел незнакомец в огненно-красных одеждах. Позже другие видели его у пристаней. Человек выглядел как нищий — или как странствующий король. Он наигрывал на нефритовой флейте — или просто смеялся, глядя на игру воды… Судьба пришла в земли Неннафира.
Огибая город и стремясь на запад, река впадала в море, откуда к городу приходили тяжело груженные купеческие суда из дальних стран или возвращались домой барки местных торговцев — порожние, но с богатой выручкой. Но на этот раз со стороны моря, с запада, пришла гроза. Во всяком случае, там видели вспышки — над самой водой или в низком сером небе. Эти сполохи слились в единый сияющий шар света, словно новое солнце родилось там, где до сих пор умирало старое. Встревоженные жители города снова полезли на стены и крыши, сходя с ума от любопытства. Некоторые, впрочем, предпочли спрятаться в погребах, не ожидая от этой зари никаких благ. Город накрыла тишина, напряженная и пугающая. Те, кто вышли стеречь тело своего мертвого короля, первыми узрели невиданное чудо.
Слепящий свет в небе сделался тих и мягок, словно свет огромной луны. Единого взгляда на него было достаточно, чтобы понять: он не может нести в себе что-то ужасное или пугающее, он не может принадлежать ни какому-нибудь невиданному чудовищу из самых темных глубин моря, ни злобной твари, живущей под самым куполом неба и мечущей молнии в непогоду. Нет, его источником, наверное, было что-то нежное и прекрасное, и оно издавало музыку, чудную тихую музыку. Над неведомым светом стояла двойная радуга, в небе плескали крылья бесчисленных птиц, а в море мерцали серебром спины бесчисленных рыб.
— Корабль! — выдохнуло разом несколько сотен голосов.
Да, именно корабль. Но, святые небеса, что за корабль!
Он плыл вверх по течению, вдоль берега, на котором притих в изумлении целый город. Никто и не заметил, как при его появлении тело несчастного Кураба скользнуло с мелководья в поток и пропало в темной воде, исчезнув одновременно из виду и из мыслей всего города.
А корабль, высокий и белоснежный, с семью длинными веслами вдоль каждого борта, медленно приближался. Впоследствии многие говорили, что, поскольку у него имелись эти самые весла, он, конечно же, мог плыть и против течения, и как угодно. Но никто не видел, чтобы эти самые весла, погруженные в воду, сделали хоть один гребок. Более того, многие утверждали, что корабль плыл не по воде, а над водой, не касаясь ее плоским днищем, словно подхваченный потоками вечернего ветерка.
Он выглядел как огромная белая лилия с множеством отогнутых наружу лепестков. Из самого сердца лилии вверх и вперед выдавалась огромная голова дракона на длинной изогнутой шее, с чешуей из бирюзовых пластин и глаз из огромных желтых топазов. Быть может, внутри чудесный цветок и был деревянным, но каждый его лепесток сиял серебром, золотом и драгоценными камнями, словно над ним потрудились не плотники, а ювелиры. Радужные прозрачные шары, похожие на призрачные солнца, плыли над ним, брызжа во все стороны разноцветными солнечными зайчиками. Птицы простирали белые крылья, рыбы подставляли серебряные спины. У корабля не оказалось ни паруса, ни снастей, ни команды. Его золотая палуба была пуста, ни одного выкрика не слышалось из чашечки огромной лилии. Одна только тихая музыка струилась по воде, проникая в людей подобно дыму тончайшего курения. Те, кто слышал эту музыку, внезапно ощущали в себе потребность сплетать руки, петь и танцевать, смеяться и радоваться, хотя во всех этих чудесах пока не имелось ни одного повода для радости, и по меньшей мере десяток для тревоги и подозрительности.
— О, только взгляните на это! — воскликнул какой-то ребенок. — Какая красивая дама!
И в самом деле, наиболее зоркие уже разглядели, что на корабле все же имеется живая душа. Голову дракона венчала корона из золотых лучей, и в этом круге золота стояла прекрасная женщина, маленькая, словно кукла. Ее золотые одежды сияли ярче всех драгоценностей корабля, а вьющиеся черные волосы плащом окутывали плечи.
— Это могущественная колдунья, — объяснили взрослые своим завизжавшим от радости детям.
Но иные преклонили колени, шепча:
— Чудо! Мы узрели чудо!
Женщина в ореоле тьмы волос и золота драконьей короны стояла совершенно неподвижно, но каждый смотрящий на нее ощутил ее взгляд на своем лице.
Наконец она шевельнулась и подняла вверх левую руку — указывая в небо тонким белым пальцем.
И корабль замер, лепестки лилии опустились, птицы и рыбы остановили свое непрестанное движение в небе и воде. Музыка стихла.
А в городе поднялся немыслимый треск, скрежет и грохот. Каменные кошки Неннафира, украшавшие каждую площадь и каждую крышу, большие и малые, страшные и забавные, внезапно разом ожили и принялись потягиваться, разминая каменные лапы и затекшие от векового сидения спины.
Как следует потянувшись и зевнув зубастой каменной пастью, каждая кошка спрыгнула со своего постамента и помчалась по улицам, где от нее в панике и ужасе шарахались жители. Но кошки не обращали на людей ни малейшего внимания. Все они, словно солдаты, поднятые по тревоге, сбежались к реке и легли на берегу, мурлыча и сверкая желтыми круглыми глазами.
Тогда волшебный свет корабля угас. Вместо музыки от него начала расходиться волна. Темная, с блесками серебра и золота, она расплеснулась, затем собралась в высокий столб и закрыла корабль. Поднявшись выше радужных бликов, выше драконьей головы, она мгновение постояла в воздухе, а затем страшной тяжестью обрушилась на берег. На ее пенном гребне, словно статуя, вознесенная над городом, спокойно стояла загадочная женщина — то ли колдунья, то ли посланница небес. Люди с новыми криками ужаса кинулись прочь от берега, уверенные, что сейчас их закрутит этот ужасный водяной вал и стащит в реку вместе с пристанью и прибрежными городскими кварталами.
Но волна, едва коснувшись берега, тотчас отхлынула прочь, оставив Азрарну на берегу, где ее тотчас окружили восторженные кошки.
Поэты после говорили, что там она стояла и ждала, с глазами синими, как само небо, с волосами, подобными ночи, одетая в солнце, бледная, словно луна. И весь город, потрясенный и испуганный, склонился перед ней, восславив в ней несомненную посланницу небес.
Ибо кем еще могла быть женщина подобной красоты и подобной власти, если перед ней расступалась река и оживали кошки, чтобы почтить ее и приветствовать, словно богиню?
Когда над городом прозвучало ее имя, странное эхо отозвалось ему в холмах, но люди сочли это таким же естественным, как гром после молнии. Ибо пути богов лежат далеко за пределами понимания смертных.
И она прошла по улицам Неннафира к королевскому дворцу, где наследники Кураба уже вовсю резали, калечили и травили друг друга. Следы ее босых ног оставались в пыли улиц и еще долго светились в темноте. После долгие месяцы, пока свет не иссяк, по этим улицам не смел ходить никто, а светящиеся следы с гордостью показывали всем приезжим, ибо это было живое чудо. Вслед за ней по улицам шла ее свита — тридцать белых каменных кошек, державшихся ровно на полшага за ее спиной. И уже вслед за кошками, на почтительном расстоянии, шла, огибая светящиеся следы, притихшая, благоговеющая толпа. Кто-то пел, кто-то шел бледный, с невидящими глазами, кто-то шептал молитвы.
Те немногие стражи, что еще оставались у ворот — многие разбежались, когда ожили две большие кошки во дворе — побросали свои копья и упали на колени. Им и в голову не могло придти противиться воле небес.
Двери дворца распахнулись сами собой.
Цепочка светящихся следов Азрарны протянулась через весь внутренний двор, вверх по ступеням и дальше — в дальние покои.
Она была столь прекрасна, повторяли потом поэты, что никто из глядевших на нее не мог не узнать в ней богини.
Азрарн, отец ее, сказал: «Я дам им бога. Раз они так хотят — они получат бога. А вместе с тем — все, что причитается смертным, которыми правит бог.»


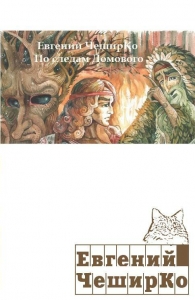

Комментарии к книге «Владычица Безумия», Танит Ли
Всего 0 комментариев