Генри Лайон ОЛДИ ПАСЫНКИ ВОСЬМОЙ ЗАПОВЕДИ
То было что-то выше нас, То было выше всех.
И.БродскийКНИГА ПЕРВАЯ. ДЕТИ ВОРА САМУИЛА
1
— Пся крев![1] Где черти носят этого пройдоху-корчмаря! Клянусь епископским благословением, еще мгновенье — и я нашинкую весь его проклятый род на свиные колбасы!
Пудовый кулак обрушился на столешницу, заставив кружки испуганно дребезжать, а ближайшее блюдо крутанулось волчком и нескоро остановилось, обратив к крикуну испуганную морду запеченного в черносливе поросенка.
Корчмарь Иошка уже спешил к столу, смешно семеня коротенькими кривыми ножками и защитным жестом выставив перед грудью обе руки. В каждой был зажат глиняный кувшин с выдержанным венгерским вином, только что нацеженным из бочки, кран которой открывался либо по большим праздникам, либо в день посещения корчмы князем[2] Лентовским, чей сволочной характер был отлично известен не только корчмарю, но и всякому встречному-поперечному по эту сторону Татр.
После первого княжеского глотка корчмарь был прощен, после второго — милостиво одарен дружеским подзатыльником, чуть не отправившим тщедушного Иошку на тот свет, а после третьего, самого продолжительного глотка, сопровождавшегося молодецким кряканьем и здоровой отрыжкой, князь Лентовский напрочь забыл о корчмаре и принялся превращать поросенка в груду костей и обглоданных хрящей.
Сидевший рядом с князем его старший сын и наследник Янош Лентовский равнодушно вертел в руках куриную ножку, изредка касаясь ее губами столь нежно и мимолетно, словно это была ножка его возлюбленной, а не окорок жилистой и вредной пеструшки Друцы, чье поведение переполнило сегодня утром чашу терпения жены корчмаря.
Впрочем, аппетит был единственным, что отличало между собой отца и сына Лентовских. Оба — рослые, топором рубленные здоровяки, краснощекие, крепкорукие, зачатые на знаменитой дубовой кровати в родовом замке близ Череможа, где теряли невинность все новобрачные жены Лентовских вот уже восемнадцатое поколение подряд. Оба наряжены в темно-лиловые бархатные кунтуши с бриллиантовыми пуговицами, каждая из которых стоила всего добра, нажитого тем же Иошкой за всю его корчмарскую жизнь; из-под кунтушей выглядывали жупаны голубого атласа, а на мускулистых ногах высокородных вельмож красовались пунцовые шаровары и вызывающе яркие сапоги из крашеного сафьяна на позолоченных каблуках. Больно было смотреть, как старый Лентовский заливает все это великолепие потоками жира и струящегося по бритому подбородку вина — но вряд ли кто-нибудь осмелился хотя бы намеком дать понять князю, что жаль портить этакое добро! Доброхота ожидала в лучшем случае оплеуха, способная свалить быка-двухлетку, а потом — плети княжеских гайдуков; невезучий же вполне мог попробовать и клинка фамильной сабли Лентовских, гордо выставившей над столешницей белый хохолок цапли, украшавший ее рукоять.
— Музыку! Гей, слепой, заснул, что ли?!
Незрячий скрипач, перетирающий в углу беззубыми деснами свежевыпеченный хлебец, поспешно вскочил, подхватил лежащую рядом скрипку, примостил ее на костлявом старческом плече и взмахнул смычком. Плясовая огнем расплескалась по корчме, но никто из немногочисленных посетителей и не подумал пройтись гоголем по скрипящим половицам — дай бог в присутствии старого князя-самодура спокойно дожевать и допить, а после незаметно исчезнуть восвояси!
Разве что сидевшая в самом дальнем углу женщина средних лет, непривычно смуглая и длинноносая для здешних мест, сперва забарабанила пальцами по столу и весело притопнула — но огляделась и вновь принялась за баранье жаркое, дымящееся в пузатом горшочке.
У ног женщины, ткнувшись носом в ее поношенные, но еще крепкие сапожки, лежал здоровенный пегий пес. Правое ухо у пса было оторвано в какой-то давней драке, и теперь вместо него нервно подрагивал смешной волосатый обрубок; зато второе, невредимое ухо независимо торчало вверх, словно собаке хотелось уловить в рокоте струн что-то свое, очень важное и неслышимое для посторонних.
Янош Лентовский пододвинул отцу миску с жареными в масле пирожками и скучающе огляделся.
Взгляд княжича скользнул по двум заезжим торговцам, вполголоса обсуждающим дела купеческие, мимолетно задержался на услужливо скалящемся в никуда слепце-скрипаче, огладил широкий аппетитный зад нагнувшейся за упавшим рушником служанки и наконец уперся в смуглую женщину.
Она подняла глаза на молодого Лентовского и улыбнулась княжичу спокойной приветливой улыбкой.
— Цыганка? — негромко спросил княжич Янош, обращаясь скорее к самому себе.
Как ни странно, женщина расслышала его вопрос и отрицательно покачала головой.
— Тогда кто?
Женщина развела руками и еще раз улыбнулась, словно это должно было объяснить ее происхождение.
Княжич Янош продолжал разглядывать странную гостью. И одета она была не так, как одевались местные бабы: вместо обилия юбок, напяленных друг на друга подобно капустным листьям, и белой расшитой рубашки с безрукавкой, на женщине был мужской черный казакин, подбитый стриженым мехом, из-под которого выглядывала опять же черная рубаха, заправленная в короткие кожаные штаны до колен. И никаких украшений, кроме витого браслета на правом запястье и медной запонки с тремя короткими цепочками, закалывавшей рубаху у ворота.
«Нет, не цыганка, — уверился молодой Лентовский. — Те по пуду всяких цацок на себя вешают, а эта… Да и не станет Иошка цыганок у себя прикармливать. Ишь, черная! Откуда и взялась такая?»
Интерес к женщине так же быстро угас, как и возник, после чего княжич зевнул и потянулся к кувшину с вином.
Сейчас отец насытится, и можно будет спокойно тронуться в путь.
В путь…
Легкие сухие пальцы коснулись шеи Яноша. Он недоуменно обернулся — черная женщина стояла совсем рядом, словно в мгновение ока переместившись из-за своего стола к месту княжеской трапезы. Тонкие губы шевельнулись, и женщина произнесла извиняющимся тоном:
— Великодушно прошу простить, ваша милость! Оступилась…
— Пошла вон, — равнодушно отозвался молодой Лентовский, наливая вино в деревянную кружку, и вдруг почувствовал, как у него зачесались глаза. Именно глаза, как если бы от затылка… нет, от шеи, где коснулись Яноша чужие пальцы, протянулись вглубь тоненькие нити-паутинки, быстрая суетливая плесень, кончиками невидимых волокон войдя изнутри в зрачки, копошась, натягиваясь, разрастаясь…
Княжич изумленно моргнул — и ощущение исчезло.
Подобно руке опытного карманника, в последний момент исчезающей из вскрытого кошеля, когда разиня-хозяин заподозрит неладное и, округлив рот, уже готов закричать на весь базар: «Держи вора!»
О сапог Яноша умильно терлась корчемная кошка Бырка, выпрашивая кусочек свининки и опасливо поглядывая на дремавшего одноухого пса.
— Ой под горкой, под кустом портит девок черт хвостом, — заорал на всю корчму старый князь, и скрипач на ходу попытался подхватить мелодию. — Будет черту лихо, ой…
Забыв слова разухабистой песни, которую слышал от егерей на прошлой охоте, Лентовский выругался и запустил в скрипача обглоданной костью.
Черная женщина уже отходила от княжеского стола, когда лицо ее внезапно напряглось, во взгляде, обращенном к старому князю, вспыхнула шальная безумная ненависть, зарницей метнувшись под густыми бровями — но женщина резко присела, вороватым движением погладив мяукнувшую Бырку, и лицо ее почти сразу стало прежним.
Еще миг — и ни ее, ни пегой собаки уже не было в корчме.
Иошка, увидев рядом с миской недоеденного жаркого серебряный полуталер, решил шума не поднимать и уж тем более не гнаться за гостьей; а чуть погодя ему стало не до талеров и женщин, потому что безобиднейшая кошка Бырка разъяренно зашипела, вспрыгнула на столешницу и оттуда воющим комком кинулась прямо в лицо старому князю.
И долго потом рассказывали пастухи Бескид друг другу, как старый князь Лентовский стал одноглазым, как княжич Янош в бешенстве чуть было не зарубил насмерть корчмаря Иошку, и лишь проворство ног спасло последнего, как горела корчма, подожженная гайдуками Лентовского, а старый князь, прижимая к разодранной глазнице окровавленный плат, рычал сорванным голосом:
— Жгите! Все жгите, сукины дети!.. о, пся крев…
О женщине и ее собаке не вспомнил никто.
— Не могла я иначе, Джош… никак не могла. Ты ведь и сам вор, ты должен меня понимать…
Ночь застала женщину с собакой в пути, но одноухий пес мигом свернул с торной дороги и неспешно затрусил в лес — а женщина спокойно пошла вслед за ним, все дальше углубляясь в густеющий кустарник и петляя меж редких белых стволов берез. Так слепой идет за надежным, не раз проверенным поводырем, так ходят за матерью или за любовником, так ходят не раздумывая и не сомневаясь.
И действительно: не успело еще окончательно стемнеть, как они вышли к пастушьему шалашу — добротному, плотно застеленному свежими ветками, с выгоревшим кострищем посередине, над которым на длинной палке, привешенной к двум поперечным жердям, висел закопченный котел. Женщина занялась костром, едкий дым вскоре заполнил внутренность шалаша, явно собираясь прокоптить незваных постояльцев до конца их дней, а пес исчез в лесу, и только изредка светились поблизости его настороженные глаза.
За все это время он не издал ни звука, словно был немым.
Да и женщина молчала с того момента, как они покинули злосчастную корчму Иошки Мозеля. Молча шла она по дороге, молча плутала меж стволами, молча разжигала костер и разбиралась со скудными припасами, вынутыми из холщовой дорожной сумки с нашитыми поверх полосами дубленой кожи. Пастуший шалаш, привыкший к шумным, говорливым людям, горланящим песни и далеко за полночь пугающим друг друга страшными сказками, удивленно внимал тишине — и когда легкий ночной дождь, шурша и притоптывая, прошелся по лесу, спугнув тишину, то шалашу стало спокойнее от этих уютно шепчущих звуков.
Листва дрогнула, отдаваясь зябкой ласке капель, глубоко в земле грибница начала свершать темное таинство рождения гриба, переполошенно зацокала одинокая белка в кроне векового бука, и догорающий костер внутри шалаша слабо высветил две прильнувшие друг к другу тени: человечью и нечеловечью.
— Не могла я иначе, Джош… никак не могла. Ты ведь и сам вор, ты должен меня понимать… Откуда мне было знать, что молодой княжич против отца родного неладное замышляет? Ты, Джош, тоже не всегда знал, что тащишь — а тащил, небось!
Это и были первые слова женщины.
Пес заворочался, хрипло клокоча горлом.
— Хватка теряется, Джош, — усмехнулась женщина, теснее прижимаясь к крупному лохматому телу, и было в ее движении что-то непристойное, не похожее на простое желание добыть побольше тепла. — Помнишь, ты мне говорил: пальцы карманника нежнее соболиного меха! Помнишь, небось… Неделю, говорил, не погладишь чужие кошели — на восьмой день и камень с земли не подберешь, выронишь! А моя хватка иная, да только и пробовать ее чаще приходится. Строг был Самуил-баца, отец мой приемный, тяжко учил, всех выучил; одна я, дура, на рожон из-за тебя поперлась… спи, Джош, это я так, поскулить перед сном захотелось…
Женщина боялась признаться псу, что ей страшно спать. Перед закрытыми глазами все время вставало суровое лицо отца, Самуила-турка из Шафляр, которого шафлярцы прозвали Самуилом-бацой, что на подгальском наречии значило «Старший пастух» или попросту «Пастырь». Призрачный лик хмурился, сдвигая косматые брови, в выпуклых жабьих глазах турка блестел гневный огонь, и почему-то из-за плеча отцовского выглядывало, издевательски покачиваясь, рыжее петушиное перо.
Женщина уже видела однажды залихватски заломленный берет, на котором серебряной пряжкой было заколото точно такое же перо.
Если бы она могла молиться, то молилась бы, чтоб ей не довелось увидеть его во второй раз.
«Прости, батька Самуил, — губы женщины беззвучно шевелились, заставляя одноухого пса вздрагивать и на миг выныривать из чуткой собачьей дремы, — прости ослушницу… Ведь знала же, помнила, в душе тавром выжгла слова твои: „Не воруйте, дети, у дьявола, ибо дьявол берет по праву обмана, но все же по праву; а мы просто берем! Опасайтесь многих, но не бойтесь никого — кроме Великого Здрайцы!“[3] Вот и вышло так, Самуил-баца, что твоя глупая дочь Марта, бывшая гроза шафлярских мальчишек, бежит теперь испуганной косулей от охотника, и нет ей убежища на всем белом свете! Ах, Джош, Джош-Молчальник, что ж ты сделал со мной!.. что я сама с собой сделала…»
Когда женщина, зовущая себя Мартой, все же заснула, то приснился ей день, когда она впервые поняла недозрелым детским умишком, что родилась воровкой.
В тот день она чуть было не украла у приемного отца удовольствие от послеобеденной трубки.
А Самуил-баца поймал ее, что говорится, за руку, и потом долго смеялся, раздувая ноздри орлиного носа и топорща жесткие седые усы.
Дождь бродил вокруг шалаша, и Марта теснее прижималась к теплому боку пса, вздрагивающего во сне.
Джошу снился ночной лес, гроза и человек, повешенный на собственном поясе, привязанном к потолочной балке заброшенной сторожки.
Джошу снился он сам.
Без малого полвека минуло с той памятной весны, когда стаяли снега, и со стороны весело зазеленевшей Магурской Громады явился в Шафляры незнакомый турок. Впрочем, турком прозвали его сами шафлярцы за длинную, диковинно выгнутую трубку, которая вечно дымилась у незнакомца в зубах, да еще за внимательные смоляные глаза навыкате. Темной же мастью и птичьим носом здесь трудно было кого-нибудь удивить — добрая половина бескидских мужиков была чернявой и клювастой. Поселился гость в хате столетнего дедушки Кшися, и все три с половиной года, что остались старику до прихода костлявой, не мог нарадоваться одинокий Кшись на своего постояльца, которого перед смертью назвал сыном. Сами шафлярцы, не шибко жаловавшие чужаков, тоже на удивление быстро привыкли и к пришельцу, и к его имени Самуил, непривычно звучащему для местного слуха — работал Самуил-турок за троих, на святые образа крестился исправно, пил с умом, ругаться умел так, что самые завзятые сквернословы плотней натягивали бараньи шапки на уши и хмыкали в курчавые бороды, девок без нужды не портил, а мужние бабы частенько бегали в лес за ушедшим на охоту Самуилом в отсутствие законных муженьков, выгнавших стада к Озерам.
Но детей от турка не рождалось, а на горячем он не попадался.
Так что все были довольны, потому как по эту сторону Татр любили иметь в доме хозяйку, которая нравится другим — раз со мной живет, значит, и я не из пустобрехов.
Опять же последнюю неделю перед смертью дедушки Кшися, во времена его молодости не раз и не два выбиравшегося бацой — старшим пастухом, чье слово для прочих главней отцовского, — Самуил-турок безвылазно сидел в хате, поил старика травяными отварами и держал за иссохшую руку, забывая поесть и урывая клочки сна, когда старика чуточку отпускало. А после похорон впервые отправился с шафлярскими пастухами в Косцелец — и те, кто помнил тот давний выпас, говаривали, что словно дедушка Кшись встал из гроба и каркающим голосом Самуила-турка отдавал приказы: дойных овец и коз отправить на Крулеву гору, баранов с козлами и ярок с ягнятами — здесь оставить, коров к Озерам, волов согнать в редкий лес над речкой…
Так и стал с того дня из Самуила-турка Самуил-баца.
А к неизменной трубке добавилась в руках Самуила пастушья чупага — малый топорик на длинном древке, с медными колечками на конце топорища. Всякий уважающий себя подгальский пастух умел в танце прыгать через свою чупагу, ухватившись руками за лезвие и за топорище, а когда поднимался пастуший топорик не для забавы, а для мужской кровавой потехи, то частенько приходилось после сколачивать домовины для неудачников.
Тут поначалу косились на Самуила односельчане — что-что, а прыгать козлом новый баца был не горазд. Как-то раз явился в Шафляры Мардула-разбойник, знатный овцекрад, о котором говаривали, что ему человеку шею свернуть — как иному высморкаться. Явился и давай шутки шутить: дескать, в старом стаде новый вожак, холощеный валух шафлярских баранов водит! Слово за слово, встали друг перед другом Самуил с Мардулой-разбойничком на зеленом лугу, заметался неистовый Мардула вокруг хмурого турка, как грозовой вихрь вокруг старого утеса, плеснула медным звоном Мардулина чупага… пляшет Мардула, а в руках у Самуила-бацы уже две чупаги: и своя, и разбойничья. Что сделал, когда успел, как утес у вихря молнию из пальцев выкрал — не увидели того шафлярцы. Схватился Мардула за нож, рванул из-за пояса и замер на месте, ровно забыл, что с ножом делать собирался.
— Ты чего мою чупагу держишь? — спрашивает у турка.
Незлобно спрашивает, скорей удивленно.
— А ты мне ее подарил, — отзывается Самуил-баца. — Только что. Как побратиму. Прими взамен мою и поклонимся друг другу в пояс.
Когда шафлярцы позже рассказывали эту небывальщину соседям, то в конце всегда добавляли: хотите верьте, хотите нет, только тем дело и кончилось.
Так и жил Самуил-баца в Шафлярах. На четвертый год женился, взял за себя немую Баганту, овдовевшую еще до его прихода в село, и жил с безъязыкой душа в душу. А детей не имел. Не хотел или не мог — но на вторую зиму после свадьбы исчез из Шафляр до середины весны и по возвращении привел с собой мальчонку. Подобрал где-то. Баганта приняла хлопца как сына родного, Самуил-баца имя приемышу дал — назвали Яном, а пока маленький был, Яносиком звался. С той поры и пошло: раз в три-четыре зимы исчезал Самуил из Шафляр, скитался где-то до полугода и возвращался с приемышем. Когда с мальцом, когда с девкой. И все как один: лядащенькие, чернявые да востроносенькие. Галчата и галчата, словно родные дети турка — а когда охотник Собек бросил как-то со зла: «Воронье!», так назавтра забыл имя родной матери.
Взаправду забыл, на трезвую голову. Ему уж кто только не говорил: «Мамашу твою Кристой зовут!», а он кивнет, полдня проходит, шепча под нос: «Криста… Криста, мамонька…», и к вечеру снова ко всем цепляется: «Люди добрые, как вы маму мою кличете?!»
У самой матери спрашивать стеснялся.
Росли приемные дети Самуила-бацы и немой Баганты, вырастали, стукнул старшему Яну девятнадцатый годок — и ушел Ян из родного дома. Ушел себе и ушел, мало ли с какой стати человеку жизнь в Шафлярах немилой показалась! Ан нет, не так-то просто: следом за Яном спустя три года покинула село и сестра Янова, красавица Тереза. Много парней сохло по статной Терезе, только не выбрала она из них ни единого, жила себе ни богу свечка ни черту кочерга; такой и ушла восвояси. Вот и повелось с тех пор: справит очередной Самуилов приемыш дважды девятый день рождения — откуда только знал Самуил-баца, когда родились его найденыши?! — и вскоре расстается с отцовским домом.
Куда уходили, где оседали — не знал никто.
Разве что, может, кроме старого Самуила. Да этот разве скажет?! — проще немую Баганту разговорить…
И если бы сказал кто шафлярцам, что уважаемый всеми Самуил-баца тайно учит своих приемных детей воровскому ремеслу, поскольку сам природный вор, и даже не такой вор, каких мало, а такой, каких и вовсе-то нет на свете — ох, и намяли бы пастухи болтуну-всезнайке бока!
А зря.
Дорога на Тынец испокон веку считалась оживленной. Скрипели повозки, запряженные меланхолично моргающими волами, время от времени пролетал, покрикивая, спешащий верховой, богомольцы серыми стайками брели в тынецкий монастырь, пользующийся славой святого места; по обочине местные пастухи гнали на продажу блеющих овец, и бродячие монахи блудливо цеплялись к бабам, отправившимся с утра на рынок.
Марта ехала на телеге, почти целиком заставленной дерюжными мешками с мукой. Мучная пыль пудрой оседала на темных волосах женщины, набивалась в рот и в нос, затрудняя дыхание, но все же это было лучше, чем тащиться пешком. Одноухий Джош развалистой рысцой бежал рядом, вывалив розовый язык, и искоса поглядывал на правившего волами мельника — тихого крохотного старичка с благостным выражением на выцветшем от возраста лице, отчего мельник напоминал затертые статуи святых, каких много понаставлено заботами окрестных резчиков в церквях Ополья и Тенчина.
С другой стороны телеги шагал сын мельника — низкорослый крепыш с плечами шириной в стол. При виде его медвежьей стати сразу приходило в голову, что мельничиха в молодости согрешила с кем-то из ядреных здоровяков-гуралей,[4] любивших в свободное от разбоя время молоть муку на чужих жерновах.
Изредка сын мельника отставал и, делая вид, что попросту глядит по сторонам, по-звериному быстро косился на собаку Марты, зажигая в глазах неприятные зеленые огоньки. Сама Марта один раз заметила это, но не придала значения: мало ли что, может, парня в детстве сельские кобели рвали, вот и не любит собак!
Пегая морда Джоша излучала полнейшее равнодушие ко всему на свете.
— До самого Тыньца с нами поедешь, дочка? — добродушно спросил мельник, погладив ладошкой вспотевшую на солнце плешь. — Ты думай, а то я еще волов у Жабьей Струги поить стану… что ж тебе зря ждать возле колодца-то!
— А где этот колодец? — поинтересовалась Марта.
— Да тут рядышком, за сгоревшим явором, где поворот к монастырю… как подъезжать станем, услышишь: лягухи там стрекочут, что твои соловьи!
— Нет, дедушка, тогда я вас ждать не стану. Мне-то как раз в монастырь и надо, к аббату Ивоничу.
— К Яну Ивоничу? Божий человек, таких на нашей земле по пальцам перечесть можно… бедных оделяет, к монастырским крестьянам милостив, исповедует чище святого Павла, чужого гроша в жизни не взял…
Марта невольно улыбнулась, как если бы мельник сказал что-то очень смешное, и старик недовольно заворочался, заметив краем глаза эту улыбку.
— Святой человек ксендз[5] Ян, — еще раз повторил он с нажимом. — Глядишь, вскорости епископом станет. Люди и так уже судачат: настоятель тынецкого монастыря — и не епископ. Не поладил с кем в Риме, что ли? А ты знакома с ним, дочка, или как?
— Немного, — Марта обеими руками взбила свои пышные волосы, и белесое облачко мучной пыли заклубилось над женщиной.
Мельник прицокнул языком — не то волов подгонял, не то удивлялся, что его случайная попутчица знакома с таким угодным Господу человеком, как Ян Ивонич, настоятель тынецкого монастыря бенедиктинцев.
Подъезжая к Жабьей Струге, издалека кивавшей им колодезным журавлем, Марта даже не услышала, а скорей почуяла хриплое ворчание Джоша. Не успев ничего сообразить, она метнулась с телеги на землю и мертвой хваткой вцепилась в густую шерсть пса за мгновение до того, как одноухий чуть было не помчался вперед, к колодцу.
— Что с тобой, Джош?! — Марта понимала, что долго ей собаку не удержать, да и вообще Джош-Молчальник был не из тех, кого может удержать женщина.
За что в свое время и поплатился.
Пес упрямо тянул ее к колодцу.
Продолжая одной рукой придерживать собаку, Марта дошла до поворота и увидела Жабью Стругу.
Неподалеку от бревенчатого сруба, ограждавшего колодец, к раскидистой яблоне прижался спиной молодой цыган, скорее цыганенок, выставив перед собой кривой нож.
— Не подходи! — подстреленной рысью шипел парнишка, яростно сверкая глазами, и ярко-алая рубаха его пламенела на ветру. — Клянусь мамой, зарежу! Не подходи!..
Вокруг толстой ветви яблони был плотно обмотан кожаный повод коня — красавца гнедого, заседланного на удивление старым и поношенным деревянным седлом, на какое не сядет ни один уважающий себя всадник, а тем более природный цыган.
Конь нервничал, мотал головой и фыркал.
Цыгана лениво, с неторопливым спокойствием людей, умеющих убивать, окружало пятеро мужиков. Двое держали короткие, с толстым обухом топоры, более удобные для работы, чем легкие пастушьи чупаги; третий доставал из ножен свой нож, в отличие от цыганского широкий и прямой, а четвертый тряпицей наскоро перевязывал пятому рассеченную руку. Видимо, цыганенок уже успел расстараться. По лицам мужиков ясно было видно, что жить мальчишке остается считанные минуты. Просто никому не хотелось лезть первым и зря кровавиться.
Джош рычал, скалясь страшной пастью, и тянул Марту вперед.
— Это цыган, — успокаивающе бросила женщина псу. — Конокрад. Ты же никогда не связывался с конокрадами, Молчальник! Да что ты, в самом деле, ведь посекут топорами — и его, и нас с тобою!
Пес не слышал.
— Не возьму я их, Джош, — чуть не плакала Марта, из последних сил держа пса. — Сам знаешь, надорвалась я с тобой, много не вынесу… и устала с дороги. С княжичем — это ведь так, забава одна была, как тебе у деревенского дурня яблоко с воза снять… да стой ты! Черт с тобой, Джош…
На последних словах Марта поспешно захлопнула рот, наскоро огляделась по сторонам и, отпустив собаку, пошла к мужикам и конокраду.
Джош беззвучно ступал следом.
— За что парня губите, люди добрые? — спросила Марта, подойдя к раненому.
— Коня свел, падлюка! — ответил тот властным голосом, по которому сразу можно было признать сельского войта. — Я-то думал — все, сгинул жеребец, уведут в Силезию или за Дунай, и пиши пропало… не успели увести, племя египетское!
— Не подходи! — безнадежно вскрикнул цыганенок. — Ай, не подходи, жизни лишу!
Марта протянула руку и легко коснулась предплечья раненого, чуть выше наспех замотанного тряпицей пореза. Человек встрепенулся, хотя порез был пустяковый, и даже задень его Марта, боли особой не причинил бы, потом часто-часто заморгал, словно ему в глаз попала соринка, помотал кудлатой головой и недоумевающе уставился на своих спутников.
— Эй, мужики! — крикнул он. — Погодьте! А за что мы цыгана этого рубить собрались?!
Ближайший обладатель топора — коренастый угрюмый бородач — повернулся и выразительно постучал себя обухом по лбу. Правда, лоб у него даже на первый взгляд был такой, что можно было стукнуть и посильнее — если топора не жалко.
— Сдурел, Саблик?! Он же коня у тебя свел!
— Коня?!
— Ну да! Твоего гнедого! Да ты что, ослеп — вот же твой жеребец стоит!
— Это не мой жеребец! — с уверенностью заявил раненный Саблик.
— Не твой?
— Не мой. Сроду у меня гнедых не водилось.
— Так ты ж сам заорал, как мы к Струге подъехали: держите, братья, конокрада чертова, вражью силу! Я и приметил — вроде бы знакомый гнедой под цыганом гарцует! Еще обрадовался — спешился кучерявый, коня поить стал, а то ушел бы верхами!..
— Не мой конь, — Саблик отвернулся и стал перевязывать пострадавшую руку заново, ловко помогая здоровой руке зубами. — Сроду не водилось у меня гнедых. Не люблю.
— Тогда за что мы цыгана рубим?!
— Не знаю. Может, он в твое ведро плюнул.
Бородач сунул топор за пояс и вразвалочку подошел к Саблику. Постоял, глядя на того с явным желанием дать раненому по уху, после звучно высморкался Саблику под ноги и двинулся к колодцу.
Остальные, пожимая плечами, потянулись за ним.
Марта проводила их усталым взглядом и направилась к цыганенку.
— Не подходи, — цыганенок сунул ей в лицо нож, чуть не порезав губу, и теснее прижался спиной к яблоне. — Убью!
Марта не ответила.
— Не подходи! — еще раз взвизгнул парнишка и заплакал, садясь на землю.
Джош облизал цыганенку мокрые щеки и лег рядом, покусывая стебельки травы.
— Мотал бы ты отсюда, — Марта отерла пот со лба и поняла, что испугалась — дико, смертно испугалась, просто раньше не успела это заметить, а и заметила, так не пустила в сердце.
Кинулся бы Джош-сумасброд на мужиков, лег бы под топорами за дурость свою неуемную…
— Друц, — забормотал цыганенок, уставясь в землю. — Зовут меня Друц!.. я для тебя, госпожа, я за тебя… наш табор в Силезию третьего дня ушел, там ярмарка знатная, а я не успел!.. задержался я тут… хочешь, госпожа, вынь мою душу, топчи ее, дави каблуками — благодарить стану, в ножки поклонюсь! Хочешь?!
Золотая серьга в его левом ухе качалась, играя солнечными зайчиками.
— Дурак ты, Друц-конокрад, — устало отозвалась Марта, вздрогнув при словах Друца о душе. — Прыгай-ка лучше в седло и гони к своим в Силезию. Опомнятся мужики — ни я, ни Господь Бог тебя с их топоров не снимут. Понял? А гнедого твоего Бовуром звать — так и запомни, потому что на другое имя он не откликнется. И не надо на меня глазеть, рот разинув, я тебе не икона Божьей Матери… ну, скачи!
…Старичок-мельник, так и не выпрягший волов из своей телеги, от края дороги наблюдал за происходящим. Когда пыль взвилась за цыганом Друцем, прилипшим к спине краденого жеребца, мельник покачал головой и задумчиво оттопырил нижнюю губу.
— А не та ли это баба, о которой давеча ночью нам Петушиное Перо сказывал? — спросил он у самого себя.
И сам себе ответил:
— Может, и та. А спешить все равно не надо…
— Какая баба? — поинтересовался его могучий сын, исподлобья поглядывая на припавшего к ведру одноухого пса.
— А та, что у черта купленную душу из-под носа увела. Как цыган коня из чужой конюшни.
Мельник еще раз покачал головой, улыбнулся тихой бесхитростной улыбочкой и повторил:
— А спешить все равно не надо…
Стены тынецкого монастыря, сложенные из тщательно пригнанных друг к другу глыб тесаного камня, выросли перед Мартой и Джошем как из-под земли. Вот еще только что был лес, тропинка петляла меж задумчивыми сумрачными вязами и древними дубами, не позволявшими видеть ничего дальше ближайших стволов — и вдруг лес как-то сразу кончился, словно обрезанный гигантским ножом, а над головами уже нависают отвесные монастырские стены, больше смахивающие на крепостные. Тынецкий монастырь в смутные времена и впрямь частенько служил крепостью, причем стены, на которые сейчас с искренним благоговением смотрели Марта и Джош, ни разу не были взяты неприятелем. То ли Господь хранил святых отцов и укрывшихся у них мирян, то ли закованный в камень оплот веры просто оказался не по зубам нападающим. Впрочем, одно другому не помеха, и даже наоборот…
Вблизи, когда путники оказались перед массивными, окованными железом воротами монастыря, ощущение давящей на плечи огромной массы сурового камня только усилилось. И, стараясь развеять это гнетущее впечатление, усугубляемое царившей вокруг тишиной, Марта решительно и громко трижды ударила в ворота привешенным снаружи чугунным кольцом.
Некоторое время ничего не происходило. Потом по ту сторону ворот послышались неспешно приближающиеся шаги, и в левой створке со скрипом отворилось небольшое окошечко. Спустя мгновение в нем возникла остроносая физиономия монаха-привратника, сверлившего Марту подозрительным взглядом.
— Кто такая? — неприветливо осведомился монах. — Зачем явилась?
— Марта Ивонич я, сестра настоятеля вашего, — скромно потупила глаза Марта. — Совета пришла спросить у святого отца, брата моего в миру.
— Сестра? — в скрипучем голосе монаха звучало подозрение, готовое перейти в уверенность. — Что-то не припомню я, чтоб у аббата Яна сестры водились!
— А ты у него самого спроси, отче, — кротко улыбнулась Марта, проводя ладонью по гладкому дереву ворот и как бы случайно задев при этом торчавший из окошка длинный монашеский нос.
Привратник отшатнулся, хотел было выругаться, но вдруг застыл на месте, словно пытаясь что-то вспомнить. Так и не вспомнив, обреченно махнул рукой и начал вытаскивать из петель тяжелый засов.
— Входи, сестра, — виновато пробормотал он, впуская Марту и юркнувшего следом одноухого пса. — Для тех, кто просит у нас совета и утешения, двери наши всегда открыты. Сейчас схожу, доложу отцу настоятелю…
Являвшихся к нему мирян настоятель тынецкого монастыря ксендз Ян Ивонич предпочитал принимать не в исповедальне и не в аббатских покоях, а в узкой келье, где кроме жесткой лежанки, грубой деревянной скамьи и низкого стола из некрашеных дубовых досок, ничего не было.
За исключением распятия на стене, разумеется.
Здесь отец Ян молился в одиночестве, здесь же выслушивал исповеди родовитых шляхтичей и шляхтянок, претендующих на особое внимание аббата, отпускал грехи, давал советы, после которых многие уходили с облегченным сердцем, а кое-кто и вскоре принимал постриг. Знали бы эти люди, что на самом деле происходило в то неуловимое мгновение, когда бремя грехов спадало с их души, или когда важное решение, еще минуту назад рождавшее бурю сомнений, вдруг оказывалось простым и единственно возможным! Но люди покидали монастырь, аббат оставался, и все шло своим чередом.
Отца Яна многие считали святым. И хотя прижизненная канонизация ему не грозила — даже святой Станислав Костка сподобился приобщения к лику лишь после того, как отдал Богу душу — тем не менее тынецкие отцы-бенедиктинцы и священнослужители соседних монастырей были твердо уверены, что уж епископский-то сан не минует ксендза Ивонича, причем в самое ближайшее время.
И только сам отец Ян, Яносик Ивонич, старший из приемных детей Самуила-бацы, знал истинную цену своей святости.
Кроткий аббат был вором.
Сонмы греховных мыслей и вожделений, сомнений и страхов, украденных из голов исповедующихся и просящих совета мирян терзали его. Люди уходили просветленными и очистившимися, чувствуя в себе Благодать Божью, люди называли отца Яна святым — а он оставался один на один с их гордыней, любострастием и чревоугодием, все чаще не выдерживая, срываясь и долго потом замаливая собственные — а по сути чужие — прегрешения… Когда молодой Яносик становился послушником, а затем принимал постриг и давал обеты, он и представить не мог, с чем ему придется столкнуться в стенах монастыря, этой обители веры и благочестия! Да будь он действительно святым — никогда бы не достичь Яну Ивоничу не то что епископского сана, но и должности настоятеля, в которой он сейчас пребывал. Свято место пусто не бывает, желающих на него предостаточно. И плетутся в стенах монастырей интриги не хуже, чем в королевских дворцах и княжеских замках; редко, очень редко пускают в ход святые отцы яд и клинок, зато клевета и наветы ядовитее иной отравы и острее булатного ножа. Будь ты хоть трижды блаженным бессребреником — епископом до самой смерти не станешь, ибо найдутся угодники похитрее, попроворнее тебя!
Все это ксендз Ян понял быстро. А поняв — принялся за дело. Самуил-баца мог гордиться старшим сыном: не раз кто-нибудь из отцов-бенедиктинцев внезапно забывал, о чем хотел донести тогдашнему аббату, или прилюдно спотыкался посреди молитвы, запамятовав слова, годами беспрепятственно слетавшие с языка; а то и сам престарелый настоятель начинал вдруг ни с того ни с сего благоволеть к молодому монаху, которого еще недавно считал юным выскочкой, метившим на его место (и совершенно правильно считал!)…
День за днем, год за годом украденные во имя благой цели черные думы, корыстные помыслы, зависть, тщеславие, доносы и интриги скользкой плесенью оседали в душе брата (позже — отца) Яна, и время от времени Ивонич начинал задыхаться, тонуть в этой мерзости, не отличая врожденного от краденого. Тогда он на несколько недель исчезал из монастыря — якобы по делам святой католической церкви — в потайном месте сменял свое одеяние на мирское и ударялся во все тяжкие, ныряя с головой в пучину пьянства, чревоугодия, кутежа и продажной любви, давая выход накопившимся в нем чужим страстям и желаниям.
Это случалось нечасто — лишь тогда, когда кладовая его души оказывалась переполнена той дрянью, которую отец Ян выносил из чужих душ. Для блага других — и ради собственной выгоды. Всяко бывало, и до сих пор мучился сорокалетний аббат Ян, считавшийся святым, страшным вопросом: благо творит он или зло? Угодно ли Богу то, что он делает, или уже ждет его в аду Сатана, радостно потирая руки в предвкушении?..
Ответа настоятель не нашел до сих пор.
Присев на край узкого монашеского ложа, Марта молча наблюдала, как отец Ян не торопясь устраивается на скамье напротив нее. Строгое бледное лицо аббата с высоким лбом и обильно усыпавшей виски сединой действительно напоминало лик святого, и Марта подумала, что Яносику весьма пошел бы светящийся нимб вокруг головы. На аббате была белая длиннополая риза с пелериной, какую носили все бенедиктинцы, но, даже не зная, кто он, Марта никогда бы не спутала Яна с рядовым монахом из ордена св. Бенедикта или любого другого.
— Ну, здравствуй, сестра, — негромко сказал аббат и посмотрел ей прямо в глаза.
— Здравствуй… святой отец, — чуть улыбнулась Марта.
Улыбка вышла печальной и едва ли не вымученной.
— Давно мы не виделись с тобой, Марта. И поэтому я не верю, что ты случайно появилась здесь. Рассказывай.
— Не знаю даже, с чего начать, Ян…
— С начала, Марта, с начала. Слыхала, небось, что в начале было Слово?
— С начала? Я нарушила одну из наших Заповедей, Яносик.
— Какую же? — тонкие брови аббата еле заметно приподнялись, но на лице при этом не дрогнул ни один мускул.
— Я встала на пути у Великого Здрайцы.
На этот раз Ян не смог скрыть своего волнения.
— Ты рискнула помериться силами с Нечистым?!
— Да.
— И… что же?
— Я украла у него душу. Душу, купленную им; душу, которая принадлежала ему по Праву. И с тех пор он ищет меня. Меня — и того, в ком отныне живет принадлежащая ему душа.
После этих слов женщины в келье повисла долгая звенящая тишина — лишь когда снаружи донесся приглушенный звук колокола, отец Ян очнулся и тыльной стороной ладони вытер вспотевший лоб.
— Но это невозможно! То, что ты рассказываешь — это даже не ересь! Это чушь! Этого не может быть согласно догматов церкви; этого не может быть с позиций здравого смысла; если у тебя нелады с церковью и здравым смыслом — этого не может быть, потому что так учил нас наш приемный отец Самуил! У тебя попросту не хватило бы сил вынести наружу целую душу — если предположить, что вообще можно украсть погибшую душу у дьявола!..
— Этого не может быть. Но это было. Мне действительно не хватило сил, брат мой Ян, и я серьезно надорвалась во время кражи. Сейчас я не в состоянии украсть ничего большего, чем лежащие на самой поверхности мелочи, но тогда… тогда у меня не было другого выхода, — просто ответила Марта.
— И ты хочешь, чтобы я помог тебе? Помог против Великого Здрайцы?
— Когда я заблудилась в Кривом лесу, именно ты, Яносик, нашел меня и привел домой. Когда ты дрался с шафлярскими мальчишками, я прикладывала к твоим ссадинам подорожник. Теперь ты аббат, многие считают тебя святым, хоть это, наверное, и не так. И ты — наш. К кому мне было еще идти? Отец стар… Если мне не поможешь ты, то больше не поможет никто.
— Но я не знаю, чем тебе помочь! Разве что предложить уехать в Рим или постричься в монахини… вместе с тем, кто носит украденную тобой душу. Марта, я сделаю все, что смогу — хотя и сомневаюсь, что кто-либо из людей способен помочь тебе, даже Его Святейшество. Но для начала я должен хотя бы узнать, как это произошло!
— Хорошо, отец Ян. Я все тебе расскажу. Ты принимал много исповедей — прими и эту.
2
Баронесса Лаура Айсендорф, супруга Вильгельма фон Айсендорфа, чертовски нравилась мужчинам. Этого отрицать не мог никто, и сама баронесса прекрасно это знала; к тому же Лаура была неглупа — редкое сочетание! — и вертела мужем, как хотела, на словах во всем соглашаясь с суровым бароном. Но людей, как правило, обуревают желания, лишь разрастающиеся по мере их удовлетворения, и в первую очередь это относится к красивым женщинам. Лаура Айсендорф была натурой исключительно страстной и любвеобильной, пылких чувств ее с лихвой хватало помимо мужа еще на двух-трех достойных кавалеров, которых баронесса частенько меняла. Что, естественно, не могло укрыться от охочего до сплетен венского света. Впрочем, рассказывать о похождениях гулящей Лауры ее законному супругу опасались, зная вспыльчивый характер барона и его репутацию записного дуэлянта. Так что некоторое время после свадьбы барон пребывал в счастливом неведении относительно «причуд» своей супруги, а баронесса, уверовав в собственную безнаказанность, окончательно потеряла чувство меры и пустилась во все тяжкие, нередко уединяясь с очередным избранником в укромной комнате прямо во время бала или приема.
Долго так продолжаться не могло по вполне понятным причинам, и во время одного из приемов в Хофбурге все открылось. Барон был вне себя, поздно спохватившаяся баронесса — в ужасе от предстоящего, незадачливый любовник — в преддверии надвигающейся дуэли, гости — в предвкушении грандиозного скандала… Но на людях фон Айсендорф, последний отпрыск славного рода, нашел в себе силы сдержаться, решив дома дать волю праведному гневу. Они с баронессой уже направлялись к выходу, когда какая-то случайно оказавшаяся на приеме девица — судя по одежде и манерам, дочь провинциального и не слишком богатого дворянина — шепнула на ухо проходившей мимо баронессе: «Не беспокойтесь, ваша милость, ваш муж уже все забыл. Но впредь умоляю — будьте осторожнее…» От Лауры не укрылось, что девица невзначай коснулась руки Вильгельма — и барон вдруг запнулся в дверях, удивленно посмотрел на супругу, оглянулся на покидаемый ими зал; затем, похоже, собрался вернуться, но передумал — и супруги Айсендорф отбыли в своей карете.
К великому изумлению и радости баронессы, дома муж был с ней ласков и ничего не помнил о случившемся на приеме. Слова девицы полностью подтвердились.
Поэтому когда на очередном балу Лаура увидела мелькнувшее среди гостей смуглое лицо, запомнившееся ей в связи с памятным случаем, она тут же направилась к спасительнице. К концу бала Лаура души не чаяла в Марте, и последняя на следующий же день переехала в поместье Айсендорфов, сделавшись в одночасье компаньонкой и доверенной подругой баронессы. Возникшие поначалу сомнения в происхождении Марты, сказавшейся младшей дочерью захудалого силезского шляхтича, как-то сами собой улетучились, равно как и недоумение по поводу того, почему это девушка из хорошей семьи путешествует одна, без сопровождающих; барон, пытавшийся что-то возразить жене, вскоре махнул рукой на ее очередную прихоть — и молодая Марта прочно обосновалась в имении Айсендорфов.
Надо сказать, что баронесса, при всем своем расположении к новой компаньонке, немного побаивалась Марту, хотя не признавалась в этом даже самой себе. Не даром же разъяренный Вильгельм фон Айсендорф, прознавший об очередном романе своей супруги, в присутствии Марты мигом становился кротким, как ягненок, мгновенно забывая как о своей недавней ярости, так и о ее причине, спеша извиниться перед баронессой за то, что ворвался к ней столь нелепым образом, сгоряча и непонятно зачем!
«Ведьма!» — думала временами Лаура о своей компаньонке, и гнев, мелькавший в глазах Марты в моменты усмирения барона, только способствовал укреплению баронессы в этом мнении.
Но баронесса была женщиной решительной и не слишком набожной, и ведьма, которая верно служит ей, Лауре, исправно отводя от нее гнев мужа, баронессу более чем устраивала.
Так что Марта регулярно получала в подарок новые платья, а иногда — и жемчужное ожерелье, пользовалась полной свободой и не слишком обременяла себя какими бы то ни было обязанностями, попросту сопровождая супругов Айсендорф на все балы и званые вечера. Быстро освоившись в высшем венском свете, с легкостью перенимая или воруя аристократические манеры, она без особых сложностей научилась носить любые наряды с достоинством королевы, вести светские беседы и быть в курсе всех сплетен (ну, как раз это для подгальской воровки оказалось легче всего!). О такой жизни приемная дочь Самуила-бацы из Шафляр могла только мечтать. И Марта с головой окунулась в сверкающий водоворот балов, карнавалов, чопорных выездов и тайных страстей, кипевших за фасадом внешней респектабельности и благопристойности.
Зная скромные достоинства своей внешности, еще более тускнеющие рядом с ослепительной баронессой Айсендорф, Марта была удивлена, когда и вокруг нее начали увиваться молодые люди, в том числе и один виконт. Выгодно выскочить замуж было весьма заманчиво, но Марта с этим не спешила, да и молодых людей интересовала пока что отнюдь не свадьба. Благосклонно принимая ухаживания и дорогостоящие знаки внимания, Марта предусмотрительно держала своих кавалеров на расстоянии, периодически извлекая из голов слишком рьяных заранее заготовленную фразу или память о вчерашнем разговоре — и кавалеры смущались, краснели и на время оставляли Марту в покое.
Женить на себе одного из этих самоуверенных хлыщей Марта могла без труда, но образ жизни баронессы Айсендорф ее отнюдь не вдохновлял, да и никто из ухажеров не нравился Марте настолько, чтобы решиться связать с ним свою дальнейшую жизнь.
Как часто бывает, все решил случай; и случай этот звался Джозефом Воложем.
Джозеф Волож был карманником. Ловким, удачливым, веселым — но карманником. Из тех, кому тесно в собственной шкуре, кто походя украдет увесистый кошелек, набитый золотом, не забыв вместо него подсунуть разине-владельцу столь же увесистый камень, завернутый в платок, который пострадавший с изумлением и негодованием обнаружит, лишь придя домой; из тех, кто половину добычи легкомысленно раздаст нищим пропойцам, на остальное щедро угостит своих приятелей — а к утру вновь останется ни с чем и, весело насвистывая, отправится на промысел.
Воровать Джозеф предпочитал у богатых. О, отнюдь не потому, что совесть не позволяла ему обкрадывать бедных — если нужда припечет, то очень даже позволяла! Покладистую совесть в данном случае заменял простой и верный расчет: у богатых людей денег больше. Значит, украв один раз, можно безбедно жить некоторое время, прежде чем придется снова прибегнуть к своему ремеслу. А если щипать кошели слишком часто, да еще в одном и том же городе — возрастает риск попасться. Джозеф не хотел уезжать. Вена ему нравилась. Он с удовольствием ходил в оперу — и не только «работать» — он любовался венской архитектурой, ему были по душе здешние трактиры и здешние женщины…
Джозеф жил в Вене уже больше года и намеревался пожить еще — сколько сможет.
Но Джозеф был карманником. Всего лишь карманником. И очень скоро выяснил, что карманники с точки зрения венского «дна» — отнюдь не самый привилегированный слой воровской гильдии.
В Вене испокон веку ценились домушники. Именно они считались здесь воровской элитой, хотя Джозеф так и не смог понять — почему? Такое положение вещей задевало его профессиональную гордость, и как-то раз Джозеф сгоряча бросил своеобразный вызов Арчибальду Шварцу по кличке Грыжа — признанному авторитету среди венских домушников.
— А слабо кошелек срезать, Грыжа?! По особнячкам-то, особенно когда хозяев дома нету, а прислуга по кабакам гуляет, всякий шастать сумеет!
Как ни странно, Грыжа не обиделся, не стал хвататься за нож, а всего лишь нехорошо усмехнулся в пышные прокуренные усы.
— Отчего же, приятель? И по домам шастать несложно; и кошель у раззявы смастырить не бог весть какое искусство! Срезал, распотрошил его за углом, пересчитал скудное звонилово, поплакал над судьбой своей горемычной — и просадил все за вечерок! Что, не так?! В особнячке-то подломленном одним кошелем не обойдется!
— В ином кошельке добра поболе, чем в твоем доме! — в тон Арчибальду возразил Джозеф, за свой длинный язык носивший в воровской среде кличку Джош-Молчальник. — А пальчики карманника, дружище Шварц, это тебе не твоя тупая отмычка!
— Значит, договорились, — еще раз усмехнулся Грыжа, допивая пиво. — Я кошелек срезаю — а ты дом чистишь. Оба чисто работаем, в полную силу. И посмотрим, кто в чужом ремесле больше смыслит и добычу ценней принесет. Три дня сроку.
— Дом? — опешил Джош-Молчальник, не ожидавший такого оборота дела. — Я?!
— Дом, — весело подтвердил Грыжа, и всякий, хорошо знающий Арчибальда Шварца, понял бы, что шутки кончились. — И именно ты. А ты как думал, трепач?! Ты мне, понимаешь, по чести моей воровской ногами топчешься, а я — сопли утри и слушай?! Нет уж, голубь залетный — баш на баш. Ну, а кто проиграет — тот в этом же трактире на четвертый день при всех наших под стол залазит и публично отлаивается: дескать, сбрехал, как собака, и прощения прошу. Ну как, согласен?!
В хитрых глазах Молчальника-Джоша зажглись шальные искорки.
— Согласен! Через три дня здесь, — и он протянул руку Арчибальду Шварцу.
— Смотри, пупок не надорви! — насмешливо бросил Грыжа в спину Джозефу, когда тот выходил из трактира.
Богатую усадьбу на окраине Вены Джозеф присмотрел еще в первый день отпущенного ему срока. Массивная чугунная ограда с золочеными львами на верхушках полированных гранитных столбиков, широкие узорчатые ворота, посыпанные крупным гравием идеально прямые дорожки, рассекающие начинавшийся за оградой парк на правильные четырехугольники, ухоженные клумбы с яркими цветами — и трехэтажный дом со стрельчатыми окнами и колоннами у входа, множеством флигелей и пристроек, с двумя конюшнями…
Здесь явно было чем поживиться и утереть нос самодовольному Грыже.
Без особого труда пробравшись на чердак особняка победнее, расположенного как раз напротив заинтересовавшей его усадьбы, Джош-Молчальник извлек предусмотрительно купленную утром подзорную трубу и, устроившись поудобнее у слухового окна, занялся наблюдением.
До ужина он успел выяснить, где находятся кухня и помещения для слуг, достаточно точно определил месторасположение черного хода (хотя сама дверь была ему не видна) — и решив, что для начала достаточно, отправился подкреплять свои силы добрым стаканом вина и изрядной порцией столь любимого им бараньего жаркого.
Подходящий трактир нашелся неподалеку, и тут Джозефу неожиданно улыбнулась удача: в одном из посетителей он безошибочно признал виденного утром садовника из выбранного для показательного грабежа поместья.
Садовник, рыжеволосый крепыш со здоровым румянцем на щеках и крупной родинкой под левым глазом, отчего казалось, что он все время щурится и хитро подмигивает, с пользой проводил время: перед ним на столе стояли два здоровенных кувшина с вином, один из которых был уже наполовину пуст.
Излишне уточнять, за какой именно стол поспешил присесть Джош-Молчальник.
Садовник попался не слишком разговорчивый, да и открыто приставать к нему с вопросами было опасно, но когда во втором из кувшинов показалось дно, язык у садовника наконец развязался. Так что вскоре Джозеф узнал и о скандальных похождениях Лауры Айсендорф, и о ее странной компаньонке Марте, жившей в поместье уже не первый год, и о необъяснимой забывчивости самого барона — но только тс-с-с, кто ж будет господину напоминать, да еще о ТАКОМ!.. себе дороже…
Особенно заинтересовало Джоша упоминание о коллекции старинных ваз со всех концов света, которую собрал еще покойный отец барона Вильгельма. Впрочем, о вазах садовник упомянул мимоходом и, потребовав еще вина для себя и для своего нового друга, начал заплетающимся языком рассказывать Джозефу о хитростях подрезки яблонь, времени высадки роз и прочих премудростях садовничьего ремесла. Джош терпеливо слушал, понимающе кивал и время от времени пытался вернуть разговор в интересующее его русло, но это ему никак не удавалось — садовник прочно сел на любимого конька, и свернуть его мысли из накатанной колеи не представлялось возможным.
Наконец садовник — которого, как под конец их содержательной беседы выяснил Джозеф, звали Альбертом, — решил, что пора идти домой. Но тут стало очевидным, что на ногах Альберт стоит весьма нетвердо, а передвигаться может, лишь держась за что-нибудь, а лучше — за кого-нибудь. Естественно, этим «кем-нибудь» с радостью вызвался быть его новый друг Джозеф. Благо и идти до поместья было — всего ничего.
— Н-нет, через в-ворота м-мы не пойдем! — заявил пьяный, но явно опытный в похождениях подобного рода Альберт. — Тут есть кх-кхалитка, так я через н-нее завсегда, когда это… как сейчас… — и он плевком указал Джошу, куда его следует тащить.
Калитка оказалась заперта на хлипкую щеколду, которую несложно было открыть с любой стороны, и даже не скрипнула, когда качнувшийся Альберт навалился на нее всем своим грузным телом. Видимо, слуги, после очередной попойки нередко возвращавшиеся в поместье этим путем, исправно смазывали петли.
— А собаки нас не порвут? — с беспокойством поинтересовался Джозеф.
— Не-а! — уверенно мотнул головой Альберт. — Их майн либер Гельмут за восточным флигелем д-держит, где конюшни. И на привязи. Чтоб, значит, ни гугу… Когда м-мы, как сегодня…
Джозеф проводил садовника до дверей пристройки, служившей Альберту жильем, подождал снаружи, пока тот захрапит, и быстро огляделся.
Луна светила ярко, и Джош почти сразу разглядел дверь черного хода, расположение которой установил еще днем, наблюдая за перемещениями слуг. Бесшумно скользнув в тень нависавшего над ним дома, Джозеф тронул холодную бронзовую ручку и легонько потянул ее на себя. Дверь слегка поддалась, но окончательно открываться не захотела.
«Крючок. Изнутри, — догадался Джош-Молчальник. — Ножом поддеть — и всех дел. А замка или нет, или им не пользуются. Ну, Грыжа…»
Он довольно усмехнулся и направился к калитке. Был немалый соблазн забраться в дом прямо сейчас, но Джозеф давно уже не был новичком.
Торопливость — удел дураков.
Еще один день Джош потратил на изучение распорядка дня в доме, а вечером, наблюдая за освещенными окнами, пытался определить: в какой из комнат может находиться заинтересовавшая его коллекция? Джозефу казалось, что это ему почти удалось; во всяком случае, нужная комната располагалась явно в северном крыле дома и, скорее всего, на втором этаже. Для себя Джош отметил несколько подходящих окон и прикинул, куда ему надо будет двигаться.
Большего за столь короткое время узнать было невозможно, и Джозеф решил положиться на удачу и собственную ловкость. Вряд ли спящий дом обчистить сложнее, чем карманы прохожего.
Калитка, как и в прошлый раз, открылась без скрипа, и Джош неслышной тенью скользнул к черному ходу. У самой двери замер, прислушался. Все было спокойно, ночь стояла прозрачная и тихая, как скромно потупившая глаза невеста у алтаря, втайне ждущая, когда останется с женихом наедине, и тот наконец сможет взять ее.
Пришедшее на ум сравнение очень понравилось Молчальнику. Он глубоко вздохнул, одним движением извлек легко выскользнувший из рукава узкий нож, аккуратно подцепил им крючок и, не вынимая лезвия из щели, тихонько повел руку вниз — чтобы крючок не звякнул.
Не звякнул.
Дверь чуть слышно скрипнула, открываясь, и Джош плавно прикрыл ее за собой. Постоял немного, привыкая к темноте. Он прихватил с собой потайную лампу, но пользоваться ею без особой нужды не хотел. Нащупал откинутый крючок и бесшумно поставил его на место — если кто-нибудь вздумает среди ночи проверить запоры, то ничего не заподозрит.
Лестницу он успел мельком разглядеть, еще когда открывал дверь, и теперь направился к ней, при каждом шаге ощупывая пол впереди ногой в мягком замшевом сапоге.
Вот и ступеньки.
Вверх.
Площадка. Промежуточная. Еще вверх.
Второй этаж.
Теперь — направо.
Ручка следующей двери с негромким щелчком поддалась, и Джош оказался в огромном коридоре. Здесь было значительно светлее — из высоких стрельчатых окон падал призрачный лунный свет, после чернильной темноты лестницы показавшийся Джошу едва ли не ослепительным.
Он быстро прошел в конец коридора, миновав несколько боковых анфилад, ведущих в покои барона, баронессы и той странной компаньонки, о которой упоминал Альберт.
Интересующая его дверь тоже поддалась легко; здесь снова было темно, и лишь узенькая полоска лунного света выбивалась из-под задернутой шторы.
«Если коллекция тут, то в такой темени недолго и разгрохать половину, а заодно и весь дом перебудить!» — с тревогой подумал Джош-Молчальник, но зажечь лампу все же не решился. Вместо этого он ощупью двинулся к окну, намереваясь раздвинуть шторы и воспользоваться естественным освещением, которого ему наверняка будет вполне достаточно.
Неожиданно рука его наткнулась на что-то гладкое и выпуклое; предмет качнулся, но Джош в последний момент успел подхватить его и поставить на место. Ваза! — дошло до вора, и он с двойным облегчением перевел дух: во-первых, его расчеты полностью подтвердились, а во-вторых, он прекрасно представлял, какого грохота только что чудом избежал. Подождав, пока сердце в груди успокоится, Джозеф благополучно добрался до окна и отодвинул штору. Поток лунного света хлынул внутрь мгновенно преобразившейся комнаты, и Джош удовлетворенно повернулся, желая осмотреть поле предстоящей «работы».
Но не огромные вазы китайского фарфора, не серебряные турецкие кувшины с лебедиными шеями и не миниатюрные золотые вазочки работы итальянских мастеров первыми бросились ему в глаза.
У двери стояла смуглая черноволосая девушка в полупрозрачном пеньюаре и с легкой усмешкой наблюдала за ним.
Сомнений не было — перед Мартой стоял вор. И, разумеется, не ворующий людские помыслы, как она сама, а обыкновенный домушник. Марте было немного страшно — в родных Шафлярах крали только скот, и с «обычными» ворами она до сих пор не сталкивалась — но любопытство пересилило. Светская жизнь успела порядком ей надоесть, а тут вдруг такое приключение!
Марта еще сама не знала, что будет делать. Проще всего было громко закричать, позвать слуг или самого барона — но вору ничто не мешало в любой момент высадить стекло и выпрыгнуть в окно, и кроме того… перед ней был в некотором роде собрат по профессии, ибо Марта отнюдь не строила иллюзий на свой собственный счет. Да и сам молодой человек, испуганно застывший у окна, был ей чем-то симпатичен.
И вместо пронзительного визга или сакраментального и совершенно идиотского вопроса: «Что вы здесь делаете?!» Марта просто констатировала:
— Вы вор. И пришли сюда за вазами барона.
— Да! — от растерянности Джозеф не нашелся, что соврать, и сказал правду.
— Тогда я бы посоветовала вам не брать китайские вазы — они очень хрупкие и тяжелые, вряд ли вы донесете хоть одну в целости. Кроме того, мне они очень нравятся.
— Вы, насколько я понимаю, Марта, компаньонка баронессы? — нашелся наконец пришедший в себя Джозеф.
— О, вам даже это известно! — Марта оценила наглость этого молодого человека и то, как быстро он справился со своей растерянностью. — В таком случае, представьтесь, раз уж вы знаете мое имя, а я ваше — нет.
— Джозеф Волож, — Джош слегка поклонился. Он и сам не знал, почему назвался своим настоящим именем.
— Джозеф? И вы уверены, что ваша мама звала вас именно так?
— Ну, вообще-то мама звала меня Юшкой… Юзефом. Но это было так давно…
— О, то пан поляк? — произнесла Марта на певучем подгальском наречии и не удивилась, услышав ответный вопрос:
— О, то пани полька теж?!
— Пани гуралька, — и оба с удовольствием перешли на родной язык.
— И что же пани Марта мне еще посоветует? — поинтересовался Джозеф. Судя по всему, девушка не собиралась звать на помощь, и у Джоша появилась надежда, что он сумеет выпутаться из этого дурацкого положения.
«А она, кстати, ничего. И не боится совсем», — отметил он мимоходом.
— Полагаю, вас интересует что-то достаточно ценное и не слишком большое, чтобы его легко можно было унести, — со знанием дела предположила Марта (именно этим правилом, усвоенным от приемного отца, она сама обычно руководствовалась, забираясь в тайники чужих душ).
— Вы рассуждаете на удивление здраво. И вы снова правы, — Джозеф был несколько сбит с толку, но пока эта странная беседа ничем ему не грозила и даже складывалась весьма удачно; впрочем, Джош еще сам боялся этому верить.
— Что бы вам предложить, милостивый пан? — Марта забавлялась, разговаривая с Джозефом в манере продавца антикварной лавки, помогающего покупателю выбрать нужную вещь, и исподтишка наблюдала за симпатичным молодым вором. «А если попробовать работать с таким в паре?» — мелькнула шальная мысль, но Марта тут же отогнала ее подальше.
— Эти итальянские безделушки, конечно, очень красивы и стоят целое состояние, но вы навряд ли сможете их продать; кроме того, я к ним так привыкла… Может быть, вот это? — и она продемонстрировала вконец обалдевшему Джозефу аляповато-роскошную вазу средних размеров, масляно блеснувшую в лунном свете, когда Марта взяла ее с подставки. — Полная безвкусица! Зато чистое золото.
— И вы… предлагаете мне ее забрать? — опешил Джош.
— А разве вы не за этим сюда явились? — Марта уже твердо решила позволить Джозефу-Юзефу уйти из дома с добычей, а заодно насолить барону, недавно имевшему наглость приставать к ней в отсутствие жены. Разумеется, барон мгновенно позабыл о своих намерениях, но неприятный осадок в душе Марты остался. Липкий противный налет — так бывает всегда, когда вынужденно присвоишь какую-нибудь гадость… Почему бы и не позволить себе маленькую месть?
— Что же вы стоите столбом? — Марта удивленно нахмурилась. — Берите то, за чем пришли, и уходите. Я не стану поднимать тревогу.
— Но почему?!
— А вот «почему» — это вам знать вовсе необязательно, — заявила девушка, делая шаг навстречу Джозефу и вручая ему вазу.
Джош-Молчальник машинально взял протянутую вещь, и их руки на мгновение соприкоснулись. Вора пробрал озноб, у него впервые в жизни зачесались глаза — и он снова застыл, держа в руке вазу и изумленно глядя на Марту, как будто пытаясь что-то вспомнить.
— Берите вазу и уходите, — еще раз, словно маленькому, повторила ему Марта. — И не забудьте о своем пари. Завтра вечером вы должны встретиться с этим вашим… Грыжей и предъявить то, что украли.
— Да-да, я помню, — не очень-то соображая, что с ним происходит, выдавил Джош и направился к двери.
У порога он на миг задержался, в последний раз взглянул на стройную девичью фигуру в воздушном пеньюаре, словно плывшую в потоках лунного сияния — и слова сами сорвались с его губ.
— Я… смогу увидеть вас еще раз?
— Может быть, — лукаво улыбнулась Марта, лишь слегка коснувшаяся Джоша, который в противном случае назавтра вообще не вспомнил бы о своем пари с Грыжей. — Но только не приходите так, как сейчас — в другой раз вам может меньше повезти.
Джош только кивнул в ответ и шагнул в коридор.
…Когда пришедший в себя за день Джозеф с трудом вспомнил, где и с кем он должен сегодня встречаться, и явился в трактир — Грыжа с цеховыми старшинами уже ждал его.
— Что-то ты без мешка, приятель, — весело хохотнул Арчибальд при виде Молчальника. — Видать, язык у тебя острее всего прочего! Под стол прямо сейчас лезть будешь или как?
— Тебе, Грыжа, не дома чистить, а в суде служить, — усмехнулся Джош, опускаясь на специально оставленное для него место напротив Грыжи. — Ты бы нас всех за месяц перевешал…
— Ишь, распелся! Или впрямь разжился чем?
— Да так, мелочовка, — вяло махнул рукой Джозеф, раскрывая висевшую у него на боку дорожную сумку. — Там еще было, только я тяжести таскать не люблю. А у тебя что, Грыжа?
Ваза червонного золота и негромко звякнувший кошель величиной с голову младенца возникли на столе одновременно. Несколько секунд Грыжа и Джош молча сравнивали украденное; остальные затаили дыхание. Потом Грыжа одним быстрым движением развязал принесенный им кошель, и на стол хлынули желтые блестящие кружочки.
— Неплохо, — оценил Джош, с профессиональной ловкостью выуживая из груды монет крупный рубин. — Месяц гулять можно.
— А ты, парень, тоже не промах, — признал Грыжа, уважительно поглаживая бок вазы. — Не думал, не думал… По-моему, одно другого стоит.
Возможно, ваза стоила и больше, чем добыча Грыжи — но у Джозефа было отличное настроение, и он не хотел спорить.
— Так что, ничья?
— Пожалуй, что так! — и Арчибальд Шварц, знатный домушник, первым протянул Джозефу руку.
— А теперь — всех угощаю! — крикнул он, когда отшумели приветственные возгласы приятелей, и их с Джошем перестали поздравлять и хлопать по спинам.
— МЫ угощаем! — поднял кверху палец Джош.
Грыжа одобрительно кивнул.
Уже светало, когда Джозеф нетвердой походкой возвращался к себе. В голове изрядно шумело, перед глазами прыгали окосевшие физиономии собутыльников, клявшийся в вечной дружбе Арчибальд, разбросанные по столу пустые кувшины и миски, в ушах пронзительно визжала кабацкая скрипка… Погуляли на славу! Он доказал венским зазнайкам, чего стоит настоящий мастер! Теперь…
Что — «теперь», Джош тут же забыл; да это было и не важно. Важно было добраться до комнат, которые он снимал, упасть на кровать — и заснуть. Джозефу смертельно хотелось спать. Он уже почти спал, безуспешно пытаясь попасть ключом в замок, и только какое-то воспоминание все еще не давало покоя, пытаясь прорваться в путавшиеся мысли. Когда проклятый замок наконец щелкнул, Джошу внезапно удалось ухватить за хвост это скользкое воспоминание.
Марта!
Стройная девичья фигура в волнах лунного света.
Марта!..
Загадочная компаньонка баронессы Айсендорф.
Та, которая вопреки всякой логике не только не подняла тревогу, но еще и помогла ему — вору.
Марта…
С этой мыслью Джош и заснул.
Они встретились через неделю, в опере.
Это произошло внешне случайно, но ни Джозеф, ни Марта не верили в случайности; впрочем, не верили они и в Провидение.
Они просто встретились.
— Как ваше пари, пан Джозеф?
— Благодарю, пани Марта, все получилось как нельзя лучше. У нас с Арчибальдом вышла ничья, и теперь он во мне души не чает.
Говоря на родном подгальском наречии, Джош и Марта могли не опасаться посторонних ушей.
— И что же вы теперь, работаете вместе?
— О, нет! — рассмеялся Джозеф, представив себя в роли напарника Грыжи. — Все-таки у меня иной подход к… к работе. Вот, — и он одним неуловимым жестом, словно фокусник, извлек откуда-то (Марте показалось, что прямо из воздуха) расшитый золотом кошелек, продемонстрировал его Марте и небрежно бросил на пол.
— Простите, сударь, это не вы обронили?
Пожилой седоволосый бюргер рассыпался в благодарностях, а Марта едва удержалась от смеха.
— Да вы просто виртуоз, пан Джозеф!
— Благодарю за комплимент, пани Марта, но не стоит об этом…
— Ну почему же, пан Джозеф?! Это так интересно! Расскажите мне…
И Джозеф, чувствуя, что поступает глупо и неосмотрительно, что этого делать нельзя, но не в силах отказать, рассказывал Марте случаи из своей богатой приключениями жизни, воровские байки, кое-что придумывая на ходу; Марта знала, что далеко не все из рассказанного Джошем — правда, но все равно слушала его с широко распахнутыми глазами… ей вспоминался старый Самуил-баца, его наставления, свое собственное детство, первые попытки забраться в чужую душу, оскаленные морды «задушевных» Стражей, охранявших тайники памяти; ей вспоминался панический страх, бегство без оглядки — и отчаянная радость от неожиданной удачи, когда ни один Страж даже не проснулся, а Марта бесшумной тенью скользила по темным коридорам, спеша к выходу, унося то, что ей приглянулось… позже с восторгом она ощутила в себе чужие воспоминания, украденные ею — свою первую добычу…
Как это было похоже на рассказы Джозефа — похоже, и в то же время совсем по-другому!
С тех пор они виделись часто, хотя поначалу и не каждый день. Ходили в оперу, гуляли в венских парках, любовались фонтанами, кормили с рук белоснежных и угольно-черных лебедей, катались на лошадях — баронесса привила своей компаньонке вкус к верховой езде, а Джозефа его бродячая жизнь уже давно вынудила стать неплохим наездником — и как-то раз, словно бы невзначай, оказались в комнатах, которые снимал Джош.
Все получилось легко, само собой, и когда Марта наконец пришла в себя рядом с уснувшим и улыбавшимся во сне Джошем — она ни о чем не жалела.
Более того, через неделю-другую она стала гораздо лучше понимать Лауру Айсендорф. Только одно было неясно для Марты — зачем нужно все время искать новых мужчин?!
Может быть, Лаура просто еще не нашла своего?
Но чужая душа — потемки, и Марте это было известно, как никому другому. Она и в себе-то не могла толком разобраться! Сколько блестящих кавалеров из хороших семей вьется вокруг — а она предпочла Джозефа Воложа.
Карманника.
Они были молоды, беспечны — и счастливы. Живя сегодняшним днем, намечая будущее не дальше завтрашней встречи, они кружились, подобно мотылькам, не задумываясь о том, что жизнь мотылька быстротечна, и лето должно когда-нибудь кончиться.
Баронессу сперва озаботило непривычное поведение расцветающей прямо на глазах Марты, но та походя справлялась со своими обычными «обязанностями», и Лаура Айсендорф быстро успокоилась — наконец-то у ее компаньонки появился любовник, а это, по понятиям баронессы, было более чем нормально.
Странно только, что всего один…
Многое могло случиться с этой странной парой: кто-нибудь вполне способен был прознать, с кем встречается Марта, и коллекция сплетен венского света обогатилась бы еще одним пикантным экспонатом; Джош мог попасться на очередной краже и угодить в тюрьму, а то и на виселицу; но судьба почти год примеривалась к влюбленным, прежде чем усмехнуться и ударить наотмашь.
Эпидемия бубонной чумы, чуть было не опустошившая Италию и южные области Франции, Вену зацепила лишь краем черного крыла, сочащегося гноем и страхом — заболело не более двух сотен человек, причем благодаря самоотверженности сестер-монашек венских госпиталей и вовремя принятым мерам магистрата дальше зараза не пошла.
Но одной из этих немногих оказалась Марта.
Два дня Джош, как безумный, кружил вокруг госпиталя св. Магдалины — любовь Лауры Айсендорф к своей компаньонке не доходила до таких крайностей, как уход за смертельно опасной больной в баронском поместье. Стражники-добровольцы никого не пускали в ворота госпиталя, и уж тем более они никого не выпускали наружу (монашки и лекари жили в боковых флигелях, дав обет не покидать госпиталя, пока в нем еще можно спасти хотя бы одного человека).
Наконец, под вечер второго дня, измученный лекарь выкрикнул Молчальнику через решетку приговор судьбы: надежды нет никакой, и жить больной осталось дня три, от силы четыре.
Потом лекарь упал и заснул прямо тут же, у самой ограды, а Джозеф остался стоять посреди улицы, окаменев от свалившегося на него горя.
Он не очнулся даже тогда, когда кучер чуть не наехавшей на него кареты громко обругал «проклятого пьяницу» на чем свет стоит — Джош-Молчальник просто сделал шаг в сторону и снова застыл.
Так он стоял долго. Редкие прохожие, в сумерках спешившие домой, невольно оглядывались на этот живой памятник скорби и отчаянью. Потом Джоша увел от госпиталя какой-то доброжелательный мясник, который все предлагал Джозефу облегчить душу, пока не понял тщету своих попыток и не отстал, отправившись пить пиво — короче, отчасти Молчальник пришел в себя лишь в знакомом трактире, где целую жизнь тому назад они с Грыжей заключали свое странное пари, а потом долго обмывали «ничью».
Джош поднял голову и огляделся: через два столика от него сидел… Грыжа с двумя приятелями и еще каким-то господином.
На мгновение Джошу показалось, что все это уже было, что он спит или, наоборот, что он проснулся, и Марта жива-здорова, им лишь предстоит еще встретиться в опере, но на этот раз все будет хорошо, и…
И тут он с усилием вспомнил, что Арчибальд Шварц по кличке Грыжа две недели назад попался на очередном «деле», забравшись в дом очень влиятельного чиновника, и на днях его должны были повесить на городской площади.
В назидание прочим.
Но вместо того чтобы болтаться в хорошо намыленной петле или по крайней мере в ожидании этой самой петли гнить в тюрьме и улаживать свои сложные отношения с Господом — вместо этого Грыжа почему-то сидел в трактире, пил вино и улыбался одними губами, а в темно-серых глазах Арчибальда Шварца по прозвищу Грыжа… нет, не должна читаться в глазах человека, внезапно оказавшегося на свободе, такая смертная тоска и полная безнадежность!
Но почему?! Если Арчибальд каким-то чудом вырвался из тюрьмы или был помилован, то он должен радоваться… Грыжа радовался. Во всяком случае, со стороны все выглядело именно так. Трактир, приятели, вино — что еще нужно человеку, вышедшему из застенков? Но взгляд… после услышанного в госпитале св. Магдалины Джош не мог обмануться! На душе у Арчибальда Шварца было так же тоскливо и мерзко, как и у него самого.
Как будто эту самую душу разъедал изнутри невидимый червь.
Джозеф велел служанке принести вина и подсел за столик Грыжи.
— О, Джош! — искренне обрадовался Грыжа, и на миг его глаза стали прежними, но только на миг, не больше. — Хорошо, что ты появился!
— Привет, Арчи, — выдавил кривую улыбку Джозеф. — Как тебе удалось отвертеться от виселицы? Сбежал, что ли?
— Почти, — Грыжа сразу осунулся и будто стал меньше ростом. — Вот, господин Джон Трэйтор[6] помог…
И Шварц кивнул на сидевшего чуть позади него высокого худощавого господина с черной седеющей эспаньолкой, косо прилепленной на внушительном подбородке. Незнакомец в богатом темно-зеленом камзоле и таком же зеленом берете с петушиным пером, залихватски сдвинутом на левую бровь, более всего походил на испанца, хотя фамилия и имя у него были скорее английские — и в этом трактире господину Трэйтору было никак не место.
При упоминании своего имени спаситель Арчибальда-Грыжи привстал и слегка поклонился. Джош ответил ему тем же. Тогда господин Трэйтор вскочил и, расшаркавшись, подмел петушиным пером своего берета сомнительно чистый пол трактира. Откуда бы ни взялся этот удивительный господин, в свободное время спасающий воров от петли — он был сама вежливость.
— Кончайте любезничать, парни, — буркнул один из дружков Грыжи, жилистый детина со шрамом на помятом лице. Имени детины никто не знал, и он любил, когда его звали просто и незамысловато: Сундук. — Не сегодня, так завтра, а петли не миновать!
Чем-чем, а тактом Сундук никогда не отличался.
— Да ладно тебе, Сундучище, — махнул на него рукой Джош. — Интересно все-таки, как это господину Трэйтору удается вытаскивать людей из тюрьмы? Он, часом, не колдун?
Грыжа невольно вздрогнул, разлив вино себе на колени, а Джон Трэйтор еле заметно поморщился.
— У господина Трэйтора хорошие связи, — сбивчиво заговорил Арчибальд, комкая в своей медвежьей лапе краюху ржаного хлеба и засыпая пол вокруг себя крошками мякиша. — Кроме того, внушительная сумма денег, которую пришлось внести…
Джош посмотрел в глаза Шварцу и понял, что тот врет. Врет глупо и неумело. Грыжа поспешно отвел взгляд и умолк на середине фразы.
— А что ты, Джош, невесел? — спросил он, стремясь хоть как-то выпутаться из неловкого положения и перевести разговор на другую тему. — Дела не идут, или женщины не любят?
— Марта умирает, — это выплеснулось само, непроизвольно, как кровь из раны. — Умирает. Лекарь сказал — не больше трех дней осталось…
Над столом повисло угрюмое молчание, даже Сундук захлопнул пасть и уставился в стол — и сбивчивый шепот Молчальника услышали, кажется, все:
— Я бы за нее… душу не пожалел… Я бы…
Джош уронил голову на руки, и словно издалека услыхал сдавленный голос Арчибальда Шварца, которого теперь венские воры будут звать Висельником целых полтора года, до дня его внезапной смерти от апоплексического удара:
— Ты, парень, думай, что говоришь! Душу, ее… ее, это самое…
Грыжа явно хотел сказать что-то еще, но поперхнулся, закашлялся и умолк.
Джош плохо помнил, что было дальше. Он долго пил, не пьянея, чуть не подрался с Сундуком, но их вовремя растащили, потом Молчальник стал отвечать на вопросы собутыльников по-подгальски, удивляясь их непонимающим физиономиям и время от времени ловя на себе пристальный изучающий взгляд Джона Трэйтора. Наконец приятели Грыжи куда-то исчезли, следом за ними нетвердой походкой покинул трактир и сам Грыжа, и они с Трэйтором остались за столом вдвоем.
Похожий на испанца человек со странной английской фамилией отставил в сторону кружку с вином, и Джозеф, предчувствуя что-то смертельно важное, сделал то же самое.
Отрезвление ударило неожиданно и коварно, словно нож в спину.
— Итак, вы говорили, что не пожалели бы своей души в обмен на жизнь Марты Ивонич? — с едва заметной усмешкой проговорил господин Трэйтор, дернув себя за клочок волос на подбородке.
…Она бежала темными запутанными коридорами, где с бугристого потолка капала слизь, на стенах копились огромные колонии светящихся гусениц, а за спиной раздавался топот и тяжелое дыхание Стражей; Марта мчалась из последних сил, унося с собой что-то… она сама не знала — что именно, но бросить украденное было нельзя, никак нельзя, да и Стражи все равно не оставили бы ее в покое.
Марта чувствовала, что уже давно заблудилась в этом бесконечном внутреннем лабиринте, что Стражи гонят ее к Черному Ходу, к тому пульсирующему омуту, разъедающему жертву, о котором ей не раз рассказывал вечерами батька Самуил. Несмотря на ужас и липкое отчаяние, парализующие волю, она заставила себя остановиться и встретить Стражей лицом к лицу. Это ничего не давало, кроме возможности достойно умереть — но Стражи почему-то все не показывались, а потом за поворотом коридора послышался какой-то шум и хриплое рычание, переходящее в затихающий бессильно-злобный вой. Марта кинулась туда и, свернув за угол, увидела Джоша, ее Джоша, спокойного сосредоточенного Молчальника, который вытирал об штанину длинный окровавленный нож.
Рядом бились в агонии три бесформенных Стража, сверля Марту тускнеющим взглядом, полным ненависти.
Марта невольно вскрикнула, Джош поднял на нее глаза и грустно улыбнулся.
— Ну что ты, маленькая, успокойся… Все в порядке. Пошли.
Он обнял ее за плечи рукой, измазанной в густой коричневой крови, и они двинулись к выходу. По дороге Марта все пыталась вспомнить, что же здесь не так, и когда впереди слабо забрезжил розовато-голубой свет, она наконец вспомнила: ведь это же Лабиринт Души, чужой души, куда она неведомо как попала, — значит, Джоша попросту не может здесь быть, и уж тем более он не должен знать пути наружу!..
— Да, не может, — Джош обернулся к ней, словно прочтя ее мысли. — Не может и не должен. Но я здесь. Потому что без меня ты бы погибла. Вот я и пришел.
Он снова грустно улыбнулся, и только тут Марта заметила, что на шее у Джоша — веревочная петля, нет, не веревочная, а скрученная из Джошева пояса, а лицо Молчальника неживое, застывшее, чем-то похожее на лица убитых Стражей, и лишь в запавших глазах, как в омуте Черного Хода, куда Марта так и не добежала, бьется живая безысходная тоска. Марте захотелось кричать от этой хлынувшей в нее тоски — но тут что-то ослепительно взорвалось перед нею, Джош исчез, и все исчезло…
Марта вскрикнула, открыв глаза — и мгновенно зажмурилась от ворвавшегося под веки яркого света.
— Слава Богу! — как сквозь вату услышала она голос сиделки. — Наконец-то вы пришли в себя! Чудо, воистину чудо…
Поправлялась Марта долго, но и баронесса (выяснив, что ее компаньонка абсолютно не заразна, практичная Лаура немедленно приказала перевезти Марту обратно в поместье), и слуги все равно диву давались: из всех заболевших выжила одна Марта.
«Божий промысел! — шептались слуги, любившие Марту. — Господь ее не оставил!»
«Ведьма! — окончательно уверилась баронесса. — Сам дьявол ей помогает!» Впрочем, своими соображениями Лаура Айсендорф ни с кем делиться не собиралась. Ведьма была нужна ей самой для уже известных целей. На время болезни Марты Лаура не то чтобы совсем прекратила приращивать новые отростки к и без того раскидистым мужниным рогам, но стала куда осторожнее — зато теперь, когда компаньонка вновь рядом, она свое наверстает!
С Джошем Марта увиделась лишь через три месяца, когда впервые после болезни выбралась в город. Тогда им удалось переброситься всего несколькими словами — Марта была не одна — но через неделю Марта неожиданно возникла на пороге скромного жилища Джозефа.
Выяснилось, что ей предписан постельный режим — но в одиночку валяться в постели Марте смертельно надоело, поэтому…
В общем, не одна баронесса наверстывала упущенное.
…Еще при первой после болезни встрече Марту насторожило странное поведение Джоша — веселый карманник за минувшие месяцы словно постарел на добрый десяток лет — и собираясь уходить, она долго смотрела в лицо спящего. Почувствовав на себе чужой взгляд, Молчальник открыл глаза, грустно улыбнулся…
Уже вернувшись в усадьбу, Марта вспомнила: именно такими были глаза Джоша в чумном кошмаре, когда он выводил ее из лабиринта чьей-то души.
Души с убитыми Стражами; души, в которой Джоша не могло быть.
Минул почти год. Жизнь вернулась на круги своя, став такой же, как прежде, но постепенно Марта все больше убеждалась, что с Джозефом творится что-то неладное. Спросить напрямую она не решалась, а воровски лазить в душу к любимому человеку она запретила себе еще давно. Джош был болезненно нежен с ней, он предугадывал любой ее каприз, и временами Марте казалось, что Молчальник живет так, словно каждый миг его жизни — последний, словно завтра его ждет эшафот, хмурый палач и пеньковая веревка, а значит, больше не будет голубого неба и доверчивых лебедей в пруду, не будет лукавства дневных взглядов и страсти ночей, не будет ее, Марты, и самого Джоша скоро не станет…
Наконец Марта не выдержала.
Молчальник долго не отвечал, как если бы задался целью подтвердить правоту своего прозвища или попросту не знал ответа на вопрос: «Что с тобой, Джош?»
— Я влип в скверную историю, Марта. И очень надеюсь выкрутиться. Через неделю все решится. Если я стану прежним — я расскажу тебе все. А если нет… Я дам тебе письмо, но обещай, что вскроешь его не раньше, чем через восемь дней после того, как я не приду на назначенную встречу — или сожжешь в следующий четверг, если я скажу тебе, что все в порядке. Обещаешь?
— Обещаю… но, Джош, может быть, я могу чем-то помочь? Помнишь, я ведь помогла тебе тогда…
— Нет, Марта. Вор должен уметь сам отвечать за свои поступки. Впрочем, при чем тут воровство…
Неделя прошла в тягостном ожидании. Оба пытались забыть о пугающем разговоре, всецело отдаваясь друг другу, но где-то в глубине души каждый чувствовал, как над ними сгущаются тучи, готовые вот-вот прорваться… Чем? Хорошо, если просто ливнем!
Перед оговоренным четвергом Марта вся извелась в ожидании развязки. Она то и дело поглядывала на лежавшее на столике письмо, но вскрыть его так и не решилась.
Примчавшись домой к Джошу за полчаса до условленного времени, Марта с невыразимым облегчением увидела сияющего Молчальника, фрукты, две бутылки выдержанного бургундского…
— Ну? — выкрикнула она прямо с порога.
— Обошлось! Я жив и здоров, ты — тоже, так что давай отметим это дело! — довольно ухмыльнулся Джош-Молчальник.
— Тогда рассказывай!
— А, потом! — отмахнулся Джош. — Давай не будем портить вечер!
И они не стали портить этот вечер, потом не стали портить следующий, и еще один… письмо так и осталось лежать на столике невскрытым и несожженным, через день-другой Марта сунула его в шкатулку и, проходя мимо, равнодушно скользила по ней взглядом.
А через неделю Джош не пришел на утреннее свидание. Под вечер не находившая себе места Марта получила записку, присланную с посыльным мальчишкой.
«Прощай, Марта. Я думал, что мне удалось обмануть ЕГО, но я ошибся. Каждую ночь мне снится, как ты умираешь от чумы. Я больше не могу видеть тебя утром живой, зная, что ночью буду снова в мельчайших подробностях наблюдать твою смерть. Я путаю сон с явью, и скоро сойду с ума. Долги надо платить. Мы больше не увидимся. Если ты не сожгла письмо, прочти его — и все поймешь. Если же сожгла… впрочем, неважно.
Я люблю… я любил тебя, Марта!
Прощай. Твой Джош.»
На мгновение в глазах у Марты потемнело, и ей показалось, что сердце сейчас не выдержит и остановится. Потом она бросилась к шкатулке, где хранилось письмо, дрожащими пальцами разорвала плотную вощеную бумагу…
…Петушиное Перо дал Джозефу ровно год. После чего Молчальник должен был в полночь повеситься в заброшенной сторожке, что на выезде из города, неподалеку от окраины Гюртеля.
Слуги еле успели распахнуть ворота, когда Марта на спешно заседланном жеребце, не разбирая дороги, промчалась через роскошный баронский парк, топча италийские розы и голландские тюльпаны; копыта жеребца взрывали мягкую черную землю, разбрасывая в стороны рыхлые комья, раня ухоженные клумбы и цветники — и только ветер удивленно присвистнул вслед исчезающей за поворотом всаднице.
— Сумасшедшая! — с восхищением и досадой пробормотал садовник Альберт — и, вздыхая, отправился ликвидировать учиненный Мартой разгром.
«Позд-но!» — погребальным звоном прозвучал в голове Марты отбивавший полночь далекий колокол церкви Санкт-Мария-ам-Гештаде. Буквально свалившись со спины храпящего коня, женщина бросилась через луг к едва различимому в темноте черному пятну сторожки. Непослушные после бешеной скачки ноги подгибались, путались в густой траве, дважды Марта падала, зацепившись за невесть откуда взявшиеся на лугу узловатые корни — а в сознании, все нарастая, продолжал отдаваться колокольный рокот, и вторил ему из сторожки безнадежный собачий вой, пугая мечущихся вокруг нетопырей — или это только казалось Марте?..
Взвизгнув, замшелая дверь распахнулась, повисла на одной ржавой петле, горевшая в углу сторожки свеча швырнула женщине в лицо рваные блики — и Марта увидела: откатившийся в сторону тяжелый чурбан, воющий пес по кличке Одноухий, не так давно подобранный Джошем в их любимом парке возле пруда с лебедями… и над безутешной собакой слегка покачивалось на туго натянувшемся поясном ремне тело человека.
Джозеф.
Она опоздала.
Пес запрыгал вокруг Марты с немой мольбой в глазах — и сумасшедшая, не человеческая, а скорее звериная надежда бросила Марту вперед. Немыслимым рывком она подтащила чурбан, взобралась на него, выдернула из потайных ножен в рукаве Джоша его узкий нож и одним движением — лезвие было острым, как бритва — перерезала ремень.
Молчальник мешком рухнул на земляной пол, и Марта, не удержав равновесия, повалилась сверху.
Пропущенный через пряжку конец ремня заклинило медным язычком, петля никак не хотела распускаться, руки Марты дрожали, Одноухий самозабвенно вылизывал родное посиневшее лицо с белыми пятнами глаз, и чумной кошмар обступил Марту со всех сторон, довольно скалясь пастью безумия.
Выхода не было.
Никакого.
Марте хотелось завыть, как только что выл пес, а когда не останется сил даже на вой — повеситься здесь же, на том же ремне…
Но вместо этого, еще сама не понимая, что делает, она отстранила пса, взяла в ладони холодеющее лицо веселого карманника, погибшего из-за нее, и прикипела взглядом к мертвым глазам.
В следующее мгновение свеча, жалобно мигнув, потекла копотью, пес в ужасе заскулил, и из съежившейся темноты послышался насмешливый голос:
— Ты опоздала, женщина. Он выполнил уговор. Теперь его душа — моя. Уходи и возвращайся завтра, если ты хочешь похоронить тело. Впрочем, я могу предложить тебе довольно выгодную сделку…
Марта Ивонич, приемная дочь Самуила-турка из Шафляр, знала, кто говорит сейчас с ней. Совсем рядом, невидимый в могильном мраке сторожки, стоял Великий Здрайца — лишь блеснуло рыжим отливом петушиное перо на берете, да скользнули блики по серебру пряжки.
О, этот мог пообещать многое! Может быть, даже отпустить душу Джоша в обмен…
«Никогда не становитесь на пути у Великого Здрайцы, — говорил Самуил-баца. — И никогда не верьте ему. Никогда!»
Верить было нельзя. И становиться на пути тоже было нельзя, тем более, что это все равно бесполезно; но Марта уже приняла решение, с привычной отстраненностью потянувшись вперед, к мертвецу, которого она могла представить только живым; не протянув невидимую руку, как обычно, она бросилась наружу всем своим существом — и невидимые ворота с лязгом распахнулись перед женщиной.
На этот раз за воротами не было подвалов, сокровищниц и лабиринта. Не было и Стражей, убитых самим Джошем еще тогда, в ее кошмаре, в тот миг, когда Молчальник подписал кровью дьявольский договор, сняв охрану собственной души — о, теперь она понимала это! — вокруг простиралась похожая на оспенное лицо равнина, слегка мерцавшая в ярком лунном свете, по седому простору бродили смутные тени, и прямо перед воротами лежал обнаженный человек.
Джош-Молчальник, непутевый вор, обокравший самого себя.
Одним движением Марта оказалась рядом и попыталась приподнять лежащего. Джозеф слабо пошевелился, пробормотал что-то невнятное и снова обмяк. Он был тяжелый, невозможно тяжелый, но Марте каким-то чудом удалось взять провисающее тело на руки; в глазах потемнело — или вокруг действительно сгустилась ночь?! — и Марта неуклюже шагнула к распахнутым воротам. Ноги Джоша волочились по земле; кровь набатом стучала в висках, но женщина закусила губу и сделала еще один шаг.
И тогда раздался голос.
Тот самый.
Только в нем уже не было насмешки — лишь удивление и смутная затаенная неуверенность.
— Он мой, женщина! Что ты делаешь?! Кто ты? Погоди! Давай поговорим! Я хочу знать, как ты можешь…
Шаг.
— Постой!
Еще один.
— Кто ты?!
Никогда… никогда не становитесь на пути у Великого Здрайцы!..
Прости, батька Самуил!
Прости…
Вот они, ворота.
Вот… они.
И тут Марта ощутила, как совсем рядом с ее плечом в горло Джоша впились чьи-то сильные пальцы. Тело на руках женщины вздрогнуло и захрипело, прирастая к ней, как ребенок до родов неразрывно связан с матерью; Марта пошатнулась, но устояла, даже не успев испугаться. Джоша медленно, но неумолимо отрывали от нее, отрывали вместе с кожей — с их общей кожей! — и Марта закричала от боли и отчаянья, зубами вцепившись в чужие потные пальцы на теле души любимого… она рванулась, рыча и мотая головой, как дикий зверь — и в этот момент они с Джошем буквально выпали за ворота.
Оглушительный рев потряс Вселенную — словно кричала сама преисподняя, выворачиваемая наизнанку. Нечеловеческий крик нечеловеческой боли наваливался со всех сторон, давил, туманил сознание, застилал глаза кровавой пеленой. У Марты, оглохшей и ослепшей от этого крика и от своей чудовищной ноши, уже не было сил подняться, и она поползла, как ползет кошка с перебитым хребтом, цепляясь за пожухлую траву — туда, куда вел ее инстинкт, выпестованный строгим батькой Самуилом, домой, к себе, потому что Джош был все-таки с ней, она не отдала его Великому Здрайце с вкрадчивым голосом и жадными пальцами, не отдала, а значит, теперь все будет…
Нет.
Не будет.
Груз чужой души все же оказался ей не по плечу. Марта уже почти добралась до собственного тела, наполовину втянувшись в него, как черепаха в панцирь, неожиданно ощутив совсем рядом что-то живое, теплое, скулящее, желающее помочь — но невидимая пуповина между ней и Молчальником лопнула, теряющая сознание Марта из последних сил потянулась к искреннему живому теплу и почувствовала, как душа Молчальника разрывает ее и уходит, рушится в этот теплый колодец, гостеприимно лучащийся мягким добрым светом…
Она никогда не рожала.
Поэтому не знала, на что это похоже.
Кажется, она пришла в себя почти сразу. Все тело болело, словно Марта действительно тащила Джоша на себе, во рту стоял солоноватый привкус крови из прокушенной губы. В углу кто-то хрипло стонал, видимо, тоже приходя в себя.
«Джош?!» — надежда вспыхнула и угасла. Тело Джозефа Воложа лежало рядом, мертвое, окоченевшее и пустое. А в углу… в углу приходил в себя Великий Здрайца! Свеча немилосердно чадила, но мрак слегка расступился, и был виден силуэт худого человека, стоящего на коленях и вытирающего лицо сорванным беретом. Марта с усилием заставила себя встать, пошатнулась, сделала нетвердый шаг к двери. Что-то влажное мягко ткнулось ей в руку, Марта чуть не вскрикнула, но тут же поняла, что это — собачий нос. Она машинально нагнулась, чтобы потрепать пса по голове, увидела судорожно подергивающееся горло Одноухого, мучительно клокочущую пасть, словно пес хотел заговорить, хотел и не мог… лапы пса расползались, как у новорожденного щенка — и безумная догадка холодным лезвием пронзила душу Марты.
— Джош, за мной! Уходим! — коротко приказала она и на ватных ногах пошла-побежала через луг к мирно пасущемуся коню. Надо было спешить, пока Великий Здрайца окончательно не пришел в себя. Похоже, там ему тоже крепко досталось.
Вслед женщине и псу неслись стоны вперемешку с восхищенными проклятиями.
Они покинули Вену на рассвете, тайком, как воры. Да они и были воры. Марта не знала, куда они направляются, но какой-то инстинкт погнал ее на северо-восток, через равнины Словакии, венгерский Липтов и дальше — вдоль левого рукава Черного Дунайца к Нижним Татрам.
Мысль добраться до тынецкого монастыря, где аббатом был ее брат Ян, пришла позже. Это давало хоть какую-то призрачную надежду укрыться от Великого Здрайцы и его слуг — а в том, что за ними погоня, Марта не сомневалась ни на минуту.
Они ночевали на постоялых дворах и в придорожных харчевнях (кое-какие деньги у Марты с собой были), а когда — просто в стогах сена или заброшенных избушках, и оставшись наедине, Марта рассказывала четвероногому Джошу-Молчальнику, кто она такая на самом деле, и что произошло с ним.
И Джош внимательно слушал, положив голову на колени Марты и глядя на нее карими глазами Одноухого. Иногда он лапой неуклюже чертил прямо на земле слово-другое — и Марта потом долго улыбалась во сне, перебирая эти слова, как нищий перебирает свой скудный заработок. Это были минуты их горького счастья, когда на время отступала память о том, что жизнь Марты в одночасье рухнула, за ними по пятам идут слуги Великого Здрайцы, и неизвестно, чем закончится завтрашний день.
Они привыкали. Джош привыкал быстрее, и это тоже порождало определенные заботы. Причина крылась в том, что Молчальник и раньше не отличался целомудрием, а теперь, похоже, унаследовал поистине кобелиный характер Одноухого, в чьем теле отныне пребывал. Бродячие суки его не интересовали, он чувствовал себя человеком, причем влюбленным человеком, и Марте все труднее становилось противиться полушутливым домогательствам своего четвероногого любовника, с улыбкой отстраняясь от нахально лезущего под платье пса… Как-то раз она-таки не отстранилась. И — ничего, даже больше, чем ничего, только Марте еще некоторое время было стыдно, но это быстро прошло. А Джош остался все тем же веселым вором, и однажды предъявил Марте украденный у одного из посетителей очередной харчевни увесистый кошелек. Как он ухитрился это сделать, при его-то лапах, оставалось загадкой, и Марта лишь рассмеялась, не удержавшись. Ну а деньги из краденого кошелька им очень даже пригодились — ибо средства, которые прихватила с собой Марта, подходили к концу.
В общем, Джозеф Волож и в собачьем теле оставался прежним, чего нельзя было сказать о Марте. Марта надорвалась, спасая Джоша; и она это знала. Теперь женщина просто боялась извлекать из чужой души что-нибудь существенное — рана внутри нее не заживала, превращаясь в зудящий свищ, и любая «душевная» тяжесть причиняла нестерпимую боль.
Зато Марта обнаружила в себе новую способность. Теперь она могла подбрасывать украденное у одних людей другим. Оно как бы вываливалось через образовавшуюся где-то глубоко внутри прореху — и Марта быстро научилась пользоваться случайно возникшим умением, подбрасывая лишнее тем, кому хотела. Это было ново, необычно, батька Самуил никогда не рассказывал ни о чем похожем — и это открывало возможности, о которых Марта раньше и не догадывалась. Она и сейчас-то не вполне понимала, что ей делать со своим новым даром, и пользовалась им лишь изредка…
Они шли в тынецкий монастырь.
Слуги Великого Здрайцы незримо шли следом.
3
Скорбный Христос со стенного распятия смотрел на замолчавшую Марту. Женщина боялась поднять глаза — ей казалось, что в Божьем взгляде она прочтет осуждение и беспощадный приговор.
Аббат Ян встал, прошелся по келье, сумрачно кивая в такт ходьбе. Лицо его осунулось, потемнело и нисколько не напоминало тот возвышенный образ, какой привыкли видеть приходящие в тынецкий монастырь богомольцы. Плохо было аббату, очень плохо, и не только потому, что сейчас он разрывался между святым отцом Яном и Яносиком из Шафляр, старшим из непутевых детей Самуила-бацы.
— Вчера на рассвете Михал приезжал, — невпопад бросил аббат, перебирая висевшие у пояса агатовые четки.
— Михалек? — вяло удивилась измученная Марта, не понимая, какое отношение к рассказанному имеет приезд в монастырь Михала, их четвертого брата, который был младше Яна и осевшей в Кракове Терезы, но старше самой Марты.
Вот уж за кого никогда не приходилось беспокоиться, так это за Михалека, способного постоять за себя лучше любого защитника…
— Отец умер, Марта, — скорбно сказал аббат Ян, глядя куда-то в угол. — Михал был на похоронах.
— Отец умер, — безвольно повторила Марта. — Батька Самуил. Умер. Умер…
И небо обрушилось ей на плечи.
Когда мир снова родился из кричащего небытия, сузившись до размеров монашеской кельи — аббат Ян по-прежнему ходил из угла в угол, перебирая четки сухими пальцами, а Христос с распятия все так же смотрел на бледную Марту.
— После услышанного я бы предложил тебе для начала обосноваться в монастыре, — Ян отсчитывал слова скупо, как черные бусины четок, — и пересидеть некоторое время в освященных стенах, пока мы не решим, что делать.
— В вашем монастыре?
Что-то, похожее на усмешку, искривило тонкие губы аббата.
— Наш монастырь — мужской, дочь моя. Я бы отвез тебя в чорштынскую обитель кармелиток — тамошняя аббатисса мне кое-чем обязана… Впрочем, сейчас это не имеет значения. Ты помнишь клятву, которую мы давали, уходя из Шафляр?
— Помню, — кивнула Марта.
— И ты поедешь на поминки отца? Подумай, Марта — ведь если мы хотим успеть на сороковины, то выезжать должны завтра, в крайнем случае послезавтра. Ни о каком монастыре тогда и речи быть не может. А если все, что ты наговорила мне — правда…
— Это правда, Яносик. Но если я не встану в нужный день над могилой батьки Самуила — я прокляну себя вернее, чем это сделает любой дьявол. Ты веришь мне?
— Я боюсь за тебя, — ответил аббат.
И Марте почудилось, что в глазах распятого мелькнуло одобрение.
— Ну что ж, — невесело улыбнулась женщина, — раз ворам прямая дорога в ад (не хмурься, Яносик, ты у нас святой, тебя это не касается!), значит, доведется мне еще разок увидеться со старым Самуилом. Может, соберемся на одной сковороде: я, батька, Тереза, Михалек…
— В ад? — странным тоном спросил аббат.
— А что, отец мой Ян, ты не веришь в ад? Весьма удивительно для тынецкого настоятеля!
— Я верю в Бога, — очень серьезно отозвался аббат. — А ад или рай… возможно, они пока что пустуют, Марта.
— Пустуют?
— Я говорю — возможно. Тебе ведь известно, когда Господь будет судить души живых и мертвых, отделяя овец от козлищ?
— По-моему, ты хочешь таким образом отвлечь меня, Яносик, от более земных забот. Конечно, известно. Когда наступит Dies irae, День Гнева, Судный день.
— Значит, Судный день еще не настал?
— Издеваешься, святой отец?! Конечно, нет!
— Но если нас еще не судили, — плетью хлестнул голос аббата, — если Господь еще не вынес нам приговор, то почему нас должны наказывать или награждать?! Кто взял на себя право судить, карать и миловать раньше Господа?! Откуда рай или ад, кара или воздаяние, если приговор не вынесен?! Ответь, Марта!
Марта растерянно молчала.
— Ты что-нибудь слышала о ереси альбигойцев, которые сами себя называли «катарами», что по-гречески значит «чистые»? О крестовых походах внутри Европы, случившихся почти четыре века тому назад, когда альбигойский Прованс истекал кровью, когда пало Тулузское графство, а преданный анафеме граф Раймунд VI Тулузский уступил свой титул крестоносцу Симону де Монфору — правда, через два года доблестный граф Раймунд отбил родную Тулузу у захватчика, а еще через два года крестоносец де Монфор был убит во время восстания местного населения! Что ты знаешь о маленькой крепости Монсегюр в Пиренеях, которая пала последней?!
Аббат Ян перевел дыхание, некоторое время молчал, а потом виновато посмотрел на Марту.
— Извини, Марта… ты и не должна быть знатоком в подобных вопросах. Просто ересь катаров уже давно не дает мне, аббату Яну Ивоничу, вору Яносику из Шафляр, спать по ночам. Да, «чистые» исказили многие католические догматы; да, они протащили в христианство зороастрийских Ормузда и Аримана, как символы добра и зла; они считали, что исповедуясь, мы помогаем Господу, а не наоборот, но не в этом дело. Невместно мне осуждать поступки святого Доминика Гусмана, основателя ордена доминиканцев, но я бы не стал подобно ему жечь «чистых» на кострах. Я вообще не люблю костров, Марта…
— Ты что-то не договариваешь, Яносик, — бросила Марта, пристально глядя на взволнованного аббата. — Я могла бы украсть у тебя это «что-то», но вор не должен красть у вора, а сестра у брата. Расскажи мне сам.
— Альбигойцы считали, что после смерти человек начинает жить заново, что душа его воплощается в ином живом существе — звере, человеке, птице — и грехи прошлого вкупе с былыми заслугами довлеют над возродившимся в его новой жизни. И так, до самого Страшного Суда, человек копит в себе добро и зло, его мучит свобода выбора, он ищет, спорит, соглашается, грешит… Но тогда — если Господь даровал таким, как мы, способность брать чужое добро из душ человеческих, то не готовил ли Он для нас особую участь?! Не выше других, не над людьми — но другую, как разнятся участи воина и лекаря! Ведь если допустить хоть кроху правоты в догматах катаров — значит, проданная дьяволу душа попадает не на сковородку, пугало старух-богомолок, а начинает жить заново под сюзеренитетом Сатаны! Не это ли ад, Марта! Ад на земле, способный вовлечь в свое пламя и находящихся рядом невинных жертв! Ты украла погибшую душу у Сатаны… нет ли в этом особого промысла Божьего?!
— Не знаю, Яносик. Не знаю. Знаю только, что мне тяжко жить с той проклятой ночи. Когда, ты говоришь, должен приехать Михал?
— Завтра, — ответил аббат Ян.
Нить его четок неожиданно лопнула, агатовые бусины звонко раскатились по полу, но он даже не заметил этого.
— Завтра, Марта. Михал приедет вместе со своей женой — она в тягости, и мы должны отслужить молебен о счастливом разрешении от бремени — но обратно жена Михала поедет без него.
Марта кивнула.
Пан Михал Райцеж, придворный воевода графа Висничского, был исключительно хорош собой. Это отмечали пылкие флорентийки, в чьем родном городе пан Михал постигал нелегкое искусство владения рапирой под руководством строгого Антонио Вазари; это обсуждали между собой искушенные в любовных делах уроженки Тулузы, где знаменитый мастер шпаги Жан-Пьер Шарант после долгих уговоров согласился взять в обучение худородного шляхтича из далекого Подгалья; красота пана Михала не давала спать пухленьким саксоночкам Гербурта, когда возвращающийся домой Райцеж сумел упросить барона фон Бартенштейна преподать ему несколько уроков владения тяжелым драгунским палашом, застряв в баронском замке на три года; женщины беззаветно любили пана Михала, но увы — пан Михал не любил женщин.
Нет, это отнюдь не значило, что шляхтич Райцеж был склонен к мужеложству.
Просто пан Михал любил оружие, и страсть эта заполняла дни его столь полно, что ночами ему снились выпады и отражения, в результате чего Михал Райцеж шептал во сне вместо имени возлюбленной:
— Парад ин-кварто и полкруга в терцию!.. парад ин-кварто… Двигайся! Двигайся, я тебе говорю!.. парад ин-кварто…
Дам, изредка попадавших в его постель, потом долго мучила мигрень, и не раз они в самый неподходящий момент командовали законному мужу:
— Парад ин-кварто… двигайся, я тебе говорю!
Мужья не любили пана Михала.
Они его боялись.
Они боялись бы его еще больше, если бы знали, что пан Михал Райцеж, Михалек Ивонич, приемный сын Самуила-бацы из Шафляр — вор.
Такой же вор, как Марта и аббат Ян.
Сам же Михал не без оснований считал себя самым ловким вором из всей семьи, но и самым неудачливым. Мечту его жизни нельзя было просто вытащить из карманов чужой души — воинский талант, как и любой талант вообще, хранился в самых глубоких подвалах его обладателя, сросшись с фундаментом, основанием сущности хозяина.
Повстречавшись с вором, прошедшим науку Самуила-бацы, скрипач может забыть название и даже мелодию сто раз игранной песни, отдав это знание встречному пройдохе, но пальцы его заставят струны откликнуться быстрее, чем сам скрипач обнаружит потерю. Пожмет плечами музыкант, да тем дело и кончится. Но если вор попытается забраться не в кошель, где бренчат расхожие монетки, а в дом скрипача, туда, где хранится его чуткий слух, способный с первого раза запоминать любую музыкальную фразу, где кроется суть скрипичного дара, где в сундуках спит данное от рождения золото…
Строго-настрого предостерегал Самуил-баца приемных детей от подобных дел.
Лишь однажды попытался отчаянный Райцеж забраться в дом души бешеного тулузца, своего тогдашнего учителя Жан-Пьера Шаранта, когда Жан-Пьер заснул — и до конца дней своих будет помнить он вой и крики тех кошмарных Стражей, которые гоняли его по бесконечному лабиринту Шарантовой сокровищницы, грозя огненными мечами, а выползающие из крошащихся стен узловатые корни исподтишка норовили опутать ноги Михала, не дать уйти, навсегда оставить здесь, в сумрачных переходах…
Михалу удалось найти щель и юркнуть наружу.
В себя.
Но он знал: случись ему пасть под клинками Стражей, пропади он в лабиринте Шарантова мастерства, рухни в Черный Ход — за время сна душа Шаранта переварила бы его, как отрезанный и проглоченный ломоть хлеба, и наутро проснувшийся и ничего не подозревающий учитель Жан-Пьер Тулузец обнаружил бы рядом с собой безумца.
Хуже.
Он обнаружил бы рядом с собой растение.
Иногда Михал недоумевал по поводу своего выбора. Пробиться в церковные иерархи, как старший брат Ян; стать примерной женой удачливого краковского купца и рожать ему детей, как Тереза; жить тихой и сытой мышкой при дворе знатной покровительницы, как Марта — ну что, что мешало Михалеку избрать себе простую и понятную дорогу, на которой для легкого существования вполне достаточно время от времени обчищать внутренние карманы нужных людей, выбирая ту мелочь, что поднимается на поверхность?!
Ничего.
И жил бы себе не хуже других, а то и лучше…
Ведь сумел же он с легкостью заставить чорштынского ректора состряпать подложные королевские грамоты с настоящими печатями, а потом явиться с ними к последнему из рода Райцежей, глубокому старику, впавшему в детство, и спустя некоторое время окончательно превратиться в пана Михала Райцежа, внучатого племянника этого самого старика!
Перед отъездом в Италию это казалось необходимым, потому что иначе пробиться в ученики к кому-нибудь из известных мастеров клинка было почти невозможно.
Требовались деньги или родовитость; во всяком случае, Райцеж был в этом уверен.
Если бы Михалу сказали, что флорентиец Антонио Вазари, отказавший когда-то в обучении младшему брату венецианского дожа, взял к себе в дом юного шляхтича из неведомых земель только потому, что рассмотрел в нем незаурядные способности — Михал никогда не поверил бы этому.
Он страстно хотел заполучить чужой талант, мучаясь невозможностью сделать это — и не замечал собственного.
Он был вором.
Знание о любом, пусть самом секретном приеме владения оружием Михал мог выкрасть и крал без зазрения совести. Но лишь тогда, когда это знание становилось действительно знанием или хотя бы осознанным ощущением, а не глубинными навыками и памятью чужого тела, не раздумывающего и зачастую даже не понимающего, что оно делает! Иначе же любая попытка вторгнуться в сокровенное… нет, Михал помнил Стражей, охраняющих талант учителя Шаранта, и не рисковал повторить попытку. А если твое собственное тело не готово принять чужое знание — краденое или полученное от учителя; если месяцы, а то и годы изнурительных занятий не отточили твои собственные возможности до остроты толедского лезвия; если ты взял, присвоил, но не можешь сделать на самом деле своим…
Антонио Вазари, Жан-Пьер Шарант, пожилой барон фон Бартенштейн — любой из них, теряя какое-либо знание, украденное их проворным учеником, восстанавливал потерю почти мгновенно, практически не замечая этого, как дерево не замечает потери листа, если цел ствол, или даже потери молодого побега. Новые отрастут, не сегодня, так завтра. Зато Михал старательно приращивал полученные побеги к себе, добиваясь в конечном итоге нужного результата и не задумываясь над тем, что для подобного дела нужно по меньшей мере иметь свой ствол — пусть неокрепший, пусть дикий, но он должен быть.
Нельзя прирастить побег к пустому месту.
Умрет.
А эти — приживались.
Десять лет старушка-Европа пылила под ногами Михала Райцежа, Михалека Ивонича; десять лет он воровал все, до чего мог дотянуться, и не щадил себя там, где не мог украсть; вор из семьи Самуила-бацы плакал по ночам от боли в суставах и мазал снадобьями кровавые мозоли на ладонях — когда он покинул Флоренцию, строгий Антонио Вазари вдруг напился допьяна, когда он ушел из Тулузы, скупой на слова Жан-Пьер Шарант покачал головой и тихо бросил: «Дурачок…»; бывший драгунский полковник барон фон Бартенштейн, не отличавшийся щедростью даже в отношении близких родственников, на прощанье подарил ему палаш без единого украшения, ибо клеймо на клинке само по себе стоило целого поместья…
Через год Михал Райцеж стал придворным воеводой графа Висничского, сменив на этой должности прошлого воеводу — старого рубаку, показавшего восхищенному Михалу, что такое настоящий сабельный бой.
Еще через год он женился, несказанно удивив всех и взяв за себя дочь прошлого воеводы, кроткую девушку по имени Беата.
И, казалось, бродяга Михал прочно осел в Висниче.
…Солнце било Марте в глаза, и она щурилась, выглядывая из похожего на бойницу монастырского окна. Отсюда, от западного крыла отлично — если бы не слепящие лучи солнца — просматривалась краковская дорога, и даже сквозь невольные слезы Марте еще издалека удалось разглядеть крохотную фигурку всадника, неспешно приближающегося к монастырю со стороны Тыньца.
За всадником катила, подпрыгивая на ухабах, запряженная вороной парой карета, а по бокам кареты ехали верхом двое гайдуков.
«Михалек», — поняла Марта и, прикрывшись ладонью, стала рассматривать брата.
Только сейчас она вдруг остро почувствовала пустоту, образовавшуюся после слов аббата Яна о смерти отца. Скачущий Михал непонятным образом превратил отвлеченную и странно недостоверную смерть Самуила-бацы в свершившийся факт, в реальность, и Марта призналась себе, что лгала Яну, когда говорила: «К кому мне еще идти? Отец стар…» Там, где сейчас было пусто и горько, еще день назад крылась тайная надежда, что в самом крайнем случае можно будет сбежать в Шафляры, пасть в ноги батьке Самуилу, тот встопорщит жесткие седые усы, даст подзатыльник и после этого все будет хорошо.
Не будет.
А в Шафляры действительно придется ехать.
Не на похороны, так на поминки.
Эх, батька Самуил, Самуил-баца…
Солнечный луч обиженно разбился о ладонь Марты, скользнул в сторону и очень удивился, обнаружив на глазах у женщины слезы.
Откуда? — ведь луч не знал, что люди плачут не только от солнца.
Всадник к тому времени значительно приблизился, и Марта помимо воли залюбовалась уверенной посадкой Михала. Отчего-то на ум пришло сравнение с удирающим от Жабьей Струги конокрадом Друцем. Юный цыган почти лежал на спине гнедого, всем телом припав к конской шее, а Михал сидел в седле подчеркнуто прямо, с небрежностью поигрывая зажатыми в правой руке поводьями, и левая ладонь его рассеянно поглаживала рукоять драгунского палаша, с которым Михал по слухам никогда не расставался, беря с собой чуть ли не на супружеское ложе.
Пятеро верховых, догоняющих карету, которая сопровождала Михала, Марту поначалу ничуть не заинтересовали.
— Ну что? — послышалось у Марты за спиной.
— Едет, — не оборачиваясь, отозвалась женщина, сразу узнав голос Яна.
— Почитай, у ворот. Ты б сказал своему привратнику, чтоб не лез с расспросами, а то Михал его длинный нос мигом укоротит. С него, драчуна, станется…
Аббат Ян, минуту назад освободившийся от службы и успевший по дороге в келью отдать все необходимые распоряжения отцу-келарю, подошел и встал рядом с сестрой.
— А это еще что?! — озабоченно пробормотал он, и Марта, отвлекшись было от происходящего внизу, мигом глянула в окно.
Верховые прибавили ход и оказались у остановившейся кареты раньше Михала, разглядывающего монастырь. Самый первый из них, пышно разодетый вельможа, показавшийся Марте смутно знакомым, спрыгнул с коня и предупредительным жестом распахнул дверцу кареты. Он учтиво поклонился, переждал короткую заминку и подал руку выходящей из кареты молодой женщине — жене Михала Беате Райцеж, в девичестве Беате Сокаль. Когда смущенная Беата оказалась на земле, вельможа отошел на шаг в сторону и еще раз поклонился, приложив руку к сердцу.
Гайдуки Райцежа замялись, не зная, что делать, поскольку ничего особенного не происходило, а задевать без нужды вежливого шляхтича в присутствии четверых его людей им явно не хотелось.
Марта не заметила, когда Михал успел покинуть седло и быстрым шагом подойти к жене. Только что придворный воевода графа Висничского с коня глядел на монастырские стены — и вот он уже стоит рядом с Беатой и что-то ей выговаривает. Марту и аббата Яна удивило поведение Михала: если уж кому и стоило выговаривать, так это прискакавшему невесть откуда вельможе, чья учтивость и впрямь граничила с наглостью. Видимо, Беату это тоже удивило, она попыталась возразить мужу — слов не было слышно, но зато было отлично видно, как пан Михал грубо сжал плечо жены, силой развернул ее лицом к монастырю и мотнул головой в сторону ворот.
Подчинившись, Беата двинулась к воротам, опомнившиеся гайдуки поехали следом, а в окружении вежливого шляхтича громко засмеялись — смех этот донесся даже до ушей стоящих у окна. Сам вельможа приблизился к пану Михалу, подбоченился и бросил несколько коротких резких фраз.
Дальше Марта не смотрела. Повинуясь непонятному порыву, она выбежала из кельи — аббат Ян, не мешкая, последовал за ней — и по лестнице помчалась вниз. Спустившись во двор, Марта свистнула дремлющего в холодочке Джоша, обогнула только что вошедшую в монастырский двор Беату (беременность последней лишь сейчас бросилась Марте в глаза) и выскочила в распахнутые ворота наружу. Карета по-прежнему стояла неподалеку, сонный кучер дремал на козлах, забыв выпрячь лошадей, но больше никого рядом с монастырем не было.
Лишь пыль клубилась по дороге, сворачивая влево и вниз, к берегу речки Тихой.
Марта быстро пошла вслед за пылью.
Джош трусил рядом, временами поднимая голову и заглядывая женщине в глаза.
На морде собаки застыло то болезненное выражение, какое иногда бывает у немых, когда им позарез надо что-нибудь сказать, а мертвый язык еле ворочается и рождает только звериное ворчание.
Звон оружия был первым, что услышала Марта, выбежав на кручу. Отсюда насквозь просматривался песчаный плес реки, прямо под Мартой у плакучей ивы стояли четверо спутников вежливого шляхтича и двое гайдуков Райцежа, возбужденно переговариваясь. В двадцати шагах от них друг напротив друга замерли Михал и его противник, минуту назад обменявшиеся первыми ударами.
«Господи, да что ж это такое!» — в отчаяньи подумала Марта. Она никогда не могла понять, как из-за ерунды, из-за пустяковых мелочей, не стоящих и ломаного гроша, двое молодых здоровых людей готовы всадить в грудь один другому полтора локтя холодной стали.
Впрочем, муж ее покровительницы Вильгельм фон Айсендорф также не был миротворцем, и Марте дважды приходилось видеть поединки барона с очередным забиякой, случившиеся прямо в поместье Айсендорфов; а сколько раз щепетильный в вопросах чести барон Вильгельм дрался не в присутствии компаньонки своей жены?!
Шляхтич неожиданно прыгнул вперед, и кривой клинок его сабли злобно лязгнул о тяжелый палаш Михала. Полетели искры, шляхтич отскочил, снова приблизился и попытался достать Райцежа с другой стороны. Михал не тронулся с места, лишь рука его сдвинулась на пядь левее, и лезвие кривой сабли вновь наткнулось вместо живой плоти на драгунский палаш.
Удар.
Еще один.
«Он же убьет этого щеголя!» — внезапно поняла Марта, глядя на узкое лицо Михала, превратившееся в алебастровую маску. Перед ней был не вор, а воин, не Михалек Ивонич, а воевода Михал Райцеж, и первыми, кто после Марты сообразили это, были спутники шляхтича. Они загомонили и направились к дерущимся с явной целью разнять их, но не успели — Михал, до того недвижно стоявший на месте, коротко шагнул вперед, драгунский палаш завертел кривую саблю в мгновенном страшном танце и, прорвавшись сквозь сверкающий заслон, до половины погрузился в живот вежливого шляхтича.
Потом Михал поднял голову, увидел бледную как полотно Марту на круче, приветливо помахал ей рукой и принялся горстью зернистого песка отчищать кровь с палаша.
У ног Михала умирал вежливый шляхтич.
Судя по ране, умирать он должен был долго и мучительно.
Когда Марта сверху вниз смотрела на спокойную осанку брата, даже не повернувшегося к своей жертве, возле которой растерянно хлопотали четверо спутников — ей подумалось, что Михал сознательно выбрал для этого человека такую смерть.
Ни минуты не колеблясь.
И Марте стало холодно.
Весь молебен во здравие Беаты Райцеж и за ее благополучное разрешение от бремени Марта простояла как на иголках. Перед глазами все время всплывал человек, убитый только потому, что помог выйти Беате из кареты. Чтобы хоть как-то отвлечься, Марта переводила взгляд с облаченного в подобающее случаю одеяние аббата Яна на Михала — воевода Райцеж стоял на коленях рядом с женой, время от времени осеняя себя крестным знамением — и помимо воли отмечала, что братья столь же разные, сколь и похожие. Монах и воин, исповедник и убийца… вор и вор. Оба стройные, сухощавые, с тонкими одухотворенными чертами — и Марта вдруг подумала, что выражение лица аббата Яна, когда он слушал Мартину исповедь и потом вдохновенно рассказывал ей про ересь катаров, было во многом подобно выражению лица Михала, когда последний играл плещущей сталью и вытирал окровавленный клинок песком.
«А я? — ужаснулась Марта. — Я сама?..»
После молебна она подошла к жене Михала, была представлена Беате и не отходила от нее до того момента, когда Райцеж посадил жену в карету и отправил в Тынец в сопровождении приехавших с ним гайдуков. Прощаясь, Марта не удержалась и наскоро обшарила сознание Беаты. Было трудно определить на ощупь, что именно попадается под руку, но Марта прошла слишком хорошую школу, чтобы не путать возможную добычу с мелким хламом, вечно валяющимся в чужих закромах. Беспокойство по поводу грядущих родов лежало у молодой женщины на самой поверхности, не имея глубинных корней — здоровая и крепкая Беата носила беременность без особых сложностей — так что Марта могла бы легко украсть необоснованное волнение у пани Райцеж, но делать этого не стала, лишь удивилась: почему Михал до сих пор не облегчил жизнь любимой жене?
Молебен молебном, а воровство воровством…
Видимо, за это время отец Ян уже успел наскоро пересказать воеводе историю Марты, потому что Михал после отбытия жены подошел к Марте, и, ни слова не говоря, обнял сестру и поцеловал в лоб. Одноухий Джош ревниво зарычал, Михал повернулся к оскалившемуся псу, пристально посмотрел ему в глаза и еле заметно поклонился.
Джош сел — нет, скорее упал на задние лапы, запрокинул лобастую голову к небу, выпуклые собачьи глаза влажно блеснули, пес чуть было не завыл, но не завыл и вихрем вылетел за ворота монастыря.
Марта не стала звать Молчальника.
Понимала — вернется.
Когда начало смеркаться, а Джоша по-прежнему не было, Марта начала волноваться. Она вышла из монастыря, — привратник был с нею вежлив до тошноты — побродила туда-сюда по дороге, хотела было пройтись к близкой опушке леса, но раздумала и двинулась в направлении берега речки Тихой, где состоялся недавний поединок.
Спустившись с кручи и постояв под плакучей ивой, она негромко позвала пса, подождала и собралась уходить. Сорвав с ивы тонкий прут, Марта несколько раз взмахнула им, как саблей, отбросила прут от себя — и странное волнение заставило ее обернуться.
Там, где упал ивовый прут, танцевала смутная тень.
От реки тянуло зябкой прохладой, разглядеть что-то в подступивших сумерках было почти невозможно, но Марта до рези в глазах всматривалась в странно знакомый танец тени, и внезапная догадка обожгла ее хуже пригоршни углей, взятой из костра.
Перед ней была тень убитого Михалом шляхтича.
Призрак неутомимо, раз за разом повторял движения того страшного танца, который привел его к гибели, ноги шляхтича однообразно переступали по песку — вперед, в сторону, вперед, назад, в сторону — руки плели повторяющуюся вязь, пока не падали сломанными крыльями, заставляя мертвеца схватиться за живот и мгновенно припасть к сырому вечернему песку… но тень вставала, и все начиналось сначала.
Возможно, со стороны это выглядело красиво и совсем нестрашно — вечер, река, изломанная тень и женщина, прижавшаяся к стволу ивы — но Марта не могла посмотреть на себя со стороны.
Она даже не успела сообразить, когда, в какой неуловимый миг тень оборвала смертный танец и повернула к ней безглазое пятно лица.
Не слухом, а каким-то чуждым человеку чувством Марта поняла, что мертвый шляхтич смеется — и вдруг вспомнила, где и когда встречала убитого Михалом на поединке человека.
В корчме Иошки Мозеля, когда мимоходом коснулась молодого пана, прихватив в нем горсть всплывшей на поверхность ненависти к родному отцу, и потом еле успела сбросить это жгучее зелье в корчемную кошку Бырку!
Как звали молодого пана?!
Княжич… княжич Янош Лентовский!
Забыв обо всем, Марта неожиданно для самой себя потянулась к призраку, как тогда, в корчме, как тянулась множество раз к намеченной жертве, желая пошарить в невидимых для других карманах; «Не смей!.. никогда не смей воровать у мертвых!..» — эхом отдался в ней звенящий голос Самуила-бацы, ушедшего навсегда батьки Самуила… не смей…
В такие мгновения Марте всегда казалось, что она протягивает третью, бесплотную руку, и гибкими пальцами на ощупь выбирает нужное, чтобы потом, уже присвоив, взяв в себя, рассмотреть и понять: взяла ли она то, что хотела, или вместо золота попалась все-таки медь, и надо бы повторить попытку — но сейчас все было не так, как прежде.
Воровские пальцы женщины обожгло ледяной слизью, цепко облепившей несуществующую руку, холод резво пробежался по предплечью, плюясь расползающимися во все стороны мурашками, за локтем на миг задержался и уже неторопливо пополз дальше; Марта попробовала шевельнуться и с ужасом ощутила, что третья рука не слушается ее — женщина вскрикнула, рванулась… и почувствовала, что свободна.
Призрак смеялся.
На луноподобном диске его лица проступили темные пятна, сложившиеся в оскаленный рот, и Марта, вся дрожа и будучи не в силах отвернуться, судорожно нащупала в себе украденную у пляшущей тени мысль.
Женщина попыталась расслабиться и дать краденому стать своим.
«Убийца! — мелькнуло в голове. — Михал — убийца!..»
Почти сразу до Марты дошло: это и есть то, что удалось взять у мертвого княжича!
— Ну и что?! — истерически выкрикнула она, обращаясь к хохочущему призраку. — Ну и что?! Конечно, убийца! — ведь он убил тебя… сгинь, пропади!..
Призрак смеялся.
«Михал — убийца!» — смеялся он, и в смехе его крылась нечеловеческая издевка, словно тень что-то умалчивала, и это «что-то» доставляло мертвому невыразимое удовольствие.
Убийца-а-а…
Спотыкаясь, Марта кинулась вверх по круче.
…когда она вбежала в монастырский двор, даже не успев удивиться тому, что ворота до сих пор не заперты, — толпа взволнованно переговаривающихся монахов поспешно расступилась, пропуская Марту в круг.
Аббат Ян, воевода Михал и одноухий Джош стояли над раненым человеком.
Марта уже видела этого человека.
Это был один из гайдуков Михала.
— Их было пятеро? — гневно спрашивал воевода. — Всего пятеро?!
Гайдук молчал, сидя на земле и держась за наспех замотанное колено.
— На карету Беаты напали, — отец Ян повернулся к Марте, одной рукой успокаивающе тронув взбешенного брата за локоть. — Разбойники, на полпути от нас до Тыньца. Саму Беату увели в лес, одного гайдука зарубили, а этого… этого отправили сюда.
— Разбойники? — Марта ничего не понимала. — Они требуют выкуп?
— Нет. Их атаман велел передать, что его зовут Мардула, сын Мардулы, и что пленной женщине до поры до времени ничего не грозит. Просто он хочет быть уверенным, что убийца Самуила-бацы явится в Шафляры — не на сороковины, так за женой — и там заплатит Мардуле все, что полагается.
«Убийца!» — смеялся над рекой танцующий мертвец…
— Я не убивал отца, — воевода Райцеж смотрел на Марту исподлобья, болезненно сдвинув брови над переносицей. — Я не убивал отца, Марта! Это ложь!
И снова повернулся к раненому:
— Их было пятеро! Пятеро против вас двоих!
— Прости, пан воевода, — глухо шептал гайдук, глядя в землю. — Прости… но тот, кто стоял рядом с атаманом… худой такой, весь в темном… на голове берет с петушиным пером…
Гайдук собрался с силами и закончил:
— Он не человек, пан воевода! Святой отец, скажите ему: это не человек! Поверьте мне, я говорю правду!
Марта склонилась над раненым и положила ладонь ему на плечо.
— Я верю тебе, — сказала она. — Это действительно не человек.
Джош поднял морду к равнодушному серпику месяца и безнадежно завыл.
Словно в ответ ему с опушки близкого леса донесся торжествующий волчий вой.
ВЕЛИКИЙ ЗДРАЙЦА
Я не помню, кем был — я знаю, кем стал.
Изредка снимая свой замшевый берет с петушиным пером, схваченным серебряной пряжкой, я напяливаю его на кулак и долго смотрю, представляя, что смотрю сам на себя.
Перо насмешливо качается, и серебро пряжки тускло блестит в свете месяца.
Я делаю так редко, очень редко, в те жгучие минуты, когда понимаю, что больше не могу быть собой — но и перестать быть я тоже не могу.
Люди зовут меня дьяволом.
«Изыди, Сатана!» — говорят мне люди, и я смеюсь, исчезая: во-первых, я не Сатана и никогда им не буду; во-вторых, я не могу уйти навсегда, даже если меня гонят.
Я лишь исчезаю.
На время.
И мысленно благодарю изгнавших меня — потому что миг небытия для того, кем я стал, стократ блаженней существования.
Люди зовут меня Князем Тьмы.
Я не князь.
Я — крепостной Тьмы.
Я ем хлеб Преисподней в поте лица своего, я могу лишь надеяться, что когда-нибудь накоплю необходимый выкуп, и тогда меня отпустят на волю.
Позволят не быть.
Мне хочется верить, что надежда умирает последней.
Иногда я смотрю на очередного глупца, суетливо макающего перо в собственную кровь и подписывающего договор со мной, и слышу его жалкие мыслишки.
На самом деле, конечно, я не слышу их, но все это так однообразно…
«Сейчас я получу то, что хотел, — сглатывая липкую слюну, мечтает этот червь, — я наслажусь желаемым, а потом я буду служить моему хозяину верой и правдой, я докажу ему свою преданность и усердие — и после смерти он сделает меня подобным себе, чтобы в аду мы вместе мучили глупых грешников, не удосужившихся вовремя продать душу нужной силе. О, как я буду велик!..»
Я смеюсь, а он думает, что я радуюсь, заполучив его ничтожную душонку.
Он прав.
Я радуюсь.
Если он достигнет желаемого и станет подобен мне — он тоже будет радоваться, когда кубышка с его выкупом из адской крепости станет хоть на йоту полнее.
Он ведь не знает, что никогда не попадет в ад.
Ад попадет в него.
Согласитесь, что это не одно и тоже.
Впрочем, можете не соглашаться — мне все равно.
Люди зовут меня Нечистым.
Это правда.
Я нечист.
Но никто из таких, как я, никогда не был и не будет Повелителем Геенны — не потому что мы мелки, а потому что с тем же успехом каторжника можно назвать Повелителем рудников. И впрямь: он бьет несчастные камни кайлом, он возит их в тележке, сваливая в карьер, он волен мучить копи как хочет… он лишь не волен перестать это делать.
И перестать мучиться самому.
Вопрос: что делают в аду?
Ответ: мучаются.
Вопрос: кто мучается в аду?
Ответ: все.
Все.
Когда вы мучаетесь, это уже ад.
Он в вас.
Ад в вас, дорогие мои, он шипит и пенится, как недобродившее вино, он ударяет в голову мягкими коварными молоточками; ад в вас, любезные господа, но во мне его больше. Я — крепостной Тьмы, я — виллан Геенны, я — пустая перчатка, я чувствую в себе заполняющую пустоты руку Преисподней и завидую тому преступнику на эшафоте, в чье чрево входит сейчас заостренный кол.
Ему, казнимому, легче.
Я никогда не видел подлинных Князей Тьмы, Противоречащих, Восставших, Низвергнутых, которые и есть — ад.
Вещь в себе, умники-схоласты!.. ад в аду.
Я не помню, кем был — я знаю, кем стал.
Стократно хуже Им — они помнят, кем были. И вечность перед Ними заполнена мучительным бездействием, в конце которого маячит предопределение, беспощадная тень Армагеддона и Судного дня.
Dies irae, День Гнева.
Всякий раз, когда я чувствую в себе пальцы Князей, наполняющие меня мукой и силой, я восхищаюсь их упорством, их неукротимой жаждой деятельности, способной дотянуться из невозможного и заставить таких, как я, становиться дьяволами и перекраивать детей Адама и Евы по своему образу и подобию.
Я ненавижу Их.
Восхищение и ненависть сливаются в один страшный сплав, и я корчусь от боли после каждого дьявольского трюка, ради которого вынужден впускать в себя ад. Просто этого никто не видит. Я самолюбив, как самолюбивы только рабы. Моя кубышка копит в себе монетки проданных душ, иногда я размениваю одну из них, чтобы заполучить две, иногда я ошибаюсь… я мечтаю выйти на волю, я мечтаю исчезнуть, мечтаю начать с дна, стать вошью, слизняком, мхом, кем угодно…
Люди зовут меня дьяволом.
В чем-то они правы.
Но эта женщина… эта чертовка (я улыбаюсь — славный каламбур!), утащившая раскаленную монетку погибшей души из-под самого моего носа, оставив дьявола в дураках!.. о, радость моя, длинноногое сокровище, не лишай Петушиное Перо счастья новой встречи — я не всеведущ и не всесилен, но зато я терпелив и умею отделять овец от козлищ, делая из последних ловчих волков Преисподней… где ты, милая?!
Я иду.
Я ищу тебя!..
Поверь честному дьявольскому слову: при определенных обстоятельствах я даже соглашусь оставить тебе душонку этого наивного карманника, которого я для забавы вынудил повеситься на собственном поясе.
Не веришь?
Спрашиваешь: что это за обстоятельства?!
Никогда не затевайте разговора с цыганками и дьяволами…
Люди зовут меня Нечистым.
Я зову их людьми.
КНИГА ВТОРАЯ. ТУМАНЫ СТАРОГО ПОГОСТА
4
Ночь недоверчиво пробовала на зуб золотой кругляш луны — и надгрызенный диск фальшивым талером покатился к горизонту, где и завис щербиной вверх. Фиолетовые тени угрюмо бродили меж стволами, словно пытаясь понять, кто же они на самом деле: безобидные сочетания света и тьмы — или только тьмы, тьмы, тьмы…
— Мы-ы-ы!.. — насмешливо отзывался ветер, разрывая призраков в клочья, и, вторя ветру, ухал голодный филин, вглядываясь в ночь сверкающими кошачьими глазами.
Седой волк, сидевший на поросшем заячьей капустой пригорке, поднял морду к небу, хотел было завыть, но передумал и лишь лениво облизнулся, на миг приоткрыв зубастую пасть. Бродяга-ветер, оставив игру с тенями, зябкими пальцами перебрал белесую шерсть, взъерошил снежно-белые пряди на загривке — волк поежился, негромко рыкнув, и ветер поспешил убраться восвояси. Где-то в лесу, неподалеку от мощных стен тынецкого монастыря, протяжно голосила стая, и это была гораздо более интересная забава, чем приставать к теням и седому волку-грубияну.
Волк положил голову на передние лапы и закрыл глаза.
В привычной феерии звуков ночного леса он безошибочно различал отдаленный плеск реки, спотыкающейся на перекатах, и глухой рокот мельничного колеса. Почему в полночь открыты шлюзы на старой мельнице, почему вода хлещет в лоток, заставляя стучать жерновый постав, почему не спит работяга-мельник с измученными подмастерьями — все это мало интересовало зверя.
Он знал — почему.
Он только не знал, почему он сам остался лежать на пригорке, позволив выскочке Рваному возглавить стаю вопреки всем законам волчьего и не только волчьего племени.
Когда седой волк узнал и это — он встал, потянулся всем телом и неторопливо затрусил туда, откуда слышался охотничий вой стаи.
Филин проводил волка равнодушным взглядом и заухал вслед.
Отец-квестарь тынецкого монастыря пребывал в удивлении и растерянности — хотя предпочел бы пребывать в каком-нибудь ином, более привычном для него состоянии. Например, в состоянии голода — ибо накормить столь обильное тело скудными монашескими харчами было зело трудно. Квестарем (то есть бродячим сборщиком милостыни на нужды родной обители) он стал недавно, всего года полтора тому назад, святым отцом — примерно тогда же, и злые языки поговаривали, что как был он заядлым грешником-мирянином, так и остался.
Разве что рясу нацепил и крест на толстое пузо вывесил.
Когда квестарю с утра сообщили, что аббат Ян уезжает отслужить панихиду над своим безвременно ушедшим родителем, и именно он, квестарь Игнатий, избран настоятелем для сопровождения в неблизкие Шафляры… бедный Игнатий окончательно понял: нет в жизни счастья! Ведь еще позавчера он собирался покинуть стены обители и отправиться в мир за подаянием, немалая часть которого шла на прокормление самого Игнатия! Невелик разор — монастырские земли и так давали приличный доход, тынецкие бенедиктинцы не бедствовали, но традиции есть традиции, а значит, у живущих в миру нельзя отнимать возможность щедрой милостыней облегчить себе загробную жизнь. А в квестари испокон веку шли монахи щедрые плотью и веселые нравом. Мало ли суетных радостей у бродячего сборщика милостыни — то корчмарь расщедрится, вспомнив о геенне огненной, то покладистая бабенка на пути встретится, то на свадьбу или там поминки зазовут, то еще что… Ну и ушел бы Игнатий сразу, не пытаясь выманить у скупердяя-келаря приглянувшийся свиной окорок! Теперь езжай себе невесть куда, да еще под неусыпным оком самого аббата Яна, которого квестарь Игнатий изрядно побаивался.
Шутка ли: почти что живой святой!
В смысле — почти что святой, а не почти что живой…
Так что взгромоздившись на козлы и правя аббатским возком, жизнелюбивый квестарь ругал себя за нерасторопность и затылком чувствовал взгляд отца настоятеля. Ох и взгляд! Прямо сидишь как на адовых угольях и все ждешь, когда же ксендз Ян скажет: «Ну что, брат мой во Христе, каяться будем или безвозвратно закоснеем во грехе?!» Собственно, подобных слов квестарь от отца настоятеля никогда не слышал, но взгляд, взгляд… аж затылок холодеет!
Лошади шли ходко, нимало не заботясь печалями несчастного Игнатия, впереди маячили спины того самого бешеного шляхтича, чью беременную жену выкрала шайка какого-то Мардулы, и чернявой женщины, сказавшейся привратнику сестрой настоятеля. В седле новоявленная сестра сидела плотно, не по-женски, и пан Михал — Игнатий наконец вспомнил имя шляхтича — время от времени одобрительно на нее косился, подкручивая вислый ус. По обочине, между возком и верховыми, бодро бежал здоровенный одноухий пес, которого квестарь Игнатий перед отъездом попытался было погладить и понял, что это не собака, а черт в шкуре. Самым последним, отстав от возка и понурив голову, ехал раненый гайдук пана Михала. Колено его распухло, ходить пешком он мог только ковыляя, но упрямству гайдука не было предела — вернуться в Виснич он наотрез отказался, и по глазам раненого ясно читалось, что поползет он за хозяином своим хоть в Шафляры, хоть на край света, чтобы жизнью или смертью искупить вину, и — мало ли! — при случае зубами перегрызть глотку проклятому Мардуле-разбойнику.
К полудню миновав памятную Марте Жабью Стругу и выехав на дорогу, ведущую к Нижним Татрам, возок аббата был едва не опрокинут — навстречу, подняв тучу пыли, неслась телега, запряженная гнедой кобылкой, обезумевшей от криков и подхлестываний хозяина. Марта и Михал, рванув поводья, брызнули в разные стороны; квестарь Игнатий еле-еле успел принять к краю дороги, разминувшись с телегой на какую-то пядь, кобыла резко свернула в сторону, и телега прочно засела правыми колесами в рыхлом песке обочины.
— Рехнулся?! — конь воеводы Райцежа уже гарцевал у накренившейся телеги, а сам пан Михал, багровея лицом, готов был разорвать на части сумасшедшего возчика. — Смерти ищешь, сучья кость?! Отвечай!
— В обитель… — бормотал свалившийся с телеги старичок, часто-часто кланяясь и всплескивая пергаментными ручками. — Матка бозка, спаси грешного! В обитель спешил, ясновельможный пан, к святым отцам-бенедиктинцам… Сожгут ведь, как есть сожгут, по ветру пеплом пустят!.. Неужто я не понимаю — я все понимаю! Да они ведь не слушают, бугаецкий войт каленым железом судить хочет, а кто ж такую страсть стерпит-то… ах, матка бозка, спаси-помилуй!..
Марта узнала старика. Это был тот самый мельник, что подвозил ее до колодца.
— Кого сожгут, дедушка? — спросила она, спешиваясь. — Да погоди ты, Михал, тебе б только рубить… Зачем в обитель спешишь, мельник? В твои-то годы попусту телеги по дорогам вскачь не гоняют…
Прозрачный, как весеннее небо, взгляд старика стал более-менее осмысленным, сам мельник задышал ровнее и ухватился за край телеги — видно, ноги отказались держать изношенное тело.
— А-а, дочка… Бог тебя послал, не иначе! Братана моего жгут, младшенького, говорят — колдун, нечистику продался… Может, слыхала? — Стах, тоже мукомол, как я! Бугаецкий войт с сухосадским столковались, народишко подбили, а народишко у нас добра не помнит, ему что мельник, то и колдун! Семь десятков лет на одном месте — и все ладно, а на семьдесят первом загомонили: и коровы в Бугайцах плохо доятся, и девка малая прошлый год на речке около мельницы утопла, а тело не нашли, и волки обнаглели, среди бела дня скотину таскают, вчера опять же змея в небе видели, кружил на закате над мельницей… не иначе, Харнась-бездельник и видел, когда из корчмы домой полз! Дочка, родная, ты конная — скачи в обитель, умоли кого из святых отцов в Бугайцы ехать! Пусть святым судом судят, праведники, пусть не дадут пропасть невинной душе…
Выбравшись из возка, аббат Ян подошел к взволнованному мельнику. Старик подслеповато сощурился, потом, признав тынецкого настоятеля, пал тому в ноги и в третий раз принялся пересказывать трагическую историю своего брата, обвиненного в колдовстве и связи с Сатаной. Короткими и точными вопросами аббат не давал мельнику уходить в сторону от главных событий — иначе пришлось бы выслушать все жизнеописание Бугайцев от гулящей бабки нынешнего войта до вечно пьяного Харнася-бездельника — и наконец повернулся к Марте и Михалу.
— Это тебе не Вена, — развел он руками, глядя на закусившую губу Марту. — Забыла, небось, как оно в наших-то местах? Вижу, забыла… Михал, вы езжайте лесом, напрямик, там дорога торная, не то что верхом — на карете шестерней проехать можно. А я в эти Бугайцы заверну… спалят ведь деда и не перекрестятся!
— Спалят, — личико мельника сморщилось, как печеное яблоко, и из глаз потекли редкие старческие слезы, — ой, спалят…
— Так, может, вместе поедем? — заикнулся было воевода Райцеж, но аббат Ян отрицательно покачал головой.
— Не надо, Михалек. Ни к чему. Я — священник, меня они послушают, а ты у нас горячий, явишься в Бугайцы с гайдуком да Мартой, влезешь поперек, станешь палашом махать, а мужики в топоры… Здесь не Вена, но и не твой Виснич, где холопы спину выпрямлять разучились! Опять же, если ты нужен Мардуле-разбойнику — в здешних селах эхо гулкое, завтра же Мардуле донесут, где ты да что ты!.. Короче, езжайте лесом, к вечеру доберетесь до корчмы Габершляга — там и заночуете. Ждите меня в корчме до завтрашнего полудня. Думаю, успею… ну что, брат Игнатий — in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti![7]
— Amen,[8] — поспешно отозвался квестарь, спрыгивая на землю.
…Когда тележные колеса совместными усилиями Михала и квестаря Игнатия были извлечены из песка, ободренный присутствием аббата Яна мельник взгромоздился на передок, причмокнул на кобылу — и телега ни шатко ни валко покатилась в обратном направлении.
Следом за ней ехал возок настоятеля тынецкого монастыря, аббата Яна Ивонича.
Марта и Михал переглянулись и свернули в лес. Дорога к корчме Габершляга была воеводе Райцежу неплохо известна, беспокоиться за Яна пан Михал не видел особых причин — тронуть духовную особу, да еще столь славную в здешних местах, не осмелился бы никто — но Михал то и дело ловил себя на том, что оборачивается и пристально вглядывается в чащу по обе стороны дороги, словно надеясь что-то высмотреть в путанице стволов и кустарника.
Что-то очень важное.
Одноухий Джош, сам того не замечая, жался к всадникам и нервно нюхал воздух.
Пахло бедой.
Телега мельника ехала теперь впереди аббатского возка, как и положено телеге — неторопливо, со скрипом переваливаясь на ухабах с боку на бок. Узкая дорога, как-то незаметно свернувшая в лес и напрочь заблудившаяся в нем, петляла, раздваивалась, растраивалась, несколько раз мельник сворачивал то вправо, то влево, и квестарь Игнатий вскоре с тревогой обнаружил, что не помнит пути назад. А значит, случись что с дедом — плутать им с отцом-настоятелем по окрестным чащобам если не до скончания века, то уж пару дней наверняка!
Разумеется, ничего страшного тут не было: вот доползут они до этих самых треклятых Бугайцев, разберется отец Ян, что там натворил брат мельника (небось, такой же вредный старый хрыч; и пусть бы жгли — наверняка есть за что!), а от Бугайцев войт или еще кто укажет, куда ехать…
Так-то оно так, но на душе у квестаря все равно скребли кошки. Тем паче, что в своих странствиях исходил он не только окрестности Тыньца, но и все Ополье с Косцельцом вдоль и поперек, а посему незнакомая дорога была для него чем-то странным и подозрительным, вроде целомудренной вдовушки. И когда впереди вместо ожидаемых Бугайцев показалась совершенно незнакомая мельница с прилепившимися к ней ветхими сараюшками, амбарами и еще какими-то строениями, квестарь Игнатий не выдержал.
— Эй, мельник, а где ж твои Бугайцы? Куда это ты нас затащил, борода?
Аббат Ян неодобрительно покосился на своего возничего, но промолчал.
— На мельницу мою, — нимало не смутившись, обернулся старик и расплылся в детской улыбочке. — Дорога-то на Бугайцы аккурат через мою мельницу и бежит. А если ты, святой отец, здешние тропки лучше меня знаешь — езжай вперед и веди, аки пастырь…
Брат Игнатий не нашелся, что ответить, — но когда старик, доехав до своей хаты, прятавшейся позади мельницы, остановил телегу, напрочь перегородив ею дорогу, подозрения квестаря проснулись с новой силой. Однако задать вполне законный вопрос обнаглевшему мельнику ему не дал аббат Ян.
Отец-настоятель на удивление резво соскочил с возка и в два шага оказался рядом с дедом.
— Что все это значит, старик? — жестко спросил он. — Или ты обмануть меня решил? Где твой брат, где Бугайцы?
— Не только решил, но и обманул, отец мой, — не моргнув глазом, признался мельник. — Бугайцы, понятное дело, на месте, где им и положено, а брат мой помер от лихоманки еще позапрошлой зимой, так что палить его нет никакой надобности.
— Ах ты!.. — задохнулся от негодования брат Игнатий, но ругаться срамными словами в присутствии аббата не решился. — Да ты хоть понимаешь, с кем говоришь? Святого отца обмануть, — и меня тоже, между прочим, человека Божьего! — да тебе Господь такое вовек не простит! Гореть тебе в аду, пень старый, раскаленные сковородки языком брехливым лизать…
— Угомонись, брат Игнатий, — отец Ян произнес это негромко, но так, что толстый квестарь поперхнулся и мигом умолк.
— Может, и так, — согласился тем временем мельник, почесывая клочковатую седую бороденку, — может, и гореть мне в огне адовом… на все воля Божья.
— О том не тебе судить, — оборвал словоохотливого старика аббат Ян, — и даже не мне. А теперь говори: зачем я тебе нужен? Раз обманом привел меня сюда — значит, есть повод. Говори!
— Значит, есть, — охотно подтвердил мельник. — Стахом меня зовут, святой отец. Стах Топор, из Гаркловских Топоров. Слыхали аль нет?
— Точно, что Топор, — проворчал с возка брат Игнатий, но ни аббат, ни мельник не обратили на него внимания.
— А разговор у нас долгий будет — так что давайте-ка лучше, святой отец, в хату пойдем, на лавку сядем, а квестарь ваш пускай покамест лошадей распряжет.
— Нет у меня времени, мельник Стах, с тобой на лавках рассиживаться! — отрезал аббат, и квестарь согласно закивал с возка, всем своим видом показывая, что полностью поддерживает отца-настоятеля. — Разворачивай, брат Игнатий, поехали отсюда!
Брат Игнатий с превеликой охотой принялся выполнять указание аббата, и хотя развернуться на узкой дороге было не так-то просто, в конце концов это ему удалось.
— Нету, так нету, — как-то уж слишком легко согласился старый Топор. — Езжайте, святой отец. У меня-то времени много…
И, не оглядываясь, ушел в хату.
Когда, изрядно поплутав по разбегавшимся в разные стороны лесным тропкам, аббатский возок в третий раз вывернул все к той же мельнице — брат Игнатий не выдержал-таки и крепко выругался, и отец-настоятель ничего на это не сказал. Зато сказал квестарь; много чего сказал — а под конец своей длинной и заметно мирской речи обернулся к аббату и, понизив голос, заключил:
— Колдовство это, отец-настоятель, как есть колдовство! И мельник этот — колдун проклятый, душу Нечистому продал! Вот и водит нас теперь, как окуня на крючке!
— Колдовство, говоришь? — спокойно переспросил аббат. — Ну что ж, может, и так…
Покинув возок и воздев перед собой правую руку, в которой оказалось небольшое распятие из полированного дерева, отец Ян неторопливо направился к хате, читая на ходу молитву.
Дверь отворилась, и появившийся на пороге Стах Топор стал с любопытством следить за действиями аббата.
— Аминь, — ухмыльнулся он, когда отец Ян дочитал молитву и подошел к нему почти вплотную. — Не поможет, отец мой. Крещеный я, — и старик широко, чтоб видели и аббат, и квестарь, перекрестился; а после распахнул ворот рубахи, выпячивая впалую грудь и медный крест на почерневшем от времени кожаном гайтане. — Мы, Гаркловские Топоры, не купленные-проданные, а потомственные, от нас к врагу рода человеческого ниточка не тянется. Так что извини, святой отец, ежели что не так. Пошли лучше в хату — говорить станем.
— Не о чем святому человеку с таким лиходеем, как ты, толковать! — не удержался осмелевший с перепугу брат Игнатий. Проявив неожиданное проворство, он вдруг оказался рядом с аббатом и мельником, и в руках квестаря обнаружилась увесистая сучковатая дубинка, коей в своих странствиях по миру он не раз отмахивался от собак и лихих людей, особенно от требующих платы корчмарей. — Ежели тебя молитвой не проймешь, то вот это — в самый раз будет!
Но тут из-за венца хаты лениво выбрались три здоровенных парня с одинаковыми скучающими физиономиями — то ли работнички, то ли подмастерья, а, может, и сыновья Стаха Топора — и вразвалочку направились к оторопевшему квестарю.
— Выпряги лошадь, брат Игнатий, — тронул квестаря за плечо аббат Ян и некоторое время разглядывал остановившихся парней. После тяжело вздохнул, поднялся по заскрипевшим ступеням и прошел в хату мимо посторонившегося мельника.
Внутри оказалось неожиданно просторно; чисто выметенный пол, посреди горницы — крепкий дубовый стол с лавками по бокам, несколько корявых табуретов; привычной божницы в красном углу настоятель не обнаружил, зато связок трав и кореньев по стенам висело преизрядно.
Окинув взглядом горницу, аббат Ян подошел к столу и опустился на лавку. Старик подумал-подумал, пожевал впалым ртом и устроился напротив.
— Ну, говори, Стах Топор, зачем, Бога не побоявшись, тынецкого настоятеля морочить решился — грех-то немалый, понимать должен! Итак?
— О грехах моих, да и о ваших, святой отец, после потолкуем, если нужда будет. А зазвал вас сюда, потому как помощь мне ваша занадобилась.
— Это какая же? — недобро усмехнулся аббат Ян. — В ворожбе пособить?
— С ворожбой я уж как-нибудь и сам справлюсь. А вот с Нечистым спорить, лбами друг о дружку стукаться… Небось, получше моего знаете: грешен человек, а я вдвойне грешен, не мне Лукавому дорогу заступать. Вот вам, святой отец, такие дела — в самый раз.
— С Нечистым спорить? — удивленно переспросил настоятель. — Я-то думал, ты с ним на короткой ноге! Или не поделили чего?
— Не поделили, — кивнул мельник, не вдаваясь в подробности.
— И теперь у Господа нашего защиты искать хочешь? Почему ж тогда добром не попросил? — дескать, каюсь, отрекаюсь, и все такое?!
— Можно и добром, — ухмыльнулся Топор. — Свезли б меня после такой просьбы в Вильно, а там дознаватели смышленые, мигом к пяткам каленые пруты приложили бы… Нет уж, святой отец, лучше я вас без видоков длинноязыких просить стану!
— Ну а если я не соглашусь, без видоков-то? Что тогда?
— Согласитесь, святой отец, — тихо, но уверенно бросил Топор. — Разве не обязан служитель святой церкви противостоять дьяволу и разрушать козни его во славу Господа?
— Обязан. Но отнюдь не обязан защищать обманщика-ворожея, который якшается с Нечистым!
— Может быть, святой отец, вам виднее. Только если погибель грозит не обманщику-ворожею, кому и так до могилы рукой подать, а невинной душе, которой дьявол домогается? Особенно если душа эта — сестра ваша, святой отец? Не сестра во Христе, а такая, какие у нас всех, грешных, водятся! Привратник-то ваш пустозвон, раззвонил по всей округе чище колокола: к аббату Яну сестра приехала!
— Марта?! — вскинулся Ян. — Что с ней?
— Пока ничего. Не считая, что слуги того, кого лишний раз поминать не стоит, за ней охотятся. И очень даже может статься, что сестра ваша скоро здесь окажется.
— Ты… — бледное лицо аббата начало наливаться краской не подобающего святому отцу гнева. — Ты и ее заманить сюда решил?!
— Решил — не решил, а чую, что не миновать ей мельницы старого Стаха Топора. Вот тут-то Петушиное Перо за ней и явится. Кому ж, как не святому отцу и вдобавок родному брату, ее от Нечистого оградить?
Аббат Ян долго молчал, и багровые пятна понемногу сходили с его лица.
— Тебе это дорого обойдется, старик, — произнес он наконец. — Адскими котлами стращать не стану, но и на этом свете прощения не жди.
— Не жду, — кивнул мельник. — И раньше не ждал, святой отец, и сейчас не стану. Только прежде чем надумаете сюда стражу да монахов гнать, чтоб на костер меня отправить, вспомните сначала, как сами-то в Казимеже[9] к блудным девкам шастали да кутили в мирском платье по кабакам. Помните? И я помню. Так что крепко подумайте, прежде чем карать меня, грешного. У меня и свидетели найдутся…
Аббат Ян не отвечал, потупившись.
— Сдается мне, мы поладили, святой отец. Вы делаете свое дело, угодное Господу, и если все кончится миром — едете отсюда вместе с сестрой подобру-поздорову. Никому от того зла не сотворится, а обо мне лучше забудьте — человек вы почти что святой (старик ехидно подмигнул), вам скоро епископский сан принимать, значит, ни к чему прошлое ворошить, грешки всякие наружу вытаскивать… Ну а если что не так выйдет — тогда и карать вам некого будет. А, может, и некому, — добавил мельник совсем тихо.
Неожиданно аббат перегнулся через стол и крепко ухватил за запястье растерявшегося на миг мельника. Старый Топор ощутил странный трепет, волной пробежавший по его изношенному телу, глаза сами собой стали моргать и слезиться, словно к самому носу поднесли резаную луковицу — и колдун Стах поспешил отдернуть руку, машинально бормоча заговор от порчи и сглаза. Он не понял, что сейчас произошло, но все же нутром почуял, что сидящий напротив него человек в коричневой дорожной сутане далеко не прост, а в том, что случилось, святостью и не пахло.
Впервые Стах подумал, что играет с огнем — да не с тем, который сам и разжигал.
— Вовремя ты стражу кликнул, дед, — аббат в упор глядел на старика, растягивая тонкие губы в гримасу, так же похожую на улыбку, как веревка походит на гадюку. — Теперь я не сомневаюсь: я действительно нужен тебе. Ты надеешься, что я смогу оградить свою сестру — и тебя самого! — от дьявола, если он явится за ней; а он явится, тут я тебе тоже верю. Но главного ты не сказал мне, а сам я не успел дотянуться… Зачем ты все это затеял? Чего хочешь ТЫ, и какова будет плата?! Говори!
— Это мое дело, святой отец, — приходя в себя, ответил мельник, так и не сообразив, о какой-такой страже говорил удивительный монах. — Ты будешь защищать свою сестру, и я помогу тебе в этом, чем сумею. А остальное — как любите говорить вы, служители церкви, — остальное в руках Господних.
Яносик из Шафляр, приемный сын покойного Самуила-бацы, пристально смотрел на старого Стаха из Гаркловских Топоров.
…Распрягавший лошадь брат Игнатий уже давно приметил большого, серого с сильной проседью пса, крутившегося у двери, за которой скрылись аббат с мельником. Потом пес совсем по-человечески припал ухом к двери и застыл в напряженной позе.
«Подслушивает! — оторопел квестарь, но подойти и шугануть зубастую тварюку все же побоялся. — Вот уж угораздило, спаси Господи и сохрани! Возле самого монастыря — и в такой оборот!»
В этот момент пес, видимо, услышав все, что хотел, повернулся и в упор посмотрел на брата Игнатия. Только тогда до квестаря наконец дошло, что никакой это не пес, а матерый седой волчина.
Зверь оскалился и исчез за углом.
Ехали молча, с непонятной опаской, стараясь держаться поближе друг к другу. Глухо стучали копыта по сумрачной глинистой дороге, на которую лишь в полдень, и то ненадолго, ложились веселые солнечные пятна; а сейчас — какой там полдень! — день клонился к вечеру, и хорошо было бы успеть добраться до корчмы Габершляга, прежде чем наступит полная темнота.
Лошади тоже что-то чуяли, шли тихо и настороженно, даже не фыркали, как обычно.
— Полпути проехали, — бросил через некоторое время хмурый Михал. — Даст Бог, ночевать будем под…
Закончить он не успел.
Стремительно и неотвратимо выметнулись из чащи по обеим сторонам дороги серые тени. Кинулись без воя, без рычания, молча, по-змеиному стелясь над самой землей, словно сам лес долго выжидал, примеривался — чтоб наверняка — и наконец решился, бросив верных серых пахолков[10] на незваных гостей и хлестнув стаю для острастки заранее припасенной плетью.
Мир качнулся, оскалив слюнявую пасть, вздыбив жесткую шерсть на загривке, дорога испуганно выгнулась, уходя вбок и вверх, истошное ржание на миг оглушило — и вот уже Марта лежит на земле, неловко подвернув придавленную конской тушей ногу, а совсем рядом с лицом женщины растекается темно-багровая, почти черная в сгущающихся сумерках лужа, и матерый зверь в упоении рвет горло агонизирующей лошади.
Позади сразу трое волков остервенело грызли что-то кричащее, дергающееся, плюющее багровым — гайдук Михала даже не успел схватиться за оружие; хриплое рычание сливалось с оглушительным треском кустов на правой обочине — каким-то шестым чувством Марта поняла, что это Джош сцепился в кустарнике с одним из лесных убийц; а сам воевода Райцеж возле старого вяза…
Оставив растерзанное конское горло, зверь всем телом повернулся к женщине, сухо щелкнули окровавленные клыки — Марта вскрикнула, отчаянным рывком высвободив хрустнувшую ногу, и бросилась в лес, напрямик, куда глаза глядят. Животный страх гнал ее вперед, заставляя бежать, не разбирая дороги, забыв о Михале и Молчальнике, не замечая дергающей боли в подвернутой ступне, чувствуя, что сердце прыгает уже не в груди, а где-то в горле, не в силах остановиться, выигрывая у смерти рваные мгновения страха, бешеного бега, тяжелого дыхания — мгновения жизни!
Серые тени мелькали то справа, то слева, но почему-то не догоняли, и будь Марта не так испугана, она бы поняла, что ее куда-то направляют, ведут, как умелый пастуший пес ведет отбившуюся от стада овцу, потому что если бы хотели загрызть, то уже давно бы это сделали…
Земля внезапно ушла из-под ног, и женщина скатилась куда-то вниз, спиной проехав по глинистому склону, выпятившему наружу мокрые шишковатые корни; вот сейчас волчьи клыки сомкнутся на трепещущем горле, жизнь захлебнется кровью, отверзнутся врата Преисподней, и пред Мартой появится сам Великий Здрайца!..
Тишина.
Липкая, пугающая, невозможная…
Тишина.
Марта лежала, почти лишившись чувств, но ничего не происходило, и женщина начала понемногу приходить в себя; осторожно открыла глаза, села, огляделась… Она находилась на дне глубокого лесного оврага; рядом журчал тоненький ручеек, прихотливой змейкой убегая прочь, и возле перепачканной ладони Марты обиженно покачивались несколько распрямляющихся травинок.
Марта с трудом поднялась на ноги и невольно ойкнула — лодыжку пронзила резкая боль.
«А где же волки?» — запоздало спохватилась женщина.
Оказалось, что волки никуда не делись. Три темных силуэта маячили на краю оврага и уходить явно не собирались. Впрочем, спускаться в негостеприимный овраг волки тоже не спешили.
«Склоны скользкие, крутые — боятся обратно не выбраться», — решила женщина.
Надо было что-то делать, куда-то идти, но где находится дорога, Марта не знала, а хоть бы и знала — далеко ли уйдешь по таким кручам, да еще с подвернутой ногой и серым «эскортом» наверху?
Но стоять на месте и ждать, как говаривал батька Самуил, «от Бога дулю», тоже было глупо. Марта с трудом сделала несколько шагов и подобрала валявшуюся на земле рогульчатую палку. Теперь, опираясь на импровизированный костыль, двигаться стало не так больно; да и от волков, в случае чего… Марта не строила иллюзий насчет своих способностей «в случае чего», но вес палки в руках сразу придал ей толику уверенности. «Если до сих пор не загрызли, может, и дальше обойдется», — подумалось ей.
И женщина заковыляла по дну оврага, вниз по течению ручья — наугад, просто потому что идти под уклон было легче.
Она не успела дойти даже до ближайшего поворота.
Неотступно следовавшие за ней по краю оврага серые силуэты вдруг разом исчезли, словно их сдуло порывом сырого промозглого ветра, на мгновенье в лесу повисла напряженная тишина — и тут же ее располосовал надвое яростный рык, шум борьбы, треск ломающихся веток… ревущий темный клубок кубарем скатился в овраг в нескольких шагах от Марты и заметался, вспенивая воду, брызжа пригоршнями грязи, сплетая в смертельном объятии гибкие поджарые тела. Марте даже сгоряча показалось, что один из двух дерущихся волков и не серый вовсе, а почти белый…
Седой — пришло на ум.
«Они что, меня не поделили?» — оторопело подумала женщина, поудобнее перехватывая свою палку и перенося вес тела на здоровую ногу. Один удар у нее будет — остальные волки, похоже, дали деру, когда их вожак и этот седой пришелец стали выяснять свои отношения, сцепившись не на жизнь, а на смерть; значит, если успеть добить того, что выживет…
Рычание неожиданно перешло в булькающий хрип, клубок тел в последний раз дернулся и распался. Седой волк поднялся, брезгливо отряхнулся и бросил торжествующий взгляд на своего мертвого противника.
Марта занесла над головой палку.
И в этот самый момент в овраг свалился еще кто-то, тут же вскочив на все четыре лапы и бросившись на чуть замешкавшегося седого волка.
Единственное ухо нежданного защитника напряженно стояло торчком, словно понимая, что скоро его обладатель может остаться и вовсе без ушей.
— Джош! — выдохнула Марта и сразу поняла, что ее дубина сейчас бесполезна. Перед ней снова катался бешено рычащий ком, и оставалось только с замиранием сердца ждать исхода, кусая губы от бессилия.
Этот поединок закончился гораздо быстрее, чем первый. Не прошло и минуты, как Марта увидела прижатого к земле Джоша и седого волка, в буквальном смысле взявшего за горло ее неудачливого возлюбленного. Волк медлил сжимать страшные клыки, ворча и испытующе косясь на Марту, на занесенную над головой женщины палку; потом зверь осторожно отпустил горло Джоша и неспешно отошел назад.
Волк не должен, просто не может вести себя так! — это Марта понимала, но не верить своим глазам она тоже не могла. Седой волк, только что без сожаления загрызший вожака напавшей на них стаи, пощадил собаку! И, судя по его поведению, отнюдь не собирался нападать на нее, Марту.
Джошу удалось подняться только с третьей попытки. Пошатываясь, он доковылял до Марты и без сил повалился в грязь рядом с ней, опасливо глядя на рассматривавшего их седого волка.
— Он нас не тронет, — выдавила Марта. — Он… защищал меня… как и ты.
Марте показалось, что седой волк едва заметно кивнул и усмешливо оскалился, но, скорее всего, это ей только померещилось.
В следующее мгновение зверь повернулся и одним длинным прыжком исчез в сумерках.
Джош проводил его недоуменным взглядом и протяжно заскулил.
— Дорога далеко? — спросила женщина.
Пес утвердительно кивнул и неуклюже махнул лапой в сторону склона, с которого недавно скатились седой волк и он. Видимо, в том направлении и находилась оставленная ими дорога.
— Не дойду, — пожаловалась Марта лохматому Молчальнику. — Нога у меня… Поищи-ка лучше место, где бы нам ночь пересидеть — по светлому, авось, выберемся!..
Джош снова кивнул и неуверенной трусцой побежал вдоль журчащего ручья по дну оврага. Опираясь на палку, Марта медленно побрела следом.
Они шли около получаса. Под ногами хлюпало, чавкало, Марта оскальзывалась на размокшей глине, а потом овраг резко свернул вправо — и, выйдя из-за поворота, женщина и собака сразу увидели огонь.
В этом месте из оврага имелся довольно пологий выход, — правда, поперек него валялся полусгнивший трухлявый ствол — и в тридцати шагах за ним, совсем недалеко, горел чей-то костер.
…пламя настойчиво облизывало редкие сырые ветки, и те трещали от удовольствия, истекая густым сизым дымом. Смолистый аромат пропитывал все вокруг, на одинокой поляне света и тепла, невесть как образовавшейся в ночном лесу, царил тихий уют — и Марте, что стояла, привалившись к шершавой коре бука-великана на самой границе высвеченного круга, все это показалось ужасно смешным. Она даже чуть было не расхохоталась, и упавший рядом Джош перестал зализывать раны и озабоченно глянул на женщину.
Посудите сами — после всего, что произошло, после задранных лошадей и убитого гайдука, после хрипа, рычания и сумасшедшей погони по дну оврага, после руки Костлявой на самом плече и оскаленной пасти Седого на горле Джоша… после всего этого стоять, стараясь не наступать на распухшую ногу, и думать: опасен человек у костра или нет?
И жалеть, что надорвавшись в схватке с Великим Здрайцей, ты не можешь забраться в карманы чужой души без прикосновения к телу хозяина.
Хотя и раньше-то знала: крепко не тронешь — много не вынесешь…
— Иди сюда, — не оборачиваясь, бросил человек.
Еще стоя у бука, Марте показался знакомым его силуэт: широченные плечи, плотное, крепко сбитое туловище, косматая нечесаная голова; а когда она послушно подошла сбоку и увидела зеленые огоньки, на миг вспыхнувшие в глубоко посаженных глазках при виде ковыляющего Молчальника — сомнениям не осталось места.
— Доброй ночи, сын мельника, — тихо сказала Марта, неуклюже садясь у костра и протягивая к огню руки; и, помолчав, добавила:
— Доброй ночи, Седой…
Низкорослый сын мельника взлохматил пятерней копну своих русых волос, и в отблесках костра сразу стало заметно то, что днем прятал слишком яркий солнечный свет: серебряные нити, пронизывающие гущу прядей.
— Дай сюда… ногу, говорю, дай! Не трясись, не укушу…
Ознобно вздрогнув от последних слов, Марта вытянула вперед ногу — и сильные корявые пальцы плотно обхватили щиколотку. Женщина охнула, валявшийся неподалеку Молчальник встревоженно поднял голову, но боль почти сразу отпустила, быстрые прикосновения разгоняли опухоль в разные стороны, расслабившейся Марте внезапно захотелось спать… но в эту самую минуту сын мельника прекратил разминать пострадавшую ногу, и заметно ослабевшая боль все-таки вернулась.
— Денька три прохромаешь, — успокаивающе буркнул Седой, с хрустом разминая пальцы и несколько раз встряхивая своими лапищами, словно сбрасывая капли воды. — Цело все…
— Зачем ты это делаешь? — слова вырвались сами, непроизвольно.
— Что?
«А действительно, что? — подумала Марта. — Зачем спас от волков? Зачем отпустил Джоша? Зачем разжег костер?»
— Дура ты, баба, — Седой подкинул охапку дров в огонь и задумчиво уставился перед собой. — Ох и дура… Тебе радоваться надо, плакать от счастья, а ты с вопросами лезешь! Не один тебе, что ли, хрен, почему жива осталась?! Доживешь до утра — удача, до корчмы Габершляговой доберешься — радость, вовсе из наших краев исчезнешь — до конца дней праздника хватит… У ночного костра правды не ищут, у него спят или сказки до утра сказывают! Поняла?
Марта ничего не поняла. Меньше всего ей хотелось сейчас рассказывать или слушать сказки. А сын мельника, похоже, не шутил: он прижмурил свои зеленые глаза, откашлялся, словно пробуя голос…
— Жил-был в здешних местах мельник, — глухо сказал Седой.
Жил-был в здешних местах мельник, из потомственных мукомолов. Стахом звался, Стахом Топором. Присловье в их семье гуляло: «У нас что ни Топор, то топор!» Мельница у них была старая, еще прадедовская, но работящая — народ отовсюду валом валил. Кто зерно вез, кто за мучицей, а кто и так, — с Гаркловскими Топорами нужным словом перекинуться. Знали люди: дождя второй месяц нет, корова отелиться не может, муж или там не муж любить не хочет, на сторону косится, дите неразумное гнилым грибом объелось — иди на мельницу. Да не так просто иди, а с поклоном, с горшком топленого маслица, с козлячьей спинкой копченой, с монеткой серебряной… хмыкнет старший Топор в бороду, почешет в затылке и уйдет молча в клеть. Тогда жди: кивнет Топор вернувшись — твое счастье, начнет лоб морщить да отмалчиваться — иди домой, жди от судьбы кукиша!
Однажды мужики в Сухих Садах ведьму палили да сгоряча и на мельницу заявились. Гори, колдовское гнездо! Так Топоры в топоры, подмастерья в жерди, а там сухосадцы смотрят: из трех окрестных сел толпа валом валит. Кто с чем, и все по голове норовят. Своих, мол, палите, сколько влезет, а наших не трожь! Сухосадцы уж и бродячего монаха вперед выдвинули, тот крестным знамением на мельницу, а старший Топор шире монашьего крестится и ржет как мерин: благослови, отче, ибо грешен я! Пожал монах плечами — а кто не грешен, сын мой?! — и дал деру от греха подальше.
Тем дело и кончилось.
Шло время, ложились Топоры в землю родного погоста, что неподалеку от их мельницы был, и остался мельник Стах старшим. Все как у людей: жена, трое девок-помощниц, хлопец тринадцати лет подрастает, наследник, значит, опять же хозяйство!.. вдобавок то масла принесут, то меду, то еще чего, а Стах Топор уйдет в клеть, посидит там, потом вернется — кивать или отмалчиваться…
Ну, да об этом уже говорено!
Охотился как-то в местных лесах князь Лентовский, старший брат нынешнего старого князя. Давно это случилось, три с лишним десятка лет минуло, в те поры князюшка лихой был, ядреный, слова поперек не скажи… Подняли егеря медведя, зверь на князя, князь на зверя, всадил в мохнатую грудь рогатину, налег — а древко возьми да и сломайся! Как хворостиночка. Подмял матерый мишка Лентовского, и быть уже беде, так тут мельникова жена неподалеку грибы собирала. Видит: живая душа без покаяния погибает; схватила горсть земли, подолом крест-накрест обмахнула, рыкнула по-медвежьи и зверю в глаза кинула. Скатился косолапый с князя и в лес! Ровно черти за ним гнались. Встал князь с земли, утерся — а Стахова женка отроду смешливая была, не удержалась и прыснула, на мятую княжескую рожу глядя! Стерпел Лентовский — егеря аж бровями повели — и говорит:
— Во сколько жизнь мою ценишь, хлопка?[11] Говори, не стесняйся — мы, Лентовские, караем страшно, но и награждаем щедро!
— Пусть хлопы жизнь человеческую в грошах оценивают, — отвечает жена мельника Стаха. — А мне, вольной, и того достаточно, что все живы: и я, и ты, и хозяин лесной, под которым ты, ровно баба под мужиком, стонал да бока пролеживал…
Что взять с глупой… язык помелом!
Во второй раз смолчал князь, лишь усы встопорщил и спросил:
— Так может, ляжешь под меня, вольная? Я под медведя, ты под князя, и все живы: и князь, и ты, и княжеский байстрюк в твоем чреве! Что скажешь?
И за грудь мельникову жену ухватил пятерней.
Ох, и звонкая же оплеуха вышла! Лес луной пошел, егеря за головы схватились, а Лентовский смеяться стал.
Долго смеялся, по-княжески, а потом отдал жену мельника егерям на забаву. Сам смотрел, как ловчие тешились, трубку курил, затем постоял над растерзанной женщиной и приказал егерям бабе руки рубить. Правую, что князя била, по локоть; левую, не такую виноватую — только пальцы. Не посмели егеря ослушаться, сделали бабу безрукой, прижгли факелом раны, а Лентовский самолично ей на шею кошель с большими деньжищами привесил и велел с почетом домой проводить.
Проводили.
С почетом.
Неделю после того мельница мертвой стояла, подмастерья да младшие Топоры в корчме Ицка Габершляга сиднем сидели, горькую пили — домой идти боялись. Выл мельник Стах над женой диким воем, с того света вытаскивал — вытащил. Только что с того?! Деньгами проклятыми расколотой жизни не склеить, рук новых не купить, а до князя Топору ни топором не дотянуться, ни словом достать. Не боится Лентовский ни Бога, ни черта — на таких порчу наслать никак невозможно, а сухим деревом в лесу придавить, так для этого рядом быть надо, чтоб видеть-слышать… куда мельнику за князем по лесам гоняться?!
На тринадцатую ночь, как серпик молодого месяца верхушки сосен жать принялся, подкатил к мельнице тарантас. Спрыгнул с облучка худой возница в богатом камзоле, какие не носит окрестная шляхта, и в зеленом берете с петушиным пером. Не пускал раньше мельник Стах гостей на ночь глядя, да еще незнакомых — а этого пустил. До утра толковали. А за час перед рассветом вышел Петушиное Перо с мельницы, к тарантасу своему направился.
— Не сошлись мы с тобой, — сказал вслед незваному гостю мельник Стах.
— Сам знаешь: я не купленный-проданный, я потомственный Топор, и даже ради мести… нет, не сошлись.
Ушел Стах обратно, дверью хлопнул, а Петушиное Перо стоит у тарантаса, не уезжает, ровно ждет чего.
И дождался.
Сын мельника, тринадцатилетний Топоришко, из-за угла вьюном вывернулся и рукой гостю машет: сюда иди, мол! Стали оба у подклети, слово за слово… молодое дело горячее, вот уже и ножик по руке полоснул, и перо гусиное в крови искупалось, чертит по желтому пергаменту, торопится!..
Опоздал ты, мельник Стах!
Поздно выбежал.
Засеребрились нити в русых волосах сына твоего, змеями поползли в разные стороны, а тарантаса уже и след простыл.
Бей дурня, не бей, кричи, не кричи — не поможет.
Сам парень судьбу себе выбрал.
Ровно через полгода плач стоял в родовом маетке Лентовских, а тот князь, что сейчас в старых князьях ходит, во время панихиды тайком ус довольно подкручивал: не было счастья, так несчастье помогло! С последней охоты, с зимней веселой травли, привезли егеря труп старшего брата в розвальнях. Сказывали: волк глотку перервал. Вот ведь что странно — из-под медведя живым выбрался, на вепря-одинца хаживал, рысь-матку брал, а тут волк…
Промолчали егеря, что волк тот седым был.
Новый-то князь злее старого — не вовремя высунешься, пеняй на себя!
А в Гаркловских лесах с тех пор часто видели седого волка — словно мукой обсыпали зверя с головы до ног…
— Ну что, баба, хороша моя сказка? — помолчав, осклабился Седой, и дико было видеть волчью усмешку на человеческом лице.
Сухая хвоя медленно осыпалась в костер, вспыхивая хрупкими огненными паутинками, и тени бродили по поляне, сталкивались, сливались, суматошно всплескивали рукавами, мазнув то по тихому Джошу, то по плечистому сыну мельника, то по женщине…
— Бедный ты, бедный… — Марта так и не поняла, произнесла она это вслух или только подумала.
В любом случае, Седой все понял.
— Не жалей меня, баба, ни к чему! Не приучен я к жалости. Сам судьбу выбирал, сам и отвечу. Мне кровь княжеская, знаешь, какой сладкой показалась?! Как мамкин поцелуй… когда матери мертвых сыновей в лоб целуют. Стоял я над катом-Лентовским, пасть в багрянце, сердце соловьем поет, а сам чувствую: жизнь закончилась. И его, и моя. Дальше уже не жизнь будет. У Петушиного Пера на короткой цепи до самой смерти, а после смерти и того хуже — разве ж это жизнь?! И поверишь — ни на грош жалко не было. Ни тогда, ни после. Даже когда купца волошского рвал, который чем-то Хозяину не угодил; даже когда девчонку-трехлетку из Бугайцев выкрал… Сгорел дурак-Топоришко, один Гаркловский вовкулак остался!
— Кого хочешь обмануть, Седой? — Марта пристально глядела на сына мельника, теребя медный браслет на правой руке — памятку от приемной мамы Баганты, полученную при уходе из Шафляр. — Меня или себя? Говоришь, что сгорел, а сам вон каким огнем пылаешь… не обжечься бы! Меня-то зачем спасал?! По приказу?! Петушиное Перо велел?
Седой долго не отвечал. Смотрел в огонь, морщился, катал желваки на высоких скулах.
— Отец велел, — наконец разлепил он губы. — Только не спасать. Стаю поднять велел, попутчиков твоих в клочья велел, тебя к нему на мельницу загнать велел… хитер отец мой, Стах Топор! Таких отцов поискать! — на тебя у Петушиного Пера душу мою сменять решил! До сих пор себе простить не может, что не успел тогда меня удержать…
— А… Ян? Аббат тынецкий ему-то зачем понадобился?!
— Обманет Петушиное Перо или силой захочет тебя отобрать — священник молитвой да крестом прикроет, оборонит! Говорю ж: хитер мельник Стах! Тебя на меня, как мерку муки на горшок масла, монаха против Нечистого, как частокол против медведя, а сам сбоку притулится да приказы отдавать станет!
Седой ударил кулаком по колену и плюнул в костер.
— Когда на мельницу пойдем? — тихо спросила женщина. — Утром или прямо сейчас?
— Утром. Только не на мельницу, а в Габершлягову корчму. Туда провожу, а дальше сама как знаешь. Беги из наших мест, баба, не будет тебе здесь покоя! Ты теперь, как золотой талер — многим подобрать захочется…
— Почему ж ты мешаешь отцу подобрать? Пускай выкупит мной тебя — тем паче сила за вами, не убегу!
Скуластое лицо Седого окаменело, и лишь зеленые огни ярче засветились в глубоко утопленных глазницах.
Не глаза — окна заброшенной хаты на забытых Богом перепутьях… стерегись, прохожий, бегом беги мимо!
— И в третий раз дура ты, баба. Отец меня смертной любовью любит, его понять можно! А я как услыхал, что нашлась в мире такая женщина, что за душу своего мужика на Сатану поперла и купленный товар из рук его поганых вырвала — веришь, в лес удрал и всю ночь на луну выл! От счастья — что такое бывает; от горя — что не мне досталось!.. Короче, на рассвете бери за холку суженого своего четырехлапого и беги, покуда можешь!
— Откуда? — задохнулась Марта, переводя взгляд с Джоша на Седого. — Откуда ты знаешь?! Петушиное Перо рассказал?!
Сын мельника вдруг с колен метнулся к собаке, падая на четвереньки, и обеими руками вцепился в густую шерсть на горле одноухого, прямо под дернувшейся челюстью.
— Не Перо, — прохрипел он в оскаленную собачью пасть, держа Молчальника мертвой нечеловеческой хваткой, как недавно держал уже один раз. — Сам догадался. Чтобы я, Гаркловский вовкулак, человека под шкурой не учуял?! Эх, баба, баба, что ж мы раньше-то с тобой не встретились?.. смотри, пес — обидишь ее, из ада приду, зубами загрызу…
Марта смотрела на них — Седого и Джоша, двух людей-нелюдей, застывших глаза в глаза — и где-то глубоко в ней самой августовскими падающими звездами вспыхивали и гасли слова Гаркловского вовкулака, продавшего душу за материны руки да за кровь княжескую:
«У Петушиного Пера на короткой цепи до самой смерти, а после смерти и того хуже… и того хуже…»
Силы небесные, от чего же она спасала Молчальника в заброшенной сторожке?!
До того Михал никогда не дрался за жизнь свою с животными — только с людьми.
Когда под ним пала лошадь, он еще не успел ничего понять, но тело его, вышколенное годами жестокого воинского труда, было быстрей и умней любого понимания — лошадь только валилась на бок, клокоча растерзанным горлом, а Михал уже выдернул ногу из стремени и отпрыгнул к приземистому вязу в три обхвата, вжавшись в дерево спиной. Сразу выхватить палаш ему не удалось — волчьи клыки с лету рванули рейтузы на правом бедре, выше голенища сапога, внезапная боль бросилась, ударила, отпустила, испуганно забившись в закуток сознания воеводы; серая тень взлетела перед ним, слишком близко, чтобы пытаться кинуть ей навстречу прямую молнию палаша, и левая рука Райцежа змеей скользнула назад, между вязом и спиной, забираясь под короткую епанчу, туда, где за широким ременным поясом…
Эта испанская дага с граненым клинком в пол-локтя и большой зубчатой чашкой со скобой вдоль рукояти досталась Михалу не в Милане или Толедо — ее подарил воеводе тесть, отец Беаты, старый Казимир Сокаль. Как такое оружие попало к ушедшему на покой рубаке, почему он никогда не носил дагу при себе, храня дома в массивном сундуке под всяким прелым тряпьем — Райцеж не раз задавался этим вопросом, прекрасно зная, что ответа на него не получит. Год после свадьбы отставной воевода Казимир присматривался к зятю, хмыкая при виде его европейского камзола и рейтуз в обтяжку (сам Сокаль носил традиционный кунтуш и шаровары совершенно невероятной ширины, отчего походил на скатившийся с подставки пивной бочонок); год звенел с молодым преемником клинками, не прощая ни одной ошибки и ужасно напоминая при этом Шаранта-Бешеного, учителя шпаги из Тулузы; а на годовщину свадьбы поцеловал дочку в лоб, хлопнул зятя по плечу, заставив Михала покачнуться, и достал из сундука ту самую дагу.
— Тебе по руке будет, — бросил воевода Казимир. — Эх, дурье дело…
И, не сказав больше ничего, отправился к гостям пить горячее пиво со сметаной, до которого был большой охотник.
…острие даги, пронзив волчью шею навылет, стальным побегом проросло из загривка, тяжелая чашка с размаху ударила зверя под челюсть, почти подбросив уже мертвого волка, и через мгновение обмякший труп валялся поверх загрызенной им же лошади, а драгунский палаш Райцежа с лязгом вырвался на свободу.
Удар.
Еще один.
По бедру течет горячая липкая кровь — некогда, нельзя, потом…
Удар.
Марта!.. где Марта?!.. рычание в кустах, пыль столбом, хруст ломающихся веток — молодчина Джош, держись, одноухий!..
Удар.
Наотмашь, одной силой, без хитрости, без ума — не на зверя, не на человека, слепой удар, безнадежный, за такой сам Райцеж нерадивому ученику…
Попал.
Визгливо скуля и подволакивая перебитую лапу, раненый зверь отбегает в сторону, затравленно озирается… исчезает в сосняке…
Где Марта?!
Никакие воровские способности не могли помочь сейчас Михалеку Ивоничу из Шафляр — воровать у животного, даже спокойного и доброжелательно к тебе настроенного, было занятием почти бессмысленным: в отличие от человека, никогда не известно заранее, что тащишь, да и пока донесешь от зверя к себе, все или почти все уйдет между пальцев, как вода из пригоршни… а таскать у зверя злобного, исходящего слюной и яростью, было все равно, что пытаться выдернуть кусок мяса из оскаленной пасти.
Этим зверь мало отличался от человека, полностью погрузившегося в боевое безумие: такой же зверь, убить можно, обокрасть — нельзя.
На миг оторвавшись от спасительного вяза, Михал попытался было прорваться к кустарнику, где, как ему показалось, скрылась убегающая от волков сестра; куда там! — четыре серых тени облепили воеводу с боков, руки мгновенно занемели от удвоенной скорости движений, Михал завертелся волчком, брызжа сталью во все стороны, и, улучив момент, снова прилип спиной к дереву.
Волки кружили около смертельно опасного человека, но близко не подходили.
Одна из них, узкомордая волчица, отбежала в сторонку, припала к телу мертвого гайдука и, урча, принялась лакать еще горячую кровь из разорванной жилы между шеей и плечом. Остановилась, покосилась на остальных и снова заработала языком.
Молодая еще, тощая, — лопатки горбом…
Сперва Михал не сообразил, что произошло. Вроде бы хрустнула ветка, но хрустнула слишком громко, слишком отрывисто, сизое облачко дыма выползло из зарослей карликового можжевельника, и тощая волчица вскрикнула почти по-человечески, высоко подпрыгнув и упав на труп гайдука. Морда зверя смотрела прямо на Райцежа, и в стекленеющих глазах волчицы медленно остывало удовольствие от вкуса свежей крови.
«Счастливая смерть», — отчего-то мелькнуло в голове воеводы.
Следующий выстрел уложил наповал второго волка, остальные засуетились, заметались по дороге — и вскоре исчезли в лесу.
Михал устало опустил палаш и смотрел, как из кустов, негромко переговариваясь, выходят люди. Человек десять, одеты добротно и ярко, как одеваются свитские какого-нибудь магната; идущий впереди усач смеется и неторопливо засовывает за расшитый золотой нитью кушак дымящийся пистоль.
Нет.
Не засунул.
Передумал, в руках вертит.
— Вовремя вы, — пробормотал Райцеж, когда человек с пистолем приблизился к нему. — Еще б немного…
— Это точно, — весело согласился тот и, подождав, пока Райцеж спрячет палаш в ножны, ударил воеводу рукоятью пистоля под ухо.
5
— Совсем без ума баба, — бормотал себе под нос шедший впереди Седой, тщательно выбирая тропу, чтобы почти слепая в ночном лесу Марта снова не повредила больную ногу. Джош шуршал где-то рядом, изредка раздраженно порыкивая. Лучи молодого месяца косыми лезвиями кромсали чащу, разбегаясь перед глазами в разные стороны, мороча, мельтеша, играя в прятки — и временами Марте казалось, что уж лучше бы было совсем темно. В этом зыбкой мгле любая коряга притворялась живой, и бросались под ноги ложные рытвины, на поверку оказывавшиеся просто тенями, а настоящие кочки и ямы зачастую терялись в причудливой игре лукавых бликов — и Марта, несмотря на все старания Седого, частенько спотыкалась, шипя от боли.
Обманщик-лес загадочно поскрипывал вокруг, где-то совсем рядом истошно верещала неизвестная Марте ночная птица (или не птица?), над головой мелькали неясные силуэты, хлопая кожистыми крыльями — и Марта совсем отчаялась выяснить, что же это: шутки игривого месяца, летучие мыши, совы, качающиеся ветки или нечто совсем уж непонятное и жуткое?
«Нежить, нечисть…» — упрямо лезло в голову, заставляя сердце биться чаще.
— Пришли, — Седой внезапно остановился, и через мгновение Марта поняла, что они действительно пришли: впереди была та самая дорога, где на них напали волки.
— Это не здесь, — шепотом сказала женщина после того, как огляделась по сторонам. — Мне кажется…
— Кажется ей, — все так же хмуро бросил Седой, не оборачиваясь. — Нам еще треть стаи[12] топать, только с твоей ногой по бурелому шастать несподручно!
Он был прав. Шагать по ровной укатанной дороге действительно оказалось гораздо проще. Наконец Седой снова остановился, по одному ему ведомым признакам определив место разыгравшейся недавно трагедии. Что-то темнело по левую руку у обочины — Марта скорее догадалась, чем увидела, что это труп одной из лошадей. А вон и другой… третий…
Седой нагнулся, шумно принюхался — потом, все так же согнувшись в три погибели и чуть ли не припадая носом к земле, заходил туда-сюда, всматриваясь, вынюхивая, неразборчиво бормоча. Джош кружил рядом, занимаясь тем же, что и вовкулак.
Сама Марта стояла недвижно, понимая свою бесполезность.
…Убедить сына мельника загасить костер и отправиться посреди ночи к пустынной дороге оказалось делом нелегким, но Марта была непреклонна. Она должна была знать, что случилось с Михалом. Но Седого абсолютно не интересовала судьба воеводы Райцежа; его вообще, похоже, не интересовала ничья судьба, включая собственную. Единственное, чего Седой хотел: дождаться утра, вывести Марту к корчме Габершляга и больше никогда ее не видеть. Уговоры и просьбы не помогали. В конце концов Марта решительно встала и, кликнув Джоша, заковыляла в темноту, — к дороге Молчальник ее вывел бы наверняка, уж на это его нюха хватило бы, и Седой это знал. После такой выходки Гаркловскому вовкулаку ничего не оставалось, как прикрикнуть на дуру-бабу, чтоб подождала, наскоро забросать костер землей и возглавить этот странный поход. Напоследок Седой демонстративно помочился на пепелище, даже не попросив Марту отвернуться. Глупая выходка; нет, не глупая — волчья. Ох и баба… Не для того Седой ее спасал, чтоб по пути эту женщину снова встретили волки, а то и кто-нибудь похуже: уж Седому-то было известно лучше всякого, что волки — далеко не самое страшное, что водится в здешнем лесу!..
— Жив твой воевода, — Седой стоял рядом, вертя в руках какой-то подобранный им предмет, и в свете месяца тускло блеснула сталь. — Наследили тут… молочный кутенок разберется! Узнаешь клинок?
Марта наконец разглядела, что показывает ей сын мельника.
— Вроде бы Михала, — неуверенно проговорила она, беря у Седого оброненную дагу и прикладывая к щеке холодную чашку гарды. — Точно не скажу, но если так, — Михалек по своей воле оружие никогда не бросил бы!
— Вот и я похоже мыслю. Увезли воеводу. И не по доброй воле. Потому и не подобрал железяку-то… Волков кого побили, кого прогнали, а его, видать, связали и увезли.
— Живого?! — Марта вся подалась вперед, и Седой даже отпрянул от неожиданности, оторопело щелкнув зубами.
— Живого, живого! На кой ляд им мертвый?
— Куда… куда они поехали?! — Марта чуть не схватила своего спасителя за грудки, но сдержалась.
— Туда, — махнул рукой вовкулак. — В корчму Габершляга. Куда им еще ехать на ночь глядя?!
— А кто это был? Разбойники? — внезапно пришло на ум Марте.
— Вряд ли, — с сомнением протянул Седой. — Многовато их для разбойничков! Человек десять, не меньше. И сапоги на всех панские, на доброй подошве, с подковками… по следам видно. Нет, не разбойники это.
— Тогда кто?
— Не знаю! — озлился сын мельника. — Вот ведь пристала, что твой репей — кто, куда… Не знаю я! У отца моего поди спроси — может, и скажет…
— И спрошу, — нимало не смутилась Марта. — До мельницы вашей отсюда далеко?
— До мельницы-то рукой подать, только ходу тебе туда нет! Не для того я тебя у отцовых волков отбивал, чтобы ты сама на сатанинский базар товаром явилась! Провожу до корчмы — и чтоб духу твоего завтра тут не было!
— Спасибо тебе, Седой, — тихо сказала Марта, коснувшись кончиками пальцев небритой щеки вовкулака. — Спасибо. А мельницы вашей мне любым боком не миновать. Брат мой там, Яносик… настоятель тынецкий. Думаешь, его твой отец после всего живым выпустит?
Седой не отвечал, уставясь в землю.
— Молчишь? Правильно делаешь. Сам знаешь: нельзя Стаху Топору теперь аббата Яна живым отпустить — на другой же день стражники с монахами к вам на мельницу заявятся. А ведь ему не Ян нужен — ему я нужна. Значит, из-за меня все вышло. Вот ты сам — не хочешь ведь за чужими спинами прятаться, потому и меня у волков отбил! И я не хочу. Брат он мне, аббат Ян! Понял? Не дам я твоему отцу Яносика из-за дуры-Марты жизни лишать! Не дам! Что хочешь делай — бей, гони, не пускай — все равно приду! Из-за меня каша заварилась, мне и расхлебывать!
И Седой понял, что женщина эта все равно поступит так, как сочтет нужным. Значит, зря он несся через лес, спешил, боясь опоздать, зря схватился насмерть с Рваным, вожаком волчьей стаи — все зря.
Или не зря?
— Джош, а ты беги в корчму, выручай Михала! Я знаю, ты что-нибудь придумаешь! — Марта сама не верила в то, что говорит, но другого выхода у нее не было. Она должна попытаться спасти Яна — но бросить Михала в беде она тоже не могла. Значит, оставался Джош. Четвероногий вор, плут и мошенник — может быть, у него действительно получится?
— Ну что же ты, Джош! — прикрикнула она на замявшегося было пса. — А потом оба идите на мельницу. Дорогу по нашему следу найдешь?
«Найду», — обреченно кивнул Джош, который тоже понял, что Марту не отговорить ни ему, ни оборотню, да и вообще никому на этом или на том свете.
У всех троих на душе было так тоскливо, что хотелось завыть на месяц, холодно прищурившийся сквозь рваную вязь черных ветвей.
Отбежав подальше, Джош так и сделал.
Ицка Габершляга, корчмаря из корчмарей, за дело прозванного Рыжим Базлаем, совершенно не вдохновляла участь собрата по ремеслу Иошки Мозеля. Из-за какой-то поганой кошки, которой стукнуло в дурную голову вцепиться в рожу… проше пана, в личико князю Лентовскому, лишиться верного куска хлеба на старости лет?! Пусть мои враги этого не дождутся!
Зная Габершляга, можно было поверить: не дождутся.
Первым делом Рыжий Базлай истребил в своей корчме всю опасную живность, включая рыжих, как он сам, и таких же нахальных тараканов. Последнее оказалось самым трудным, на грани невозможного, но Ицко это сделал — и не спрашивайте, как! Он и сам не очень-то хорошо понимал — как. Сделал и сделал.
Затем Габершляг созвал все свое многочисленное семейство на совет и полдня втолковывал им, как себя следует вести в тысяча ста тридцати восьми крайних случаях, которые могла вообразить умная голова Рыжего Базлая.
Семейство кивало и делало выводы.
Выводы понадобились очень скоро. Ведь если к тебе в корчму на ночь глядя вваливается десяток шумных вооруженных господ, под самую завязку преисполненных шляхетского гонора, а ты только что своими глазами видел, как один из них волок за конем связанного человека, совершенно не похожего на беглого хлопа — ну где вы видели хлопа в камзоле и рваных рейтузах?! Короче, ссориться с такими гостями будет кто угодно, но только не Рыжий Базлай.
Это вам не бешеными кошками рожи полоскать…
Пива? — сколько угодно, темного, светлого, со сметаной, с корицей и тмином; водочки? — панской на апельсиновых корках, зусмановки с отваром лаврового листа, травничка душистого, мятной для прохлаждения души; а уж о закуске не извольте беспокоиться!
Всего и побольше!
Незаметно мигнув младшей дочке, понятливой умнице, Габершляг вскоре наблюдал, как и неподалеку от брошенного в угол пленника сама собой образовалась миска тушеной капусты вперемешку с рубленой индюшатиной. А поскольку руки у несчастного были связаны сзади, то Габершлягова дочь, пробегая мимо, всякий раз незаметно отправляла пленнику в рот полную ложку, не забывая подносить иногда и кружечку с вином.
Предусмотрительность корчмаря не имела границ: заметит вельможное панство, браниться станет — всегда можно сослаться на угодное Богу милосердие и сострадание, ну а сойдет с рук — всякое может статься, завтра этот пленник заедет в корчму с полусотней пахолков за спиной и с вельможным панством на цепях, сразу и вспомнит гостеприимство Рыжего Базлая…
Ох, не зря торчит у входа в корчму длинный шест с пучком соломы на конце — издавна обозначавший приют и веселье для усталых и жаждущих!
Добро пожаловать, гости любезные!
К полуночи большая половина приезжих сочно храпела на лавках, с головой укрывшись дорожными кобеняками;[13] брошенный щедрой рукой кошель согрел сердце корчмаря Ицка и немедленно упокоился в надежном месте, пленник по-прежнему валялся в углу на дощатом полу, и всякий раз, сталкиваясь с ним взглядами, Рыжий Базлай бормотал молитву — ох и норов у пана, не сглазить бы! — и на всякий случай виновато разводил руками.
За столом же, напоминавшим поле после побоища (которое, как известно, принадлежит мародерам), вовсю шла игра в кости. Самый крепкий из вельможного панства, немолодой усач, из-за кушака которого грозно торчала дубовая рукоять пистоля, вовсю проигрывал двум своим приятелям, клюющим носами и плохо отличающим двойку от шестерки.
Видимо, подтверждалось правило: везет пьяным, детям и дуракам.
— Удваиваю ставки! — кричал усач, грохая кулачищем о стол. — Идет?
Приятели кивали — и азартный игрок лез за пазуху, бренча припрятанными монетами.
Габершляг уж совсем было собрался крикнуть жене и дочерям, чтоб прибирались в зале (зала — громко сказано, но Рыжему Базлаю была свойственна возвышенность слога после удачного дня), но тут случилось удивительное событие.
— Чего изволит ваша милость? — машинально спросил Габершляг у вошедшего в корчму, и только потом сообразил, что новый гость — собака.
Просто собаки никогда не заходят с таким ясновельможным спокойствием, равнодушно осматриваясь по сторонам, будто собираются спросить вина с горячими колбасками; и никак не должно у приблудной псины красоваться на морде полное пренебрежение к застывшему корчмарю.
Не успел Рыжий Базлай прийти в себя и потянуться за ухватистым шкворнем, как наглый пес величаво прошествовал к столу и запрыгнул на скамью рядом с усачом.
— Шесть, шесть и…
Собачья лапа с удивительной ловкостью мазнула по столешнице, зацепив когтем ближайший кубик.
— …и шесть! — торжествующе закончил усач, покосившись на пса.
В ту же секунду Ицко Габершляг потрясенно увидел, как пес поднял торчком единственное ухо и весело подмигнул усачу: дескать, мы-то с тобой знаем, что показывали кости до того!
«Хрен тебе, а не восемнадцать!» — было написано на лохматой морде.
И Габершляг понял, что если он сейчас попытается выгнать собаку из корчмы, то ему придется иметь дело с усачом.
Игра продолжилась. Монеты мало-помалу перекочевывали обратно за пазуху к своему прежнему хозяину, усач после каждого удачного броска целовал одноухого пса в мокрый нос и обещал тому золотую цепь и яхонтовую конуру, а Рыжий Базлай махнул на пса рукой и вернулся к своим обязанностям.
Поэтому Ицко не видел, как пес спрыгнул со скамьи, на миг ткнувшись мордой в сапог усача — и когда одноухий вразвалочку направился к теплой печке, где совсем неподалеку валялся связанный человек в камзоле, то в зубах собаки находился короткий нож, еще мгновенье тому назад торчавший за голенищем сапога усатого.
И нес-то пес украденный ножик хитро: поворотив голову набок, чтобы лезвие не отблескивало, зарывшись в густую шерсть…
Потершись о нагретый печной бок, одноухий вернулся к игрокам, но уже без ножа.
Правда, по дороге он озабоченно оглядывался и нюхал воздух, а потом зачем-то задержался возле одного из спящих, подергал зубами топорщившийся край кобеняка и выразительно покосился на связанного человека.
Тот, похоже, спал, совершенно не интересуясь собачьими взглядами.
Игра за столом к этому времени прекратилась, проигравшиеся в пух и прах приятели усатого уронили головы на руки и присоединили свой храп к общему; один усач, возбужденный звонким приварком, допивал пиво и клялся всеми святыми, что не даст такой замечательной собаке сдохнуть у забора.
Взгляд его скользнул по спящему пленнику и стал несколько осмысленнее.
— Досмотреть, что ли? — пробормотал усатый сам себе и с некоторым трудом встал.
Покачиваясь, он добрел до угла, склонился над человеком в камзоле, явно собираясь проверить путы, уже потянулся, коснулся плеча…
Внезапно выпрямившись, усач принялся ожесточенно тереть глаза, словно ему под веко попала соринка. Потом он недоуменно посмотрел на так и не шелохнувшегося пленника, будто пытаясь понять — зачем вставал из-за стола, зачем тащился сюда?! — и шлепнулся на пол в двух шагах, привалившись спиной к теплой печке.
Еще через мгновение усач дремал, положив ладонь на рукоять заряженного пистоля.
…сны бывают разные, но в основном они делятся на приятные и неприятные.
Усатому снился неприятный. У него пытались украсть выигранные деньги и что-то еще, о чем усач точно знал, что это украсть никак невозможно. Заворочавшись, он причмокнул толстыми губами, пытаясь выругаться, после махнул плохо слушающейся рукой, махнул еще раз…
Ничего не помогало.
В рот ткнули твердым и холодным, усач машинально попытался отхлебнуть, и с ужасом понял, что это никак не край кружки, а граненый ствол его же собственного пистоля. Пистолю полагалось торчать за кушаком, а человеку, который его держал, полагалось тихо и беспомощно валяться в углу — но сон есть сон, и он разительно отличается от действительности хотя бы тем, что не знает слова «полагается».
— Спи дальше, — тихо прошептал человек и в довесок к словам снова ткнул дулом в рот усача.
Усач хотел сказать, что не хочет спать дальше, что ему совершенно не нравится этот сон, но неожиданно для самого себя кивнул. Ему даже стало интересно: что может присниться после такого своеобразного начала?
Приснилась уже знакомая замечательная собака, стащившая кобеняк с одного из спящих, приснился бывший пленник, забравший свой палаш, который лежал рядом с храпящим детиной — хозяином кобеняка… приснился скрип двери и вскоре — удаляющийся топот копыт.
— Караул, — негромко сказал усач.
Он был прав.
По дороге шли недолго. Седой коротко мотнул головой, и они снова углубились в лес. Тропа под ногами извивалась придавленным ужом, и Марта уже устала удивляться — как это Седой исхитряется безошибочно находить путь в кружеве обманчивых проблесков. И добро б находил — так сын мельника его даже и не искал; просто шел себе, не глядя под ноги, как по хорошо знакомой улице средь бела дня.
Над головой опять усилилось мельтешение и хлопанье крыльями, только на этот раз вовкулак удостоил назойливых тварей (ветки? блики?..) зеленой вспышки хмурого взгляда.
— Что это? — не выдержала Марта. — Ну, над нами… летает?
— Бухруны, — нехотя проворчал Седой.
«Объяснил», — подумала Марта.
— А кто они, эти бухруны? Они живые?
— Нет.
— Призраки?
— Нет.
Марту начала раздражать эта содержательная беседа.
— Так кто же тогда?! — повысила она голос. — Они опасные?
— Для кого как. Для меня — нет. И для тебя покамест тоже — пока я рядом, не сунутся. А вот навести могут, — сын мельника окончательно помрачнел и умолк, после чего Марта решила не допытываться, что способны сделать в отсутствие Седого загадочные бухруны, а также кого и зачем они могут навести.
В прошлом Марте не раз случалось бывать в ночной чаще близ родных Шафляр, с отцом или кем-то из знакомых пастухов, и это всегда было немного жутковато, но сейчас… Словно попала в какую-то нездешнюю страну, которой и нет-то вовсе, и в то же время она есть: шуршит вокруг, поскрипывает, переливается лунными миражами, хохочет совиным уханьем, издевается непонятно откуда идущим скрипом, шелестит сотнями маленьких лапок, ног, крыльев… Вот, к примеру: что это там, в просвете между двумя корявыми громадами вековых дубов? Столбы желтой светящейся пыльцы — или действительно призраки, лесные духи? На мгновение Марте померещилось, что она различает танцующие в мерцающем сиянии бесплотные гибкие фигуры с распущенными волосами… и вот опять — холодные лучи месяца, покачивающиеся ветки, серебрящаяся трава, причудливая мешанина кустов, и больше ничего.
Шорох в траве, совсем рядом. Марта не удержалась, нагнулась… Маленький мохнатый человечек уставился на нее из травы, вцепившись тоненькими пальчиками в метелку дикого овса. А Марта, чуть ли не раскрыв рот, смотрела на него. Но тут человечек вдруг обиделся, плюнул, погрозил Марте кулаком и нырнул в траву — только его и видели.
— Ты что, потеряться хочешь? — громыхнул над ухом злой голос Седого.
— Я… там… он мне кулаком… — только и сумела выдавить Марта.
— Ну и что? — не понял вовкулак. — Ты что, пендзименджиков никогда не видела? Или он тебе глаза отвести пытался?
— Не видела, — призналась Марта.
— Ты еще много чего не видела, — «успокоил» ее сын мельника. — И дай Бог, чтоб не увидела. Пошли!
«Скажи я Джошу о своем воровском таланте, — подумалось женщине, — не после чумы и сторожки, а до — может, и я сама стала бы для Молчальника чем-то вроде обидчивого пендзименджика, а то и бухруна…»
За всеми этими наваждениями Марта успела забыть о больной ноге, но, споткнувшись о торчавший из земли корень, невольно вскрикнула от боли и остановилась.
— Стеречься надо, ежели по лесу ходить не умеешь, — проворчал Седой, поджидая Марту, но в голосе его явно слышалась тревога. — Скоро уже. Ты потерпи чуток… Эх, зачем я тебя только веду, на погибель-то!
— Рано ты меня хоронишь, Седой, — Марта отнюдь не чувствовала в себе уверенности, с которой произнесла эти слова. Но на Седого они, а скорее тот тон, которым они были сказаны, неожиданно произвел впечатление.
— Думаешь, и в этот раз справишься? — с почти детской надеждой в голосе спросил он. — Один-то раз смогла, авось, и в другой выйдет?
— Не знаю, — честно ответила Марта, пытаясь не отстать от ускорившего шаг вовкулака. — А вот вдвоем с Яносиком…
Седой ничего не ответил — напоминание об аббате явно пришлось ему не по вкусу.
Впереди наметился неясный просвет, и вскоре Марта вслед за Седым вышла на опушку таинственного леса, сразу сникшего и растерявшего изрядную часть своей загадочности.
Они стояли на краю обширной луговины. Издалека глухо доносился шум реки, скрытой от глаз — и лишь черневшая впереди мельница (Марта догадалась, что это именно мельница, прежде чем сумела что-либо толком разглядеть) указывала на место, где эта самая река протекала.
Но гораздо ближе к ним, почти у самой опушки, неправдоподобно четкие в сиянии зависшего над горизонтом месяца, серебрились и отбрасывали глубокие чернильные тени кресты. Покосившиеся, старые и совсем еще новые кресты небольшого погоста. Заросшие густой травой и просевшие холмики могил, прохудившаяся деревянная ограда…
А у ограды стоял износившийся на неведомых дорогах тарантас, запряженный одной-единственной лошадью. Лошадь меланхолично жевала, время от времени засовывая морду в висевшую у нее на шее торбу; позади лошади, на облучке развалюхи, восседал высокий мужчина с темной бородкой клинышком и рыжим петушиным пером на знакомом берете, лихо заломленном набок.
В руках Великий Здрайца держал ровный стволик орешника и увлеченно чиркал по нему крохотным ножичком.
— Подвезти? — спросил Петушиное Перо, продолжая вырезать тросточку. — Или уже приехали?
Марта беспомощно смотрела на раздолбанный тарантас, на запряженную в него пегую кобыленку, чей выпирающий хребет грозил прорвать облезлую шкуру; на худого человека, чертящего маленьким лезвием по орешине и время от времени дергающего себя за клок волос на подбородке.
Седой решительно шагнул вперед и встал между женщиной и тарантасом.
— Уважаю, — протянул Петушиное Перо, иронически разглядывая Гаркловского вовкулака. — Герой… Кому сказать — не поверят. Хочешь, прикажу, и сам ее загрызешь? Ну как?
Седой оскалился и сделал еще один шаг.
Рассмеявшись, Петушиное Перо махнул недорезанной тросточкой — и сын мельника споткнулся, припал на колено… на другое… неодолимая сила сгибала плечистого коротышку, ставя на четвереньки, покрывая жесткой шерстью обнаженные предплечья, забивая мучительно приоткрывшийся рот острыми клыками, искажая очертания…
Петушиное Перо подпрыгнул на облучке, коротко присвистнул; и все исчезло.
Стоит себе человек на четвереньках перед тарантасом — мало ли, может, кисет с табаком потерял, теперь ищет!
Марту поразило не то, что происходило с вовкулаком; повинуясь какому-то непонятному порыву, она почти сразу перевела взгляд с корчащегося Седого на Великого Здрайцу — и шальная, невозможная мысль обжигающим вихрем пронеслась в сознании: Петушиное Перо посмеивался, чтоб не закричать!
Марте было хорошо знакомо это состояние. Когда украдешь у кого-нибудь непонятно что, приглянувшееся искрящимся блеском, и только в себе разберешься, что случайно прихватил боль от смерти матери или страх перед виселицей; когда краденое в первый, самый опасный миг неосознанно становится своим, ослепляя и бросая в пот — но вокруг люди, и ты должна улыбаться, говорить всякую чушь, быть любезной и приветливой!..
Вот такое лицо и было сейчас у Великого Здрайцы.
Внутри пожар, снаружи — смех.
Может быть, именно поэтому закоренелые душегубы поют песни или хохочут на площадном помосте в спрятанную под капюшоном рожу палача — боль за смехом, как и за криком, легче прячется…
Она протянула руку и погладила спутанные мокрые волосы вовкулака.
— Не надо, — тихо попросила Марта. — Не мучь его.
— Хорошенькое дело! — тонкие брови Петушиного Пера удивленно изломались домиками; такими милыми домиками с островерхими черепичными крышами, каких много в венских предместьях. — Я, понимаешь ли, кобылу до полусмерти загнал, колеса по три раза на дню меняю, за ней гоняючись, а теперь здрасьте — не мучь его! Сама обокрала меня, как последнего ротозея на ярмарке, удрала с чужим имуществом, прячется по монастырям… Небось, я бы чего спер — так сразу бы: ах, Лукавый, ах, Нечистый!.. нечистый, зато честный! Все по договору — условия и подпись! Своего не уступлю, но и чужого не хватаю!
Он ерничал, гримасничал, поминутно хватаясь за седеющую эспаньолку, а в глубине серебряных провалов его глаз медленно остывала, подергивалась коркой пепла, каменела уходящая боль.
Страшная боль.
Марта только удивлялась, почему Седой этого не замечает.
— Ох, люди! — Петушиное Перо вдруг сдернул свой замшевый берет, нацепил его на маленький сухой кулачок и уставился на берет, как если бы видел его в первый раз. — Адамово племя! Меня хают медным хайлом, а сами — только зазевайся! Одни святоши чего стоят! На защиту свою, на аббатика тынецкого хочешь полюбоваться? Какие он службы тихой сапой отслуживает?! Хочешь?
Марта не поняла последних слов Великого Здрайцы. Просто кулак с беретом неожиданно повернулся к ней, и рыжина пера сверкнула в глаза мутным светом десятка свечей…
…дым стоял коромыслом. Два стола уже были перевернуты, и между ними возились в пьяной драке несколько нищих, пропивавших на постоялом дворе в Казимеже свой скудный заработок. Драчунов подначивали, делали ставки, ожесточенно споря, кто кого раньше придушит; пышнотелая служанка, чьи прелести откровенно вываливались из полурасстегнутого корсажа, только что смазала по физиономии подвыпившего купца, пытавшегося ухватить ее за ногу — но купец не отставал, он расторопно крутанул девицу и усадил к себе на колени, заблаговременно сверкнув нужной монеткой. Всю спесь служанки как корова языком слизала, рука купца мгновенно втиснулась девице за пазуху и была встречена крайне благосклонно, а выползший из свалки одноногий нищеброд как завороженный глядел снизу на обнажившуюся полную грудь с полукружием розового соска…
Купец раздраженно пнул калеку сапогом, что-то беззвучно выкрикнув и повернувшись к несчастному лицом.
Это было лицо Яна Ивонича, тынецкого аббата.
Марта вытерла слезы и только тут поняла, что плачет.
Великий Здрайца делал вид, что снова поглощен своей тросточкой, но поведение женщины вызвало мимолетную тень смятения на его выразительном лице. Он ожидал чего угодно — неверия, негодования, изумления — но слез он не ожидал. Такими слезами плачут над лесорубом, которого привалило падающей сосной, но уж никак не над гулящим аббатом.
А Марта оплакивала Яносика, ставшего отхожей ямой для сотен кающихся, священника-вора, открывшего свою душу для чужих грехов, самовольно забиравшего сомнения и страсти у ищущих покоя — старший сын Самуила-бацы крал цепи у каторжников, безобразие у уродов, брал не спросясь, насильно присваивал… и грязный кабак в Казимеже был его епитимьей, освобождающими муками, после которых опустошенный аббат возвращался в монастырь — воровать.
Гаркловский вовкулак, сидя на земле у ног Марты, тоже смотрел на женщину — и зеленые свечи удивления медленно гасли в омутах его глаз.
— Еще что-то покажешь? — Марта в последний раз всхлипнула и откинула назад упавшие на лоб волосы. — Или устал?
— Понравилось?! — тут же засуетился Петушиное Перо. — По душе, по сердцу?! Чего теперь изволите, ваша милость?
Суетливость его была не к месту: так ведет себя паж-недоросль, желающий понравиться госпоже, — и, словно почувствовав это, Петушиное Перо нацепил берет обратно на голову, заломил его привычным жестом, дернул свою эспаньолку раз-другой, и превратился в прежнего, холодного и насмешливого дьявола.
— Их милость желают развлечься, — раздумчиво пробормотал он и крутанул тросточку в тонких, невероятно гибких пальцах. — Их милость интересуются людьми… близкими к их милости. Ну что ж, мы готовы служить верой и правдой… правдой и верой… о, нашел! Смотри сюда! Да не на меня, а левее!
Марта машинально глянула в сторону давно отцветших кустов сирени, пышно обрамлявших дальнюю часть ограды погоста — и небо неожиданно посветлело, зелень кустов брызнула в лицо, а потом возникло лежащее на пригорке бревно и два человека на этом бревне…
«Батька? — вырвалось у Марты. — Батька Самуил?!»
Но ее никто не слышал.
…хмурый рассвет зябко обволакивал сидящих на бревне людей колеблющейся дымкой. Но и сквозь эту кисею Марта безошибочно узнавала знакомое с детства морщинистое лицо Самуила-бацы, гордый орлиный нос с гневно раздувшимися ноздрями, смоляные жабьи глаза навыкате, где сейчас полыхал темный огонь, прямую спину, которую так и не смогли согнуть семь с лишним десятков лет, огромные жилистые ладони отца, тяжко лежащие на костлявых старческих коленях…
Рядом с Самуилом-бацой сидел Михалек. Сидел — и все не мог усидеть на месте. Воевода Райцеж что-то горячо доказывал приемному отцу, поминутно вскакивая и размахивая руками (даже это Михал делал так, как если бы в руках его было зажато по клинку); проходила минута, другая, Самуил-баца отрицательно качал кудлатой головой, и все начиналось заново.
Наконец Михалека прорвало. Вскочив в очередной раз, он схватил отца за грудки, мощным рывком сдернул с бревна и притянул к себе, беззвучно крича в оскаленное лицо старика. Возраст не лишил Самуила-турка изрядной доли его прежней силы, руки Шафлярского вора мертвой хваткой вцепились в камзол непочтительного воспитанника, на миг они так и застыли: громадный старик с ликом древнего идола и молодой воевода, играющий сталью и чужими жизнями, как ребенок — самодельными куклами… вечер отшатнулся в испуге, рваные полосы сумерек загуляли из стороны в стороны — и словно овечьим молоком плеснули на Самуила-бацу! Страшно побледнев, он бросил Михалека, хватаясь за грудь, кашляя и сгибаясь в три погибели; почти рухнув на бревно, некоторое время он еще содрогался, пытаясь выпрямиться, а потом сполз на землю, скорчился у ног сына, тело Самуила выгнулось последней судорогой и застыло.
Воевода Райцеж недвижно стоял над трупом отца.
Не понимая, что делает, Марта шагнула вперед, ткнувшись в невидимую преграду — и увидела совсем рядом с собой светловолосого юношу, почти мальчика, одетого по-гуральски: спасающая от дождя, прокипяченная в масле рубаха с такими широкими у запястья рукавами, что они свисали чуть ли не до колен, полотняные штаны с синими завязками, широкий пояс из темной кожи, унизанный медными и серебряными бляшками, высокая баранья шапка…
Юноша неотрывно глядел на Михалека и мертвого Самуила, пальцы его тискали рукоять сунутого за пояс ножа — и воевода словно что-то почувствовал: резко огляделся, наполовину обнажая палаш, отступил на пядь-другую, а после быстро пошел, почти побежал прочь.
Капли начинающегося дождя упали на тело Самуила-турка, преграда перед Мартой все мешала ей кинуться к отцу, в отчаяньи она попыталась обогнуть препятствие, налетела на юношу-гураля, прошла сквозь него, всем телом сослепу врезавшись в живое, теплое, всхрапнувшее при столкновении; и Марта узнала юношу, узнала за миг до того, как перестала видеть.
Все Шафляры знали, что к Янтосе Новобильской, молодой вдове Яцека Новобильского, захаживает ночами Самуилов побратим, Мардула-разбойник. Не то чтобы каждой ночью, а так — когда вертится в окрестных местах, и не гоняются за ним чьи-то гайдуки или обокраденные липтовские пастухи, скорые на расправу. Видно, крепко любила вдовая Янтося лихого Мардулу, хоть и немолод, сильно немолод был разбойник: и замуж ее звали — не шла, и липтовцы грозили помститься за Мардулины грехи — смеялась да шутки шутила, и мальчонку от разбойника прижила — сама вытянула, вырастила, не побоялась отцовым именем назвать… Когда Марта Ивонич в восемнадцать лет покидала Шафляры, сыну Мардулы и Янтоси Новобильской было лет восемь-девять, не больше, и играл он себе с другими хлопцами в цурки, лишь вспыхивая взором, когда слышал россказни о темной славе отца своего.
Вот этот-то самый Мардула, сын Мардулы-разбойника, да и внук тоже, кажется, Мардулы-разбойника (краковский каштелян,[14] слушая доклады о неуловимом гурале, втайне считал его бессмертным) — именно он и стоял сейчас рядом с Мартой, повзрослев на те девять без малого лет, в течение которых Марты не было в Шафлярах.
Стоял, кусая губы и хватаясь за нож.
Запряженная в тарантас кобыла фыркала и добродушно тыкалась в Марту мягкими губами.
— Врешь! — выдохнула женщина, отстраняя лошадь и поворачиваясь к Великому Здрайце.
— Может, и вру, — легко согласился тот. — Всяко бывает: могу соврать, могу сам обмануться, а могу и правду сказать! Что, красавица, отравил я тебя?! Верь не верь, а забыть не сможешь! Сама видела, как пан воевода над речкой Тихой молодого шляхтича заколол! Мог бы пощадить, мог бы наказать легкой раной за дерзость — а он раз, и локоть стали в брюхо! Чтоб не сразу помер, чтоб помучился, как следует… Что такому отец родной, а тем паче неродной?! Меньше, чем ничего!
— Замолчи!
Голос Марты сорвался на хриплый дребезг, и в горле мгновенно забегали колкие мурашки, растаскивая неродившиеся слова в разные стороны.
— Ну уж нет! — рассмеялся Петушиное Перо, выпячивая подбородок. — Не тебе тут приказывать, воровочка моя! К тому же слыхала, небось: разбойный Мардулин пащенок жену Михала не за выкуп отдает — за Высший суд, который рассудит его и убийцу Самуила! Я-то к их шайке случайно пристал, по дороге, а тут смотрю — потеха! Спеши на сороковины к отцу, спеши!.. то-то поминки славные получатся!
— Чего ты хочешь? — устало спросила Марта.
И ответ Великого Здрайцы поразил ее острее только что виденной смерти отца.
— Ничего, — не менее устало ответил дьявол.
Даже Седой изумленно поднял голову и как завороженный уставился на расплавленное серебро, плещущее в глазницах Великого Здрайцы.
— Ничего, — повторил дьявол. — Уеду я сейчас. Сяду в тарантас, хлестну кобылу — только меня и видели! Не веришь, воровочка? Думаешь, вру! Может, и так… вот уж помучишься сомнениями, когда я и впрямь уеду! Душу любовничка своего собачьего оставить хочешь? — забирай! Жалко, а все равно забирай! За себя боишься — не бойся, не трону… Спеши в Шафляры, аббатика с мельницы вытаскивай, воеводу вызволяй — твое дело, твоя забота! Об одном прошу… да не дергайся ты! На лице прямо написано: «Раз ЭТОТ о чем-то просит, значит, жди подвоха!» В общем-то, верно написано… Так вот, об одном прошу: когда в следующий раз пути наши пересекутся, или сам я тебя отыщу и на дороге встану — не побрезгуй в память о старой краже и тихой беседе близ Топорового погоста задержаться на минутку, перекинуться с Петушиным Пером словцом! Молчи, не отвечай! И не пытайся понять: за что такое благоволение?! Просто запомни, о чем просил…
И впрямь ничего не понимающая Марта следила за тем, как Великий Здрайца лезет в свой тарантас, вынимает какие-то свертки, котомки, узелки, потом расстилает на траве старенькую скатерочку и начинает расставлять разную снедь — содержимое свертков, котомок и узелков. Черный ржаной хлеб, светящееся розовым сало, горшочки с тушеным мясом, ломти щуки в тесте; две объемистые фляги…
— Сейчас, — бормотал себе под нос Великий Здрайца, вытирая вспотевший лоб кружевным платком, невесть как оказавшимся в его руке, — сейчас заморим червячка, и я поеду… ох, и поеду же я… чертям тошно станет!..
Утро безуспешно тыкалось заспанной мордой в брюхо горизонта, выдаивая из дряблых сосцов лишь промозглую сырость, спустившуюся на луг — и Марте было все равно, откуда у Великого Здрайцы во фляге пиво, и почему оно горячее; главное, что пришлось оно как нельзя кстати. Даже Седой не стал отказываться от угощения — несмотря на звериное здоровье, вовкулак тоже продрог, да и проголодался.
Может быть поэтому, увлекшись ранним завтраком в столь неожиданной компании, люди и нелюди у тарантаса не сразу расслышали приближающиеся шаги. Вокруг сгустился туман, отчего видно стало ничуть не лучше, чем ночью; Седой встрепенулся первым, Марта припоздала, и почти сразу кисельная слякоть расступилась и выпустила из себя компанию не менее странную, чем та, что завтракала сейчас у старого погоста.
Впереди уверенно шел потомственный мельник Стах Топор с корявой клюкой в руках, и выглядел он так, словно каждый день привык ни свет ни заря шляться к погосту и обратно. За седеньким колдуном степенно шествовал настоятель тынецкого монастыря аббат Ян Ивонич, держа в правой руке маленький молитвенник с переплетом из тисненого сафьяна — а по обе стороны от ксендза вразвалочку двигались двое замыкавших шествие детин-подмастерьев в холщовых штанах и рубахах.
— Добрейшее утречко, ваши милости! — первым нарушил молчание Петушиное Перо, когда предводитель-Топор, а за ним и все остальные, остановились в нескольких шагах от завтракающих.
— Вот это и есть дьявол, святой отец! — шепнул мельник через плечо отцу Яну, но голос подвел старого Стаха, так что сказанное услышали не только Петушиное Перо и Седой, но и сидевшая дальше всех Марта.
— Который? — недоверчиво переспросил аббат. — Тот, лохматый?
— Да нет! — досадливо обернулся мельник к непонятливому настоятелю. — Лохматый — это мой сын! А Нечистый…
— …а Нечистый — это он обо мне! — Петушиное Перо сдернул берет и помахал им со всей возможной любезностью, чтобы у тынецкого настоятеля не осталось никаких сомнений. — Присаживайтесь с нами, святой отец, перекусим, чем бог послал…
Сперва аббат Ян явно хотел что-то сказать, возможно, даже сакраментальное «Apage, satanas!»,[15] но при последних словах Великого Здрайцы поперхнулся и натужно закашлялся.
— Здорово, Стах! — как ни в чем не бывало продолжил Петушиное Перо. — Ну, чего столбом стоишь?! Ты ведь торговаться со мной пришел? Садись, поторгуемся, по рукам ударим!
Похоже было, что у старого Топора разом пропала всякая охота торговаться и бить Великого Здрайцу по рукам, но деваться мельнику было некуда.
— Тебе нужна эта женщина, — собравшись с духом, заявил мельник.
— Нужна, — согласился Петушиное Перо, сочно хрупая пучком зеленого лука, и непонятно о чем добавил:
— Эх, перемелется — мука будет!
— А мне нужна душа моего сына, — отрезал Стах и всем сухоньким тельцем навалился на клюку, словно слова эти отняли у мельника и без того убогие силенки.
— Нужна, — снова согласился дьявол, прихлебывая пиво мелкими глоточками. — Одно непонятно: зачем мне ее возвращать? За твои красивые глаза?
— А затем, что иначе… — старый Топор замялся. Нет, не так представлял он себе эту встречу. Договориться с Петушиным Пером с глазу на глаз, отдать ему Марту в обмен на душу сына, заставить порвать давний договор, а если обмануть попробует — как щитом, прикрыться от Нечистого святым отцом! Но вот так, прилюдно… под пиво…
— А иначе… — тупо повторил мельник и опять замолчал.
— А иначе святой отец меня изгонять станет. Правильно, Топор?!
Мельник не отвечал. Стоял, моргал, хмурил реденькие бровки.
— Только вы, святой отец, сначала поразмыслите хорошенько: стоит ли из-за колдуна Стаха меня гнать? — с усмешечкой продолжил Великий Здрайца. — Я ведь вас обманом на мельницу не волок, глаз не отводил, опять же на Мартину душу не зарюсь! И жизнь ее мне ни к чему. Не верите? Тогда спросите у нее самой, или лучше прикиньте: неужто наша мирная трапеза похожа на насилие?! А этот замечательный старичок, святой отец, вознамерился проклятую душу сына своего на вашу сестру выменять, а вашей сутаной бенедиктинской прикрыться! Вот возьму я сейчас, порву договор на Гаркловского вовкулака и уберусь восвояси — как полагаете, святой отец, долго вы проживете с той минуты? Ведь вы теперь для Стаха Топора — огнь пылающий, вечная гроза над головой!
Аббат Ян чувствовал, что в словах Нечистого (если это и впрямь был он) таится подвох, но пока не мог ничего возразить.
— Так что ни к чему вам, святой отец, меня гнать, — заключил Великий Здрайца. — Я и сам уйти могу. А могу и не уходить. При мне-то Стах вас тронуть побоится. Знает, старый хрен — захочу, и собственного сына отцу на глотку брошу. Езжайте с богом в свои Шафляры, а с Мартой мы после договорим. Правда, воровочка?
И Петушиное Перо довольно ухмыльнулся, заметив, как передернуло Яна при словах «с богом», произнесенных нечестивыми устами.
Ян стоял в растерянности. Он не хотел верить дьяволу, он не должен был ему верить — сатана никогда ничего не делает просто так, никому не помогает даром, и за все оказанные им услуги потом придется расплачиваться, но… никакого другого выхода, кроме как воспользоваться предложением Великого Здрайцы, аббат придумать не мог!
Великий Здрайца выжидающе смотрел на аббата, аббат лихорадочно искал правильное решение; мельник, потупясь, тоже пытался что-нибудь придумать, да только ничего не придумывалось — Марта ускользала из рук Стаха Топора, так хорошо задуманная сделка рушилась! А Марта с замиранием сердца ждала, чем дело кончится. Ей было страшно и почему-то одновременно весело: все, что могло случиться, уже случилось, и хуже наверняка не будет; подобно игроку, поставившему на кон все, что у него есть, она ждала развязки.
Вместо развязки где-то совсем рядом раздался конский топот, и из начавшего светлеть тумана вылетела громада бешено несущегося всадника.
Марта и Седой едва успели отскочить в разные стороны, когда конские копыта вдребезги разнесли стоявший с краю горшок душистой подливы; всадник натянул поводья, подняв громко заржавшего коня на дыбы, и в следующее мгновение уже соскочил на землю.
— Михал! — вскрикнула Марта.
И тут же что-то мохнатое, разгоряченное, кинулось ей на грудь и принялось облизывать лицо мокрым шершавым языком.
— Джош!
— За нами погоня! — задыхаясь, сообщил Михал, потом деловито достал из-за пояса тяжелый пистоль и стал проверять, не отсырел ли порох, и исправен ли ударный механизм.
6
Туман.
Слабо мерцающая пелена, крохотными капельками оседающая на одежде, лицах, руках; муть перед рассветом…
«Ой, туман, туман в долине, тишина кругом, — неожиданно вспомнилась Марте полузабытая пастушья песня, — хлещет-плещет старый баца длинным батогом…»
И мгновенно, как раскаленное тавро в живое тело: батька Самуил, оплывающий в руках Михала, своего приемного сына, а Костлявая стоит за плечом, скалится, падаль!..
Барабанная дробь множества копыт обрушилась из ниоткуда. Она нарастала, оглушала, обволакивала пульсирующим покрывалом; все, кроме воеводы Райцежа, инстинктивно попятились к тарантасу Петушиного Пера, словно ища там защиты, один из подмастерьев замешкался, испуганно озираясь — и бедолага почти сразу был насмерть стоптан вырвавшимися из тумана верховыми.
— Дикая Охота! — вскрикнул мельник Стах и зажал ладошкой рот.
Михал уже стоял у ограды погоста, держа в левой руке краденый пистоль, а правая удлинилась на два с половиной локтя стали драгунского палаша, некогда сослужившего славную службу барону фон Бартенштейну.
Трое всадников мгновенно спешились, остальные продолжали гарцевать неподалеку от воеводы, возбужденно переговариваясь. Кучка людей у тарантаса, равно как и мертвый подмастерье на траве, их нисколько не интересовали. Мало ли кого черти вытащили в такую рань позавтракать у погоста, бросив под копыта…
— Остановитесь!
Кричал аббат Ян. Рванувшись вперед, он ужом проскользнул мимо верховых и встал между Михалом и преследователями. Намокшая от росы сутана тяжко свисала с узких плеч, молитвенник был воздет к серому небу, и если глаза человека и впрямь способны метать искры, то это был именно тот случай.
— По какому праву разбой творите?!
Спешившийся первым усач — бывший владелец направленного на него пистоля — нетерпеливо махнул отцу Яну.
— Убирайся, монах! Попадешь под горячую руку — облезешь! Прочь, кому сказано!
Ян Ивонич не двинулся с места.
Усач досадливо скривился и собрался было плетью угостить назойливого монаха, посмевшего встать на их пути, но тут из тумана объявилось новое действующее лицо; объявилось неожиданно для всех, и для себя самого в том числе. Собственно, лицо это было не такое уж новое, а весьма и весьма поношенное, налившееся кровью от быстрого бега, и вся толстая фигура квестаря Игнатия вздымалась и опадала с каждым вдохом-выдохом, как тесто в квашне. Умудрившись часа полтора тому назад выломать одну из неплотно пригнанных досок в задней стене сарая — туда его заперли подмастерья от греха подальше — доблестный квестарь все это время блуждал в проклятом тумане, плача от бессилия, тщетно пытаясь выбрести хоть куда-нибудь и принимая конский топот за издевательства нечисти. Он и не знал, что ходит кругами возле погоста, пока крик отца Яна не хлестнул Игнатия почище ременного батога, указав верную дорогу к спасению души и тела.
— Святой отец! — в голос заблажил квестарь, кидаясь к аббату и норовя облобызать край его сутаны. — Ой, счастье-то какое! А я уж думал: все, пропали мы с вами, осиротел монастырь тынецкий без пастыря!.. ан нет, вон вы где, слава Господу нашему во веки веков!..
Один из всадников внимательней пригляделся к отцу Яну, наморщил кустистые брови и пришпорил лошадь. Оказавшись подле растерянного усача, он склонился к товарищу и зашептал ему что-то прямо в поросшее белесым волосом ухо.
— Обижаешь, святой отец! — спустя минуту заговорил усач совсем другим тоном. — Говоришь, что разбой творим, а того не видишь, что не разбойники пред тобой, а честные люди!
— И чьи ж вы такие честные люди, что ни свет ни заря за воеводой графа Висничского по полям гоняетесь и невинных поселян конями топчете? — глумливо осведомился аббат Ян.
— В первую руку, Божьи, — с нелегко давшимся ему смирением ответствовал усач, — а во вторую, их ясновельможной милости князя Лентовского. Сам понимать должен, святой отец: ты в своем монастыре хозяин, что ни повелишь, то монахи исполнят; нам же князь велит, а мы исполняем, и не тебе препятствовать княжеской воле!
— Лентовский? — удивлению аббата не было предела. — А я-то думал…
Впрочем, отец Ян сразу оправился.
— И зачем же вашему князю понадобился пан Райцеж?
— А зачем отцу может понадобиться убийца его сына? — в свою очередь спросил усач. Чувствовалось, что беседа с аббатом успела ему поднадоесть, и он еле сдерживается, чтобы не отстранить тынецкого настоятеля в сторону и продолжить охоту на прижавшегося к ограде беглеца.
Сан и слава аббата Яна боролись в душе усача с приказом князя; и князь побеждал.
Отец Ян незаметно покосился сперва на Михала, потом на Марту — и та кивнула брату: дескать, правда, было дело, а почему Михалек не поведал тебе о поединке над речкой Тихой — того я не знаю.
— Если так, — после некоторого раздумья сказал ксендз, — тогда понятно… Послушай, верный слуга Лентовского: я, настоятель тынецкого монастыря, даю тебе слово, что вскорости прибуду в маеток твоего пана и привезу с собой воеводу Райцежа. Тогда и рассудим, честный был поединок или нет, и одна ли на всех честь шляхетская! А сейчас дай нам ехать своей дорогой. Или ты не веришь моему слову?
Оскорбительный смех был ему ответом.
— Верю, — отсмеявшись, заявил усач, и трое его спутников стали снимать с седел волосяные арканы. — Приедешь ты, святой отец, с паном воеводой в маеток Лентовских через месяц-третий, а я к тому времени давно уже на колу криком изойду. Когда их княжеская милость огнем гнева пылает, ему поленья сейчас подбрасывать надо, не завтра, и уж тем паче не через месяц. Не серчай, отец настоятель, но мне лучше сегодня через твое слово перешагнуть, чем завтра объяснять князю, почему отпустил убийцу княжича Яноша! Иезус-Мария, своя рубашка ближе к телу!
И Марта, до сих пор недвижно стоявшая между Джошем и равнодушным Седым, не выдержала.
— Конечно, ближе! — истерически выкрикнула она, выбегая вперед и чувствуя, как хмель безумной ночи кружит голову и вырывается наружу хриплым хохотом. — Знал бы старый Лентовский, как сыночек его, покойный Янош, на отца злоумышлял — небось, одарил бы пана Михала по-княжески! Золотом с ног до головы осыпал бы! Меня, меня с собой везите — я все расскажу князю, все!..
Из присутствующих, пожалуй, только Джош-Молчальник понимал, о чем идет речь: он-то хорошо помнил корчму Иошки Мозеля и молодого княжича, у которого Марта на ходу прихватила клочок ненависти к отцу, тут же сбросив пакость в кошку Бырку. Но Джош молчал, и не только потому, что человеческая речь была для него отныне недоступна, а остальные изумленно уставились на женщину у тарантаса; единственную женщину среди присутствующих мужчин, чьи мужские дела и замыслы сплелись в тугой узел, который впору разве что полоснуть ножом…
Впрочем, и во взгляде усача, судорожно лапающего рукоять кривой карабеллы,[16] к удивлению ни с того ни с сего примешалась темная звериная злоба и страх, почти детский страх, как бывает, когда прохожий застанет мальчишку за всяким непотребством и пригрозит донести отцу или матери.
— Добро, — наконец решился усатый, сбивая на затылок высокую смушковую шапку, — сама напросилась… Эй, хлопцы, берите воеводу, а я за бабой пригляжу! Если и впрямь что знает, пусть князю и доложит… стерва языкатая!
Последние два слова были произнесены еле слышно, не для «хлопцев», примеривавшихся к Михалу и не шибко-то желающих лезть на заряженный пистоль.
Наконец один из них дал коню шенкеля, животное громко заржало, грянул выстрел, но замешкавшийся аббат Ян не дал воеводе Райцежу как следует прицелиться, и пуля угодила не во всадника, а в ухо тому же несчастному коню, уложив последнего наповал. Почти сразу свистнули два аркана, палаш Михала сноровисто рассек ближнюю волосяную веревку, от второй петли Райцеж уклонился, запустив разряженным пистолем в голову кинувшего аркан пахолка. Усач, который к тому времени уже стоял рядом с Мартой, наскоро огляделся, убедился, что все поглощены происходящим вокруг беглого воеводы — и украдкой потянул из-за голенища нож.
Тот самый, на который позарился Джош — после бегства Михала усатый подобрал засапожник на корчемном полу, рядом с разрезанными путами.
Очень острый был нож… пан Михал мог бы это подтвердить, если бы не был сейчас столь занят.
Усач был дядькой при княжиче Яноше. Худородный шляхтич из Богом забытого Зебжида, что близ Пауковой горы, он жил исключительно милостями Лентовских; только в последние годы милости старого князя резко пошли на убыль. Забылось все: что именно усатый учил наследника сидеть на коне и рубиться саблей, стрелять из пистоля и травить лис в окрестных лесах… все забылось и пошло прахом. Мать княжича Яноша скоропостижно скончалась, старый князь, крепкий как дуб, женился во второй раз, через год обзавелся сыном, и свитские всерьез поговаривали, что строптивый и не в меру упрямый княжич Янош будет вскоре отстранен от права наследования родового маетка в пользу младенца. Тем более, что жить старый Лентовский собирался по меньшей мере до совершеннолетия, а то и до свадьбы своего нового сына.
Отсюда и возникшая неприязнь князя к молодому Яношу, с которым они вздорили через день, а также к свитским шляхтичам княжича.
Поэтому когда Янош Лентовский открылся своему дядьке-наперснику, которого знал, что называется, с младых ногтей, в желании ускорить кончину самодура-отца — усач сразу понял, что это его единственный шанс выбиться в люди. В случае удачи дело пахло не просто подаренным имением или кошелем-другим золотишка. Здесь открывалась возможность до конца дней своих доить княжича Яноша, после того как последний станет наконец князем Яношем Лентовским.
И вдруг, когда все уже было уговорено, и старому Лентовскому оставалось жить недели две, не больше — до ближайшей охоты… Сперва от руки гордого Райцежа погибает княжич Янош, а потом — о, пся крев, откуда на нашу голову взялась эта проклятая баба?! Что она знает?! Как пронюхала?!
И что скажет князю, если доберется до него?!
…очень острый был нож.
Сейчас пахолки повяжут строптивого воеводу, и никто не услышит задыхающегося всхлипа, какой всегда бывает от прикосновения к живому трепещущему сердцу неизбежности холодного лезвия. После можно будет сказать, что баба пыталась бежать, или вырвать нож, или еще что… там видно будет.
На присевшего усача смотрели лишь одни глаза.
Цвета старого серебра.
Очень старого.
И лицо Великого Здрайцы смятенно подергивалось, как у скупца, вынужденного бросить в миску случайного побирушки целый талер.
…очень острый был нож.
Предусмотрительный усач даже не успел удивиться, когда на сверкнувшем клинке засапожника вдруг сомкнулись невесть откуда взявшиеся пальцы — словно из земли выползла суставчатая поросль — и, с хрустом разрезая собственную плоть, потащили нож на себя. Крови не было, крика не было, ничего не было, только страшные пальцы, отбиравшие оружие, да скользкий хруст; и заворочался на росистой траве растоптанный подмастерье мельника Стаха, разлепляя стылые веки и уставясь прямо в посеревшее лицо усача мутными бельмами.
Не вставая, мертвец перехватил нож второй рукой, сжал копытце косули, служившее рукоятью — и одним ударом, словно кабана колол, всадил полоску стали усачу под подбородок.
И лишь потом стал подниматься.
Тем четверым, кто рубился сейчас с бешеным Райцежем, было не до вставшего подмастерья и заколотого усача. Самим бы в живых остаться… эй, кто там, стреляйте в пана воеводу!.. ну стреляйте же, хлопы лягушачьи!.. Самый благоразумный из верховых, до сих пор не торопившийся спешиться и лезть в свалку, рванул из-за плеча старую рушницу, взвел курок, приложился к дубовому ложу — грохнуло, потянуло дымом, пуля оторвала мочку уха у неудачливого пахолка, только что напоровшегося боком на беспощадный палаш Михала, и расплескала щепой доску ограды погоста.
Мертвец поравнялся со стрелком — шел подмастерье птичьей подпрыгивающей походкой, зачем-то держа усача за запястье и волоча обмякшее тело по траве — и свободной рукой уцепил его за сапог. Пахолок Лентовского не глядя отмахнулся, приклад вскользь пришелся по лицу мертвого, содрав лоскут серой кожи; но хватка не ослабела, последовал рывок, еще один… пахолок истошно заорал, увидев, кто его тащит, тяжелый приклад успел еще разок-другой опуститься на безучастного мертвеца, после чего стрелок кулем свалился на землю, забарахтался, исходя криком, мельников подмастерье упал сверху, так и не отпустив усача…
Два мертвых тела остались лежать — усач с ножом под подбородком и стрелок со свернутой шеей — а третье вновь начало подниматься.
Оставив Михала в покое, все свитские (кроме тяжелораненого с распоротым боком) в ужасе взирали на происходящее. Впрочем, Марта тоже едва сдерживалась, чтобы не дать подступающему безумию овладеть рассудком, а аббат Ян застыл, не успев даже начать крестного знамения. Один мельник не выказывал особого испуга — старый Стах меленько затоптался, прихрюкивая себе под нос, плешь его мигом заблестела бисеринками пота, носик деда потешно сморщился… и с погоста донесся глухой многоголосый стон.
Шевелились просевшие могилы, кренились кресты, костлявые руки страшными побегами прорастали из рыхлой земли, пальцы, словно дождевые черви, бессмысленно шевелились, хватая сырой воздух, вот уже и обросшие плесенью волос черепа показались наружу, сверкая огненными провалами глазниц; стон усиливался, озвеной[17] метался в тумане, в него вплетались гулкие вскрикивания, как бывает на похоронах, когда добровольные плакальщицы в муке бьются над открытой домовиной…
Как они бежали! Как неслись прочь, терзая обезумевших лошадей — не верящие ни в Бога, ни в черта верные пахолки грозного князя Лентовского, каждый из которых способен был насадить на вертел живого ягненка и смеяться, слушая детские вопли несчастного, подвешенного над пылающим кострищем! Как мчались они, боясь обернуться, увидеть еще раз, почувствовать на себе мертвую хватку невозможного — о небо, как же они бежали от Топорового погоста!
Прочь!
Скорее прочь!
Скорее!..
— Господи, помилуй! — наконец сумел прошептать отец Ян, напрочь забыв всякую латынь, и впечатал в себя крестное знамение с такой истовостью, словно собирался навеки запечатлеть его в собственной плоти.
«Аминь», — отозвалась тишина.
Молчит погост, недвижимы могильные холмики, стоят по-прежнему старые и новые кресты, и за спиной вновь прижавшегося к ограде Михала не происходит ровным счетом ничего.
Померещилось?!
Лежит навзничь, раскинув тяжелые руки, Стахов подмастерье, грузно навалившись на стрелка с усачом; чуть поодаль валяется пахолок, чья жизнь только что вытекла до последней капли из рассеченного бока — нет, значит, не привиделось, значит, было, значит…
Мельник Стах, неуклюже ступая, подошел к трупам, долго смотрел на них, потом наклонился и с жуткой нежностью огладил копну волос посмертного убийцы.
— Не знал я, Стас, — прошептал колдун. — Не знал, что ты втайне от меня душу Петушиному Перу продал… Не я тебя поднимал — он!.. Что ж ты раньше-то молчал, Стас?!
— Пустобрех! — страшно завизжали от тарантаса, и никто, в том числе и сам мельник, не понял сразу, что визжит Петушиное Перо. — Топор щербатый! Какую душу?! Кому продал?! Что ты мелешь, пень старый?! Уж тебе ли не знать, что в первое девятидневье после смерти покойных добром не поднимают?! Не знал он, валух, тварь холощеная! Не знал!
Сейчас Великий Здрайца был ужасен и жалок одновременно. Ничего не осталось от прежнего насмешника и щеголя, знаменитый берет был безжалостно скомкан и брошен под ноги, эспаньолка встопорщилась и намокла от брызжущей во все стороны слюны, лицо искривилось в гримасе бешенства, словно Петушиное Перо теперь дико жалел о чем-то и понимал, что потерянного не вернуть, не вернуть никакими силами…
— На рожи, рожи его глянь, колдун хренов! На рожи!
Марта неожиданно для себя самой откачнулась от тарантаса и двинулась к мельнику, замершему над мертвыми. Подойдя, она заставила себя опустить взгляд, проморгалась, стряхивая мешающие видеть слезы — и поняла, что имел в виду Великий Здрайца, когда говорил «рожи».
У подмастерья было два лица. Марта не знала, какое из них подлинное, потому что не очень-то хорошо пригляделась к Стасу при жизни — куда там, за те считанные мгновенья! — но их было именно два, и из-за первого, окоченевшего в смертной муке, зыбко проступало другое: опустошенно-счастливое, с тонкими, почти прозрачными чертами, словно всплывавшее из речной глубины, пробиваясь сквозь отражения берега и кривых ракит на круче.
Такие лица бывают у умерших каторжников. Все, кончился мучительный труд, казавшийся бесконечным, и твердо известно, что хуже уже не будет никогда.
Великий Здрайца к этому моменту впопыхах кидал в тарантас скатерку, горшки, фляги; кобыла спешно доедала овес из торбы, понимая, что в ближайшее время жевать ей явно не придется.
— Душу потратил, — бормотал Петушиное Перо себе под нос, захлебываясь жадностью и слюной. — Душу, душеньку, выкуп мой, кубышечку!.. ах, дурак, дурак адов… Не поймать теперь — дудки, освободилась, оборвала поводок, на второй круг пошла, ищи-свищи! Ах, дурак… Будь ты проклята, баба, на веки вечные! Обокрала, как есть обокрала, сперва силой умыкнула, потом на жалость взяла, взломала кубышечку — а я, я, не знал, что ли, что муки освобождают, что опасно мертвяков неостывших насильно подымать?! Знал?! Знал… ах, дурак, баран безмозглый…
И чудовищно удлинившаяся трость из орешины свистнула по костлявой спине лошаденки.
Тарантас Великого Здрайцы, вихляясь, катил через луг, и уже давно должен был скрыться в тумане, но почему-то все не скрывался: дрожащая пелена в испуге спешила расступиться перед тем, чье имя лучше не поминать лишний раз, и отнюдь не торопилась сомкнуться позади. Тарантас словно уходил в длинный и узкий коридор с призрачными туманными стенами, ведущий, казалось, в саму Преисподнюю…
Но до Преисподней было все же далековато. Да и не собирался туда Петушиное Перо, так что тарантас в конце концов убрался восвояси, туманный коридор понемногу затянулся, а смотревшие вслед тарантасу люди передернулись и сбросили путы оцепенения.
— Эх, знал же, что нельзя со Здрайцей связываться! — горько вздохнул мельник. — Теперь, чую, недолго нам всем мать-землю топтать осталось…
— Это почему же? — чуть приподнял бровь аббат Ян.
— Да не вам! — огрызнулся мельник. — Вам-то что?! Уедете, и поминай как звали! А нам куда с мельницы податься? Приедут, скоро приедут… пожгут, порубят, и ведовство мое не поможет!
— Я не держу на тебя зла, старик, — на удивление мягко проговорил настоятель.
— Вы-то, может, и не держите, святой отец, — проворчал Стах. — И на том спасибо, ежели не врете. Бог даст, и не пришлете сюда никого. Да только Лентовские, — они-то не простят! Весь бы их змеиный род… — Топор не договорил, зло сплюнул и обернулся к уцелевшему подмастерью. — Сходи-ка ты, Мешко, на мельницу за заступом! Стаса похоронить надо. Чтоб все по-людски…
— Я помогу, — неожиданно вмешался Михал.
Мельник покосился на воеводу, но ничего не ответил.
Михал и Седой молча подняли мертвого Стаса и понесли к погосту.
— Я буду молиться за упокой… за упокой его души, — отрывисто бросил им вдогонку настоятель.
— Благодарю, святой отец. Вот могилу выроем — и читайте все, что положено, — старый мельник постоял, горестно хмыкая, и побрел следом.
Аббат Ян согласно кивнул и обернулся к Марте, к ногам которой все еще жался Джош.
Квестарь Игнатий тактично отошел подальше, хоть и хотелось ему послушать, о чем станет говорить аббат Ян со своей сестрой, за которой только что приезжал сам Сатана! Приезжал — и уехал ни с чем. Чудо! Вот только надолго ли уехал?..
— Странно все это, Марта, — в явной растерянности пробормотал Ян, искоса глядя на сестру.
— Странно, — согласилась Марта. — Только что? Что странно для тебя, Ян?
— Многое, Марта. Этот человек… или не человек — которого все, в том числе и он сам, называют дьяволом… Может быть, я впадаю сейчас в тяжкий грех, но мне немного жаль, что он так быстро уехал. Нам с ним было бы о чем поговорить. Во всяком случае, мне с ним.
Марта даже на мгновение потеряла дар речи. Ее брат Ян… нет, не так — аббат Ян, священник-бенедиктинец, настоятель тынецкого монастыря, ведущий теологические беседы с Великим Здрайцей?!
— И о чем же ты хотел с ним поговорить? — выдавила она наконец.
— О многом, — бледное лицо аббата в обрамлении предрассветной дымки было сейчас серьезным и немного грустным. — О том, о чем намекнул, но не договорил он сам. О том, почему он спас тебя — а по большому счету и меня с Михалом — отпустив принадлежавшую ему душу, вложив ее в мертвого и ничего не потребовав взамен? Да и вообще: откуда он взял эту душу, почему все же решился с ней расстаться, хоть и жалел потом? Не из Преисподней же он ее извлек?! О, у меня к нему было бы множество вопросов, и, думаю, на многие из них он смог бы ответить — вот только захотел ли?.. Где обретаются погубленные, проданные Нечистому души людские? В аду? Или все же нет? Опять же — зачем Дьяволу души? Что ему с них? Неужели ему просто доставляет удовольствие соблазнять и мучить малых сих? И так ли уж они мучаются? — если только что он сам кричал, что муки освобождают, забыв сказать: от чего именно они освобождают! Многое хотел бы я у него спросить, даже зная, что грех это, и что верить Дьяволу нельзя; да скорее всего, он не захотел бы отвечать мне — и все же…
Аббат умолк и потупился.
— Он сам несчастен. И страдает, — против воли вырвалось у Марты, и Ян снова поднял на нее удивленный взгляд. — Я видела его глаза, когда он заставлял Седого становиться волком, и еще, когда он… он показывал мне… Скажи, Ян, это было на самом деле? Постоялый двор в Казимеже, пьяная драка нищих, и ты — в мирском платье, похож на купца, сидишь с толстой девицей на коленях и пинаешь сапогом одноногого бродягу? Было?!
— Откуда?! — задохнулся Ян. — Откуда… ты посмела?!
— Нет, я не крала это у тебя. И в том трактире не была. Все это показал мне он, Великий Здрайца. Так это правда?
— Правда, — сухо сказал аббат и отвернулся.
— Тогда, может быть, правда и другое…
— Что — другое? Что еще он показал тебе из моего грязного белья?! — зло бросил Ян, в эту минуту совсем не похожий на прежнего святого отца, кладезь кротости и всепрощения.
— Нет, речь шла не о тебе, Яносик. Шафляры, батька Самуил — и Михал. Они долго говорили, спорили, все больше горячились; потом Михал схватил отца за грудки, а тот… Вот так умер наш отец, Яносик! А Мардула-разбойник еще раньше обвинил Михалека в смерти Самуила-бацы. Может, и это правда?!
— Правда, — раздался сзади хриплый голос.
Михал стоял совсем рядом. Лицо воеводы было в грязи, на лбу ссадина, рейтузы порваны и измазаны в запекшейся крови…
— Правда, — кивнул он, когда Марта и Ян разом обернулись к нему. — Да не вся. Что ж, придется рассказать. Чуял я, что рано-поздно не миновать мне этой исповеди, — вот, видать, времечко и настало…
В чумазом детстве шалопай и задира Михалек Ивонич нечасто обременял себя раздумьями о собственной и чужих судьбах, а также о своем воровском таланте. Талантом этим, кропотливо взлелеянным старым Самуилом, Михалек пользовался направо и налево без зазрения совести — за что не раз бывал бит батькиным кнутом. И правильно: дабы на глупости дар свой не растрачивал, не таскал без нужды что ни попадя и не вызывал у людей подозрений в связи с нечистой силой.
Наука батьки Самуила явно пошла впрок, и когда Михал Ивонич, в скором времени провинциальный шляхтич Михал Райцеж, покидал ставшие ему родными Шафляры, он уже твердо знал, чего хочет, и каким образом сможет этого добиться.
Он добился.
Но только с некоторого времени в голову Михала Райцежа, мастера клинка и известного в Европе дуэлянта, начали настойчиво стучаться всякие мысли, которых в оной голове ранее не водилось.
Пан Михал неожиданно ощутил себя ущербным. Да, он стал шляхтичем, учеником выдающихся фехтовальщиков, знатоком ратного дела — но для Михалека его мастерство было таким же краденым, как и титул, таким же фальшивым, как и его королевские грамоты, добыто точно таким же обманом, как и родовое имя!
А Михал хотел настоящего.
Своего!
Он был уверен, что сможет добиться и этого. Не обманом, а честной службой, не воровством, а упорным трудом и собственными учениками он окончательно заслужит уважение других — и наконец-то сможет уважать сам себя!
Так Михал осел в Висниче.
И действительно пришелся ко двору. Его быстро полюбили гайдуки, его оценил Ежи Любомирский, граф Висничский и нынешний фаворит короля; даже долго присматривавшийся к молодому преемнику прежний воевода Казимир Сокаль все чаще одобрительно хмыкал в усы, глядя, как Михал самозабвенно оттачивает свое мастерство, привезенное из далеких Тулузы и Флоренции; да и изнурительные уроки самого пана Казимира не пропали даром. Всем был хорош новый воевода: и не стар еще, и собой красив, и дело свое знает отменно, и строг по совести, и мир успел повидать; разве что горяч не в меру — но какой рубака в его-то годы бывал холоден? Сам пан Казимир в молодости… охо-хо, жизнь наша грешная!..
Так что когда Михал попросил у Сокаля руки Беаты, единственной дочери пана Казимира, овдовевшего лет семь тому назад — старый воевода, уже давно видевший, к чему дело идет, и не подумал возражать.
Женился Михал по любви. Беата стала первой и единственной женщиной, в присутствии которой Михал Райцеж на время забывал о выпадах, позициях, заточке оружия и других премудростях военной науки, ремесла, искусства — давно ставшего смыслом его жизни.
И поначалу Михал был искренне счастлив.
Но прошло совсем немного времени, и в ревнивую, источенную сомнениями и лишь недавно, казалось, обретшую долгожданный покой душу нового воеводы начали закрадываться смутные, но от этого не менее черные подозрения.
Нет, молодая жена была верна ему — в последнем Михал не сомневался. Дело было не в чистоте супружеского ложа…
Еще перед свадьбой Райцеж дал себе зарок: никогда не лезть в душу жены. Это — святое. Грязные пальцы вора Михалека Ивонича не коснутся чистой души Беаты. Ее муж — воевода Михал Райцеж, который не унизит супругу и себя гнусным воровством.
И Михал держал данное самому себе слово, скрипя по ночам зубами и мучаясь от того, в чем был уже почти уверен: Беата не любит его! Она просто не могла воспротивиться воле отца и пошла под венец — но любит она другого! Кого?
Больше полугода Михал мучился этой неопределенностью, отмечая предупредительную покорность жены на ложе — конечно, от кроткой Беаты не стоило ожидать пылкой страстности флорентиек или искушенности француженок… но не так, не так должна вести себя женщина с тем, кого любит! Кто же его соперник? Кто?!
Вскоре Михал нашел ответ и на этот вопрос.
В тот раз они с женой и тестем сопровождали графа Висничского. Граф ехал в Краков, в Вавельский замок на встречу с краковским каштеляном. Любовь владетелей Виснича насильственным путем решать спорные вопросы о принадлежности пастбищ и наделов вечно приводила к конфликту с теми пострадавшими шляхтичами, кто больше полагался на силу закона, чем на силу собственной сабли. Для сабли в Висниче прикармливали наемных воевод вроде пана Казимира или Райцежа, для закона — в ход шло отдаленное родство с краковским каштеляном и королевское благоволение. Впрочем, дело не в этом… Официальные приемы, разговоры о политике и лошадях, свежие сплетни — это успело порядком надоесть Михалу еще в годы его странствий по Европе. Здесь было то же самое, только несколько более провинциальное, и Михал время от времени едва сдерживал улыбку, глядя на манерных, не первой свежести шляхтянок и их кавалеров в кунтушах и шароварах, громыхающих саблями и безуспешно копирующих манеры английских аристократов.
Последовавший за приемом бал не принес ничего нового: музыканты фальшивили, играя па-де-грас, зато залихватски исполняли мазурку и краковяк; сам Михал, станцевав пару туров с восхищенной Вавельской пышностью Беатой (вот насчет пышности она была права!), извинился и отошел в сторонку. Танцевать решительно не хотелось. Михалом овладевала скука, настроение было скверное, и, задумавшись, он не сразу заметил, что его жена уже не в первый раз танцует в паре с молодым щеголеватым вельможей. Тот что-то увлеченно рассказывал ей, и Беата весело смеялась, с явным удовольствием позволяя кружить себя в танце и кружить себе голову.
Приглядевшись, Михал узнал молодого щеголя. Это был Янош Лентовский, сын высокородного князя Лентовского, стоявшего чуть поодаль и беседовавшего с каштеляном и графом Висничским. Но старый князь сейчас не интересовал воеводу Райцежа. Неужели перед ним тот, кому принадлежит на самом деле сердце Беаты? Княжич Янош?!
В голове Михала вихрем пронеслись последний визит Лентовских в Виснич, предыдущая поездка в Краков… Все сходится! Как же слеп он был! Оба раза молодой княжич вьюном увивался вокруг Беаты, а та и не думала осадить зарвавшегося юнца, как и сейчас, смеялась его шуткам, и танцевала больше с ним, чем с мужем — в танцах и комплиментах этот ясновельможный щеголь куда искуснее неотесанного воеводы графа Висничского, только и умеющего, что сталью сверкать!..
Нет, Михал не затеял немедленной ссоры, не вызвал юнца на поединок по пустяковому поводу, как сделал бы еще года три назад. Убить соперника никогда не поздно; так оно скорее всего и произойдет, рано или поздно, но не в Вавеле и не в присутствии Беаты. Он должен вытеснить из ее души наглого Яноша, занять его место — ведь Михал же любит жену, как она этого не видит! А молодому хлыщу нужно совсем другое — соблазнить, затащить в свою постель ради сиюминутной похоти, а потом хвастаться перед приятелями очередной победой и позором рогатого Райцежа…
И тогда Михалек Ивонич вспомнил, кто он такой.
Он — ВОР!
Украсть, вырвать с корнем любовь к сопернику — и тогда у него появится надежда занять освободившееся место.
Только надежда.
Но даже из-за нее стоило рискнуть.
Риск был велик, и Райцеж знал это. Если Беата и вправду любит княжича Яноша, то выкрасть у нее это чувство без остатка было задачей практически непосильной. Михал хорошо помнил лабиринты души Жан-Пьера Шаранта и жутких Стражей с огненными мечами. Да и наставления Самуила-бацы отнюдь не забылись.
И Михал Ивонич, вор-воевода, задумал неслыханное. Не кража — ГРАБЕЖ! Вломиться, раскидать Стражей, вырвать силой — и уйти. Это было опасно, тем более по отношению к любимой женщине, но Михал уже не мог остановиться.
На грабеж не ходят в одиночку. Ему понадобятся подручные. Ни Ян, ни Марта, ни Тереза ему помогать не будут — в этом Михал был уверен, он слишком хорошо знал своего брата и сестер.
Значит, надо воспитать, вырастить таких подручных!
Раньше подобные мысли никогда бы не пришли в голову Михалека, но сейчас, мучаясь от любви и ревности, он был способен на все.
Самуил-баца не раз говаривал, что с переломного момента своей жизни, лет эдак с сорока-сорока пяти, любой вор обретает способность находить себе подобных, видеть чужой, даже непроявленный дар, сходный с собственным — и тогда он сумеет развить его, вытащить на поверхность, научить другого тому, что умеет сам.
Но ждать Михал не мог и не хотел. Он должен был научиться делать это СЕЙЧАС!
А от этой мысли оставался всего шаг до следующей: Михал знал лишь одного человека, обладающего подобным даром.
Их приемного отца, старого Самуила.
Приехать в Шафляры, уговорить, умолить, уломать старика отдать ему эту способность — и за год найти и натаскать двух-трех помощников.
Плевать, что это будут недоучки, умеющие немногое, не постигшие всех тонкостей воровства частиц чужих душ.
Плевать, что обучать придется взрослых, у которых нужная способность задавлена грузом накопившегося за годы жизни хлама, и никогда она не разовьется так, как у ребенка, кропотливо обучаемого сызмальства.
Плевать!
Плевать, что из его помощников никогда не выйдет настоящих Воров, таких, как он сам, Марта, Ян, Тереза…
Плевать!
Потому что настоящие Воры ему и не потребуются. Ему потребуется лишь грубая сила подручных, которые смогут сдерживать Стражей, пока он, Михал, будет, плача и ненавидя себя самого, рыться в душе любимой, чтобы с корнем вырвать любовь к проклятому княжичу!
Чтобы держать жертву и отбиваться от Стражей — хватит и недоучек.
…Хмурый рассвет застал Михала на околице Шафляр, у просевшей от времени, но все еще крепкой избы Самуила-бацы. Хорошо умел строить старый Кшись, прежний хозяин хаты; хорошо умел строить да пристраивать батька-Самуил. И не только строить…
Отец был дома. За прошедшие годы он заметно постарел, некогда черная с проседью борода вконец заросла инеем, заиндевели и кустистые брови, но дряхлым его назвать было никак нельзя. И все так же остро и проницательно светились под косматыми тучами бровей знакомые с детства пронзительные Самуиловы очи с хитрым прищуром.
— Не здесь, — коротко бросил отец, когда они поздоровались, и Михал едва успел открыть рот, чтобы начать разговор.
На завешенной холстом печи кто-то заворочался, закашлялся надсадно, потом еле слышно выругался, и Михал понял — это кто угодно, но только не немая мама Баганта. Да, предстоявший разговор отнюдь не предназначался для посторонних ушей, тут батька-Самуил был прав.
Они выбрались на пригорок за околицей, Михал хотел было подстелить свою накидку отцу, собравшемуся усесться прямо на мокрое от росы бревно, но Самуил только досадливо покосился на сына, встопорщил бороду — и Михалу пришлось усаживаться на свою накидку самому.
Некоторое время оба молчали, глядя на розовеющий, наливающийся утренним пурпуром небокрай над дальним лесом.
— Ну? — хмуро бросил наконец Самуил.
— Дело у меня к тебе, батька, — собрался с духом Михал. — И непростое. С таким к тебе никто, небось, не обращался — и вряд ли обратится.
— Да уж вряд ли, — все так же неприветливо буркнул Самуил-баца, словно знавший, зачем приехал сын. — Рассказывай.
И тут Михала прорвало. Сбиваясь, торопясь, брызжа слюной, он рассказал отцу все: и о жизни своей, и о муках своих, и о Беате, и о молодом княжиче — и о замысле своем, как любовь Беатину на себя поворотить.
Он уже давно умолк, а старый Самуил-баца продолжал сидеть по-прежнему ровно, расправив широкие плечи, на которых тяжкой буркой лежали его немалые годы, и только лицо батьки было чернее тучи и продолжало дальше мрачнеть — хотя такое казалось совсем невозможным.
— Недоброе дело задумал, — проговорил наконец Самуил, не глядя на сына. — Княжича-пустолайку на поединке зарубить — еще ладно, хоть и не стоит он того. А вот к жене в душу ломиться, любовь с корнем вырывать — и вовсе дело поганое. Это тебе не сорняк с огорода выполоть. Тут всего человека искалечить можно. А потому вот тебе мой сказ: не дам я тебе, чего просишь. И думать об этом забудь. А жена… жена тебя и так полюбит, дай только срок. Дом, хозяйство, детишки пойдут…
— Да не могу я ждать, отец! — рванул Михал ворот камзола, словно тот душил его. — Сил моих больше нет терпеть да делать вид, что ничего не замечаю! Дай мне нюх Воров отыскивать — я все сам сделаю! Разве ж я не понимаю, что задумал?! У самого душа не на месте — а по-другому все равно не смогу! Ничего в Беатиных закромах не трону, только пырей этот проклятый вырву! И подручным — строго-настрого, чтоб даже Стражей не калечили, только придержали! Разве ж я не понимаю… Люблю я ее, люблю смертно! Помоги, батька!..
— Молчи! — жабьи глаза Самуила полыхнули гневом. — Воеводой стал, а ума ни на грош не прибавилось! Поумнеешь — сам поймешь; а меня на грех не подбивай! Видать, не больно-то женку свою любишь, раз на такую пакость решился!
Уже не соображая, что делает, задохнувшийся от негодования Михал схватил отца за грудки, рывком приподнял, бешено сверкая очами — и, словно на шпагу, напоролся на такой же бешеный, яростный взгляд отцовых глаз; две не менее крепкие руки вцепились в него, и в этот момент никто бы не смог назвать Михала приемным сыном Самуила-бацы — настолько похожи были их искаженные гневом лица, старое и молодое…
А потом захрипел страшно старый Самуил, еще крепче вцепились в Михалов камзол сведенные смертной судорогой пальцы — сжались, дрогнули, ослабли, и осел на землю, беспомощно шаря по груди, батька-Самуил, дернулся пару раз и застыл, уставясь в небо остановившимся взором.
Еще не веря в случившееся, присел Михал над отцом и взял в ладони холодеющее лицо.
…Это было страшно — то, что он сделал. Не было сил у умирающего, считай, мертвого уже Самуила отгородиться, защититься от вломившегося в его отходящую душу Михала. Отшвырнув бессильных в смертный час Стражей, прорвался сын в тайники отцовой души, безошибочно найдя то, что искал, и выбежал наружу, в себя, как бегут вон из горящего дома, обожженными невидимыми руками прижимая к себе добычу — ни к чему дар мертвому, а вот ему, воеводе…
Потом все было как в тумане: крики «Убийца! Отца убил!» и люди, пытающиеся успокоить беснующегося перед Михалом паренька, успевшие отобрать у него и нож, и рушницу кремневую — от греха подальше; видать, затмение нашло на молодого Мардулу — кто ж Михала не знает, Самуилова сына; вот же, на руках отца несет — помер старик, жалко, да только годков ему уж под восемьдесят было, вот и помер, никто его не убивал, ты остынь-то, парень… и жег спину воеводы ненавидящий, цепкий, запоминающий взгляд молодого Мардулы.
— Вот оно, значит, как, — медленно проговорил аббат Ян, пытаясь прийти в себя от услышанного. — Бог тебе судья, Михалек, а я не возьмусь приговоры выносить. Жаль, что сразу не сказал… только чую, так, как ты сам себя казнишь, ни один палач тебя казнить уж не сможет.
Михал молча отвернулся.
— Ты едешь с нами? — Марта слегка коснулась вздрагивающего плеча брата.
— Еду. Сама знаешь — до сороковин времени чуть осталось, да и Мардула меня там дожидается. А у него — жена моя.
— Ну что ж, значит, так тому и быть, — кивнул Ян.
Через два часа, когда солнце уже позолотило верхушки вековых дубов Гаркловского леса, аббатский возок, двое верховых и собака покинули мельницу.
Они спешили в Шафляры, и мрачными были мысли каждого.
Может быть, это называется предчувствием?
…через две с половиной недели страшная весть пронеслась над Опольем, и долго еще чесали потом языки хлопы панских маетков и чорштынские бровары,[18] переговаривались меж собой работники Хохоловской гуты[19] и купцы Тыньца, а в корчме Рыжего Базлая и вовсе говорили о том без умолку с утра и до вечера.
Гайдуки Лентовского дотла спалили Топорову мельницу!
Сам старый князь явился во главе трех дюжин своих людей и взирал единственным глазом, налившимся дурной кровью, на бушующее пламя, в котором сыпал проклятиями умирающий мельник Стах и молчала безрукая мельничиха, так и не попытавшаяся выбежать наружу; да что там князь — провинциал[20] Гембицкий в фиолетовой мантии лично сопровождал гневного Лентовского, и беспощадная слава борца с ересью бежала впереди сурового доминиканца, заставляя вздрагивать во сне даже тех старух, кого соседка сдуру обозвала ведьмой при свидетелях!
Один сын мельника Стаха, седой коротышка, умер достойно, встретив гайдуков деревянными вилами — уже смертельно раненный, он прорвался через строй, зубами перехватив глотку того, кто пытался его связать, и ушел в лес.
Шептались гайдуки — волком ушел, проклятый, оттого и не достали пулей… такого серебром надо!..
Три дня и три ночи выла с того часа Гаркловская чащоба, где кончался в гнилой берлоге седой вовкулак; и двое монахов из сопровождения провинциала Гембицкого пропали неведомо куда — тот, что первым бросился с факелом к Топоровой мельнице, и тот, что смеялся громче прочих в ответ на проклятия горящего старика и кричал: «Туда тебе и дорога, колдун проклятый!»
Марта и ее спутники в это время проезжали Новотаргскую долину, приближаясь к Шафлярам; и по ночам женщину мучили кошмары.
Ей снился Седой, бесцельно бродящий по заброшенному погосту.
ВЕЛИКИЙ ЗДРАЙЦА
Я не помню, кем был — я знаю, кем стал.
Изредка снимая свой замшевый берет с петушиным пером, схваченным серебряной пряжкой, я напяливаю его на кулак и долго смотрю, представляя, что смотрю сам на себя.
Перо насмешливо качается, и серебро пряжки тускло блестит в свете месяца.
Я делаю так редко, очень редко, в те жгучие минуты, когда понимаю, что больше не могу быть собой — но и перестать быть я тоже не могу.
Люди зовут меня дьяволом.
Это правильно.
«Это правильно, — как заклинание, твержу я самому себе, берету, перу, пряжке, насмешнику-месяцу, — это правильно, правильно… правильно это!»
Они не верят.
С некоторых пор — не верят.
С несусветно раннего завтрака у старого погоста, с потных ладоней и дрожащего голоса, с никому не нужной орешины, пятнистым кружевом сбрасывающей кору, путая в свежих лентах смущение и наглость вперемешку; с картин, которые я невесть зачем вызывал в тумане, с мига, когда я юродствовал, подобно прыщавому юнцу, и не раздумывая пожертвовал драгоценной душой из моей заветной кубышки, лишь бы одна из Евиных дочерей осталась жить.
Да, потом я жалел. Я жалел, и не стыжусь этого; и жизнь моя дала трещину.
Не знал, что такое возможно.
Не знал…
Люди зовут меня Князем Тьмы.
Я не князь.
Я — крепостной Тьмы.
Я ем хлеб Преисподней в поте лица своего, я могу лишь надеяться, что когда-нибудь накоплю необходимый выкуп, и тогда меня отпустят на волю.
Я из последних сил бегу по раскаленной сковороде своей пропащей жизни, я смеюсь, чтоб не позволить копящемуся крику разорвать горло, я гашу полыхающий внутри пожар поленьями чужих душ, проданных душ, проклятых душ — когда-нибудь бушующий во мне адский огонь захлебнется обильным приношением или сожжет меня дотла!
В сущности, это одно и то же.
Для меня.
Я не помню, кем был; я знаю, кем стал.
Я умею только брать и копить.
Еще я умею смеяться.
Хотите смеяться так, как я, ваши милости?
Могу научить… вот, это совсем не больно и совсем не страшно: лезвием по вене, и чертите пером ваши закорючки — здесь, здесь, и еще вот здесь!.. хотите?!
Брать и копить, ваши милости, брать и копить!
Но эта женщина… о длинноногая воровочка моя, зачем тебе взбрело в голову научить Петушиное Перо отдавать?! Зачем мы встретились, зачем ты походя плеснула на мою сковороду, на светящийся от жара металл ледяной родниковой водой?! — нет, я не хочу трескаться, мне нельзя останавливаться, отвлекаться, нельзя, нельзя… Задумывалась ли ты, глупая, что когда один ворует — второй отдает! Да, не по своей воле, да, насильно, да, но все-таки отдает! Вам, людям, это привычно, вы всегда отдаете что-нибудь, добром или недобром — силы, деньги, слова, жизнь! — но вы зовете меня дьяволом, потому что я другой!
Для вас свобода начинается со слова «нет», потому что говоря «да», вы подписываете договор, а потом — какая потом может быть свобода?! Я же говорю «нет», и это мое рабство, потому что «да» открывает двери внутри меня, открывает ворота в ад, в «да» наоборот, даруя свободу вам войти… но и аду выйти!
Умри, свобода слова «да»!
Я не умею отдавать!
Я не умею… я не умел отдавать.
Я — крепостной Тьмы, я — виллан Геенны, я — пустая перчатка, я чувствую в себе заполняющую пустоты руку Преисподней и завидую тому преступнику на эшафоте, в чье чрево входит сейчас заостренный кол.
Что взять с пустой перчатки?
Оказывается, есть что…
Оказывается, я даже могу дарить добровольно, и это ново и удивительно, как разнообразие приевшейся боли.
Я больше не одинок.
Правда, воровочка?!
Если ты сумела войти и выйти, если я сумел остановиться на миг и, приплясывая босыми пятками на адской сковороде, сделать невозможное — значит, я не одинок, даже зная, что подобные мне никогда не пересекаются друг с другом в этом мире. Одиночество горящего изнутри дьявола в толпе людей, полагающих, что это они мучаются, как никто; одиночество ада в чистилище — неужели ты не навсегда?!
Скрипят колеса тарантаса, фыркает уставшая кобыла… куда я еду?
Люди зовут меня Нечистым.
Зовите как угодно — только зовите!
КНИГА ТРЕТЬЯ. ЕРЕСЬ КАТАРОВ
7
— …Ой, люди добрые, смотрите, кто к нам приехал! Мы-то уж вас заждались, думали, не успеете! А мамка, мамка все глаза проплакала… старая она совсем, мамка-то, с печи уж и не слазит почти что!
Разумеется, первой, кого увидели путники при въезде в Шафляры, была располневшая за эти годы румяная Тереза — старшая из приемных дочерей Самуила-бацы. Благополучная супруга благополучного краковского купца добралась до родного села три дня назад без всяких приключений, взахлеб отрыдала свое над отцовой могилой и теперь искренне радовалась встрече.
Такой Тереза была всегда — искренней и в горе, и в счастье.
А за спиной Терезы, немедленно бросившейся обнимать спешившуюся Марту, уже выходили из ближних хат шафлярцы, на ходу оправляя одежду и вытирая руки — на скотном дворе или возле печки трудно остаться опрятным. Некоторые лица были знакомы, разве что гусиных лапок в уголках глаз да зимы в волосах добавилось; другие узнавались не сразу — поди-ка признай в статной подбоченившейся хозяйке, за подол которой цепляются двое замурзанных детишек, ту худющую конопатую девчонку, с которой в детстве играл в догонялки, а позже пытался прижать в кустах, как учил старший брат, и схлопотал от недотроги такую оплеуху, что потом полдня в ухе звенело!
Одобрительно кивали, приподнимаясь с бревен, отполированных за годы сидения до матового блеска, белобородые старики (вроде бы, когда уезжали отсюда, они такие же и были… или это уже другие?), звонко распахивались ставни, выходили, улыбались, здоровались земляки, и от всеобщего неторопливого радушия, от степенного похлопывания по плечу и одобрительного скупого слова, от того, что наконец-то приехали домой, становилось легче, светлее на душе, и мир вдруг начинал казаться не столь мрачным и беспросветным, а сжимавшая сердце тоска понемногу отпускала, сворачиваясь в клубок…
Марта, Ян и Михал вертели головами во все стороны, поминутно здоровались и все больше убеждались, что Шафляры остались теми же, что и десять, двадцать, тридцать лет назад. Крепкие бревенчатые избы, мычание коров и блеянье овец на скотных дворах, огороды, где росло все, что угодно, лишь бы годилось в окрошку или под добрый кухоль сливянки; выложенные вдоль единственной улицы толстые колоды для вечерних посиделок, чисто символическая изгородь околицы, обветшавшие заборы, до починки которых никогда не доходят руки… даже колдобины на дороге были те же самые, знакомые, и воздух, свежий горный воздух каждым глубоким вдохом напоминал: «Ты дома!».
Дома…
Громадные пастушьи псы, не знавшие привязи, молча косились на Джоша; редко-редко взрыкивали те, что помоложе, но в драку не лезли — видать, чуяли опытные овчары в одноухом пришельце что-то чужое, не собачье, а посему решали не связываться.
Неспешно пройдя-проехав почти через все село, путники уже подбирались к Самуиловой хате, находившейся на другом конце Шафляр, когда перед ними возник молодой парень в широких кожаных штанах, заправленных в невысокие стоптанные сапоги, и вышитой рубахе, подпоясанной цветастым кушаком, за которым торчал короткий нож. Парень уверенно загородил путникам дорогу и, плотно сжав узкие губы, в упор уставился на Михала, игнорируя возмущенные возгласы квестаря Игнатия, правившего аббатским возком.
«Мардула», — сразу догадалась Марта. Придерживая лошадь, она наблюдала за тем, как Михал с нарочитой неторопливостью слезает с коня, вразвалочку подходит к приодевшемуся по случаю долгожданной встречи юному разбойнику и резко, без замаха, закатывает ему звонкую пощечину, от которой Мардуле с трудом удается удержаться на ногах.
Ко всеобщему удивлению, парень не схватился за нож, не попытался ударить Михала в ответ, даже браниться не стал — криво усмехнулся, тронул быстро багровеющую щеку и сплюнул кровью под ноги воеводе.
— Бей, — спокойно заявил Мардула. — Бей, пока даю. Отца убил, сволочь, что для тебя какой-то там Мардула! Меня липтовцы подранили, еле ушел через Гронь — так дядька Самуил меня выходил, ночами надо мной сидел, травами отпаивал; дядька Самуил меня… — разбойник внезапно осекся, словно чуть было сгоряча не наболтал лишнего, не предназначенного для ушей Михала, да и для чьих-либо других ушей.
— А ты его кончил, мразь, и прочь пошел! — после долгого молчания договорил Мардула и снова сплюнул. — Эх ты, змея подколодная…
Кровавая слюна тяжко шлепнулась на сапог Райцежа.
— Это ложь, Мардула, — тихо проговорил Михал, белый, как крейда. — Я не виновен в смерти отца. Так… так Бог судил.
— Это ты другим расскажи, — зло осклабился парень, и Марте на миг вспомнилась волчья ухмылка Седого. — Бабе своей, родичам — а я-то собственными глазами видел! Бог судил… Бог еще не судил, не пристало времечко!
— Ну, и чего же ты хочешь? — по-прежнему чуть слышно спросил Михал, и Марта поняла, каких усилий стоит ее брату этот спокойный тихий голос. Стоящий перед Михалом парень из потомственного разбойничьего рода держал в заложниках беременную жену Райцежа, из-за которой отчаянный Михал… Держал. В лесу. В заложниках. И только поэтому Мардула до сих пор оставался жив.
Во всяком случае, так думалось Марте.
— Поединок, — скуластое лицо Мардулы отвердело. Он больше не улыбался. — Божий Суд. В огненном круге, как у гуралей исстари заведено.
— Хорошо, — неспешно кивнул Михал. — И тогда ты отпустишь мою жену?
— Отпущу. Чем бы ни закончился Божий Суд, я или мои люди ее отпустят.
— Хорошо, — снова кивнул Михал. — Когда и где?
— У подножия Криваня, над Грончским озером, где сходы проводят. Сегодня же вечером.
— Согласен. Но сначала я должен увидеть свою жену.
— Увидишь, — кивнул в свою очередь Мардула. — Цела баба твоя, не сомневайся… иди за мной. Только оружие здесь оставь. Не верю я тебе, ни на вот столечко не верю.
Михал молча отцепил от пояса палаш в ножнах, вынул возвращенную Седым дагу, извлек из-за голенища нож и передал все это подошедшей сзади Марте.
— Езжайте к отцовой хате, я туда вернусь, — махнул он рукой аббату.
Аббат Ян в упор посмотрел на Мардулу.
— Он должен вернуться, — строго сказал аббат, и случилось невероятное: не клонивший головы перед грозным воеводой Мардула потупился и уставился в землю.
— Вернется, — благодушно успокоил настоятеля незаметно подошедший сзади осанистый старик с окладистой седой бородой и хитрыми глазами, сверкавшими пронзительной голубизной весеннего неба. — А чтоб наверняка вернулся, мы с Кшиштофом, — он кивнул на подошедшего следом другого старца, как две капли воды похожего на первого и наверняка доводившегося ему родным братом, — с ними сходим. При братьях-Кулахах ни один разбойник, будь он хоть разбойничьим гетманом, непотребства творить не станет. Верно говорю, Мардула?
— Верно, пан солтыс,[21] — поспешно согласился молодой разбойник. — Только я и не думал… и в мыслях не держал, когда на Божий Суд звал — чтоб втихую, в лесу…
— Божий Суд — это правильно, — одобрил солтыс Кулах. — Боженька долго терпит, да круто судит. И на тебя зря грешить не стану. Только мы с тобой все равно пойдем. Слава за тобой, парень, дурная волочится, хуже крысиного хвоста: добро б деньги или скотину какую украл, как порядочный гураль — а то бабу на сносях! Опять же на людей наговариваешь, — солтыс степенно указал на Михала. — Вот и пришлось нам с Кшиштофом от самого Черного Дунайца к вам в Шафляры ехать, чтоб чего не вышло… Да не гордись ты, дурень, не гордись, не из-за одного тебя мы тут! Ты на все Татры бугаем разорался, любопытные целыми оравами прут, всякое сейчас случиться может… Ладно, пошли.
Долго смотрели шафлярцы вслед уходящим: дивитесь, люди добрые, вот они, два непримиримых врага — Мардула-разбойник с Михалеком, сыном покойного Самуила-бацы — и два старца, солтыс Ясица Кулах по прозвищу Маршалок и его брат Кшиштоф, неторопливо бредущие в сторону леса…
По окрестному лесу — дремучему, заповедному, где деревья рубились лишь вблизи от селений — они плутали довольно долго. Видимо, лукавец Мардула умышленно путал дорогу, петлял, как поднятый лисой заяц; Михалу дважды казалось, что здесь они уже проходили, но на старую память о Кривом лесе, где лазил еще мальчонкой, он положиться не мог. Наконец разбойник остановился поперек ничем не примечательной тропинки, одной из многих, бросил косой взгляд на своих спутников и негромко свистнул.
Почти сразу же кусты справа от тропинки шевельнулись, и из них выступил парень примерно того же возраста, что и Мардула — горбоносый, чернявый, смахивающий на цыгана, в короткой рубахе навыпуск и холщовых штанах, заправленных в онучи и перехваченных ремешком; на ногах парня красовались пастушьи керпцы, сшитые из одного куска кожи, на голове — плоская шляпа с узкими полями, увешанная цепочками. В руках лесной бродяга держал длинный лук, из-за спины выглядывал колчан со стрелами, а за поясом удобно устроился небольшой ухватистый топор.
— Приведи ее, Галайда, — коротко приказал Мардула, и старики-Кулахи, Ясица и Кшиштоф, незаметно переглянулись: уж больно похож был сейчас юный разбойник на своего отца, сгинувшего восемь лет назад в Оравских Татрах.
Парень молча кивнул и бесшумно скрылся в кустарнике.
Мардула тем временем уселся прямо на траву у края тропинки и приготовился ждать. Оба старика степенно расположились напротив, подстелив прихваченную непонятно зачем холстину (ну, теперь-то понятно — зачем, и не зря Кшиштоф тащил ее под мышкой); Михал, чтоб не стоять столбом, подумал-подумал и устроился на пеньке в двух шагах от Мардулы.
В голове воеводы мысли стремительно сменяли одна другую, и ядром, центром каждой было одно — Беата! Почему-то он склонен был верить разбойнику, что с женой ничего не случилось, если не считать того, что хрупкая женщина в тягости все это время скиталась по лесам в компании заядлых душегубов. Михал тяжело повел плечами и неожиданно подумал, что ни Мардула, ни парень с луком никак не походили на душегубов. Может быть, поэтому им хотелось верить. Но верить — одно, а вот своими глазами увидеть Беату, перекинуться хоть парой слов, коснуться мягких волос… Да, знал сукин сын Мардула, как заставить его, Михала, принять любые условия. Знал, догадывался — не все ли теперь равно?! Дело решенное, вечером им с Мардулой выходить в огненный круг с чупагами в руках — и покинет место Божьего Суда, скорее всего, лишь один.
Михал почесал укушенную какой-то мошкой щеку и поймал себя на том, что втайне сочувствует дураку-Мардуле, вступившемуся за чужого, в сущности, ему человека против приемного сына этого самого человека. Ну кто Мардуле-разбойничку, юному гулене, старый Самуил-баца?! Считай, никто. Так нет же! — на рожон лезет, из кожи вон выпрыгивает, жизни собственной не жалеет! Интересно, как бы поступил на месте Мардулы он сам, воевода Михал Райцеж, шафлярский приемыш Михалек Ивонич?! Да точно так же! Разве что жену чужую воровать не стал бы… А если бы ему, как Мардуле, никто не поверил? То-то же, друг воевода. Прав разбойник, пусть со своей колокольни — но прав. Если с Беатой все в порядке…
С ней все в порядке! — сурово одернул себя Михал. По-другому и быть не может. Иначе не повел бы его сюда Мардула. Или разбойник хитрее и подлей, чем кажется на первый взгляд? Вон, даже солтыс Кулах пошел, чтоб приглядеть… да где ему приглядеть, старику-то?!
Но тут мысли воеводы прервал шорох раздвигаемых кустов. Михал вскочил и на мгновение застыл, глядя, как Беата, одетая в длинную суконную накидку поверх платья («Молодцы, разбойное племя, додумались!»), выбирается из кустарника, почтительно поддерживаемая под руку все тем же цыганистым парнем.
Кажется, с женой действительно все было в порядке.
Женщина отцепила колючую ветку от края накидки, подняла голову, увидела стоящего на тропинке человека…
— Михалек! Живой! — и, уже не обращая внимания на растерявшегося и отставшего парня Мардулы, Беата бросилась на шею мужу.
…Прижимая к себе счастливо плачущую жену, невпопад целуя ее в губы, в щеки, в нос, путаясь в растрепавшихся льняных волосах и не решаясь высвободится, чтобы ненароком не сделать Беате больно, ощущая сквозь одежду ее теплый округлившийся стан — и наконец заглянув в ее полные слез глаза, лучащиеся радостью из-за мерцающей завесы, Михал вдруг почувствовал, как клинок запоздалого понимания и раскаяния входит к нему в душу, разрывая невидимую плоть.
«Михалек! Живой!..» — эти слова беременной Беаты отрезвили воеводу почище ушата ледяной колодезной воды, опрокинутого похмельным утром на голову сына мамой Багантой. Ведь как оно бывало: вскочишь спросонья, мокрый до самых некуда, поджилки зимним трусом трусятся, ноги разъезжаются, как у новорожденного телка, в башке черти ночевали, язык распух колодой — и стыд, стыдобища ознобом по телу, когда припомнишь, что творил вчера в пьяном угаре!
Не о себе думала Беата, пока заложницей ехала из-под Тыньца в неблизкие Шафляры, не о младенце в чреве своем пеклась, пока Мардулины побратимы ее, брюхатую, по лесным берлогам таскали — о нем, о Михалеке, о муже непутевом, которому голову сложить, что два пальца оплевать…
Вот и выхлестнулось первым, нечаянным:
— Михалек! Живой!..
Лови, воевода, от судьбы оплеуху!
Как же слеп он был все это время! Значит, напрасно умер молодой княжич Янош?! Напрасно навлек Михал на себя гнев старого князя Лентовского?! Напрасно мучился все это время, ел себя поедом?! Напрасно заявился в Шафляры к батьке-Самуилу, став невольной причиной его смерти?!
Все — напрасно?!
Маши палашом, воевода, и не лазь в чужие души — куда тебе, колчерукому…
— Я люблю тебя, — срывающимся голосом прошептал Михал. — Теперь у нас все будет хорошо.
— Почему будет? — спросила в ответ Беата и улыбнулась сквозь слезы. — У нас и было хорошо… и сейчас — хорошо…
Потом они еще долго стояли, не в силах разомкнуть объятий, пока наконец Мардула не выдержал и не пробормотал смущенно:
— Ну ладно, будет лизаться-то! Пора нам…
Им действительно было пора.
На обратном пути Мардулу терзали сомнения, и юный разбойник злился на себя за это, нарочно в сотый раз вспоминая сползающего на траву Самуила-бацу — в конце концов парень добился-таки своей цели, вытеснив из головы забравшегося в нее червя. Этот надменный шляхтич, невесть какой кривдой добывший шляхетское звание — убийца; значит, сегодня вечером все должно решиться. Надо быть последним пустозвоном, чтобы не понимать: в воеводы к графам Висничским кого попало не берут, да и плечи у шляхтича… добрые плечи, не сытой жизнью склепанные, и по лицу видно, что биться воевода будет люто, как зверь за самку свою да вдобавок как шляхтич за гонор и честь родовую! Иди, воевода, шагай по Кривому лесу, играй желваками на высоких скулах — не знаешь ты, что приготовил для игры с тобой лихой Мардула! Даром, что ли, разбойник за Самуила-бацу вступился?! — нет, не даром, дядька Самуил того стоит, ох, стоит… спи спокойно, баца, Мардула за тебя расплатится, так расплатится, что чертям тошно станет!
О чем думали по дороге солтыс Маршалок со своим неразговорчивым братом, осталось загадкой — но только когда все четверо выбрались с тропинки на более широкую просеку, всяким размышлениям сразу пришел конец. С обеих сторон просеку напрочь перегородили конные гайдуки в богатых кунтушах, вооруженные если и не до зубов, то уж во всяком случае по шею. Ждать от подобной встречи ничего хорошего не приходилось, а когда Михал увидел рослого пожилого магната в атласном жупане, восседавшего на нетерпеливо перебиравшем копытами вороном жеребце, то помрачнел окончательно.
Ему даже не понадобилось смотреть на хохолок белой цапли, украшавший драгоценную рукоять фамильной сабли, чтобы узнать старого князя Лентовского.
— Это за мной, что ли? — растерянно пробормотал Мардула, озираясь по сторонам подобно волку в кругу облавы.
— Да нет, приятель, это за мной, — против воли горько усмехнулся Михал.
Разбойник в раздумье почесал затылок, еще раз глянул на подбоченившихся гайдуков — и вдруг змеей нырнул в кусты, мгновенно растворившись в лесу.
Как Михал и предполагал, гнаться за Мардулой никто не стал — не по его гулящую душу явился в Подгалье князь Лентовский со своими людьми.
— Сдавайся, убийца! — крикнул один из гайдуков, похоже, старший. — Кидайся князю в ноги, сапог целуй — может, сжалится их ясновельможность!
Сам князь не удостоил Михала ни словом.
Деваться воеводе было некуда, оружие его осталось в Шафлярах, бежать наугад от верховых не имело смысла, так же как надеяться, что на выручку к нему из Виснича явятся графские люди под предводительством тестя Казимира — и Михал понял, что пришла пора умирать.
Умирать, понятное дело, не хотелось, но Михалек давно свыкся с мыслью о собственной смерти; тем паче что живым сдаваться князю хотелось еще меньше. Воевода Райцеж хорошо представлял себе, какую смерть способен измыслить искушенный в пытках и не отягченный совестью старый Лентовский для убийцы своего сына-наследника.
— А вы берите меня, не стесняйтесь! — зло усмехнулся воевода. — Три десятка озброенных на одного безоружного — чего уж там! Надо ж когда-нибудь княжеское жалованье отработать, хлопы немытые!
И презрительно сплюнул под копыта княжескому жеребцу.
Он нарочно пытался вывести из себя Лентовского и его гайдуков: один удар сабли или меткий выстрел — и все будет кончено сразу, без мучений.
— Ну что, храбрецы?! — подзадорил он замявшихся врагов. — Кто хочет мой сапог поцеловать? Подходи, на всех хватит!
Если кто-нибудь приблизится, тогда появится возможность отобрать саблю или нож, и гайдукам после этого наверняка придется убивать воеводу, собравшегося умирать в хорошей компании.
— Легкой смерти хочешь, пся крев? — голос князя был подобен хриплому карканью ворона. — Так и быть, подарю я ее тебе, как просишь!
Князь кивнул старшему из гайдуков, и тот вскинул к плечу рушницу — неизвестно, в шутку или собираясь стрелять всерьез.
В следующее мгновение, как показалось Михалу, сам сгустившийся воздух лихо и коротко присвистнул, и тонкая ясеневая стрела выросла из горла гайдука, пробив его насквозь. Все на какой-то миг замерло, потом гайдук медленно завалился на бок и мягко сполз с седла. От падения взведенная рушница выстрелила, и на другой стороне просеки дико заржала, метнулась в сторону и рухнула наземь одна из лошадей, придавив отчаянно ругающегося всадника.
— Следующая стрела — твоя, князь. Так что думай, — раздался из чащи совершенно спокойный голос; Михал лишь с некоторым опозданием узнал в нем голос Мардулы и невольно восхитился: «Молодец, разбойник! А я-то думал — испугался, деру дал от греха подальше…»
Почти сразу же совсем из другого места раздался пронзительный заливистый свист, чаща откликнулась тройным таким же свистом, а откуда-то из глубины леса донеслось насмешливое уханье, к которому филин, ясное дело, не имел никакого отношения.
Князь явно колебался, а гайдуки без его приказа тоже не решались двинуться с места. Никому не хотелось разделить участь собрата, валявшегося на земле в луже собственной крови со стрелой в горле.
И тут на сцену выступил до поры до времени всеми забытый солтыс Ясица Кулах. Его молчаливый брат Кшиштоф остался сидеть на краю просеки, и было непонятно, интересует ли его происходящее хоть в какой-то мере.
— Я солтыс Ясица, которого глупые люди еще Маршалком кличут, — объявил старик, выходя на середину просеки и глядя князю прямо в глаза. — Может, слыхал, твоя ясновельможность?
Лентовский хмуро кивнул — слыхал, мол.
Чем несказанно удивил Михала, не ожидавшего от магната Лентовского такой осведомленности о делах, творившихся в Подгалье.
— Спросить у тебя хочу, князь, — продолжил солтыс. — За спрос, как говорится, не бьют в нос, значит, можно… За что пана воеводу на тот свет отправить хочешь?
— Сына он моего убил, — нехотя процедил сквозь зубы Лентовский, легонько поглаживая сабельную рукоять.
— Убил? Страсти-то какие! — слыхал, Кшиштоф?! Ну ладно, молчи, ты у меня молчун… В честном поединке убил или из-за угла подкрался?
— Не твое дело, старик! — отрезал князь. — Худородный шляхтишка, пахолок этого выскочки Висничского, убивает наследника Лентовских — и чтобы я промолчал да утерся?! Не бывать тому!
— Худородный, говоришь? — искренне удивился старик. — А я-то, дурень, полагал, что честь шляхетская — одна на всех! Выходит, обманывался! — слышишь, Кшиштоф? — выходит, воевода на княжича один на один идет, а князь на воеводу тремя десятками гайдуков лезет! Вот уж не ждал, не гадал!
— Некогда мне с тобой разговоры разговаривать, солтыс Кулах! — гайдуки оторопело переглядывались: грозный Лентовский явно пытался скрыть свою неуверенность. — И не стой на дороге, старик, добром прошу! На тебя я зла не держу — но неровен час, под копыта или под пулю попадешь, тогда на себя пеняй!
— А ты мне не грози, князь! — старик не повысил голоса, но голубые глаза его недобро блеснули. — Здесь тебе не твой маеток, здесь Подгалье, а я и Михалек… и воевода Михал — не твои хлопы безъязыкие! Знаешь, небось, что со старостой[22] Смаковским приключилось, когда он с гуралями своевольничать вздумал?
Лентовский знал. Двадцать один год тому назад новотаргский староста Смаковский, родовитый шляхтич герба Слепая Лошадь, получил жалованный королем Сигизмундом привилей и попытался навести в Подгалье свои порядки, силой оттяпав добрую треть долинных пастбищ и пахотных земель. В результате чего жестоко поплатился за жадность и самонадеянность — чернодунаецкие солтысы подняли Бескиды против старосты-лиходея; вот этот самый стоящий сейчас перед князем старик встал как гетман во главе разъяренных гуралей, маеток старосты был взят приступом, часть гайдуков перебили, остальные предпочли спастись бегством, а самого старосту изрубили чупагами так, что потом даже тело опознать не удалось.
После этого случая солтыс Ясица Кулах и получил свое прозвище — «Маршалок»; а брат его Кшиштоф по сей день хранил на почетном месте чупагу с засохшей кровью на лезвии и никому не давал ее трогать или, тем паче, счищать почти осыпавшуюся кровь.
Король же предпочел закрыть на случившееся глаза — посылать кварцяное[23] войско в непроходимые горы на усмирение тамошних пастухов, среди которых каждый третий — разбойник, каждый второй был разбойником, а каждый первый — будет, не имело никакого смысла.
И теперь старый князь Лентовский прекрасно понимал, что если дойдет до серьезной крови, то ни его гайдукам, ни ему самому из этих гор вернуться будет не суждено. Можно заслониться лошадью от засевшего в лесу стрелка, можно изрубить в смертной сече не один десяток горцев — но все равно живыми им отсюда уйти не дадут.
— …У гуралей, твоя ясновельможность, свои законы, — продолжал меж тем старик. — Нынче вечером Божий Суд назначен, и негоже Боженьку на полуслове перебивать. Не один ты пана Михала убийцей считаешь, вот и выясним, винен ли он в первой смерти! Ну а после, если сыновняя гибель жжет твое княжеское сердце, и если воевода жив останется — вызывай его на честный бой либо выставляй своего человека, и никто вам мешать не станет. А вот так, с толпой гайдуков, да на одного безоружного, что б он там ни натворил — не любят этого у нас, ох, не любят! Так что думай, князь, хорошо думай: стоит ли твоя жизнь и жизни пахолков твоих одного убитого воеводы? А коль дело надумаешь — поезжайте с нами в Шафляры, становитесь лагерем на лугу близ западной околицы, гостями будете, на Божий Суд глянете, а там — как сам решишь.
Князь колебался недолго.
Еще раз пристально посмотрев на старого солтыса и на его брата Кшиштофа, увлеченно раскуривавшего пузатенькую трубочку, он коротко кивнул.
— Суд так суд, — бросил Лентовский и криво ухмыльнулся, покосившись на недвижного Михала. — Авось, пришибут паршивца…
Новости валились на Шафляры одна за другой, как снежные лавины в горах, оглушая, не давая опомниться и, подобно тем же лавинам, грозя окончательно погрести под собой шафлярцев.
И не только новости.
Ну, собрались на отцовы сороковины дети Самуила-бацы — это дело понятное и почтенное, всем бы таких детей, и врет небось хвостокрут-Мардула насчет Михалека — мало ли что парню сгоряча привиделось?!
Объявленный Божий Суд, о котором Мардула трезвонил уже больше недели, вызвал заметное оживление — в кои-то веки удается хоть одним глазком взглянуть на подобное зрелище! — поэтому заявившийся в Шафляры солтыс Маршалок и один за другим спускавшиеся с окрестных гор гурали ни у кого особого удивления не вызвали: вести в Подгалье разносятся на крыльях ветра, а посмотреть на поединок явно хотели многие.
Когда следом за вернувшимися из лесу Михалом и братьями-Кулахами (Мардула успел куда-то исчезнуть, но все были уверены: к подножию Криваня в нужный час непременно явится!) выехали верхами три с лишним десятка гайдуков князя Лентовского во главе с самим князем и стали лагерем неподалеку — Шафляры мигом взбудоражились не на шутку, а кое-кто из местных сорвиголов принялся точить чупаги да заряжать старые рушницы.
Мало ли?!
Но и это было еще не все!
Ближе к вечеру в село въехала обитая дорогим бордовым бархатом дубовая карета городской работы — в такой не по горным дорогам раскатывать, а по краковским мостовым! На козлах кареты восседал хмурый монах-доминиканец в длиннополой рясе с капюшоном, а следом подпрыгивал на выбоинах возок с еще тремя такими же монахами. Когда шафлярцы узнали, что это приехал сам провинциал, его преосвященство епископ Гембицкий — явление его преосвященства стало последней каплей, переполнившей чашу удивления; особенно если учесть, что Гембицкий был хорошо известен, как непримиримый борец с ересью, самолично сжегший не один десяток колдунов и ведьм!
Окончательно растерявшиеся и задавленные таким обилием событий и приезжих шафлярцы почли за благо до вечера сидеть по домам, чтоб собраться уже затемно у подножия Криваня, где был назначен поединок.
Божий Суд.
О приезде епископа Гембицкого аббат Ян узнал от вбежавшего в хату запыхавшегося мальчишки. Хлопец долго пытался выговорить незнакомое слово «провинциал», услышанное от сидевшего в карете странного ксендза в фиолетовом облачении, потом вспомнил, что монахи звали ксендза «его преосвященством»; наконец припомнил фамилию — Гембицкий — и настоятель Ивонич понял, о ком идет речь. Новость эта отнюдь не обрадовала аббата, но, тем не менее, он поспешил навстречу его преосвященству, дабы почтить достойного прелата и помочь князю церкви устроиться.
Епископ был вежлив и тих, но отца Яна это обмануть не могло — не зря его преосвященство заявился в Шафляры, ох, не зря! Не по его ли, настоятеля, душу? Выяснить это следовало не откладывая. И потому Ян, посоветовав епископу остановиться у зажиточного шафлярца Станислава Зновальского, чей дом заметно выделялся на фоне других построек, почти сразу же пригласил его преосвященство в хату Самуила — отдохнуть с дороги (а заодно, если надо, и побеседовать), пока расторопные монахи распрягали лошадей, втаскивали в дом поклажу, а польщенный и немного испуганный хозяин спешно распоряжался готовить покои и ужин для высокого гостя.
Епископ ничего не имел против.
Марта и Михал правильно истолковали короткий взгляд брата и поспешили куда-то увести Терезу, соображавшую в подобных ситуациях несколько медленнее; умаявшаяся за сегодня старуха-мать дремала на печи, и ее не было ни слышно, ни видно, так что духовные пастыри остались практически наедине.
Некоторое время оба молчали.
— Странные вещи люди рассказывают, — заговорил наконец епископ, огладив бритый подбородок холеной рукой, унизанной драгоценными перстнями. — Волосы дыбом встают… вот, к примеру, на днях пахолки князя Лентовского криком кричали, будто неподалеку от вашего Тыньца, отец настоятель, на мельнице некоего Топора, известного ворожея (прости, Господи), — епископ перекрестился, — такие непотребства богопротивные творились, что и говорить не хочется! Мертвые из могил вставали, как в день Господнего гнева, и живых к себе тащили… Может, конечно, и врут пахолки, да только многое в их сказках сходится с тем, что мне и так известно. Без колдовства и козней врага рода человеческого, полагаю, тут никак не обошлось. Ну, про мельницу эту я давно слыхал, что нечисто там, — вот, по дороге сюда завернули…
— И что… ваше преосвященство? — не удержался побледневший аббат Ян.
— Да ничего особенного, — пожал узкими плечами Гембицкий, от которого не укрылась неожиданная бледность аббата, и складки его фиолетовой мантии плавно качнулись. — Сожгли, естественно. И мельницу, гнездо колдовское, и самого колдуна со всем его выводком. Тут дело ясное, без дознавателей обошлись…
Яну с трудом удалось восстановить на лице первоначальное вежливо-заинтересованное выражение.
— Да только не в Топоровой мельнице дело, — продолжал между тем епископ. — Пахолки князя утверждают, будто и вас, отец настоятель, там видели. Вроде бы стояли вы рядом с тем самым колдуном, которого мы на днях огню предали, и никаких препятствий козням его не чинили. Конечно, люди княжеские со страху перед хозяином чего только не понаскажут! — вот и решил я, отец настоятель, сам с вами увидеться и лично от вас узнать обстоятельства этого странного происшествия.
— Что был я там — это правда, ваше преосвященство, — спокойно ответил аббат Ян, которому спокойствие это далось не одной прядью седых волос. — А что касается оживших мертвецов и сатанинских козней… Не видел я ничего такого. Пахолки княжеские пана Михала Райцежа, придворного воеводу графа Висничского — надеюсь, вам знакомо имя графа Ежи, любимца их величества Яна-Казимира?! — схватить хотели силой; это было, своими глазами видел, не отрекаюсь. Только пан Михал от них отбился, троих порубил, а остальные ускакали. Мельникова подмастерья еще по дороге Лентовские конями потоптали насмерть, царство ему небесное, несчастному… А мертвецов восставших я что-то не приметил, ваше преосвященство. Может, людям Лентовского спьяну померещилось? — туманы у нас предрассветные сами знаете какие!..
— Верю, верю, отец настоятель, — елейно улыбнулся епископ, и аббат Ян ясно понял, что Гембицкий не верит ни единому его слову. — Я-то верю, да только, сами понимаете, людям болтать не запретишь; хоть и грех это — напраслину на ближнего своего возводить. И от слов их, хоть цена им невелика, я отмахнуться просто так не могу. Сан не позволяет, сан и доверие Рима. Боюсь я, как бы не повредило все это вашей репутации, отец настоятель. Вот и приехал поговорить с вами, лично, так сказать, убедиться. А сюда вы вроде как на сороковины родителя вашего покойного приехали?
— Вы абсолютно правы, ваше преосвященство. Не мог я последнюю волю отца моего не исполнить.
— Похвально, похвально, — покивал епископ, и аббат Ян почему-то, глядя на Гембицкого, вспомнил историю Гусмана Доминика, Гусмана Кроткого, основателя ордена доминиканцев, вдохновителя избиения альбигойцев.
Тоже, небось, вот так кивал, глядя на костры из катаров, и приговаривал: «Похвально, похвально…»
— Весьма похвально, отец настоятель. Родителей чтить надо, и при жизни их, и после того, как призовет их к себе Господь. Я надеюсь, отец ваш был примерным христианином?
Аббат лишь молча кивнул.
— Это я так, к слову пришлось. Конечно, никто в этом не сомневается, хотя… в этих горах христианство настолько перемешалось с остатками язычества, а то и вообще манихейской ереси, что сразу и не поймешь, кто здесь воистину почитает Господа нашего, а кто… Впрочем, заболтался я тут с вами, отец настоятель, пора и честь знать. Пойду к себе, не буду вам мешать. Вам не до меня нынче — молитесь спокойно за душу родителя своего, и я за нее молитву вознесу, ну а после еще поговорим. Времени у нас много, обратно, я полагаю, вместе поедем…
Аббат Ян проводил его преосвященство до дверей, попрощался самым теплым образом и вернулся в хату.
Теперь отец настоятель был твердо убежден, что если у провинциала Гембицкого найдется против тынецкого аббата хоть что-то, за что его преосвященство сумеет уцепиться — то у него, ксендза Яна Ивонича, будут большие неприятности. Уж насчет этого его преосвященство позаботится, найдет и время, и способ!
А еще предстояло, скорбя сердцем, сообщить своим — в первую очередь Марте — о том, что случилось с мельницей старого Топора и всеми ее обитателями.
Прав был старый колдун, говоря, что недолго им по земле ходить осталось.
Как в воду смотрел.
Вокруг Шафляр незаметно сгущались сумерки.
Приближалось время Божьего Суда.
…Каменистый нахохлившийся Кривань коршуном нависал сверху, и молчаливое, беспорядочно копошащееся людское месиво казалось горе чем-то вроде вскипающей прорвы Черного озера, когда в глубинах его водяные играют свои шумные свадьбы.
Ночь вдруг попятилась, пересилив любопытство — четверо молодых пастухов с пылающими факелами, словно повинуясь неслышному приказу, рванулись с места и парами понеслись в разные стороны, сопровождаемые сизыми шлейфами дыма, обегая выложенный вязанками хвороста круг двадцати шагов в поперечнике и тыча по дороге в сушняк огнем. Встретились пастухи у того места, где круг был разомкнут, где кольцо вспыхнувших костров хотело и не могло сойтись, образовав темный провал ворот, ведущих в рукотворную Преисподнюю.
Солтыс Кулах снял широкополую шляпу с серебряным образком на тулье, размашисто перекрестился и потом махнул рукой: начинайте, дескать! Богу и людям живым огнем подсветили, ночь-маму уважили — пора и честь знать!
И двое раздетых до пояса мужчин встали у ворот в огненное кольцо.
Глухой говор прокатился по толпе шафлярцев и собравшихся на Божий Суд чуть ли не со всех ближних Татр горцев. И впрямь: было о чем перемолвиться словцом с соседом, глядя на воеводу Райцежа и Мардулу-разбойника, прежде чем оба скроются в огне и станут Бога спрашивать своими острыми чупагами. Совсем юный, гибкий, порывистый, как годовалая рысь, не вошедший еще в полную мужскую силу Мардула, пританцовывающий на месте и сверкающий глазами на односельчан и гайдуков Лентовского, словно готовый растерзать любого, кто помешает ему прикончить ненавистного воеводу; и зрелый Михал, недвижно замерший и тускло глядящий перед собой, как глядит иногда белоголовый орел с Криваньских вершин, прежде чем рухнуть в пропасть, распластав могучие крылья и растопырив страшные когти — действительно, воевода был похож сейчас на хищную птицу: сухой, перевитый жгутами мышц торс, обмякшие руки, повисшие с той обманчивой неуклюжестью, с какой крылатый царь гор обычно передвигается по земле, волоча громады крыльев.
Первым в пылающий круг бросился Мардула. Занеся над головой свою чупагу, он пронзительно завизжал, подпрыгнул чуть ли не выше собственного роста, приземлился на скрещенные ноги, снова подпрыгнул прямо с места и через мгновение был уже на середине круга — приседая, мечась из стороны в сторону, звеня медными кольцами на древке пастушьего топорика. Неистовость разбойника была сродни неистовству зимнего урагана в горах, бессмысленно бьющегося в стены ущелий, растрепывающего седые гривы снегов на вершинах — но не жди пощады, попавшись ему на дороге, если только ты не горный хребет или голая скала! Сметет, натешится, изорвет в клочья…
Воевода Райцеж неторопливо отер со лба выступивший пот и, не оглядываясь, медленно пошел к Мардуле. Чупагу Михал держал так, словно не знал, что с ней делать, сомкнув сухие пальцы на середине древка; и в толпе коренных гуралей неодобрительно захмыкали, похлопывая по плечам и спинам приунывших шафлярцев — односельчан человека, столь неловко обращающегося со знаком пастушьего достоинства. Разве что двое-трое дряхлых стариков, помнящих покойного Самуила-бацу и его повадку, переглянулись меж собой и прошамкали что-то беззубыми ртами.
Только кто ж их слушал, стариков-то!..
Михал до сих пор не мог понять, на что надеется дурак-Мардула. Таких Антонио Вазари, первый настоящий учитель Райцежа, презрительно называл «жеребчиками» и любил жестоко наказывать, заставляя брать в руки боевую рапиру, после чего становился напротив с тупым стальным прутом, откованным специально для подобных случаев и насаженным на деревянную рукоять без чашки. Если «жеребчик» хотя бы раз заставлял Антонио сдвинуться с места, не говоря уже о том, чтобы оцарапать — учитель-флорентиец брал на себя обязательство платить за это, выставляя большой кувшин виноградной граппы. На памяти Михала такого не случалось ни разу; жена Антонио однажды проговорилась, что когда-то граппа и впрямь досталась «жеребчику», но это было давно, спустя год после их свадьбы с Антонио Вазари. А во всех остальных случаях, которых было немало, учитель пил граппу сам, пока истыканного до кровоподтеков «жеребчика» уводили под руки его друзья.
Воевода Райцеж мог убить юного разбойника в любую секунду, на выбор. Сразу; когда станет слишком жарко, или когда надоест играть; истерзать ранами или покончить одним ударом — то, что в руках Михала вместо привычного палаша была чупага, не имело никакого значения.
Он мог убить мальчишку.
Он не хотел этого делать.
И не понимал: есть ли у Мардулы что-то, припрятанное за пазухой для сегодняшнего поединка, или это просто молодое недобродившее вино пенится от удали и глупости?
Мардула-разбойник собирался мстить за смерть Самуила-бацы. Михалек Ивонич не мог позволить себе наказывать за это смертью. Если наказывать — то начинать пришлось бы с себя; но Беата и младенец под ее сердцем вынуждали Михала жить.
Жить.
…этим ударом можно было расколоть камень. Легендарный Водопуст из гуральских преданий вроде бы так и делал, когда отворял родники на Подгалье. Да только камня под острие Мардулиной чупаги не подвернулось, и вся сила пропала даром. Вскрикнув от отчаяния, разбойник на согнутых ногах пауком побежал вокруг проклятого воеводы-отцеубийцы, норовя достать обушком по голеням — но руки Михала были гораздо длиннее Мардулиных, а то, что воевода по-прежнему держал чупагу за середину древка, почему-то не имело никакого значения. В последний момент, когда обушок в который раз уже норовил пройтись по лодыжке вросшего в землю, как столб коновязи, Михала — обратная сторона древка воеводиной чупаги сухо щелкала по узкому лезвию возле самого сапога, и обушок бессильно взвизгивал, наискось чиркая по кожаному голенищу.
За поясом у обоих бойцов торчало по ножу — прямому и узкому пастушьему ножу с дубовой рукоятью; и воевода задним числом полагал, что рано или поздно вспыльчивый разбойник попытается метнуть нож во врага. Гурали отлично метали и чупаги, но на такую глупость, после которой рискуешь остаться совсем безоружным, Михал не рассчитывал. Вернее, надеялся, что она не придет Мардуле в голову — безоружного разбойника было бы очень просто оглушить и выволочь за шкирку из огненного кольца, но горцы могли бы счесть это случайным везением, а не Божьей волей, и потребовать продолжения поединка.
Юный мститель все еще метался за пределами невидимого круга, привычно очерченного для себя воеводой, и Михал мог позволить себе неторопливо прикидывать возможные повороты боя, предоставив своему телу действовать самостоятельно. Он только краешком сознания приглядывал за собой — иначе, полностью отпустив поводья, он мог опомниться от размышлений уже над трупом Мардулы и запоздало клясть себя за то, что слишком хорошо учился убивать.
Отчаявшись зацепить воеводу издалека, разбойник заплясал вокруг, выбивая ногами барабанную дробь, закрутил чупагу вихрем — и неожиданно по-детски глупо кинулся к Михалу вплотную. Пальцы левой руки Райцежа мгновенно, словно живя собственной жизнью, вцепились в Мардулино запястье, сковав его кандалами похлеще каторжных, и чупага разбойника повисла над непокрытой головой воеводы, не в силах сдвинуться с места. Даже не попытавшись достать нож, разбойник свободной рукой обхватил Михала за шею, рванул на себя…
— Зачем? — тихо, в самое оскаленное лицо разбойника выдохнул Михал.
Он и в самом деле не понимал — зачем? Будучи гораздо сильнее молодого Мардулы, Райцеж в ближнем бою имел множество преимуществ, если в подобной ситуации имело смысл продолжать говорить о преимуществах. Даже сейчас Михалу стоило известных усилий не свернуть разбойнику шею или не всадить нож в поджарый юношеский живот.
— Зачем? — еще раз спросил Михал, не отпуская Мардулу, и вдруг ему померещился в десяти шагах, у самого огня, зыбкий силуэт, скрестивший призрачные руки на призрачной груди. Огонь плеснул на видение искрящейся лавой, очертания проступили четче, выпуклей — широкие плечи, орлиный нос с раздувшимися ноздрями, жабьи глаза навыкате…
— Батька? — забывшись, прошептал Михалек. — Батька, прости дурака!..
И вдруг понял, зачем Мардула прорывался вплотную.
Понял за миг до того, как Стражи его собственного сознания опустили огненные мечи на дерзкого пришельца.
Наверное, если бы не дар различать себе подобных, вынесенный из горящего сознания умирающего отца, Михал все-таки опоздал бы и уже держал в своих объятиях идиота.
Хуже — растение.
Юный Мардула-разбойник, сын Мардулы-разбойника и Янтоси Новобильской, был вором. Разыскивая своих будущих приемных детей по городам и весям, воспитывая их потом в строгости, старый Самуил не заметил того, что росло под самым боком; вернее, заметил, но поздно — в последние годы жизни, когда птенцы его гнезда разлетелись, разъехались, когда сам он окончательно состарился и отпаивал травами на печке раненого подростка-разбойничка. Вот тогда-то и почуял Самуил-баца в разбойном гурале знакомый воровской талант, вот тогда-то и стал учить Мардулу нужной сноровке, да только мало чему успел выучить — умер.
Одно забыл сказать, главное — что не один он такой на белом свете, Мардула-разбойник, Мардула-вор, нет, не один, даже после Самуиловой смерти.
И сейчас последний ученик Самуила-бацы из немногих своих силенок пытался украсть боевое знание у Михалека Ивонича, не понимая, что делает и с кем связался.
Это было то, чего Михал никак не мог предвидеть.
Он-то лучше кого бы то ни было знал, что воинский талант не выкрасть, как и любой талант; что в бою никак недопустимо соваться в душу противника — уж лучше сразу подставить шею под клинок; что безопасней воровать добычу у бодрствующей рыси или яйца из гадючьего гнезда… он знал это.
О, как хорошо он знал это!
И все силы ушли на страшный окрик, неслышный никому, кроме Стражей, которые нехотя опустили мечи и отошли в сторонку, давая оглушенному пришельцу выпасть наружу.
Впервые Михалек Ивонич, Михал Райцеж, придворный воевода Райцеж узнал, что его собственный воинский дар охраняют такие же Стражи, что и дар Жан-Пьера Шаранта из Тулузы; что это его, его талант, не ворованный, свой собственный, вросший корнями в основание души, давший многочисленные побеги, и нечего стыдиться, метаться ночами в смятых простынях и кусать подушку, не о чем жалеть; только сейчас понял Михалек ту простую истину, которую учителя его, Антонио Вазари, Жан-Пьер Тулузец, барон фон Бартенштейн, и самый первый, самый строгий учитель, батька Самуил — все они поняли давным-давно: нельзя украсть то, что тебе и так отдают, по доброй воле.
Открыто.
Отогнав Стражей, как инстинктивно сделал это сейчас сам Михалек, спасая глупого самонадеянного Мардулу от безумия.
…и лезвие ножа полоснуло его по ребрам.
Оглушенный столкновением со Стражами, полуобмякший в руках Михала юный разбойник все-таки умудрился рвануть из-за пояса нож и, держа его острием к себе, извернулся и вслепую мазнул по врагу.
Отшвырнув Мардулу, Михал наскоро тронул бок ладонью — порез был болезненный, но неглубокий и практически безопасный. Но вздохнуть с облегчением ему не дали: разбойник снова кинулся вперед, сгорбившись и наклонив голову, как кидается раненый вепрь, и обхватил воеводу поперек туловища.
— Прочь! — хрипло заорал сбитый с ног Михал, и никто не знал, что кричит он не Мардуле, а Стражам, собственным Стражам, вновь замахнувшимся мечами при виде глупого вора, догадавшегося во второй раз сунуться в смертельно опасный лабиринт, откуда неумехе чудом только что повезло уйти живым.
И одобрительно качнул кудлатой головой призрак, стоявший у огня со скрещенными на груди руками, глядя на сцепившихся пасынков смоляными очами.
Покатившись по земле, они врезались в горящую вязанку с хворостом, Михал едва успел разорвать объятия и вскочить — а огонь лениво лизнул широкие Мардулины штаны, пояс, обнаженное туловище… одежда вспыхнула, и какое-то мгновение воевода стоял над корчащимся юношей, попавшим в собственный ад и после встречи со Стражами не соображающим, что делать и как спасаться.
— Держись, брат…
Этого тоже не услышал никто, кроме призрака.
Гурали потрясенно ахнули, когда из круга вынесся Михалек Ивонич, в обожженных руках держа над собой охваченного огнем Мардулу. Промчавшись через расступившуюся толпу, он в мгновение ока оказался на краю крутого склона и, не раздумывая, бросился вниз с высоты в четыре человеческих роста.
В темные воды Грончского озера.
8
Утро выдалось просто дивным.
Рассветный ветер походя смахнул кучерявую пену облаков, набегавшую со стороны Оравских Татр, и только легкие брызги разметались по небу — солнце мимолетно окуналось в них, чтобы вынырнуть спустя мгновение и улыбнуться Подгалью нежаркой улыбкой добродушного владыки.
Во дворе Самуиловой хаты чуть ли не с самого восхода толклись шафлярцы — коренастые мужики притаскивали длинные дощатые столы, сгружая их один на другой у забора, чтобы расставить как положено к вечеру или уже завтра, в день сороковин; скотный двор распух от блеющей отары — каждый считал своим долгом пожертвовать хотя бы одну овцу или барана для поминок славного бацы; женщины с закатанными по локоть рукавами ежеминутно загоняли на печь немую Баганту, вдову Самуила, потому что и без помощи старухи все вскоре обещало заблестеть чистотой, а проку от немощной Баганты и так было немного.
По селу лениво слонялись гайдуки Лентовского, на всякий случай при оружии — но вели себя чинно, с достоинством, как им было строго-настрого приказано. На сытый желудок — гостеприимство шафлярцев подкреплялось вещественными доказательствами — было не так уж трудно сохранять достоинство, а тем гайдукам, у которых при виде местных грудастых девок начинал кукарекать петух в шароварах, их же друзья предлагали глянуть на девкину родню. Сомневающиеся шли глядеть, некоторое время и впрямь рассматривали приветливых парней с бычьими шеями, сидящих на завалинке и ведущих неторопливые беседы, хлопали их на прощанье по плечам и уходили, тряся отбитой ладонью. После этого дальше игривых разговоров, до которых девки были большие охотницы, дело не шло.
Во дворе Зновальских неторопливо прохаживался его преосвященство, последователь святого Доминика епископ Гембицкий. Приехавшие с ним монахи рядком восседали у колодца на вынесенной из дома скамье и глухо перекаркивались меж собой, вертя головами во все стороны, отчего ужасно походили на стайку грачей. Местная ребятня, никогда не видевшая служителей церкви святее бродячего монаха-пропойцы Макария, раз в год забредавшего в Шафляры, сбегалась к воротам посмотреть на ксендза в фиолетовой мантии. Смотрели, испуганно крестились и убегали, чем весьма раздражали его преосвященство.
— Слышь, Ясько, — вопил один из пацанвы, на бегу дергая приятеля за ухо, — матуська говорила, что это тот самый ксендзяка, что в Завое тетку твою спалил! Слышишь или нет, говорю?!
— Ну и что? — равнодушно отзывался конопатый Ясько, родственничек сожженной. — Туда ей и дорога, ведьме старой… приезжала, за волосья меня таскала — нехай горит, не жалко!
Почему-то такое одобрение его действий тоже не доставляло провинциалу удовольствия.
— Кыш, окаянные, — прикрикнул на огольцов лысый дед, куривший на бревне у самых ворот. — Их святость Богу докладывает, что на земле да как, а вы орете, дуроломы! Кыш, кому сказано!
— Благослови тебя Господь, — Гембицкий осенил деда крестным знамением и задержался рядом со стариком, незаметно морщась от едкого дыма. — Ты, сын мой, местный уроженец, как я понимаю?
— Не-а, — равнодушно бросил «сын», глубоко затягиваясь и скрываясь в сизом клубящемся облаке. — Я, святой отец, под Остервой народился, рядышком, да не здесь. А в Шафлярах давненько… как на первой своей поженился, так сразу и перебрался. Хата у них добрая была, богатая, не то что у меня, вот и пошел в приймы. Ох и баба же была, святой отец, первенькая моя, ох и баба! — чисто Полуденница! Раз, помню, закатились мы с ней на озера…
— Полуденница? — ласково улыбаясь, поинтересовался доминиканец, и монахи на скамье зашевелились, словно почуяв добычу. — Кто ж это такая, сын мой?
— А Христова дочка, — нимало не смутившись, ответил дед. — Никак, гляжу, тебе это неизвестно, отец мой?
— Дочка?! — на миг опешил Гембицкий. — Какая дочка?!
— Младшенькая. Их у него много, боженька по этому делу мастак: Веснянки, что по небу на молниях летают, Зарницы, что росу по утрам сеют-высевают, потом Майки, блудодейки лесные… Но Полуденницы лучше всех, это я вам точно скажу, как на духу, святой отец!
— А… чем они занимаются, эти Полуденницы? — дедовы бредни и его более чем странное понимание Христовой родни привели епископа в замешательство. — Небось, ворожбой да лиходейством?
Последние слова удивили самого Гембицкого. Было в них что-то патриархальное, замшелое, никак не достойное князя церкви, пользующегося заслуженным уважением даже в Риме — такой вопрос подобал скорее тупому хлопу, невесть какими путями нацепившему монашескую рясу и все равно с боязливым почтением внимающему языческим глупостям своих предков.
— Где ж им, сердешным, лиходейством заниматься? — изумленно поднял брови дед. — Ну ты, святой отец, и скажешь! — дочки Господа нашего, и вдруг лиходейницы! Чему вас только учат, в монастырях ваших?! Полуденницы, они святым делом занимаются — распаренных девок в сенокос на траву кидают…
— Зачем?
Дед долго хихикал, мелко вздрагивая.
— Ох и шалун ты, отче, — отсмеявшись, он погрозил епископу кривым мосластым пальцем, — ох и баловник! Зачем, спрашиваешь? Ох и…
Не договорив, он снова зашелся смехом, хлопая себя по ляжкам и тряся лысой головой.
Трехлетний мальчонка подковылял к деду и принялся карабкаться к нему на колени.
— Внук? — спросил Гембицкий, досадуя, что вообще ввязался в разговор со старым язычником, и не зная, как выпутаться. — Или правнук?
— Правнук мой вона где, — дед махнул в сторону здоровенного парняги, слушавшего какие-то распоряжения хозяина дома Зновальского. — А внук ему говорит, чтоб крышу чинить лез, лоботряс…
Хозяин Зновальский, закончив разговор с парнем, подошел к деду и принял от него карапуза, не забыв поклониться провинциалу.
— Зоська говорит, переодеть мальца надо, — бросил Зновальский и пошел прочь, приговаривая ребенку. — Пошли, дядька мой родный, переоденемся, будем как люди…
— Во как у нас в Подгалье, — хмыкнул дед, возвращаясь к своей трубке. — Видал, святой отец? Внук мой сына моего на руках носит! Чудны дела твои, Господи… а про Полуденниц — это вы здорово, святой отец! Зачем, говорите?.. надо будет хромому Марцину рассказать, пусть тоже обхохочется…
И потом еще долго кивал да хмыкал, глядя на слоняющегося по двору провинциала.
Обожженный Мардула отлеживался в материной хате, под присмотром мамы-Янтоси. Тело разбойника заботливо смазали ореховым маслом, сбежавшиеся старухи-знахарки поили его отварами и пришептывали по углам нужные слова; валялся Мардула на прохладных новеньких простынях, добровольно предложенных соседской девкой из своего приданого — девка уже второй год была не прочь увидеть юного разбойника на этих простынях, правда, в несколько ином качестве, чем сейчас.
Михал слонялся вокруг, стесняясь зайти и справиться о Мардулином здоровье. Сам воевода пострадал не слишком: обгорели ладони, и в ближайший месяц Райцежу было бы больно не то что палаш — хворостину в руки взять; да в голове до сих пор плясали черти после страшного удара о воду Гронча, когда рушился туда в обнимку с Мардулой.
Походив туда-сюда, Михал убирался восвояси, чтобы через час-другой заявиться снова.
По Шафлярам бесцельно шлялся Джош, объевшийся и оттого склонный к меланхолии, а за ним вереницей брели чуть ли не все шафлярские собаки. Только что на их глазах Молчальник умудрился стащить у Хробака, громадного косматого пса, его любимую баранью лопатку, которую Хробак зарыл в землю и для пущей безопасности улегся в двух шагах от схрона; и собачьему восторгу не было предела — особенно когда одноухий ворюга потаскал кость, потаскал и вернул обалдевшему Хробаку, даже не рыкнувшему на похитителя.
Две поджарые суки недоуменно переглядывались и облаивали Молчальника, игнорировавшего их блохастые прелести.
Цыганистый парень, приятель Мардулы, еще в самую рань привел в село Беату и самолично проводил ее к Самуиловой хате. Михал кинулся к жене, обнял, потом застеснялся и куда-то исчез, поэтому счастливая Беата мигом попала под опеку Терезы Ивонич, сойдясь с последней необычайно быстро. И часа не прошло, как обе женщины вовсю шушукались в углу двора, и Беата только диву давалась, внимая советам Терезы: нет, не такими она представляла себе краковских купчих, совсем не такими! В Висниче говаривали, что купеческие женки — что крольчихи, и деток куча, и мужиков в постели, как муравьев вокруг пролитого меда! А красавица-Тереза была донельзя совестливой, душевной, мужа называла не иначе как «хозяин», потомство воспитывала в строгости, и, слушая ее, Беата душой чувствовала: не врет!
И впрямь такая.
Даже несколько раз призадумалась Беата Райцеж, в девичестве Сокаль: не многовато ли совести на одну женщину?
Ответа она не знала.
Видимо, Тереза что-то почувствовала, потому что прервала на полуслове рассказ о младенческих болячках и способах борьбы с ними — и пристально глянула на Михалову жену.
— Муж у меня хороший, — невпопад заявила Тереза. — Добрый, умный… честный. А купцу честь с совестью — одна морока. Ни купить, ни продать, ни объегорить! Вот и приходится…
Тереза не договорила, поморгала длиннющими ресницами и вернулась к разговору про опрелости да вздутые животики.
Ближе к вечеру приемные дети Самуила-бацы стали собираться на отцову могилу. Когда каждый из них в свое время покидал Шафляры, отец брал с птенца клятву: в ночь сороковин просидеть от заката до восхода над местом его последнего упокоения. Чем-то это напоминало старые гуральские сказки — ходил старший сын на могилу к отцу, да не дошел, ходил средний, да заснул на кладбище, а младший всю ночь высидел, и достались ему к утру меч-саморуб, конь-крылач и скатерть-самобранка. На подобное наследство Самуиловы приемыши не рассчитывали, но обещание, данное отцу, собирались выполнить. И впрямь: отчего в ночь, когда сороковины заходят, не посидеть над отцовской могилкой, не поразмыслить о покойном и о собственной жизни, какая там она сложилась; может, и неплохо оно — остановиться, замолчать и подумать.
Скажи, батька Самуил, как жить дальше?
Это тебе не меч-саморуб…
Перед самым выходом, когда солнце расплескалось алым огнем о вершину Криваня, Михал все-таки набрался смелости и зашел проведать Мардулу. Сперва он не знал, куда деваться от смущения, когда Мардулина мать, до сих пор еще статная и миловидная Янтося, кинулась воеводе в ноги и со слезами стала благодарить за сына своего непутевого, за жизнь его молодую. Еле-еле угомонив Янтосю, Михал приблизился к постели и встал над разбойником.
Мардула, похоже, спал или был без сознания. Он лежал совершенно голый, раскинувшись на спине, ожоги мало-помалу подсыхали, но не слишком, смазанные маслом; дышал разбойник ровно, и жизнь его, по всему видать, была вне опасности.
Михал молча смотрел на похитителя своей жены и видел почему-то Самуилову хату, вот этого же раненого гураля на печи и старого батьку рядом. Видать, долго решался Самуил-баца, прежде чем взялся учить тайному воровскому ремеслу сына своего побратима. Неровен час, распустит парень язык — не мальчик ведь, не прикажешь, как своим приемышам поначалу — начнут люди коситься, и прости-прощай спокойная жизнь!
Воевода присел, легко тронул Мардулино запястье… Разбойник сейчас был открыт, беспомощен, Михалек мог украсть у него все, что угодно: память о науке Самуила-бацы или память об обстоятельствах смерти последнего, выскрести до дна зло на него, воеводу Райцежа, или отрезать и унести ломоть знаний о тайных укрытиях в местных лесах. Вот оно, бери — не хочу!
Улыбнувшись, Михал легонько взъерошил спящему Мардуле волосы и пошел к двери.
Вслед воеводе из-под дрогнувших ресниц пронзительно сверкнул взгляд разбойника.
Возможно, это было хорошо — то, что Михал не видел этого взгляда; как и то, что он не стал рыться в душе человека, которого считал беспомощным.
Шафлярское кладбище располагалось меньше чем в получасе ходьбы от села. Если сразу от южной околицы взять наискосок через волнующееся море папоротников и дикого овса, после пересечь небольшую рощицу, словно отбившуюся от отца-леса и теперь в нерешительности замершую на непривычном месте, то за могучим явором уже было рукой подать — вот оно, место упокоения шафлярцев, отдавших душу Богу, а тело родной земле Подгалья!
Никакой еды и питья Самуиловы приемыши с собой не взяли, хоть мама Баганта со всей материнской настойчивостью и совала им в руки узелки — на сытый желудок плохо думается, да и батька Самуил обиделся бы, если б дети его на его же могиле в ночь заходящих сороковин трапезничать стали! Провожать их никто не провожал, даже не высунулся в окошко, чтоб хоть одним глазком посмотреть; понимали шафлярцы — ни к чему лишний раз соваться в чужое горе, лезть любопытными пальцами в живое, разверстое, кричащее… вот завтра и помянем Самуила-бацу, как у порядочных людей заведено, а этой ночью пусть уж дети сами отца поминают!
Только тощий монах-доминиканец в рясе с капюшоном вылез по пояс из окна дома Зновальских, раздвинув ставни, буркнул что-то себе под нос и немедленно скрылся — доносить побежал, хоть и не о чем тут было доносить; или просто не придал значения.
— Да пропади ты пропадом! — пробормотал хмурый аббат Ян, полоснув взглядом по ставням, так и оставшимся открытыми, и ничего больше не добавил.
Шел себе, молчал.
…Нетопырь с когда-то перебитым и после плохо сросшимся крылом висел на ветке явора вниз головой и диву давался. Подходило его времечко — правильное, ночное, когда смотрят не глазами и живут одним мгновением — а тут людишки какие-то шляются, хотя людям давно пора забиться в свои деревянные норы и спать, либо горланить песни, собравшись на лугу вокруг костра. Нетопырь перебрал коготками, кожистые крылья хлопнули раз-другой — но нет, зверек остался висеть, напоминая сухой лист, и лишь уныло моргнул круглыми глазенками.
Луна, выглянувшая из-за каменистого плеча Криваня, припомнила золотые деньки, то бишь ночки, когда была она молодым рогатым месяцем, и замерцала тоскливо, обсыпая желтой пыльцой кучку людей у могильного холмика. Луна не понимала, почему люди выбрали именно этот холмик, хотя вокруг на кладбище было предостаточно других, точно таких же, но решила не задумываться лишний раз над человеческими прихотями, а то и без того на лице пятна!
Разве что вспомнилось ни с того ни с сего сквозь дрему: надвигающийся рассвет, свои последние минуты перед тем, как убраться восвояси, люди — кажется, те же самые, только теперь их было гораздо меньше — сбившиеся у дощатой ограды, и туманы, сизые туманы старого погоста…
Оставалось уже не так далеко до полуночи, когда поблизости от тихого шафлярского кладбища зафыркала лошадь, а следом за ней заскрипели колеса — сразу, из тишины, словно чужой тарантас свалился с неба.
Впрочем, с неба — это вряд ли.
— Явился… — пробормотал аббат, отворачиваясь и глядя в фиолетовое, цвета епископской мантии небо с крупными бриллиантами звезд.
Смотреть на пришельца настоятелю не хотелось — даже для того, чтобы увидеть, что голова гостя непокрыта: свой неизменный берет с петушиным пером тот нервно комкал в кулаке.
— Кто это? — повернулась к брату удивленная Тереза.
— Он. Марта, небось, рассказывала… Петушиное Перо.
— Великий Здрайца?! — ахнула Тереза и, резко встав навстречу выступившей из темноты фигуре прибывшего, неприязненно поинтересовалась:
— Что, по отцову душу приехал, вражина?
— Не мели языком, — возница тарантаса устало вытер сжатым в кулаке беретом покрытый испариной лоб, хоть ночь выдалась отнюдь не жаркой, и потеть было вроде бы не с чего. — Отвалится. Не моя она, душа отца вашего, хоть и жаль, а не моя. Не дотянуться…
— Тогда — зачем? — не выдержала Марта, прижимая к себе чуть слышно заскулившего Джоша. — За ним?
Она кивнула на пса.
— И не за ним, не бойся, — досадливо отмахнулся Великий Здрайца. — Хотя и следовало бы… Хотите, рассмешу?! Не хотите? Ну, тогда все равно рассмешу. Сам не знаю — зачем я здесь! Разве что тебя повидать, воровочка моя, — дьявол невесело усмехнулся, присаживаясь рядом и делая вид, что хочет приобнять Марту за плечи.
Марта собралась было отодвинуться, но отчего-то не стала этого делать, только зябко поежилась.
Помолчали.
— Спасибо, — не к месту проворчал вдруг Михал и осекся, словно смутился.
— Кому? — искренне удивился Петушиное Перо. — Кому спасибо-то? Мне?!
— Тебе, — кивнул Михал. — За то что и Марте, и мне помог тогда живыми уйти. Вот уж откуда помощи не ждал… Но все равно — спасибо.
Явно растерявшийся Здрайца не нашелся, что ответить. Повисла натянутая пауза, во время которой аббат Ян думал, что в простом «спасибо» кроется «спаси Бог», только большинство об этом давно забыло.
— И что же ты теперь собираешься делать? — снова первой не выдержала Марта. — Я ведь понимаю… ох, ничего я уже не понимаю, только от тебя ведь просто так не отвяжешься! Что делать будешь, я тебя спрашиваю?!
— Да не знаю я! — чуть ли не выкрикнул дьявол в лицо женщине, брызжа слюной. — Не знаю! Раньше мне было плохо — о, если бы ты знала, воровочка, как мне было плохо!.. неправильное это слово, нет таких слов в человеческом языке, это надо пережить самому! И сейчас мне плохо, но сейчас мне именно плохо, я впервые в жизни ощущаю именно это, впервые чувствую правильность сказанного!.. ну зачем, какого черта тебя занесло в Вену, воровочка?!
Казалось, Петушиное Перо, забывшись, разговаривает сам с собой, но все слушали его, затаив дыхание — никто из пятерых не мог себе представить такого дьявола! «Он что, каяться собрался? — изумился аббат Ян. — Господи, прости меня, грешного — может, и для него еще не все потеряно?!»
— …раньше я ощущал это каждым мгновением своего существования, — продолжал Великий Здрайца. — Каждое мгновение — вечная мука, и я мог лишь надеяться, что когда-нибудь сумею это прекратить, исчезнуть, не быть — о, как же я хотел не быть!.. Да, я мучился всегда; и мучения других были столь мелкими и жалкими по сравнению с моими собственными, что я попросту не замечал их, как ты не всегда замечаешь муравьев под ногами! Но до встречи с тобой, воровочка, до сторожки в лесу на окраине Вены, мне, по крайней мере, было все понятно: ценой мук своих и чужих я копил выкуп, который должен был избавить меня от проклятья существования! Я знал, что это будет нескоро, что придется перетерпеть вечность, а потом еще одну вечность — но это будет! И к прежним мукам я уже отчасти притерпелся, свыкся с ними, как с неизбежностью; лишь иногда, когда я ощущал в себе руку Преисподней в полной мере, мои страдания становились невыносимыми — но это длилось недолго… А теперь — теперь я чувствую, как все вокруг рушится, я уже ни в чем не уверен, ни в сегодняшнем рабстве, ни в завтрашней свободе; я познал новые ощущения, тоже мучительные, но… другие! Одиночество срослось со мной, а сейчас кто-то отдирает его от меня, отдирает с мясом, с кровью, и мне все время кажется, что этот «кто-то» — я сам! И это с тех пор, как я встретил тебя, моя воровочка! Что же ты со мной сделала?! И что теперь делать мне?! Люди, скажите — что делать несчастному дьяволу?!
Петушиное Перо захлебнулся и умолк.
Собравшиеся на могиле Самуила-бацы люди тоже потрясенно молчали, боясь поднять глаза и посмотреть на Великого Здрайцу.
— Полагаю, я не все понял из твоей речи, — проговорил наконец аббат Ян, — но душой чувствую, что говорил ты искренне. Господи, прости меня, грешного, за то, что скажу сейчас — но если путь спасения открыт для каждого, то ведь это должно значить именно «для каждого»?! Может быть, и у тебя есть надежда, о которой говорил ты — надежда искупить свои грехи и спастись? Скажи, не могу ли я чем-то помочь тебе?
Отец настоятель чувствовал, что кощунствует, но слова сами срывались с его уст, помимо воли Яна.
— Помочь МНЕ? — саркастически ухмыльнулся дьявол.
И некоторое время качал головой, уставясь перед собой в одну точку.
— Еще никто не предлагал мне помощи, — тихо произнес он после долгой паузы. — Я — многим, но мне — никто. Может быть, ты и вправду святой? Несмотря на все твои грехи? Грешный святой, святой грешник… настоятель Казимежского кабака! Но даже если так, если ты искренен в своем порыве, как я в своей исповеди — чем ты можешь помочь мне?
— Еще не знаю, — честно признался Ян. — Но если ты кое-что объяснишь мне, я надеюсь, отыщется выход…
— И что же вам не терпится узнать, святой отец? Не приходилось раньше исповедовать дьявола? — Петушиное Перо сбился на свой обычный язвительный тон, но тут же оборвал сам себя. — Тем более что я не советую верить мне до конца. Даже когда я говорю правду — а я говорю ее куда чаще, чем думаете вы, люди — в ней, в этой правде, может таиться подвох, незаметный для меня самого! Ты это должен понимать лучше других, святой отец… А я, в свою очередь, не верю, что ты способен мне чем-то помочь. Подумай — как ты собираешься это сделать? Душу свою продашь, чтоб спасти проклятого?! Нет, знаю, не продашь… да и нет у меня права подписывать подобный договор. До встречи с ней, — он кивнул на закусившую губу Марту, — я бы не стал даже разговаривать с тобой об этом. Но чем черт не шутит, когда дьявол спит! Как тебе такая шутка, святой отец?! Знаю, не нравится… Спрашивай! И я отвечу, если смогу.
— Тогда, на мельнице, — аббат говорил медленно, тщательно подбирая слова и стараясь не смотреть Петушиному Перу в глаза, — ты сказал перед отъездом, что муки освобождают. И что душа того несчастного, которую ты насильно для нее самой вложил в мертвеца, теперь для тебя потеряна. Если это так — а это наверняка так, иначе порочна сама идея чистилища! — то, может быть, и ты, пройдя сквозь мучения, способен очиститься и освободиться?
— Не способен, — грустно дернул себя за эспаньолку Петушиное Перо. — Для меня этот путь закрыт. Я проклят. Но я могу освободиться по-другому. Тебе наверняка не понравится эта дорожка к спасению, святой отец, но для меня она — единственная.
От аббата, да и от остальных не укрылось, что последние слова дьявол произнес неуверенно. «А что, если он и сейчас хитрит, ведет какую-то свою игру?!» — мельком подумала Марта, но, взглянув на понурившегося Великого Здрайцу, тут же сама устыдилась своей мысли. Надо быть дьяволом, чтобы настолько притворяться!
Впрочем, существо перед ней и было дьяволом.
— Я проклят, — повторил Петушиное Перо. — Я брожу среди вас, я творю то, что вы, люди, называете злом — но для меня это не зло, а всего лишь способ моего существования. Я просто не могу по-другому, как вы не можете не дышать!
— Не можешь или не хочешь? Или просто не знаешь, как это — по-другому? — перебил дьявола аббат.
— Не знаю, — подумав, ответил Петушиное Перо. — Я соблазняю людей тем, что действительно могу им дать, и чтобы выполнить обещанное, я прибегаю к помощи тех, кто сделал меня таким, каким я стал. Вельзевул, Сатана, Люцифер, Антихрист — зовите их как угодно! Я сам никогда не видел их, никогда не разговаривал с ними знакомым мне языком, и ни одно из имен человеческих или нечеловеческих не подходит им, как змеиная шкура не подходит волку; но когда я прибегаю к мощи Преисподней, чтобы выполнить обещанное, я ощущаю Геенну в себе — и тогда мои муки усиливаются тысячекратно! Но она же дарует мне силы выполнить то, что мне нужно. И в результате я приобретаю чью-то душу. Одну, другую, третью… Я коплю выкуп. Выкуп, который освободит меня. Я не знаю, сколько душ мне для этого понадобится — но я коплю…
Петушиное Перо обреченно сморщился и отвернулся.
— Ты уверен, что это — путь к освобождению? — тихо спросил бледный как смерть аббат Ян.
— Да, — кивнул Великий Здрайца.
— И где же ты хранишь принадлежащие тебе души? — аббат едва сдерживал волнение; то, что сейчас открывалось ему, вызывало озноб, и отец настоятель, напрягшись, внутренне дрожал мелкой дрожью. Он чувствовал: еще немного — и он узнает все или почти все, что хотел, еще немного, и он поймет, что выход есть, что его просто не может не быть!
— Освободить их хочешь? — поднял бровь дьявол. — Не выйдет, святоша. Это ведь только в сказках — распороли волку брюхо, и вылезли из него целые толпы съеденных… и стали жить-поживать. Они, души эти проданные — в аду, как и полагается… во мне! Они — часть меня, ты это понимаешь, мой жалостливый аббатик?! А тех, которые еще находятся в телах живых, я держу на невидимых нитях, как кукольник держит своих марионеток, и по мере надобности дергаю за эти нити, вынуждая повиноваться!
— Значит, они тоже страдают?
— А как ты думал?! Нет, аббатик, ты просто удивляешь меня… Они — в аду, а этот ад — во мне. Хоть он и ничто по сравнению с Преисподней, которая время от времени входит в меня! — но и его вполне достаточно, чтобы эти душонки настрадались вволю! Да и выйдя на миг по моей воле на свободу, прогулявшись на коротком поводке, они не чувствуют себя лучше! Представь, святой отец: выпав из адского небытия, ощутить себя, к примеру, в теле мертвеца! Ты никогда не был в неживом, вынужденном жить?! Тебе повезло, аббатик…
— Но, страдая в тебе, они очищаются?
Окружающие наконец увидели, как дрожит в возбуждении святой отец.
— Нет. Во мне — нет. Очищают лишь муки чистилища, но не адские муки. Чему тебя учили, святой отец?! Здесь, на земле, и только здесь проходят люди свое чистилище: умирают, рождаются вновь, забывая себя, забывая, кем были раньше, как не помню этого и я; одни постепенно уходят вверх, и мне уже не дотянуться до них, другие все больше погрязают в том, что вы называете грехом, но все-таки боятся встать с дьяволом лицом к лицу; третьи же сами выкармливают пожирающий их огонь, третьи непрерывно кричат жизни «дай!» — и вот этих-то я не упущу! А попав в мой внутренний ад, души варятся в нем без права на завершение — ибо эти муки не искупают их вины, а лишь являются образом существования. То же самое, но во сто крат худшее, получил в свое время и я…
— Выходит, альбигойцы были во многом правы, — пробормотал аббат. — И не только альбигойцы. Рай и ад пусты, мы радуемся и страдаем здесь и только здесь, ибо ты сам говоришь, что твой внутренний ад — ничто по сравнению с Преисподней, которая время от времени входит в тебя. А ты — здесь. И те, кто не продал душу тебе, умирая, рождаются вновь и вновь, раз за разом проходя все круги земного чистилища… а когда людские деяния переполнят чашу бытия — вот тогда и придет время Страшного Суда. День Божьего Гнева.
— Альбигойцы? — рассмеялся дьявол. — Не знаю, может быть, они и правы — но мне было весело наблюдать костры из катаров-«чистых», когда Прованс полыхал огнем! Не удивляйся, святой отец, я не первый день хожу среди вас… Я смотрел на горящих и сжигавших, и думал: что же такое совершил я, за что меня сделали дьяволом, если эти, и те и другие, искренне рассчитывают попасть в рай?!
Аббат поднял руку, призывая Великого Здрайцу замолчать.
— Тогда, быть может, верно и другое: мучая в себе других, ты не очищаешься сам, как котел с горящими остатками пищи не очищается от копоти. Но ведь и ты находишься на земле — а значит, в чистилище! И если, страдая сам, ты откажешься мучить других; если ты отпустишь их на свободу, разбросаешь свой выкуп, раздашь его нищим, сам превратишься в нищего, которому нечего терять — то, возможно, сумеешь очиститься и родиться заново?! Опустошив ад в себе и пройдя круги чистилища — сохранишь ли ты имя дьявола?!
— Я не думал об этом, — Великий Здрайца с удивлением посмотрел на аббата, и взгляд его на мгновение вспыхнул невозможной, несбыточной надеждой. Вспыхнул — и тут же угас снова.
— Нет… не могу. Это выше моих сил. Я могу только брать, брать и брать, копить души, набивая ими свою кубышку, по крохам собирая выкуп, который когда-нибудь подарит мне освобождение…
— Но ведь тогда способен родиться дьявол во много раз страшнее и могущественнее тебя теперешнего! Родится настоящий Князь Тьмы, и он будет существовать здесь, на земле! — аббат, уже не в силах усидеть на месте, вскочил и заходил взад-вперед, кусая губы и нервно теребя висевшие у него на поясе агатовые четки. — Не так ли родился ты сам: когда прошлый дьявол, меньший, чем ты, накопил наконец свой выкуп и сгорел в его пламени, переплавился, как переплавляется руда, чтобы дать жизнь металлу!
— А мне-то что? — пожал плечами Великий Здрайца. — Ведь это был ЕЩЕ НЕ Я; и это буду УЖЕ НЕ Я!
— Не притворяйся! — аббат Ян резко остановился напротив Петушиного Пера, твердо посмотрев ему в глаза, и через несколько секунд дьявол не выдержал и отвел взгляд. — Ведь там, на мельнице, ты отпустил принадлежавшую тебе душу, вселив ее в мертвое тело — и спас этим нас всех!.. и, возможно, душу того несчастного тоже. Значит, ты можешь отдавать!
— Могу, — с трудом выговорил Петушиное Перо. — Значит, могу. Но как же я потом жалел об этом! Ты жесток, святой отец, ты манишь меня страшным выбором, и в ту минуту, когда я готов принять твой совет, решиться обречь себя на неведомые муки ради несбыточной надежды — я вспоминаю, что не способен порвать свои кандалы! Ты никогда не был дьяволом, святой отец! Тот ад, что во мне, та рука Преисподней, что время от времени входит в меня — они не дадут мне этого сделать! Я не в силах изгнать проданные души из себя просто так, не для определенной цели; я не в силах оборвать связующие нас нити; я кукольник, зависящий от собственных марионеток! Пойми же наконец это, святой отец, и оставь несчастного дьявола в покое! Не искушай меня!!!
Великий Здрайца умолк и поник головой. Руки его дрожали, как недавно — у аббата; и петушиное перо на берете, зажатом в левом кулаке, подпрыгивало и терлось о колено.
Отец же Ян был на удивление спокоен. Он явно уже что-то решил.
— Я верю тебе, — мягко сказал ксендз, наклоняясь к тяжело дышащему дьяволу. — Верю, что самому тебе с этим не справиться. Но тебе помогут.
— Кто? — безнадежно, не поднимая головы, спросил Петушиное Перо. — Ты? Не смеши меня, аббатик…
— Мы, — твердо сказал аббат. — Мы, воры, дети вора Самуила — поможем тебе.
Дьявол в изумлении поднял голову — и увидел, что четыре человека окружили его, придвинулись вплотную и застыли с четырех сторон, словно стража вокруг преступника, словно родители вокруг провинившегося ребенка.
— Сейчас тебе будет очень плохо, — рука Терезы слегка коснулась плеча Великого Здрайцы, и тот дернулся, как от ожога. — Так плохо, как, наверное, еще никогда не было. Потерпи, пожалуйста…
И в следующее мгновение дети вора Самуила вцепились в Великого Здрайцу.
Похожая на оспенное лицо равнина серебрилась под луной, ероша седой ковыль — только луна была другая, ярко-золотая, с ребристым ободком и проступающим по центру чеканным горбоносым профилем, под которым выгибалась надпись на забытом, а может, и неизвестном людям языке; и ковыль был неправильный, потому что сейчас у Марты нашлось время приглядеться и понять, что и не ковыль это вовсе, а седые человеческие волосы, прорастающие прямо из рябых рытвин под ногами.
А по равнине бродили люди. Их было не так уж много, десятка два-три, не больше, и необъятный простор скрадывал их численность, заставляя каждого ощущать себя единственным, заброшенным, одиноким до безумия — люди сталкивались, не замечая этого, проходили один мимо другого, не замечая этого, руки касались рук, плечи — плечей, не замечая этого, не замечая, не…
Ворот не было. Громадных железных ворот, так хорошо запомнившихся Марте еще по первому вторжению, ворот, за которыми валялась беспамятная и обнаженная душа Джоша — не было. Когда Марта осознала, что не видит выхода, не видит границы между равниной Великого Здрайцы и миром живых, она вздрогнула, попятилась, как никогда остро ощущая внутри самой себя ту дыру, что прорвал в ней вываливавшийся Молчальник, перед тем как рухнуть в собачье тело Одноухого… И словно невидимая лава, расплавленная сталь хлынула через женщину, обливая огненным потоком ту самую дыру, затвердевая на краях, приобретая форму, вес, реальность — Марта корчилась от боли, но боль несла очищение, в боли крылся выход, выход из западни, и Марта вдруг подумала, высветив в меркнувшем от чудовищной боли сознании наивную и простую догадку: ворота — это я!
И встала у распахнутого зева, у двух металлических створок высотой вдвое… нет, втрое больше ее самой. Створки слегка колебались, расходясь в разные стороны, как ладони, сложенные чашечкой, когда их хозяин собирается зачерпнуть воды из говорливого ручья, и на стальной поверхности ближайшей ладони — Марта отчетливо видела это — был выбит причудливый барельеф, множество фигурок, сплетающихся в самых невероятных сочетаниях, подобно лозам запущенного виноградника.
Вот она сама, маленькая, девятилетняя, жадно слушает с раскрытым ртом батьку Самуила, а вот она уже в Вене, в постели с Молчальником, выгибается в пароксизмах страсти и беззвучно кричит… а вон Михал рубится непонятно с кем, и лицо брата перекошено от напряжения; под телом повешенного воет Одноухий, Тереза пеленает младенца, распластан крестообразно на холодном полу кельи молоденький монах Ян, строгий аббат Ян выслушивает исповедь дамы средних лет со взором истаскавшегося ангела, падает горящий Мардула в воду Гронча, под ножом Петушиного Пера сползает пятнистая кора с орешины, и кольца ее обвивают раздавленного подмастерья Стаса, а седой волк несет в зубах трехлетнюю девочку, и та кричит, кричит, кричит…
Жесткая пятерня смаху зажала Марте рот — и истерика так же быстро покинула женщину, как и охватила. Михал зашипел от боли в обожженной ладони, потом молча улыбнулся, окинул взглядом ворота, кивнул сестре и быстро пошел прочь, от ворот к людям на равнине, на ходу вынимая из ножен палаш.
Рядом с ним шел аббат Ян, и налетевший ветер хватал коричневую сутану бенедиктинца за полы, как будто хотел остановить.
Следом двигалась Тереза.
Марте хотелось пойти следом за своими, но она боялась оставить ворота, которые были частью ее самой, единственной из всех, умеющей не только красть, но и отдавать.
Один из безумцев, уныло слоняющихся по Великому Здрайце, приблизился к воротам, затем поскреб когтистым пальцем какую-то фигурку, нечленораздельно буркнул, собрался уходить, налетел на Марту, удивленно замер, не видя женщины, шагнул, снова налетел на покачнувшуюся Марту, пожал широченными плечами и пошел кругом.
— Седой? — одними губами выдохнула женщина.
Безумец остановился вполоборота, уши его нечеловечески зашевелились, становясь торчком, в приоткрывшемся рту влажно блеснули клыки — и Марта увидела, что из спины Седого, чуть повыше крестца, там, где у животных начинается хвост, растет тонкая цепь. Витые кольца ее отливали синевой, сама цепь лоснилась, уродливо блестя, истончалась в двух шагах от Гаркловского вовкулака и становилась невидимой, уходя в никуда. По цепи неожиданно пробежала волна, как если бы некто, прячась за вспучившимся горизонтом, подтягивал Седого к себе, но вовкулак упрямо не хотел уходить, вглядываясь перед собой и заставляя собственную спину набухать буграми мышц, сопротивляясь напору цепи.
— Баба… — хрипло родилось из страшной пасти. — Ох, баба!.. Откуда?..
— Седой! — Марта плакала, не замечая этого, и тяжелая лапа коротышки с трудом дотянулась до нее, успокаивающе потрепав по плечу.
«…а я как услыхал, что нашлась в мире такая женщина, что за душу своего мужика на Сатану поперла и купленный товар из рук его поганых вырвала — веришь, в лес удрал и всю ночь на луну выл! От счастья — что такое бывает; от горя — что не мне досталось!..»
Слова эти не были произнесены; вернее, были, но не здесь и не сейчас, но именно их свет сиял в эту минуту в зеленых глазах Седого, отгоняя туман безразличия, заставляя видеть, а не пялиться бездумно во мглу равнины, поросшей седыми волосами.
И даже утробный рев, пронесшийся над душой Петушиного Пера, не смог потушить упрямых зеленых свечей.
Они только ярче разгорелись, да еще Седой оглянулся через плечо, некоторое время смотрел на растущую из его тела цепь, словно впервые ее видел, а потом рывком намотал цепь на правое предплечье и согнул могучую руку в локте.
— Видать, и мне свезло, — ухмыльнулся вовкулак. — Что ж, не всякому…
Договорить он не успел.
Михал, Ян и Тереза уже гнали безумцев к Мартиным воротам, проданные души вертели головами во все стороны, ничего не понимая, но вокруг каждого Самуилова приемыша отчетливо колыхалось облако слабо мерцающей пыли, и пыль эта обжигала безумцев, не видящих никого, кроме себя, заставляя сперва бессмысленно топтаться на месте, потом ковылять прочь от жгучей пыли, потом идти, бежать…
Нет.
Бежать им не дали.
Таких Стражей Марта видела впервые.
Они не были гигантами — всего раза в полтора больше обыкновенного человека, но вид их потрясал, вызывая неодолимое желание отвернуться и зажмуриться. Голый безволосый горбун, из чьих тощих ягодиц вместо ног росли две волосатые шестипалые руки; огромный глаз на лягушачьих ластах подрагивал змееподобными ресницами; жирный червь, извиваясь, подминал под белесое брюхо седые волосы равнины — и следом за ним оставалась мертвая плешь, глянцево отсвечивающая под луной; коренастый мужчина без лица, у которого вместо гениталий вызывающе торчала ладонь с растопыренными обрубками, а изъязвленная грудь вздувалась бочонком; смеющиеся женщины, на телах которых выпячивались многочисленные сосцы, ронявшие редкие млечно-матовые капли, прожигавшие землю у женщин под босыми ногами…
А рев все не умолкал.
Михал и Ян переглянулись, не сговариваясь, заслонили собой Терезу и шагнули навстречу Стражам.
Через мгновение Марте почти ничего не стало видно — мутная перхоть тучей поднялась с седых волос равнины и заслонила от нее схватку Самуиловых пасынков с дьявольскими Стражами. Вглядываясь до рези в глазах, женщина видела только ближайших к ней безумцев, затоптавшихся на месте, вновь принявшихся бесцельно разбредаться в пяти шагах от спасительных ворот… Тереза гнала их к сестре, но не успевала: как только она умудрялась повернуть в нужном направлении одного — другой тут же сворачивал в сторону или начинал ходить по кругу.
Пронзительный вой взвился совсем рядом с Мартой, смерчем поднимаясь к отшатнувшемуся небу; женщина попятилась, прижавшись боком к металлу ворот, теплому, как человеческое тело — и седой волк, мимоходом потершись о ее ноги, кинулся к проданным душам. Цепь, растущую из него, волк зажал в зубах и время от времени дергал, словно пытаясь противостоять незаметному для посторонних напору. Коротко рыкнув на Терезу, волк понесся вокруг безумцев, со сноровкой опытной пастушьей собаки сбивая их в стадо, тычась лбом в бедра и немедленно отскакивая… Гаркловский вовкулак глухо рычал, и Марта не знала: пугает ли он безумцев или просто боль от натягивавшейся цепи вырывала из волчьего горла эту хриплую дань нестерпимой муке.
Из пульсирующей тучи, окутавшей побоище, до половины выполз слизистый червь, собираясь двинуться к воротам, но рядом с ним мелькнул драгунский палаш, рассекая кольчатое тело надвое, натрое… части червя судорожно извивались, расползаясь в разные стороны, на одну из них смаху налетел Седой, рванул клыками, выпустив на миг свою цепь — остальные обрубки задергались и вспыхнули черным пламенем, когда в клубящейся перхоти взметнулись агатовые четки аббата.
Цепь Седого внезапно перекрутилась, охватив горло волка, и вместо рыка прозвучал отчаянный скулеж. Марта уже готова была броситься к вовкулаку, оставив ворота на произвол судьбы; то же самое, казалось, собиралась сделать и Тереза, но ей мешали сбившиеся в кучу безумцы, наконец направившиеся к выходу и перекрывшие дорогу краковской купчихе. Когда чья-то рука легла Марте на плечо, останавливая женщину, она не сразу сообразила, что никаких рук рядом с ней нет и быть не должно — и некоторое время тупо смотрела на обожженное предплечье, протянувшееся прямо из воздуха.
Она никогда не видела собственного появления в чужой душе; и поэтому не знала, на что это похоже.
Пальцы на ее плече сжались, Марта качнулась, но устояла, и чужая рука потянулась из ничего, вытаскивая за собой плечо, шею, смазанный ореховым маслом торс и всклокоченную голову…
— Мама моя родная! — потрясенно сказал Мардула, глядя мимо женщины на равнину.
Не так давно юный разбойник сбежал из хаты, выломав одну из досок ставней и открыв наружный засов — бдительная Янтося, не шибко доверяя сыновнему бессилию, тщательно заперла его перед уходом к Баганте, собираясь переночевать вместе со старухой. Появление Михала окончательно доконало Мардулу: и без того потеря сознания собственной исключительности была как нож острый, так еще спаситель-воевода стоял у его постели вроде старшего брата, которого у Мардулы никогда не было, и разбойнику стоило большого труда притворяться спящим.
Ближе к полуночи, не выдержав терзаний, он решил отправиться на кладбище — получается, настоящие Самуиловы дети сидят над могилой отца, а он, Мардула, считавший себя истинным защитником покойного бацы, валяется тут на простынях! — и никакие запоры не смогли остановить юношу, никакая боль от ожогов не сумела удержать.
Мардула и сам точно не знал, что скажет Самуиловым приемышам, когда увидит их, но как только взору его предстали четверо Ивоничей, вцепившихся в дергающегося франта с заплеванным клочком волос на подбородке… Все мысли разом вылетели из разбойничьей головы, он бросился в свалку и, обдирая подсохшую корку на опаленных руках, ухватил Петушиное Перо за горло.
Наука Самуила-бацы плеснула в Мардуле кипящим варевом — и разбойник мгновение спустя уже стоял рядом с Мартой, взирая на происходящее внутри Великого Здрайцы.
— Ай, мама… — звенящим голосом повторил разбойник и очертя голову кинулся к Седому. Каким чутьем он понял, что этого матерого волчину надо спасать, а не дубасить, к примеру, камнем по голове — это так и осталось для Марты загадкой, но ловкие Мардулины пальцы в мгновение ока распутали цепь, и оба они, вовкулак и разбойник, побежали вокруг безумного стада, гоня его на Марту.
Когда ближайшая проданная душа оказалась в пределах досягаемости Марты, женщина подтащила ее к себе — это оказалась пожилая дама с бородавчатым лицом — и толкнула в ворота. Дама замешкалась, Марта схватила цепь, растущую из крестца несчастной и, не понимая, что делает, ударила цепь о колено, как толстую палку… а потом еще долго смотрела на обрывки привязи и свои окровавленные ладони.
На уродливом лице дамы появилось что-то, похожее на человеческое выражение, она покачнулась, толкнувшись в створку ворот плечом, и вдруг кинулась в открытый проем, как мать кидается в горящий дом за гибнущим ребенком.
Марта провожала ее взглядом, пока та не исчезла, и повернулась к следующему, совсем еще мальчику с бордовым родимым пятном во всю правую щеку.
Она рвала цепи, скользкие звенья вырывались из липких от крови ладоней, женщина уже не знала, что хрустит: рвущиеся кандалы или ее собственные сухожилия; ворота поглощали освободившихся одного за другим, резкие вскрикивания Мардулы сливались с остервенелым рычанием Седого, из тучи над местом битвы со Стражами доносились ругательства на трех языках вперемешку с латынью, и рев, дикий, надрывный, нескончаемый рев над равниной…
Его преосвященство епископ Гембицкий не любил, да и не умел торопиться. О намерении детей старого Самуила, включая и тынецкого настоятеля, провести ночь на отцовской могиле, он знал заранее; впрочем, тайны из этого никто не делал. Как только все четверо отправились к кладбищу, епископу доложили об этом, едва Ивоничи успели выйти из хаты — высунувшийся в окно монах лишь подтвердил уже известное. Но спешить его преосвященству было некуда. Ничего особенного в том, что взрослые дети, выполняя отцову волю, проведут ночь на его могиле, не было. И все-таки… Не зря пахолки князя Лентовского божились, что видели рядом с тынецким настоятелем того, чье имя лучше лишний раз не поминать, врага рода человеческого! Опять же, покойники ожившие и все такое прочее; может, и померещилось людям княжеским со страху, вот и наплели лишнего — а может, и нет! Почтение к усопшим — дело хорошее, да только не христианский это обычай — ночь на кладбище коротать! Помолись Господу за душу родителя своего, постой над могилкой и иди себе с Богом; а подобное ночное бдение… Что, если Самуиловы дети колдовство какое богопротивное замыслили?
Вот это и надлежало выяснить доподлинно.
Однако Гембицкий справедливо рассудил, что никакое колдовство, если оно и намечалось, раньше полуночи вершить не будут, а посему коротать лишние три-четыре часа на кладбище или неподалеку не имеет никакого смысла.
Подведя итог, его преосвященство сначала спокойно поужинали, потом провели некоторое время в молитвах и благочестивых размышлениях, и только после начали собираться в путь.
Надо сказать, что предшествующие выходу размышления епископа были не только благочестивыми, но и весьма практичными. Прихватив с собой двух монахов покрепче, Гембицкий двинулся прямиком к лагерю князя Лентовского, дабы попросить у последнего гайдуков для сопровождения. А заодно и найти проводника, который довел бы их до кладбища — блуждать в темноте наугад епископ никак не собирался.
Первым нашелся проводник, нашелся сам собой и совершенно случайно. Впрочем, он был настолько пьян, что у епископа просто язык не повернулся сказать, будто проводника «сам Бог послал».
Нетвердо державшийся на ногах пастух, шумно выпавший из дверей предпоследней в селе избы, едва не налетел на одного из монахов и остановился, пошатываясь.
— Ты местный? — строго поинтересовался епископ, брезгливо воротя нос от винного духа, которым разило от пастуха за несколько шагов.
— Не-а, — мотнул головой тот. — Из Замокрицев я. К куму в гости пришел. А тут и Божий Суд, и поминки — так мы с кумом…
— Где здесь кладбище, знаешь? — оборвал пастуха Гембицкий, поняв, что выпивоха может болтать еще долго.
— А кто ж этого не знает? — удивлению гураля не было предела. — Все знают, и живые, и мертвые! Вон там, за холмом, а потом…
— Проводишь? — снова перебил его епископ, которому эти «и живые, и мертвые» не слишком пришлись по душе.
— Ночью? На кладбище?.. — замялся выпивоха и даже начал немного трезветь.
Почувствовав его неуверенность, Гембицкий покровительственно улыбнулся.
— Уж не испугался ли ты, сын мой? Нечисти опасаешься? Видать, кладбище у вас недоброе?
— Кладбище как кладбище, — обиделся гураль. — Все как у людей. А порядочные люди ночью дома сидят и сливянку потягивают! Вона с тобой народу сколько (похоже, в глазах у пастуха троилось), и без меня доведут!
— Да ты хоть знаешь, кто перед тобой? — осведомился один из монахов.
— Кто? — тут же заинтересовался пастух. — Матерь Божья?!
— Его преосвященство епископ Гембицкий! — торжественно произнес монах. — Так что не мели языком и веди, куда приказывают!
— Ну, если и вправду его преосвященство, тогда конечно, — без особой охоты согласился гураль. — Проведу. Только зачем вам туда, ваше преосвященство? Пошли лучше, тяпнем по стаканчику во славу Господа! У кума моего…
— Это уж моя забота — зачем, — осадил пастуха епископ. — А твое дело вести и помалкивать, разговорчивый сын мой.
— Угу, — обреченно кивнул пьяница, но тут ему в голову пришла новая и, очевидно, весьма удачная на его взгляд мысль.
— Я-то, конечно, проведу, да только в глотке у меня пересохло, ваше преосвященство. Вот монастырское винцо, говорят… всем винам вино! Неплохо бы попробовать! А там — хоть на кладбище, хоть сразу на тот свет! В хорошей компании не боязно…
— Грешно увлекаться хмельным зельем, сын мой, — строго начал епископ. — Да и не собьешься ли ты с дороги? Сам понимаешь: вино глумливо, сикера буйна, и человек во хмелю скоту подобен!
— Скоту?! — искренне изумился гураль. — Да мы с кумом… ишь, скажет тоже — скоту! Не пойду я никуда! Прямо здесь спать стану!
Торг продолжался еще некоторое время, пока наконец упрямому пастуху не была выдана одна из предусмотрительно захваченных с собой бутылей — монах-возница как чувствовал, что вино им понадобится.
После чего все четверо направились к лагерю князя Лентовского.
Время близилось к полуночи, но в лагере все еще горели костры, и возле одного из них епископ различил знакомую неподвижную фигуру князя. Лентовский сидел, задумавшись, обхватив руками острые колени и завернувшись в шерстяную накидку.
— Добрый вечер, ваше преосвященство, — проговорил князь, не поднимая головы, но безошибочно определив, кто подошел к костру в столь поздний час. — Что, и вам не спится?
— Не спится, сын мой. Долг пастыря не велит мне сегодня спать. А потому явился я к тебе со смиренной просьбой — не выделишь ли двух-трех верных людей мне в сопровождение?
— Куда ж это вы собрались посреди ночи, святой отец? — удивленно приподнял бровь Лентовский. — И кто может угрожать вам, если вы просите сопровождающих? Разумеется, я не против, но…
— Да вот, решил до кладбища пройти, посмотреть, что там творится. Ежели все в порядке — помолюсь за душу покойного да обратно пойду; ну а если… сам понимаешь, сын мой. А провожатых у тебя прошу, поскольку горы эти кишат разбойниками, которые не испытывают должного почтения к смиренным слугам Божьим; однако же ваших озброенных людей, скорее всего, поостерегутся.
— Тут вы правы, ваше преосвященство, — кивнул Лентовский, вставая. — Сейчас я людей кликну. Да и сам с вами пройдусь — а то не спится что-то. Не возражаете?
— Ну разумеется, сын мой, ну разумеется! — всплеснул руками провинциал и чуть заметно улыбнулся.
«Если что не так, то придется, скорее всего, усмирять этого выскочку Райцежа, — подумалось епископу. — И тут Лентовский с его людьми окажется как нельзя кстати!»
Занятый этими мыслями, Гембицкий не заметил, как в свете костра недобро блеснули глаза старого князя.
…Время от времени пастух прямо на ходу прикладывался к полученной бутыли, восхищенно крякал, останавливался, тщательно затыкал бутыль пробкой и прятал обратно за пазуху, после чего шел дальше.
Пьяница-гураль утверждал, что ходу до кладбища не больше получаса, однако они шли уже значительно дольше, и ничего похожего на цель их путешествия пока видно не было.
— Уж не сбился ли ты с дороги, сын мой? — не выдержал наконец Гембицкий, которому начало казаться, что подлец-проводник просто-напросто морочит им голову и водит по кругу; и вообще, все они тут, в этих забытых Богом горах, еретики, язычники и разбойники, все друг с другом в сговоре, так что следовало бы…
— Ни в коем случае, святой отец! — уверенно заявил гураль. — То есть поначалу, конечно, сбился, как не сбиться на трезвую-то голову, но зато теперь уж точно знаю, куда идти. Скоро придем, вы не беспокойтесь!
— И куда же нам, по-твоему, идти? — насмешливо бросил князь, которого это ночная прогулка с плутанием по горам и пьяным проводником не то чтобы раздражала, а скорее забавляла.
— Туда, — проводник уверенно махнул рукой куда-то в темноту и, в подтверждение, двинулся в противоположном направлении.
Некоторое время все снова шли молча, пока епископ, уже не в первый раз за сегодняшнюю сумбурную ночь, не обратил внимание на раздражающее мельтешение над головой. Что-то с писком и хлопаньем носилось над ними: нетопыри — не нетопыри, тени — не тени… Его преосвященство на всякий случай перекрестился и быстро зашептал молитву, но на странных тварей это не произвело никакого впечатления. Тогда Гембицкий, чуть ускорив шаги и тут же пару раз споткнувшись, догнал шедшего впереди проводника и тронул его за плечо.
— А скажи-ка, сын мой, — ласковый тон его преосвященства не предвещал ничего хорошего, — не знаешь ли ты, что это такое над нами мельтешит?
Гураль мельком посмотрел вверх, бесшабашно взъерошил волосы пятерней, но, взглянув на строгое лицо провинциала, наскоро перекрестился.
— Конечно знаю, святой отец. Чего уж тут не знать? Бухруны это.
— Кто? — не понял епископ.
— Бухруны, говорю!
— И кто они, эти… бухруны? Нечисть?
— Вряд ли. Под луной аж лоснятся — выходит, чистые!
— Может, зверье какое? — предположил Гембицкий. — Вроде нетопырей?
— Ну вы скажете! — уверенно опроверг предположение епископа проводник. — Бухруны, и невроде топырей! Смех и только!
— И что же твои бухруны делают? — поинтересовался провинциал с язвительной усмешкой.
— Мои — ничего. А эти летают!
— Это я и сам вижу! — епископ начал понемногу выходить из себя. — Вред от них какой-нибудь быть может?
— Понятное дело! — с уверенностью заявил пастух. — Заморочить могут, потом вовсе извести… Хотя могут и навести.
— Кого навести? — его преосвященство явно был сбит с толку обилием в этих горах неизвестных ему дотоле существ: Веснянки, Зарницы, Майки, Полуденницы, а теперь вот еще и бухруны, которых к тому же довелось увидеть собственными глазами.
— Да кого угодно! — беззаботно ответил гураль. — Сейчас вот нас наводят.
— Нас?! — до его преосвященства не сразу дошло, что это его, ставленника Ватикана, епископа Гембицкого, непонятно куда наводят неведомые бухруны!
А когда наконец дошло, и разъяренный епископ уже набрал в грудь воздуха, чтобы выразить свое мнение по поводу проводника, бухрунов и вообще здешних порядков, то выяснилось, что пастух был абсолютно прав, и бухруны их-таки навели, причем именно туда, куда надо: впереди из темноты, на фоне звездного неба, проступили близкие силуэты крестов шафлярского кладбища.
Шесть темных призраков застыли на краю холма, вцепившись друг в друга, и епископ не сразу понял, что там происходит. А когда наконец разглядел, то невольно перекрестился и зашептал молитву: пятеро из последних сил держали шестого, а этот шестой вырывался, нечеловечески извиваясь и дергаясь, как припадочный, и было в его конвульсиях нечто жуткое, противоестественное. Руки-ноги человека изгибались под совершенно немыслимыми углами, отчаянный стон время от времени прорывался сквозь плотно стиснутые в судороге губы, на которых выступила пена. И носился вокруг, подвывая, большой пегий пес, не решаясь приблизиться к сплетенным в одно целое людям.
— Дьявол! Это сам дьявол, святой отец! — шептал рядом гайдук Лентовского, истово крестясь и указывая другой рукой на извивающуюся фигуру в чудом удерживающемся на голове берете с петушиным пером.
И еще мерещилось провинциалу, будто какие-то призрачные тени одна за другой выскальзывают из круга сцепившихся тел и исчезают в ночи со стоном облегчения, словно вырвавшиеся наконец на свободу души грешников…
А потом тот, которого перепуганный гайдук назвал дьяволом, невероятным усилием освободился от державших его рук, рванулся в сторону, сбив кого-то с ног — и замер, дико озираясь по сторонам. Остальные люди на холме тоже окаменели в изнеможении — и тут все увидели, как тело существа в берете, лишь внешне похожего на человека, засветилось изнутри холодным зеленоватым светом, каким светятся гнилушки в ночном лесу. Свет этот разгорался, становился ярче, вот уже языки зеленого пламени пляшут вокруг зловещей фигуры порождения Тьмы, осветив изможденные лица глядевших на него людей. И, словно отвечая на неслышный зов, таким же зеленым светом засветился стоявший неподалеку старый тарантас вместе с запряженной в него лошадью; свет становился нестерпимым, он слепил глаза, словно и человек, и тарантас, и лошадь постепенно раскалялись изнутри, наливаясь огнем самой Преисподней — и вдруг с негромким хлопком человек (?!) исчез в облаке серного дыма, вместе с ним исчез и тарантас, и лошадь, сразу навалилась темнота, а епископ, старый князь, монахи с гайдуками и мгновенно протрезвевшим пастухом стояли и смотрели на то место, где только что находился посланец ада, и точно так же смотрели туда измученные люди на краю холма…
Первым зашевелился, приходя в себя, настоятель тынецкого монастыря. Он оглянулся, скорее угадал, чем увидел темные фигуры людей у подножия кладбищенского холма, каким-то шестым чувством узнал епископа и с запоздалыми словами: «Apage, satanas!» воздел к небу руки.
— …Искренне поздравляю вас, отец настоятель! — это были первые слова взобравшегося на холм, но не до конца пришедшего в себя епископа.
А что еще мог он сказать?!
— Своими глазами видел я, как боролись вы вместе с этими благочестивыми людьми с врагом рода человеческого, и как с позором бежал в Геенну посрамленный дьявол, изгнанный вами! Теперь убедился я: клевета, ложь и клевета все, что мне о вас рассказывали! Только истинно верующий в Господа нашего и чистый душой человек способен на такое! Теперь я лично буду писать в Рим и ходатайствовать перед Его Святейшеством, чтоб ваши заслуги перед Богом и Церковью были оценены по достоинству!..
Епископ говорил еще что-то, а за его спиной шептались гайдуки князя Лентовского:
— Живьем, живьем хотел дьявола взять! Эх, жаль, не удержал!
— А, может, оно и к лучшему? В аду ему место, проклятому, а не здесь, вот тынецкий настоятель его туда и отправил!
— Никак святой он, братцы, этот аббат! Его преосвященство вон и за крест хватался, и молитву читал — а Сатане все нипочем! Не то что аббат — врукопашную…
Разумеется, его преосвященству, который прекрасно слышал, о чем шепчутся за его спиной гайдуки, подобные разговоры отнюдь не доставляли удовольствия. Но поделать он ничего не мог: свидетелей было больше, чем достаточно, и видели все не только его монахи, но и гайдуки, пьяный пастух и сам Лентовский, а уж в княжеских словах вряд ли кто станет сомневаться! Много разного водилось за старым князем, но во лжи его еще никто уличить не посмел… да и повода не было.
— Благодарю вас, ваше преосвященство, — устало улыбнулся аббат Ян, скромно склоняя голову. — Но я всего лишь исполнял свой долг перед Господом нашим и святой Церковью. И не один я встал на дороге у врага рода человеческого. Помогла мне искренняя вера этих честных христиан, — настоятель кивнул на сгрудившихся у него за спиной Михала, Марту, Терезу и Мардулу, — иначе и не знаю, совладал бы я в одиночку с Нечистым!
— Скромность всегда была вашей добродетелью, отец настоятель, — сухо заметил Гембицкий. — А теперь давайте возблагодарим Господа нашего за счастливое избавление и за то, что даровал вам и этим «честным христианам» силы для борьбы с дьяволом.
Спорить с епископом никто не стал, и все присутствующие опустились на колени.
— Теперь же — не пора ли нам идти, отец настоятель? — заметил Гембицкий, закончив молитву и поднимаясь с колен.
— Благодарю, ваше преосвященство, но я обещал отцу, что пробуду на его могиле до восхода. А я привык исполнять свои обещания, — твердо ответил отец Ян.
— Ну что ж, — пожал плечами провинциал. — Да хранит вас Господь.
Он неторопливо перекрестил остающихся и начал спускаться вниз в сопровождении доминиканцев.
Однако Лентовский и гайдуки не спешили последовать за его преосвященством. Старый князь стоял, подбоченясь, и сверлил Михала, в изнеможении опершегося о могильный крест, ненавидящим взором своего единственного глаза.
В этом взгляде ясно читалось все, о чем думает сейчас старый князь. Убийца его сына должен умереть, несмотря ни на что, и ни Бог, ни дьявол не остановят князя. Солтыс Ясица Кулах сказал: «Вызывай его на честный бой…» Вот и пришло время для этого самого «честного боя», в котором Михалу не выстоять и минуты — с обожженными руками, едва живому, вымотанному до предела схваткой с Сатаной… Но бой будет честным, один на один, при видоках, и ни солтыс Кулах, ни кто другой не посмеет после пенять князю за эту смерть и чинить ему препоны в здешних горах. Все будет честно. И убитый Янош будет отомщен…
Похоже, не только Михал прочел все это во взгляде Лентовского. И без того бледная Марта вдруг побледнела еще больше и, схватив за локоть стоявшую рядом ничего не понимающую Терезу, лихорадочно зашептала ей что-то в ухо.
Бабий шепот не интересовал князя. Лентовский медленно направился к Михалу, продолжая жечь того взглядом. Он не видел, как женщины на мгновение обнялись, глядя друг на друга остановившимися глазами, а потом Марта змеей скользнула в ноги князю, норовя поцеловать его ладонь.
— Князь, пощади воеводу Райцежа! Помилуй, не заставляй с тобой рубиться! Сына твоего он в честном бою убил — все видели! Не пятнай же княжеские руки кровью, а княжескую честь — позором!
Лентовский вздрогнул, как от удара, хотел было отпихнуть сапогом сумасшедшую бабу, но почему-то передумал, осторожно высвободился и остановился перед Михалом в раздумье. Что-то происходило сейчас в душе Лентовского, что-то, невидимое со стороны, но тем не менее отражавшееся на лице старого князя, моргавшего единственным глазом так, словно тот у него чесался.
Минуту, другую стоял князь перед убийцей сына своего, и постепенно угасал раскаленный уголь в его глазнице, разглаживались морщины на челе…
А потом поникли плечи грозного князя Лентовского. Со вздохом шагнув вперед, он тяжело хлопнул воеводу по спине, отчего Михал едва удержался на ногах, повернулся и пошел прочь, так и не сказав ни слова. Оторопевшие пахолки табунком двинулись вслед за князем, изумленно переглядываясь на ходу, но не решаясь заговорить.
— Чего это с ним? — удивленно осведомился Мардула, когда Лентовский и его люди скрылись в подступившем к холму предрассветном тумане. — Я уж приладился его ножом в спину, а он…
— Совесть взыграла, — хихикнула, не удержавшись, Тереза.
— У князя Лентовского — совесть?! — искренне изумился Мардула. — Отродясь ее у него не было!
— А теперь — есть, — усмехнулась Марта. — Тереза-то у мужа своего, купца краковского, совесть потихоньку таскала, когда ее многовато набиралось; вот и дела у него шли удачно, потому как купцу от лишней совести — одно разорение. А сама совесть никуда не девалась, у Терезы оседала. Вот я сейчас и взяла у сестры малую толику, да старому князю и подкинула! Может, опомнится после, но уж поздно будет!
Тут Михал, до которого наконец дошло, кому и, главное, чему он обязан жизнью, с хохотом бросился обнимать своих сестер, вопя от боли в обожженных ладонях, аббат Ян с Мардулой тоже не удержались от смеха, и вскоре на кладбище звучал совсем уж неуместный здесь многоголосый хохот вперемешку с заливистым собачьим лаем — дети вора Самуила давали наконец выход напряжению этой кошмарной ночи.
А когда все отсмеялись, и извечная тишина снова вернулась на шафлярское кладбище, отец Ян оправил складки своей сутаны, пригладил волосы, после чего, обернувшись к остальным, негромко сказал:
— Пора нам. Пойдемте, помянем батьку-Самуила.
И они тихо спустились с кладбищенского холма.
Светало.
ЭПИЛОГ
То было что-то выше нас, То было выше всех.
И. БродскийБывают такие минуты между ночью и утром, когда первая еще не убралась восвояси, а последнее еще не вступило в свои права, и в невозможные эти минуты возможно все, скрытое для света и утерянное для тьмы.
Есть такие минуты…
Старик, сидевший на могильном холме, протянул костистую руку и взял лежащий рядом каравай хлеба. Разломил пополам, запустил пальцы в мякиш… вырвал кусок хлебной плоти. Смял в кулаке, подумал о чем-то своем, раздувая трепещущие ноздри гордого орлиного носа, и принялся увлеченно лепить мякиш, как делают это шафлярские ребятишки, оглядываясь по сторонам — не смотрит ли строгая мамка, не наподдаст ли за баловство!
Кривой, покосившийся тарантас рождался под пальцами старика. Вот он поставил игрушечную повозку на рыхлый ком кладбищенской земли, из которого уже пробивалась молоденькая травка, воткнул в тарантас две веточки вместо оглоблей — и вылепил лошадь. Жалкую такую кобыленку, с выпирающим хребтом и сбитыми копытами. Поставил лошадь между оглоблей, улыбнулся в седые жесткие усы и вновь набрал пригоршню мякиша.
Фигурка, другая… третья… женщина с прижавшимся к ее ноге одноухим псом, священник в сутане, еще одна женщина — статная, видная собой… воевода с прямым палашом на боку, юный парень с разбойничьим профилем…
Расставив фигурки вокруг тарантаса, старик снова улыбнулся и выгреб остатки мякиша из каравая.
Вскоре на облучке восседал тощий человечек в берете, лихо заломленном набок. Старик пошарил глазами вокруг, поднял рыжую сосновую иголку, невесть каким ветром занесенную на шафлярское кладбище, сломал надвое, еще раз надвое — и прикрепил кусочек на берет вознице.
После привстал, хмыкнул не то удивленно, не то обрадованно, потянулся — и в огромных ладонях старика оказался замшевый берет с петушиным пером, схваченным серебряной пряжкой: берет, до того мирно валявшийся поодаль и притрушенный сверху землей.
Старик повертел берет в руках, отряхнул, протер рукавом серебро пряжки и нацепил берет на голову.
Подбоченился, сверкнул смоляными очами навыкате и заломил берет набекрень таким лихим жестом, что будь рядом кто из людей, не так давно покинувших кладбище…
— Ой, туман, туман в долине, — запел Самуил-турок надтреснутым голосом, — тишина кругом… хлещет-плещет старый баца длинным батогом!..
Подождал, словно надеялся, что кто-то подпоет ему из тишины, и вновь принялся за фигурки.
Вылепил себя — еле-еле мякиша хватило, пришлось даже кусок корки слюной размочить — совсем маленького себя, но похожего; вылепил и поставил поодаль. Чуть развернул остальных, чтоб не видели его, потом посидел-посидел, глядя на тарантас и действо вокруг повозки, и уверенно протянул руку.
Двоих взял.
Себя и того, в берете с рыжей иголкой.
Сжал в горсти.
И долго потом смотрел на получившийся комок.
— Ой, туман, туман в долине…
Есть такие минуты между жизнью и смертью, когда одна еще не началась, а другая уже кончилась, а вот которая теперь начнется и которой конец придет — это неизвестно, и поэтому в такие минуты возможно все, о чем только способна помыслить душа человеческая.
Старый Самуил-баца знал это лучше других. Груз земной жизни не отягчал больше его плеч, новый груз еще только ждал, прежде чем навалиться и заставить вновь забыть прошлое; и сейчас Самуил из Шафляр отчетливо видел себя на облучке тарантаса, себя в заломленном берете, себя, чью душу рвали изнутри в клочья собственные воспитанники… он видел дни, когда его звали Великим Здрайцей.
И даже сейчас холодный пот проступал на его лбу, когда вспоминал он эту ночь и последовавшую за ней вечность, в течение которой ад бурлил внутри него, требуя дани, требуя душ человеческих, заставляя опустевшую равнину полыхать коптящим пламенем, а надменный профиль на лунном диске усмехался с презрением — шалишь, дьявол, не вытерпишь!..
Он вытерпел.
Он умер.
Катары-«чистые» и впрямь прозревали многое — они только не задумывались над тем, что время безразлично для мертвых и неродившихся, они просто не знают, что это такое, время человеческое, и, возрождаясь, душа путает в беспамятстве «вчера», «сегодня» и «завтра». Жил сегодня, а будешь жить вчера, и кому какое дело?! Ведь именно так и жил Самуил-турок, Самуил-баца, начав новый отсчет задолго до ночи на шафлярском кладбище, когда воры-Ивоничи вцепятся в Великого Здрайцу над домовиной батьки своего.
Что такое время?
Ответьте, кто знает…
Вот он, комок мякиша, бывший дьяволом в берете и вором из Шафляр, вот он, кусок хлеба, и есть ли для него прошлое, настоящее и будущее?
Старик устало сдернул берет и вытер им вспотевшее лицо.
Там, в тумане, исчезли дети сердца его, дети таланта его, ростки его ствола, плоть от плоти души его — и как теперь сложится их жизнь, не знал никто, в том числе и старый Самуил, уже снова начинавший забывать, что когда-то его звали Великим Здрайцей, как не помнил он этого в течение всей оставляемой им сейчас жизни.
Только сейчас, в эти невозможные минуты между «да» и «нет», он осознал с ясностью завершения: в отпущенные ему годы Самуил-турок стремился отыскать, вернуть, вновь ощутить рядом те несчастные души, которые однажды уже были частью его.
Частью долгой и безнадежной, но все-таки закончившейся жизни Великого Здрайцы.
Дотянуться удалось до немногих. Но тем, кого он сумел найти, Самуил подарил все, что имел сам: странный дьявольский дар, великое искушение и хрупкую возможность когда-нибудь спасти его, батьку Самуила, шафлярского вора, Петушиное Перо — а вместе с ним и самих себя!
Тогда он не знал, зачем мечется по свету, каким чутьем находит среди множества людей знакомый взгляд, обжигающий душу; кто они, эти найденыши, и почему именно они… но пройти мимо Самуил-баца не мог.
…Он сидел на могильном холме, в окружении хлебных фигурок, и смотрел в туман, в зыбкую пелену минут между ночью и утром, между жизнью и смертью, где уходили, скрывались, исчезали приемные дети Самуила-вора из Шафляр.
Пасынки восьмой заповеди.
Примечания
1
Пся крев — досл. «собачья кровь», польское ругательство.
(обратно)2
В шестнадцатом веке в Польше, а позднее в Речи Посполитой, были отменены дворянские титулы (князь, граф и т. п.), но они сохранялись в традиционных формах речи и при неформальном общении.
(обратно)3
Здрайца — по-польски означает то же, что и древнееврейское «Сатан», то есть Сатана: Изменник, Предатель, Противоречащий.
(обратно)4
Гурали — вольные горцы Подгалья, чей быт в родных горах был подобен быту запорожских казаков.
(обратно)5
Ксендз — священнослужитель.
(обратно)6
Трэйтор (англ.) — предатель.
(обратно)7
Во имя отца и сына и святого духа (лат.)
(обратно)8
Аминь (лат.)
(обратно)9
Казимеж — квартал в Кракове, известный своими злачными местами.
(обратно)10
Пахолок — слуга.
(обратно)11
Хлопка — холопка, крепостная (польск.)
(обратно)12
Стая — мера длины, чуть больше одного километра.
(обратно)13
Кобеняк — плащ с капюшоном.
(обратно)14
Каштелян — сановник, член сената, назначавшийся королем для управления городом.
(обратно)15
«Отойди, Сатана!» (лат.)
(обратно)16
Карабелла — польская сабля.
(обратно)17
Озвена — эхо, отзвук.
(обратно)18
Бровар — пивовар.
(обратно)19
Гута — стекольный завод.
(обратно)20
Провинциал — руководитель католических монастырей провинции, ставленник Ватикана.
(обратно)21
Солтыс — старейшина, уважаемый человек, которого слушались на большой территории; что-то вроде неофициального главы клана, особенно среди воинственных горцев-гуралей.
(обратно)22
Староста — знатный шляхтич, назначенный королем для управления определенной территорией (староством) и пользующийся пожизненно доходами с этого староства.
(обратно)23
Кварцяное войско — воинские части, нанимавшиеся на четвертую часть (кварту) доходов с королевских земель и имений.
(обратно)

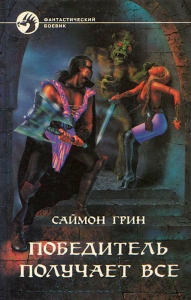

Комментарии к книге «Пасынки восьмой заповеди», Генри Лайон Олди
Всего 0 комментариев