Питер С. Бигл ТИХИЙ УГОЛОК
Могила – тихий уголок,
Там нет любви и нет тревог.
Эндрю Марвелл. «Его застенчивой возлюбленной»Перевод с английского: Татьяна Усова
Стихотворные переводы: Галина Усова
Посвящается моим родителям
Саймону и Ребекке,
моему брату Дэниэлу
и, как полагалось бы,
Эдварду Петерсону
ГЛАВА 1
Тяжесть болонской колбаски потянула Ворона вниз, и владелец лавочки чуть не поймал его, когда тот юркнул через дверь на улицу. Ворон неистово забил крыльями, чтобы набрать высоту. Он походил в этот момент на маленький чёрный электрический вентилятор. Восходящий поток воздуха подхватил птицу и забросил в небо. Дважды описав круг, чтобы обрести равновесие, Ворон полетел на север.
А внизу, уперев руки в бока, стоял лавочник и глядел, как исчезает в небе тёмное пятно. Но вдруг он пожал плечами и вернулся в свою деликатесную лавку. Он не был лишен тяги к философии, этот торговец, и знал, что если Ворон является в деликатесную лавку и уносит целую болонскую колбаску, это свершается либо по Воле Божией, либо нет, но и в том и в другом случае здесь ничего нельзя поделать.
Ворон лениво летел над Нью-Йорком, и утреннее солнышко пригревало его перья. Поливальная машина, трясущаяся по Джером-авеню и оставлявшая дорогу позади себя тёмной и блестящей, колесящие по Фордхэму немногочисленные такси, подобные хорошо нажравшимся акулам. Две парочки вынырнули из метро и медленно брели себе, причём девушки приникли к парням. Ворон полетел дальше.
Ночь выдалась жаркая, и Ворон видел людей, пробуждающихся на городских крышах. Серые крысы, которые выбежали из подвалов как раз перед рассветом, запрятались теперь в свои норы, потому что кошки вышли на улицы и вышагивали вдоль обочин. Как только явились кошки, голуби рассеялись по крышам и подоконникам, и Ворону подумалось: «Ах, какая жалость». Он бы распугал куда меньше голубей.
Обычный утренний туман висел над Йоркчестером, и Ворон нырнул в него. Йоркчестер застраивала, в основном, страховая компания, и выглядел он как одно-единственное розовое кирпичное здание, отражённое в сотне зеркал. Все дома в Йоркчестере были в 14 этажей, и у каждого над парадным входом виднелось оштукатуренное изображение моряка, играющего на аккордеоне. Над чёрными входами красовались моряки, играющие на мандолинах. Все моряки были левшами, и у всех шапочки увенчивались оштукатуренными помпонами. Здесь имелся торговый центр, три кинотеатра, и наконец – небольшой парк.
А ещё здесь было кладбище, и как раз над ним Ворон начал снижаться. Довольно большое кладбище, с половину Центрального парка, густо заросшее деревьями. Оно было аккуратно разбито на участки извивавшимися дорожками, называвшимися Фэарвью-авеню, Сентрал-авеню, Оукленд-авеню, Ларч-стрит, Честнат-стрит и Элм-стрит. Одна дорожка вела к итальянской секции кладбища, другая – к немецкой, третья – к польской, и так далее, так как Йоркчестерское кладбище не принадлежало какой-то одной конфессии, здесь кого только не было.
Ворон приблизился к нему с задней стороны, и теперь летел вдоль Сентрал-авеню, держа в когтях болонскую колбаску. Ряды более или менее простых надгробий постепенно уступили место Массивным Старым Крестам. Кресты, в свою очередь, уступили место Ангелам, Ангелы – Плачущим Ангелам, а те наконец – Мавзолеям. Они возносились над семейными участками, будто оцепеневшие сторожевые псы, и твердили друг дружке: «Взгляни! Кто-то очень важный покинул сей мир!». Они были агрессивно-греческими, с белыми мраморными колоннами и куполами. Греку они, пожалуй, греческими не показались бы, но выглядели вполне греческими для йоркчестерца.
Один мавзолей отделяла от остальных маленькая тропинка. То было старое здание, не такое огромное, как некоторые другие, и не такое белое. Колонны его растрескались и раскололись у основания, а в одном из зарешеченных окошечек над дверью не хватало стекла. Но два льва держали в пасти по тяжелому кольцу, и если бы вы заглянули в окошечко, то разглядели бы у задней стены цветной витраж, изображающий ангела.
Сейчас дверь была отперта, и на ступеньках сидел маленький человечек в тапочках. Он помахал рукой Ворону, когда тот пошёл на снижение, и сказал: «Доброе утро, доброе утро», едва птица приземлилась перед ним. Ворон уронил болонскую колбаску, а человечек нетерпеливо потянулся вперед и подхватил угощение.
– Целая болонская колбаска! – сказал он. – Огромное тебе спасибо!
Ворон пытался немного отдышаться и глядел на него с некоторой горечью.
– Кукурузные хлопья недостаточно хороши? – хрипло сказал он. – Бернард Барух ест кукурузные хлопья, а тебе болонскую колбаску подавай.
– С тобой что-то случилось по дороге? – спросил маленький человечек, которого звали Джонатан Ребек.
– Черт возьми! – рявкнул Ворон. – Да я чуть не надорвался!
– Птицы не надрываются, – неуверенно заметил мистер Ребек.
– Можно представить, что за орнитолог из тебя вышел бы.
Мистер Ребек принялся есть колбаску.
– Изысканно, – сказал он вдруг. – Прелестно. Ты не хочешь немного?
– Не против, – отозвался Ворон и принял из рук мистера Ребека кусочек колбаски.
– Ну как там, славный денёк? – спросил мистер Ребек мгновение спустя.
– Славный, – подтвердил Ворон. – Небо голубое, солнышко светит. Мир провонял летом.
Мистер Ребек слегка улыбнулся.
– Ты не любишь лета?
Ворон чуть приподнял крылья.
– Да с чего бы мне? Всё нормально.
– А я люблю лето, – сказал мистер Ребек. Он откусил от своей колбаски и продолжал с набитым ртом. – Это – единственное время года, когда можно почувствовать вкус своего дыхания.
– О Господи, – сказал Ворон. – Но не с самого же утра. Кстати, избавился бы ты ото всех этих бумажных пакетов, я их и отсюда вижу.
– Я их кину в мусорную корзину в мужской уборной, – сказал мистер Ребек.
– Нет, не надо. Я их унесу. Люди, знаешь ли, станут удивляться. Когда они увидят на кладбище бумажные пакеты, они не подумают, что это гёрлскауты устроили пикник. Кроме того, ты вообще слишком часто там околачиваешься. Люди тебя вот-вот узнавать начнут.
– Мне там нравится, – сказал мистер Ребек. – Мне по душе здешний туалет. Я там и стираю себе, – он обхватил колени руками. – А знаешь, люди говорят, будто миром правят материалисты и машины. Однако это не так. Во всяком случае, не в Нью-Йорке. Город, где на кладбище находится мужская уборная – это город поэтов, – ему понравились последние слова. – Город поэтов, – повторил он.
– Это для детей, – заметил Ворон. – Мамаши приводят детишек, чтобы показать им могилы двоюродных дедушек, мамаши рыдают и сажают на могилах цветы, а ребятишки чувствуют, что им надо кое-куда сходить. Рано или поздно. Вот для них и установили эту здоровенную будку. Ну а что ещё они могли бы сделать?
Мистер Ребек рассмеялся.
– Ты не меняешься, – сказал он Ворону.
– А как я могу перемениться? Хотя ты – не прежний. Девятнадцать лет назад ты сентиментально благодарил меня за солёный бисквит, а теперь хочешь, чтобы я для тебя бифштексы таскал. Дай-ка ещё ломтик.
Мистер Ребек подчинился.
– Я всё-таки думаю, что ты бы справился. Маленький бифштексик не так уж и много весит.
– Он много весит, – сказал Ворон. – На каждом его конце висит по полицейскому. Сегодня я едва не рухнул наземь по пути сюда. Кроме того, все мясники на здешнем форпосте цивилизации теперь меня знают. Довольно скоро мне придётся начать налёты на Вашингтон-Хейтс. А ещё двадцать лет, если доживем, – и я вынужден буду транспортировать бифштексы из Джерси.
– А ты, знаешь ли, не обязан носить мне еду, – сказал мистер Ребек. Он почувствовал себя несколько задетым и почему-то виноватым. Ворон был, в конце концов, совсем невелик. – Я бы и сам справился.
– Чушь, – сказал Ворон. – Тебя охватит паника, как только ты выйдешь за ворота. И город сильно переменился за девятнадцать лет.
– Очень сильно?
– Да. Дьявольски переменился.
– Да, – сказал мистер Ребек. Он отложил в сторону недоеденную болонскую колбаску, тщательно её завернув. – А ты не против того, – спросил он не без колебаний, – чтобы меня кормить? То есть, это удобно? – Он почувствовал, что это глупый вопрос, но ему хотелось знать.
Ворон уставился на него глазами, похожими на замёрзшее золото.
– Раз в год, – прохрипел он. – Раз в год тебя одолевает беспокойство. Ты начинаешь задаваться вопросом, как получается, что по воздуху тебе что-то приносят. Ты задаешься вопросом, а что он с этого имеет. И ты говоришь: «Ничего за ничего. Никто никому милостей не оказывает».
– Это не так, – возразил мистер Ребек. – Это вовсе не так.
– Ха, – сказал Ворон. – Всё в порядке. Твоя совесть начинает тебя беспокоить. Старые раны ноют, – он взглянул в упор на мистера Ребека. – Конечно, это хлопотно, конечно, это неудобно. Ты прав, чёрт возьми, это против моих правил. Теперь тебе легче? Ещё вопросы есть?
– Да, – сказал мистер Ребек. – Почему ты тогда со мной связался?
Ворон наклонился, чтобы поймать торопливую гусеницу, и промахнулся. Он медленно заговорил, не глядя на собеседника.
– Существуют люди, – сказал он, – которые дают. А есть и такие, которые берут. Есть люди, которые творят, люди, которые разрушают и люди, которые ничего не делают, а только сводят с ума два первых типа. Это в тебе с рождения, берёшь ты или даёшь. И все вы таковы. Мы, вороны, приносим людям разные вещи. Так мы устроены. Такова наша природа. Нам это не нравится, мы бы предпочли быть орлами или лебедями, или даже какими-нибудь придурковатыми малиновками, но мы вороны – и всё тут. Ворон не чувствует себя спокойно, пока не найдётся кто-нибудь, кому надо что-то приносить, а как только мы его находим, мы сразу же понимаем, что это за глупое занятие, – он издал нечто среднее между кашлем и смешком. – Вороны – птицы весьма нервные. Мы ближе к людям, чем любая другая птица. И мы связаны с ними всю нашу жизнь, но мы не обязаны питать к ним симпатию. Ты что думаешь, мы носили пищу Илье Пророку только потому, что он нам нравился? Он был старикашкой с грязной бородой!
Ворон притих, бесцельно роясь в пыли клювом. Молчал и мистер Ребек. И вдруг человек неуверенно протянул руку, чтобы погладить птицу.
– Не надо, – сказал Ворон.
– Извини.
– Меня это раздражает.
– Извини, – снова сказал мистер Ребек. Он оглядел аккуратные семейные участки с замшелыми могильными камнями. – Надеюсь, скоро придут ещё люди, – сказал он. – Летом становится как-то одиноко.
– Если ты хочешь общества, – сказала птица, – тебе следовало бы вернуться в город.
– А у меня большую часть времени есть общество, – сказал мистер Ребек. – Но мои знакомые забывают меня так быстро и так легко. Самые лучшие минуты – это когда они ещё только прибыли, – он встал и оперся о колонну. – Иногда мне думается, что я мёртв, – сказал он. Ворон тут же насмешливо зашипел. – Да-да, и я забываю разные вещи. Бывает, солнце светит мне в глаза, а я его не замечаю. А как-то раз сидели мы с одним стариканом и пытались вспомнить вкус фисташковых орехов, и ни один из нас не вспомнил.
– Я тебе принесу немного, – пообещал Ворон. – Около Тремонта есть кондитерская, где их продают. Там, кстати, заодно и место встречи букмекеров.
– Это было бы славно, – сказал мистер Ребек. Он обернулся и взглянул на витраж с ангелом. – Теперь они меня проще принимают, – заметил он, стоя спиной к Ворону. – Бывало, они меня даже пугались. А теперь мы сидим и разговариваем, играем в разные игры, и я всё думаю: «Возможно, теперь, возможно, на этот раз, возможно, в самом деле». Затем я их спрашиваю, и они отвечают, что нет.
– Они должны знать, – сказал Ворон.
– Да, – согласился мистер Ребек и снова обернулся. – Но если жизнь – это единственное различие между живым и мёртвым, не думаю, что я – живой. В самом деле – нет.
– Ты – живой, – сказал Ворон, – ты прячешься за надгробьями, но жизнь тебя преследует. Ты убежал от неё девятнадцать лет назад, а она несётся за тобой, как гончая, – он хихикнул. – Жизнь должна тебя здорово любить.
– А я не хочу, чтобы меня любили! – воскликнул мистер Ребек. – Для меня это – обуза.
– Ну что же, это твое дело, – заметил Ворон, – а у меня и своих забот хватает, – его чёрные крылья забили в воздухе. – Пора бы мне двигаться, давай-ка прихвачу пакеты и мусор.
Мистер Ребек скрылся в мавзолее и вышел оттуда несколько мгновений спустя с пустыми бумажными пакетами и баночкой из-под молока. Ворон взял пакеты в когти и кивнул в сторону баночки. – Это я заберу позднее. Возьми её пока, а мне пора возвращаться домой, – он взвился в воздух и медленно поплыл прочь над Сентрал-авеню.
– Пока! – крикнул ему вслед мистер Ребек.
– До скорого! – каркнул Ворон и пропал за гигантским вязом. Мистер Ребек потянулся, затем снова сел на ступеньки и принялся наблюдать за восходящим солнцем. Он чувствовал себя немного расстроенным. Обычно Ворон дважды в день приносил ему поесть, они болтали о том да о сём, и всё такое. Иногда они вообще не разговаривали. «Я, в сущности, мало знаком с этой птицей, – подумал он. – Сколько лет прошло, а я о призраках знаю больше, чем об этой птичке».
Он подтянул колени к подбородку и стал обдумывать этот вопрос. То была новая мысль, а мистер Ребек ценил новые мысли. В последнее время они не слишком часто к нему приходили, и он знал, что сам виноват. Кладбище не располагает к новым мыслям: обстановка неподходящая. Место это рассчитано на старые, залежавшиеся мыслишки, которые можно тщательно и любовно протирать, словно превосходный хрусталь, задаваясь вопросом, а нельзя ли их обдумывать как-нибудь иначе, и зная основательно и наверняка, что лучше всего именно так. И вот он уже рассматривал новую мысль, рассматривал пристально, но приближался к ней осторожно, чтобы не ускользнула ни одна деталь, а затем отошёл в сторонку, дабы увидать перспективу. Он вытягивал свою мысль, раскатывал тонким слоем, придавал ей самые разные формы, и постепенно привёл к очертаниям, которые подходили для его разума.
Шум крыльев заставил его обернуться. Ворон кружил примерно в 10-15 футах над ним и что-то кричал.
– Ты забыл что-нибудь? – крикнул в ответ мистер Ребек.
– Я кое-что увидел по пути отсюда, – ответил Ворон. – Похоронная процессия вошла в главные ворота. Не очень большая, но она движется сюда. Тебе лучше либо спрятаться побыстрее, либо переодеть штаны. А не то ещё кто-то подумает, будто ты – из Комитета по Встрече.
– О, Боже мой! – воскликнул мистер Ребек и вскочил на ноги. – Спасибо тебе, огромное спасибо! Здесь нельзя позволять себе ни малейшего легкомыслия. Спасибо, что ты меня предупредил.
– А разве я не всегда так поступаю? – устало спросил Ворон. И снова полетел прочь, легко и мощно взмахивая крыльями. Человек же поспешно скрылся в мавзолее, запер дверь и лёг на пол, слушая во внезапно наступившей тьме, как бьётся его сердце.
ГЛАВА 2
Это была довольно небольшая погребальная процессия, но в ней чувствовалась торжественность. Впереди шёл священник, справа и слева от него – два мальчика. Далее следовал гроб, который сопровождали пятеро носильщиков. Четверо из них поддерживали гроб по углам, пятый же шагал рядом, и вид имел слегка взволнованный. Позади них в мрачном и своеобразно-изысканном траурном одеянии брела Сандра Морган, которая была ещё недавно супругой Майкла Моргана. Шествие замыкали три человека, все печальные и все очень разные. Один был когда-то соседом Майкла Моргана по общежитию в колледже, другой вместе с ним преподавал историю в Ингерсоллском университете, третий же выпивал с ним да играл в карты и, пожалуй, любил его.
Майклу бы понравились его собственные похороны, если бы он мог их видеть: скромные, тихие и отнюдь не помпезные, каких он опасался. «Покойнику, – сказал он однажды, – ничего не нужно от живых, а живые ничего не могут дать покойнику». В 22 года это звучало скоропалительно, в 35 воспринималось как зрелое суждение, и Майклу это доставляло большое удовольствие. Ему нравилось быть зрелым и разумным. Он не любил громоздких ритуалов, традиционного и напыщенного выражения чувств, риторики и широких жестов. Толпы людей выводили его из равновесия, пышные зрелища оскорбляли его вкус. Романтик по натуре, он всегда отбрасывал романтическую мишуру, хотя втайне глубоко любил её.
Процессия мирно вилась своей дорогой через Йоркчестерское кладбище, и священник бормотал что-то там такое – мол, всё в мире преходяще, Сандра Морган рыдала о своем супруге и выглядела поразительно хорошенькой, а друзья отвлеклись на какие-то необходимые для них мелочи; у мальчиков же болели ноги. Между тем сам Майкл Морган бился о крышку гроба и выл.
Майкл скончался внезапно и вполне определённо, и когда сознание вернулось к нему, сразу понял, где он. Гроб покачивался и накренялся на плечах четверых носильщиков, и тело Майкла стукалось о тесные стенки. Сперва он лежал тихо, так как никогда не исключено, что это – просто-напросто сон. Но Майкл слышал, как совсем рядом напевает священник, и как скрипит гравий под ногами носильщиков, и что-то вроде звона колокольчиков (должно быть, это плакала Сандра), и тогда он всё понял. Он подумал, что либо он мёртв, либо его ошибочно приняли за умершего. Он знал, что такое случалось с другими людьми, и было вполне возможно, если не сказать естественно, что случилось и с Майклом Морганом. И тогда его охватил неистовый страх, что он задохнётся под землёй, он заколотил по крышке гроба кулаками и закричал. Но ни звука не сорвалось с его губ, а удары по крышке вышли совсем не слышными. В отчаянии он стал бранить и проклинать жену, Сандра же продолжала свое изысканное оплакивание покойного. Священник произносил нараспев всё, что положено, и сурово посматривал на мальчиков, когда они принимались волочить ноги. Носильщики передвигали гроб на плечах туда-сюда. А Майкл Морган безмолвно сокрушался о своём безмолвии. Затем он внезапно успокоился. Безумно утомленный, он теперь лежал тихо и знал наверняка, что мёртв.
«Так вот что с тобой, Морган, – сказал он сам себе. – Тридцать четыре года того и другого – и вот чем это кончается: назад в землю. Или назад в море», – добавил он, потому что так и не смог вспомнить, где же в конце концов возникла эта самая протоплазма. То, что он всё осознаёт, не особенно страшило его. Он всегда охотно допускал хотя бы ничтожную вероятность существования загробной жизни. И это, как он полагал, было её первой ступенью. «Лежи смирно, Морган, – думал он. – И относись к этому легче. Пой спиричуэлс или что-то вроде того». Он ещё раз задался вопросом, а не может ли здесь быть какой-нибудь ошибки, но уже по-настоящему не верил в это.
Носильщик поскользнулся, и гроб чуть не упал. Но Майкл даже не почувствовал толчка.
«Я не ощущаю себя особенно мёртвым, – сказал он гробовой крышке. – Но я просто дилетант. Моё мнение ни во что не поставили бы в любом суде страны. Не бейся о доски, Морган. Были вполне милые похороны, пока ты не начал дурить».
Он закрыл глаза и принялся лежать тихо, отрешённо размышляя о трупном окоченении.
Внезапно процессия остановилась, и голос священника зазвучал громче и твёрже. Священник пел по-латыни, и Майкл оценивающе прислушался. Он всегда ненавидел похороны, и, насколько можно, избегал их. «Но совсем другое дело, – подумал он, – когда это – твои собственные похороны. Чувствуешь, что это – один из тех случаев, которые не следует пропускать».
Он не знал латыни, но старался не проворонить ни одного из слов псалма, зная, что это – последние человеческие слова, которые ему предстоит запомнить. «Полагаю, это означает „из праха в прах”, – подумал он, – и „из земли в землю”. Вот и всё, что ты теперь есть, Морган, – чаша праха, рассеянного для ночных волков». Он обдумал эту фразу и с неохотой отбросил её. А зачем, в конце концов, нужен волкам этот самый прах?
Первые комья упали на крышку гроба. Больше всего это походило на стук в дверь. Майкл засмеялся про себя. «Входите, – подумал он. – Входите, пожалуйста. В доме – некоторый беспорядок, но я всегда рад гостям. Входи же, приятель. Это – Открытый Дом».
Сандра рыдала громко и весьма тщательно, но её всхлипы смахивали теперь на зевки. «Бедная Сандра, – подумал Майкл. – Они, вероятно, ещё и слишком рано тебя сегодня разбудили. Извини, девочка. Ещё минута-другая, и ты сможешь пойти домой и опять лечь спать».
Стук комьев стал слабее и вдруг прекратился. «Ну, вот и всё», – сказал себе Майкл Морган. Он осознал абсурдность этих слов и снова вызывающе повторил их. – Ну, вот и всё. Вот и всё. Вот и всё. Вот и всё. Вот мы и приехали. И все кружим вокруг опунции. Вот мы и здесь, опунция. Где-то здесь…» – Он наконец остановился и подумал о Небесах, о Преисподней и о Сандре. Никогда в течение своей жизни он не верил ни в Рай, ни в Ад и не видел причин поверить в них сейчас. «Вот я и достался на обед червям, – подумал он. – А через несколько минут я перевернусь, закручу вечность вокруг шеи и усну». Если он не ошибается, один из двух старых джентльменов вот-вот подойдёт, чтобы побеседовать с ним, и множество вещей наконец-то может проясниться. А пока суд да дело, он решил думать о Сандре.
Он любил Сандру. Думая об этом отстранённо, он и вообразить не мог, чтобы кто-то её не любил. Она являлась всем, что достойно любви в этом мире, и демонстрировала свои достоинства медленно и лениво, словно вращающееся блюдо с бриллиантами в витрине ювелирного магазина. Кроме того, она выглядела женщиной, которой кто-то очень нужен, и у неё был скорбный рот.
Они познакомились на маленьком приёме, который ему устроили, когда он поступил на факультет в Ингерсолле. Она явилась со своим дядюшкой, преподавателем геологии. Взгляды Сандры и Майкла встретились, и он, отставив в сторону бокал, направился к ней. Через пятнадцать минут он читал ей Рэмбо, Доусона и Суинберна, а также собственные стихи, которые писал тайно. Она слушала и сразу поняла: Майкл хочет с ней спать. Так как они были цивилизованными и зрелыми людьми, она привела его к своей гигантской тёплой постели, в которой ей удавалось выглядеть совершенно впечатляюще потерянной.
Майклу нравилась её особенность казаться потерянной. Это заставляло его чувствовать себя нужным и полезным. Он обнаружил, что в нём сильна потребность кому-то покровительствовать. И это его сперва раздражало, затем забавляло, а затем стало доставлять ему огромное удовольствие… Его всё больше захватывали обнаружившиеся в ней холодное великолепие и медлительный ум. Она показалась ему трёхмерной, а он уже довольно долго носился в поисках третьего измерения.
Итак, они поженились, и Майкл получил то, что президент факультета назвал «некоторой прибавкой» – не более того, собственно, но это дало Майклу и Сандре Морганам возможность переселиться в квартиру в Йоркчестере, и Сандра оставила свою работу в художественной галерее. Они были женаты четыре года, и, в целом, брак был счастливым.
«И вот я умер, – подумал Майкл. – Умер. И погребён. И стал гумусом для голодной Земли. И я никогда больше не увижу Сандру». Мысль эта причинила боль, несмотря даже на онемелость, которая гладила его своими колдовскими пальцами. Тело его было для него теперь ничем, но немалая часть его души осталась вместе с Сандрой, и, пусть мёртвый, но он чувствовал себя нагим и вроде как неполным. Он молил о сне, и когда сон не пришёл, стал изобретать способы провести время. Он разбил свою жизнь на периоды, озаглавленные: Юность, Гарвард, Европа, Корея, Ингерсолл и Сандра – и постарался рассмотреть их глубоко и объективно. Сперва он понял, что жизнь его не была потрачена впустую, а вскоре после того – что была. Он вспомнил все незначительные факторы, которые должны были иметь место, чтобы составить смертное существование Майкла Моргана, пронумеровал их, взвесил и решил, что они имели индивидуальное значение, но для общества роли не играли. А затем он подумал, что возможен и какой-то другой путь. Со смертью, как он открыл, появляется возможность беспристрастно рассмотреть пройденное. Вместе с этим, однако, возникает и поразительное отсутствие интереса ко многому из того, что прежде казалось очень важным. Только Сандра казалась теперь подлинной, Сандра и, возможно, добрые нью-йоркские весны, и открытие того единственного учащегося, который понял, какой одинокой стальной машиной был Бисмарк и каким ледяным императором – Бонапарт.
Затем Майкл попытался вспомнить все выдающиеся музыкальные произведения, которые слышал, и быстро выяснил, что его образование было далеко не таким полным, интерес – далеко не таким сильным, а память – отнюдь не такой цепкой, как он считал. В ней остались только прелюды Шопена, которые он учил мальчиком, плюс – что-то из Римского-Корсакова, несколько пассажей из Нинта и жалобная дрожащая мелодия, которая, кажется, принадлежала Уэйлу. Остальное пропало. Или это он сам пропал. И ему было очень жаль, потому что оказалось приятным вспоминать музыку.
«Надо быть очень глубоким человеком, когда умираешь, – подумал он. – А я не таков». Он начал обретать какую-то концепцию вечности, и разум его затрепетал подобно телу, когда он просыпался холодными ночами и прятал руки между бёдер, чтобы сберечь тепло. «Мне предстоит долгая ночь», – подумал он.
Внезапно он вспомнил ранее утро с Сандрой перед тем, как они поженились. Они сидели за её маленьким кухонным столиком и ели сэндвичи с желе. Она пошла к холодильнику за бутылкой молока, а он сидел и следил за её движениями. Ноги её очень негромко, как-то интимно стучали по линолеуму. Когда он думал об этом теперь, боль, казалось, колола его, точно сосулька. Он закричал, и это послышалось ему как мощный звериный вопль ужаса.
И потом он долго стоял около своей собственной могилы и звал:
– Сэнди! Сэнди!
Она не пришла. И он знал, что не придёт, и всё-таки звал, думая: «Вот я закрою глаза, сосчитаю до ста, а когда открою, она будет здесь», – именно так он поступал, когда ждал автобуса. Но он не мог закрыть глаза, а цифры гремели у него в голове, словно кости в стаканчике. Наконец он заставил себя замолчать и через некоторое время присел на траву.
Несколько минут ушло на то, чтобы осознать, что он покинул свою могилу, а, осознав, он не счёл это шибко важным.
«Я вышел, – сказал он себе. – И я снова могу говорить и ходить, но мне не стало лучше, чем было».
При жизни он мог хотя бы делать вид, будто его ждут где-то важные дела, но теперь ему, очевидно, только и оставалось, что сидеть на обочине последующие несколько миллионов лет, если будет настроение. А настроение было. Единственное, чего ему хотелось – это сидеть в траве, наблюдать за бегущими муравьями и ни о чем не думать. «Я хочу, чтобы разум мой был светлым и чистым, без единого пятнышка, как мои кости», – подумал он. Это был ответ на всё, но он этого не понял. «Вы можете забрать мой череп, – вежливо сказал он муравьям. – Мне он не понадобится». Но муравьи всё куда-то бежали и бежали в траве, и он на них рассердился. «Хорошо, – сказал он. – Убирайтесь к черту и вы». И вот он встал и пошел взглянуть на свою могилу.
Там ещё не было каменного надгробия, только металлическая табличка с надписью: «Майкл Морган. 7 марта 1924-10 июня 1958». Ему очень понравилась её краткость. «Как заголовок в „Таймс”, – подумал он. И долго-долго глядел на неё. – Моё тело – там, – думал он. – Все мои ничтожные обеды, почёсывания в голове, чихания и прелюбодеяния, горячие ванны, загары, пиво и бритье, всё погребено и всё забыто. Как водой смыло все маленькие привязанности. Я чувствую себя чистым, светлым и нетронутым». Он подумал об охоте за книгами на Четвёртой авеню и решил, что ощущает себя чем-то вроде разбитой электрической лампочки.
– Пока, – сказал он своему телу и зашагал прочь по мощёной дорожке. Он захотел посвистеть и почувствовал себя обманутым, когда обнаружил, что свистеть не может.
Майкл Морган шагал по кладбищу, не издавая ни малейшего шума. Солнышко пригревало его, но он не чувствовал жары. Не чувствовал он и прохладного ветерка, затерявшегося среди камней. Он увидел кольцо греческих колонн, которые поддерживали пустоту, а поблизости – бетонный водоёмчик. Видел он фонтаны и цветы, и тачку, наполовину нагруженную землёй. Один раз, когда он брёл вдоль обочины, мимо него пронеслась машина, но никто из машины не посмотрел на него. Он видел семейные участки с маленькими надгробьями, обившимися в кучки, словно перепуганный скот, увидал и огромный, в четыре этажа, мавзолей с мраморным ангелом на страже, а затем – группу черешен. Их густые ветви были усыпаны красными ягодами. А расставленные на правильных расстояниях друг от друга 24 копья указывали путь на Небеса, как подумалось Майклу, для заблудившихся душ или туристов.
Он почувствовал, что передвигается как бы в некоем вакууме. Он видел солнце и догадывался, что оно палит, но сам при этом не испытывал ни жары, ни холода. Он знал, что веет ветерок, так как видел бегущие через дорожку листья, но кожа его не ощущала движения воздуха. Негромко, но отчетливо он слышал пение птиц и журчание воды, но звуки эти ничего для него не значили, и ему совсем не хотелось попытаться сорвать черешенку. И не то чтобы он ничего не проклинал – он с трудом удерживался от того, чтобы не проклясть большинство из того, что было в его жизни; главное, что вопроса не возникало, проклинать или нет.
«Я чувствую себя посредственностью, – попробовал сформулировать он. – Я равнодушен». Но слова утратили всякое значение.
Он довольно долго шагал. Чёрная мощёная дорога стала грунтовой, затем – покрытой гравием, затем – снова мощёной. От неё отбегали другие дорожки. Она становилась то широкой, то узкой, словно холодная постель Барбары Аллен, но она не кончалась, а Майкл всё шагал и не чувствовал усталости.
«А вдруг у неё нет конца? – подумал он. – А вдруг я так и буду шагать и ничего не чувствовать, разве что развлекаться иногда подобной перспективой?»
Затем он взошёл на низкий холм и увидел мавзолей, перед которым сидел маленький человечек. Колени человечка были подтянуты к груди, а подбородок покоился на сложенных руках. Человечек глядел в никуда. Кажется, к Майклу начали возвращаться чувства: любопытство, интерес, некоторый страх, удовольствие и чайная ложечка надежды – всё это медленно пришло к нему вновь, вопрошая: Что это? Как это? Разве дом ещё не пуст? И Майкл Морган радостно воскликнул:
– Привет!
Маленький человечек заморгал, огляделся и улыбнулся Майклу.
– Привет! – откликнулся он. – Спускайся ко мне.
Майкл медленно спустился с холма, и человечек встал, чтобы его встретить. На вид ему было пятьдесят с небольшим, поскольку плечи его слегка округлились, а в волосах проступала седина. Но улыбка, которой он одарил Майкла, была тёплой и молодой, а глаза у него оказались цвета земли.
– Добрый день, – сказал он. – Меня зовут Джонатан Ребек.
– Майкл Морган, – представился Майкл, и внезапно почувствовал себя таким счастливым, что встретил маленького человечка, и таким счастливым оттого, что понял, что счастлив… Он схватил загорелую руку мистера Ребека – и вдруг увидел в немом ужасе, как рука проходит сквозь руку.
Затем он всё вспомнил и впервые увидал живое глазами мертвого. Он попятился от мистера Ребека и непременно повернулся бы и убежал, если бы карие глаза маленького человечка не оказались преисполнены такой печали. И тогда Майкл сел на ступеньки, ведущие к мавзолею, и попытался заплакать, но не знал, как начать.
– А, понятно, – сказал он наконец. – Я умер.
– Знаю, – мягко ответил мистер Ребек. Он сделал паузу, затем добавил. – Я видел твою погребальную процессию.
– В самом деле? – Майкл поднял глаза. – И как это выглядело со стороны?
– Очень мило, – сказал мистер Ребек. – Весьма пристойно и со вкусом.
– Это хорошо, – заметил Майкл. – Человек, как правило, приходит в мир с невероятным шумом, так пускай же он…
Мистер Ребек развеселился.
– С невероятным шумом! – он сдержанно захихикал. – Воистину так. Поразительно смешно и поразительно верно.
– Я могу закончить? – холодно спросил Майкл.
– Что? О, конечно. Прошу меня простить, я думал – ты закончил.
– Так пусть он удалится спокойно и тихо, – закончил Майкл, но под конец брезгливо растянул слова. Мистер Ребек вежливо рассмеялся, и Майкл окинул его хмурым взглядом, но вдруг и сам начал смеяться икающим, частым, как пулемётная очередь, смешком, а когда остановился – потёр руками глаза. Но слёз не было, утирать оказалось нечего, и Майкл спокойно посмотрел на мистера Ребека.
– Я не чувствую себя мёртвым, – медленно сказал он. – Разве я изрекал бы по-прежнему эти паршивые афоризмы, будь я мёртв. Я чувствую себя таким же живым, как и все остальные. Таким же, как ты.
– Я – не очень хороший эталон, – мягко возразил мистер Ребек.
– Я не чувствую себя мёртвым, – твердо повторил Майкл. – Я чувствую, что моё тело тянется за мной, словно якорь, – сравнение доставило ему удовольствие. – Да, якорь. Славный удобный якорь, удерживающий меня на земле. Если я мёртв, то каким же образом меня не уносит прочь из этого мира, словно простыню, которую сорвало с верёвки? – он почувствовал сожаление, что Муни, глава Классического факультета, не может сейчас его услышать. Они частенько засиживались вдвоём допоздна: Муни и он.
– Я знаю хорошее сравнение, – задумчиво сказал мистер Ребек. – Разве люди, у которых ампутированы руки или ноги, не говорят постоянно, что они их ощущают? Например, что ампутированная конечность чешется по ночам?
Майкл долгое время молчал.
– Я знаю сравнение получше, – сказал он наконец. – Есть один старый предрассудок. Некоторые люди верят, будто если убить змею днём, её хвост не перестанет биться до захода солнца, – он взглянул на мистера Ребека. – Порядок. Я мёртв. Сколько ещё до захода?
– Ещё далеко, – сказал мистер Ребек. Он присел рядом с Майклом. – Видишь ли, Майкл, ничто не умирает так, чтобы раз – и всё. Тело становится бесчувственным быстро, но душа цепляется за жизнь настолько долго, насколько способна, ибо жизнь – это всё, что ей известно.
– Душа? – Майкл почувствовал себя несколько обеспокоенным. – Так у меня, значит, есть душа?
– Не знаю, как это правильно назвать. Возможно, лучше – воспоминаниями. Жизнь – это великая вещь, и её довольно тяжело забыть. Для мёртвого всё, что было связано с жизнью, становится важным: чиркнуть спичкой, подстричь ногти. И не только твоя собственная жизнь проходит перед тобой, но и чья угодно другая. Ты обнаруживаешь, что жаждешь общества, и какие бы люди ни пришли тебя навестить, ты наблюдаешь за каждым их движением, пытаясь вспомнить, как ты, бывало, проделывал это сам. А когда они покидают тебя, следуешь за ними всю дорогу до ворот, но там останавливаешься, ибо дальше идти не можешь, – он сделал паузу. – Видишь ли, все они имеют основание – эти старые истории о призраках мёртвых, преследующих живых. Но всё это вовсе не так.
Майкл слабо улыбнулся.
– Ты знаешь о смерти больше, чем я.
– Я очень долго здесь прожил, – сказал мистер Ребек. – Смерть – это нечто такое, что надо изучать. Как и жизнь, только не надо торопиться всё узнать, потому что теперь у тебя больше времени.
– И это так и будет? Всегда? То есть, пока что это – совсем как при жизни, только меньше спешки.
Мистер Ребек не стал смеяться.
– Это иначе, – сказал он. – Но, честно говоря, я не могу объяснить тебе так, как, думаю, мог бы, если бы и сам умер. Но только тогда я не захотел бы объяснять, – он увидел, что Майкл растерянно моргает и продолжал. – Вот что я тебе в состоянии сказать: при этом забываешь подробности. Неделю спустя позабудешь немногое: какую музыку любил, в какие игры, бывало, играл – сущие пустяки. Через две недели, как правило, улетучиваются кое-какие вещи поважнее: где ты работал, где учился. Через три недели ты не вспомнишь, кого ты когда-либо любил или ненавидел. А за четвёртую – ну, этого я и словами выразить не могу – в общем, просто забываешь всякие вещи.
– И я всё забуду? – мистер Ребек едва ли смог расслышать голос Майкла. Он кивнул. – Всё? И говорить разучусь? И думать?
– В этом пропадает необходимость, – сказал мистер Ребек. – Как и в том, чтобы дышать. Ты по-настоящему этого не забываешь, просто тебе нет в этом никакой пользы или необходимости, и твои способности атрофируются, как аппендикс. Ты ведь и сейчас не разговариваешь по-настоящему. Да и как ты можешь? Ведь у тебя нет ни гортани, ни голосовых связок, ни диафрагмы. Но ты так привык говорить и так отчаянно хочешь говорить, что я слышу тебя так же отчётливо, как если бы ты мог до сих пор издавать звуки. Никто не заставит тебя перестать говорить, пока ты хочешь, просто через некоторое время ты сам перестаёшь этого хотеть.
– В таком случае, это – Ад, – медленно произнес Майкл. – Это и есть настоящий Ад.
– Забавно, что ты так рассуждаешь, – сказал мистер Ребек. – Я всегда думал об этом, что человек становится как бы немного ангелом. Тебя больше нельзя тронуть, рассердить или задеть. Все маленькие притворства, которые были присущи тебе при жизни, слетают с тебя. Ты становишься чем-то вроде замкнутого круга, у которого нет ни начала, ни конца. Думаю, это самая чистая разновидность существования.
– Как у амёбы, – заметил Майкл. – Они тоже не получают травм.
– Нет, не как у амёбы. Я тебе кое-что покажу. Взгляни-ка, Майкл. Взгляни на солнце.
Майкл поднял глаза и увидел солнце. Оно было красным и разбухшим, так как давно перевалило за полдень, и жар его стал мстительным и безжалостным. Мистер Ребек торопливо моргнул, глядя на светило, и поспешно отвернул голову. Но Майкл смотрел на солнце в упор и видел только сморщенный апельсин, висящий на кривом дереве. Он ощутил, будто жалость и скорбь тронули уголки его рта.
– Видишь? – спросил наконец мистер Ребек, когда Майкл наконец перевёл на него немигающий взгляд.
– Бог, – сказал Майкл.
– Возможно, – сказал мистер Ребек. – Если бы я так долго глядел на солнце, я бы ослеп. А ты в состоянии смотреть на него весь день. Ты можешь наблюдать за тем, как оно движется, если тебя это волнует. Теперь ничто не может тебя ослепить, Майкл, ты будешь видеть куда отчётливей, чем когда-либо при жизни. Теперь никто не сможет тебе солгать, потому что три четверти любой лжи – это желание ей поверить, а у тебя отныне пропадёт желание верить во что-либо. Я тебе здорово завидую, Майкл, – он вздохнул и подбросил на ладони два маленьких камешка. – Как только мне начинает казаться, что я тоже мёртв, – добавил он, – я смотрю на солнце.
Майкл захотел снова посмотреть на солнце, но вместо этого взглянул на мистера Ребека и спросил:
– Кто ты?
– Я здесь живу, – сказал мистер Ребек.
– Почему? Что ты здесь делаешь? – подумал немного. – Ты – кладбищенский сторож?
– Некоторым образом, – мистер Ребек встал и вошел в мавзолей. Мгновение спустя он вышел, держа в руках полколбаски и баночку из-под молока. – Ужин, – пояснил он, – или очень поздний ланч. Это принёс мой старый друг, – он оперся о треснувшую колонну и улыбнулся неподвижному Майклу. – Смерть очень во многом похожа на жизнь, – задумчиво сказал он. – Способность ясно видеть не всегда меняет людей. Мудрые при жизни становятся ещё мудрее после смерти. Привязанности живых так и остаются привязанностями. Смерть, видишь ли, меняет только устремления, но не души. Я всегда считал, что кладбища подобны городам. Там есть улицы и проспекты, думаю, ты их видел, Майкл. Там есть также кварталы и дома с номерами, трущобы и гетто, районы для среднего класса и небольшие дворцы. И посетителям, знаешь ли, выдаются у входа карточки с названиями улиц и номерами домов их родственников. Это – единственный способ их найти. В этом тоже проявляется сходство с городом. Это – мрачный город, Майкл, и весьма населенный, и у него имеется множество черт, присущих любому другому городу. Здесь – и общество, и споры, и равнодушие. Здесь, конечно, нет любви, вообще никакой любви, но её и за оградой не так уж и часто встречаешь. Хотя одиночество здесь есть. Некоторое время мёртвые очень одиноки, сильно изумлены, заметно испуганы. Пропасть, отделяющая их от живых, так же широка, как и пропасти, отделяющие живых друг от друга. Нет, думаю – шире. Они так же беспомощно слоняются по своему мрачному городу, как блуждали в каменных городах, наконец находят уютную постель и пытаются уснуть. Мне нравится им помогать, мне нравится быть здесь, когда они приходят, чтобы утешить их и облегчить им душу. Я, так сказать, кто-то, с кем можно поговорить. Люди с ума сходят, ища хоть кого-нибудь, кто согласится с ними поговорить. Мы и разговариваем, или сидим да играем в шахматы – надеюсь, ты играешь – или я им читаю. Это всё – мелочи, Майкл, и совсем ненадолго. Все они исчезают рано или поздно, и я не могу последовать туда, куда они уходят. Они перестают нуждаться во мне, да и вообще в ком бы то ни было, и это доставляет мне удовольствие, потому что большинство их потратило жизнь на то, чтобы перестать в чём угодно и в ком угодно нуждаться. Вот я на некоторое время и составляю компанию им, этим моим друзьям. Иногда я говорю им, что я – мэр тёмного города, потому что слово «мэр» им хотя бы знакомо, но я больше думаю обо всём этом как о ночном свете, как о фонаре на тёмной улице.
– Харон, – сказал Майкл. – Харон и монеты на языках у мёртвых.
Мистер Ребек улыбнулся.
– Бывало, и я так думал, – сказал он. – Но Харон – божество или полубог, а я – человек, – он сдержанно рассмеялся. – Раньше я был аптекарем.
– А я преподавателем, – сказал Майкл. – Преподавателем истории. И мне это очень нравилось, – он кое о чём подумал и спросил с заметной неловкостью. – А ты видишь меня? То есть, я вообще различим?
– Я тебя вижу, – ответил мистер Ребек. – Ты выглядишь, как человек, но не отбрасываешь тени, и сквозь тебя светит солнце.
– Что-то вроде следа человека, – с горечью заметил Майкл.
– Это неважно, – возразил мистер Ребек. – Через три недели или через месяц тебе больше даже не понадобится принимать человеческий облик.
– Ты хочешь сказать, что я его позабуду?
– Ты больше не захочешь его вспоминать.
– Захочу! – яростно воскликнул Майкл.
Мистер Ребек медленно произнёс:
– Я даю тебе то же обещание, что и любому другому, Майкл. До тех пор, пока ты цепляешься за жизнь, пока ты желаешь быть человеком, я буду здесь. Мы будем вдвоём в этом месте, и мне это по душе, поскольку я тут здорово одинок и люблю общество. И тебе это тоже будет нравиться, пока это не станет игрой, бесцельным ритуалом. А затем ты меня покинешь.
– Я останусь, – спокойно возразил Майкл. – Возможно, я и не человек, но я постараюсь выглядеть настолько похоже на человека, насколько возможно.
Мистер Ребек протянул руку и слегка передернул плечами.
– Я же говорил, что смерть не так уж отличается от жизни, – он поколебался, затем спросил. – Скажи мне, Майкл, как ты умер?
Вопрос ошарашил Майкла.
– Прости, а что?
– Ты выглядишь очень молодо, – объяснил мистер Ребек. – Это меня удивляет.
Майкл широко улыбнулся.
– А как насчет преждевременной старости?
Мистер Ребек ничего не сказал.
– У меня есть жена, – сообщил Майкл. – То есть, была жена.
– Я её видел, – ответил мистер Ребек. – Красивая женщина.
– Очаровательная, – сказал Майкл и замолчал.
– Итак?
– Что итак? Моя очаровательная жена убила меня. Отравила. Вроде как солят суп.
Он увидел, что мистер Ребек шокирован и порадовался этому. Он почувствовал себя совсем человеком. Он снова улыбнулся мистеру Ребеку.
– Я бы с удовольствием сыграл в шахматы, – сказал он. – До солнечного захода.
ГЛАВА 3
– Может быть, ещё разок прогуляемся? – предложил мистер Ребек.
– Я не хочу снова гулять, мы здесь уже всю траву вытоптали. Где мы ни пройдемся, остается голая земля. Словно после саранчи.
– Но тебе это нравится. Ты же говорил.
Майкл напряжённо подумал, что надо бы нахмуриться, и обрадовался, когда вспомнил, что при этом чувствуют.
– Мне это нравится, но мне не нравится видеть, как ты устаёшь.
Мистер Ребек начал было что-то говорить, но Майкл оборвал его.
– Потому что я-то не могу. Я не могу устать. И когда я вижу, что ты дышишь так, как если бы ты пил воздух, меня это тревожит. Так что давай не пойдем гулять.
– Отлично, – кротко сказал мистер Ребек. – Мы можем сыграть в шахматы, если ты не против.
– Я не хочу играть в шахматы, – Майкл вспомнил, что такое обида. – Тебе приходится делать за меня ходы. Как ты думаешь, что я при этом испытываю?
Мистер Ребек посмотрел на него с состраданием.
– Майкл, Майкл, как ты всё усложняешь.
– Это так, чёрт возьми, – сказал Майкл. – Но я легко не сдамся, – он ухмыльнулся мистеру Ребеку. – Если я не могу больше пить водку и томатный сок, то я не стану пить и напиток забвения. И никаких шахмат. Я всё равно не люблю шахматы.
– Я мог бы тебе почитать.
– Что почитать? – настороженно спросил Майкл. – Я и не знал, что у тебя есть книги.
– Время от времени Ворон крадёт для меня штучки по две на Четвертой авеню, – сказал мистер Ребек. – У меня есть кое-что из Суинберна.
Майкл попытался вспомнить, нравился ли ему Суинберн, и почувствовал, что только ступенька отделяет его от безграничного ужаса, когда имя это ничего ему не сказало.
– Суинберн, – сказал он вслух. Он знал, что мистер Ребек смотрит на него. «Боже мой, – подумал он. – Так, значит, всё проходит». В отчаянии он ухватился за первую же знакомую вещь, оказавшуюся рядом – это был номер его кабинета в колледже. «1316, – подумал он, стараясь вникнуть в этот номер. – 1316, 1316, 1316». Как только у него вышло 1316, он быстро сказал:
– Суинберн. Да. Я знаю Суинберна. Не он ли как-то написал очень длинное стихотворение о Цирцее?
Это был старый фокус, который он помнил по бесчисленным дискуссиям и случайному трёпу, в коем он когда-либо принимал участие. Если не знаешь – не подавай виду. Никто ни разу не предположил даже, что он не знает цитаты или книги, или какого-нибудь очерка. У правила также был королларий: если ты не уверен, значит, это Марлоу.
Майкл рационализировал этот трюк, как и что угодно другое. Он вполне бы это мог, как он сказал себе… А теперь-то откуда ему узнать?
– О Цирцее? – мистер Ребек поморщился. – Никогда этого не читал. Но это ничего не значит, – добавил он, застенчиво улыбаясь. – Я много чего не читал.
– Я не уверен, что это был Суинберн, – сказал Майкл. – Это мог быть и кто-то ещё.
– Стихи, о которых я подумал, называются «Сад Прозерпины». Ну, помнишь? – и он процитировал несколько строчек, спотыкаясь, но жадно упиваясь каждым словом:
«Мы любим жизнь, и много Прошли земных дорог; И всё ж мы славим Бога, Кто б ни был этот Бог – За то, что жизнь прервётся, Что мёртвый не проснётся…» [ 1 ]– Помню, – резко сказал Майкл, – и мне это не нравится.
– Извини, – сказал мистер Ребек. – Я думал, тебе понравится.
– Своевременно, – заметил Майкл. – Весьма своевременно. В любом случае, Суинберн написал это, пока был жив, – он поднял голову и увидел, как солнце медленно, словно усталый старик, тащится по небу. Это его заинтересовало, и он взглянул на солнце в упор. Пока он смотрел, Суинберн спокойно и навеки покинул его сознание, и не вызывал больше не любви, ни ненависти.
– Сыграем-ка в шахматы, – предложил он.
– Я думал, тебе не нравятся шахматы.
«Чёрт возьми», – подумал Майкл и произнес, преувеличенно чётко выговаривая слова:
– Мне нравятся шахматы. Я – большой любитель шахмат. Я помешан на шахматах. Давай-ка сыграем в шахматы.
Мистер Ребек рассмеялся и встал.
– Хорошо, – сказал он и направился к двери мавзолея.
– Вместо черной ладьи можно использовать камешек! – крикнул ему вслед Майкл.
Мистер Ребек с отсутствующим видом рылся в кармане. Он остановился и немного разочарованно улыбнулся Майклу.
– Вот уже девятнадцать лет, – сказал он, – каждый раз, когда я сюда возвращаюсь, я ищу ключ, чтобы отпереть дверь. Замок вообще-то сломан, но я всегда боюсь не попасть внутрь.
Он распахнул дверь и вошел в мавзолей. Майкл присел спиной к одной из белых колонн. Или, скорее, вообразил, что сидит. Практически, так оно и было. Он почувствовал, что последние три дня теряет контакт со всем вещественным. И это его пугало. Хотел ли он пройтись, улыбнуться или моргнуть, ему приходилось мучительно вспоминать, на что похожи ходьба, улыбка или моргание. А в целом он оставался спокойным, полностью потерял связь со своими телесными воспоминаниями. Сознание его, подобно дождевой капле, висело в воздухе. Это произошло два дня назад, и Майкл это помнил.
Память его по-прежнему не подводила, воображение оставалось ясным. Он чувствовал себя человеком и скучал. И сама эта скука приносила облегчение, ибо она была такой человеческой.
Мистер Ребек вышел из мавзолея, неся шахматную доску, подбитую рваной зелёной клеёнкой. Он сел рядом с Майклом и начал разыскивать фигуры. Три выпали из кармана его рубахи, ещё пять – из правого кармана штанов, и так далее, пока набор не стал полным, за исключением чёрной ладьи.
Здесь не имелось и двух фигурок из одного комплекта. Большинство их было сделано из различных светлых древесных пород, несколько – из красной пластмассы, и две – чёрный слон и белая ладья – вырезаны из превосходного и мрачного красного дерева. Основания их были утяжелены и оклеены войлоком, и в то время как остальные фигурки качались, дрожали и опрокидывались, попав на доску, эти две стояли лицом к лицу на своих местах, и когда ветер или удар колена мистера Ребека рассыпал остальные фигурки, конь и ладья лишь серьёзно кивали друг дружке.
Майклу нравилось рассматривать фигурки. Они заставляли его смеяться без этого, похожего на шорох резины звука, который его смех приобрёл за последние три дня.
– Пёстрая компания, – сказал он мистеру Ребеку. – Верно?
– Ворон таскал их фигурку за фигуркой, – сказал мистер Ребек. – И это заняло у него много времени, поскольку я его заставлял красть в универсальных магазинах. Он хотел стащить у старичков в парке, но меня такой вариант не устраивал. Чёрная ладья тоже была прекрасна, но я её потерял, и не знаю, где она. Возможно, все ещё где-то здесь, – он протянул Майклу кулаки. – Что выбираешь: чёрные или белые?
– Белые, – сказал Майкл, указав на правый кулак мистера Ребека. Мистер Ребек разжал пальцы, и с ладони скатилась чёрная пешка. Он начал расставлять фигурки, негромко при этом напевая.
– А где Ворон спёр шахматную доску? – спросил вдруг Майкл.
– Не знаю. Он приковылял с ней однажды утром, и когда я его спросил, откуда она, он просто сказал, что он был хорошим мальчиком, – мистер Ребек завершил расстановку фигур. – Иногда это меня беспокоит. Я стараюсь об этом не думать.
Он начал игру, двинув королевскую пешку на две клетки вперёд.
– Я ужасный ортодокс, – сказал он.
За восемь партий, которые они сыграли, он это уже дважды говорил, но Майкл этого не помнил.
– Сходи и за меня так же, – попросил Майкл. – Я не шибко гордый.
Мистер Ребек наклонился вперед и продублировал свой ход с Майкловой стороны. Он посмотрел на свои фигурки с некоторого расстояния, и наконец выставил своего коня в двух шагах перед королевским слоном Майкла. Майкл сделал такой же ход конём со стороны ферзя. И пошла игра.
Они играли молча. Мистер Ребек покачивался взад-вперед над доской, переставляя фигуры за обоих. По мере развития игры его дыхание становилось все резче. Майкл позволил себе роскошь полностью сосредоточиться на одном предмете, отбросив всё остальное. На девятом ходу возникла стремительная лавина съедания пешек, а затем на пятнадцатом один из коней и оба слона Майкла грозно обступили пешку мистера Ребека и оставили её нетронутой. Двумя ходами позднее Майкл мстительно съел одного из коней мистера Ребека. После этого партия двигалась медленно и вяло.
Внезапно тело мистера Ребека резко выпрямилось. Сначала Майкл подумал о марионетке, которую потянули за ниточки. Затем он отбросил неодушевлённый образ и представил себе небольшого дикого зверька. Мистер Ребек даже вроде бы торопливо принюхивался.
– Что такое? – спросил Майкл.
– Где-то тут – женщина, – напряжённо сказал мистер Ребек.
Снова шаги Сандры простучали по основанию Майклова черепа.
– Где?
– Вон за теми деревьями, около огромного мавзолея. Она нас ещё не увидела, мы располагаем временем.
Он начал собирать фигурки и торопливо засовывать их в карманы.
– Эй, – сказал Майкл. – Погоди минутку.
Мистер Ребек оставил попытки затолкать короля в уже переполненный карман рубахи.
– Что такое?
– Да просто подожди – и все. Почему ты так боишься общества? Я думаю, это было бы мило.
– Майкл, – взмолился мистер Ребек. – Ради Бога…
– Да ладно. Какого дьявола мы должны прятаться, когда кто-то приходит? Ты так каждый раз поступаешь?
– Почти каждый. Идём, Майкл.
– И что у тебя за жизнь?
– Такова моя жизнь, – огрызнулся мистер Ребек, вроде как подчеркивая своё раздражение. – И я ею распоряжаюсь. Если хоть кто-нибудь что-то заподозрит и доложит сторожу, меня отсюда выбросят. А я не могу отсюда уйти, Майкл. Вообще не могу.
Быстро и хрипло дыша, он взглянул на Майкла поверх шахматной доски. Майкл собирался что-то сказать, или думал, будто собирается, но вот мистер Ребек коротко вздохнул и прошептал:
– Что же ты наделал…
Женщина уже поднялась по склону низкого холма и стояла там, глядя на них.
– Хорошо, – сказал Майкл. – Я сдаюсь. Ты всё равно выиграл, – и, взглянув в сторону женщины, крикнул. – Привет! Доброе утро!
Женщина стояла на холме молча и неподвижно.
– Доброе утро!
– Она тебя не слышит, – сказал мистер Ребек.
– Значит, она глухая. Я кричал достаточно громко.
– Недостаточно громко, – сказал мистер Ребек, не глядя на него.
– Ты меня слышишь, – очень тихо проговорил Майкл.
– Я – другое дело.
– А она меня видит?
– Нет. По крайней мере, не думаю.
– А она могла бы меня увидеть?
– Возможно, Майкл, но я сомневаюсь.
– Так позови же её.
Мистер Ребек промолчал.
– Позови её, – повторил Майкл. – Позови её. Пожалуйста, позови.
– Хорошо, – ответил мистер Ребек. Он повернулся, взглянул в сторону холма, где стояла женщина, и крикнул:
– Привет! – голос его был немного хриплым.
– Привет, – отозвалась женщина. Её голос был высоким и чистым. Она начала спускаться с холма, тщательно и осторожно ставя ноги.
Мистер Ребек обернулся к Майклу:
– Видишь? Теперь ты веришь?
– Нет, – ответил Майкл. – Пока что нет.
Мистер Ребек заметно понизил голос, чтобы его слова не разобрала приближающаяся женщина, и слова, словно пар, шипя, вылетели у него изо рта.
– Она тебя не видит и не слышит. Поверь мне, я знаю. Живой и мёртвый не могут разговаривать друг с другом.
– Я хочу с ней поговорить, – сказал Майкл. – Я хочу услышать её голос. Я хочу поговорить с кем-нибудь живым.
Мистер Ребек бросил на него быстрый взгляд. Затем повернулся лицом к женщине, которая дошла теперь до края лужайки, окружавшей мавзолей.
– Доброе утро, – сказал мистер Ребек.
– Доброе утро, – ответила женщина. Она была одета в траур, но не носила вуали. Выглядела она хорошо за сорок. Так показалось Майклу. Затем он решил, что ей, скорее, сорок с небольшим, Он всегда весьма неумело определял возраст женщин, а траурное одеяние могло и прибавить несколько лет.
Из черт лица наиболее примечательным был её рот. Крупный, с полными губами, вокруг уголков губ проступают мягкие черточки. Когда женщина начинала говорить, весь рот оживал, губы подпрыгивали и вздрагивали, перемещения их походили на движения танцовщика; время от времени губы широко расходились, и показывались маленькие белые зубы.
– Прекрасный денёк, – сказал мистер Ребек.
– Великолепный, – ответила женщина. – Всё, чего я пожелала бы – это чтобы так и оставалось.
– О, так и будет, – сказал мистер Ребек. Ему почудилось, что он прочёл любопытство в её темных глазах, и он добавил. – Такой чудесный денёк, что я не смог бы оставаться взаперти.
– Знаю, – отозвалась женщина. – Сегодня утром я сидела дома, и вдруг сказала себе: «Гертруда, в такой день нельзя оставаться одной, пойди и навести Морриса». И тут же пошла. Пусть Моррис не думает, что никто не вспомнит о нем в такой день. Моррис – это мой муж, – объяснила она, увидев, что мистер Ребек слегка нахмурился. – Моррис Клэппер, – она указала на мощное мраморное сооружение, сверкающее на солнце выше по склону. – Видите, вон тот огромный дом – это гробница Морриса.
Мистер Ребек кивнул.
– Мне знакомо это имя. Я ходил мимо его дома. Довольно впечатляюще.
– И всё – из мрамора, – сказала миссис Клэппер. – Даже внутри. Моррис любил мрамор.
«Плакала ли она о покойном?» – подумал мистер Ребек. Он не мог понять.
– Очень красивое сооружение, – сказал он. Затем указал на мавзолей Уайлдера. – А вот это – семейный участок. Они были моими друзьями.
Он следил, как миссис Клэппер осматривает сооружение. Впервые за девятнадцать лет он почувствовал некоторый стыд за него. Им следовало хотя бы вставить новое стекло в окошечко. А львиные головы мистер Ребек и сам мог бы отполировать. Но ангел всё ещё был в хорошем состоянии. Она должна увидеть ангела.
– Простите, что я об этом говорю, – заметила наконец миссис Клэппер. – Но они недостаточно хорошо присматривают за склепом.
– Некому больше присматривать, – сказал мистер Ребек. – Вся семья вымерла.
– Простите, – сказала миссис Клэппер. – Поверьте, я очень сожалею. Я знаю, на что это похоже, – она мощно, в полную силу, шмыгнула носом. – Вот уже год и два месяца, как Моррис умер, а я всё ещё приподнимаюсь и пытаюсь его будить по утрам.
– Некоторые вещи тянутся долго, – сказал Майкл. Он говорил громко и отчетливо, но не кричал, пока миссис Клэппер не отвернулась от него. Тогда он завопил, надеясь, что почувствует, как слова когтями процарапывают себе путь из его горла.
– Успокойся, Майкл, – хриплым шепотом сказал мистер Ребек.
Миссис Клэппер подошла на несколько шагов ближе.
– Что вы сказали?
– Ничего, – ответил мистер Ребек. – Я сказал только, что некоторые вещи не забываются.
– Конечно, – согласилась миссис Клэппер. – Кое-что запоминается надолго. Например, покойный муж или операция. Вам, знаете ли, вырезают аппендикс, а затем кладут его в стеклянную бутылочку и вам же показывают. А в результате вы потом не можете выносить вида спагетти.
Женщина сделала ещё несколько шагов по траве.
– А вы на него похожи.
Мистер Ребек заморгал.
– На кого это я похож?
– Вы напоминаете мне Морриса, – сказала миссис Клэппер. – То есть, не внешне или что-то вроде того. Но когда я сюда спустилась и увидела, как вы играете вот в эти… – она указала на шахматную доску, лежавшую в траве. – Я подумала: «Боже Мой, да ведь это же Моррис!» – с мгновение она молчала. – Вы сами с собой играли?
– Он со мною играл, – встрял Майкл, – и я чёрт-те что из него выбил, – что было неправдой. Но казалось, что это неважно.
– Я пытался решить некоторые шахматные задачи, – сказал мистер Ребек. Ему показалось, что она смотрит на него с недоверием. – Я понимаю, что место, кажется, неподходящее для игры в шахматы. Но здесь тихо, и есть возможность лучше сосредоточиться.
– Вы и Моррис, – сказала миссис Клэппер. – Вы и Моррис. – Моррис, бывало, всё время этим занимался: брал себе доску, уходил с нею в угол, и если скажешь: «Моррис, пора обедать!» – «Сейчас, сейчас, мне надо решить эту задачу». – «Моррис, мясо остывает!» – «Сейчас, сейчас, ещё минутка – и я приду». – «Моррис, может, ты хочешь сэндвич?» – «Сейчас, сейчас, я не голоден»… – Она вздохнула. – Прямо сумасшествие. Но его можно простить.
– Понимаю, – сказал мистер Ребек.
Майкл хихикнул:
– Как это?
– Поверьте мне, – сказала миссис Клэппер, – он узнает, что я не забыла, – она огляделась. – А нет ли здесь местечка, где можно присесть? У меня устали ноги.
– Я могу вам предложить только место на ступеньках, – сказал мистер Ребек, – они довольно чистые.
Миссис Клэппер оглядела ступеньки и передёрнула плечами.
– Чистые, грязные, – сказала она. – Сойдет для Клэппер, – она мягко упала на верхнюю ступеньку, испустив мощный вздох.
– Эх, – сказала она, – мои ноги уже совершенно меня не держат, – и тепло улыбнулась мистеру Ребеку.
– Я и сам немного устал, – сказал мистер Ребек. Он почувствовал, что краснеет. – Я живу довольно далеко отсюда.
– Чёрт побери, – сказал Майкл, присаживаясь на корточки рядом с миссис Клэппер, – да у тебя ещё кровь не остыла.
Миссис Клэппер погладила рукой воздух рядом с собой.
– Так садитесь! Кто вы вообще-молодой спортсмен? В вашем возрасте человеку следует садиться всякий раз, когда он только пожелает.
– Спасибо, – ответил мистер Ребек. Он осторожно сел рядом с ней и внезапно удивился: «В моём возрасте? Разве я выгляжу таким уж старым? Сколько лет она мне дала бы?». Он захотел снова встать, но почувствовал, что не в силах.
Некоторое время они сидели молча. Миссис Клэппер скинула одну туфлю и вздыхала негромко и удовлетворенно. Мистер Ребек хотел ей что-то сказать, но не мог сообразить, что, и поэтому сердился на себя. Внезапный крик, пронзительный, как у звезды дьявольской эстрады в день адского фестиваля, прозвенел и разорвался у него в голове. Мистер Ребек вскочил на ноги, вскричав от настоящей физической боли, и в безумии огляделся, ища источник звука.
Миссис Клэппер осталась на месте, но опять надела туфлю и поглядела на него с некоторой тревогой.
– С вами всё в порядке? – спросила она.
– Я ч-ч-то-то ус-с-слышал, – заикаясь, пояснил мистер Ребек, – кто-то кричал.
– Забавно, – миссис Клэппер тоже встала. – Я ничего не слышала.
– Но я слышал крик, – сказал мистер Ребек, и тут же увидел Майкла, который сидел, скрестив ноги, и содрогался от безмолвного смеха.
– Майкл! – воскликнул он, прежде чем успел подумать.
Майкл открыл рот и указал во мрак в глубине горла.
– Проверка, – сказал он. – Просто проверка. Я хотел посмотреть, а не забыл ли ты о своей работе.
– Кто это? – миссис Клэппер сдвинула брови, словно они нуждались во взаимной защите.
Мистер Ребек вытер лоб.
– Извините, – сказал он вежливо, – мне ужасно неловко, но я подумал, будто что-то услышал.
Он ожидал, что миссис Клэппер либо разразится смехом, либо шарахнется прочь, но вместо этого увидел, что лицо её понимающе расслабилось.
– Это ваш друг? – переспросила она.
– Простите? – переспросил мистер Ребек, и у него похолодело внутри от ужаса. Неужели она видит Майкла?
– Ваш друг? – повторила миссис Клэппер, указывая на мавзолей, – тот, кто здесь похоронен?
– Да, – сказал мистер Ребек. Он быстро подумал. – Да, Майкл Уайлдер. Очень старый друг. Меня потрясла его смерть.
Миссис Клэппер важно кивнула, и он продолжал:
– И вот я то и дело прямо уверен, что слышу, как он меня зовёт.
– Мило, – заметил Майкл. – Очень мило. – Мгновение спустя он добавил: – Извини, что я не удержался.
– Полагаю, это выглядит несколько странно, – добавил мистер Ребек. – Как будто я рехнулся.
Миссис Клэппер снова села на ступеньки.
– Послушайте, – твердо сказала она, – полсвета рехнулось, и как раз на этот манер, – она сделала паузу. – И я тоже, – сказала она наконец.
Мистер Ребек сел с ней рядом.
– Это вы о муже?
– Ага, – сказала миссис Клэппер. – О Моррисе. Я тысячу раз слышала, как он зовет меня: «Гертруда! Гертруда!», как если бы он снова потерял ключ или не может найти выключателя в ванной. Прошел год и два месяца, а я всё ещё слышу его голос.
– Можно догадываться, что это случается со множеством людей, – сказал мистер Ребек. – Мы не хотим верить, что кто-то в самом деле умер.
– Нет, – ответила миссис Клэппер, – у меня это иначе. Возможно, у других – нечто вроде того, – она куснула кончик указательного пальца, обтянутого чёрной перчаткой: мистер Ребек и не подумал бы, что у неё могут быть подобные привычки. – А Моррис, знаете ли, забавно умер, – сказала она медленно.
Мистер Ребек промолчал.
– У нас была прелестная квартира с маленьким садиком на террасе; когда мы её снимали, агент сказал: «Взгляните, у вас будет славная терраска, вы сможете на ней обедать, ну так мы на ней и обедали, если только не было холодно. Ну и, короче говоря, обедаем мы в тот раз, и вдруг я вижу, что Моррис плохо выглядит. Я говорю: «Моррис, ты неважно выглядишь, не хочешь ли пойти и прилечь?». А он говорит: «Нет, Гертруда, кончай еду, это не должно быть мировой потерей». Я сказала: «Хорошо, Моррис, если у тебя все в порядке». И дала ему немного кукурузы «Грин Джайент» – Моррис не любит, когда она в початках, у него вечно что-то в зубах застревает…
– Вам бы не надо мне об этом рассказывать, – сказал мистер Ребек. – Вы меня даже не знаете.
– Галантно, – заметил Майкл. – Коварно, но галантно.
– Извините, – сказала миссис Клэппер, – но я вам хочу рассказать. Это – облегчение, а я не особенно уверена, что где-то ещё загуляю. Кроме того, я вас все равно больше не увижу.
Мистер Ребек знал, что это правда, и это его странно опечалило.
– И вот, Моррис кончает есть кукурузу, а я говорю: «Моррис, хочешь ещё немного?». Он открывает рот, чтобы что-то сказать, и – бум!-Мистер Ребек подпрыгнул. – И он падает прямо через спинку стула, – миссис Клэппер описала рукой широкий, полукруг.
– И знаете, что я тогда сделала?
Мистер Ребек молча покачал головой.
– Я закричала, – с горечью сказала миссис Клэппер. – Сидела себе на стуле и кричала. Я, наверное, минут пять потратила, рыдая по Моррису. А что я потом сделала? – она опять махнула рукой. – Бум! Словно свет погас.
Она уставилась на свои колени. Мистер Ребек со странной отчетливостью заметил, что на её правой перчатке лопнул шов.
– А может быть, он просыпается, – сказала она низким голосом, – и зовет меня: «Гертруда! Гертруда!» Он вечно терял ключ от квартиры. Возможно, он там лежит и зовет меня, а я не слышу.
– Не говорите так, – предупредил мистер Ребек. – Вряд ли вы можете знать.
– А знаете, что я делала два дня после того? – спросила миссис Клэппер. – Я всё ходила и говорила: «Моррис, ты не хочешь немного кукурузы? Моррис, ты хочешь немного кукурузы? Моррис, ты не хочешь ещё немного кукурузы?». Словно заезженная пластинка. Два дня. Они ко мне сиделку привели. И сиделка спала в гостиной, – она замолчала, не рыдая, а лишь глядя далеко перед собой. Майклу не захотелось ничего говорить. А мистеру Ребеку хотелось.
Внезапно миссис Клэппер повернула голову и взглянула на мистера Ребека. Уголки её губ слегка дрогнули.
– По Моррису читают кадиш [ 2 ] каждую субботу, – сказала она, – там, в Бет Давиде. И после того, как я умру, по нему всё ещё будут читать кадиш. Каждую субботу, пока не рухнет небо, – она наклонилась к мистеру Ребеку, дыхание её было тёплым, острым и не столь уж неприятным. – Вы думаете, я забуду Морриса? Вы думаете, я его забуду?
– Нет, – сказал мистер Ребек. – Не думаю, что это так.
Она откинулась назад, расправила на коленях своё чёрное платье. Мистер Ребек в упор смотрел на слово «Уайлдер» над входом в мавзолей, пока оно не задрожало и не поплыло у него перед глазами. «Всё, что мне приходит в голову, – подумал он, – это слова „вы мне нравитесь”, а это как-то глупо. Если не сказать – неподобающе».
И вдруг миссис Клэппер начала негромко смеяться, «Как река шумит», – подумал мистер Ребек, прислушиваясь к раскатистым смешкам. Она взглянула на собеседника.
– Сиделка красила волосы, – сказала она, смеясь при каждом слове. – И так паршиво красила. У неё разноцветные полоски получались: чёрные, рыжие и вроде русых. Точь в точь – коробка цветных карандашей.
И тогда они рассмеялись вместе все трое: мистер Ребек – высоко и ликующе, миссис Клэппер – гулко, а Майкл – мрачно и безмолвно.
– Вы думаете, что это ужасно, когда я вот так смеюсь? – спросила наконец миссис Клэппер.
– Нет, – ответил мистер Ребек. – Что вы, вовсе нет. Видели бы вы, насколько лучше вы от этого выглядите.
Он не совсем это собирался сказать и хотел было поправиться, но миссис Клэппер улыбнулась.
– Приходится смеяться, – сказала она, – рано или поздно приходится смеяться. А не то сколько можно плакать.
– Годы, – сказал Майкл. Миссис Клэппер покачала головой, как если бы слышала его.
– Рано или поздно, – повторила она, – приходится смеяться.
Она взглянула на маленькие золотые часики и быстро встала.
– Мне надо идти, – сказала она. – Моя сестра приведет ко мне дочку обедать. Она совсем маленькая, моя племяшечка, в первом классе учится. И красавица, – миссис Клэппер растянула это слово, так что оно завибрировало, – пойду-ка я лучше готовить обед.
– Мне и самому надо в ту сторону, – несколько робко сказал мистер Ребек.
Миссис Клэппер засмеялась.
– Вы ведь даже не знаете, в какую мне сторону.
– Ах, распутный старик, – сказал Майкл. – Обрати внимание, какие у тебя влажные руки, Тарквиний.
Мистер Ребек снова почувствовал, что вспыхивает. Он сделал отчаянный ход.
– До ворот, ведущих к метро, – сказал он поспешно.
Должны быть какие-то ворота у метро. Кладбища всегда так разбивают.
Миссис Клэппер взглянула на него в изумлении.
– Откуда вы узнали?
– Ну, именно туда вы направляетесь, а никаких других ворот там нет, – о, Господи, только бы их не было!
Миссис Клэппер кивнула. Она сделала несколько шагов прочь, остановилась и оглянулась на него.
– Так вы тоже идёте? – сказала она. – Идёмте.
В равной степени испытывая страх и оживление, он встал, затем чуть вопрошающе взглянул на Майкла.
– Не давай мне тебя останавливать, – сказал Майкл. – Иди и прожигай жизнь. Не тащись, но и не вертись. А я буду сидеть здесь и размышлять, – он махнул рукой в направлении миссис Клэппер. – Просто исчезни. Я всегда так делаю.
И вот мистер Ребек сделал несколько шагов и очутился рядом с миссис Клэппер. Майкл видел, как они бредут по вьющейся дорожке, которая вела к Сентрал-авеню. Он немного сочувствовал миссис Клэппер, несколько больше-мистеру Ребеку, а ещё больше – самому себе.
Он удовлетворенно бродил вокруг небольшой полянки, погрузившись в это чувство, весь им пропитавшись, вспомнив о нём все, что можно, насытившись печалью до предела.
Маленькая черноголовая птичка замаячила в полуденном небе. Майкл следил, как она спускается к нему по спирали с каким-то ленивым интересом, пока она не оказалась на фоне поблекшего солнца, и Майкл не узнал Ворона. Майкл привык к регулярным визитам птицы, и с удовольствием с ней беседовал. Едкий юмор Ворона напоминал ему о человеке, имени которого Майкл больше не помнил, но с которым когда-то играл в карты.
Ворон дважды попытался сесть на полянку, оба раза промахнулся, и наконец довольно-таки неизящно рухнул в траву.
– В этом треклятом месте надо бы устроить взлетную полосу, – буркнул он. В когтях у него был небольшой жареный говяжий язык.
– Приветствую тебя птица! – провозгласил Майкл. Ворон на него не отреагировал.
– А где Ребек?
– Наш общий друг, – сказал Майкл, – удалился под ручку с леди.
– Я так и думал, что это он, – сказал Ворон. Он уронил лакомство в траву. – Скажи ему, вечером я притащу немного молока. Если смогу раздобыть, – он уставился на Майкла. – Что тебя гложет?
– Я остался один, – сказал Майкл. – И ты тоже. Мы оба осиротели. Ты – из плоти, я – чистый дух, но нас теперь сплотила общая скорбь, горечь печали, Weltschmerz, [ 3 ] и гнусное проклятое одиночество. Я снова тебя приветствую, мой крылатый одинокий брат.
– Говори сам за себя, – дружелюбно ответил Ворон. – Я уже позавтракал.
Мистер Ребек и миссис Клэппер брели по дорожке мимо ив, похожих на застывшие фонтаны. Миссис Клэппер говорила о доме, где она живёт, о старухе, которая сидит в тёплые дни на улице у своей двери, о племяннице, которая такая красавица, о мяснике, который не подкинет вам плохое мясо, только если вы с ним друзья, о муже, который умер. Она остановилась, чтобы взглянуть на высокие пустые сооружения и восхититься ангелами и детишками, которые за ними присматривали, и мечами да сфинксами, которые их охраняли. Потом мужчина и женщина пошли дальше, и время от времени мистер Ребек сам что-то говорил, но большей частью слушал свою спутницу и получал удовольствие от её речей. Он удивлялся, с чего бы это, почему ему так приятно слушать всё, что ни говорила бы эта женщина, особенно вещи, которые он едва ли понимает. Он хорошо знал, что большинство людских разговоров бессодержательно, человек может провести почти все свои дни, давая стандартные ответы на стандартные вопросы. Он подумал, что раз уж встрял в эту игру, то может вести её с помощью набора хмыканий. Прислушивайся люди друг к другу, ничего бы не вышло, но они же не прислушиваются. Они знают, что в этот самый момент никто не собирается сообщить им ничего важного и волнующего. Что-нибудь важное появится в газетах, а потом его ещё и перепечатают, дабы никто не пропустил. Никто по-настоящему не желает знать, как чувствует себя сосед, но всё-таки спрашивает об этом из вежливости, и потому что знает, что сосед, конечно же, не расскажет, как он себя чувствует. То, что говорим друг другу мы с этой женщиной, вовсе не важно. Мы просто издаем звуки, которые нам приятны.
Миссис Клэппер говорила о маленьком мальчике, который живет в её квартале.
– Ему одиннадцать лет, – сообщила она, – и всякий раз, когда я встречаю его и его маму, у него написано новое стихотворение, и она всегда говорит ему: «Герби, прочти миссис Клэппер свои новые стихи!» И упрашивает его до тех пор, пока он не прочтёт. Да, ему исполнилось одиннадцать в марте месяце.
– И хорошие у него стихи? – спросил мистер Ребек.
– А что я понимаю в стихах, чтобы иметь об этом какое-то мнение? Все они – о смерти и о похоронах. Всегда. И это – у мальчика, которому одиннадцать лет. Мне иногда хочется ей сказать: «Послушай, избавь меня, пожалуйста, от его некрологов. Он пишет то о смерти собачки, то о смерти птички. Да объясни ты ему, что так нельзя». Но я ей ничего такого не говорю. Зачем мне задевать чувства мальчика? Когда я их вижу, я перехожу на другую сторону, – затем она сказала: – Вот мы и пришли, – и мистер Ребек, подняв глаза, увидел чёрные ворота.
Ворота были из литой стали и держались на башеннообразных бетонных столбиках, выкрашенных в песочный цвет. Их покрывал тёмно-зеленый плющ, который вился несколько гуще, чем обычно, и литые стальные змеи с терпеливыми глазами покорно пробивали себе дорогу через его толщу. Ворота, увенчанные рядом тупых пик, были открыты. За ними мистер Ребек увидал улицу.
– Да, вот мы и пришли, – поразилась миссис Клэппер. – Дорога так коротка, когда с кем-нибудь разговариваешь.
– Да, – согласился мистер Ребек.
Он подумал, что ворота хорошо перенесли эти девятнадцать лет, куда легче, чем он сам. Чёрная краска потрескалась в нескольких местах, и сквозь неё проглядывал ржавый металл. Но всё же это были крепкие ворота. Он тряс их однажды ночью и оцарапал себе руки о ржавчину, но прутья не дрогнули, замок не задребезжал. И было это… Да как давно? 12 лет? 15? Всё, что он помнил – это как он хотел уйти с кладбища, а ворота оказались заперты, потому что была поздняя ночь. Он всю ночь тряс ворота и здорово повредил себе руки. Но когда настало утро, и ворота открылись, он не вышел. Он спрятался в туалете и принялся лить холодную воду на свои кровоточащие руки. Затем вернулся к своему мавзолею и уснул.
– Так что же? – заговорила миссис Клэппер, – вам на метро?
Он пробормотал нечто наподобие подтверждения, подумав, что ему не надо с ней идти. Как я могу ей объяснить, что мне не пройти через ворота, что я здесь живу? Она мне не поверит, она решит, что я прикидываюсь или сошёл с ума. Я совершил ошибку, предложив ей идти вместе, не знаю, зачем я это сделал.
– Так идите же, – сказала миссис Клэппер. Она топнула ножкой и улыбнулась ему. – Чего же вы ждёте? Чтобы вам поезд прямо сюда подали?
Да, это была бы прекрасная идея. Если бы поезд подали сюда, я бы сел в него, мы укатили бы под землю, и я больше не увидел бы ворот; я знал бы, что покинул кладбище ещё до того, как мы вскарабкались бы по вырубленным в земле ступеням, и вокруг оказались бы люди. Всё это удалось бы, подойди поезд прямо сюда, и если бы кто-то был рядом.
Взглянув на свое тонкое запястье, он придумал, что делать. Он согнул перед собой левую руку и воскликнул:
– Ой, я же потерял часы!
– Что случилось? – спросила миссис Клэппер. – Вы что-то потеряли?
– Мои часы, – он попытался разочарованно улыбнуться, но зашевелился только один уголок рта, да и то дернулся резко, словно от боли. – Конечно, они были на мне, когда я пришёл, а теперь их нет. Не иначе, как я их где-то обронил.
Миссис Клэппер выразила подобающее сочувствие.
– Надо же, какая неприятность. И они были очень ценные, ваши часики?
– Нет, – сказал он, решив слишком не завираться, – но они у меня уже давно, и я к ним привязан. Они хорошо шли.
– Скажите человеку вон там, – предложила миссис Клэппер, указывая на сторожку. – Дайте ему ваш адрес, и он вам сообщит, когда пропажа отыщется.
Мистер Ребек покачал головой.
– Лучше бы мне вернуться и поискать их. А не то их кто-нибудь подберёт. Или пойдёт дождь.
– Ох, но вы же не будете ходить по всему кладбищу? Это не час и не два займет… Вы себе шею сломаете. Хотите, я пойду с вами?
Скажи «нет». Скажи «нет». Или опять придется ей лгать. А ты – никудышний лжец. У тебя 19 лет нет практики.
– Не беспокойтесь, – сказал он. – Не стоит того. Кажется, я знаю, где обронил их. Это довольно далеко отсюда.
– Ну, я надеюсь, что вы их там найдете, – сказала миссис Клэппер. – И обратитесь к сторожу, чтобы помог, если не сумеете найти сами.
Они пожали друг другу руки.
– Очень мило было с вами побеседовать, – сказал мистер Ребек. – Как жаль, что пора прощаться.
Миссис Клэппер пожала плечами.
– Так может быть, мы снова увидимся? Вы сюда часто приходите?
– Да. Я люблю здесь бродить.
– Я тоже. И уж всяко время от времени я прихожу проведать Морриса, так что, возможно, мы с вами ещё и наткнемся друг на друга.
– Вероятно, – согласился мистер Ребек. – Прощайте.
– Прощайте. Надеюсь, что вы отыщете ваши часики.
Он не стал ждать, пока она скроется. Вместо этого он поспешно повернул и пошел прочь по широкой дорожке, глядя на землю, как глядел бы человек, потерявший что-то маленькое и ценное. Только на вершине холма он обернулся и посмотрел назад. Она уже исчезла.
«Терпеть не могу лгать и прощаться, – подумал он. – Потому что и то и другое у меня выходит неважно».
ГЛАВА 4
Три человека, которые ещё не ушли с кладбища, стояли над могилой. Один из них – более полный, чем остальные. У женщины – широкие ногти, покрытые молочного цвета лаком.
– Она была такой хорошей девушкой, – сказала женщина хриплым голосом. Мужчины кивнули.
– Не совсем так, – заметила Лора Дьюранд. Она села на траву рядом с Майклом и посмотрела на тех троих. – Я просто устала.
– Хорошая, – единственное подходящее для неё слово, – сказал молодой мужчина. У него был ясный и четкий голос. – Единственное, что о ней можно сказать.
– Всю мою жизнь, – сказала Лора и кивнула.
– Умереть такой молодой, – сказала женщина. Она слегка пошатнулась, и старик её тут же обнял.
– Мне было двадцать девять, – сказала Лора. – Почти пятьдесят. Я говорила людям, будто мне тридцать три, поскольку это избавляло меня от вопросов, почему я люблю книги.
– И такая хорошенькая, – сказал молодой мужчина голосом, похожим на стук пишущей машинки. – Такая живая, такая резвая.
– О, Гэри, – немного печально пробормотала Лора и обернулась к Майклу. – Я выглядела как учительница начальной школы.
Гэри, непрестанно похлопывая женщину по плечу, вытянул шею, чтобы взглянуть на часы.
– Ему пора назад, в книжный магазин, – пояснила Лора. – Он начинает нервничать, если покидает его слишком надолго. Два года назад с ним случился приступ аппендицита, и его прооперировали прямо на прилавке отдела Общественных наук.
– Мы были больше, чем мать и дочь, – причитала женщина, – мы были друзьями. Разве не так, Карл?
Старик крепче обхватил её плечи.
– Да, мамочка, – негромко сказала Лора. – Дружба – это лучше, чем ничего. – Она приподнялась, затем опять расслабилась. – Я могу с ними поговорить? – Майкл покачал головой.
– Она была удивительной труженицей, – это опять Гэри. – Усерднейшей. Всегда – там, где она мне нужна. Не знаю, как я теперь буду обходиться без неё.
– Справишься, Гэри, – сказала Лора. – Мир полон мною, – она снова взглянула на Майкла. – Я в него одно время втрескалась, именно так, как можно втрескаться, когда тебя кормят танцами на площади у Христианской Ассоциации Молодых Женщин. Он так и не узнал. И постепенно это прошло, как нога у спортсмена.
Тут впервые заговорил старик. Голос его был низким, с легким акцентом.
– Пора идти, Мэриэн.
– Я не хочу её покидать, – теперь мать рыдала тихо и непрестанно. Гэри вытащил из нагрудного кармана платок и подал ей.
– У Гэри всегда с собой платок, – сказала Лора, улыбаясь. – И спички тоже.
– Давайте-ка пойдем, – предложил Гэри, неопределённо махнув рукой старику поверх склонённой головы женщины. – Вероятно, кладбище скоро закроется.
– Я не хочу уходить, – Майкл прямо-таки с жадностью следил, как слезы струятся из-под платка. Он давно не видел, как кто-то плачет.
– Мэриэн, – снова сказал старик.
– Подожди немного. Ну, пожалуйста, ещё немного.
– Убирайтесь прочь! – внезапно Лора вскочила на ноги, крепко уперев руки в поясницу. – Убирайтесь, чёрт возьми! – Майклу показалось, будто и она сама вот-вот заплачет, но он знал, что это не так. Он по-прежнему сидел, скрестив ноги, и подумал, что у неё чудесные волосы.
Теперь люди уходили. Женщина все ещё плакала. Гэри и старик Карл поддерживали её с двух сторон, шагали медленно и глядели перед собой. Майкл подумал, что они похожи на зрителей, которых не взволновала только что увиденная пьеса, но которых автор непременно спросит об их мнении на следующее же утро. Майкл следил, как они идут, изучая своим обострившимся после смерти зрением, как скользят и спотыкаются на рассыпанном гравии их ноги, запоминая, как старик Карл убирает руки в карманы, а несколько секунд спустя вынимает их, и так – снова и снова, морщась вместе с Гэри, когда тому в ботинок попадал камешек. Камешек особенно легко было почувствовать, благодаря быстро восстановившимся воспоминаниям о ходьбе. Он наблюдал, как молодой человек встряхивает ногу, отставляя её в сторону, словно лапку, и вместе с Гэри облегченно вздохнул, когда камешек наконец-то прочно обосновался под сводом стопы.
Внезапно Лора закричала и пустилась за ними вдогонку. Она выставила руки перед собой, как если бы боялась упасть. Бежала она неуклюже, без малейшего изящества.
– Не стоит! – крикнул ей вслед Майкл. – Ты и дотронуться до них не сможешь! – но она уже остановилась, и очень быстро направилась обратно, к нему. Ладони её быстро сжимались и разжимались, но она была совершенно спокойна.
– Не знаю, почему я это сделала, – сказала она, снова садясь с ним рядом. – Я же понимала, что это бесполезно.
– Не позволяй себе такого, – резко сказал Майкл. – Никогда не позволяй.
Лора выглядела несколько растерянной.
– Мы что, у подножия Небес? Я была уверена, что попаду на небеса. Я достаточно уныло жила.
– Мы на Йоркчестерском кладбище, – ответил Майкл. – А Небеса и Ад – это только для живых.
– Как жаль, – Лора попыталась сорвать травинку, и Майкл подмигнул ей, когда её пальцы прошли сквозь траву. Она не выразила своих чувств, разве что сжала руки и упёрла их в колени.
Майкл смутно помнил одну старую книгу с полуоторванным переплетом. В голове у него застряли какие-то строчки из неё, и он ощутил неимоверное желание их процитировать.
– «В рай, – медленно произнёс он, – попадают почтенных лет священники и старые калеки, да увечные, которые весь день и всю ночь кашляют у алтарей. У меня с ними нет ничего общего».
Лора, улыбаясь, подняла глаза и беззвучно щелкнула пальцами.
– «Нет, я пойду в Ад, – торжествующе продолжила она. – Ибо идут в Ад честные чиновники и благородные рыцари, идут туда прекрасные и блистательные дамы…», – она нахмурилась и легонько покачала головой. – Я забыла…
– «Идут туда прекрасные и блистательные дамы, – подхватил Майкл, – у которых было по два или по три друга, наряду с законным господином. И движутся туда золото и серебро, горностай и другие роскошные меха, арфисты и менестрели и счастие этого мира».
Последнюю строчку они закончили вместе.
– Я это читала, – сказала Лора, – когда мне было лет семнадцать или восемнадцать, и ужасно опечалилась. А где ты это читал?
– Это нравилось моей жене. Бывало, она все время это цитировала.
С мгновение Лора молчала.
– Забавно. Я знаю это наизусть, и все же сейчас, когда я пытаюсь это вспоминать, я чувствую, что это ускользает из памяти, удирает от меня, когда я за ним тянусь, как если бы я попыталась поймать какое-нибудь дикое животное.
– Цепляйся за это как можно крепче, – посоветовал Майкл. – И как можно дольше.
– Я никогда ни за что не цепляюсь, – ответила Лора. – Я люблю все оставлять, как оно есть, – она встала и медленно побрела к своей могиле. – А что это у неё камня нет? – спросила она. – Я думала, каждому сразу ставят надгробный камень.
– У меня его тоже нет, – сказал Майкл. – Думаю, его потом привезут. Земля должна к тебе привыкнуть.
– Моё надгробие будет маленьким и очень простым. Мэриэн помешана на простоте. Только моё имя и две главные даты: 1929-1958. И стихотворная строчка, – она поколебалась, затем улыбнулась. – «Привет тебе, весёлый дух». Готова поспорить.
– Скажи спасибо, если не «Вот-вот я встану, дабы удалиться»…
– О, мама изучает поэзию, но пока что и до Йетса не добралась, – сказала Лора. – Ещё и недели не прошло после Хопкинса.
Она протянула руку, коснулась могильного холмика и снова убрала руку.
– И я – там? То есть – моё тело?-Майкл не ответил, но она и не обернулась к нему. – Как странно.
– Как это ты так быстро оттуда вышла? – спросил Майкл. – У меня заняло тьму времени, чтобы вырваться, а ты выросла, как герань, ещё до того, как закончились похороны.
– Прелестный образ, – заметила Лора.
– Спасибо. Эх, послушала бы ты меня, пока я ещё был жив, – он подождал отклика, но отклика долго не следовало.
– Возможно, ты был не вполне готов умереть, – предположила Лора. – Я-то более чем настроилась.
Майкл ничего не сказал. Они двинулись прочь от могилы куда-то наугад, без цели, без планов, не осознавая, что идут, но с неиссякаемым изяществом. Майкл повернул голову, чтобы понаблюдать за походкой Лоры. Трава не согнулась у неё под ногами, не зашуршали негодующе и несколько прошлогодних листьев и лёгкий ветерок поднял в воздух лиловые споры каких-то сломанных растений, испускающих млечный сок, но Лориных волос не тронул.
Лора заговорила, не поворачиваясь к Майклу и очень тихо:
– Я представляю собой результат пяти минут тщетных усилий со стороны то ли Господа, то ли моего отца. Смерть – это не такая уж и значительная перемена. Это, как если бы я жила высоко над шумным городом и не могла спать, потому что оконные рамы заклинило, и в комнату долетают автомобильные гудки. Теперь я захлопнула окно, и гудки воют себе на улице. Я очень сонлива и хочу лечь, – Майкл услышал её негромкий смех. – Это тоже неплохой образ, возможно, несколько затасканный.
– Я позаботился о том, чтобы окно не закрывалось, – сказал Майкл.
– Только в твоей комнате, – разрешила Лора. – И ненадолго.
Они стояли, глядя друг на друга, и каждый видел чёрно-белый фильм о незначительной части мира.
– Я уже две недели как мёртв, – сказал Майкл. – И я кое-чему научился. Главная разница между живым и мёртвым заключается в том, что мёртвый ни о чем не беспокоится.
– Это многое объясняет.
Майкл не расслышал её сарказма.
– Да. Многое. Заботиться о вещах – это для мёртвых куда важнее, ибо это – всё, что им осталось, чтобы поддерживать сознание. Без этого сознание угасает, истощается, ослабевает, делается как шёпот. То же и с живыми случается, но этого никто не замечает, потому что тела играют роль масок. А у мертвецов масок нет. Они их сняли.
– Продолжай.
– Довольно давно я встретил человека, который мне все это объяснил. Тогда я не понял, что к чему. Теперь понимаю. А вот чего он мне не сказал – это того, что, если борешься, можно оставаться бодрствующим. Это похоже на замерзание. Надо заставить себя ходить туда-сюда и топать ногами. А не то тебя одолеет холод.
– Здесь тоже холодно, – прошептала Лора, глядя в сторону. – Я думала, что будет тепло.
– Это легкий путь, – сказал Майкл. – Так поступают все остальные. Укрываются землёй и погружаются в сон. Все. Я разбудил парочку и попытался с ними поговорить, но речь их напоминала храп, – его голос был полон презрения. – Они всё позабыли. Их души превратились в песок. Я же многое помню. Некоторые вещи позабыл, но самое важное сохранилось.
– Да. Вероятно, уходит больше времени на то, чтобы позабыть важные вещи.
Майкл покачал головой.
– Нет, это похоже на прополку. Или вроде как ты отбираешь десять книг, а от остальных избавляешься. Сама увидишь, – он улыбнулся, разумом допуская, что это – лишь сознательное усилие, но надеясь, что девушка ничего не заметила. – Я рад, что ты здесь. Мы можем помочь друг другу. Это – составная часть выживания…
Лора резко повернулась и медленно направилась к своей могиле. Майкл, растерянный, пустился следом.
– Куда ты идешь?
– Поспать, – бросила Лора через плечо. – Это тоже составная часть выживания.
– Подожди минутку! – крикнул Майкл. – Не оставляй меня одного!
– А почему бы и нет? Так и при жизни поступают. И часто этого не можешь позабыть, это слишком важно. Если тебе охота быть живым, так уж принимай всё целиком. Невозможно выбирать и невозможно отбрасывать то, что не нравится. Это – привилегия мёртвых.
– Ты должна бороться! – крикнул Майкл ей вслед. – Теперь я это знаю. Когда оставляешь борьбу – это смерть.
Лора остановилась и взглянула на него.
– Смерть – это когда больше не надо бороться ни за себя, ни за других. Мне безразлично, как ты распорядишься своей загробной жизнью. Можешь пройти курсы деревообработки или играть по переписке в шахматы, или подписаться на уйму журналов, или открыть популярный театр. Только занимайся этим спокойно. Я устала. И слишком долго не спала.
Майкл побежал за ней и настиг её у могилы. Она спокойно стояла, глядя на траву.
– Что тебя убило? – спросил он. Он почувствовал, что вопрос звучит неуклюже и крайне напыщенно, но ощутил также, что его омыло гневом, и это ощущение было знакомым и очень приятным. – Что довело тебя до смерти?
– Меня сбил грузовик, – сказала Лора. – И все внезапно поняли, что я мертва. Уходи, как бы тебя ни звали…
– Майкл Морган.
– Прекрасно. Уходи, Майкл Морган. И напиши письмо издателю. Веди свою отважную борьбу. Результат будет тот же, что и у борьбы труса. Отважная борьба – это лишь эффектное отступление. Ты прекрасно проведёшь время. А я пошла спать.
Она улеглась на своей могиле, и сразу же возникли трудности с тем, как положить руки. Она то складывала их на груди, то раскидывала, словно распятая, и наконец скрестила на животе. Затем закрыла глаза, но почти немедленно их открыла, чтобы взглянуть на Майкла.
– Ну что? Я так и буду здесь лежать, словно на горе одеял, или я могу вернуться обратно в свой гроб?
– Туда нельзя вернуться, – холодно пояснил Майкл. – Раз уж ты вышла – значит, вышла. Просто лежи здесь и думай, как это мило, что всякие нахальные птицы не будят тебя каждое утро.
Лора улыбнулась и закрыла глаза. Майкл повернулся и пошел прочь. Ему почудилось, будто он слышит, как она говорит: «Спокойной ночи, Майкл», но он пошёл дальше, не останавливаясь, раздражённый её неудовлетворенным тоном. Он был уверен, что слышал её смех.
Потеряв из виду её могилу, он сел на камень. Он был так сердит, что забыл, что делают, чтобы усесться, и сперва запутался, повиснув в воздухе. С четвёртой попытки у него что-то получилось, и он сел, подперев непозабытый подбородок воскрешённой в памяти рукой. Он довольно хорошо помнил форму и величину своих рук, но никогда не испытывал особого интереса к своему лицу, и в результате все углы и выступы, которые он вспоминал, заметно различались от случая к случаю. В данный момент подбородок оказался острее, чем при жизни, а челюсть длиннее, но он этого не замечал.
«Она нашла лёгкий выход, – подумал он. – Уснуть, забыть все, стать ничем. Это – не мой путь». Он подумал о Спортсменах и Больших людях университетского городка, которых знавал в колледже. Спортсмены возвышались над ним на лестницах и обменивались короткими тяжеловесными фразами, и он преисполнялся глубокого презрения к их восприятию жизни, как жевательной резинки, к их успехам на курсе психологии, и более всего – к их смешливым и полногрудым девушкам. «У меня высокое призвание», – говорил он себе, и подружку искал более требовательную. Большие Люди с наслаждением болтали в холлах и кафетериях, обсуждая танцы, гонки, студенческие постановки, выборы и поиски средств для каких-то фондов. Они были изящно одеты, принадлежали к почитаемым братствам, когда им задавали на занятиях вопросы – умудрялись уклониться от ответа. Футболисты приветствовали их как равных – они же футболистов приветствовали как низших, но всё-таки славных ребят. А когда они кончали курс, фирмы, занимающиеся общественными отношениями, и рекламные компании расхватывали их, словно мятные лепешки после обеда.
«Фальшь. Фальшь», – думал тогда Майкл. И теперь, сидя на камне, снова подумал: «Фальшь и подделка». Это – не обо мне, парень. Я – бодр. Я – в сознании. Я знаю, что жизнь – непонятна, непредсказуема, жестока, безжалостна, подлинна, серьёзна. Рассчитаемся. Пусть им достаются аплодисменты, субсидии, любовь. А я остаюсь в чистоте.
За годы в колледже он часто использовал слово «чистота» и много кого приводил этим в ярость. Большей частью – профессоров. Один – с факультета английского языка – огрызнулся:
– Морган, вы не больше смыслите в значении этого слова, чем барракуда!
Майкл пришел в негодование.
– Это означает – быть верным самому себе, кто бы ты ни был, – отпарировал он. – А мне нравится думать, что я верен себе.
– Ммм… – задумчиво сказал профессор. – А вы бы поплутовали малость. Немного неверности принесет вам массу пользы.
Он был уверен во всеобщей нечестности, считал честным только себя и гордился честностью, с которой он признавал честность своих доводов, а теперь он был в этом не вполне убеждён.
– Была безумная минута, – сказал он вслух, – когда я думал, что знаю, как бросают вызов смерти.
Из головы у него не шла девушка.
Вспомнив, как Лора Дьюранд улыбалась, лёжа на могильной траве, привыкшая к смерти, примирившаяся, он почувствовал себя усталым и таким же больным, как всякий раз после стычки с Сандрой. «Я, должно быть, склонен к маниакально-депрессивному психозу», – подумал он, а затем погрузился в счастливое самоуничижение с таким же любопытством, как если бы спустился по темной лестнице в подвальный ночной клуб, которого никогда доселе не посещал. Он решил, помимо прочего, что не только был дураком, завербовавшись на Корейскую войну, но и в какой-то степени лицемером, поскольку уцелел. Он почти что решил, что сейчас пойдет и простится с мистером Ребеком, терпение которого теперь воспринимал как христианское, пусть даже и бесцельное, а затем надо разыскать свою могилу и дать расслабиться напряжённым мускулам памяти. И вдруг он увидел Лору, медленно идущую к нему.
Сперва он ощутил побуждение вскочить и поспешить ей навстречу. Затем подумал, что лучше подождать, когда она приблизится, и тогда сказать: «Ванная – сзади, около выхода – о, это и впрямь тяжело, подлинная Sinatra. Не подкрадывайтесь ко мне, леди, перед вами – Майкл Морган, чистый, как вода горного ручья и непрощающий, как Бог». Наконец он просто остался сидеть на месте, глядя на землю, словно он что-то потерял.
Постепенно его ноги очутились в её поле зрения и остановились. Он знал, что она глядит на него сверху вниз и ждал, когда она что-нибудь скажет. Он подумал: «Интересно, а бывают ли у призраков нервные срывы».
– Привет, Майкл, – сказала она наконец. Он поднял взгляд и в изумлении заморгал. Восхитительно, парень, восхитительно. Благодеяние не прошло впустую.
– А я и не слышал, как ты подошла.
Майкл слабо улыбнулся.
– Мёртвые – добрые соседи, – она сделала паузу. Он не шелохнулся. Не дёргайся, мальчик, будь неподвижен, как привратник у Кафки.
– Я не хочу спать прямо сейчас, – сказала она. – В конце концов, – она поискала нужные слова, – у меня достаточно времени. Я подумала, если ты ничем не занят… – и никто из них не рассмеялся, – мы могли бы немного прогуляться. Я совсем не знаю здешние места… – она поколебалась под его взглядом, немигающим, как с удовольствием догадался Майкл. – Хорошо. – Я не смогла уснуть. Я всё ещё в сознании, и, стало быть, мне надо чем-то заняться. Ты идешь или нет? Для меня-то разница невелика.
Майкл встал и зашагал к самой старой и богатой части кладбища.
– Идём, – согласился он.
Лора зашагала рядом с ним.
– Куда мы направляемся?
Майкл ответил так тихо, что она его едва ли расслышала.
– Я знаю. Теперь знаю. Мёртвые не могут спать, – он вопросительно посмотрел на неё, и она кивнула.
– Когда я закрыла глаза, ничего не изменилось. Было так же, как если бы они остались открытыми.
– Мы не спим, – сказал Майкл. – Мы дремлем время от времени. Те, с которыми я разговаривал, ловко делали вид, будто спят, прикидывались – и больше перед собой, чем передо мной, – он ускорил шаги.
– И куда мы направляемся?
– Повидать одного человека.
– Призрака?
– Нет. Человека. Я до настоящего момента не был уверен.
– А вы бы мне поверили? – спросил мистер Ребек. Он сидел на ступенях мавзолея Уайлдера. Он казался худым и тонкокостным в своем чёрно-белом залатанном купальном халате.
– Вероятно, нет, – сказал Майкл. – Хотя вы могли бы и попытаться нас убедить.
– О, Боже! Да у вас было достаточно хлопот с тем, чтобы поверить, что вы мертвы. А я вас в этом не убеждал, вы сами себя убедили, – мистер Ребек поколебался и отрегулировал свою речь, словно рукоятку лебедки. – В нашем обществе существует два варианта, два возможных верования: либо вы куда-то уходите после смерти – либо нет. Либо вы очень громко поёте целую вечность, либо спокойно спите, пока не рассыплется этот мир. И тогда вы поплывете через космос, непробудившиеся и непробуждённые. Ни одно из двух представлений не истинно, но до этого вы должны сами додуматься.
– Я надеялась, что посплю, – сказала Лора. – Моим последним словом на этой земле, вероятно, было «Ура!»
– Ты погрузишься в дремоту, – ответил мистер Ребек. – Это почти как сон. Со временем слово «сон» перестанет что-либо для тебя значить, поскольку ты утратишь концепцию. Ты не будешь знать, спишь или бодрствуешь, и это по-настоящему не будет важно, – он сделал паузу. – И ты всё ещё на Земле. Не существует какого-либо особого мира для мёртвых, только холодные дома, которые им строят живые из уважения к отработавшим телам. Существует только Земля.
Он осознал, что в его речь прокралась некоторая ораторская торжественность. Но он не смог придумать, что сказать, дабы облегчить её вес. Глядя на мужчину и женщину, он устало подумал, что вещи всегда под конец усложняются, паутины становятся запутанными, намеревается паук кого-то туда заманить или нет. Ему очень нравились эти мужчина и женщина, и он не хотел бы, чтобы они заставляли его формулировать мысли, в которых он не уверен, пока не выскажется. Он не был ни Богом, ни Первым могильщиком. К тому же существовала миссис Клэппер.
Лора что-то говорила. «Какое у неё сладостное имя, – подумал он. – Хотел бы я, чтобы она была где-то далеко-далеко, и я мог бы её позвать».
– Как долго это происходит? – спросила Лора. Мистер Ребек моргнул.
– Прошу прощения?
– Забывание. Дезинтеграция. Предоставление вещей себе самим.
– О, понятно, – конечно же, Майкл ей сказал. – Смотря по обстоятельствам. В среднем, кажется, месяц.
– Месяц? И что же происходит потом?
– Не знаю. Ну, конечно, не знаю. Я – не Знающий Все Ответы. – Он подумал, а интересно, есть ли ещё на радио эта программа. Вероятно, нет. Надо бы спросить у миссис Клэппер.
– Я могу подождать, – сказала Лора. Майкл рассмеялся.
– Придётся.
Лора взглянула на него, как если бы он был недоеден и выброшен.
– Какой чудесный Мессия из тебя бы вышел.
– Воистину. Моим первым чудом было бы воскрешение тебя из мёртвых. Очевидно, паровым плугом.
– Ты похож на старичка из маленького города, – сказала Лора, – который был когда-то кем-то важным, и все ещё болтается в местах, где прежде работал, произнося речи по праздникам и разыгрывая из себя всё такую же важную персону.
– Возможно, – сдавленно сказал Майкл. – Но я буду каждое Рождество сидеть на твоей могиле и петь тебе рождественские гимны.
«О, ради Бога! – подумал мистер Ребек. – Заткнитесь».
И не раньше, чем он увидел их изумленные взгляды, понял, что произнёс это вслух, и уж коли так вышло, пустился дальше:
– А какая разница, кто из вас будет дольше помнить свое имя? Вы оба мертвы. Это, может быть, единственное, что у вас общего, но этого немало. У меня из-за вас голова болит. Если уж вам так охота пререкаться – уйдите и болтайте где-нибудь среди надгробий. Смерть, как и любовь, должна быть спокойной и лёгкой. Вы только время тратите, крича, что вы не уснёте, или что вы не можете спать, когда вы даже не знаете, что такое сон.
Он увидел на их полупрозрачных лицах по-детски испуганные взгляды и внезапно не смог придумать, что ещё сказать. Он ужас как давно ни на кого не кричал, и голос его звучал, словно эхо, блуждающее в пещерах. Бредовый образ летучих мышей, поселившихся у него за щеками и свисающих вниз головой с его нёба, пролетел через его сознание, и он чуть было не прыснул.
– Я здесь, знаете ли, уже давно живу, – добавил он. Затем сел и посмотрел прочь, потому что его монолог завершился.
Лора собиралась было что-то сказать, но передумала. Она сделала лёгкий бессмысленный жест по направлению к Майклу, который кивнул и подался вперед, надеясь, что мистер Ребек больше на него не взглянет.
– Почему вы пришли сюда?
И тогда мистер Ребек на него взглянул.
– Я умер, как и все остальные, – сказал он. Затем, увидев, как Лора вздрагивает, добавил. – Не то чтобы об этом было легко говорить, да это и не совсем правда, – он оглянулся на Майкла. – Думаю, я тебе говорил, что раньше был аптекарем? – Майкл кивнул. – И у меня была славная аптека, – сказал мистер Ребек. – И какой запах… То есть, там было чисто, но такой приятный запах. Словно порох и корица плюс, вероятно, немного шоколаду. У меня висел колокольчик, который звонил, когда кто-нибудь открывал двери. И звонил он, что бы ни было нужно этому человеку, был у него рецепт или нет. Имелись у меня и весы, на которых я мог взвешивать человеческое сердце. Фонтанчика с содовой водой у меня не было, но стояла баночка леденцов, чтобы раздавать их детям, когда те приходили покупать сироп от кашля или лезвия. Они называли мои леденцы конфетами из мать-и-мачехи. Не знаю, почему. Их выпускали в виде длинных желтых палочек. Не думаю, что их и теперь продают. У меня имелось все то же, что и у любого другого аптекаря в Нью-Йорке, и кроме того – немного отравы.
Задул легкий ветерок. Мистер Ребек плотнее завернулся в халат и сунул руки в карманы.
– Как-то один человек попросил приготовить для него приворотное зелье. Он был хороший человек, но очень некрасивый, с лицом, покрытым шрамами. Думаю, он был боксер, потому что его уши выдавали и потому что он частенько приходил ко мне пить кофе и всё говорил о боксе. Была и девушка, которая нередка заглядывала и порой сидела с нами. Она немного походила на тебя, Лора, но у неё волосы были светлые. Очаровательная девушка. Этот человек попросил меня приготовить что-нибудь такое, чтобы она его полюбила. Он стыдился своего лица, видите ли, и думал, что для меня это будет очень легко, все равно что солодовый напиток взбить. А я, конечно же, не мог этого сделать. Ни за что. Потому что это незаконно, и я всё равно не знал, как. Но я сказал ему, что сделаю. Но это всего-навсего устранит агрессивность и сделает её восприимчивее. А ему всё-таки придется её спрашивать, какое бы там у него ни было лицо, – он улыбнулся, вспомнив об этом. – Она была милой девушкой, и думаю, что она его и так любила. Но после того случая все стали приходить ко мне и спрашивать приворотное зелье, гороскопы, счастливые чары, да ещё и желали, чтобы я им сны толковал. Люди, знаете ли, несчастливы, и в поисках удачи за всё ухватятся. Они вели себя, как если бы я был ведьмой или каким-нибудь банальным чародеем, молили меня исцелить их детей или сделать что-нибудь, чтобы мужья прекратили пить. Я им говорил, что не могу, что я не волшебник, и одни плакали, а другие проклинали меня. То были печальные проклятия и не особенно сильные. И вот я сделал очень большую ошибку. Я пообещал попробовать. Я думал: ведь я – аптекарь, я пытаюсь помогать больным людям, эти люди тоже больны, только иначе, и я попытаюсь им помочь, хотя и не надо бы, ибо в этом мире не существует волшебников. Но они во мне, думаю, нуждались, а это важно, чтобы в человеке нуждались. И вот я смешивал разные безобидные травки и советовал подсыпать их в пищу, предлагал им спать с пакетиками муки под подушкой, потому что тогда будут сниться добрые сны. Я стал шаманом. Нью-Йоркским шаманом. Я им не собирался делаться, но так вышло. И что ещё хуже, я был не особенно хорошим шаманом. Иногда мне везло. Иногда я верно угадывал, и ребенок поправлялся или получалось нужное число. Но не очень часто. Люди, которые не верили во всю эту дребедень, перестали заходить, а те, которые верили, тоже перестали, потому что моё колдовство оказалось не очень эффективным, – руки мистера Ребека вертели и обкручивали одна вокруг другой пояс халата, но он все ещё робко улыбался. – Только по-настоящему преданные чудаки не оставили меня, а аптекарь – это, вероятно, единственный человек в мире, который не может найти им применения. Но я служил им, потому что они были одиноки и верили в меня. Я стал их пророком, для которого, может быть, пришли дурные дни, но не утратившим честь. Так что иногда я немного важничал, – он начал тихо посмеиваться от неподдельного веселья, поглаживая редкие волосы загорелой ладонью. – Я знал, что рано или поздно что-то должно случиться. То, чем я занимался, было незаконно вообще и вдвойне преступно для аптекаря, в частности. Если в аптеке объявлялся новый посетитель, что нет-нет да и случалось, мне приходилось хвататься за прилавок, чтобы подавить стремление убежать. Полицейские ещё в молодости вызывали у меня страх, и, кроме того, я боялся потерять лицензию, если кто-то вздумает устроить мне проверку. А больше ни к какому делу я приспособлен не был, – он опять привалился спиной к одной из треснувших колонн, отталкивавших небо от могилы Уайлдера. – А затем случилась забавнейшая вещь. Самая что ни на есть логичная. Я обанкротился, – мистер Ребек, отличавшийся хорошим артистическим чувством, сделал короткую паузу, затем продолжал. – Я не мог платить за аренду, я не мог платить за сырьё, я не мог платить за ремонт, я не мог платить за электричество и не мог платить адвокату, который сказал бы в суде, что я ни за что не могу платить. Когда я вышел из суда, я перевалил бы через холм и постучался бы в богадельню, да только в этом проклятом городе нет богадельни, а у меня не было денег на билет.
– И вы пришли сюда? – Лора не сводила глаз сего лица.
– Нет, – ответил мистер Ребек. – Не сразу. Я, знаете ли, был ещё молод. Я подумал: Джонатан, у тебя вся жизнь впереди, и ты её не лучшим образом проведёшь, подбирая апельсины и окурки. И вот я получил место продавца в бакалее, где мне разрешили спать в заднем помещении. Проработал я там месяца два, скопил немного денег и купил несколько новых рубашек. Затем я как-то вечером пошёл прогуляться и забрёл в места, где находилась когда-то моя аптека. Там выстроили заведение помасштабнее – одно из серии ему подобных, большое, чистое, с прилавком из зелёного мрамора, – теперь он отвел взгляд в сторону и тесно сжал руки. – И я подумал, – еле слышно продолжал он, – до чего все это забавно. Ибо они занимались тем же самым, что и я, только – с рекламой. Их вывески гласили: «Мы сделаем вас красавцем, мы вам придадим приятный запах, мы вас избавим от почечных камней, от геморроя, от одышки, от перхоти и от дурных манер. Мы сделаем вашу кожу гладкой и поможем вам сбросить сорок фунтов весу так же легко, как выведем бородавки – а это мы тоже успешно делаем, и люди пожелают с вами общаться. Приходите к нам все вы – кто безобразен, раздражителен и одинок», – он сделал паузу. – Это нехорошо – обещать людям чудеса. Я плохо поступал, когда это делал, и плохо поступали хозяева этой новой чистой аптеки. В тот вечер я ещё долго бродил и додумался до множества философских суждений, которых, к счастью, уже не помню, – он коротко рассмеялся и замолчал.
– А потом? – голос Майкла заставил голову мистера Ребека дернуться, как если бы между ними была натянута струна.
– А потом, – спокойно ответил мистер Ребек, – я напился не меньше, чем на свадьбе и на поминках сразу, и всё блуждал здесь, на кладбище, напевая себе под нос – в те дни они просто-напросто запирали ворота на засов – и вот я свалился на эти ступеньки и проспал целый день, – он пожал плечами. – Вот так и вышло, что я остался здесь. Сперва я просто думал, что немного отдохну, потому что очень устал. Но Ворон приносил мне поесть, – он внезапно ухмыльнулся. – Когда я проснулся, Ворон был здесь и ждал. Он сказал, что будет носить мне еду, пока я здесь, а когда я спросил, почему, ответил, что у нас есть одна общая черта: оба мы живем иллюзиями и верим в доброту, – мистер Ребек зевнул. – Я устал, – сказал он, словно оправдываясь, – и я хочу поспать. Он встал и выпрямился. Купальный халат обтянул его худое тело. – Я тебе говорил, Майкл, что смерть похожа на жизнь, – сонно сказал он. – И нет особенно большой разницы, боретесь вы или нет, – он повернулся к Лоре. – Разве что для тебя. Смерть каждого человека – его забота. И, спит он или не спит – менее важно, чем как он её принимает. Кое-как он её рационализирует, – мистер Ребек медленно направился к дверям мавзолея и обернулся. – Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, – отозвались они. – Спокойной ночи.
Он запер дверь, снял халат и улегся на матрасе, сделанном, в основном, из маленьких подушечек, расположенных таким образом, чтобы ему было удобно. Натянув на себя одеяло, он тихо лежал, глядя в потолок.
Кто-то произнёс его имя, и он понял, что Майкл здесь, в мавзолее. Он поразился, как же много времени ушло у Майкла, чтобы понять, что для него теперь не существует никаких физических препятствий.
– Да, Майкл?
– Не окажете ли вы мне одну любезность?
– Пожалуй. А что именно?
В голосе Майкла чувствовалась нерешительность.
– Не могли бы вы сказать… Не могли бы вы сказать мне, как выглядит эта девушка?
– Лора?
– М-м-м… М-м-м… Мне просто любопытно.
– Как я понимаю, ты её не видишь?
– Только нечто вроде общего силуэта. Волосы, фигура. Я понимаю, что она женщина. Ну, вроде бы и всё.
– Да, – сказал мистер Ребек и замолчал.
– Так что?
– Ну, она темноволосая. Глаза у неё, кажется, серые, и ещё у неё длинные пальцы,
– И это все?
– Майкл, а какая тебе разница?
– Никакой, – сказал Майкл мгновение спустя. – Просто мне стало любопытно. Извини, что я тебя побеспокоил. – Спокойной ночи.
Майкл ушёл.
– Какое славное будет лето, – сказал себе мистер Ребек. – А мне так не хватало общества.
Он подумал об осени. Это время года он всегда не любил, отчасти потому, что мысли о том, что она придёт, портили ему настроение весной. «Я заглядываю слишком далеко вперед, – подумал он, – потому что боюсь внезапного столкновения с вещами лицом к лицу». Он никогда не мог радоваться рождественским каникулам в детстве, потому что казалось, что они неотвратимо приближают его к долгому-долгому январю.
Но ночь выдалась тёплая и ароматная, и он оставил мысли об осени. «Она, конечно же придёт, как обычно, – подумал он. – Но сначала – лето».
ГЛАВА 5
Миссис Клэппер поставила будильник на 9:30, и теперь терпеливо ждала, когда он прозвонит. Она лежала на боку, отвернувшись от часов, подтянув ноги к животу и убрав одну руку под подушку. Она так основательно натянула одеяла на подбородок, что они съехали с другого конца постели, оставив ступни непокрытыми. Скрестив лодыжки, она потёрла ступнёй о ступню, однако ноги остались холодными, и она почувствовала себя уязвленной. Перевернувшись на спину, она протянула руку и, как это случалось каждое утро, убедилась, что рядом нет никого, кто, почувствовав толчок, полусонным голосом пробурчит, чтобы не мешали.
«Слишком большая кровать», – подумала она. – «Надо бы сходить к Саксу сегодня или завтра и продать её».
– Зачем тебе двуспальная кровать, Клэппер? – спросила она у потолка. – Ты что, ждёшь гостей?
Будильник издал негромкий самодовольный щелчок, и миссис Клэппер напряглась в ожидании, но звонка не раздалось, и часы что-то невинно замурлыкали сами себе. «Уже прозвонили, – миссис Клэппер с отвращением расслабилась. – Теперь уже 10 часов. 10:30. Чего вы хотите, чтобы я вам послала печатное приглашение?» Но часы никакого мнения не выразили. «Ах, чудеса науки», – сказала миссис Клэппер и, простонав, перевернулась, чтобы взглянуть на циферблат. Глаза её осторожно посмотрели из-под тяжелых век, словно два дозорных, изучающих вражескую территорию. Она отбросила с лица волосы и посмотрела на часы попристальней.
«А вам, знаете ли, положено светиться в темноте, – доброжелательно напомнила она. – Так посветитесь немножечко…»
Наконец она определила, что на часах – 9:15. Она опять упала головой на подушку.
– Пятнадцать минут. Так у меня ещё пятнадцать минут, – она помолчала, затем опять повернулась к часам и крикнула. – Так что же я должна делать эти пятнадцать минут? Анекдоты себе рассказывать? – она отвернулась и зарылась лицом в подушку.
Она подумала, что встать всегда успеет. Это, по крайней мере, доставляло ей удовольствие – прекращать трезвон. Идея эта восхитила её. Она протянула руку к часам, но затем опять убрала. Спешить было некуда. «Если я не встану, – подумала она, – у меня будет головная боль». И это почти что вытащило её из постели. Она боялась боли и, когда та возникала, выносила её со стоицизмом основательно напуганного человека. Она отбросила одеяла и начала вставать. Приподнявшись наполовину, она изменила решение. «А если я не встану, так всё, о чём мне надо позаботиться – это как бы избежать головной боли. Важное занятие». И она снова легла.
Тревога вынудила её взглянуть через плечо на будильник и определить, сколько минут должно пройти перед тем, как она честно сможет встать. Но это было бы моральной победой часов, а миссис Клэппер знала цену моральным победам, она их коллекционировала. И вот она лежала неподвижно, тяжело опустив одну руку на бёдра. Совершенно внезапно она подумала о странном маленьком человечке с кладбища. Она много думала о нём в течение двенадцати дней, прошедших с тех пор, как она навещала могилу мужа. Маленький человечек тревожил её, потому что она не могла сделать насчёт него никаких определенных выводов. «Он – джентльмен, – решила она наугад. – Джентльмен, которому не хватает винтиков». Юридическая контора Морриса на них, казалось, специализировалась. Человек, которого она встретила, всё же был не из таких.
Часы были электронные, бесшумный ход гарантировался. Фактически же они издавали слабое жужжание, которое миссис Клэппер находила бесконечно утомительным. Тиканье – понятней, да и любила она этот звук за воспоминания, которые он вызывал – о ночах, когда они с Моррисом лежали рядышком на низкой кровати с тонким матрасом, и кругом не слышалось ни звука, разве что – тик-так – словно зубы, откусывающие от ночи кусочек за кусочком. Иногда, если она долго прислушивалась, тиканье убыстрялось, и вот уже громыхало и неслось по темным туннелям в поисках чего-то там впереди, чего-то, что ещё немного подождет, чего-то сгорбившегося и красновато-светящегося. Затем она хватала Морриса за руку, словно это была не рука, а перила на длинной и кривой лестнице, и приникала к нему, вцепившись так крепко, что он шевелился во сне и говорил: «Гертруда, ну дай, пожалуйста, немного подышать, ведь ты не за аккордеон замуж пошла…». И тут всё становилось на свои места. Моррис был рядом – крепкий, теплый и брюзжащий. Часы – просто часы. А она просто лежала и не спала ещё минуту, дыша глубоко и спокойно, а затем поворачивалась лицом к мужу и засыпала.
Будильник зазвонил, жужжа, словно бормашина. Миссис Клэппер вскочила с постели и ударила по будильнику, чтобы тот замолчал. Затем села на край кровати и равнодушно пробормотала: «О, дьявол». Голова немного болела. Миссис Клэппер встала и прошлась от окна к окну, раздвигая шторы, чтобы впустить в большую комнату солнце. Стоя в солнечном свете и слегка моргая, она потянулась и зевнула с тем же здоровым наслаждением от хорошего зевка и потягивания, какое свойственно детям и животным.
– Не сделать ли гимнастику, Клэппер? – спросила она себя вслух. – Наклонись-ка и коснись руками носков.
Оглядев без любопытства свои босые ноги, она решила, что не стоит.
– Глупо начинать с этого утро.
Медленно шагая в направлении туалетного столика, она уловила своё отражение в большом зеркале на двери кладовки, и тут же принялась снимать вылинявшую голубую пижаму.
– Вэй Готт, [ 4 ] Клэппер, ты выглядишь как связка бананов, – она быстро открыла кладовку и заглянула туда мимоходом.
Одевалась она медленно, тщательно подбирая одежду. Уже стало жарко, и куда бы она ни поворачивалась, она чувствовала, что солнце припекает на загривке. Она решила запомнить, что сегодня вечером надо принять душ, а заодно и голову вымыть. Одеваясь, она мурлыкала песенку о девушке, которой мама предложила выбрать мужа – и все женихи были богатыми и преуспевающими, а девушка всем им отказала и вышла за не имеющего ни гроша студента, будущего раввина. «Враньё», – сказала она себе, как всегда, закончив петь. Но, как всегда, произнесла это беззлобно.
Одетая и умытая (косметикой она после смерти Морриса не пользовалась), она прошла на кухню, чтобы сварить два яйца. Поставила таймер на 15 минут, потому что любила яйца вкрутую и потому что ей надо было пятнадцать минут, чтобы пройтись по кухне, пуская воду и снова закрывая, включая и снова выключая газ, шаря в холодильнике и буфете, планируя, что и когда она будет есть сегодня – а то и на несколько дней вперед. Столовая была большой и тихой, и миссис Клэппер больше не нравилось здесь завтракать. Однако она продолжала есть за этим слишком длинным столом, потому что в ней была велика сила привычки.
Привычки дают чувство надежности и успокоения, создавая каждый день какую-то видимость цели.
Спохватившись, она сделала тост, и вместе с яйцами принесла его в столовую. Поставив еду на стол, вернулась в кухню за баночкой молока. Ела миссис Клэппер с аппетитом, ибо еда всегда доставляла ей удовольствие.
Во время завтрака она думала о мистере Ребеке. Её встревожило, что он так поспешно откланялся у кладбищенских ворот. «Так, может быть, он и потерял свои часы? – подумала она. – Это случается». Она вонзила вилку в оставшееся яйцо. Но пройти всю дорогу обратно, чтобы их найти, да ещё и не зная, уронил ли он их где-то здесь или потерял в метро, или дома оставил – это, поверьте мне, просто сумасшествие. Она пожала плечами, смазывая тост вареньем из черешни. А, возможно, у него есть жена, и он не хотел сразу возвращаться домой. Не будь слишком любопытной, Клэппер.
Так есть ли у него жена? Миссис Клэппер откусила немного от тоста, с удовольствием прислушиваясь, как он хрустит. С каких это пор женатый человек отправляется один бродить по кладбищу, словно ему надо составить опись? Если женатый человек идёт на кладбище, он идет навещать родственников своей жены. А значит, он, может быть, и не женат.
«Он чем-то напоминает Морриса», – подумала она.
Возможно, Моррис был немного крупнее, и брови у него были кустистые, похожие на хвосты рассерженных коней, но глаза – такие же и такая же форма головы. Моррис полностью погружался во всё, что бы ни делал, играл ли он в шахматы, читал ли книжку или готовился излагать дело. Она дразнила его за это, приговаривая: «Моррис, если ты всё время будешь вот так вот сидеть, ты и в могилу уйдешь сгорбленным, и придётся заказать для тебя специальный. гроб с выступом». На это Моррис отвечал столь слабым смехом, что его можно было бы и не услышать, если не прислушаться повнимательней, и говорил: «А мне нравится думать, что я выгляжу, как знак вопроса». Теперь, увидев этого маленького человечка, играющего в шахматы с самим собой, нависшего над шахматной доской, как если бы он собирался на неё рухнуть…
– Прекрати, Клэппер, – резко сказала она. – Ты – зрелая женщина. И даже – перезрелая женщина, если так можно сказать, – она налила в стакан молока, поспешно его проглотила и понесла посуду на кухню.
Помыв посуду и расплескав при этом куда больше, чем нужно, воды, да и с кранами намаявшись, она открыла шкафчик у холодильника и достала оттуда веник и совок. Она не была хорошей подметальщицей. Движения, необходимые для подметания, не близки к естественным, да и не грациозны обычно, и об умении подметальщика почти всегда тяжело судить непосредственно по его фигуре. Миссис Клэппер подметала пол, как если бы ожидала, что он вдруг так и содрогнется под её веником. Она ненавидела совок, потому что всякий раз, когда она опускалась на корточки и подхватывала веник поудобнее, чтобы загнать мусор на совок, немного пыли всегда оставалось у края. Она отодвигала совок назад и, протяжно ругаясь, снова набрасывалась на пыль. Но хоть щепотка пыли всегда оставалась на полу, и миссис Клэппер поднималась наконец, брезгливо фыркая, и заметала пыль под холодильник.
Закончив подметать, она взглянула на стенные часы.
«Десять-сорок, – сказала она. – Смотри-ка, а время идёт быстрее, чем можно было бы подумать. Надо постоянно чем-то заниматься, – она вспомнила, как ей говорила об этом сестра. Возможно, надо бы сегодня навестить Иду. В любом случае, надо сегодня куда-то выйти. Она убрала веник и совок и направилась к окну, чтобы выглянуть на улицу.
– Ах, – тихо проговорила она. – Какое утро!
Солнце стояло высоко и жарило вовсю, слепя миссис Клэппер отражениями в тысяче окон. Миссис Клэппер повернулась и медленно прошла в гостиную. Это была большая комната, три стены которой занимали книжные стеллажи Морриса. Месяц назад миссис Клэппер сменила здесь мебель и теперь жалела об этом. Новые стулья и диван были пышными, упругими, не поддающимися времени. Они не могли состариться, поизноситься и стать уютными. Как только исчезло то недолгое ощущение новизны, которое они внесли, миссис Клэппер снова захотелось вернуть старую мебель.
– Так чем же я сегодня займусь? – она опёрлась о книжный шкаф и праздно прошлась руками по книгам Морриса. Они всегда были «книгами Морриса». Сама она не много читала, да и Моррис после нескольких дразнящих попыток в первые годы их брака не прилагал заметных усилий к тому, чтобы приучить её читать. Ей нравилось, когда ей читали, но она всегда тут же засыпала, а Моррис улыбался, пылко похлопывал её по плечу, и усаживался поиграть сам с собой в шахматы.
– Мне бы надо сходить за покупками, – она стала загибать пальцы. – Итак, я должна пойти к Вайерману, купить буханку хлеба, немного молока, и, может быть, ещё – сахарной пудры… – Она нахмурилась. – Надо бы податься куда-то ещё. Магазин Вайермана – всего в двух кварталах. Если я пойду к Иде, то пройду мимо мясной лавки у метро. Можно заглянуть туда и, пожалуй, купить фунт отбивных и парочку бараньих котлеток… А, значит, она-таки собирается повидать Иду. Моя родная сестра. Вы можете подумать, я хотя бы иногда с ней здороваюсь? Мы как чужие…
Ида, старшая из двух сестер миссис Клэппер, никогда не была замужем, и миссис Клэппер не считала уместным приводить туда на обед Морриса. В течение 22 лет своего брака она делила с сестрой неловкий молчаливый ланч не более, чем дважды в год. Всегда, как она вспоминала, всегда был этот взгляд в глубине Идиных глаз. Я болтала с ней, я так шутила, что она смеялась и говорила: «Ай, Гертруда, меняется всё, кроме тебя». Но на дне этого смеха всегда угадывалось: «И у этой есть муж, а у меня никого нет». Встретив подобный взгляд, и сельдереем подавишься. Что тут можно сказать? «Теперь, – подумала она, – можно спокойно пойти к Иде».
Гостиная всегда была владением Морриса, как спальня – её владением. Каждый из них являлся в чужое государство с некоторой надменностью и любопытством короля, навещающего короля-соседа. Моррис умер, но комната все ещё хранила верность ему, и непонятные картины смотрели на неё со стен с ненавистью жителей завоеванной земли. Она быстро окинула гостиную и проследовала в кладовку, чтобы взять лёгкое пальто.
«Итак, я пошла навестить Иду, – подумала она, роясь в кошельке, дабы убедиться, что у неё достаточно денег. – Мы поедим вместе, поболтаем о том о сём, а, возможно, и прогуляемся в парке. И тогда я скажу: «Посмотри, Ида, вон сколько я всего купила, у меня целый фунт отбивных, и есть всё это некому, кроме меня. Пойдём ко мне домой, приготовим гамбургеры и полакомимся, как когда-то». Эта мысль ей понравилась. «Она у меня допоздна засидится, – подумала миссис Клэппер. – Я как-никак знаю Иду».
У дверей она остановилась и пробормотала: «Зай гезунд, [ 5 ] Моррис». Она никогда не могла заставить себя сказать мужу «Пока» перед тем, как выйти из дому. Да она и не хотела по-настоящему. Но и теперь она торопливо захлопнула за собой дверь, как делала и прежде, чтобы не дождаться негромкого «Гей гезунд» из гостиной.
Воздух на улице был сухой и тёплый, и она вдыхала его с истинным удовольствием, шагая не спеша к бакалейной лавке. Ранним летом в Нью-Йорке всегда прекрасно по утрам, но лишь немногие это замечают. Дети разъезжаются в летние лагеря, а двухнедельные отпуска их родителей обычно приходятся на конец июля – начало августа, когда дни наполнены скукой. Только старики знают, что такое начало лета, только они и те, кто продает мороженое в парках. Они хорошо знают это время и отчаянно любят его, потому что они не могут ничего откладывать на потом, эти люди, знающие, что «потом» не будет. Продавец покупает сам у себя стаканчик мороженого и садится в траву, чтобы его съесть или хотя бы подумывает о том, чтобы это сделать. Полицейский напевает что-то про себя и останавливается переговорить с владельцем кондитерской, который вышел наружу, чтобы подышать немного свежим воздухом, пока ещё не подул жаркий и душный ветер. Они болтают о том, как бы хорошо пойти купаться или поиграть в мяч, но для них вполне достаточно стоять здесь на углу и беседовать об этом друг с дружкой. А старухи передвигают свои стулья вслед за солнцем и вообще ничего не говорят. Они разговорятся после полудня, когда настанет другое время года, и мир будет другим, а сейчас, утром, они пялятся на улицу и даже не моргают, когда мимо проходят машины.
Миссис Клэппер знала нескольких из этих женщин, но она даже не кивнула им, проходя вдоль шеренги складных стульев. Каким-то неясным образом она всегда чувствовала к ним некоторое презрение. Она считала их йентами. [ 6 ] «Некоторые из них не старше меня, – думала она. – А сидят, как каменные, не вяжут, не читают газет и вообще ничем не занимаются. И что же у них за жизнь такая? Надо всё время чем-то заниматься, всё время двигаться, людей навещать». Она зашагала быстрее, довольная своим решением пойти в гости к Иде, и заглянула в «Молочную бакалею» Вайермана.
Вайерман стоял за прилавком: маленький грушеобразный человечек в сером свитере и коричневых шароварах. Глаза у него были чёрные и сонные, и он их не сводил с того, с кем в данный момент разговаривал. Кожа на щеках была дряблой и обвислой, челюсти под ней не угадывались, и всё лицо его казалось помятым и передёрнутым, словно платье, небрежно брошенное в угол. Свой магазин он открыл здесь на углу ещё до того, как миссис Клэппер и Моррис переехали в эти края, и она не могла вспомнить, чтобы он когда-либо выглядел иначе, и чтобы заметно изменился за эти 22 года. Его жена, его дети, его лавка – всё переменилось, увеличилось, выросло со временем, но Вайерман оставался Вайерманом. Её всегда интересовало, а какой же она ему видится.
– Ну что? – спросил он, когда она вошла. – Ну что? Как вы поживаете?
– Просто прекрасно, – ответила миссис Клэппер. – А как ваша жена? – она кивнула дочери Вайермана Саре, которая сидела у пустой корзины для молочных бутылок, читая журнал.
– А кто может пожаловаться? – Вайерман пожал плечами. – Она держится на ногах, она ест, ну, а об остальном и не следует просить у Бога.
– О Сэме что-нибудь новое есть?
За шесть месяцев до того сын Вайермана женился и переехал на Западный Берег.
Вайерман быстро взглянул через плечо в заднее помещение. Когда он опять повернулся к посетительнице, лицо у него стало, как у мёртвого.
– Нет. Так что вам угодно?
– Буханку ржаного хлеба, – сказала миссис Клэппер. – Хорошо бы без комков, две бутылки молока и баночку сахарной пудры.
Как только Вайерман повернулся, чтобы пройти в заднее помещение, где находился холодильник, миссис Клэппер вдруг так и обмерла, заметив, как он ходит. Плечи его сгорбились под серым свитером, а передвигался он мелкими шажками: одна нога скользила чуть вперед другой, а та спешила её догнать. Руки его совершали мелкие хватательные движения по сторонам, и выглядел он так, как если бы за годы воздух, который его окружал, превратился в воду.
– Как постарел, – сказала миссис Клэппер вслух. И тут же осознала, что Сара должна была её услышать. Она виновато оглянулась на девушку. Та кивнула, не отрываясь от журнала.
– Ну что, Сарочка, – спросила она, потому что не могла вынести молчания. – Как у вас дела?
– Прекрасно, – ответила Сара.
Сколько же ей лет? Восемнадцать? Девятнадцать? I Она была полновата для своих лет, прыщава и, как всегда подозревала миссис Клэппер, – самая умная в этом семействе.
– Ну и как, ты уже собираешься замуж? – громко спросила миссис Клэппер, и тут же люто себя возненавидела, так как заметила гнев в Сариных глазах.
«А что тебе надо? – спросила она себя. – Почему всем вокруг так интересно, когда и кто выходит замуж?»
Сара Вайерман решительно улыбнулась.
– Ну уж не прямо сейчас, миссис Клэппер, – её голос был абсолютно лишен выражения, и миссис Клэппер поняла, что Сара уже дала этот ответ великому множеству других старых баб, пока отец выполнял их заказы. Она не хотела, чтобы Сара смешивала её с этими бабами, но знала, что это давно уже так, и продолжила разговор, думая, что должны непременно найтись слова, которые разрядят обстановку.
– Ну что же, ты довольно скоро станешь тетушкой, – провозгласила она, думая: «Клэппер, заткнись! И, пожалуйста, не раскрывай больше рта!»
Улыбка девушки была прямой и тонкой, словно кинжал.
– Я, конечно, надеюсь, что так, миссис Клэппер.
«Заткнись, Клэппер, заткнись. Что ты себе позволяешь?..» Она отвернулась от Сары и в упор уставилась на пакетики с пшеничными, рисовыми и кукурузными хлопьями, занимавшими в магазинчике целую стену. Она уловила негромкий вздох облегчения, испущенный девушкой, и вздохнула сама, как если бы только что вышла из лифта, в котором она и какой-то случайный попутчик старались не глядеть друг на друга. Вайерман уже тащился к прилавку с её хлебом, молоком и сахарной пудрой, ставил всё это на прилавок и выписывал чек, бормоча себе под нос цифры.
– Занести всё это на ваш счет?
– Да, – ответила миссис Клэппер. Вайерман положил покупки в коричневый бумажный пакет и положил сверху чек. Она взяла пакет и зашагала к двери.
– Передайте привет жене, – она закрыла за собой дверь, не дожидаясь короткого ответа Вайермана.
Так как миссис Клэппер намеревалась навестить Иду, она поставила пакет на сгиб локтя и двинулась дальше по кварталу. Солнце вернуло ей хорошее настроение, и в течение прогулки через два квартала она почти забыла усталую вежливость в голосе Сары Вайерман. Кто-то шёл ей навстречу, и у неё ушло некоторое время, чтобы понять, кто это, потому что солнце светило ей в глаза. Узнав наконец-то Лину Вайерман, она вздрогнула. «Вэй, – подумала она. – Вот подходит тяжелая артиллерия». Возможно, загороди она лицо пакетом с покупками, миссис Вайерман её и не узнала бы, но по-настоящему миссис Клэппер на это и не надеялась; она была одной из немногих женщин в окрестностях, которая решалась разговаривать с миссис Вайерман, и та её хорошо помнила. Лина Вайерман была когда-то полной женщиной, но впоследствии похудела, и кожа свободно болталась на её предплечьях, между костяшками пальцев и у локтей, она была оранжево-белая и казалась почти прозрачной. Лина всегда носила белые туфли на низком каблуке, которые вечно восхищали сиделок, а волосы завязывала узлом на макушке, и узел имел форму и размеры черносливины. Когда-то она торговала в магазинчике вместе с мужем, но последние 10-12 лет всё больше сидела перед магазинчиком в складном парусиновом кресле, когда было тепло или – когда шёл дождь – внутри, у корзины для бутылок. Она никогда не переходила улицу и не присоединялась к старухам, сидящим в таких же креслах, а своё собственное кресло всегда ставила так, чтобы оказываться к ним спиной.
– Здравствуйте, – сказала она, когда их с миссис Клэппер разделяло ярдов двадцать.
Миссис Клэппер опустила пакет. Боже мой, что за глаза… Она вздохнула, приготовившись, по меньшей мере, к десятиминутным разглагольствованиям. Будь повежливей, Клэппер, кто-то вежлив с тобой, а ты вежлива с кем-то другим, и вот земля себе вертится. Она вызвала у себя на лице широкую и приветливую улыбку.
– Лина! – воскликнула она. – Как поживаете? Вы чудесно выглядите!
Миссис Вайерман пожала плечами и сказала «Ах», что означало: она отступила перед лицом хаоса.
– Отлично. Ну, а вы как?
– А, да ничего. Только что заходила к вашему мужу.
Глаза у миссис Вайерман были бледно-бледно-серые, как протухшее яйцо, крупные, с широкими белками – теперь же Лина сузила их, глядя на миссис Клэппер.
– Как же получается, что вы к нам всё не заходите и не заходите?
– О чем вы говорите? Я захожу, – миссис Клэппер указала свободной рукой на пакет. – Мне тоже надо есть, как и всем.
Жена бакалейщика уверенно покачала головой.
– А я помню, что каждые два дня регулярно я говорю Аврому: «А ну-ка приготовь молоко и яйца, вот придет Гертруда Клэппер, так нельзя же заставлять её ждать…» Ну, а потом вдруг – два дня, три дня, четыре дня – Гертруды Клэппер не видно. Вы что – чужая нам? Или деньги экономите? – она осуждающе взглянула на женщину помоложе. – Или покупаете теперь где-то в другом месте?
«Нет друзей, подобных старым друзьям», – с досадой подумала миссис Клэппер. А вслух сказала:
– Лина, двадцать лет я хожу за покупками к вам, так что я вас теперь, бросать должна? Что с вами? Я приношу домой продукты, я к вам не захожу пару денёчков, и оказывается, для вас это – словно я свой вклад из банка забираю, – она малость отставила ногу, пытаясь обрести равновесие, так как ей явно пришлось бы ещё немного здесь простоять. – Не забывайте, я теперь покупаю только себе, я же не ем за двоих, Лина.
Миссис Вайерман опустила глаза.
– Ах, да, простите меня. Я и забыла о Моррисе. Извините.
– Ничего, ничего, – сказала миссис Клэппер. – С тех пор уже год прошёл.
И сказала сама себе: «Моррис, прости мне, что я вообще подумала о том, что тебя можно забыть, но я не стану говорить о тебе с этой…»
– Ну, так когда же вы уезжаете, Гертруда? – миссис Вайерман снова смотрела на неё.
– Уезжаю? – миссис Клэппер заморгала от неподдельного изумления. – Лина, да что это такое? Кто уезжает?
– Я каждый день говорю Аврому: Гертруда теперь совсем одна, так почему же она кладёт свои деньги в банк? Почему она не отправится куда-нибудь путешествовать, не поедет, скажем, во Флориду? У неё есть немного денег, ей бы надо теперь ими воспользоваться и куда-нибудь съездить.
– Лина… – начала миссис Клэппер.
– У меня есть кузина, – миссис Вайерман не так легко прекращала разговор, как заводила, – у меня есть кузина, которая ездила во Флориду на Майами-Бич, – Лина наклонилась ближе к миссис Клэппер. – Она провела там две недели – и бах! – Лина щелкнула худыми пальцами. – Взяла и замуж вышла. И, между прочим, за богача.
«Что же, ты этого хотела, Гертруда, – сказала себе миссис Клэппер. – В следующий раз ты, наверное, не станешь приставать к Саре». Она глубоко вздохнула:
– Лина, я никуда не уезжаю. Ни во Флориду, ни куда-либо ещё.
Миссис Вайерман ещё больше скосила глаза.
– Зачем же вы так экономите? У вас – большой дом, и в комнатах – никого. Вам бы стоило куда-нибудь съездить и приятно провести время.
– Лина, я никуда не хочу ехать. Я здесь живу, я готовлю, я содержу в порядке дом, я хочу гулять, у меня есть вы, чтобы поговорить… – Да простит тебя Бог, Клэппер! – С чего бы это мне ехать куда-то, где я никого не знаю? Ну, куда вы так торопитесь? Зачем мне немедленно мчаться во Флориду? Мне и здесь нравится.
– Смотрите, смотрите, как она рассердилась, – миссис Вайерман улыбнулась, показывая длинные и широкие зубы. – Так кто же вас гонит? Вы просто хотя бы иногда заходите к старым друзьям поздороваться.
Миссис Клэппер вздохнула.
– Обещаю вам, заскочу через день-два, и мы сможем посидеть и поболтать, – она подумала, как бы переменить тему. – Вы сможете рассказать мне о Сэме, как он поживает.
Оранжево-белое лицо застыло в гримасе отвращения.
– О Сэме и сучке, на которой он женился, я вам ничего не скажу. Мы поговорим о чём-нибудь другом. Но не о Сэме.
– А она выглядела славной девушкой, эта Элеонора, – миссис Клэппер помнила жену Сэма: высокую женщину с приятным лицом, которая пыталась помогать в магазинчике до того, как они с Сэмом поженились.
– Сука, – резко сказала миссис Вайерман, – абсолютно ничего хорошего, поверьте мне, – и она взглянула на миссис Клэппер, словно ожидая, не скажет ли та что-нибудь в защиту Элеоноры.
– Мне надо идти, – сказала наконец миссис Клэппер. – Надо бы ещё кое-что купить, – она начала обходить Лину, которая и не пошевелилась, чтобы уступить дорогу. – Смотрите, скоро я к вам забегу, и мы посидим на улице и поедим чего-нибудь вкусненького. Ладно?
– Хорошо, – ответила миссис Вайерман. – Но вы подумайте насчет того, о чем я вам говорила – насчет Майами-Бич.
Миссис Клэппер уже благополучно её миновала.
– Подумаю, Лина. Берегите себя.
– Зай гезунд, – сказала миссис Вайерман, собираясь идти.
– А вашей хорошенькой дочке, – крикнула ей вслед миссис Клэппер, – передайте от меня привет!
И тогда миссис Вайерман улыбнулась.
– Йа, – сказала она и улыбнулась. Она ходила быстрее, чем её муж, но плечи у неё были поникшими и ссутулившимися.
Миссис Клэппер стояла посреди тротуара и следила за Линой, пока та не исчезла. Затем повернула было, чтобы идти дальше, но остановилась и зашагала в обратном направлении: откуда пришла. Она двигалась очень медленно, делая маленькие шажки.
Она слышала вдалеке голос маленького Шварца, который вез тележку с фруктами и выкликал свой товар. Голос у него был высокий и музыкальный, но он находился слишком далеко от неё, чтобы разобрать слова. Знакомая женщина, проходя мимо, улыбнулась и сказала: «Привет, Гертруда» – миссис Клэппер кивнула и заторопилась вперед, не желая остановиться и поговорить.
«Смеяться над Вайерманами – это легко, – подумала она. – Лина тупа. Она ни в чём не разбирается, и с ней смешно говорить – ну прямо как с камбалой. Вайерман не разбирается ни в чём, кроме своей торговли, у него плоскостопие из-за того, что все эти годы он стоит за прилавком, он уже забыл, что такое сидеть. И деньги для них обоих – это Бог на земле. Сара – к ней не хочется относиться сурово – хорошо, так Сара – девица что надо. А какая ей от этого польза? Родиться девицей что надо в такой семье – это проклятие. Лучше бы она вообще не научилась читать, – миссис Клэппер вздохнула. – Но я им сочувствую, что тут поделаешь? Я им сочувствую. Разве я сама такая уж ого-го, чтобы смеяться над Линой? Разве я настолько общительна, чтобы сидеть вон с теми старухами и говорить: „Лина Вайерман сидит сама по себе. Хорошо. Так почему же она не сидит с нами?” Кто они такие? Её муж заправляет магазинчиком, он продаёт людям свой товар. Так ли уж они всем нужны? А я?»
Миссис Клэппер не была слишком самоуглубленной женщиной, да и вообще не отличалась склонностью к анализу. Размышления о Лине Вайерман вызвали у неё раздражение, и она ускорила шаг, проходя мимо бакалеи, не испытывая желания снова кого-либо встретить. На секунду она увидела Сару и подумала: а интересно, видит ли Сара, как она проходит.
«Я как-нибудь в другой раз схожу к Иде, – решила она. – Сегодня у меня нет настроения гулять». Жестянка с сахарной пудрой, стоявшая на буханке хлеба, привлекла её внимание, и она попыталась вспомнить, зачем купила пудру. «Наверное, я бы могла испечь пирог, а затем позвонить Иде и сказать: „Послушай, приходи ко мне, и мы вместе кое-чем полакомимся. А не то разве кто-то может съесть целый пирог?” Она кивнула. Да, сначала она испечет пирог, а затем позвонит Иде.
Проходя мимо шеренги стульев – Моррис как-то назвал это «Рядом убийц» – она узнала старых знакомых. Как всегда, под зелёным тентом кондитерской на углу, на месте, которое принадлежало ей в силу возраста и по праву первооткрывателя, сидела крохотная седая женщина по фамилии Лапэн. Она уже была старой, когда миссис Клэппер сюда переехала, и можно было предположить, что возраст её – где-нибудь от восьмидесяти до ста. От этой женщины давно осталась какая-то иссохшая запятая. Но миссис Клэппер любила её и с удовольствием с ней беседовала.
– Эй, Лапэн! – громко сказала она. Лапэн звали Бэллой, но по имени её никто не называл. – Лапэн, подними глаза и поздоровайся со мной.
Лапэн медленно отвела взгляд от своих неизменных вязальных спиц и мотка чёрных ниток.
– А, привет, Гертруда, – сказала она поразительно низким голосом. – Ну как ты?
– Помаленьку. Ты прекрасно выглядишь, Лапэн.
Старуха хлопнула себя по груди.
– У меня здесь вот уже два дня, как что-то трещит. И всё время трещит в желудке. Ну так садись ты уже.
Миссис Клэппер покачала головой. Она никуда не торопилась, но мысль о том, чтобы даже временно занять место в ряду стульев, всегда пугала её.
– Мне буквально сию минуту надо идти, Лапэн. Поешь немного, и твой желудок не будет так сильно урчать.
Лапэн покачала головой.
– Я говорила с рабби. Он сказал, что мне в моём возрасте надо готовиться. С чего бы мне набивать себе живот? Ведь в любой день вдруг – бум! – она улыбнулась миссис Клэппер. – В любой день.
– Боже сохрани, – сказала миссис Клэппер. – Ты переживёшь и меня, и всех остальных болванов. И даже рабби.
– В любой день, – голос Лапэн прозвучал несколько обиженно, она поманила миссис Клэппер поближе указательным пальцем с длинным ногтем. – Но я готова, поверь мне. Когда я умру, в Доме Мудрецов будут читать кадиш-регулярно, как Рош Хашана. [ 7 ]
Миссис Клэппер знала, какого вопроса от неё ждут.
– Ну, а как же твои племянники? Лучше, чтобы кто-то из родных читал кадиш.
Губы Лапэн дернулись, и она сморщила нос.
– Какой там кадиш, если они неверующие, мои племяннички. Да они бы и по своим детям молитвы не прочли, – её лицо снова расслабилось. – По мне будут читать кадиш в Доме Мудрецов.
Последние тридцать лет, как знала миссис Клэппер, Лапэн жила на деньги, которые присылали ей каждый месяц три племянника. На жизнь ей нужно было очень мало, и поэтому она постоянно вносила по 5 долларов в Дом Мудрецов. Раз или два миссис Клэппер уговорила Морриса послать 10 долларов на её имя, а сама проделывала это чаще, чем давала знать старухе.
– Дом Мудрецов устроит мне хорошие похороны, – с удовольствием сообщила Лапэн.
– Лапэн, – сказала миссис Клэппер. – У меня всего несколько минут. Прошу тебя, поговорим о чем-нибудь другом.
Старуха продолжала с закрытыми глазами:
– Меня похоронят в моем лучшем платье, – она перешла на идиш, – и в гроб положат немного израильской земли.
– Ну почему ты всё время о похоронах да о похоронах? – несколько нервно спросила миссис Клэппер.
Лапэн продолжала на идише тихим и монотонным голосом:
– И я буду жить в прекрасном собственном доме. И буду жить вечно. Я буду жить в Божием…
– Ну так что? – голос миссис Клэппер зазвучал резко и раздраженно. – Так сколько же в этом доме будет этажей, Лапэн? И кто в нём будет хозяином?
Лапэн поплотнее закуталась в шаль.
– Не смейся надо мной. Мне всё равно, сколько там этажей.
Миссис Клэппер пожалела о своих словах.
– Извини, Лапэн, пусть у тебя будут прекрасные похороны, а потом живи в прекрасном доме. Ты этого заслужила.
Черные глаза воззрились на миссис Клэппер, и длинный палец указал на неё.
– И ты приходи на похороны.
– Я? – но миссис Клэппер тут же опомнилась. – Хорошо, Лапэн, приду.
– Передай моим племянникам, что я им велела, чтобы они довезли тебя до кладбища, – старуха с отсутствующим видом посмотрела вдоль по улице. – Рабби всем расскажет, как праведно я жила.
– Конечно, Лапэн. А теперь мне надо идти. Побереги себя, – миссис Клэппер почти что завернула за угол, когда услышала, что старуха зовет её:
– Гертруда!
Она обернулась и опять подошла к стулу Лапэн.
– Так что?
– Да вот я думала, – медленно сказала Лапэн, – о похоронах.
Миссис Клэппер подождала, но Лапэн ничего не сказала.
– Так что же ты думала, Лапэн?
– Ну, с тобой-то все в порядке, – Лапэн с трудом повернула голову, чтобы взглянуть на миссис Клэппер. – Ты придешь на похороны, ты скажешь: «Прощай, Лапэн», ты поплачешь, ты уйдёшь домой. Да, ты пойдёшь домой и сядешь ужинать, – она непрерывно что-то вязала из чёрных ниток. – А я…. А мне придется там остаться. Все вы пойдете домой и сядете ужинать, а меня покинете там.
Миссис Клэппер что-то пробормотала, похлопала старуху по костлявому плечу и ретировалась. Оставшийся путь она почти пробежала бегом и остановилась только в подъезде, чтобы отдышаться, перед тем как вызвать лифт. Около входа в лифт стояла скамейка с прямой спинкой. Миссис Клэппер упала на неё, словно в ванну с горячей водой. Дыхание миссис Клэппер замедлилось, стало поверхностным, и постепенно она разжала руки, которые держала сцепленными на коленях.
– Ох-ох-ох, – сказала она, – что за утро.
Приехал лифт, она зашла внутрь.
Предсказания и планы Лапэн относительно её собственной смерти не были чем-то новым для миссис Клэппер. Они следовали регулярно, как прогнозы погоды и сообщения о курсе акций. Моррис смеялся над ними, относя их за счет «озабоченности гетто по поводу супергетто», но миссис Клэппер выросла в доме и в окружении, где даже упоминание о смерти сопровождалось словами «Боже сохрани». Можно испытывать определённую гордость, если знаешь, что твои дети и твои родственники проследят, чтобы тебя похоронили как надо, со всеми подобающими почестями, но миссис Клэппер чувствовала, что Лапэн здесь заходит слишком далеко.
«И всё же? – подумала она, входя в свою квартиру. – О чем ещё остается говорить Лапэн? Её племянники бросают кости, и проигравший должен её навещать. Рабби приходит сказать, что Дом Мудрецов устроит ей хорошие похороны. О чем же ещё она может говорить? По крайней мере, она не сплетничает весь день, как другие». Перед глазами миссис Клэппер всё ещё стояли длинная шеренга стульев и старухи, склонившиеся друг к дружке, словно кусты в ветер.
Успокойся, Клэппер. Она сняла пальто и медленно прошла на кухню. Для тебя тоже приготовлено местечко в «Ряду Убийц», приходи и садись в любое время. Она убрала молоко в холодильник и направилась в гостиную.
– Так что теперь? – она в отчаянии взглянула на книги и картины, – сейчас двенадцать часов, и я вернулась к тому, что было в одиннадцать. Какие будут предложения? – но гостиная принадлежала Моррису и не имела намерения что-либо предлагать.
У миссис Клэппер, как у ребёнка, были беспокойные крепкие ноги и тьма любопытства, доходящего до истинного таланта, где угодно заплутать. Даже став взрослой, она вполне могла заблудиться в Бруклине или Квинзе. И если было хоть одно чувство, которое она могла вспомнить во всех подробностях, то это – ощущение, что она стоит на незнакомой улице под вечерним небом – часов эдак в пять – делая торопливые броски наугад то в одном, то в другом направлении и зная, что ей вовсе не туда и не туда. Она всегда боялась спрашивать людей, потому что выглядели они в чужих краях какими-то серыми и толстокожими, совсем не такими, как в Бронксе, и все шли себе мимо, не взглянув на неё, за исключением детей, которые знали, что она потерялась, и были от этого в восторге. Там не существовало знакомых станций метро, а автобусы красили в другой цвет, и номера на них висели все какие-то не те.
Создавалось равновесие сил, вроде тех, что действуют на втулку колеса, и миссис Клэппер могла оставаться на месте с полчаса или час, пока не догадывалась позвонить домой, и отец, а впоследствии Моррис, приходил и забирал её. Точно так же стояла она теперь посреди гостиной, уперев руки в поясницу, ища любой повод сойти с тёмного квадратного коврика, который оказался у неё под ногами.
Она снова подумала о Джонатане Ребеке. Интересно, а нашёл ли он свои часы. Она подумала, что часы – это маленькая вещица, их целыми днями можно искать. Вспомнив, что собиралась звонить Иде, миссис Клэппер подошла к телефону, сняла трубку и медленно положила её обратно на рычаг.
Ну, так я позвоню Иде и скажу: «Ида, приходи ко мне, потому что я – старая баба и не знаю, что мне с собой делать. Она поглядела, как минутная стрелка на циферблате кухонных часов передвинулась ещё на деление. Что ты будешь делать завтра, Клэппер? Перебери-ка лучше своих родных.
Когда она отвернулась от телефона, взгляд её упал на маленькую, в рамочке, фотографию Морриса, которую она повесила в прихожей. Она взглянула на снимок, вспоминая длинные челюсти и высокие выдающиеся скулы, брови, похожие на кошачьи хвосты, и пряди волос, свисавшие с головы, словно остатки мяса с обглоданной кости. Моррису исполнилось 59, когда он умер, но лицо его было поразительно гладким, не тронутым морщинами, как если бы ветер и вода омывали это лицо тысячелетиями, полируя и шлифуя его, убирая с него шрамы, которые оставляет человеческий гнев; не столько мирное лицо, сколько лицо, с которого исчезли все следы войны.
«А что если пойти на кладбище?» – подумала миссис Клэппер. – И, может быть, немного побеседовать с Моррисом». Она поиграла немного с телефонным диском, но так и не подняла снова трубку. Мне некуда больше пойти. Ещё несколько дней, вроде этого, и я пойду искать Лину Вайерман, мы усядемся на ящике и заговорим о том, какие паршивцы люди. Но мне этого не нужно.
Она направилась к кладовке. Кроме того, там спокойно, и я смогу подумать, чем мне заняться в последующие 30 лет.
После долгих раздумий она выбрала своё новое светлое шерстяное пальто и прошла в спальню, чтобы поглядеться в зеркало.
– Х-м-м… – пробормотала она в восхищении. – Какая ты красавица, Клэппер. Словно молодая невеста. Только… – она опять сняла пальто и вернулась в кладовку. – Только молодые невесты не ходят на кладбище. Веди себя сообразно возрасту, Клэппер.
С некоторым сожалением она надела тёмный весенний плащ и снова приблизилась к зеркалу.
– Ну, так пойдёт. На кладбище не ходят в свадебном наряде, – она улыбнулась зеркалу и вздохнула. – Будь хоть немного честна по отношению к себе, Клэппер. Да и по отношению к Моррису – тоже.
Она выключила свет и прошлась по квартире, чтобы убедиться, что электричество и газ повсюду выключены, и все краны закрыты. Наконец она остановилась на площадке и через приоткрытую дверь опять взглянула в тёмную квартиру.
– Моррис, – сказала она тихо, – я чувствую себя немного виноватой, потому что не уверена, что именно тебя иду проведать. – Она поколебалась. – Моррис, я бы тебе что-нибудь принесла, только не могу понять, что тебе нужно.
Она заперла за собой дверь и побрела к лифту.
ГЛАВА 6
Ворон устал летать. Он облетел сегодня весь Бронкс, пытаясь высмотреть ресторанчик, где продают готовые сэндвичи. Все кафетерии запрудила толпа желающих съесть ланч. Автомат же представлял собой логическую проблему, которую Ворону так и не удалось разрешить. Наконец он вырвал сэндвич с ростбифом из рук телефонного монтёра, не дав жертве нападения хотя бы развернуть вощёную бумагу. Монтёр не был философом. Он запустил в Ворона камнем. И промахнулся – у Ворона на такие вещи было чутье. И тогда монтёр побежал к полицейскому, чем-то на него похожему: полицейский также не был философом.
Но лететь до Йоркчестерского кладбища было ещё далеко, и у Ворона разболелись крылья. Он обнаружил, что борется изо всех сил, чтобы не потерять высоты, а сэндвич с ростбифом постепенно становится тяжелее с каждым взмахом его усталых крыльев. Он пролетел под станцией «Бродвей Эл», и это было ужасным ударом по его гордости. Ворон относился к поездам с глубочайшим презрением, и нередко изменял свой маршрут, чтобы пролетать над ними, как можно дольше уравнивая свою скорость с их скоростью и выкрикивая им вслед оскорбления до тех пор, пока они ещё были видны. Когда он был помоложе, он любил подстерегать подземный Лексингтон-авеню Экспресс у 161-й улицы и выкаркивать всё, что он думает о черве, который удирает под землю без малейшего признака отчаяния и что всё это – гормональное уродство.
Его юность внезапно закончилась в тот день, когда он залетел в туннель в погоне за огромным червем, визжавшим от ужаса. Даже теперь – столько лет и линек спустя он отказывался об этом разговаривать.
Устало пролетая над кладбищенскими воротами, он приметил маленький грузовичок, ехавший чуть впереди. Он узнал машину. Кладбищенские сторожа пользовались ею, чтобы ездить в дальние уголки кладбища от главной конторы у ворот. Машина катилась по мощёной дорожке со скоростью всего 20 миль в час, и, взглянув на неё, Ворон с трудом подавил внезапный импульс сесть и прокатиться. Никогда раньше он ничего подобного не проделывал. Поскольку был слишком надменен для прогулок, слишком тяжёл для телефонных проводов, слишком непопулярен для птичьих убежищ, он поразительно много времени проводил в воздухе. Он не чувствовал особенной гордости по поводу того, что родился птицей, и не расписывался ни под каким птичьим этическим кодексом, но он отродясь не видывал, чтобы птицы пользовались людскими транспортными средствами, и мысль о первооткрывательстве его мандражировала.
Решение требовалось принять быстро. Крылья стали тяжелы, как утюги, а грузовик ехал себе всё дальше и дальше. Ворон торопливо огляделся, никого не увидел, поколебался, почувствовал себя странно виноватым и, сказав: «Ах, плевать», в последний раз, хлопнув крыльями, поднял ветерок и упал, едва дыша, в кузов грузовичка.
Несколько минут он лежал на боку, довольный всего лишь тем, что дышит и чувствует, как боль медленно покидает сложенные крылья. Затем осторожно встал и взглянул на длинную откидную доску, волочившуюся по дороге, бегущей прочь от грузовичка. Возможности определить точную скорость движения у Ворона не было, но он знал, что скорость эта – выше, чем его собственный обычный быстрый шаг. И он рассмеялся, восхищаясь своей эпохальной мудростью.
– Черт возьми, – сказал он вслух. – Вот так способ передвижения. Да чтоб я когда-нибудь пролетел хоть чуток.
Он повернулся, вскочил на передний борт кузова и вытянул шею, чтобы взглянуть через узкое стеклянное окошечко внутрь кабины.
Там сидели два человека: один – огромный и смуглый по фамилии Кампос, он ссутулился на сиденье, вытянув ноги, засунув руки в карманы и закрыв глаза. За рулем же сидел парень, ничем не выделяющийся, и звали его Уолтерс. Накануне он простудился, и теперь то и дело убирал руку с руля, чтобы утереть нос рукавом. Он непрестанно говорил, жадно оглядываясь на каждом слове на молчаливого Кампоса, чтобы проверить, слушает ли тот. Кампос надвинул шапку на глаза, так что козырёк почти покоился у него на переносице.
– В самом деле, славный парень, – говорил Уолтерс, – и чертовски умелый водитель, но с неба звёзд не хватал. Он обычно нанимался в какую-нибудь косметическую компанию близ Пауфкипси. И всегда брал попутчиков. Всяких разных бродяг, знаешь ли. Чуть увидит, что кто идёт по дороге – останавливает машину и подбирает. Кого угодно. Бывало, он прикатывал в Пауфкипси с восемью-девятью ребятками на борту. Они сидели сзади, свесив ноги наружу, или – впереди, рядом с ним. Можно было подумать, что они все собрались и его наняли. И вот наконец… Эй, ты слушаешь, Кампос? – Кампос не шелохнулся, только дрогнул козырёк его шапки. – А, ну ладно, – и Уолтерс, хотя и разочарованный, продолжал. – И вот как-то подбирает он двух здоровенных парнюг в Фишкилле, а они отлупили его до полусмерти, вышвырнули из кабины и угнали грузовик. И от этого у него вроде как испортился взгляд на жизнь, – он ухмыльнулся Кампосу. – И с того самого дня никого ни за что не подбирает, – Кампос не шелохнулся. Уолтерс шумно вздохнул. – Пытаешься быть хорошим парнем, – заметил он, устремив взгляд вперёд, – но рано или поздно жизнь тебя достанет, – Кампос издал короткий и нечленораздельный звук, Уолтерс кивнул. – Да, рано или поздно, дружище, – он выглянул в окно, опять глубоко вздохнул и расчихался. – Прекрасный день, чертовски прекрасный день.
Грузовичок затрясся по немощёному участку дороги, и Кампос ещё ниже соскользнул с сиденья. Уолтерс взглянул на него малость обеспокоенно.
– Когда-нибудь ты себе на этом сломаешь шею.
Кампос опять хмыкнул.
– Отлично, – сказал Уолтерс. – Мне до тебя и дела нет, – он опять чихнул и несколько минут вел машину молча, затем снова с надеждой повернулся к Кампосу и спросил:
– Ты не слышал, какой вчера вечером был счёт? – и отодвинулся от товарища, прежде чем тот хотя бы потряс головой. – Они проиграли – пять-четыре. Сепеда забил два удара, но Киркленд ответил ему ещё двумя, и вышла ничья, – он плюнул в окно. – Эти ублюдки и так и эдак показали им игру. Они совершили четыре ошибки. Вагнер упустил мяч, а Спепсер забросил его за черту…
Он описал игру печальным тоном вестника, явившегося к Иову, торопливо моргая светло-серыми глазами, пока говорил. А Кампос рядом с ним все сползал и сползал с сиденья, то и дело хмыкая и кивая, и он мог кивать как Уолтерсу, так и кому угодно другому. Уолтерс шмыгнул, вытер нос рукавом и запел последнюю песенку Пери Комо. Он выводил мелодию так, как если бы нетвердо её помнил, и явно вздрогнул, когда Кампос рядом с ним потянулся, привстал и сказал:
– Перевираешь.
– Да, уж получше, чем любой треклятый пуэрториканец, – восхищенно сказал Уолтерс.
– Кубинец, ублюдок, – беззлобно поправил верзила. Он снова соскользнул на сиденье и выглянул в окно.
К Ворону в дальнем конце кузова присоединилась маленькая рыжая белочка, которая упала с нависавшего над дорогой дерева, когда грузовичок проходил мимо. Белочка была худенькой, с большими яркими глазами, и уселась она на одну из цепей, которые держали откидную доску. Она спросила:
– Что это ты такое делаешь?
– По своей воле совершаю путешествие, – сказал Ворон, которому белки не нравились ещё больше, чем голуби. – А на что похоже то, что я делаю?
Белочка поднесла передние лапки к пушистой груди.
– Но ведь ты же птица! – сказала она в изумлении. – Почему ты не летаешь?
– Я вышел на пенсию, – спокойно сказал Ворон.
Грузовик совершил очень крутой поворот, и белочка почти потеряла равновесие на цепи. Она испустила короткий тревожный писк и уставилась на Ворона.
– Птицам положено летать, – сказала она немного ворчливо. – Ты что, хочешь сказать, что вообще больше летать не собираешься?
Мало-помалу Ворон обратил внимание на то, что движение грузовичка по гравийной дорожке существенно отличается от полёта. В желудке у него возник слабый ропот неудовольствия – отдалённый, словно первый раскат грома во время грозы.
– Никогда, – сказал он с важностью, – отныне я навеки – пешеход.
Одну за другой грузовичок пересёк две борозды, и Ворон спокойно улёгся и воззрился на белочку, которая дважды пробалансировала, изящно махнув хвостом.
– Лично я, – изрекла белочка, – не знаю, пожелала бы я летать или нет. В конце концов, это неестественный способ передвижения, утомительный, опасный, чреватый повреждениями всех видов. О, я могу понять причины, по которой ты хочешь оставить это дело. Но в конце концов – это то, для чего ты родился. Точно так же, как и я родилась для того, чтобы стать белкой. Рыбы должны плавать, а птицы летать. Бог сотворил их всех для высоких и низких дорог, и каждому указал его владения. – Она смущенно кашлянула. – Боюсь, две последние фразы – не мои.
– Возможно, ты меня и дурачишь, – сказал Ворон.
– Любая жизнь состоит из двух основных элементов, – сказала белочка. – Цель и поэзия. Будучи самими собой: белкой и вороном, мы выполняем первое требование – ты летаешь, а я бегаю по деревьям. Но во всякой незначительной жизни есть и поэзия. И если мы её не находим, мы не реализуем себя. Жизнь без пищи, без крова, без любви, жизнь под дождём – это ничто по сравнению с жизнью без поэзии.
Ворон приподнял голову со дна грузовичка.
– Если бы я был соколом, я бы проглотил тебя в два приёма, – вяло заметил он.
– Конечно, – сразу же согласилась белочка. – Если бы ты был соколом, твоим долгом было бы съесть меня. Такова цель всех соколов: есть белок. И я могла бы добавить – сусликов. Но если бы ты съел меня, вовсе не оценив при этом своего быстрого и меткого удара сверху вниз и не ощутив некоторой жалости, вспомнив о моём бездумном и тщетном бегстве к моему дереву, где обитает моё семейство… Ну, не такой уж ты был бы тогда и сокол. Вот и всё, что я могу сказать.
Она выпрямилась, стоя на доске, как если бы стояла лицом к стрелковому взводу и только что отказалась от сигареты и повязки для глаз.
– Именно существа вроде тебя делают вещи, тяжёлые для тех, кто не борется, – с горечью сказал Ворон. Он встал и прошел в конец грузовичка, чтобы взглянуть на откидную доску. Грузовичок приближался к запущенной тропке, которая вела к мавзолею Уйалдера. Вспомнив о сэндвиче с ростбифом, Ворон вернулся и довольно неуклюже схватил его в клюв.
– Ты здесь выходишь? – спросила белочка. Ворон кивнул.
– Что же, было очень интересно с тобой поговорить, – серьёзно сказала белочка. – Заглядывай, если когда-нибудь очутишься неподалёку. У нас каждый субботний вечер бывает небольшое сборище. Если ты как-нибудь вечером будешь свободен…
Но Ворон уже удалился, тяжело взмахивая онемевшими крыльями и двигаясь над узкой тропой к мавзолею. Повернув голову, он увидел, что грузовичок, накренившись, продолжает путь. Как только грузовичок скрылся, Ворон рухнул наземь и решительно зашагал по тропинке.
«Я не мог топать пешком, – подумал он, – пока эта маленькая пушистая дрянь тявкает на меня. Белки впадают в какой-то дурацкий энтузиазм по поводу чего угодно».
Гравий скользил у него под ногами, не больно-то давая его когтям за что-либо ухватиться и вызывая в ногах боль. Приятное ощущение стремительности движения, которое он испытывал на грузовике до того, как возникло раздражение в желудке, исчезло. И появилась мысленная картина: чёрная птица, не очухавшаяся от морской болезни, спотыкающаяся на скользкой дороге и повреждающая себе ногу. Образ был совершенно неуместный, Ворон вздрогнул и прогнал его из сознания. Ибо он, неохотно и неясно, но всё же верил в чувство собственного достоинства. Но он шёл все дальше. Как-то он обернулся и увидел ласточку, кругами снижающуюся в небе. Крылья его непроизвольно дернулись, словно дети, потянувшие назад отца, но он не поддался. Он шагал по гравийной дорожке и думал о белочке.
«Организаторы чертовы, – думал он. – Чуть у тебя что-то пойдет хорошо, является кто-то и организует». Он сказал себе, что это неизбежно, что так устроен мир, но мысль эта его только завела. Он с удовольствием бы ввязался в движение, основная цель которого – хаос, ужас и дезорганизация, если бы только не знал, что подобный проект потребует самой чёткой организации изо всех возможных. Кроме того, сюда бы непременно встряла и белочка.
– Сборища по вечерам в субботу, – пробормотал он в сэндвич, ковыляя к мавзолею. – Маленькие, совсем крошечные «хот доги», надетые на зубочистки. Ишь ты… – ноги его немного ныли, сэндвич снова стал тяжелеть.
Майкл Морган не шуршал гравием, и когда он сказал: «Добрый день, птица», Ворон выронил сэндвич и тут же отскочил на четыре фута, перевернулся в воздухе, и теперь оказался лицом к приближающемуся Майклу. И выругался ещё до того, как коснулся ногами земли.
– Что ещё за шутки! – яростно каркнул он. – Что ещё за возмутительные штучки!
Майкл беззвучно хлопнул себя по бёдрам, а из его глотки вырвался раскатистый смех, безмолвный, как зигзаг молнии.
– Я не знал, что ты это так воспримешь, – он вздохнул и протянул руку, чтобы успокоить рассерженную птицу. – В самом деле не знал. Прости меня. Извини, пожалуйста, – он внимательно посмотрел на запылённого Ворона. – Почему ты сегодня такой чувствительный?
– У меня было скверное утро, – сказал Ворон. Он почувствовал, что играет в глупую игру, но он терпеть не мог, когда его застигали врасплох.
– Ты что-то уронил, – сказал Майкл, указывая прозрачной ногой на сэндвич. – И, о, Господи, почему ты не летаешь, а ходишь?
– Надоело.
– Скажи мне, почему ты вздумал ходить? Я любопытен.
– Занимайся своими дурацкими делами, – сказал Ворон, но произнес это рассеянно, словно вовсе и не думая о Майкле.
– А ты знаешь, о чём я думаю? – Майкл сложил ладони и улыбнулся. – Я думаю, что ты позабыл, как летают.
Ворон уставился на него в изумлении.
– Что-что?
– Ну конечно же, – восторженно продолжал Майкл. – Это вроде игры на фортепьяно. Ты знаешь, что прекрасно играешь, тебе даже ноты не нужны. А затем ты смотришь на свои руки и думаешь: А как же я сделал то, как я делаю это и что сделаю потом? Тут-то всё у тебя и летит. Ты забываешь, как двигают пальцами, как нажимают на педаль и даже – саму мелодию. Вот что с тобой стряслось, друг мой. Ты слишком много думал, и теперь не помнишь, как летают.
– Шёл бы ты домой, – сказал Ворон. Он ещё раз подхватил сэндвич с ростбифом и зашагал дальше. Майкл пошёл с ним в ногу, продолжая разговор.
– Это происходит оттого, что ты слишком много находишься среди призраков, парень. Это тебе вредит. Ты начал становиться одним из них. Клянусь космосом, это так. Ты начал забывать вещи и как их делают. Ты двигаешься медленно, как призраки, ибо ничто в мире не способно тебя поторопить. О, ты делаешь успехи, приятель, раз уже забыл, как летают. Ещё несколько дней – и ты сможешь вступить в наш шахматный клуб, и мистер Ребек станет переставлять за тебя фигуры.
Ворон на секунду остановился и посмотрел на Майкла, вроде как – с жалостью. Затем опустил наземь сэндвич и опять в упор взглянул на Майкла.
– Смотри внимательно, – сказал он, сделал два быстрых шага и поднялся в воздух.
Ветер вызвал у него головокружение, и он как бы слегка захмелел. Ворон облетел дерево на расстоянии нескольких дюймов, затем словно соскользнул по невидимому канату к дереву поменьше, после чего пролетел ещё 20 или 30 футов почти по прямой. Достигнув предельной высоты, он упал на одно крыло и начал медленно снижаться по спирали, словно осенний лист. Он скользил маленькими угловатыми кругами, ни разу не взмахнув крылом, пока не опустился до уровня Майкловой головы. Затем совершил неуклюжее движение крыльями, затормозил, буквально молниеносно, и уселся на дерево слева, тяжело дыша, с неровно и редко бьющимся сердцем.
Он тихонько потряс головой, недобро подмигнул Майклу и поднялся с ветки прыжком, заметно напоминающим танцевальное па. Воздух был тёплым, как свадебный пирог, и Ворон, как и рассчитывал, упал прямехонько к ногам Майкла. Майкл беспокойно отступил, подумав, раздастся земля перед крепким клювом, словно Красное Море – или нет. И как при этом Ворон будет себя чувствовать, если ему только вообще не наплевать. А затем гравий на дорожке быстро взволновался, камешки рассеялись, упало на землю чёрное перо – и вот уже Ворон кружил у Майкла над головой, держа сэндвич в клюве.
У сэндвича и у самого было тяжелое утро, а когда Ворон торжествующе закружил в воздухе, потрепанная обертка порвалась, сэндвич вылетел из клюва Ворона и несколько раз перевернулся в воздухе. Майкл поднял руки, чтобы его поймать, но затем опустил и убрал за спину. Ворон же кинулся вдогонку за сэндвичем, повернув голову, чтобы определить его траекторию. Выглядели они, как два метеора, догоняющие один другой. Затем ветка задержала на миг падение сэндвича, Ворон набросился на него и пропал за деревьями, и вот уже устремился вдоль тропы. Майкл усмехнулся с вполне подобающей долей мгновенной печали и последовал за Вороном.
Лора первая увидела Ворона с лужайки перед мавзолеем, где они с мистером Ребеком сидели. Она уже была здесь, когда мистер Ребек вышел, встал на ступеньках и зевнул. Он был чрезвычайно рад её видеть и снова удалился в мавзолей, чтобы как можно быстрее одеться, потому что смутно опасался, что она может уйти, пока он не вернется.
Но она оставалась там же, сидела на траве и с любопытством смотрела на солнце. С тех пор, как она приходила с Майклом неделю назад, мистер Ребек её не видел. Тогда был ещё июнь, а теперь – июль, нью-йоркский июль, месяц песчано-рыжих рассветов и полудней, сияние которых слепит глаза. Люди в июле реже приходят на кладбище, и розы вянут на могилах до того, как их сменят.
Лора больше не приходила, и он удивлялся, почему. Теперь же он подошёл и уселся рядом с ней.
– Привет, Лора, где ты была?
– Здесь и там, – Лора легко махнула рукой туда и сюда. Мистер Ребек видел, как она сидит на траве, а солнце светит сквозь платье, тело и кости, делая её похожей на рисунок пером; и таким же рисунком она разгуливала среди оливкового цвета папоротников, которые росли повсюду, окаймляя кладбище, словно камыши – заболоченный пруд. Она улыбнулась ему. Прошлой ночью он уже видел, как она точно так же улыбается, стоя у самых ворот с прутьями-змеями.
– Понятно, – сказал он, и это было правдой.
– Я пришла тебя проведать, – сказала Лора. – Я пришла посидеть и послушать, как ты говоришь.
– Я в восхищении, что ты здесь. О чём же мне с тобой говорить?
– О чем-нибудь из жизни. О театрах, о ценах на метро, о профсоюзах или о книгах, или о бейсболе, о международных отношениях. Или о том, сколько будут стоить бананы. Поговори со мной, пожалуйста, о чём угодно, лишь бы это только относилось к жизни.
Брови мистера Ребека пошевелились, словно советуясь, когда он попытался обдумать предложение, но Лора, определив это как признак растерянности, продолжала:
– Поскольку мне очень скоро предстоит сделать выбор, я хочу быть уверенной, что он – правильный, – она сделала паузу, и ладони затрепыхались у неё на коленях, как пойманные бабочки.
– Смерть была ко мне очень добра, – сказала она наконец. – Ты знаешь, что я теперь умею? – мистер Ребек покачал головой. – Я могу мысленно перемещаться. Я могу пронестись взад-вперёд по кладбищу по семь раз от ворот до ворот и вернуться сюда, прежде чем ты щелкнешь пальцами. Я могу кататься в повозке сторожей, где едва ли достаточно места для двоих, и слушать их разговоры. Всё, что требуется – это отбросить своё тело, словно мокрый купальник, и тогда я становлюсь собой и могу отправляться, куда пожелаю.
– В пределах кладбища, – уточнил мистер Ребек.
– Откуда вы узнали?
– Так происходит со всеми призраками. Вы можете отправляться, куда угодно, но не в состоянии удалиться от места, где погребено ваше тело. Полагаю, тому есть причины.
– А я думала, что это только со мной так, – сказала Лора. – Я думала, надо довольно отчаянно захотеть вернуться, и тогда ворота тебя пропустят.
Она взглянула мимо него, и он понял, что девушка рассматривает львиные головы у дверей мавзолея. – Но это неважно. Там нет ничего такого, что я хочу увидеть. Мне так даже больше нравится. И меня, знаешь ли, теперь никто не замечает. Даже ты, если я не захочу. Я сидела и часами следила за тобой. – Мистер Ребек вздрогнул. – Ты читал, а иногда откладывал книгу, глядел на меня и не знал, что я здесь. И, по-моему, ты читал про себя.
– Но теперь-то я тебя вижу, – сказал мистер Ребек.
– Иногда я вновь принимаю свой облик. Но не так часто, как бывало. Он тесен и вынуждает меня ходить медленней. Так было всегда. Однажды, однажды, очень скоро, я его, возможно, оставлю, и больше к нему не вернусь.
– В чем же тогда выбор?
Руки девушки прекратили перемещаться у неё на коленях, и она перевела взгляд с мистера Ребека в сторону.
– Дело в том, что я могла и ошибиться, – сказала она. – А Майкл мог быть чуточку прав. Хотя он и дурак, – она снова посмотрела на мистера Ребека. – Это похоже на последнюю минуту, перед тем как засыпаешь. Закроешь глаза – и кажется, будто всё уносится прочь от тебя, а ты куда-то погружаешься. Как в то время, когда едешь по местной линии, и экспресс проносится так стремительно, что твой поезд как будто катится назад. И просто отдаёшься падению, это легко, приятно и совершенно удивительно, но ты бодрствуешь до тех пор, пока не убедишься, что всё в порядке: свет потушен, дверь заперта, и ты сделал сегодня всё, что собирался, ничто не осталось незаконченным. Ну, а я себя чувствую неуверенно. Мне все кажется, что я забыла о какой-то двери, – она протянула руку, чтобы коснуться его руки, и мистер Ребек ощутил холодный ветерок, осушающий июльский пот на тыльной стороне ладони, прежде чем Лора отодвинулась.
– Так ты хочешь, чтобы я поговорил с тобой о жизни? – спросил он. – Я кое-что вспомнил.
– Да, пожалуйста, – сказала Лора.
Мистер Ребек сел, поджав под себя ноги, и глаза его сосредоточились на зыбких и прозрачных радужных оболочках, зрачках и веках – на глазах Лоры. И он рассказал о зоопарке, где побывал 20 лет назад или больше, он рассказал ей о гиппопотаме, который почти час жевал всё одну и ту же крохотную плитку шоколада, перекатывая её у себя во рту и плотно закрыв глаза; и о невероятно полном орангутане, который сидел и спал, точно в луже, на своей жирной заднице; и о мартышке, которая беззаботно носилась по клетке, словно моток красной ленты; и о двух белых волках; и о толпившихся в зоопарке людях; он приукрасил их всех для неё – он уже не очень хорошо это помнил, так как прошло много времени, но казалось, что Лора довольна. И вдруг она указала через его плечо и заметила:
– Возвращается Ворон, а с ним – Майкл.
Мистер Ребек повернул голову и увидел Ворона в небе и Майкла, медленно приближающегося по тропинке, наступающего на прутики, но не ломающего их.
Ворону, похоже, не хотелось приземляться, но в конце концов он приземлился, кинув на колени мистеру Ребеку потрёпанный сэндвич с ростбифом за миг до того, как коснулся земли. Мистер Ребек подумал, что Ворон вроде бы несколько нетвёрдо стоит на ногах, но глаза птицы блестели, и голову она держала, словно взведенный ружейный курок.
– Вот и всё, что мне удалось раздобыть, – сказал Ворон, указывая на сэндвич клювом.
– Только это?
– Да, дела вообще шли неважно.
– Я пошутил, – мистер Ребек развернул рваную вощёную бумагу. – Прекрасно, – он оторвал полоску мяса и предложил Ворону, который покачал головой:
– Не-не. Я сегодня утром нашел гнездо малиновки.
И мистер Ребек съел мясо сам. Лора издала негромкий вскрик ужаса.
– Так ты съел… – она не закончила. Ворон повернулся и взглянул на неё.
– Доброе утро, – сказал он радостно, – а я тебя и не заметил.
Лора оставалась в неподвижности, но, казалось, унеслась на много миль прочь от человека и от птицы.
– Ты съел яйца малиновки?
– Яйцо, – уточнил Ворон. – Если я буду съедать утром больше одного яйца, у меня икота начнётся, – он схватил мимоходом кузнечика, ткнул его клювом разок-другой, а затем выпустил в траву.
Лора обхватила одну руку другой, словно защищая что-то нежное и хрупкое.
– Но они – такие хорошенькие, такие безобидные…
– Вот как? – Ворон слегка склонил голову набок. – Значит, курица – враг народа номер один?
– Но это ведь не одно и то же. Ведь это вовсе не одно и то же.
– Черт возьми, это так! Никто никогда не говорит: «Смотрите, весна пришла. Я только что видел первую курицу». А слыхали вы когда-нибудь песню о том, как красногрудая курица прыг-прыг-прыг – прыгает по дорожке? О дьявол, да если вы половину того, что говорите о малиновке, будете говорить о такой милой птичке, как сарыч, она станет национальной птицей года, – голос его понизился до нормального тона. – Люди поощряют самых что ни на есть проклятущих птиц. Вы видите, как малиновка убивает червя, и тут же – «Держись, красногрудая! Помощь идет! Подожди, вот я достану мою старую армейскую винтовку, и мы поборемся с этим чудовищем! Я и ты, птичка! Плечом к плечу! До самой смерти!» Но вот вы видите сову, завтракающую полевой мышью, и тут же образуете Комитет, чтобы устроить марш на Вашингтон, и заставить их там принять закон, гласящий, что отныне совы могут есть только капусту и яблочные пироги. А теперь возьмём червей. Хорошо, они не интеллектуалы, но они тяжело работают. Средний червяк – это славный маленький парнишка, что-то вроде крохотного бизнесмена. Он тихий, он улучшает почву, он никому не мешает, он ведёт добрую унылую жизнь, и этого беднягу – три шанса против одного – нацепляет на крючок какой-нибудь ребятёнок, если только не съедает малиновка. И это считается правильным, потому что червяк скользкий и не умеет петь. Но ребятёнок стреляет в малиновку из рогатки, и сорок лет спустя пишет в автобиографии, как не понимал до того случая, что такое смерть. Или возьмите белок, – глаза его вспыхнули. – Вот что я думаю об охоте на белок…
– Но ты и сам ешь червей, – напомнила ему Лора.
– Конечно. Но я, по крайней мере, не зову фотографов.
В этот момент до них добрел Майкл, и мистер Ребек внезапно осознал несопоставимость его шага и Лориного. Лора двигалась, как головка одуванчика в день, когда то и дело веет ветерок и едва ли касалась земли. А если и касалась, это казалось случайным, не имеющим значения, ибо она не оставляла следов даже на самой мягкой почве, и камешки не отскакивали из-под её ног. И стояла ли она на земле или на древесном сучке или на крохотном шипе розы, она воспринималась отдельно от земли, ветки или колючки.
«Ну, а Майкл, – подумал мистер Ребек. – Нет, Майкл ходит медленно, потому что поглощен воспоминаниями о том, как себя чувствуют при ходьбе. Он должен проложить дорогу, по которой идёт, и для него нет ничего приятного в осознании, что с каждым его шагом дорога уходит назад. Он ступает тяжело, ударяя ногами о землю и надеясь ощутить боль, которая возникает, если шагать так, словно наступаешь на горящую сигару. Но боли нет, и Майкл не оставляет следа, который показал бы, где он прошёл». Вслух он сказал:
– Доброе утро, Майкл.
– Э… – сказал Майкл. Он увидел Лору. – Привет, Лора.
– Привет, – наблюдая за его приближением, она планировала добавить что-нибудь вроде «Все ещё успешно борешься?», но увидела, как он ступает, увидела, с каким отчаянием цепляется за реальность, и как отчаяние это заставляет его выглядеть ещё менее реальным – образ, навязывающий себя миру, – и она промолчала. «Что же могла означать для него жизнь, – подумала она, – что он так за неё держится?» Она ощутила некоторую ревность.
– Эй, Морган!
Майкл поспешно повернулся к Ворону.
– Да?
– Я, знаешь ли, должен тебе кое-что сказать, – сообщил Ворон. – Суд над твоей старушкой назначен на восьмое августа.
Пожалуй, Майклово сердце пропустило бы удар, или застучало бы, как барабан, или помчалось бы, словно бегун на дистанцию в милю, или проделало бы любую другую вещь из тех, что проделывают сердца – да вот только у Майкла сердца не было, и даже последнего грязного уголька не осталось, и никогда ничего не будет снова.
– Над моей старушкой? – переспросил он медленно и несколько глупо.
– Над Сандрой, – чтобы у кого-нибудь не отвисла челюсть, ему понадобилось бы больше самообладания, чем было у мистера Ребека. – Над твоей женой, Майкл.
– Да я и сам знаю, над кем! – закричал на него Майкл. Он и не знал, что сердит, пока не ответил, и он вовсе не собирался так громко кричать. Но все они глядели на него.
– Помню, – сказал он. – Так что же с ней?
– Я просмотрел парочку газет, – сказал Ворон, – и там на первой странице – она. Выглядит несколько встревоженной.
Майкл подумал о Сандре. Он не вспоминал её примерно с неделю. То есть, вспоминал частенько, но как-то так, как думают о больном зубе: он, конечно, всё болит, и здоровые зубы с ним вместе, но можно жить и принимать всё как есть во всех других отношениях день за днем – главное, стараться не трогать его языком. А язык можно натренировать, как сердце и сфинктер. Требуется только сила воли и побольше свободного времени.
– Я даже и не знал, что её арестовали, – сказал он Ворону.
– Я бы тебе раньше сказал, да больно редко читаю газеты. И то все чаще спортивный раздел. Ей предъявили обвинение по всей форме после того, как тебя похоронили, и, вероятно, с тех пор об этом пишут на первой полосе.
Лора, слегка нахмурившись, перевела взгляд с одного на другого.
– Не думаю, что я что-то понимаю.
Ворон наградил её быстрым взглядом золотых глаз.
– Не расстраивайся. Никто не расстроен.
– Но за что судят жену Майкла? – не отставала Лора. – Что она натворила?
– Да отравила меня, к черту, – быстро сообщил Майкл. Он и не взглянул на Лору. – Я же тебе рассказывал.
– Нет, – возразила она. – Не рассказывал.
– Конечно же, рассказывал. А не то, как ты думаешь, почему я сюда попал? Объелся что ли? Я тебе точно рассказывал, просто ты забыла, – он обратился к Ворону. – И всё это время она была в тюрьме?
– Гм-м. Убийц первого разряда на поруки не отпускают.
– Сандра в тюрьме, – сказал Майкл, пробуя слова на слух. – Странно звучит. Она не собирается признать себя виновной, чтобы тут же с этим покончить?
– Невозможно, – сказал Ворон. – Это – не для убийц первого разряда. Ей надо не признавать вины, или они не будут играть. Здесь есть свои правила, знаешь ли, как и во всём.
– Невиновна! – Майкл уставился на птицу. – И это она собирается сказать суду?
Ворон заскреб когтями землю.
– Я не юрист. Я просто прочел парочку газеток.
– А, но ведь она не сумеет выпутаться, – теперь Майкл завёлся. – Она меня отравила основательно, как подобает.
– Ну, фараоны так и думают, – сказал Ворон. – И большинство репортёров тоже. Я принесу тебе завтра газету. Постараюсь отыскать по-настоящему приличное издание.
Майкл, казалось, не слушал его.
– Что же она может заявить? Несчастный случай? Это у неё явно не пройдёт. Они захотят узнать, где она раздобыла яд и как подсыпала его мне в стакан.
– Они нашли яд у неё на туалетном столике или где-то там ещё, – сказал ему Ворон. – Она уверяет, что ничего об этом не знает, что она его не покупала и вообще не знала, что он имеется дома.
– Жизнь полна сюрпризов.
– Сам знаешь, – Ворон почесал клювом зудящую ногу. – И всё же она не собирается заявлять, что это несчастный случай. Не для печати.
– А что же тогда? Промысел Божий?
– Нет, – Ворон бросился ещё на одного кузнечика и оглушил его, ударив оземь. На то, чтобы пожрать добычу, у него ушло недопустимо много времени, и Майкл потерял терпение.
– Ну, так что же тогда?
Ворон покончил с кузнечиком и сказал:
– Самоубийство.
Затем начал охотиться в траве за новыми насекомыми, потому что кузнечики – вроде земляных орехов, одним не насытишься.
ГЛАВА 7
Все глядели на Майкла: мистер Ребек, Лора и Ворон. Все глядели на него. Он почувствовал себя, как если бы сострил, а они упустили самое главное, и теперь все подались в его сторону, ожидая кульминации, той наиблистательнейшей кульминации, которая имеется только в отличных шутках. Или как если бы кто-то спросил: «Как поживаешь?», а механическое устройство, которое всегда отвечало за него на этот вопрос, заржавело и сломалось, и он никогда уже не сможет отвечать на дежурные вопросы, как на них отвечают другие. Он надеялся, что мистер Ребек что-нибудь скажет, но тут же подумал, что лучше бы самому заговорить с Вороном, пока мистер Ребек ничего не сказал. И вот Майкл медленно покачал головой, чтобы показать, что изумлён. Более чем изумлен. И спросил Ворона:
– Она утверждает, что я покончил с собой?
– Хм… Хм… – Ворон отыскал ещё одного кузнечика. – Она утверждает, что вы вместе пропустили на ночь по стаканчику, затем легли спать, а, когда она проснулась, ты был уже мёртв.
Майкл постарался не смотреть на Лору.
– Но это же бред! С чего бы мне себя убивать?
– А я – не твоя матушка, – сварливо ответил Ворон. – Видишь ли, всё, что я знаю, я прочёл в газетах. Ну, а там с ней беседуют и спрашивают: это вы сделали? Она отвечает, что нет. Они говорят: хо-хо. И вот она предстанет перед судом восьмого августа, – он повернулся к мистеру Ребеку. – Я собираясь проветриться. Тебе что-нибудь принести?
Мистер Ребек достал полпинтовую жестянку молока.
– Большое спасибо за сэндвич.
– Пожалуйста, мне не трудно, – сказал Ворон. – Заодно полетаешь там да сям. Пока, – он захлопал крыльями.
– Подожди минуту, – попросил Майкл. – Ты можешь кое-что узнать?
– Что именно?
– Не прикидывайся дураком, – огрызнулся Майкл. – О Сандре. Что творится в суде. Ты не мог бы следить за газетами? Я хотел бы знать, как проходит процесс.
– Можно догадаться, – Ворон стремительно стартовал, описал длинный эллипс и вернулся, воспарив у них над головами. Скользя в воздушном потоке, он все накренялся и накренялся, стараясь оставаться в пределах слышимости.
– Буду следить. Возможно, и газетку принесу, если попадётся.
– Спасибо! – крикнул Майкл. И тогда Ворон умчался, летя под некоторым углом к ветру. Баночка из-под молока покачивалась у него в когтях. Иногда он соскальзывал на крыло по причинам, которых не понял бы мистер Ребек. Но крылья взмахивали легко и сильно, неся Ворона над верхушками деревьев.
Майкл следил за Вороном, пока тот был различим, и не обернулся даже, когда птица пропала из глаз. Он знал, что справа сидит мистер Ребек и смотрит на него, подперев кулаком подбородок и растерянно моргая. Майкл знал, что он не станет задавать вопросов, он вежливый человек и ждёт, когда Майкл сам коснётся этой темы. А если не коснётся, то мистер Ребек заговорит о чём-то другом и больше ни разу не упомянет Сандру. Некоторое время в их отношениях, пожалуй, будут присутствовать неловкость и напряжение, но исходить они будут только от Майкла. Он окажется поставлен в неудобное положение человека, частную жизнь которого искренне уважают, и он слегка возненавидел за это мистера Ребека. Но он услышал у себя за спиной смех, который начал подпрыгивать и кувыркаться в горле у Лоры задолго до того, как выплеснулся в пространство между нею и Майклом. Когда она рассмеялась, Майкл повернулся к ней и спросил:
– Что тут смешного?
– Да всё, – радостно сообщила Лора. Она смеялась так, как плачут немногие призраки, не позабывшие ещё, как это делать: спокойно и непрерывно, потому что нет ни слёз, чтобы их вытирать, ни угрозы головной боли, ни лица, которое рискуешь запачкать. Ничто не может по-настоящему остановить этот вид плача или смеха, и Майкл подумал: вот она, сила, которая может со временем согнуть его, а затем огрызнулся.
– Прекрати! – сердито сказал он. – Ей же надо что-то заявить.
Лора по-прежнему смеялась. Майкл перевел взгляд на мистера Ребека.
– Она не может признать вину и не признала бы даже, если бы могла. Тогда её приговорят к пожизненному заключению.
Совершенно внезапно Лора прекратила смеяться, и там, где только что звенел её смех, возникло ослепительное молчание, вроде того, что висит в воздухе, когда пройдёт поезд.
– А если они докажут её вину? – спросила Лора. Но Майкл все думал о том, что Сандра в тюрьме, и ничего не ответил.
– Её бы убили, – сказала Лора, – как они обычно делают. Если подсудимый виновен – это прямо азартная игра.
Майкл все ещё ничего не говорил. Мистер Ребек потянулся и встал.
– Наверное, для неё лучше умереть, – медленно произнес он. – Возможно, она не хочет сидеть в тюрьме.
– Никто не хочет, – нетерпеливо вставила Лора, – но женщины не бросаются своей жизнью просто так. Женщины – подлинные игроки. Они ставят только наверняка, – она снова оглянулась на Майкла, который на неё не смотрел. – А ведь забавно выходит, – задумчиво продолжала она, – вот здесь у нас Майкл Морган, мечущийся туда-сюда в своей могиле, топающий ногами, твердящий всем и каждому, что он так сильно любил жизнь, что его от неё отрезали. Убитый мужчина, вопиющий о справедливости. Каждый, кому слышен его голос, известным образом потрясён, – она снова рассмеялась. – И я тоже. Я думала, что он дурак, но он выл так громко и производил такой шум, что я начала удивляться. И вот наконец…
– Заткнись! – рявкнул Майкл. – Заткнись и поживее! Ты не знаешь, что несёшь.
– И наконец, – продолжала Лора, – выясняется, что он, возможно, сам проделал эту операцию. Ура. Прекрасно. Удачное завершение. И так далее. Ты молодец, мальчик.
– Сандра, – хрипло прошептал Майкл, – то есть, Лора, заткнись и оставь меня в покое. Я себя не убивал. Клянусь Богом, я себя не убивал.
Но голос Лоры все равно звучал, не смеясь больше, и даже немного дрожа, но всё равно чистый и безжалостный, и Майкл больше не мог остановить этот голос, чем прочнейшая изгородь из колючей проволоки – самый небрежный ветерок.
– И теперь вся эта история его ужасно волнует. Он хочет выйти. Он считает, что если он достаточно громко закричит, то проснётся, – она снова попыталась рассмеяться, но дрожь в голосе ей помешала. – Чёрт тебя возьми, Майкл, на некоторое время, пожалуй, на несколько минут, ты и в самом деле тронул меня, показался мне символом неуничтожимости жизни или чем-то вроде того. Подлинным греческим вызовом смерти. Человек против Ночи. Куда бы ты ни пошла, дорогая, я буду с тобой. Занавес. Все встают взволнованные. Оркестр исполняет большое танго из второго акта, – она вздохнула. – О, ладно, не обижайся, Майкл. Ты просто оказался перед запертой дверью. Вот и всё.
Она встала и провела руками по платью сверху вниз, хотя ни одной травинки к нему не прилипло.
– Прощайте, мистер Ребек. Спасибо, что побеседовали со мной. Прощай, Майкл!
Она начала удаляться. Иногда её ноги касались земли, а порой – нет.
– Женщина! – крик Майкла подскочил, разорвался и распустился в голове мистера Ребека, вызвав несильную боль. – Я себя не убивал! Разрази меня гром! У меня не было намерения себя убивать! Я был слишком высокомерен для всяких треклятых самоубийств. Для меня это – всё равно что убить Бога или нарисовать усы святым в Сикстинской капелле. С чего бы мне кончать с собой? Вот этого-то она не сможет объяснить, и вот здесь-то они её поймают. Мы выпили на ночь, мы легли, и я проснулся мёртвым. Здесь возможно расстройство желудка, но это не самоубийство!
Лора остановилась, когда он только-только закричал, но не обернулась. Майкл быстрым жестом изобразил, будто чешет голову, и внезапно изрёк:
– В любом случае, моя могила – на освящённой земле. Я, знаешь ли, католик. Не очень хороший. Но я никогда не забрасывал Церковь. Думаю, я был чересчур ленив. Но разве меня похоронили бы здесь, на освящённой земле, если бы думали, что я совершил самоубийство?
Тогда Лора обернулась.
– Не знаю, – медленно сказала она. – Я не подумала об этом.
Майкл сделал несколько шагов по направлению к ней и остановился.
– Я не покончил с собой. Я знаю это так же хорошо, как ты знаешь что-либо здесь, на кладбище, где исчезают и рассыпаются в прах любые мысли. Это – совсем не такого рода затея, на какую я бы пошел.
– Как сказала мать, когда её сын, придя в ярость, разнес на кусочки двух старых леди, водителя автобуса и начальника пожарной части.
– Нет, ничего подобного. Послушай меня, Лора. Когда мне было восемнадцать или двадцать, я знал всё, кроме того, что хотел знать. Всё – о людях, о поэзии, о любви, о музыке, о политике, о бейсболе, об истории, и довольно бойко играл джаз на пианино. А затем я отправился путешествовать, потому что мне казалось, будто я могу что-то упустить, и было бы недурно научиться этому, прежде чем я получу диплом, – он слегка улыбнулся молчаливой Лоре и чуть повернулся, чтобы обращаться и к мистеру Ребеку. – И чем старше я становился, чем дальше заезжал, тем делался моложе, тем меньше знал. Я чувствовал, как это со мной происходит. Я мог всего-навсего брести по грязной улице и чувствовать, что вся моя мудрость улетучивается, всё, о чём я писал в студенческих работах. Пока наконец перед тем, как всё потерять, я не сказал: «Хорошо. Извини меня, я был молод, у меня была девушка, и я не знал, что может быть лучше. Нелегко остаться совершенно невежественным. Прости. Оставь мне самую малость, ровно столько, чтобы завести семью. И я буду этим удовлетворён, и не стану никого беспокоить. Я выучил свой урок. Возможно, я напишу книгу». Затем немногое, ещё остававшееся, тоже ушло, и я очутился посреди мира в полном одиночестве – вне сомнений, я был теперь глупейшим из людей, когда-либо почесывавших голову. Всё, что, как я думал, я знал о людях и о себе – всё это пропало. И только и осталось, что голова, полная смятения. И я даже не понимал в точности, что меня гложет. Я лишился всего. И я сказал: «Какого дьявола! Ведь я – дурак!» Мысль эта показалась мне достаточно разумной. И тогда я вернулся домой и стал преподавателем.
– Потому что не мог заняться ничем другим? – спросила Лора. – Я слышала о таком и раньше, но никогда по-настоящему в это не верила.
– Нет, потому что так я чувствовал себя в безопасности. Оказалось, очень приятно вернуться назад в колледж. Я кое-что знал о колледжах, я рассчитывал, что там на некоторое время останусь, буду преподавать и попытаюсь кое-чему научиться. А когда я снова стану мудрым и цельным, тогда снова покину колледж, куда бы ни собирался идти дальше. Но вот только мне это понравилось. Мне это очень нравилось Вот я и остался. Полагаю, я совершил компромисс. Так можно сказать, если выбираешь. Но я чувствовал себя спокойно, и некоторое время спустя счёл себя достаточно мудрым, чтобы ночью отыскать дорогу домой. Всегда существовали книги, которые стоило прочесть, и пьесы, которых я не видел, а летом мы с Сандрой… – он понял, что колеблется, но продолжал. – Мы вместе ездили в Вермонт. Летом я частенько писал статьи – нечто вроде исторических эссе. Я собирался составить из них книгу. А иногда сочинял стихи в ванной. – Он ждал, что Лора что-нибудь скажет, но она молчала, и он продолжал. – И вот у меня всегда было, что делать, и что я сделал бы, и куда пойти, и что планировать. Это – разумный стиль жизни. Я наслаждался жизнью и хорошо проводил время. А чего ещё можно просить?
– Много чего, – негромко сказала Лора, – если ты жаден. Я когда-то была жадной.
– Я тоже. Но это было давным-давно. Человек особенно жаден, когда рождается, а затем это в нём постепенно ослабевает и ослабевает. Проживёшь до двухсот лет, и уже ничего не захочешь.
– Проживи до двухсот лет, и уже ничем не сможешь воспользоваться.
Теперь они глядели в упор друг на друга и уже не обращали внимания на мистера Ребека. А он опёрся о дерево и наблюдал за ними. Ногти его вонзились в древесную кору, и под них попали крохотные щепочки. Муравей перевалил через плечо мистера Ребека и пропал в трещине коры.
– Я собираюсь сказать кое-что немного жестокое, – сообщил Майкл. – Я-то сам к этому не стремлюсь, но именно так это должно прозвучать. Ты не против?
– А какая разница? Продолжай.
– Ну, вот ты попала сюда, – начала Майкл. Он попытался кашлянуть, но позабыл, что при этом испытывают, и у него вышло нечто больше смахивающее на свист. – То есть, ты кажешься счастливой. Счастливее, чем прежде, или, иначе говоря, как я понимаю, жизнь твоя отнюдь не была захватывающей, не так ли?
– Нет, – ответила Лора. Мистер Ребек подумал, что у неё какая-то слишком снисходительная и мудрая улыбка, что Лора как бы слишком tout comprendre est tout pardonner. [ 8 ] – Не такой уж и отчаянно-унылой, если хочешь. И слушать мне тебя не тяжело.
– Ладно, – сказал Майкл. И начал снова. – Но всё равно: ты себя не убивала, верно? Ты не бежала навстречу этому грузовику, словно это был почтальон или возлюбленный, из-за одного только чувства одиночества. Неважно, как ты устала и неважно, каким всё было чертовски дрянным, ты попыталась уберечься. Разве не так?
Улыбку смыло с её лица, словно краску с ресниц в дождь. Девушка начала было что-то говорить, но Майкл продолжал, ничего не замечая.
– Ты бросилась прочь от смерти, а не к ней. Таковы человеческие инстинкты. Ты не стремилась умереть. Но главное не это. Все дело в том, что когда пришла минута сказать смерти да или нет – а у тебя не было времени выбирать – ты попыталась не умереть, имея меньше стимулов жить, чем множество других людей, ты предпочла жизнь, правильно? – он торжествующе подмигнул мистеру Ребеку и засунул бы руки в карманы, разве что давным-давно позабыл, на что эти самые карманы похожи.
Лора стояла совершенно неподвижно. Очертания её показались мистеру Ребеку чуть менее резкими, чем прежде, чуть менее различимыми на взгляд, она стала для него как бы ещё чуть прозрачнее. Она крутанулась на одной ноге, отворачиваясь, словно соскучившийся ребенок, и в этот миг движения её ничем не напоминали скользящий камешек или бумажный самолетик.
– Не знаю, – сказала она, – Майкл едва ли разобрал её слова. – Нет, я не стала бы… Не знаю…
– Оставь её, Майкл, – сказал мистер Ребек еле слышно. Или он это только подумал и ничего не произнёс. Майкл не обратил внимания на его слова.
– Ты бы не покончила с собой, – сказал Майкл. – О, я уверен, ты об этом думала. Люди, пока живы, обо всем думают. Но ты откладывала до утра, а утром надо было вставать и идти на работу. Это у всех так. И я такой же, – он сделал широкое размашистое движение обеими руками. – Но в нужный момент я никогда не оказывался один. И ты тоже.
– Не знаю, не знаю, – сказала Лора. Настал миг, когда они с Майклом притихли в ожидании и равновесии, и были неподвижны, словно флюгеры ласковым летним утром, а мистер Ребек опёрся о дерево, соприкасаясь с шершавой корой сквозь лёгкую рубашку и желая продлить навеки прекрасное мгновение. Но мгновение прошло, чары развеялись, и Лора побежала. В бегстве её не было стремительности, и ничто не напоминало о перьях или копытах, она бежала по-женски, согнув колени, выставив руки немного вперед и слегка ссутулив плечи. И, пока она бежала, казалось, что силуэт её меркнет, словно у мыльного пузыря, приближающегося к солнцу. Майкл окликал её, но она всё бежала, пока её не остановила крона черешни. Тогда он умолк. Его правая ладонь сжималась и разжималась, и он не сводил глаз с черешни.
И вдруг подошел к дереву, у которого стоял мистер Ребек. И сел.
– Послушай, объясни мне как старший: что я сделал?
– Не знаю, – ответил мистер Ребек, – но она сильно расстроена.
– Прекрасно. Я тоже расстроен, – он подумал о карикатурах Турбера и ухмыльнулся. – Все мы расстроены. Но почему она расстроена больше, чем я? Она же не самоубийца!
– Ты уверен? Она – нет.
– Я-то, конечно, уверен. Такие самоубийством не кончают. Такие живут надеждой и всё ждут или телефонного звонка, или телеграммы, или письма, или стука в дверь, или случайной встречи на улице с кем-то, кто увидит, как они прекрасны. Они думают о том, чтобы покончить с собой, но ведь если покончишь с собой, как потом ответишь на телефонный звонок?
– Интересно, – пробормотал мистер Ребек. – Конечно же, некоторые из них…
– О, конечно, с некоторыми это случается. Они устают от вздорных писем, где адрес отпечатан с помощью восковки, а конверт заклеен весьма грубо. Но не эта. Она бы себя не убила. Она могла бы себе позволить проиграть идею, потому что никто бы и не попытался доказать, что она об этом задумывалась. Ну, а что касается, меня, то у меня бед хватает. И если кто-то имеет право расстраиваться, так это я.
Мистер Ребек повернул голову и взглянул на него:
– Майкл, ты всё ещё уверен, что тебя отравила жена?
– Уверен? Чёрт возьми, да я всего лишь удивлен, что она прибегла к яду. Мне всегда так нетрудно было вообразить себе Сэнди с мясницким ножом в руке.
– И что же случилось? Ты помнишь?
– Ну, если по существу, – ответил Майкл, – то вроде бы в тот вечер мы отправились в гости. Не помню, к кому, но здорово уверен, что там было что-то вроде приёма. И, кажется, проходило это не ахти как. А когда у нас с Сандрой начинается грызня, нам все равно, где мы. Однажды мы едва ли не перегрызли друг другу горло на спектакле в «Метрополитен Опера», и нас выставили. Очень вежливо.
– Почему же ты был таким забиякой?
Майкл пожал плечами.
– В любом случае, мы пришли оттуда домой и, возможно, помирились, а, возможно, и нет, – внезапно он усмехнулся. – Думаю, и то, и другое. Помню, Сандра приготовила два напитка, а это, как правило, означало предложение помириться. Но потом она ушла в спальню, а я лёг в гостиной, значит, у нас должны были продолжаться настоящие боевые действия, – он подтянул к себе колени и взглянул через лужайку туда, где кончалась тропа. – Мы не были тем, что можно назвать «дружная семья».
– Ты её очень любил, – сказал мистер Ребек.
Майкл принял это за вопрос.
– Гм-гм. Да, были такие странные моменты. Она – не из тех женщин, которых можно любить сколько-нибудь продолжительное время, – он резко покачал головой. – И вот я удалился в одиночестве на свой диван и быстро уснул. Это должно было её задеть. Затем – и это я помню очень четко – я проснулся весь в поту. А в желудке было такое ощущение, словно я проглотил горячую металлическую плиту, – он взглянул на мистера Ребека. – И я сразу же понял, что Сандра меня отравила. Я не подумал, будто съел тухлое яйцо или что-то ещё. Попытался встать, но не смог. Подумал: «Добилась, сука». Сука и вправду своего добилась. Затем всё пропало – я умер, а когда я пришел в себя, надо мной пели что-то наподобие «Гаудеамус игитур». А остальное ты знаешь.
Майкл поднялся и сделал несколько шагов, топая тем самым особенным образом, который уже раньше подметил мистер Ребек.
– Я помню всё, как если бы это происходило сейчас. Я попытался это забыть, как забыл многие стихи и то, стал ли я полным профессором. Но это не уходит. Она вполне может выкрутиться, сказав, что я покончил с собой. Я не удивился бы, если бы так случилось. Но я знаю, что меня убила она так же определённо, как и то, что я мёртв.
Мистер Ребек медленно выпрямился.
– Что же, мы можем проследить по газетам, как идет процесс.
– А мне всё равно, как он идет. Если её признают виновной – прекрасно. Это не вернет к жизни доброго старого меня, но это было бы прекрасно. А если решат, что невиновна – ладно, я-то знаю, что виновна, и буду испытывать чувство умиротворения, – теперь он стоял посреди лужайки спиной к мистеру Ребеку. – И всё же мы вполне могли бы понаблюдать, как идёт дело. Вот дьявольщина-то, – внезапно он обернулся. – Но я хотел бы знать, какого рода причину для моего самоубийства выдвинет Сандра. Она – девочка с богатым воображением, но это стоит больших денег.
– А она не может сказать, что ты… Ну, впал в депрессию в последнее время?
Майкл фыркнул.
– Вот как раз из-за этого-то мы и сцепились. Я не был в депрессии. А она считала, что в моем положении любой человек должен впасть в депрессию. В моем положении – она об этом так говорила, как если бы я связался с какой-нибудь индейской съестной лавкой, – он снова резко качнулся и, беспокойно крадучись, направился к подножию мавзолея. – Возможно, что-то такое и было, но Сандра плясала вокруг костра, вопила, как ведьма, и подливала керосину.
На миг мистер Ребек подумал, что Майкл содрогнулся. Образ Майкла заколыхался и вроде как начал меркнуть. Затем снова стал прежним, словно отражение в воде, которое лишь на миг разбил камень.
– Она ничего не имела против того, чтобы я преподавал. Не думайте. Просто она хотела, чтобы я стал важной персоной. Ей постепенно надоело готовить обеды для меня и немногочисленных учащихся и после этого проигрывать в гостиной запись «Трёхгрошовой оперы». Она была жадной женщиной, моя Сандра, она хотела, чтобы я реализовал себя, чтобы стал всем, чем, как она считала, я могу сделаться. Жадная женщина. Впрочем – весьма сексуально привлекательная. У неё были прекрасные волосы, – и вот он замолчал, остановившись перед грязно-белым зданием и не бросая тени на запертую дверь.
«Какая подходящая ситуация, чтобы мудрый и понимающий человек сказал несколько слов, – подумал мистер Ребек. – Надо бы мне такого выписать. Возможно, я мог бы поместить в газете объявление. Ворон мог бы что-нибудь посоветовать. И нам бы удалось заполучить к себе мудрого и понимающего человека. Ведь кто-то должен таким быть».
Майкл глядел прямо перед собой и наконец, не поворачивая головы, спокойно сказал:
– Вот идет твоя леди.
– Что? – не понял мистер Ребек. – Кто идет?
– Да, чёрт возьми, вон она приближается по тропинке. Ты её не видишь?
– Нет, – мистер Ребек медленно подошел к Майклу. – Пока что не вижу. Скажи, кто там.
– А ты её знаешь. Вдова, та самая, у которой муж похоронен где-то неподалёку.
– А, знаю, – сказал мистер Ребек. Он встал на цыпочки и вытаращил глаза. – Да, я её вижу.
– Вероятно, снова идет навестить своего мужа, – сказал Майкл. Он смотрел мимо мистера Ребека. Мистер Ребек куснул костяшки пальцев.
– О, Боже мой, – сказал он. – О, Господи!
– Ты, похоже, нервничаешь. И, можно сказать, преждевременно. Не уйти ли мне отсюда куда-нибудь и не посчитать ли собственные пальцы?
– Нет-нет, – торопливо сказал мистер Ребек. – Не надо, – он начал отступать, волоча ноги и не сводя глаз с приближающейся маленькой фигурки.
– А она довольно-таки основательно дала кругаля, чтобы навестить своего мужа, не так ли?
– Да, я как раз об этом подумал.
– Если ты пытаешься спрятаться за меня, – сказал Майкл, – это кажется несколько бессмысленным.
Мистер Ребек прекратил пятиться.
– Я не прятался. Но я хотел бы подумать, что же мне ей сказать? Что я могу сказать?
– Что-нибудь прекрасное, – беззаботно ответил Майкл. Он начал медленно уплывать, словно уносимая течением лодка. – Что-нибудь нелепое и прекрасное.
– Я бы хотел, чтоб ты остался, – сказал мистер Ребек.
– А я подумал, что хорошо бы мне пойти и поискать Лору. У тебя и так есть общество, а ей его, возможно, не хватает, – он ухмыльнулся мистеру Ребеку через плечо. – Просто будь тёмен и очарователен.
Мистер Ребек следил, как Майкл удаляется по тропе. Голова высоко поднята, выше, чем он её обычно держал. Иногда он пытался небрежно смахнуть с дороги камешек или сломанный прутик, но не так, как если бы ожидал, что они отлетят. Мистер Ребек поймал себя на том, что у него перехватило дыхание, когда Майкл поравнялся с миссис Клэппер. Мистер Ребек почти ожидал, что образ женщины на мгновение затмится, как солнце, когда его закрывает проходящий мимо тонкий клочок облака. Позднее он уже не помнил, что испытал это чувство, но в дальнейшем испытывал его ещё несколько раз – и ни одного похожего случая также не помнил.
Но двое встретились на тропе, достаточно широкой только для одного, ни один не отступил, и при этом ни образ женщины не затмился, ни силуэт призрака не стал менее прозрачным. Мистер Ребек подумал, что Майкл шепнул что-то на ушко миссис Клэппер, когда они проходили друг через друга, но у мистера Ребека не было времени задаваться вопросом, что бы это могло быть. Потому что миссис Клэппер увидела его и помахала рукой. Затем заулыбалась и зашагала быстрее.
Майкл тоже помахал рукой мистеру Ребеку. Этот небрежный жест походил на колыхание отдаленного флага. И тут же Майкл исчез за черешней. Мистер Ребек ждал приближения миссис Клэппер. Он думал: «Возможно, она просто скажет: „Привет, не правда ли, сегодня прекрасный денёк?” – и пойдёт туда, где погребен её муж. Это было бы, конечно, самое лучшее, самое лучшее для тебя», – он прислонился к дереву, убрав за спину руку, уперев ногу в корень и стараясь выглядеть «пооптимистичнее». Это всегда было одно из его любимых словечек.
Миссис Клэппер остановилась на краю лужайки и несколько неуверенно воззрилась на него. Затем сделала несколько шагов по направлению к нему и сказала:
– Эй! Привет!
– Привет, – ответил мистер Ребек. – Рад вас видеть, – это было правдой, но он тут же подумал, а следовало ли ему это говорить, так как миссис Клэппер поколебалась, прежде чем заговорила снова.
– Что-то мы с вами всё время сталкиваемся, верно? – наконец заметила она.
– Таковы, думается, наши привычки. Вряд ли очень много найдётся людей, которые проводят летние вечера на кладбищах.
Миссис Клэппер рассмеялась.
– Ну, а где сейчас можно провести вечер? Парки кишат детишками, они повсюду играют, орут, стреляют хлопушками, дерутся. Куда лучше тихо и спокойно подремать в прачечной. Кладбище – это единственное место, где можно услыхать свои мысли.
– Я обычно много хожу по музеям, – сказал мистер Ребек. Он охотно делал бы это. – Да, я много хожу по музеям. – И тут же испугался: вдруг она спросит, в каких музеях он бывал, а он не сможет вспомнить ни одного названия.
– Опять прямо как Моррис, – миссис Клэппер увидела, что мистер Ребек обескуражен. – То есть, Моррис тоже был помешан на музеях, – она шмыгнула носом. – Двадцать два года я ходила с Моррисом по музеям. Раз в неделю начиналось: «Гертруда, давай пойдём в музей. Гертруда, сегодня прекрасный день, давай сходим в „Метрополитен”, там большая выставка. Гертруда, здесь музей, давай заглянем на минутку». Извините, я находилась по музеям, и некоторое время ничего такого больше не хочу видеть. Возможно, позднее.
Она глядела в сторону холма, где находилась могила мужа, и голос её зазвучал чуть медленнее и тише. Мистер Ребек опустил глаза и сосредоточился на своей правой ноге, которая с силой уперлась в утолщение корня. Корень стал немного скользким из-за того, что ночью накануне прошел дождик, и нога мистера Ребека малость съехала вниз. Внезапно рассердившись, он перенёс всю тяжесть тела на правую ногу и ударил стопой по гладкой темной коре. Только на миг он оставался в равновесии, затем его ботинок, визжа, соскочил с корня, и мистер Ребек накренился вперед. Миссис Клэппер подбежала к нему торопливыми шажками, но он уже твердо стоял на ногах и бормотал:
– Нет, нет, нет, со мной всё в порядке, – и протестующе махал рукой.
– Ай-ай-ай, – сказала миссис Клэппер, – вы поскользнулись.
– Я потерял равновесие. «Пусть это будет тебе уроком, Ребек, – подумал он, – ты – отнюдь не добродушный малый, и твоя большая ошибка – прикидываться, кто ты таков, и ты на этом можешь погореть, точно так же, как и другие люди, которые воображают себя изящными и оптимистичными. Да, оптимистичными», – он торопливо вздохнул, прощаясь с этим cловом, точно с уходящей любовью, и отпустил его.
Он хотел, чтобы миссис Клэппер что-нибудь сказала. Она очень мило выглядела в своём весеннем пальто. «Не красавицей», – подумал он. Красавица – это слово, которым называют молодых. Красота – это фаза, через которую проходишь, вроде прыщавости. А миссис Клэппер была великолепной, потрясающей. Самой потрясающей женщиной из всех, которых он когда-либо видел. Но он понимал, что она принарядилась, чтобы почтить память своего мужа и, помимо восхищения, испытывал некоторую тоску. Вероятно, она много дней обдумывала свою сегодняшнюю встречу с покойным Моррисом, планируя, что надеть, когда прийти, сколько оставаться, размышляя, а будет ли погода хорошей и как досадно получилось бы, если бы из-за погоды пришлось остаться дома, тщательно отсчитывая деньги на метро, сколько бы это теперь ни стоило и опуская их в карман пальто перед тем, как выйти из дому, следя за названиями станций, которые проходит поезд, потому что с каждой станцией она все ближе к месту, где лежит её муж. «Интересно, – подумал он. – А в скольких остановках отсюда она живет?»
Она не принесла цветов, и это тоже удивляло. Большинство людей усыпает надгробие цветами, пока оно полностью под ними не скроется.
– Пришла вот навестить мужа, – сказала наконец миссис Клэппер, как если бы догадывалась, о чем он думает.
– Знаю, – сказал мистер Ребек. Миссис Клэппер снова отвернулась в сторону, чтобы взглянуть на холм, и он подумал, что она сейчас уйдет. Она и в самом деле начала двигаться в сторону холма, не оборачиваясь больше.
«Могла бы, по крайней мере, попрощаться», – подумал он и приготовился сказать нечто вроде: «Не стану вас задерживать», когда миссис Клэппер обернулась. Она стояла твёрдо и незыблемо, обеими руками держа сумочку.
– Вы могли бы пройтись туда со мной, – сказала она, – если вы ничем не заняты.
– Ничем, – ответил мистер Ребек. – Я просто бродил по окрестностям, – он ощутил, что у него вдруг вспотели руки и подумал, а не испугался ли он. В желудке у него похолодело.
– Заодно бы и своего друга навестили, – сказала миссис Клэппер.
Мистер Ребек вспомнил о своём предполагаемом знакомстве с Уайлдерами и кивнул.
– Да, – сказал он. – Здесь так спокойно, и мы были добрыми друзьями, – он хотел обо что-нибудь опереться и отвел руку назад, но не смог отыскать дерева. – Если вы собираетесь навестить мужа, – продолжал он, – вам, наверное, лучше пойти одной. То есть, я-то ничем особенным занят не был, – это ей вполне можно сказать. – Но, может быть, вы предпочитаете пойти туда одна…
– Я не люблю ходить одна, – ответила миссис Клэппер, – скромное общество никогда и никому не вредило, – она улыбнулась, и её подвижный рот зашевелился быстро, словно пена на гребне волны. – Вы опасаетесь, что Моррис будет против?
– Не совсем так, – начал было мистер Ребек. – Я просто подумал…
– Моррис не был бы против. Идёмте, – она почти что протянула ему руку, затем уронила её вдоль туловища, – идёмте, мы побеседуем как двое друзей и произведем там некоторый шум. Тишина-это хорошо, но всё хорошо в меру, а здесь иногда становится слишком тихо.
Постепенно ощущение холода в желудке у мистера Ребека пропало, его сменило ощущение тепла – вроде того, которое излучает глоточек хорошего вина – словно новое солнце разгорелось вдруг посреди промёрзшей вселенной. Он почувствовал, что оторвался от себя, покинул свою оболочку и с интересом прислушивается, как голос его говорит:
– Спасибо. Я вам с удовольствием составлю компанию.
Вдвоём они медленно взошли на пологий холм, за которым маячило белое сооружение на могиле Морриса Клэппера, рядом с которым низкорослые деревья, окружавшие его, казались ещё меньше. Мужчина и женщина не разговаривали и не смотрели друг на друга: тела их шагали, но души оставались на лужайке, покинутой ими несколько минут назад, перед другим сооружением – для них всё длилось прекрасное мгновение, когда одна предложила, а другой принял.
И внезапно перед ними выросло здание: колонны, волюты, мрамор и железо – куда огромней, чем мавзолей Уйалдера, и всё же фундамент его даже не угадывался. Мистер Ребек, только что сделавший открытие, что миссис Клэппер несколько меньше ростом, чем казалась, принялся смотреть на неё сверху вниз.
– Какая громадина, – сказал он. Он так и не сумел полюбить мавзолеи, особенно большие, но как следует постарался, чтобы в его голосе прозвучало восхищение.
– Я захотела, чтобы он был большим, – ответила миссис Клэппер, – я хотела, чтобы все знали, кто здесь погребен. – Она остановилась на мгновение, чтобы вытряхнуть камешек из туфли. – Я, знаете ли, не была обязана устраивать ему пышные похороны, то есть, в завещании ничего об этом не говорилось. Его партнер мне сказал – партнера зовут мистер Хэррис – так он сказал: «Знаешь, Гертруда, всё, чего хотел Моррис – это тихие скромные похороны, возможно, парочка друзей – и никаких речей ради Бога». Он сказал: «Поверь мне, Гертруда, мы частенько об этом говорили, и он повторял, что не хочет, чтобы ты стреляла из лука над его могилой или приглашала Великого Раввина», – подняв брови, она взглянула на мистера Ребека. – Он чуть ли не на колени встал. Ну, так я ему сказала: «Мистер Хэррис, я хочу, чтобы вы знали: я ценю вашу заботу об интересах Морриса…» – да, примерно так я и сказала. – «Только я думаю, что знала своего мужа самую малость лучше, чем вы, извините, потому что я была его женой. У Морриса будут пышные похороны», – сказала я. – «И много народу. А ещё для него будет выстроен огромный дом, мраморный, такой, какой он хотел. Возможно, вы не хотите платить за такие отменные похороны, мистер Хэррис, ладно, я сама заплачу. И не указывайте мне, как хоронить моего мужа», – сказала я ему. – «Когда вы умрёте, Боже сохрани, у вас, возможно, будут тихие скромные похороны, и никого на них не пригласят, а на могиле построят что-нибудь, размером с сырницу, но не учите меня, как мне хоронить моего мужа».
Заканчивая рассказ, она ускорила шаг и дышала теперь несколько тяжелее. Мистеру Ребеку пришлось сделать три резких шага, чтобы попасть с нею в ритм.
– Мы могли бы идти и помедленней, если вы устали, – предложил он. С мгновение она глядела на него так, как если бы он выскочил из-за куста и схватил её за руку. Затем улыбнулась.
– Нет, – сказала она. – Со мной всё в порядке.
Но замедлила шаг столь же неожиданно, как до того ускоряла.
Поднявшись наконец на низкий холм, они повстречали мужчину и женщину, которые приветствовали их, как своих спасителей и спросили, не знают ли они, где находится какая-то могила. И мистер Ребек совершил ошибку, выйдя из роли случайного посетителя, ищущего покоя. Он им объяснил.
Он тщательно давал им указания, ни на миг не заметив внезапного изумления в глазах миссис Клэппер. Те двое устали, сердились друг на друга и казались совершенно потерянными, и ему было приятно, что он им может помочь. Поэтому он и пустился в такие подробности. Он сказал, по какой дороге надо идти и на какие тропинки сворачивать, чтобы найти нужную дорожку, посоветовал считать мраморных ангелов, велел повернуть направо у очередного ангела, и ещё добавил, что могила, которую они ищут, очень близко к тропе, и они её легко найдут. Мужчина и женщина были ему очень благодарны и, когда они двинулись дальше, женщина обернулась и помахала ему рукой. Он помахал в ответ.
Наконец он повернулся к миссис Клэппер, встретился с ней взглядом и понял, что совершил тактическую ошибку. В глазах её задумчивость смешалась с удивлением и некоторым ужасом. Она ещё ни разу на него так не смотрела, и страх, который обычно легко приходит к чувствительным людям, одолел его. Он как-то не подумал, какое впечатление могут на неё произвести его познания. Его спросили, куда идти, как происходило время от времени в течение девятнадцати лет, а он знал дорогу. Теперь в лучшем случае эта женщина обратит внимание на его необычность, возможно, сочтет его ненормальным, и уж всяко – человеком с феноменальной памятью. Её это позабавит, кажется, её легко позабавить, но со временем она станет думать о нем, как не совсем о человеке. И это – ещё лучшее, что может случиться. А в худшем случае это её не позабавит. Она забросает его вопросами, и ему придется врать, как уже однажды приходилось. Это угнетало его. Не хотелось снова ей лгать, да и знал он, какой он неумелый лжец. Прежде чем те двое скрылись из виду, он отвернулся и посмотрел на мавзолей, засунув руки в карманы и запрокинув голову.
– Ну что же, – сказал он, надеясь, что вид у него оценивающий, но дилетантский. – Это, конечно же, огромный дом, – и попал в точку. Не требовалось прожить девятнадцать лет на кладбище, чтобы до такого додуматься. Можно просто взглянуть на мавзолей и увидеть, как тот огромен. – Да-да, конечно, – снова сказал он.
Миссис Клэппер позади него сказала:
– Надеюсь, они найдут ту могилу, которая им нужна.
– Я тоже, – сказал мистер Ребек. – Я бы очень легко мог их послать не в том направлении, я был не вполне уверен.
– О! – миссис Клэппер теперь стояла с ним рядом. – Вы казались таким уверенным.
– Ну, знаете, как это бывает, – мистер Ребек с надеждой улыбнулся ей, – человек терпеть не может, когда другие думают, будто он не знает, как куда-то пройти.
Миссис Клэппер ответила улыбкой.
– Конечно, я понимаю.
Наступило долгое молчание, во время которого мистер Ребек рассматривал мавзолей мистера Клэппера с безумным восторгом, а миссис Клэппер рылась в сумочке, ища платок. Ей пришлось его как следует поискать, потому что она смотрела на мистера Ребека, а когда платок нашелся, она немного подержала его в руке, а затем снова запихнула в сумочку.
– Какой-то там надгробный камень, – спокойно сказала она. – Это меня всегда доставало. Мавзолей – да-да, мавзолей, это я ещё могу понять. Но какая-то каменная плита, одна из тысячи, из пяти тысяч – здесь требуется очень хорошая память.
– А у меня очень хорошая память, – сказал мистер Ребек. Что же, пусть это будет чудом для гостиных. – Я могу взять колоду карт, и…
– Да, я вижу, что у вас – хорошая память, – рассеянно сказала миссис Клэппер. – Это, должно быть, истинное благословение. А вот я… Я вечно что-нибудь забываю. Так вы нашли свои часики?
Вопрос был задан настолько ровным, без всякого выражения голосом, что мистер Ребек лишь мгновение спустя осознал, что это вообще вопрос. А осознав, поспешно ответил, не глядя на свою руку:
– Да, нашел. Как раз на Фэарвью-авеню, примерно в миле от ворот. Я их, наверное, уронил, когда разговаривал с вами, и даже не заметил этого.
Говоря, он взглянул на свое запястье. Как и вся рука, оно было загорелым и покрытым редкими черными волосками. Он не сразу поднял глаза.
– Сегодня я оставил их дома, – негромко сказал он. – Их надо починить, – он медленно поднял глаза и посмотрел на миссис Клэппер. – Небольшая неисправность.
Долгое время миссис Клэппер смотрела на него, а он – на неё. «Нет ничего удивительного в том, чтобы встретиться с кем-то взглядом, – подумал он, – глаза немного спустя начинают слезиться и шея устает, но душа далека от поверхности глаз, и даже не знает, что же там, вовне, творится». И тогда он снова посмотрел на миссис Клэппер. Прямо в глаза и с достоинством. И смотрел, пока она не начала расплываться и выходить из фокуса. И наконец миссис Клэппер первая отвела взгляд. Она подошла к ступенькам мавзолея и села.
– Хорошо, – сказала она. – Забудем это. Забудем, что я о чем-то спрашивала. Женщине не следует играть в детектива. Это вынуждает людей ей лгать, и тогда она их ловит на лжи, и начинает гордиться собой. Забудем, о чём я спрашивала. Я – вздорная старая баба, и я слишком многое хочу знать. Не рассказывайте мне ничего.
Мистер Ребек потер рукой загривок и почувствовал, что загривок потный. Совершенно внезапно он улыбнулся и сказал:
– Подвиньтесь-ка.
Миссис Клэппер несколько удивлённо заморгала и слегка подвинулась на ступеньках мавзолея.
– Мне надо с минутку подумать, – он сел рядом с ней и уставился в землю. Он чувствовал, что она смотрит на него, но не поворачивал головы.
«Ребек, – думал он. – Ты достиг одного из тех Перекрёстков, о которых так много написано. И это – первый твой перекрёсток за долгое время. Думаю, тебе стоит обратить на него самое пристальное внимание и тщательно его изучить. Однако, не задерживайся надолго, пожалуйста. Перекрёстки обладают гипнотической силой. Ты можешь там стоять и смотреть до бесконечности, все записать, как советовал Уитмен, и забыть о Кресте. – Он взглянул на своё запястье: – Если бы ты сколько-нибудь долго носил ручные часы, на запястье у тебя, там, куда не попасть солнечным лучам, появилась бы белая полоска. Поздравляю, Джонатан. Вы с миссис Клэппер должны открыть детективное агентство… Должен ли я ей сейчас все сказать? – заколебался он. – Почему бы и нет? Недавно я всем говорил… Не преувеличивай, Ребек, кому это всем? Майклу и ещё Лоре. Майкл и Лора едва ли считаются. Они – призраки. Они знают, что возможно, а что – нет. Эта женщина – живая. Смотри, не ошибись в чем-либо, она – живая, а это значит, что она способна выслушать правду. И это не значит, что она её узнает, когда услышит… Тебе придется сказать ей рано или поздно. И что бы ты ни сказал, она все равно не поверит. В худшем случае, крича, убежит прочь, на что, пожалуй, будет очень интересно посмотреть, а позднее придет одиночество. В лучшем… А что бы она сделала в лучшем случае? Вероятно, сказала бы что-то вроде: „Хорошо, но ведь это немного глупо, а?” И как ты тогда поступишь? Возможно, это немного глупо… Уйди с перекрёстка, Ребек. Ты начинаешь вертеться, описывая маленькие изящненькие кружочки. Тебя может сбить машина. Возможно, это и глупо, – снова подумал он. – С этим ничего не поделаешь. Множество серьезных вещёй кажутся глупостями даже тем, кто их совершает. Выхода нет. Посмотри на это с другой стороны. Если ты ей не скажешь, она ни о чем тебя не спросит, но ты ей будешь меньше нравиться, потому что заставишь её устыдиться своего любопытства. О, она будет дружелюбна и приветлива, но только потому, что она дружелюбна и приветлива по натуре. Она просто перестанет приходить. Даже навещать могилу мужа, если это означает встретить тебя. Если вы столкнётесь случайно, вы улыбнётесь друг другу и яростно помашете друг другу рукой, причём ярость будет возрастать прямо пропорционально расстоянию между вами. И в результате получится ядро одной из этих дружб пятидесятилетних. А так ли она важна для тебя? Личные тайны не менее важны. И это – как минимум. Нет, не так уж она и важна пока что. Я едва ли её знаю. Она не важна, как индивидуальность. Она – символ.
О, прекрасно. Символ чего?
Откуда я знаю? Символ, да и только. Хотя, она очень мила».
Рядом с ним нетерпеливо шевельнулась миссис Клэппер.
– Ребек, извините меня, старую. Но вы тут что – яйцо высиживаете?
Когда мистер Ребек вспоминал об этом впоследствии, он всякий раз был уверен, что все преграды между ними рухнули, когда она окликнула его просто по фамилии. Она никогда не делала этого раньше. А Лора называла его: Мистер Ребек.
Он вскочил и выпрямился, постучав себя по груди, словно душ принимал. Затем взглянул на миссис Клэппер.
– Идёмте, – сказал он. – Давайте прогуляемся.
ГЛАВА 8
Слово «холм» отныне ничего для Лоры не значило. Она их помнила. На кладбище были дороги, которые вздымались, выгибались и шли под уклон, а затем словно проваливались куда-то, чтобы потом снова побежать вверх, они вились, словно жабьи языки, и прежде она это воспринимала как холмы. Даже теперь, сосредоточившись как следует, она могла вспомнить, на что это похоже, когда взбираешься на холм. Но по-настоящему она не ощущала больше, как поднимается или опускается под ногами земля при движении. Она помнила дороги и ходьбу по ним; так под ногами у неё были постоянно асфальт, гравий, желто-бурая грязь, галька, трава, сорняки, и даже чахлая звёздочка, которая, как ей говорили, сияет в центре Земли. Когда Лора передвигалась, существовало только то, что она помнила, а что такое верх и низ, она позабыла. И вот теперь не стало верха и низа, точно так же, как нету их в космосе, и Лора шагала по ровной спокойной дороге, которой ноги её больше по-настоящему не касались.
Фактически она взбиралась на невысокий холм – небольшой горб посреди дороги, бежавшей через часть кладбища победнее. Это отнюдь не был Участок Горшечника. [ 9 ] С точки зрения Йоркчестера, исключительная бедность не менее порочна, чем исключительное богатство. Могилы были ухожены и содержались в порядке, и плющ, увивавший большинство их, был аккуратно подстрижен, но могил здесь было очень много: надгробия теснились на расстоянии шести дюймов одно от другого, статуи соприкасались локтями. Здесь было обилие Христов, Мадонн и ангелов – достаточно, чтобы населить тысячу Небес, и невысокая трава, которая между ними росла, взирала на них с любопытством.
Лора подумала, что потрёпанное одеяло Земли раскинулось настолько далеко, насколько его можно растянуть. Рано или поздно оно разорвется посередине со звуком, похожим на треск огня, и мёртвые выйдут, щурясь от яркого света, положив друг другу ноги на голову и голову на ноги, толкаясь ногами, чтобы им хватило места лежать мёртвыми. Убери ноги с моих глаз, дружище, и перестань разговаривать с собой, я не хочу никого слушать. Оставь меня в покое, мы мертвы, и я больше не обязан быть тебе братом.
Сегодня на кладбище так много людей. Выходной, что ли? Разве им больше нечем заняться в свободное время, кроме как приходить сюда и стоять вокруг кусков камня, сняв шляпы? Её радовало, что её родителей здесь нет. У них оказалось достаточно здравого смысла, чтобы понять: в смерти немного достоинства, а в траурных церемониях – и вовсе никакого. Всем им – и мужчине средних лет, сажающему цветы у подножия безупречно-прекрасной статуи, и беременной женщине, которая принесла деревянный складной стул, и трём старухам, которые вышли из большой машины, зарыдали, снова сели в машину и уехали, и светловолосому молодому человеку, который сидел на траве посреди семейного участка и вежливо говорил по-итальянски со всеми надгробьями, всем им она громко сказала:
– Вы думаете, ваши мёртвые могут вас услышать? Вы думаете, они знают, что вы плачете? Их здесь нет, ни одного из них, а если бы и были, они не узнали бы нас. Они прошли долгий путь и не вернулись бы назад, если бы даже и смогли. Отправляйтесь домой и говорите друг с другом, если знаете, как. А здесь вы нам не нужны. Мы были не нужны вам, пока мы жили, а теперь вы нам не нужны. Убирайтесь. Велите своим телам, чтобы они увели вас домой, – и хотя никто не мог её услышать, она ощутила на миг, что она – больше, чем Лора, как будто отсутствующие мёртвые в самом деле выбрали её для того, чтобы сказать это живым.
Затем она увидела человека, стоящего перед статуей мальчика, читающего книгу – лицо мальчика было слащавым и незапоминающимся, как у Христов, высившихся вокруг, но что-то в статуе – круглый подбородок, наверное, или большие уши, придавали ей нечто человеческое и ребячье. Равнодушный гладкий мрамор всё же сохранил кое-что, присущее этому ребенку. Перед памятником красовалась надпись. Пониже – две даты. Сам мальчик сидел на скамеечке рядом со статуей. Он был поменьше, чем скульптура, худенький и бледный, тонкие линии обрисовывали в воздухе его образ. Вблизи от своего изображения из цветного мрамора – да ещё позади и солнце светило – мальчик был почти невидим. Человек у могилы плёл какие-то глупости. Мальчик не шевелился.
Человек протянул руку, чтобы коснуться статуи, и Лору тут же охватила глухая ревность. Она подумала: «Это нехорошо, действительно нехорошо, оставь его в покое. Ты что теперь, даже мёртвым детям завидуешь? Ты была лучше, пока жила и не смела показать людям, как ты ревнива». Знакомая нарастающая боль возникла в ней – ибо душевная боль вовсе не требует тела, чтобы её ощутить.
– Вот он приходит тебя навестить, – сказала Лора мальчику. – Чтобы показать всем, как ему тебя не хватает. Но однажды он перестанет приходить, что ты тогда будешь делать?
Мальчик и не обернулся в её сторону, и это взбесило её. Как если бы он тоже был живым, и она оказалась здесь единственной, кого невозможно услышать.
– Ты будешь сидеть и ждать, – сказала она, – а он так и не придет, но ты все будешь сидеть и ждать его. Люди будут приходить и навещать каждую могилу на этом кладбище, только не твою. Ты будешь ждать и смотреть, кто там проходит мимо, но твои родные не придут. Никогда больше не придут. Ты думаешь, он у тебя есть, но у тебя нет никого, кроме меня, никого, кроме Лоры, чтобы поговорить с тобой и побыть с тобой. Теперь ты мёртв, и у тебя только и есть, что я.
Но мужчина что-то бормотал перед статуей, мальчик слушал, а статуя по-прежнему читала свою каменную книжку.
– Хорошо, – сказала Лора. – Ты думаешь, мне есть до тебя дело? – она повернулась к ним ко всем спиной и зашагала вверх по склону, который казался ей таким же ровным, как и любая другая дорога, как и все дороги…
Снова подумав о мальчике, она удивилась. Зачем я это сделала? Что я пыталась сделать? Кого обидеть? Не его. Не мёртвого ребенка. При жизни я была очень добра к детям. В этом заключалась часть моего очарования.
Боже мой, да я при жизни ревновала к столь многим красавицам. Здесь с этим надо кончать. Здесь нет места зависти. Невозможно отныне желать быть похожей на женщин с эластичной кожей. Теперь мы равны. Они не могут здесь, в мире мёртвых, сохранить свои прекрасные фигуры и смазливые личики. Никто не пригласит их на ланч и не возьмёт к себе в дом на ночь. Их мужчины больше не могут видеть их, касаться или любить. Это требует времени, но в конце концов мы становимся равны. Между нами нет разницы.
Только разница между тобой и этим каменным мальчиком. Его кто-то вспоминает.
Могила Майкла и её собственная находились в одной из католических секций кладбища, примерно в полумиле от ворот. Там хоронили покойников среднего класса, то есть, могилы там не так сгрудились, как на участке, который она покинула, и здесь даже высилось несколько небольших мавзолеев. Перед одним, по которому она узнавала эти места, стояла статуя коленопреклоненной женщины, приникшей к кресту. Лоре эта скульптура не нравилась. Крест казался слишком гладким и недосягаемым. Лора всё ждала, когда он вырвется из рук женщины резким рывком, да и женщина выглядела так, словно тоже ждала чего-то подобного. Как только Лора чётко объяснила себе, что она проходит мимо могилы Майкла всего лишь потому, что это – на пути к её собственной могиле, она увидела двоих, стоящих у надгробия. Она остановилась на миг, желая спрятаться, но тут же вспомнила, что её не могут увидеть. Затем, раздраженная, что об этом забыла, она подошла к тем двоим и встала рядом. А они смотрели себе на простую прямоугольную плиту с надписью: «Майкл Морган».
То были мужчина и женщина. Мужчина – коротконогий, с массивными плечами, чуть ниже своей спутницы. Он снял шляпу, лицо его было агрессивным и усталым. Женщина – блондинка, с головкой, столь маленькой, лёгкой и конусообразно сужающейся, что казалось, эта головка не имеет ни малейшего отношения к её полногрудому телу, но талия и бёдра женщины были изящны, и держалась она с небрежным высокомерием Веселого Роджера.
«А она красива, – подумала Лора. – О, Боже, да ведь она красива. Будь я жива, я бы её возненавидела… Нет, всё равно не возненавидела бы. Какой бы в этом был смысл? Я обычно ненавидела Почти Красивых Женщин, Хорошеньких Женщин. Потому что чувствовала, что могла бы и сама так выглядеть, если бы знала, как одеться, какой косметикой воспользоваться и как правильно ходить. Я чувствовала, что у них имеется какой-то секрет, и они его от меня таят, потому что если я его открою, я стану такой же хорошенькой, как и они, и смогу состязаться с ними, стремясь к вещам, которых хочу. А эта женщина вообще на другом уровне, я даже и подумать не смела бы о том, чтобы с ней состязаться. И неважно, какой я была бы хорошенькой, что с моей стороны чертовски мило».
– Яд – это большое дело, – сказал мужчина. Голос его был высоким и хриплым. – Если ты его и не покупала – он купил. А если я смогу хотя бы выяснить, где он его купил, у нас будет, с чем идти дальше.
Голос женщины оказался как раз таким, каким его себе представляла Лора.
– Не понимаю, как это тебе удастся. В каждой скобяной лавочке этой страны он, вероятно, есть.
Мужчина торжествующе расхохотался.
– Гм-гм, в этом-то все и дело. Его невозможно раздобыть в Нью-Йорке.
– Я не понимаю…
– Послушай, я носил жестянку в парочку скобяных магазинов, и в каждом мне сказали то же самое: препарат не продается в Нью-Йорке, поскольку предназначен, в основном, для полевых мышей. Это – производное стрихнина, как и другие стандартные марки, но предполагается, что против полевых мышей он особенно эффективен. А откуда в Нью-Йорке полевые мыши. Ты видишь, к чему я клоню?
На могиле были цветы. Розы. Женщина, опустившись на колено, коснулась одной из них.
– Тогда откуда же он взялся?
– Этого я не знаю, – сказал мужчина, – но его выпускает небольшое предприятие в Гринвиче, Коннектикут. Они распределяют его примерно между десятью или одиннадцатью маленькими лавочками чёрт-те где в Новой Англии. Полагаю, если я проведу последующие семь недель, разнюхивая что да как в тех краях, я смогу отыскать место, где эту дрянь купили. А они вполне могут вспомнить, кому это продали. Они записи ведут. Овчинка стоит выделки.
Женщина не подняла головы и не повернулась к нему.
– Это не очень много, верно?
– Но это не так уж и плохо, – ответил мужчина, словно обороняясь. – Все дело в том, что эта дрянь неважно расходится. Большинство людей по-прежнему покупает стандартные марки, а эти баночки стоят себе на полках. Когда кто-нибудь покупает хоть одну – это большое событие. Вроде рождества. И они помнят, кто у них это купил.
Он вздохнул, словно сбрасывая с плеч ношу.
– Конечно, это немного, – досадливо сказал он. – Это даже значительно меньше, чем кажется. Если яд куплен свыше месяца назад, все пропало: тогда они не вспомнят. Но что я ещё могу? Я тебе уже говорил: я не Дэрроу. Я просто чертовски настырен. Я делаю всё, что могу, инструментами, которыми располагаю, а всё, чем я сейчас располагаю – это баночка с ядом. Так я разнюхаю, откуда он взялся, насколько можно основательнее, а если это не пройдёт, попробуем что-нибудь другое. Если бы я только смог придумать, что же ещё попробовать.
– Одиннадцать лавочек – это уже сложно, – заметила женщина. Она выпрямилась, счищая с юбки пыль и траву. – Если даже в одной из них и продали яд Майклу, они могут ничего и не вспомнить.
«Так это – Сандра, – поняла Лора. – Так это – жена Майкла». Она подошла поближе к женщине и воззрилась на неё, неосознанно пытаясь увидеть Сандру не столь красивой.
Она осмотрела нежное остренькое личико, выискивая хоть пятнышко на коже, желая, чтобы серые глаза были поменьше, а нос покрупнее. Лора стояла к Сандре настолько близко, насколько когда-либо стояла женщина к женщине и, невидимая, казалась себе откровенно безобразной по сравнению с ней.
– Они там с тобой нормально обращаются? – спросил мужчина. Он ссутулился, пока тут стоял. Время от времени он посматривал в упор на изящную женщину рядом с собой и делал попытку распрямить согнутые плечи.
– О да, – сказала женщина, – очень хорошо. Они безупречно вежливы, – она рассеянно улыбнулась, глядя на могилу. – Интересно, а что бы подумал Майкл, если бы узнал, что я – в тюрьме. Майкл всегда так любил всех защищать.
– Угу, – сказал мужчина. – Я сразу подумал, что драться с ним на вечеринке не было дьявольски хорошей идеей. Окружной прокурор вызовет в суд каждого, кто там был, и я не очень много что смогу тут сделать. Напрасно ты не потерпела до возвращения домой.
Женщина медленно повернулась и взглянула на него.
– Он был пьян. Ты не знаешь, как это вышло. Он был пьян и свалял полнейшего дурака перед президентом факультета. Он острил, пел, затевал с президентом какие-то дурацкие споры. Все женщины смотрели на меня, поскольку я – его жена, а я не могла его остановить. А все мужчины прикидывали, как они могут втереться в окружение президента, приняв его сторону против Майкла. Всё, над чем я трудилась, вылетело в тот вечер в трубу. Нам только и оставалось, что перебраться куда-нибудь и начать всё сначала. А когда случается нечто подобное, они пишут соответствующие письма. Я знаю, что это так. В конечном счете, Майкл мог бы…
Мужчина перебил её с нарочитой грубостью.
– Теперь поняла, почему я тебя никуда не выпускаю до главного заседания? Ты всё это проигрываешь на подобный манер, а звучит это так, как если бы ты вполне могла кого-то убить. Будь спокойней. Если ты станешь разумно вести себя в суде, ты подкинешь прокурору крепкий орешек. Давай, по крайней мере, заставим его немного поработать.
– Ты все ещё веришь, что я могла бы убить Майкла, – в голосе женщины было мягкое и спокойное достоинство, которое восхитило Лору, хотя Лора отлично знала, что та играет. Женщины куда лучше умеют изображать невинные жертвы, чем мужчины, как подумала она: женщина чувствует, в чём драматизм роли, мужчина же только и видит, что происходящие с ним несправедливости и воет.
– Думаю, ты бы могла это сделать, – сказал мужчина, – я здорово уверен, что ты этого не совершила, но я никогда по-настоящему ни в чём не уверен.
– Это, должно быть, печально.
– Это удерживало меня от того, чтобы жениться и быть убитым или лишиться права адвокатской практики. Печально – когда думаешь, будто есть в мире что-то несомненное, и приходится его искать. А без этого всё, в общем-то, – весьма неплохо. Удерживаешься от того, чтобы проводить много времени в местах вроде этого.
– Майкл был моим мужем, – пробормотала женщина. Взгляд её стал сонным и самодовольным. Такой взгляд часто появляется у женщины, которая только что родила… – Мне пришлось сюда прийти. Я бы себя как-то не так чувствовала, если бы не пришла сюда сегодня.
– Почему? Если ты надеешься произвести впечатление на сыщиков окружного прокурора, забудь об этом. Они ждут снаружи. А если ты пытаешься убедить меня, что любила мужа – так я и без этого отвезу тебя домой, как только ты будешь готова.
– Я любила его настолько, насколько могла, – женщина смотрела на могильный холмик. – Иногда я думаю, а способна ли я вообще любить. Не уверена, что это так. Майкл не покончил бы с собой, если бы я его любила по-настоящему.
– Ты выбрала себе весьма выигрышную позицию, – заметил мужчина. – Писатели прежде частенько сочиняли книжки о бабах, которые спят с ледяными истуканами, так как этих баб переполняет любовь к человечеству, и им требуется с чего-то начать. Теперь – совсем иная история: всем жаль женщину, которая никого не способна полюбить. И теперь она спит с ледяным истуканом, стремясь погубить себя. Для ледяного истукана разница чертовски невелика. И в любом случае, я не чувствовал бы себя шибко скверно из-за того, что не люблю твоего мужа. Он не любил тебя.
Женщина повернулась к нему так стремительно, что сломала розу.
– Это не так. Майкл любил меня. Если он хоть что-нибудь в мире любил-так это меня. Он мне об этом говорил по десять раз в день. Меня это пугало, ведь я знала, что не заслуживаю подобной любви. Нередко я предупреждала его, чтобы он не любил меня так сильно, – её нежный голосок зазвучал выше, узкое лицо было совершенно бледным. – Ты и заикаться не смей, что Майкл не любил меня! Ты ещё очень многого не знаешь ни о Майкле, ни обо мне.
– А разве это не правда? – дружелюбно сказал коренастый мужчина. – Не пора ли нам идти?
– Нет ещё, – сказала женщина. Она овладела собой так же быстро, как и вышла из себя, но её руки все ещё были сжаты в кулаки и уперты в поясницу. – Я хочу просто постоять здесь с минуту. Не говори ничего. Мне не следовало позволять тебе идти со мной. Помолчи.
– Но сперва – леди, затем джентльмены, – пробормотал мужчина, – такова национальная традиция.
Женщина взглянула на него со спокойным отвращением и, отвернувшись, принялась смотреть на могилу. Голова Сандры была склонена, а ладони, теперь раскрытые, казалось, выражали тщетность любых усилий. Ветерок играл белокурым локоном, выбившимся из прически, а Сандра даже не поднимала руки, чтобы поправить волосы. Вся её сексапильность исчезла в этот момент. Сегодня вечером её можно было принять и за монахиню. И даже мужчина с массивными плечами казался до некоторой степени потрясённым.
Увидев, как губы женщины шевельнулись, произнося имя Майкла, Лора подумала: «Сандра, вдова Майкла, ты – лицемерка. И столь же запросто можешь оказаться и убийцей. Надеюсь, что ты убийца. Прости меня за это. Прости мне зависть к золотым равнинам твоего лица, но я надеюсь, и потому что я надеюсь, поверь мне – это ты убила своего мужа. Пойми меня, пожалуйста. Лично против тебя я ничего не имею за исключением того, что тебе приходилось предупреждать его, чтобы он тебя так сильно не любил. Это мне кажется тратой естественных ресурсов – мне, девушке с прямыми унылыми волосами, которая танцует, словно памятник Вашингтону. Моё отношение к тебе может показаться несправедливым и неразумным, но ты бы меня поняла, если бы мы познакомились, пока я была жива. Будь я присяжным на твоём суде, я боролась бы за твое освобождение, но я знаю, что ты виновна. Именно так работает моя мысль, или, по крайней мере, я помню, что именно так она работала. Я должна признать тебя виновной, ибо я недостаточно бесчестна, чтобы признать тебя безобразной. А я должна тебя невзлюбить, чтобы удержаться от желания стать на тебя похожей. Если бы ты меня знала, ты бы меня поняла.
И это всё? – подумала она, – или что-то ещё сказать? У меня такое чувство – да, то самое чувство, которое возникает, когда что-то осталось, и оно ещё острее, чем когда-либо с тех пор, как я очутилась здесь. Ты здорово стараешься быть честной перед самой собой, и ты себя выдаёшь, отыскав ложь, чуть-чуть менее приятную на твой вкус».
– Теперь можно идти, – сказала женщина.
– Ты забыла о розе, которую задела, – сказала Лора. – Поставь её обратно, как было. Её просто надо немного выпрямить, я бы сама это сделала, чтобы избавить тебя от хлопот, но не могу. Поправь её, пожалуйста. Спасибо.
Словно что-то услыхав, женщина изящно опустилась на колени и поставила розу на место в ряд с другими цветами. Её длинные пальцы на фоне цветов приобрели лимонный оттенок, а ногти были того же цвета, что и розы. Возможно, немного темней: словно розы после дождя.
– Спасибо, Сандра, – сказала Лора. – Прощай, – и подумала: «А где же, интересно, Майкл?»
– Сколько у нас ещё времени? – спросила женщина. Они с мужчиной начали удаляться от могилы.
– Суд назначен на восьмое августа, – ответил мужчина. – Они нам дали почти месяц.
– Это не так уж и много, – нежный голосок прозвучал несколько обеспокоенно.
– Вполне достаточно. Если мне есть что искать, я за месяц справлюсь. Если же я не смогу ничего разворотить… – он тяжко подал плечами. – Нам никогда не поздно будет подать на апелляцию.
Женщина остановилась, задержав руку у него на плече.
– Я не убивала Майкла. Я не хочу страдать из-за того, чего не делала.
Его звонкое «ха-ха» напомнило громыхание песчинок в жестяном ведёрке. Он снова зашагал вперёд. Женщина последовала за ним.
– А почему бы и нет? Почему ты должна отличаться ото всех остальных?
– Это не смешно, чёрт возьми, – сказала женщина. И они пропали с Лориных глаз, хотя Лоре всё ещё были слышны их голоса. Ответ мужчины оказался игривым и легкомысленным.
– Это называется «юмор висельника», леди. Чем дальше идёт время, тем забавней…
И тут голоса начали утрачивать чёткость, отчасти и потому, что Лора уже не так внимательно слушала.
«Полагаю, я могла бы пойти за ними следом, – подумала она. – Я собиралась навестить свою собственную могилу, в конце концов, а не могилу Майкла. Вся беда в том, что я по-настоящему не хочу за ними идти. Я не желаю их видеть. Что мне нужно от живых?
Я не собираюсь от них зависеть. Если я вздумаю к ним льнуть, я никогда не забуду о жизни и никогда не усну. Мне надо прекратить поддаваться этому безумию. Если я не могу жить, я хочу быть мёртвой. Мёртвой, как положено. Мне не по нраву эта промежуточная стадия. Слишком похоже на жизнь и недостаточно на неё похоже. Пора мне прекратить смотреть на живое и испытывать к нему интерес. Даже торопливый бег муравья – это измена. Даже одуванчик коварен и соблазнителен. У меня тут же возникает воспоминание – нет, желание подуть на один из этих больших белых одуванчиков. Если задумать желание и сдуть в один присест весь пух с головки – желание сбудется. Я это знаю, но мне никогда не удавалось сдуть весь пух в один присест, и желания мои никогда не сбывались. Мёртвому ни к чему одуванчики, да и желаний мёртвые не задумывают. Пойду-ка я к своей могиле и прилягу снова».
Затем она услыхала свист и, обернувшись, увидела Майкла, возвращающегося по дороге, по которой и она сама пришла. Посвистывание призрака не похоже ни на один звук в кулаке вселенных, ибо сплетено оно изо всех посвистов, какие призрак когда-либо слыхал, а поэтому сюда входят паровозные гудки, звонки на обед, пожарная тревога и похожий на вопль оскорблённой девы свисток чайника. Ко всем этим компонентам Майкл добавил ещё одно воспоминание: пронзительный визг тормозов, когда машина внезапно и резко останавливается. Все это воспринималось как нечто немелодичное и дисгармоничное, но призраки не заботятся о гармонии. Воспроизведение звука – это все, что их интересует. Майкл казался вполне довольным своим свистом.
– Привет, Майкл, – окликнула его Лора, когда ей показалось, будто он собирается пройти мимо, не заметив её.
Майкл остановился и взглянул на Лору.
– Привет, Лора. Послушай, я сейчас просвищу твое имя.
Он просвистел быструю гамму звуков, которая вызвала у Лоры представление о бумажном змее, подхваченном ураганом. Внезапно Майкл умолк, и Лора спросила:
– Это всё?
– Тебе бы следовало носить имя подлиннее, – ответил Майкл. – Подлиннее и порезче. Это – лучшее, что можно сделать из Лоры Дьюранд, – он присел посреди дороги и жестом пригласил её сесть рядом. – Я всё утро тренируюсь: высвистываю имена и названия. Как бы лейтмотивы. Называй, а я буду свистеть. Поехали.
– Одуванчик, – сразу же сказала Лора.
– Одуванчик. Хорошо, – Майкл просвистел несколько тактов громыхающего марша. – Вот и одуванчик.
– Нет, не для меня. Это прозвучало, будто сигнал к обеду на пикнике Американского Легиона.
– А я именно такими вижу одуванчики, – твердо сказал Майкл. – Я импрессионист. Если тебе ближе традиционная музыка, обращайся в один из этих стапятидесятискрипочных оркестров. Свист – это глубоко индивидуальный род музыки.
– Хорошо, – сказала Лора, – я признаю твое право на творческую индивидуальность. Изобрази мистера Ребека.
– У меня пока не получилось. Я пробовал снова и снова, но всё равно не выходит. Я ещё только начинаю, не забывай. Давай-ка что-нибудь другое.
Сперва Лора подумала, а не сказать ли: «Сандра. С помощью каких звуков ты изобразишь Сандру?» И оставила эту мысль единственно потому, что боялась: а вдруг у него уже готова мелодия для этого имени.
Тут Майкл заметил свежие цветы у себя на могиле.
– Э, – сказал он. – Кто-то что-то уронил.
Он встал и подошёл поближе, чтобы внимательней взглянуть на розы.
– Чёрт побери, – сказал он. – У меня появился тайный поклонник.
– Их оставила твоя жена, – сказала Лора. – Она была здесь несколько минут назад.
Майкл молчал, стоя спиной к девушке. Сквозь его спину она видела, как сверкает на солнце небольшое мраморное надгробие.
– Какие свежие, – сказал он мгновение спустя, – и дорогие. По восемь или десять долларов десяток. Я всегда удивлялся, почему один сорт роз должен стоить больше, чем другой.
– Она ушла буквально за минуту-другую до твоего появления, – уклончиво заметила Лора. «Я снова жалко себя веду, – подумала она, – и в некотором смысле это ещё хуже, чем тогда с мальчиком».
– Слышу, – сказал Майкл. – И чего ты от меня хочешь в связи с этим?
– Не знаю. Она – твоя жена.
– Вот уж ничего подобного. Отныне – нет. Смерть нас разлучила. Брак аннулирован. Это – по-настоящему пугающее для тебя слово: аннулирован.
– Полагаю, ты бы мог её догнать, – сказала Лора, – она шла очень медленно.
– Но я не хочу, чёрт возьми!
Она почувствовала себя страшно удовлетворённой тем, что заставила его кричать.
– Я не хочу её видеть! Мне нечего ей сказать! А если бы и нашлось что, она бы не услышала! Она была моей женой и убила меня! И, разумеется, все эти разговоры задевают мои чувства! Перестань о ней говорить. Я ничего не желаю о ней слушать. Прекрати говорить о ней или убирайся. Одно из двух.
И в гневе наступил на розы. Они лежали под его ногами неповреждённые, тёмно-красные, с наружными лепестками, уже начавшими закручиваться: утро было жарким. Но цветы ещё не увядали: это произойдёт позднее.
– Извини, – сказала она, и ей действительно было неловко, хотя она и не вполне понимала, почему. – Извини, пожалуйста, Майкл.
– Забудем, – сказал Майкл.
– Время от времени на меня что-то находит. Не знаю, почему. Такого не случалось, пока я была жива.
– Всё в порядке, – сказал Майкл. – Не надо об этом говорить. Послушай, а теперь-то ты всё делаешь как надо? – И тут же добавил. – Это, несомненно, самая большая глупость, которую я когда-либо изрекал, живой или мёртвый.
– Нет, – сказала Лора. Она не смеялась. – Я ничего особенного тут не делаю. Просто брожу по окрестностям.
– Тогда пошли со мной, если у тебя есть желание погулять. Я направлялся к воротам, чтобы поглядеть на людей.
Лора поколебалась, прежде чем заговорить.
– Я обычно держусь подальше от ворот. Раньше я регулярно подходила к ним, словно за почтой выбегала, но это начало меня угнетать. Посетители, сторожа и машины – как им легко проходить через ворота. Лучше мне там не болтаться, Майкл.
– А меня это не сильно беспокоит, – сказал Майкл. – Мне нравится их слушать. Но нам туда сейчас подаваться незачем, – он нахмурился на мгновение. – Я отыскал одно место довольно далеко отсюда. Возможно, ты знаешь. Там стена, – он взглянул на девушку: вспомнит или нет.
Лора покачала головой.
– Не думаю, что я знаю, где это.
– Прямо на самом краю кладбища. Низкая кирпичная стена.
– Нет, – сказала Лора, – я там не бывала.
– Ну так идём, – нетерпеливо сказал Майкл. – Это вообще-то не так уж и далеко, если слово «далеко» хоть что-то значит. Идём, и я тебе покажу. Это просто прелестно. Оттуда открывается вид на весь город. Во всяком случае, на весь Йоркчестер. Чудесный вид…
– Хорошо бы туда сходить, – согласилась Лора.
– Нам надо пройти назад до развилки дороги, – сказал Майкл, когда они уже двинулись, – затем начнется прямая гравийная дорожка, и в конце её – большая теплица. У теплицы сворачиваем направо – и, считай, пришли.
– Боже мой, да зачем здесь теплица.
– А ты видела этот плющ, который, словно плесень, покрывает большинство могил? – Лора кивнула. – Вон там они его и выращивают. Они и кое-какие цветы растят, на случай, если у кого-нибудь нет, – он повернул голову и посмотрел на девушку сверху вниз. – Я всё думаю о цветах на могилах. Разве это не откровенно варварский обычай? Посмотрим на это логически. Для этого губят превосходные цветы, они валяются на могилах и вянут. Такого с цветами делать не следует. А для мёртвого это всё равно ничего не значит.
– Значит, – возразила Лора. – Мне нравится, когда Мэриэн и Карл оставляют для меня цветы.
– Почему? Разве это вызывает у тебя чувство, что тебя кто-то вспоминает?
– Нет, дело не в этом.
– Но ведь они, знаешь ли, уже не помнят нас немного погодя. Это становится автоматизмом. Привычкой. Вроде посещения церкви.
– Нет, не так, – сказала Лора. – О, полагаю, что так, некоторым образом. Но я люблю цветы. Я любила их, когда была жива, и теперь люблю. Они доставляют мне радость.
– Мне тоже. Но здесь нет ничего личностного. Видя цветы на чьей-то другой могиле, я испытываю такую же радость, как и когда вижу их на своей. Я люблю цветы как цветы, а не как символ утраты. Я знаю, что я обобщаю и упрощаю, и в целом говорю, словно второкурсник колледжа, но я тоже мёртв, и жесты уважения к моему бренному телу меня отныне не привлекают. Это всё равно, как если бы меня похоронили с моими луком и стрелами и убили коня у меня на могиле. Убитый конь у меня на могиле – это было бы здорово. Своеобразно. Я был бы первым, для кого это проделали бы.
– Я видела мальчика сегодня утром… – начала было Лора, но Майкл прошёл прямо сквозь неё.
– А моя жена… – сказал он с удовольствием, – пусть бы и её похоронили со мной. Вот почётный дар ушедшему воину. Зачем мне всякие дурацкие цветы? Забудьте мой лук и стрелы, уведите прочь проклятую лошадь. Мне нужна моя жена. Просто уложите её со мною рядом и закидайте землёй с лопаты. А если услышите шум – это просто мы поём дуэт из «Аиды», – он усмехнулся Лоре. – Вот это личный дар. А зачем мне цветы?
– Твоя жена – красавица, – сказала Лора.
«Он хочет о ней говорить, – подумала она. – Он предпочёл бы вообще забыть её, но раз уж не может, он будет о ней говорить, чтобы не думать. Я не против. Не думаю, что я против».
– А разве нет? – спросил Майкл. В его голосе угадывался мрачноватый оттенок. – Она во многих отношениях отвратительная сука, порождение Западного Мира, но, ей-Богу, я любил гулять с ней по улице. Должен это признать. Мы, бывало, шагали, обняв друг друга за талию, – он оборвал фразу и окинул Лору таким долгим взглядом, что она начала нервничать и вздохнула с облегчением, когда он заговорил снова. – Это самый прелестный способ прогулки, какой я знаю, и этом есть что-то подлинное и нежное. Да, что-то основательное.
– Знаю, – ответила Лора, подумав: «Я и вправду знаю, но готова поспорить, чтобы не поверить».
– Ну так вот, – сказал Майкл. – Мы гуляли как-то подобным образом и увидели свое отражение в витрине. Я засмеялся, она пожелала узнать почему, и я сказал: «Я просто подумал вдруг: а что общего у этого бездельника с этой смазливой девкой?»
– И что же она сказала? – спросила Лора.
– А она сказала: «Я подумала как раз о том же самом». И мы пошли дальше, – Майкл вздохнул. – Хотел бы я, чтобы она меня не убивала. Иногда мы с ней довольно неплохо ладили.
Он снова начал насвистывать на ходу. Звук был высоким, таким высоким, что человеческое ухо его не различило бы. Мелодия была скорбной, воющей, почти до жути – это напоминало душераздирающий визг флейты-пикколо, навеки разлучённой со своим возлюбленным – волынкой. Но Майкл, кажется, возгордился и с удовольствием насвистывал эту мелодию всю дорогу до гравийной тропинки, а замолчал, как выяснилось, для того, чтобы спросить:
– Она действительно хорошо выглядела?
– Да, – сказала Лора. – Она выглядела изысканно. Это – единственное слово, которое, кажется, подходит.
– Изысканно, – задумчиво сказал Майкл. – Это хорошее слово. Своего рода – ключевое по отношению к ней. Она всё делала изысканно.
– Бывают же такие люди, – сказала Лора. – Люди, которые никогда не выглядят неуклюже, и неважно, что они делают. Всё бывает правильно сделано, все верно сказано. Если они это осознают, чувствуешь себя лучше, потому что можешь назвать их притворщиками и сказать: «Ну, слава Богу, я совсем не такая». Но у подобных людей всё выходит совершенно естественно – словно кошка потягивается…
Она почувствовала, что спотыкается, напряжённо подыскивая слова, но внезапное любопытство, с которым теперь смотрел на неё Майкл, завело её. Это все равно, как если бежишь с холма, раскинув руки и надеясь не упасть, но в любой момент этого ожидая. Она хотела, чтобы Майкл понял.
– Иногда гуляешь по улице и видишь, как кто-то движется навстречу – кто-нибудь знакомый. Он ещё не увидел тебя, но знаешь: он махнёт рукой, улыбнётся и что-нибудь скажет, как только увидит. И всё равно за миг до того, как он тебя увидит, думаешь: «Сейчас я всё испорчу. Не совсем знаю, как, но испорчу. Едва ли я могу догадаться, как это случится. Остановлюсь ли и протяну руку, в то время, как он ожидает, что я всего-навсего махну рукой и пройду мимо, или оба мы встанем, образовав маленький островок замешательства посреди улицы, и прохожие будут нас толкать, а наши руки станут липкими? А не выпущу ли я его руку, прежде чем он выпустит мою или все произойдет как-то иначе? Что я отвечу, когда он спросит: „Как поживаешь?" Хмыкну ли по-идиотски или остановлюсь и расскажу, как мои дела? Достаточно ли у меня храбрости, чтобы шагать себе и делать вид, будто я его не замечаю? Какая ужасная вещь произойдёт в ближайшие пять секунд?» И вот ждёшь пять секунд и обнаруживаешь.
«Довольно неплохо сказано, – подумала она. – Я никогда ничего подобного не говорила, пока была жива. А он смотрит на меня и думает об этом. Возможно, это и стоило сказать».
Две белые бабочки, порхая, пересекли тропу с легкостью и непринужденностью, словно бантики, несомые ветром. Они крутились вокруг друг дружки, словно двойная звезда, затем разъединились, и наконец улетели прочь вдоль тропы одна за другой.
– Так или иначе, но этого никогда не случается с изысканными людьми, – сказала она. – Не знаю, почему, но нет. Возможно, это связано с каким-нибудь геном или его отсутствием.
– Перестань жалеть себя, – сказал Майкл, и она, ошеломлённая, разинула рот.
– Я вовсе не жалею себя. Я никогда этого не делала. Это – одна из вещей, которые я очень крепко усвоила: бесполезно жалеть себя, да к тому же – ещё и безобразно. Я себя уже много лет не жалею.
– Хорошо, – сказал Майкл. – Старайся и впредь.
Его спокойная насмешка взбесила её.
– И я не привязываюсь к вещам: к жизни, к людям, к предметам или к чему-нибудь ещё. Я тебе об этом уже говорила: я оставляю всё, как оно есть. Этим можно принести себе немало блага.
– Возможно, – сказал Майкл. – Вот здесь-то мы и различаемся. Если я что-то люблю, я к нему привязываюсь, хватаюсь обеими руками и зубами, если только могу покрепче ухватиться.
– Даже если тебя не любят? – спросила Лора.
– Даже тогда. Особенно тогда. Кто угодно может любить, если пользуется взаимностью. Иная же ситуация требует определённой суммы усилий.
– Значит, мы по-разному видим вещи, – сказала она, и дальше они шли в молчании.
Гравийная дорожка плавно повернула, и они увидели теплицу. Майкл указал на зелень, густо облепившую стеклянные стены.
– Взгляни, – сказал он. – Это плющ. Он производит довольно неприятное впечатление, верно?
Лора кивнула. Плющ в стеклянном домике казался угрюмым и зловещим.
– Интересно, – сказала она вслух. – Не тот ли это самый вид плюща, который обычно обвивает стены колледжей?
– Возможно, – сказал Майкл. – У него такой же надменно-бесполезный вид. Неудивительно, если это он и есть.
Он снова указал рукой.
– А стена вон там. Впереди. Видишь?
– Да, – сказала Лора. Стена достигала примерно высоты Лориных плеч и была, вероятно, длиною футов в 75. Гравийная дорожка обрывалась у какой-то пыльной впадины, дальний конец которой перегораживала стена. Стена была сложена из красновато-бурого кирпича, причём строители явно не жалели раствора. Когда Майкл и Лора приблизились, им стало видно, как густо выплеснулся и выпятился в щелях между кирпичами старый цемент.
Остановившись у стены, Майкл повернулся к Лоре.
– Прыгать умеешь?
– Как будто, – с сомнением ответила она. – А что? Как именно?
– А вроде этого, – сказал он и на миг пропал из виду, а вновь возник уже, сидя со скрещёнными ногами на гребне стены.
– Это вроде как воображать себе разные места, – сказал он. – Только на таком коротком расстоянии надо быть внимательным, чтобы не вышло перелета. Сосредоточься, чтобы прыгнуть как раз куда надо, и забудь на мгновение о том, чтобы быть видимой. Будь осторожна, это нелегко первые несколько раз.
Лора прыгнула с четвертой попытки и села с ним рядом на стене.
– Я чувствую, что взволнована и не могу дышать, – сказала она, – если я вообще дышу. В этом – серьёзный недостаток бестелесного существования: забываешь, как можно отдохнуть, когда устаёшь.
– Ты вечно чем-то недовольна, – сказал Майкл, но улыбнулся. – А теперь взгляни. Взгляни вон туда.
За стеной местность резко понижалась, внизу находился последний участок, уставленный дешёвыми известняковыми надгробьями, позади него Лора увидела огромный забор, бежавший вокруг кладбища, а за оградой раскинулся город.
– Я никогда этого не видела, – сказала она. – Я никогда здесь прежде не бывала.
Со стены, на которой они сидели, им был виден почти весь Йоркчестер: розовые дома высились ряд за рядом, различаясь только количеством телевизионных антенн, торчавших, словно шпильки из причесок. Между ними в улицах, словно гроздья кислых плодов, скапливались машины. Ровный летний ветер скользил по городу, без сколько-нибудь пристального интереса поднимая женщинам юбки. Люди медленно передвигались по улицам. На горизонте вздымался горделиво-обнажённый костяк того, что станет, вероятно, со временем жилым домом. Там угадывалось движение, и Лора была почти уверена, что слышит, как перекликаются рабочие. Шоссе в три полосы бежало параллельно городу, согласное на некоторое время составить ему компанию, но всё же отъединенное от него даже там, где прямо в него вливались городские улицы.
Майкл увидел, что Лора смотрит на шоссе, и сказал:
– Здесь, перед шоссе, текла река. Сперва её превратили в тоненький ручеек. Затем поменяли русло три или четыре раза. И наконец она просто исчезла. Думаю, умерла от огорчения.
Лора подумала, что ей слышен каждый городской звук. Она различала автомобильные гудки, уличную брань и плач детей на солнцепёке. И щёлканье выключателей в конторах, и гудение электромоторов в поездах метро, и удары всевозможнейших пяток по всевозможнейшим мостовым, и стук резиновых мячиков о стены зданий, и пронзительные крики рабочих на стройке. Она даже отчётливо слышала звон монет в кассах автобусов.
Майкл пробормотал где-то рядом:
– И дьявол отвёл Фауста на высокое место и показал ему все города мира.
Лора отвела глаза от раскинувшегося перед ней города.
– Разве это Фауст? В Библии есть что-то подобное о Христе.
– Думаю, есть и там, и там, – сказал Майкл. – Фауст сдался, а Христос нет – вот и все. Дьявол не смог определить цену Христу, и тот остался неподкупленным. В этом мире есть чистые люди, но только потому, что дьявол счёл нелепым спросить о цене.
Лора рассмеялась.
– Ну, теперь ты рассуждаешь совсем как мужчина, который был с твоей женой.
– Что за мужчина? – резко спросил Майкл.
– Я не знаю, как его зовут. Кажется, он её адвокат.
– О, – медленно сказал Майкл. Мгновение спустя он добавил. – Извини, что я на тебя огрызнулся.
– Я не заметила, – отозвалась Лора и снова посмотрела на город. – В любом случае, это отнюдь не весь мир. Это только Йоркчестер.
– Это все, что нам досталось, черт возьми. Да это больше, чем нам досталось. Если бы дьявол предложил мне всё это прямо сейчас… – он не закончил фразу.
– Майкл! – внезапно окликнула его Лора.
– А? Что?
Она начала рассказывать ему о статуе мальчика, которую видела утром. Рассказывала она подробно, не пропуская ни одной мелочи, которую могла вспомнить, включая и каменную книгу, и то, что говорил, стоя перед могилой, мужчина. Когда она дошла до того, как стала угрожать мальчику и сказала ему, что однажды никто не придёт его навестить, она немного заколебалась и отвернулась от Майкла, но поведала ему всё, что помнила. Он слушал молча, не улыбаясь и не перебивая её.
– Не знаю, зачем я это сделала, – закончила она. – Каждый раз, когда я об этом думаю, я всё больше и больше себя стыжусь. Я никогда ничего такого не делала, пока была жива, Майкл, и не важно, что я чувствовала. Зачем мне это теперь? Что я рассчитывала этим приобрести?
Майкл пожал плечами.
– Не знаю, Лора. Я недостаточно хорошо тебя знаю. Возможно, ты просто устала быть милой и застенчивой. Бывает. Это – довольно неблагодарная роль. Не важно. Ты его не обидела, – и он нарочито и откровенно переменил тему, в третий раз указав на Йоркчестер. – Тебе здесь нравится? Ты рада, что я тебя сюда привёл?
– Да, – быстро ответила Лора, обрадовавшись возможности прекратить разговор о мальчике. – Мне нравится сидеть здесь и смотреть. Я бы здесь весь день просидеть могла.
– Я уже пробовал. Ты должна увидеть это ночью. Каменный пирог – да и только.
– Мне нравятся звуки. Вероятно, потому что на кладбище так тихо. Я ловлю себя на том, Майкл, что ищу всё нового шума.
– Расскажи мне, – попросил Майкл, – что ты слышишь?
– Люди разговаривают, – медленно произнесла Лора, – транспорт гудит. Самолёт наверху… – она остановилась и повернулась к нему. – Почему ты меня спрашиваешь? Разве ты сам не слышишь?
Майкл покачал головой.
– Ни звука. Ничего с тех пор, как я умер.
– Не понимаю, – так же медленно заметила она. – Меня же ты слышишь, верно?
– Громко и четко. Я слышу любого, с кем разговариваю. И слышу любые звуки, которые можно услыхать на кладбище. Но не слышу ни черта, что там в городе, – он криво улыбнулся, заметив её растерянность. – Все звуки, которые мы слышим – это звуки, которые мы помним. Мы знаем, как звучит речь, шум поездов и рокот бегущей воды. И если мы запомнили чуть больше или чуть меньше, никто не замечает. Но я просто позабыл, какими звуками вообще полон Йоркчестер. Думаю, я не обращал на это серьезного внимания.
– Извини, – смутившись, сказала Лора.
– Незачем тебе извиняться. Мы с тобой тратим слишком много сил, прося друг у друга прощения. Просто расскажи мне о некоторых звуках, которые до тебя долетают. А я послушаю.
Лора поколебалась.
– Я вообще-то не знаю, с чего начать. Вон на той стройке работает машина, вбивающая сваи.
– И на что похож этот звук? – Когда она не ответила, он добавил. – Всё нормально. Опиши, как это звучит для тебя.
– Словно удары сердца, – сказала Лора. – Очень тяжёлые и регулярные. Медленные и гулкие удары сердца.
– Хорошо. А как там поезда метро? Ты мне можешь о них рассказать?
– Прямо сейчас нет, – призналась Лора. – Но расскажу, как только пройдёт поезд. А пока могу рассказать об автобусах.
– Хорошо, – обрадовался Майкл. – Прекрасно. Расскажи, как шумят автобусы.
И Лора рассказала об автобусах. И они просидели на стене весь этот летний день, прислушиваясь к городу и к поездам.
ГЛАВА 9
Где-то между двумя и тремя утра мистер Ребек оставил борьбу. «Это явно не пройдёт», – сказал он. Он встал, босой, закутанный в одеяла и подушки, подошёл и открыл двери мавзолея, чтобы обдумать вопрос. «Я сегодня ни за что не усну, – сказал он себе. – Насколько я понимаю, граница, за которой возможен сон, осталась позади. Возможно, я больше вообще спать не буду. Ну, это, может быть, не так уж и плохо. Я смогу коротать ночи, решая очень трудные шахматные задачи – те, которые мне до сих пор не удалось решить. И, возможно, смогу немножко подзаняться астрономией. Можно начать прямо сейчас». Но он не шевельнулся. Он стоял, опершись о косяк, испытывая приятную дрожь от соприкосновения с кожей холодного железа.
Воздух же был тёплым и немного влажным. Однако, если он где-то и грозил застояться, ветерок тревожил его, и маленькие жучки, шумя, нарушали торжественность тихого пруда. Небо было тёмным, но совершенно безоблачным. Завтра будет очень жаркий день, один из тех, когда жара не спадает и много спустя после захода и предает ночь. В последующие дни, вероятно, тоже будет жарко. Конец июля в Нью-Йорке – это время, когда жаркие деньки бегут друг за дружкой сплошняком.
«Беда в том, – подумал мистер Ребек – что если я за девятнадцать лет не разрешил эти шахматные задачи днём, то непонятно, почему ночью должно быть иначе. Если бы мне было очень нужно найти ответы, я бы их нашёл давным-давно. И то же самое относится к изучению звезд. Я бы никогда не смог стать астрономом. У меня мозги неподходящие. Я – аптекарь, который прочёл несколько книг. Я здесь ничему пока что не научился. Я просто вспомнил некоторые вещи, которые надоели мне, пока я жил в ином мире и каждый день переодевался. Забудь об этом, Джонатан, и ложись-ка снова спать. А перед тем, как уснуть, помолись, чтобы никакой Бог из самых лучших побуждений не сделал тебя бессмертным».
Он повернулся и ушел в мавзолей, но ложиться не стал. Вместо этого он порылся в углу, где были свалены его вещи, и вытащил свой старый красно-чёрный купальный халат да пару поношенных тапочек. Надел халат и тапочки и снова вышел, закрыв за собой железную дверь.
«Я пройдусь до ворот, – подумал он. – Просто чтобы прогуляться. Возможно, это меня успокоит и заставит уснуть, когда я вернусь. Кроме того, я смогу попить из фонтанчика в уборной».
И вот он затянул пояс халата вокруг своей тонкой талии и зашагал по траве, пока не почувствовал, как сыплется и шуршит под его тапочками гравий Сентрал-авеню. Затем направился вдоль длинной дороги, стараясь по привычке как можно меньше шуметь. Луны не было, и ничто не освещало путь, но мистер Ребек шёл вперед с уверенным видом человека, который знает, что делает, и всё равно отказался бы от лунного света, как от чего-то ненужного. Он это и сам осознавал. «Как это удивительно – чувствовать себя компетентным, – подумал он. – Каждый человек должен знать что-нибудь в мире так же хорошо, как я – эту дорогу. Она так срослась со мной. Я мог бы не сбиться с пути, даже будь я пьян или ослепни. Но я хотел бы, чтобы кто-то мог меня видеть. Я хотел бы иметь возможность кому-го показать, как хорошо я умею ходить по этой дороге посреди ночи…» И это, конечно же, заставило его подумать о миссис Клэппер. Он бы всё равно о ней вспомнил, но ему доставляло куда больше удовольствия, когда она постепенно проникала в его мысли, о чём бы он ни думал. Это выглядело как-то естественнее. Миссис Клэппер решила, что он ненормальный. Она говорила ему об этом каждый раз, когда они виделись. Любой человек, который живёт на кладбище, как она ему сказала, не только ненормален, но ещё и отличается крайне дурным вкусом. Что за место для приёма гостей, которые к вам приходят! Как он получает почту? Что он делает зимой? Может ли он хотя бы иногда принять ванну? Что он ест? Последний вопрос привел почти к полной дискредитации мистера Ребека. Он начал было рассказывать о Вороне, и тут же осознал, что доверие миссис Клэппер к нему до сих пор простиралось довольно далеко, но улетучится при малейшем упоминании о зловещей чёрной птице, приносящей ему еду. И поспешно заменил Ворона старым-старым другом, товарищем детства, который поддерживал его, снабжая едой из уважения к минувшим годам, когда они вместе росли. Он об этом очень убедительно рассказал и захотел, чтобы это было правдой.
На миссис Клэппер это не произвело впечатления. Она фыркнула.
– Значит, друг? Как же вышло, что он не сказал: «Идём ко мне домой, я готов тебя приютить?» Что же он за друг, а?
– Я и думать не смел чего-то такого от него требовать, – сказал мистер Ребек, весь подобрался и сурово посмотрел на неё. – У меня, в конце концов, есть какая-то гордость…
– Ого-го, – иронически хохотнула миссис Клзппер. – У вас, оказывается, есть гордость. Гордый псих. Вы взгляните, как он передо мной сидит – прямо как генерал. Ах, Ребек, вы такой Schmuck. [ 10 ]
Но прошло три недели после того, как он открыл ей свою тайну, и она часто приходила на кладбище. И теперь по вечерам он подолгу сидел на ступеньках мавзолея, ожидая её прихода. Впрочем, недавно начал и на дорогу выходить, чтобы её встретить, потому что Сентрал-авеню бежит от ворот вверх по склону, а миссис Клэппер – создание, не очень-то приспособленное карабкаться в гору. Кроме того, он ловил себя, что в нетерпении ждет момента, когда она его заметит (а он всегда замечал её первый), махнет рукой и закричит: «Эй, Ребек! Это я, Клэппер!» В приветствии этом не было ничего заготовленного заранее, несмотря даже на то, что оно всегда оставалось тем же. Он чувствовал, что она рада его видеть и хочет убедиться, что и он её заметил. Что касается его, то бурные крики заставляли его почувствовать себя кем-то настоящим – человеком, который достаточно шумит, чтобы его узнали, приветствовали и назвали ненормальным.
«Человек постоянно ищет тождественности, – думал он, шагая по гравийной дорожке. – У него нет настоящих доказательств собственного существования, если не считать реакции других людей на этот факт. И вот он внимательно прислушивается к тому, что люди о нем говорят друг другу, хорош он или плох, потому что это означает: он живёт в том же самом мире, что и они, а все его страхи насчёт того, что он невидим, несостоятельны, что у него отсутствует некое таинственное измерение, которое присуще другим – беспочвенны. Вот почему людям нравится иметь прозвища. Я рад, что миссис Клэппер знает, что я существую. Её следует считать за двоих или за троих обычных людей».
Дорога расширялась, дойдя до чего-то вроде мощёной дельты, с одной стороны от которой светился одинокий огонек сторожки. Прямо напротив сторожки, примерно в 30 ярдах, громоздилось во тьме куда более впечатляющее сооружение – уборная. Сама дорога бежала дальше к обрамлённым башенками воротам, запертым ныне на висячий замок, как всегда после пяти часов вечера. Мистер Ребек отвел от них взгляд. Он никогда не смотрел на ворота, разве что случайно.
Он старался, как мог, не нарушать тишину, пробираясь к уборной. И первое, что он сделал – запер тяжёлую дверь, так как знал по опыту, что неизбежный шум: например, рёв спускаемой воды в кабинке или звон тонкой струйки о раковину, – теперь никому не могут быть слышны, если только кто-то не встанет в нескольких футах от двери. Затем он включил неяркие флюоресцирующие панели на потолке. В стене, выходящей на сторожку, отсутствовали окна, а свет был таким слабым, что существовал лишь ничтожный шанс, что его увидят из-под двери.
Мистер Ребек воспользовался одним из унитазов, не сводя с двери озабоченного взгляда. В повторяющихся снах о том, как его обнаруживают, часто случалось, что именно в подобный момент двери – а дверей во сне всегда было несколько – распахиваются – и безликие преследователи врываются внутрь со всех сторон. Он напился из фонтанчика, расположенного близ ряда раковин, осторожно отворил дверь и вышел наружу, где столкнулся с тенями, напоминавшими ему железных псов, замерзших в ожидании какой-нибудь добычи. Он был до глубины души рад, что они не обращают на него ни малейшего внимания. Годы назад ему казалось, будто они обнажают яркие зубы, узнавая его и как-то чересчур нетерпеливо приветствуя. Сегодня, однако, среди них стояла какая-то новая тень: чудовище среди стаи железных псов. Тень двинулась сквозь них, сгоняя их, терпеливых и напряжённых, со своего пути, затем, уперев руки в бёдра, уставилась на мистера Ребека и сказала:
– Эй, ты!
Вот оно и случилось. Именно так они говорили во сне: «Эй, ты!» Во сне их было гораздо больше, и они кричали, но слова оказались те же самые. Теперь они догадывались о его существовании, какой-то образ у них в сознании соответствовал ему, и он им был за это почти благодарен.
– Я? – переспросил он, сомневаясь в своем вновь обретенном статусе, как если бы не вполне мог поверить, что этот дар действительно предназначен ему, что не допущено ошибки.
– Иди сюда, – распорядился человек, властно подзывая его мощным большим пальцем. – Иди сюда, – повторил он, видя, что мистер Ребек неподвижен.
И мистер Ребек медленно направился к нему, волоча ноги по асфальту. По мере того, как он приближался к незнакомцу, тот становился все огромнее и темнее, пока наконец мистер Ребек не очутился прямо перед ним и не всмотрелся в его лицо, слегка вывернув шею – как если бы следил за передвижением мощной грозовой тучи. Все черты лица: нос, рот, глаза, подбородок, лоб – были огромными и выдающимися, за исключением маленьких ушек, так тесно прижатых к голове, что они почти терялись под густейшими, чёрными как уголь волосами, которые дорисовывали его облик.
Он указал через плечо мистера Ребека на уборную и спросил:
– Ты там всё закончил? – голос его звучал низко и без всякого выражения.
– Да, – ответил мистер Ребек. Он подумал, что вопрос вполне уместен.
– Отлично, – сказал тот. Он сделал резкий жест в сторону уборной. – Ну, а теперь вернись туда и выключи электричество. И побыстрее.
Мистер Ребек был вполне уверен, что всё расслышал правильно. У него было превосходный слух для человека его лет, и он внимательно прислушался к тому, что говорил верзила. Когда мистер Ребек переспросил «Что?», он сделал это только, потому что хотел, чтобы тот парень ещё раз повторил то же самое. Мистер Ребек подумал, а вдруг тот ошибается, и хотел дать ему возможность уточнить.
– Вернись туда, – повторил незнакомец, – и поторопись. Выключи там свет. Здесь нельзя на всю ночь оставлять электричество. Это же разорение.
– Сейчас, сейчас, – сказал мистер Ребек.
Он вернулся в уборную и выключил свет. Затем возвратился к верзиле и встал перед ним, всё ещё ожидая суда, но удивляясь, как это он раньше не мог столкнуться где-то с этим человеком.
– Хорошо, – сказал верзила. Он молча уставился па мистера Ребека, который заморгал и отвёл взгляд, заметив при этом, что в левой руке верзилы зажата полупустая бутылка. «Виски», – предположил мистер Ребек и позволил себе короткую вспышку надежды.
– Отлично, – сказал незнакомец, – теперь мне надо отойти. Ты останешься здесь, и вот тебе, – он всунул бутылку в открытую ладонь мистера Ребека. – Так, – он беззвучно усмехнулся. – Это тебя здесь удержит. Смотри, не слиняй, а просто подожди тут, к чертям собачьим.
Он отвернулся и быстро зашагал в гущу кустов около уборной. Едва он исчез, кусты затрещали да зашуршали, и гигантская голова высунулась наружу, а глаза незнакомца стали искать мистера Ребека среди псов-теней.
– Думаешь, я дурака валяю, приятель? – угрожающе спросил низкий голос.
– Нет, – сказал мистер Ребек, не смея пошевелиться, – я уверен, что ты – всерьёз.
– Я тебе покажу, кто валяет дурака, – пробормотал тот и пригрозил мистеру Ребеку кулаком размером с барабан. Голова тут же исчезла в кустах. Оставшись один, мистер Ребек принялся ждать, когда огромный парень вернется.
– Беги, – сказал он себе. – Уйди в тень и беги. В двухстах ярдах отсюда ему тебя не увидеть. Беги, дурак! Или твоя башка окончательно забыла дорогу домой?
Но он остался где был, зная, что огромный парень может просто дождаться рассвета, заручиться помощью нескольких сторожей и запросто его разыскать. У них имеются легковушки и грузовик. Если они захотят, они найдут его в течение дня. И в этом не будет ничего достойного, только пот, страх и крики, мол, вот он, а затем его выведут откуда-нибудь, где бы он ни прятался, смеясь над его жалкими попытками вывернуться… Так спокойнее и менее болезненно. А бежать всегда хлопотно.
Он с любопытством взглянул на длинную бутылку у себя в руке. Было слишком темно, чтобы прочесть этикетку, и он предположил, что это виски. Он очень мало пил, пока жил в обычном мире, и, конечно же, вовсе не пил с тех пор, как мощное потрясение привело его сюда, на кладбище.
Приблизив нос к горлышку, он осторожно вдохнул и почувствовал, что запах вызывает у него головокружение и вообще ему не знаком. Ни одна его частица не помнила больше запаха виски. Он вообразил, что, наверное, рад.
Кусты снова затрещали, и верзила вышел на свет, застёгивая пояс. Он высматривал мистера Ребека, и его голова медленно, как пушка, поворачивалась из стороны в сторону.
– А, ты здесь, приятель, – его голос прогромыхал в ночи, как пушечный выстрел. – Ты здесь? – казалось, он беспокоится.
– Да, здесь, – отозвался мистер Ребек. Его здравый смысл сдался, словно запертый на ночь старичок, и вернулся домой.
– Хорошо, – сказал парень. Он подошел к мистеру Ребеку, уверенному, что слышит, как дрожит земля.
Мистер Ребек остался где был, как можно крепче сжав бутылку. Сильное чувство неуверенности вдруг потрясло его и заставило чувствовать себя больным.
– Что я тут делаю? – сказал он вслух. – Я – Джонатан Ребек. Мне пятьдесят три года. Как я сюда попал?
Парень взял у мистера Ребека бутылку, отпил из горлышка, и кадык его зашевелился, как бакен на волнах. Он вытер рот тыльной стороной ладони и воззрился на мистера Ребека. Парень был огромен, как грузовик, как бульдозер, он покачивался на пятках туда-сюда, угрюмо изучая мистера Ребека, и тень его двигалась за ним следом по твёрдому асфальту. Затем он совершенно внезапно поскреб затылок. Его правая рука медленно поднялась, описав полукруг, и погрузилась в жесткую шевелюру. Ногти, проехавшись по коже, издали звук, похожий на скрежет наждачной бумаги. Он заморгал. И эти две вещи заставили его выглядеть молодым и неуверенным в своих силах.
– Что же мне с тобой делать? – спросил он. Это действительно был вопрос, и парень ждал ответа.
– Не знаю, – сказал мистер Ребек. Внезапно он рассердился и почувствовал себя обманутым. – Это твоё дело. Я тебе подсказывать не собираюсь.
– Рома у меня больше нет, – словно защищаясь, сказал верзила. Он сжал бутылку, которую держал у бедра, как если бы пытался её спрятать. – Это – всё, что у меня осталось. И мне это нужно.
– Да ладно, – сказал мистер Ребек. – Я и не хочу.
«А он не так уж и громаден, – решил мистер Ребек, – очень велик для человека – да, но его развязность и почёсыванье в голове явно не свидетельствуют о его принадлежности к роду бульдозеров». В свете, льющемся из широко раскрытой двери сторожки, мистер Ребек разглядел, что глаза у парня тёмно-синие, и, в данный момент – растерянные. И мистеру Ребеку стало немного лучше. Он опасался, что глаза эти окажутся бесцветными и невыразительными, словно пеньки.
– А, черт возьми, – сказал наконец верзила, – пошли со мной. – Он двинулся к сторожке, то и дело оглядываясь, дабы убедиться, что мистер Ребек идёт за ним. У дверей он сделал мистеру Ребеку знак остановиться и пропал в домике. Мистер Ребек услышал, как что-то летит на пол, затем – короткую и весьма изобретательную брань и далее – грохот выдвигаемого ящика комода. Стоя там, где незнакомец его покинул, мистер Ребек подумал: «Должно быть, это неуверенный в себе новичок. Вот он и пошёл позвать кого-то на помощь. Через несколько минут сюда придет человек, который знает, как поступать с нарушителями». Люди, которые знают, что делать, всегда, вопреки желанию мистера Ребека, производили на него впечатление.
Торжествующий вопль в сторожке. Снова грохот. И вот незнакомец – в дверях. И держит в руке новую бутылку.
– Нашёл я этого сукина сына, – похвастался он. – Прямо у меня под носом валялся, – он поднес бутылку к носу и хихикнул. – К счастью, нюх у меня что надо. Вот так, – он протянул бутылку мистеру Ребеку. – Держи. А я пока подумаю, что мне с тобой делать.
Мистер Ребек бутылку не взял. Затянув потуже пояс халата, он спросил:
– Вы – дежурный сторож?
Верзила кивнул.
– Я самый. Дежурю с полуночи до восьми. Затем иду домой.
– Ну, так ради Бога! – негодующе воскликнул мистер Ребек. – Вы и сторожите хоть что-нибудь! А что это за сторож, который ходит и предлагает выпить каждому, кого ни встретит?
Верзила отнёсся к вопросу вполне серьезно.
– Не указывай мне, – сказал он, закрыл поплотнее глаза, сморщил лоб, и сам себе забормотал возможные ответы. – Великодушный сторож, – предположил он. – Безмозглый и великодушный сторож – верно?
Мистер Ребек был человеком благовоспитанным и уважал собственность. Позиция верзилы задела его.
– Черт возьми, – сказал он. – А вы уверены, что я не вор? Откуда вы знаете, что я не задумал что-нибудь украсть?
Изо рта верзилы вылетел низкий, чуть пьяный смех.
– Нечего тут красть. Воры не приходят шляться среди могил. Зачем?
– Зато похитители трупов приходят, – сказал мистер Ребек, не желая уступать. – Грабители могил. Может быть, я могилы граблю.
Синие глаза тщательно оглядели его.
– Ты, должно быть, ограбил совсем крохотную могилку. У тебя только и есть, что один карман.
Что-то должно пробудить в этом человеке чувство ответственности. «Удача, что он мне подвернулся», – подумал мистер Ребек. Он встал поудобнее и похлопал по распахнутой ладони указательным пальцем.
– Предполагается, что вы не принимаете решений, – сказал он терпеливо. – Предполагается, что не вы определяете, кто вор, а кто нет. Это не ваше дело. Вы меня слушаете?
– Ага, – сказал тот и потряс бутылкой перед лицом мистера Ребека. – Ну, так ты хочешь выпить или нет?
– Дай её мне, – устало согласился мистер Ребек. Он был рад, что этот парень не собирается его арестовывать. Но то, как легко незнакомец пренебрегает своими обязанностями, опечалило мистера Ребека и слегка испортило ему настроение. Он вспомнил все ночи, когда он дрожал от испуга в уборной, двигался на цыпочках, отчаянно желая, чтобы дверь не скрипнула, угадывая свою участь в эхе каждого своего шага, опасаясь даже взглянуть ненароком на освещённый домик по ту сторону дороги: а вдруг и это как-то привлекло бы внимание сторожей? «Я мог бы маршировать здесь в армейских ботинках, – горестно подумал он, – пьяным голосом распевая песни и кидая в дверь камни, а он бы даже и не шелохнулся во сне». Теперь мистер Ребек понял, что испытывал удовольствие от своих тайных прогулок к уборной и жалел, что этого больше не повторится.
Он отхлебнул из бутылки – и не подавился, хотя пил впервые за 19 лет. Шоколадно-угольный букет рома согрел ему горло, пробегая в желудок.
– Спасибо, – сказал он и протянул бутылку хозяину.
Тот покачал головой.
– Это тебе, – сказал он, пихнув бутылку назад, к мистеру Ребеку, с достаточной силой, чтобы тот пошатнулся. – Я ещё свою не кончил.
– Что же, это достаточно справедливо, – сказал мистер Ребек и снова отхлебнул. Затем, вспомнив о хороших манерах, протянул верзиле руку и представился:
– Меня зовут Джонатан Ребек.
– Кампос, – представился верзила и пожал руку мистеру Ребеку со сдержанной любезностью человека, знающего свою силу. Почти что сразу же он расслабился. – Давай присядем где-нибудь с этим добром.
– Очень хорошо, – сказал мистер Ребек. – Но я хочу выяснить одну вещь. Вы – прекрасный парень и прекрасно угощаете своих посетителей, но сторож вы – самый никудышний из всех, каких я только видел. Пусть у нас не будет взаимных претензий.
– Не будет, – согласился. Кампос. – Никаких. Только я всегда думал, что я довольно неплохой сторож.
– Ты – ужасный сторож, – сказал мистер Ребек. Он тронул Кампоса за руку. – Извини, я не хотел тебя обидеть. Но кое о чём надо сказать.
– Я – ужасный сторож, – громко промычал Кампос. И вяло пожал плечами. – Что ж, не каждый день узнаёшь что-то новое. Садись. Ну, давай садись.
И они уселись вдвоём на траве перед сторожкой. Кампос тут же вскочил и бросился в сторожку. Почти немедленно он вернулся с переносным транзистором в кожаном футляре, прижатом к груди.
– Моя музыка, – объяснил он. Он поставил приёмник наземь, включил и настраивал его до тех пор, пока не поймал станцию, передававшую классическую музыку. Затем опёрся о стену домика и ухмыльнулся мистеру Ребеку. – Всё время её слушаю.
Мистер Ребек уселся рядом с ним.
– Очень здорово, – с наслаждением сказал он. Бутылку он держал на коленях, перекатывая её в ладонях.
– Все это чёртово время я её слушаю, – сказал Кампос. – С тех пор, как здесь работаю.
– И как давно?
– Уже год. Меня сюда Уолтерс устроил.
Мистер Ребек потерял осторожность.
– Это такой светловолосый парень?
– Угу, – на мгновение в чернильно-синих глазах Кампоса вспыхнуло подозрение. – А ты откуда знаешь, каков из себя Уолтерс?
Легкомысленная надежда, что возмездие отменено, которую позволил себе мистер Ребек, умерла где-то в желудке с возгласом упрека. Струйка рома, попав в трещину на губе, вызвала жжение.
– Я уже видел его, – сказал он, – когда бывал здесь раньше. Видел, как он ведёт грузовик. Кажется, ты в тот раз был с ним.
Но от Кампоса было не так легко отделаться. Его громадная лапа схватила бутылку, которую держал мистер Ребек, и вырвала её.
– Не смей расплескивать мой ром. Как ты вообще очутился здесь в такое время? Мы закрываемся в пять.
– Меня заперли, – тут же сказал мистер Ребек. Он умоляюще улыбнулся Кампосу. – Сам знаешь, как летит время, когда посещаешь чью-то могилу. И прежде чем я понял…
– Ну, не пришел же ты прямо в этом халате, – усомнился Кампос. Он указал на ноги мистера Ребека. – И в этих ковровых тапочках. Уолтерс бы тебя не впустил. Я ещё мог бы, потому что я бы мог слушать свою музыку и ничегошеньки не заметить. И ты бы мог пройти мимо меня, потому что я иногда чего-то не замечаю. Но Уолтерс бы тебя сюда не впустил, да ещё и так одетого.
Он закончил на такой торжествующей ноте, что мистер Ребек перекрутил подол своего махрового халата, понимая, что попался. Ему только и оставалось, что понадеяться на милосердие Кампоса. А по части милосердия опыт мистера Ребека был таков, что оно имеет тенденцию прогибаться под тяжестью человеческой души. Но он очень устал, и было 3 часа утра, и он сидел бок о бок на кладбище с чужим, склонным к подозрительности человеком – всё это его стремительно старило. Если что-то должно случиться – пусть сейчас, пока с ромом и видимостью дружбы не совсем покончено.
– Я здесь живу, – бесстрастно сказал он. – Я живу в старом мавзолее, и довольно давно. Ну, а теперь либо зови полицию, либо верни мне ром. Я слишком стар для подобных штучек.
– Ах да, – сказал Кампос. – Я-то даже и не сообразил, что ром – у меня, – он вернул бутылку мистеру Ребеку, который посмотрел на него с мгновение, а затем стал пить напряжёнными и гулкими глотками. Когда он наконец поперхнулся, Кампос похлопал его по спине и помог ему выпрямиться.
– Конечно, я понял. Уолтерс тебя не впустил бы, – объяснил он. – Вот я и решил, что как раз что-нибудь эдакое, – он потянулся, чтобы пощупать ткань халата. – Ты же простудишься, если будешь так бегать. Ты просто наверняка простудишься.
– Нет, не простужусь, – возразил мистер Ребек. – Ночь очень теплая.
– Всё равно, – сказал Кампос. Он усилил громкость приемника и принялся демонстративно слушать струнный квартет. Это было что-то из Моцарта. Или из Гайдна. То немногое, что знал мистер Ребек из классической музыки, он начисто забыл. Но он видел, что Кампос смотрит на него, ожидая одобрения, закрыл глаза и мягко замычал, дабы показать, что он тоже слушает.
– Здорово, а? – Кампос явно жаждал похвалы своему вкусу. – И всё скрипки. Они дают мне чувство освобождения.
– Освобождения, – повторил мистер Ребек. Он немного побаивался произносить это с вопросительной интонацией. – Да, освобождения.
– Как если бы мне было двадцать, я ни на кого не работал бы и мог бы летать, – сказал Кампос. – Такого вот освобождения.
Они вместе слушали струнный квартет. Музыка была радостной на поверхности и печальной в глубине, и она согрела мистера Ребека не меньше, чем ром. Мистер Ребек лежал на траве, закинув руки за голову, бутылка рома балансировала у него на груди, а он глядел сквозь деревья на немногочисленные звёзды, которые здесь виднелись.
«Это очень приятно, – сказал он сам себе. – Мне все это кажется необычным, потому что я не так уж и часто этим занимался, но, возможно, для этого-то и существует человек. Возможно, конечно, это и не так». Это может быть просто недурной способ проводить время: с музыкой, выпивкой и другом, хотя он и не знает по-настоящему, может ли он считать Кампоса другом. Кампос слишком непредсказуем даже для друга – не добрый и не злой, словно ветер, и доверия достоин не в большей степени. И всё же между ними теперь был долг, и выпивку они разделили, а это часто создает хорошую основу для дружбы».
Когда послышалось восторженное Кампосово: «Привет», мистер Ребек был уверен, что верзила здоровается с другим сторожем и поплотнее вжался в землю, чувствуя себя беспомощным и пригвождённым к месту. Но когда он услышал, что Кампосу отвечает знакомый голос Майкла Моргана, мистер Ребек вскочил так быстро, что бутылка рома скатилась у него с груди, и он бы расплескал содержимое, не подхвати Кампос бутылку в воздухе. Мистер Ребек взглянул на дорогу и увидел приближающихся вдвоём Майкла и Лору. Он заметил, что выглядят они крайне осязаемыми, почти как люди. Отчасти это было объяснимо: их прозрачность не казалась такой очевидной на фоне ночной тьмы. Но было здесь и нечто большее. В них появилась какая-то подчёркнутая ясность, детали их тел и лиц проступали с новой резкостью, как если бы они посмотрели друг другу в глаза и внезапно вспомнили, как выглядят их собственные глаза. Они шагали свободно, Майкл не топал по земле, но и Лора от земли не отрывалась на каждом шагу. Они выглядели почти настоящими, настолько, что, казалось, могут отбрасывать тень или отражаться в зеркале.
Но эта мысль, трепеща, промчалась у него в мозгу и пропала. Он перевёл взгляд с Кампоса на Майкла и услыхал, как человек и призрак окликают друг друга. Он слышал, как они смеются, и только и мог сказать, что у одного из них смех ниже и грубее. Лора увидела мистера Ребека и окликнула его. Он сдержанно кивнул в ответ, чувствуя себя старше своих лет.
– Ты их видишь? – спросил он Кампоса удивлённым шепотом.
– Конечно, – сказал тот. – Что за идиотский вопрос.
Мистер Ребек промолчал.
Кампос встал, как только Лора и Майкл приблизились и спросил их:
– Где вы были?
– Да где мы только не были, – ответил Майкл. – Продавали бусы и керамику туристам. Это не Бог весть что, но худо-бедно управляемся. Иногда она исполняет для них небольшой примитивный танец, пока я совершаю примитивные торговые промахи. И мы от них благополучно отделываемся.
– Привет, – сказала Лора мистеру Ребеку. Она села с ним рядом и положила руку ему на руку. Он не мог ощутить прикосновения её пальцев, но его собственные пальцы внезапно похолодели.
– Привет, Лора, – ответил он. И так как он не мог придумать, что же ещё сказать, добавил. – Я так давно тебя не видел.
– Мы собирались прийти, – сказала Лора. – И мы бы пришли, – она проследила за взглядом, который он бросил на Майкла с Кампосом и улыбнулась. – Тебя удивляет, что мы и с Кампосом можем разговаривать?
– Ещё бы, – сказал мистер Ребек. – Я вообще не понимаю, в чём дело.
– Честно говоря, мы тоже, – сказала Лора. Началось с Майкла. Он первый наткнулся на Кампоса. Я с ним познакомилась позднее.
Майкл повернул к ней голову:
– Что я такое сделал?
– Познакомился с Кампосом, – пояснила Лора, – я рассказываю об этом мистеру Ребеку.
– Так и было, – самодовольно подтвердил Майкл. – Он ехал себе в грузовике, а я вышел на дорогу и попытался его напугать, мне хотелось проверить, есть ли хоть что-то во всех этих старых байках о призраках. Грязная собака проехала прямо по мне. Точнее – через меня.
– А я понял, что ты призрак, – сказал Кампос. – И вообще: разве я не вернулся, чтобы удостовериться?
– О, конечно. Здесь я должен отдать тебе справедливость. Ты хотел убедиться, что твоя шкура не пострадает, – он внезапно взглянул на мистера Ребека. – Ну, и оказалось, что он меня видит и может со мной разговаривать, совсем как ты. И мы с Лорой завели привычку приходить и навещать его, когда он дежурит в ночную смену. Мы ему поём и рассказываем истории. Это помогает ему не спать.
– Понятно, – сказал мистер Ребек. Он вздохнул, и пальцы его расслабились. – Извините меня за мой ошарашенный вид, просто как раз об этом я все время думал: неужели я – единственный в мире человек, который способен видеть призраки? Я знаю, это звучит нахально, но через некоторое время я начал считать, что так и есть.
– Ничто в мире не бывает одним-единственным, – небрежно заметил Майкл. Он опять повернулся к Кампосу. – Послушай, ночной сторож, человек, бдящий в ночи, спой-ка эту песенку о дереве. Я её малость подзабыл.
– Это не о дереве, – возразил Кампос. – Я тебе сколько раз объяснял.
– Правильно. Не о дереве. Она не имеет отношения к деревьям. Ну, так спой же.
Кампос негромко запел, струнный квартет все ещё играл по радио, и гортанный, почти скрежещущий голос Кампоса звучал, словно пятый струнный инструмент, настроенный абсолютно иначе, чем четыре остальных, и наигрывая совершенно другую мелодию, которая бродила вокруг замкнутого круга квартета, надеясь, что её впустят.
No hay arbol , que no tenga Sombra en verano No hay nina que no quiera Tarde o temprano [ 11]– Повтори, – нетерпеливо попросил Майкл. – Это я знаю, – его голос присоединился к голосу Кампоса, и они снова пропели куплет. Голос Майкла был слабее и звучал более отдалённо. Слова он произносил отчётливо и в такт, но его голос, казалось, постепенно затихал, словно в телефонной трубке. Мистер Ребек никогда ещё не слыхал, как поют призраки. Они обычно забывают музыку ещё до того, как забывают название улицы, на которой жили, и позабытые ими песни больше не вспоминаются. Но Майкл сидел рядом с верзилой Кампосом, пел песню, которой не знал мистер Ребек и, кажется, даже нисколько не догадывался, что проделывает нечто необычайное.
– Ты, как будто, опечален, – сказала где-то рядом Лора. Мистер Ребек не знал, что она на него смотрит. Он поспешно изобразил сонную улыбку.
– Я не опечален, а просто малость растерялся. Сегодня был странный вечер, и мне требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к некоторым вещам. Но я отнюдь не несчастен, ничего подобного.
– Это хорошо, – сказала Лора. Она поколебалась, затем быстро добавила. – Думаю, я понимаю, что ты чувствуешь.
Мистер Ребек взглянул на неё, и даже во тьме увидел её бесхитростный облик: прямые волосы, широкий рот… Но заметил он и то, какой красивой сделала Лору хотя бы эта единственная ночь, ничего в ней не изменив.
– В самом деле? – задумчиво спросил он. – Я-то сам не понимаю.
– А я – да, – сказала Лора. Затем её окликнул Майкл, и она отвернулась, подхватив припев песенки, и теперь они пели все втроем, а мистер Ребек слушал. Песенка поднималась, как дымок, окрашенный ромом дымок.
Как подумал мистер Ребек, голос Лоры был самым лучшим из трёх. Высокое сладостное воспоминание, голос из садов и виноградников, с речных берегов и птичьих базаров у моря. Она смотрела на него, когда пела, и он закрывал глаза, чтобы лучше вслушаться в этот женский голос, мудрый, хотя и не отягощённый знанием. Как много времени прошло с тех пор, как он пил ром и слушал пение женщины.
«Чёрт возьми, – подумал он столь яростно, что на миг ему почудилось, будто он воскликнул это вслух. – Чёрт возьми! Чёрт возьми! Что ж я такое чувствую, чего же мне такого не хватает? Печален ли я, в конце концов? Не думаю. С чего бы? Майкл счастлив, Лора счастлива – взгляните на неё. Кампос счастлив – или какие там чувства он испытывает в минуты, вроде этой. Почему же я не могу расслабиться, вобрать в себя этот миг и вслушаться в пение? Что меня гложет, когда они поют?»
Вот голос Майкла – неясный на высоких и низких нотах, но подлинный и сардонический – Майкл поет и увлечен этим. А Кампос гулко смеется. Голос у него тяжелее, чем голоса призраков, резче, да и смысл песни он понимает.
«Они вовсе не для меня поют, – подумал мистер Ребек. – Возможно, это меня и опечалило – то, что мы никогда вместе не пели. Они приходили ко мне за утешением и разговорами, они приходили, чтобы сыграть в шахматы или прогуляться – и просто, чтобы был рядом кто-то живой. Но вот они поют с этим человеком, и я никогда не видел их такими счастливыми. Он их научил этой песне, и теперь они поют вместе с ним. А интересно, мог бы и я это сделать?»
Во время припева Лора играла с мелодией, подбрасывая её высоко, словно быстрый мячик, который, светясь и мерцая отражённым светом, опускался прямёхонько ей в ладони.
Мистер Ребек сорвал травинку и вставил её в губы. Травинка была кислая, и её оказалось приятно жевать.
«Так что же, я их дружбы хотел? – подумал он. – Или, чтобы они от меня зависели? Думаю, это очень важно знать. Мне жаль, что они могут говорить друг с другом и с этим человеком? Я боюсь, что найдутся другие, вроде Кампоса? Или я так скучен даже самому себе, что боюсь: кто-то другой отобьёт у меня моих друзей? Или я – такой усталый и бесцельный, что хочу вечно держать их около себя, пользуясь их необходимостью во мне и одиночеством? Это невозможно сделать, Джонатан, они – души, а души ты не можешь заставить зависеть от себя. Они, конечно, же, обведут тебя вокруг пальца».
Quando se ven queridos, No corresponden.Закончив песню, они рассмеялись. Мистер Ребек откинулся на спину и зааплодировал.
– Браво! – воскликнул он. – Особенно – браво, Лора!
– А вы обратили внимание, как я исполнил второй куплет? – спросил присутствующих Майкл. Ответа не было. – Что-то никто не спешит высказаться.
– Впечатляюще, – сухо сказала Лора.
– Тонко, – предположил мистер Ребек с видом человека, пытающегося одновременно поддержать друга и остаться честным, – весьма тонко.
– Я воспользовался четвёртым измерением, – сказал Майкл. – Но я не должен вас упрекать за вашу тупость. У вас не нашлось слов для сравнения и не имелось точки отсчета. Кампос моё искусство оценил. Я именно так читаю его угрюмое молчание.
– Что означает эта песня? – спросил Кампоса мистер Ребек.
Верзила пожал плечами:
– Да то и означает, что женщины прямо удивительны. Никогда не было дерева без тени, дома без пыли по углам и женщины, которая рано или поздно кого-нибудь не полюбила бы. Рано или поздно. А ещё она означает, что мужчины – сукины дети. Как только кто его полюбит – он удирает. Не доверяйте сукиным детям.
– Простая народная мудрость, – сказал Майкл, – доставшаяся нам ещё от майя. Закрой глаза, дорогая, и подумай об Англии.
– Песенок, вроде этой – много, – сказала Лора. – И все – с точки зрения женщины. В них говорится: никогда не доверяй мужчинам, остерегайся влюбленных, любой мужчина тебя бросит, а тот, кто верен – просто умирает, прежде чем соберётся оставить тебя.
– Существует ничуть не меньше песен, выражающих мужскую позицию, – вмешался Майкл. – Только их не поют. Они не забавны и не красивы. А песни о любви, как и люди, должны быть либо такими, либо эдакими. Поэтому никто не исполняет их на концертах в Таун-Холле. Но каждый мужчина знает хотя бы несколько.
– Спой какую-нибудь, – вызывающе предложила Лора, – спой прямо сейчас.
– Надо быть в скверном настроении, чтобы такое петь, – ответил Майкл, – а я, скорее, настроен дружелюбно. Их также надо петь, когда нет настроения петь, а мне что-то больно петь хочется. Я спою, если ты настаиваешь, но я прошу тебя понять, какие тут существуют препятствия.
– А можно и я с вами спою? – спросил мистер Ребек. – Я по-настоящему петь не умею, но хотелось бы.
Все трое воззрились на него, и в глазах их он прочел смесь замешательства и насмешки.
«Как глупо, – подумал он. – Зачем я это сказал? До чего охота переиграть».
Майкл заговорил первый.
– Конечно. А ты думаешь, что надо спрашивать? – он обернулся к Кампосу. – Научи его петь «El Monigote», [ 12 ] там, где о кукле. Этому он за пять минут выучится.
Но Лора негромко сказала:
– Нет, научи нас чему-нибудь новенькому. Чему-то такому, чего никто из нас не знает. Это – лучший способ учить песни.
– Я по-настоящему не умею петь, – сказал мистер Ребек, но Кампос его оборвал.
– Я знаю одну колыбельную, – сказал он. – Её детишкам поют. Хотите выучить? – трое остальных кивнули. – Она чертовски проста, – продолжал Кампос. – Примерно так, – он запел, слова возникали где-то в самой глубине его горла, и он все смотрел на дорогу, выводя мелодию:
Dormite ninito que tengo que hacer Laver tus panales, sentarme a comer. Dormite ninito, cabeza de ayote, Que si no te dormis, te come el coyote.– Я, кажется, расслышал слово «койот», – сказал Майкл. – Откуда койот в колыбельной?
– Да оттуда же, откуда и бука. Вот что это означает: Спи, малыш, мне надо постирать твою одёжку и раздобыть что-нибудь поесть. Спи, малыш, мой мальчик с головкой-тыквой, а если не будешь спать – тебя койот съест.
– О, прелестно, – сказал Майкл. – На Кубе знают, как воспитывать детей. Их там не морочат.
Кампос не обратил на него внимания.
– Ну, а дальше так:
Arru, arruru, Arru, arruru, Arru, arruru, Arruru, arruruМистер Ребек начал осторожно подпевать, присоединившись к Майклу и Лоре, Он опасался, что вообще петь не сможет, а когда услыхал первые звуки нового голоса в припеве, так испугался, что на мгновение умолк. Он знал, что голос его высох и заржавел от долгого бездействия, но обнаружилось, что петь ему и почти что физически больно. Его горло словно наполнилось опилками, которые было не проглотить. Губы онемели и запеклись.
Не прерывая пения, Кампос потянулся и всунул в руку мистера Ребека последнюю бутылку рома. Мистер Ребек отхлебнул и почувствовал, что рушится терновая изгородь в горле, и песня проходит через неё. Он ещё раз отхлебнул, чтобы смыть последние тернии, вернул бутылку Кампосу и снова подхватил:
Arru , arruru , Arruru , arruru .Когда припев закончился, он запел его снова. Один. Голос его, громкий и радостный, то вдруг терял мелодию, то снова набредал на неё невзначай, меняя ключ там, где ему не дотянуться было до верхних нот. Лора и Майкл улыбались друг другу, и он был уверен, что они над ним смеются. «Я валяю перед ними дурака, – подумал он. – Но я родился для того, чтобы валять дурака, и взял себе слишком долгий отпуск. Пора бы за дело. Конечно, они смеются, я бы и сам смеялся, если бы не пел».
Но он подумал также: «Спи, малыш. Спи, мой мальчик с головкой-тыквой…» – и пропел ничего не значащие для него слоги, закрыв глаза, потому что опасался, что остановится, если увидит, как они смеются.
Затем к нему присоединился Майкл. Майкл пел негромко и рассеянно, не глядя ни на мистера Ребека, ни на кого другого. Они закончили вместе:
Arru , arruru , Arruru , arruru .Пропев последний звук, Майкл остановился, но мистер Ребек тянул эту ноту настолько долго, насколько мог, пока не иссякло дыхание, и не пришлось замолчать.
Чёрное перо упало в неясном свете, и во тьме над головой раздалось брезгливое фырканье. Затем Ворон шлепнулся в центр круга, яростно хлопая крыльями, словно воздушный поток вдруг взял да и уронил его. Восстановив равновесие, птица, моргая, оглядела всех четверых и спросила:
– Что это за чертовщина? Групповая терапия?
Майкл пришел в себя первым. И указал на перышко в траве.
– Ты, кажется, что-то уронил.
Ворон уныло покосился на оброненное перо.
– Я паршиво приземляюсь, – сказал он. – Я ни разу в жизни не совершил приличную посадку.
– Колибри хорошо приземляются, – сказал Майкл. – Словно вертолеты.
– Колибри несравненны, – согласился Ворон. – Видели бы вы меня, когда я обнаружил, что из меня никогда не выйдет колибри. Я рыдал, как младенец. Чёрт возьми, сказать такое ребенку.
– Что ты тут делаешь так поздно? – спросил его мистер Ребек, – сейчас, должно быть, часа четыре утра.
– Я рано встал. А вы поздно засиделись. Всё равно, для того, чтобы спать, слишком жарко. Я летал в окрестностях и услыхал, что здесь веселье. Вы что-нибудь празднуете?
– Нет, – сказал мистер Ребек, – просто нам всё равно не спится.
Ворон поднял голову и оглядел Кампоса.
– А этого я откуда-то знаю.
– Кампос, – представился верзила. – Я – ужасный сторож.
– Угу, – сказал Ворон. – Я тебя вспомнил. Я как-то втихаря проехался на твоём грузовике.
Кампос пожал плечами:
– Катайся, сколько хочешь. А грузовик – не мой. Он принадлежит городу.
– Разумная позиция, – заметил Ворон.
– Он видит Майкла и Лору, – сообщил Ворону мистер Ребек. – Как и я.
Ворон перевел глаза с Кампоса на мистера Ребека и обратно.
– Похоже. У вас обоих – тот же придурковатый взгляд.
– Что именно за взгляд? – спросила Лора.
– Половина здесь, половина – там, – ответил Ворон. – Половина в себя, половина – в мир. Придурковатый взгляд, я узнаю его, когда вижу, – он повернулся к Майклу. – Последние новости и прогноз погоды. Твоя старушка – куда больше в беде, чем кто угодно на свете.
– Сандра, – сказал Майкл. Он быстро выпрямился. – Что случилось?
Лора не шелохнулась, но мистер Ребек подумал, что она сделалась чуть прозрачней, чуть менее видимой. Он попытался встретиться с ней взглядом, но она на него не смотрела.
– Фараоны нашли на полу кусочек бумаги, – сказал Ворон. – Маленький клочок бумаги, свернутый фунтиком. И в нём – гранулы яда. И теперь вокруг этого устраивают огромную шумиху.
– И на бумаге – отпечатки её пальцев? – спросил Майкл.
Мистер Ребек подумал, что Майкл выглядит голодным и несколько усталым.
– Никаких отпечатков, – ответил Ворон. – Они полагают, что она держала сверточек в платке, когда им воспользовалась, и потеряла эту дрянь, прежде чем успела сжечь. Это – обрывок листа для пишущих машинок. И теперь они пытаются найти сам лист.
Майкл медленно откинулся назад.
– Вот, значит, как. Так и должно было выйти. Вот и всё.
– Майкл, – тихо сказала Лора. – Перестань. Забудь это. Теперь это ничего не значит.
Голос Майкла был гневным и раздраженным:
– Для меня это кое-что значит. Она пытается доказать, будто я совершил самоубийство. Если они ей поверят, они притопают сюда со своими лопатами, выроют меня и похоронят где-нибудь в другом месте. С другими самоубийцами. Тебе бы это понравилось? Ты бы хотела, чтобы это случилось?
– Нет, – сказала Лора. – Нет. Но я не хочу, чтобы она умерла.
Они взглянули друг на друга – два призрака, позабывшие о двух людях и об одной чёрной птице. И вот Майкл первый опустил глаза.
– И я не хочу, чтобы она умерла, – сказал он. – Я думал, будто хочу, но это неважно. Меня не волнует, что с ней случится, но я надеюсь, что она не умрёт.
– Великое открытие, – хмыкнул Ворон. И сдержанно загоготал над чем-то, ему одному известным. – Её адвокат попросил отложить заседание. Ему дали неделю. Теперь суд состоится пятнадцатого.
– Она попалась, – сказал Майкл без всякой радости. – Она должна это знать. Остальное – просто ритуал. Ты мне расскажешь, как это пройдёт?
– Не приставай ко мне, – сказал Ворон. – Я снова прилечу сегодня, после того как посмотрю дневные газеты. В них что-нибудь будет. Я дам тебе знать.
– Спасибо, – сказал Майкл.
Кампос сидел, скрестив ноги и откинув голову далеко назад, глядя прямо в небо.
– Ты что-то потерял? – спросил его Ворон. Кампос наклонил голову и потер загривок.
– Сегодня летать явно не стоит. Будет дождь.
Ворон ухватился за возможность переменить тему.
– Черт возьми. Ты-то откуда знаешь?
– Пташки не поют, – серьёзно сказал Кампос. – Когда слышно, что они щебечут – значит, не будет дождя. Пташки в дождь не высовываются.
– Это все мура, – сказал Ворон. – Когда-то я и сам верил в подобный вздор. Теперь нет. Я проснулся как-то утром, и небо было таким серым, словно буря готова разразиться каждую минуту. Но я услыхал, как поют пташки, и подумал: «Эге, мои пернатые друзья не затеяли бы трезвон, если бы дождик собирался. Они-то знают, что делают». И вот я вылетел поискать себе что-нибудь на завтрак, и как только вылетел, братцы – хлынуло как из ведра. Вот я и уселся, ожидая, когда же на меня попадёт. А эти маленькие пернатые ублюдки чирикают себе – и хоть бы что. Сидят на деревьях и щебечут. Я потом неделю не мог просохнуть. И с тех пор я по сей день птицам больше не доверяю. И не собираюсь.
– Ты не любишь птиц, верно? – спросила Лора. – Я никогда не слышала, чтобы ты сказал о них доброе слово.
– Не то чтобы не любил. Просто я им не доверяю. Каждая из этих чёртовых пташечек – немного тронутая.
– Ты тоже, – пробормотал Кампос. – Ты тоже.
– Я тоже. И больше всех, – Ворон подцепил оброненное чёрное перо жёлтым когтем, повертел, и наконец, взяв его в клюв, передал мистеру Ребеку. – Положи куда-нибудь, – попросил Ворон. Мистер Ребек спрятал перо в карман.
– Я вам кое-что расскажу, – сказал Ворон. – Как-то летал я над Средним Западом – над Айовой или Иллинойсом – что-то вроде того. И я увидел эту треклятую большую чайку – да, чайку прямо посреди Айовы. Она летала себе большими, широкими такими кругами, эдак стремительно парила по кругу, как у чаек принято, помахивая крылышками только-только, чтобы держаться в воздухе. Увидев где-то воду, она всякий раз устремлялась туда, крича: «Нашла! Нашла!». Бедная дурёха искала океан. И каждый раз, когда она видела воду, она думала, что это он и есть. Она понятия не имела о прудах, озёрах или о чём-то таком. Все, что ей попадалось на глаза, любая вода казалась ей океаном. Она думала, что океан – это вся вода, какая только бывает.
– А как она попала в Айову? – спросил Майкл.
– Проспала свою остановку, – насмешливо сказал Ворон. – Откуда я знаю? Наверное, во время бури заблудилась. Но так или иначе, она всё искала да искала океан. Она не испугалась и не растерялась. Она знала, что собирается найти этот чёртов океан, и всякие там ручейки да пруды её нисколько не волновали. Ну, а в результате она всё летала и летала. И все птицы таковы.
Он наклонил голову, чтобы поскрести клювом в мягком пуху на груди и на брюхе. Звезды исчезали с неба одна за другой, сыпались, словно монетки, позади телеантенн, слуховых окошек и натянутых между трубами бельевых верёвок. Небо всё ещё оставалось темным: густым, синим и спокойным. Но трава возбужденно ждала рассвета.
– И ты что-нибудь сделал? – спросил мистер Ребек. – Ты ей помог?
– А что я мог сделать? Что, чёрт возьми, можно сделать для чайки в Айове? Я просто улетел.
– Ты должен был что-то сделать, – сказала Лора. – Должно было найтись что-то такое, что ты мог бы сделать.
– Боже мой, но я же не знал, в какой стороне океан. Я и сам заблудился. А иначе что бы я делал в Айове?
– Ты не способен заблудиться, – возразила Лора. – И, конечно, мог бы ей помочь. Уж что-нибудь сделать ты бы смог.
– Что-что? А ты мне не скажешь, что именно? – клюв Ворона щёлкнул, словно ключ телеграфного аппарата. – Вот вечно у вас, треклятых людишек, какие-то дурацкие заморочки. Вы говорите: «Что-нибудь надо было сделать. Ты должен был что-то сделать». И считаете, что это вас обеляет, снимает с вас ответственность. Не взваливайте её на меня. Я – тупица. Я не знаю, как кому-то помочь. И я тоже заблудился.
Он оглядел их всех по очереди, что-то невнятно бурча, его золотые глаза вспыхивали, как боевые украшения дьявола, бдительного и одинокого.
– Хорошо, – сказал Майкл. Голос его прозвучал очень низко. – Ты прав, я лицемер, и был им всю свою жизнь. Но это вовсе не мешает мне испытывать сочувствие к чайкам.
– А я и не говорил, что мешает, – сказал Ворон. Он взглянул прочь, на розовые уста, которые как раз начали отворяться на востоке. – Светает.
– Подождём, – сонным голосом сказал мистер Ребек. Глаза у него стали тяжёлыми, как шарикоподшипники, а шея больше не могла поддерживать голову. – Спой что-нибудь, Лора. Спой что-нибудь, пока мы ждём зари.
– Ты почти что спишь, – сказала Лора. – Мы проводим тебя домой. Ты сможешь полюбоваться зарёй по дороге.
– Нет, мы здесь просидели вместе всю ночь. Давайте же вместе встретим зарю. Это очень важно, – он тщательно попытался удержаться от зевка, и это ему удалось.
– Заря бывает каждое утро, – сказал Ворон. – И все они похожи одна на другую. Ты совсем как ходячий покойник.
– Исключительно бестактное сравнение, – пробор мотал Майкл.
– Я спою тебе песню, – сказала Лора мистеру Ребеку. Он не видел её, но её голос звучал совсем рядом. – Ложись-ка спать, и я тебе спою. Ты и лёжа сможешь полюбоваться восходом.
И тогда мистер Ребек лёг и почувствовал, что тело его примяло траву. Он сунул руку в карман халата и схватил оброненное Вороном перышко. «Это ром нагнал на меня сонливость», – подумал он. – «Не следовало мне так много пить, да ещё и столько времени спустя». Кампос что-то говорил, слова его походили на спички, зажигаемые на ветру. Мистер Ребек почувствовал сквозь сомкнутые веки теплую красноту и понял, что это начало вставать солнце.
– Так спой же, – попросил он Лору.
Её смех был нежным-нежным. Так смеются, зарывшись лицом в подушку.
– Что же тебе спеть? Песню-загадку? Колыбельную? Песню о любви? Песню о раннем рассвете и восходящем солнце? Что бы ты хотел послушать?
Мистер Ребек начал было объяснять, какого рода песня ему нужна, но уснул, и в результате так и не увидел той самой зари. Были и другие – и довольно красивые, которые удавалось встретить с песнями, но в последующие годы он всегда жалел, что проспал именно ту. «Это из-за рома, – нередко говорил он себе. – Не следовало так много пить. Ром нагнал сонливость».
Кампос отнёс его домой.
ГЛАВА 10
– Пусть это тебя не беспокоит, – сказал Майкл. – Если её нет сегодня, значит, завтра придёт.
– Нет, не придёт, – ответил мистер Ребек. Они сидели на ступенях мавзолея и смотрели на тропинку, которая вела к Сентрал-авеню. – Завтра воскресенье. Она никогда не приходит в воскресенье. Не знаю, почему, но не приходит.
Майкл украдкой бросил на него хитрый взгляд.
– Ты, по крайней мере, знаешь, какой сегодня день. А случалось, я замечал, как ты разглядываешь мою могилу, чтобы вспомнить, какой год.
Мистер Ребек бесцельно поскрёб камешком ступеньку ниже той, на которой сидел.
– Я не всегда помню, какой сегодня день. Иногда – да. Потому что день, в который миссис Клэппер приходит навестить меня, резко отличается от любого дня,, когда миссис Клэппер не приходит. Теперь у меня два рода дней. А раньше был один.
– И у меня был один, – сказал Майкл. – Один долгий день, делящийся на части… Не беспокойся, – добавил он, хотя мистер Ребек ничего не сказал. – Сегодня она придёт.
– Я не беспокоюсь. Она придет, когда у неё будет настроение. Сколько времени?
Майкл рассмеялся.
– Чёрт меня возьми, если я знаю. В настоящий период у Времени и Моргана нет ничего общего.
– Один из нас должен знать, сколько времени.
– Ну, значит, это не я, – ответил Майкл. Ему не понравилось равнодушие в голосе мистера Ребека. – А тебе-то что? Какая разница?
Мистер Ребек отбросил прочь камешек.
– Ворота закрываются в пять. Если она опоздает, она не сможет остаться слишком надолго. Я терпеть не могу, когда она приходит, говорит «Привет» и убегает.
– Она не должна немедленно убегать, – сказал Майкл. – Уолтерс обычно дважды в час совершает обход, чтобы проверить, не запер ли он кого-то. Она сможет задержаться и после пяти.
– Я её просил. Но она всегда должна идти домой и готовить обед, – мистер Ребек нахмурился, глядя в жаркое сияющее небо. – Или она должна посидеть с чьим-то ребенком. Она это любит. Родители уходят в кино, а она сидит в гостиной и слушает радио. На следующий день она часами рассказывает мне, как она уложила ребенка спать, и что она сделала, когда он поздно вечером проснулся и позвал маму.
– А своих детей у неё нет?
– Нет, – ответил мистер Ребек. – И при этом – тьма племянников и племянниц. Она выросла в многодетной семье. – Он сунул руки в карманы и откинулся назад. – Она явно сегодня не придёт. Слишком поздно.
– Не паникуй, – сказал Малкл. – У неё ещё есть время. – Он встал и сделал несколько шагов по траве. – Думаю, я поищу Лору. Возможно, мы вернёмся сюда попозже и расскажем тебе на ночь сказочку..
Мистер Ребек вытянул ноги на вечернем солнышке.
– Хорошо. Это было бы прекрасно.
Сказочка на ночь была их дежурной шуткой с того утра более недели назад, когда Кампос, напевая и спотыкаясь, сопровождаемый терпеливыми Майклом и Лорой и непристойно ругающимся Вороном, принёс мистера Ребека в мавзолей, завернул в одеяла и сам рухнул спящим на ступени. Мистер Ребек обнаружил его там, когда проснулся днем, и они вместе позавтракали. С тех пор они с Кампосом не виделись.
– Хорошая была ночь, – сказал он. Ему нравилось, об этом вспоминать. – Мы должны ещё несколько ночей провести таким же образом.
– Вот заладил, – хмуро отозвался Майкл. – Конечно, должны. – Он вернулся к мистеру Ребеку и присел на две ступени ниже.
– Я начал недавно развивать нелепую, но полезную концепцию вечности. Послушай, что я думаю.
Мистер Ребек ждал, думая: «Конечно, я выслушаю его идеи. Этим я и занимаюсь. Это – всё, что я есть на самом деле – твои мысли и мысли других». Он кивнул, чтобы показать Майклу, что слушает.
– В ту ночь я тоже хорошо провёл время, – продолжал Майкл, – но всё-таки я продолжал думать. Ведь это навсегда, это навсегда. Ты будешь хорошо проводить время снова и снова ещё миллион раз, пока это не станет похоже на пьесу, в которой ты, Лора и несколько беглых жизней сидят у воображаемого костра и беседуют, поют песни, любят друг друга, а иногда бросают воображаемые головни в глаза, мерцающие за кругом света от воображаемого костра. И тогда я подумал: это у меня уже вышло, как у настоящего философа – и даже, когда ты признаешься, что помнишь каждую строчку в пьесе и каждую песню, которая будет спета, даже, когда понимаешь, что этот вечер, проведенный с друзьями, приятен и радостен, потому, что помнишь его как приятный и радостный, и ты бы его на целый мир не променял; даже когда знаешь, что всё, что испытываешь к своим добрым друзьям, не более реально, чем сон, который упорно вспоминаешь каждую ночь в течение тысячи лет, даже тогда это продолжается. Даже тогда – это только начало.
Воздух был неподвижен, словно его вырезали из куска тёплой меди и тщательно приладили к земле – расплавившийся, нежно-белый, облепивший каждый дом и каждого человека на земле, а теперь он навеки застыл, так что человеку больше не пошевельнуться, а воздуху не заструиться, и внизу, под ним, громыхала Земля, сияющая, словно полый золотой шар.
Майкл продолжал:
– Люди привыкли воображать ад как место для тех, кто делал зло, а пребывание в аду – как когда зло делают тебе, вечно и неизменно; славьте Бога и не толкайтесь, на балконе достаточно места для всех благословенных душ. Итак, Морган развивает свою мысль дальше. Ад – навечно. Ад – это когда тебе непрерывно делают что-то одно – добро или зло. Нет разницы между добром и злом через несколько биллионов тысячелетий. Просто случается то, что уже случалось раньше. Подумай об этом: навеки. На века. Мы даже не знаем, что означает это слово, и мы умираем невежественными и безоружными – и не проси меня больше приходить на весёлые посиделки у костра, старый друг. Я, конечно, приду, не пропущу. Просто не проси.
Он снова встал, спустился по ступенькам и прошел по траве, подёргиваясь, словно шарик на привязи – смутное подобие человека, плод своего собственного воображения.
– Ничем не могу тебе помочь, – сказал мистер Ребек. Он говорил очень тихо, но Майкл услышал его и обернулся.
– Ну, а я тебя и не просил. Я не просил о помощи. Я к тебе очень привязан, но о помощи я тебя не стал бы просить, и вообще никогда и никого больше не попрошу мне помочь. Передай от меня привет миссис Клэппер.
Он зашагал прочь, и вскоре солнечное сияние поглотило его образ. Мистер Ребек сидел на ступеньках мавзолея, благодарный за тень, которую бросало здание. Внезапно повеял прохладный ветерок, сделавшийся слышным оттого, что он зашелестел в траве и зашуршал в кронах деревьев, но до мистера Ребека он не долетел. Мистер Ребек расстегнул рубашку и выпустил её из штанов, и деревья опять стали неподвижны, а кожа человека осталась жирной от пота, и он чувствовал знакомый кислый запах своего тела. Позже, когда стемнеет, он прогуляется к уборной и помоется. Не по нраву ему жидкое мыло, которое брызжет из стеклянной баночки, но придётся.
«Я устал, – подумал он. – Возможно, всё дело в жаре, но я провожу здесь далеко не первое лето, а так себя ещё не чувствовал. Я устал быть полезным, устал быть спокойным, с чего бы это – не знаю, но мой образ самого себя – это понимающий пожилой человек, плавающий в доброте, словно черешня в сладком ликёре. И он начинает загибаться по углам. Я бы хотел, чтобы со мной случилось что-нибудь, что показало бы, каким жестоким, ревнивым и мстительным я могу быть. А затем я бы мог вернуться к мягкости, потому что я предпочитаю её жестокости ради неё самой, а не потому что мне храбрости не хватает быть жестоким. Может быть, мне бы даже понравилась жестокость. Сомневаюсь, что это так, но я должен проверить».
Он вспомнил, как Ворон защелкал клювом и сказал: «Я – тупица, я не знаю, как кому-то помогать». «Я и сам верю, что я добрый, – подумал мистер Ребек. – И поэтому могу пощекотать себе нервы, думая о зле, как ребёнок, который сам себя пугает страшными историями. Я – не дурной человек. Но я – не мудрый и не понимающий. И всё же, если я потеряю эту удобную измятую шкуру, которую ношу, как я найду что-нибудь ей на смену? Хотел бы я быть молодым, тогда бы у меня легко выросла новая».
Затем миссис Клэппер позвала: «Эй, Ребек!». И он поспешно выбрался из подвалов своего сознания, вскочил на ноги и двинулся по тропе навстречу женщине, которая махала рукой, спеша к нему. Выпущенная из штанов рубашка хлопала по его груди, и он затолкал её обратно, пока шёл, застегнул её до самого верха но затем опять расстегнул пуговку у воротника.
Миссис Клэппер была в синем платье, которое ему так понравилось раньше, и в невообразимой шляпе в виде полумесяца, которую она любила и пылко отстаивала. Он и сам начал испытывать симпатию к этой шляпе, но это была одна из тех вещей, в которых он отказывался признаться своей приятельнице. Теперь он разгуливал вокруг женщины, сжав руки за спиной и выставив голову вперёд, уставившись на шляпу. Миссис Клэппер вытянула шею, следя за его взглядом.
– Так ведь все в порядке, – сказала она и подняла руку к голове, как бы для того, чтобы защитить шляпу от любого нападения, которое он мог бы планировать. – Я её ношу, я её ношу. А вы считаете, я должна носить шлем, вроде как доктор Ливингстон? Оставьте шляпу в покое, Ребек!
– Она меня очаровывает, – сказал мистер Ребек. Он стоял, держа одну руку в брючном кармане, а другой почесывая затылок. – Я от неё глаз не могу отвести. Вы её закалываете?
– Нет, у меня такие затеи уже в прошлом. Мне стыдно почём зря булавки тратить. Ребек, не трогайте мою шляпу, вам от неё никакого вреда нет, – она едва дышала, безуспешно овевая рукой лицо. – У-у-у, как жарко, по радио сказали – девяносто по Фаренгейту. Пойдемте куда-нибудь, где можно посидеть.
– Хорошо, – согласился он. Он заметил, что через руку у неё переброшен лёгкий дождевой плащ. Это не слишком его удивило, несмотря даже на жаркую погоду. Он знал, что миссис Клэппер считает погоду почти такой же ненадежной, как и расписание автобуса. Живи она в более древние времена, она бы старалась умилостивить Бога Погоды, одержимого жаждой мести, и целый отряд его маленьких помощников, которые, вздумай она куда-то отправиться, тут же кинулись бы ему об этом сообщить.
Когда они шагали обратно к мавзолею, мистер Ребек сказал:
– Я думал, вы сегодня не придёте, – он произнес это настолько небрежно, насколько мог, не будучи по натуре небрежным человеком.
– В метро – ну прямо какое-то сумасшествие, – быстро-быстро заговорила миссис Клэппер. – Поезд спереди, поезд сзади, наш поезд посередине, никто не движется, а только свистит что-то – пс-с-с, пс-с-с, да жужжит. А вентиляторы не работают. Прямо посередине. Мы потеряли полчаса, если не больше. Так что извините, пожалуйста, что я опоздала.
– А я весь вечер ждал, – сказал мистер Ребек. Это была просто констатация факта, но миссис Клэппер восприняла это как робкий упрек и проявление жалости к себе.
– Хорошо, что вы немного побеспокоились. Это мешает располнеть, – она шагала так, словно все дороги были крутыми тропинками, взбегающими на холм. – И всё-таки я торопилась. Взгляните, у меня язык высунулся, как у собаки. Если я побегу быстрее, у меня удар случится. Тогда вы будете счастливы?
– Буду на улице танцевать, – сказал мистер Ребек. Они дошли до мавзолея и миссис Клэппер, как обычно, вытерла верхнюю ступеньку и присела с мощным удовлетворённым вздохом. Сняв туфлю, она принялась массировать пальцы, время от времени пошевеливая ими, чтобы проверить, помогает ли это.
– Они, вероятно, онемели, – сказала она, взглянув на мистера Ребека. – Мои пальцы не более чувствительны, чем сельдь пряного посола. А ещё я думаю, что у меня не в порядке свод. Вызовите скорую, Ребек, раздобудьте носилки и вывезите меня отсюда. Ну что вы стоите? – она схватила одной рукой измученные пальцы ноги и затрещала ими, словно скорлупками земляных орехов.
Мистер Ребек бестолково стоял перед этим бесхитростным воплощением женственности, поглощенным массированием пальцев ноги. Ножка миссис Клэппер, как он заметил, была маленькая и чистая, бросались в глаза только грубость лодыжки и пятки, которые развиваются, когда у человека существует привычка ходить дома босиком. Привлекательная ножка, короче говоря. Он почувствовал себя спокойней, когда женщина снова обулась.
– Вы не хотели бы немного воды? – спросил он. Миссис Клэппер жадно кивнула.
– А у вас есть? Принесите, – затем нахмурилась. – Минуточку. Вам придется аж к самым воротам идти, чтобы её набрать. Забудем об этом. Не так уж мне и пить хочется. Забудем.
Мистер Ребек улыбнулся и потрепал её по плечу.
– Да не бойтесь вы. Я вернусь через минуту.
Он оставил миссис Клэппер, взбежал по ступеням мавзолея и возвратился мгновение спустя с небольшой пластмассовой чашечкой. Затем он обогнул здание и прошёл ещё 20 ярдов до места, где на газоне у цветочной клумбы был установлен ржавый водопроводный кран. Он наполнил чашечку и зашагал обратно к мавзолею, где с некоторой изысканностью преподнес чашечку миссис Клэппер. – Я забыл ваш любимый букет, – объявил он, – но вы можете взять это домой и составить, какой хотите.
Миссис Клэппер не стала тратить времени на шуточки. Она опустошила чашку тремя непрерывными глотками, опрокинула её, чтобы поймать последние несколько капель, и сказала:
– Спасибо, я и не знала, как хочу пить, – затем лицо её омрачилось, и она с виноватым видом уставилась на пустую чашку.
– Вэй, Ребек, я такая свинья, – посетовала она, – у меня была такая жажда, что я вам ничего не оставила. Такая свинья Клэппер.
– Всё в порядке, – сказал мистер Ребек. Он сел рядом с ней. – Я и не хотел пить.
– Вот что я вам скажу, – отчеканила миссис Клэппер, – объясните мне, где тут фонтанчик, и я вам принесу. Ну, где он? Где он там? – она приподнялась.
– Не беспокойтесь, – сказал ей мистер Ребек. – Я и в самом деле не хочу пить.
– Это вы в такую погоду – и не хотите пить? Не будьте таким благородным, дольше проживете. У меня была такая жажда, что во рту сделалось – ну прямо, как в паровом котле. И не говорите мне, что вы не хотите пить, а просто объясните, где тут фонтанчик.
– Послушайте, – сказал мистер Ребек, неосознанно перенимая её тон, как всегда, когда она начинала на чем-то настаивать, – я здесь живу. Кран – чуть поодаль. Я могу попить, когда только захочу, если вдруг почувствую жажду. Я испытывал жажду за несколько минут до того, как вы пришли, и вот я встал, сходил к крану и попил. А теперь жажда прошла. Сядьте и перестаньте бегать туда-сюда.
– А кто это бегает? – спросила миссис Клэппер, но снова села. – Ребек, вам трудно угодить. Вы всегда сами уже кому-то угождаете. Это – не лучший способ удержать при себе друзей.
Мистер Ребек усмехнулся. Он почувствовал себя спокойно и уверенно.
– К счастью… – начал он, но мисс Клэппер оборвала его, вспомнив вдруг о чём-то, и закричав:
– Дура! Идиотка! Ведь я же вам кое-что принесла! Ну что я за дура! Вот подарок для вас, примите наилучшие пожелания от Армии Спасения.
И прежде, чем он успел что-либо сказать, она положила плащ ему на колени.
– Вот. Теперь, если подхватите двустороннюю пневмонию, меня не вините. Я постаралась, как могла.
Мистер Ребек, моргая, посмотрел на плащ у себя на коленях, коснулся шелковистой серой ткани.
– Это мне?
– Нет. Президенту Эйзенхауеру. Ой, да что с вами? Конечно же, это вам. Думаете, я его для себя всю дорогу сюда тащила? Это – дождевой плащ, так теперь вы не промокнете и не простудитесь здесь, – она рассмеялась и протянула руку, чтобы отвернуть воротник плаща.
– Очень славный плащ, – сказал мистер Ребек и поднял его с колен, чтобы рассмотреть. – Только не знаю…
– Не знаете? А что надо знать? Конечно, это славный плащ. Он не пропускает дождь, и в нём вы не промокнете. Когда вы опасаетесь, что дождь пойдет, вы берете плащ с собой. Нет дождя – хорошо, плащ не понадобился. Ну, а если дождь начинается, вы его надеваете. Вот так. Это дождевик.
Мистер Ребек вертел плащ в руках и не смотрел на миссис Клэппер.
– Да, я знаю, как им пользоваться, – несмотря на веселость, миссис Клэппер заметила наконец, какой у него горестный тон. Она с изумлением взглянула на него.
– В чём дело? – она внезапно щелкнула пальцами. – Вы, возможно, думаете, что вам он слишком велик? Нет, не слишком. Вот, – она взяла плащ у него из рук. – Встаньте-ка и наденьте его на минутку. Я вам покажу, что он для вас не слишком велик.
Мистер Ребек не встал.
– Нет, – сказал он. – Дело не в этом. – Он повернулся чуть вбок, и теперь сидел на ступенях к ней лицом. – Гертруда, – это был второй или третий случай за время их знакомства, когда он назвал её по имени. – Я вам весьма благодарен, но я не могу принять этот плащ.
Потрясение в её взгляде заставило его желудок сжаться, хотя он и знал, что через две секунды все пройдет, но в течение этих двух секунд миссис Клэппер была беззащитна, и мистер Ребек чувствовал себя слабым и виноватым. Он так и не смог понять и усвоить, как же надо обращаться с ранимыми людьми. Наконец миссис Клэппер овладела собой.
– Вы не можете его принять? Как это? Что с вами, Ребек? Я что, душу у вас покупаю? Я вам принесла дождевой плащ, тут что-то не так?
– Мне не нужен дождевой плащ, – сказал мистер Ребек.
– Вы что – утка? – её выразительный рот скривился и выгнулся, словно ложе катапульты, запускавшей в мистера Ребека слово за словом. – У вас на ногах перепонки? Вода скатывается у вас по спине? Как это понять, что вам не нужен дождевой плащ? Всем на свете нужен дождевой плащ, а вам вдруг не нужен?
– Он мне не пригодится, – сказал мистер Ребек. – За все время, что я здесь прожил, я ни разу не пользовался дождевиком.
– Значит, вы чокнутый, – тут же отозвалась миссис Клэппер. – Достаточно скверно, что вы живете в ненормальном месте, вроде этого, но без дождевого плаща… И за двадцать лет вы ни разу не попали под дождь? Ни одного раза?
– Конечно, попадал. Но тут везде есть, где укрыться: деревья, мавзолеи, служебные постройки. Я ни разу по-настоящему не промок, – он поискал у себя в мозгу довод, который для неё хоть что-нибудь значил бы, – я вообще никогда не болел.
Миссис Клэппер покачала головой в знак презрения к его невежеству.
– Так вы думаете, это значит, что вы и впредь никогда не промокнете и никогда ничем не заболеете? Ребек, поверьте мне, когда вы всё-таки промокнете, то вас проберет до костей, а когда заболеете – то это будет даже не двусторонняя, а трехсторонняя пневмония. И что же вы тогда будете делать? – она снова бросила плащ ему на колени. – Послушайте, просто берите его повсюду с собой. Это что – очень трудно? – глаза её вспыхнули, когда она подумала о возможной причине, по которой он отказывается от плаща. – Вы думаете, он мне самой очень нужен? Да не нужен он мне. У меня – миллион дождевых плащей. У меня – полная кладовая дождевых плащей. Я каждый день могу надевать какой-нибудь новый. Вы меня не обкрадываете.
Мистер Ребек покачал головой.
– Нет, Гертруда, – он аккуратно сложил плащ и вручил ей. Она его не приняла, и мистер Ребек положил плащ между ними на ступеньку.
– Большое вам спасибо, – сказал он, зная, что не осмелится взять плащ и отчаянно желая смягчить неприятный момент. – Это была чудесная идея, Гертруда, но вы зря старались, он мне не нужен.
– Смирительная рубашка, вот что вам нужно, – ответила миссис Клэппер, но произнесла это рассеянно, без злобы. Она разгладила на коленях платье и неожиданно тепло улыбнулась мистеру Ребеку. – Так хорошо, но берите его. Взгляните на меня, я в своём почтенном возрасте превратилась в зануду. Мы об этом позже поговорим.
– Нет, – сказал мистер Ребек. Для миссис Клэппер «позже» могло обозначать что угодно – от двух минут до двух лет. Он от всей души надеялся, что она имела в данном случае в виду последнее.
Теперь же, не отрегулировав сколько-нибудь заметно механизм, она перешла к другой теме.
– Послушайте, вчера вечером я сидела с ребёнком своего зятя – того, который дантист. Я вам о нём рассказывала. Он захотел сводить мою сестру на Стадион Льюисон. Так он мне звонит и говорит: «Гертруда, у тебя вечер свободен, как насчёт того, чтобы присмотреть за Линдой, чтобы она не выпала из кроватки?» Ну, дочка у него – куколка. Ей шесть лет – и совершеннейшая куколка. Сидеть с ней – удовольствие, не то что с другими детьми. Я вам показывала её карточку, верно?
Мистер Ребек кивнул. Достойно удивления, что он всегда мог сообразить, кто и в каком родстве с миссис Клэппер состоит, это и сама она не всегда помнила. Более того, он с удовольствием слушал о них. Они были единственными людьми за кладбищенской оградой, о которых он что-то знал, и он решил, что они бы ему понравились, если не считать двух кузин, которых и сама миссис Клэппер не выносила.
– Прекрасно, – продолжала миссис Клэппер. – Я пришла около шести, сестра и зять пошли на концерт, а я стала играть с Линдочкой. Она у нас такая куколка, что сидеть с ней – привилегия. Ей полагается ложиться в семь, но я ей позволила не спать до семи тридцати, и мы с ней хорошо провели время. В конце концов я её укладываю, накрываю одеяльцем, «Спокойной ночи, Линда», а она за меня цепляется и говорит: «Расскажи мне сказку».
Теперь она изображала то себя, то Линду, превращалась то в одного, то в другого персонажа, из женщины в ребёнка и снова в женщину с той же лёгкостью, с которой переключается сигнал светофора.
– Сказку? Хорошо. Но скажи мне ради Бога, что именно за сказку? А она говорит: «О красной курочке». Слава Богу, хотя бы эту я знаю. Я – единственная женщина в мире, которая не знает «Спящей красавицы», но «Красную курочку» я знаю как свои пять пальцев. И вот начинаю я ей рассказывать о красной курочке, как живет она среди животных на ферме и приходит ей в голову, что она должна испечь хлеб. Вы-то знаете, что это за сказка?
– Да, – ответил мистер Ребек. – Я не умею её хорошо рассказывать, но я её помню.
– Ну, так дальше. Рассказываю я сказку, и вдруг Линдочка как вскочит и как вытаращит на меня глазёнки – словно она никому больше не может верить и говорит: «Это – не сказка о красной курочке». Нет, она прелестная девочка и всё такое, но я-то эту сказку знаю, и я говорю: «Конечно, это сказка о красной курочке. Разве я могу тебя обманывать, Линдочка?» А она отвечает: «Нет, это не „Красная курочка”». Ну, думаю, гевальт, ещё минута – и она плакать начнёт, что же мне делать? И говорю: «Хорошо, может быть, существует две сказки о красной курочке? И ты мне расскажи ту, которую знаешь». И вот она, слава Богу, не плачет, а начинает рассказывать мне какую-то длинную сказку о красной курочке, где у неё такое задание: она должна каждый день откладывать яйцо или ей отрубят голову, а яйца станут покупать в фирменном магазине. И она рассказывает мне эту сказку до конца. А я ничего такого никогда не слышала. И вот я сижу, раскрыв рот, – она распростёрла руки и беспомощно посмотрела на мистера Ребека. – Ребек, скажите мне, может быть, действительно существуют две сказки о красной курочке, или Линдочка просто всё это сочинила? Я не знаю. Я там всё сидела…
Мистер Ребек уже вовсю смеялся. Он начал смеяться ещё посреди рассказа – и до конца, и до сих пор не появилось признаков того, что он вот-вот остановится. Он смеялся тихо и радостно, как человек, вспомнивший забавный случай, который произошел довольно давно.
– Я знаю только сказку, которую и вы знаете, – сказал он, перестав наконец смеяться. – Думаю, Линда просто перепутала её с какой-нибудь другой сказкой.
Миссис Клэппер с сомнением покачала головой.
– Она мне её так рассказывала, как если бы знала наизусть. Она тараторила без остановок и – бум! – уснула, – миссис Клэппер снова покачала головой и принялась смеяться. – Ай, вот так Линдочка, приеду я с ней в следующий раз посидеть. Она скажет: «Расскажи сказку». Я скажу: «Хорошо, но сперва реши: по-моему или по-твоему».
Когда она перестала смеяться, а перестала она не сразу, подождав, пока смех иссякнет, а затем настало молчание, после чего послышался новый взрыв смеха одного из них, и другой к нему немедленно присоединился, но когда смех наконец прекратился, они робко посмотрели друг на друга и ничего друг другу не сказали. Мистер Ребек вспомнил было о чем-то и разок глухо хихикнул, но миссис Клэппер снова подхватывать не стала. Он отвел взгляд и перестал смеяться, когда снова посмотрел на неё. Им все ещё было нечего друг другу сказать. Миссис Клэппер снова расправила ллатье нервным торопливым движением.
– Ребек, – начала она. – Я тут думала…
– Почему вы все время носите перчатки? – перебил её мистер Ребек. – Я никогда этого не понимал. Как вы можете носить перчатки в такую погоду?
– Я иногда грызу ногти, – миссис Клэппер крепко держала руки на коленях. – С тех пор, как умер Моррис, я стала ловить себя на том, что грызу ногти. Прямо как маленькая. Не знаю, почему.
– Меня это удивило, – сказал мистер Ребек. Миссис Клэппер оглядела свои руки, быстро и поверхностно вздохнула.
– Ребек, так вот, о плаще…
– Мы опять к этому вернулись?-печально спросил мистер Ребек. – А мне послышалось, вы сказали, что мы поговорим об этом позже.
– Значит, я преизрядная лгунья. Ребек, я вас прошу, возьмите плащ. Окажите мне любезность, возьмите плащ, почему из этого надо делать такую проблему?
– Я её не делаю, – ответил он. – Это вы, Гертруда. Давайте обо всем этом забудем. Может быть, вы как-нибудь принесёте мне домашнего печенья? Я люблю печенье, и я его много лет не пробовал. Это было бы очень любезно с вашей стороны.
Он говорил непринужденно, надеясь, что она снова засмеется, но потерпел неудачу. Так он и знал. Он боялся, что однажды что-то такое случится, но избегал думать, что он сделает, когда этот день придет. Предчувствуя, догадываясь, что что-то очень хорошее вот-вот уйдет из его жизни и, вероятно, настанет худшее, он проклинал себя, что не подготовился, что он никогда ни к чему не готов. Он предвидел любую подобную перемену в своей судьбе и всегда их игнорировал и называл это невинностью.
– Я проснулась ночью, – тихо сказала миссис Клэппер, – выглянула в окно. Вижу – дождь. И я думаю: «Ребек сидит там, на кладбище, и дождь льет прямо на него. Что же он – бродяга, вор, что он должен бегать под дождем, и даже без плаща?» Я больше глаз сомкнуть не могла, так я беспокоилась.
– Я бы хотел, чтобы вы больше не беспокоились, – сказал мистер Ребек. – Не надо обо мне беспокоиться. Я-то не беспокоюсь.
– Правильно, вы не беспокоитесь. А я – да, простите меня, старую бабу. Так я и говорю себе: «А в чём дело? Разве ты не можешь ему что-нибудь принести, чтобы он не простыл? Или ты обанкротилась? Или ты жжёшь мебель, чтобы приготовить обед? Клэппер, да у тебя же полон дом дождевых плащей, отнеси какой-нибудь ему и перестань вертеться по ночам». Тогда я осмотрела кладовку, выбрала симпатичный плащ и думаю: «Этот на вид вполне приличен, Морис не возражал бы, если бы я его отдала Ребеку, он чистый…», – внезапно она остановилась, прежде чем мистер Ребек заговорил.
– О, – произнёс он достаточно кротко. – Так это – плащ вашего Морриса?
– Конечно. Что-то неладно? – миссис Клэппер словно засмущалась. – Мой бы вам не подошел, а Моррисов – в самый раз. Ну, может быть, немного велик. Он выглядит прямо как новенький, примерьте его, взгляните, как он хорошо смотрится, – она снова взяла плащ. – Примерьте.
– Он мне не нужен, – сказал мистер Ребек и отбросил плащ, отнюдь не с силой, даже вполне деликатно.
– В чем дело? Что такое? Есть что-то дурное в том, чтобы носить плащ Морриса? Скажите мне, Ребек, – Моррис его немного поносил, так он для вас уже никуда не годится?
– Я не собираюсь носить одежду вашего мужа, – сказал мистер Ребек. – Я ничью одежду не собираюсь носить, кроме своей собственной, и, в первую очередь – одежду Морриса – ни его плащ, ни шляпу, ни штаны, ни башмаки, – он говорил все быстрее и все заметнее сердился по мере того, как продолжал. – И пока мы обсуждаем эту тему, мне уже начинают надоедать упоминания о вашем муже.
– Понятно, – сказала миссис Клэппер. По её ровному тону мало-мальски спокойный человек ещё мог бы заметить, что надвигается буря. По всей вероятности, мистер Ребек, который был спокойным человеком, это заметил и с удовольствием проигнорировал.
– Когда вы увидели меня в первый раз, – сказал он, – вы меня приняли за призрак вашего мужа. И с тех пор я не раз и не два хотел, чтобы это было так. Мы большую часть времени проводим, говоря о Моррисе, мы посещаем его мавзолей, где для него приготовлено всё за исключением горячего блюда на случай, если он проголодается. Мы рассуждаем, а что бы случилось, если бы он не умер. Вы говорите мне, какой он был замечательный, как здорово я на него похож. И вот теперь вы мне приносите его одежду, чтобы я её носил.
– Его плащ, – сказала миссис Клэппер. Её голос был натянутым и гудящим, как провод. – Один только плащ.
– Это неважно. Я не хочу на него походить даже немного. И не хочу, чтобы вы меня когда-либо снова за него приняли, хотя бы на секунду. Меня не волнует, какой он был замечательный. В сущности, я уповаю на Бога, что он был не таким великим человеком, за какого вы его принимали. Он наверняка был бесчеловечен и невыносим.
Повинуясь порыву, он схватил руку в белой перчатке и тесно сжал.
– Гертруда, я уверен, что он был прекрасным человеком, иначе вы бы за него не пошли. Он, вероятно, был лучше – и во многих отношениях, – чем я, лучше большинства людей. Но он мёртв, – мистер Ребек почувствовал, что её ладонь дергается и вырывается из его руки, но держал её настолько цепко, насколько мог. – А не много чести мёртвым, если их помнят такими, какими они не были, думают о них лучше, чем они того стоят. Мне не нужны ни его одежда, ни его лицо. Я не хочу ничего, что ему принадлежит.
Наконец-то миссис Клэппер высвободила руку, словно его рука была крюком, с которого одним резким движением сорвалась её ладошка.
– Чего вы хотите?! – закричала она. – Вы хотите, чтобы я его забыла? Вы хотите, чтобы я себя вела так, как будто не было никогда никакого Морриса?! Вы этого хотите?!
– Нет, не хочу. Сами знаете. Я хочу, чтобы вы перестали о нём говорить так, как если бы он был жив, и, послушайте, я хочу, чтобы вы прекратили валять дурака.
– Валять дурака? – смех миссис Клэппер прозвучал резко и деланно, словно усиленный страдальческий вздох. – Это я-то валяю дурака? – рука её описала дугу, охватившую всю видимую с места, где они сидели, часть кладбища. – Вы смотрите, кто это говорит. Вы смотрите, кто живет в могиле, словно покойник – и он мне ещё заявляет, что я не должна валять дурака. Выйдите-ка из могилы и повторите ещё раз, Ребек.
– Это не имеет никакого отношения к тому, что я говорю, – сказал мистер Ребек. – Вообще никакого. Мы не обсуждаем мой образ жизни.
– А я его обсуждаю, – миссис Клэппер постучала себя пальцем по груди. – Послушайте меня минуточку. Вы затеяли всё это, чтобы сказать, что я валяю дурака. Что это за образ жизни для нормального человека? С каких это пор человек, мужчина, живет на кладбище, съедает пару сэндвичей в день, выбегает по ночам и промокает до костей, скрывается от людей, разговаривает сам с собой и сходит с ума в одиночестве? Вы знаете, кто так живёт? Звери. Печальные безумные звери. Так кто же вы – безумный зверь?
Мистер Ребек открыл рот, чтобы заговорить, но она замахала рукой и загнала его слова обратно в горло. – Вы думаете, это подходящее место, чтобы скрываться? – спросила она, указав на него пальцем. – Может быть, вы думаете, что здесь – ваш дом? И покойники говорят: «Привет, Ребек, где ты был? Мы так беспокоились». Это – не ваш дом. Вы бы могли прожить здесь сто лет, но вы здесь – не дома. Вы – человек, так и живите, как человек, а не как безумный зверь, скрывающийся в норе. И не говорите мне, что я валяю дурака, Ребек.
Её темные волосы сбились чуть набок, а дурацкая шляпа-полумесяц медленно надвигалась на лоб. Лицо её было очень бледным, а глаза казались по контрасту более чёрными и живыми. Когда она снова заговорила, голос её зазвучал спокойнее. Движения губ стали менее определенными и менее укоряющими.
– Возможно, я немного преувеличиваю, не стану отрицать. Возможно, это не всегда был Новогодний праздник – наш с Моррисом брак… Это не всё равно, что сказать, что он не был большим человеком, поймите меня – нет, и не было никого, подобного Моррису. Но ладно, так может, я всё это представляю чуть лучше, чем было – но кого я этим обижаю? Старая баба вспоминает то да сё чуточку не так – но это её привилегия, и никого она этим не обижает, даже саму себя. Но вот мужчина говорит себе: «Я – призрак, я – призрак, я счастлив только среди покойников» – и этот мужчина вредит как самому себе, так и своим друзьям. Человек должен жить с людьми, а не на кладбище, где по ночам холодно, и у него нет ничего, чтобы согреться. Хорошо: я валяю дурака, вы валяете дурака, только это – не одно и то же. И не говорите мне, что это – одно и то же, потому что я лучше знаю.
– Я здесь живу, – возразил мистер Ребек. Они стояли на ступеньках, крича друг на друга. Он чувствовал, что под рубашкой у него – справа и слева – текут холодные щекочущие струйки пота. – И мне здесь нравится! Это место, этот мрачный город – точно так же мой дом, как любое место на Земле – ещё чей-то. Я не могу жить ни в каком другом месте. Я пытался. Я очень долго пытался. Теперь я живу здесь, и я счастлив. Человек должен жить там, где ему удобнее, а если ему везде неудобно, он должен попробовать втиснуться куда-нибудь туда, где он никому не повредит и где никто, его не заметит. Мне повезло: я нашёл, где мне жить, повезло куда больше, чем любому другому. Другие все ещё ищут.
– Вы думаете, это – жизнь? Вы только едите, и больше ничего, – миссис Клэппер схватилась за шляпу-полумесяц за миг до того, как шляпа упала у неё со лба и сдвинула полумесяц на затылок, где тот и остался, покачиваясь из стороны в сторону, словно птица, страдающая морской болезнью. – Вы похожи на всех этих йент оттуда, где я живу. Сидите себе на солнышке и ждёте, когда у вас вырастут крылья. Если хотите где-то жить, так живите в доме. Люди в домах живут.
В любое другое время мистер Ребек ни за что бы не воспользовался преимуществом, которое она ему так неосторожно дала, если бы даже это и заметил, что сомнительно. Теперь же он рванул по этому пути, и гнев его был, словно зажатый под мышкой череп.
– Вот как? Тогда скажите мне, почему вы называете мавзолей Морриса его домом?
Они услыхали в тишине шум мотора и, обернувшись к тропе, увидели, как грузовичок сторожа сворачивает с Сентрал-авеню. Мистер Ребек смог узнать машину даже на таком расстоянии. Она была большей частью оливково-зелёной с заржавленными крыльями и огромным неокрашенным пятном на дверце водителя – как-то Кампос умудрился врезаться в погребальную автоколонну. Мотор тараторил, словно конгрессмен, верх кабины был погнут и сдвинут чуть набок, так что грузовик казался постоянно усмехающимся.
Сперва мистер Ребек не встревожился, увидев машину, так как грузовик был для него связан с Кампосом, который любил грузовик и, как правило, водил его. Но над рулем виднелась светловолосая голова Уолтерса, и мистер Ребек взлетел по ступенькам к двери мавзолея. Проделывать это ему приходилось так часто, что он уже и не воспринимал это как бегство. Он остановился, ощутив пальцами холод дверной ручки, и обернулся, ожидая, что увидит насмешливо скривившееся лицо миссис Клэппер и услышит её голос, который, наверное, будет похож на резкий скрежет ножей один о другой – и она, конечно же, примется над ним издеваться. Он даже некоторым образом надеялся, что это произойдет, и тогда ему не будет так недоставать её, если она больше не явится. Потому что он уверен был, что она не вернется, и боялся, что будет её вспоминать. Но она только взглянула на грузовик, а затем на мистера Ребека и спокойно сказала:
– Слишком поздно, Ребек. Он вас увидел. Возвращайтесь.
И мистер Ребек спустился по ступенькам, аккуратно ставя ноги, стараясь не споткнуться, и вот встал на нижней ступеньке рядом с миссис Клэппер. И оба они следили за приближающимся грузовичком.
Уолтерс затормозил, машина, икая остановилась перед ними, затем мотор умолк. Водитель высунулся из кабины и спросил:
– Вы тут вместе?
– Да, – ответил мистер Ребек. Он надеялся, что Уолтерс его не узнает. Прежде они встречались раза два, и мистер Ребек прикидывался посетителем. Он инстинктивно постарался изменить свой голос.
– Ну так что, вы не знаете, что мы закрываем в пять? Уже без десяти.
– Подумать только! – воскликнула миссис Клэппер. – Надо же, как время летит. Казалось бы, минуту назад мы сюда пришли, – она с недоверием сузила глаза и пригрозила Уолтерсу пальцем. – А вы точно знаете, что сейчас без десяти пять?
– Да, леди, – ответил Уолтерс, но на всякий случай взглянул на часы. – Только надо торопиться бежать к воротам. А не то вас запрут. А это – не такое место, где я хотел бы переночевать.
– Итак? – миссис Клэппер с вопросительным видом повернулась к мистеру Ребеку. – Полагаю, нам лучше идти?
Мистер Ребек кивнул.
Уолтерс снова взглянул на часы.
– Вам за десять минут ни за что не успеть. Вас запрут. Прыгайте-ка сюда, я вас прокачу. Давайте.
Миссис Клэппер быстро взглянула на мистера Ребека, но они не обменялись ни словом. Она снова обернулась к Уолтерсу и покачала головой.
– Огромное спасибо, не надо. Просто поезжайте и скажите там, у ворот, что мы выйдем чуть попозже. И незачем запирать прямо сейчас.
– Давайте, давайте, – нетерпеливо повторил Уолтерс. – Эта прогулка у вас полчаса отнимет. Так долго они никого не станут ждать.
– Так нас ночной сторож выпустит, – спокойно ответила миссис Клэппер. – В любом случае, мы с вами ехать не можем. Спасибо. Я кое-что потеряла по пути сюда, и нам это надо найти.
– Вот как? И что же вы потеряли? У нас тут есть Стол Находок.
Мистер Ребек не ошибся, интерпретировав брошенный на него взгляд миссис Клэппер как призыв о помощи. Он вспомнил, как когда-то сказал ей в шутку: «Ничего не бойтесь», и подумал, а помнит ли она? Он очень легко выкрутился.
– Колечко, – сказал он. – По пути сюда она потеряла малюсенькое колечко. Мы бы хотели поискать его по дороге обратно. Поэтому мы предпочитаем идти пешком.
Уолтерс хлопнул себя по лбу.
– Господи Иисусе! Ну ведь нельзя же сейчас идти и искать колечко. У вас это не один час займет – какое-то крохотное колечко. Вернитесь за ним завтра.
– Не такое уж оно и крохотное, – негодующе сказала миссис Клэппер. – Или я похожа на женщину, которая станет искать какое-нибудь крохотное колечко от Вулворта? Мы его найдём, и это не займёт у нас так уж много времени. Вы просто предупредите там, у ворот, чтобы они не слишком торопились. Мы буквально сейчас придём.
– Видите ли, леди, – начал было Уолтерс и не закончил. Как заметил мистер Ребек, миссис Клэппер иногда поразительно действовала на людей. И он пожалел Уолтерса.
– Спасибо, что предложили нас подвезти, – сказал он. – Не беспокойтесь. Мы надолго не задержимся.
– Да, большое вам спасибо, – сказала миссис Клэппер, как если бы она на что-то провоцировала Уолтерса. – Вы очень славный молодой человек.
– О, Боже правый, – сказал тот. И прозвучало это почти как молитва. Он включил зажигание, и мотор фыркнул, словно кит.
– Я оставлю ворота открытыми, – сказал Уолтерс, склонившись над рулём. – Предупредите человека у ворот, когда будете уходить. А вы бы для меня это же сделали?
– Конечно, – торжественно сказал мистер Ребек. – И были бы очень рады,
– И вы со своего грузовика внимательней смотрите, – крикнула миссис Клэппер вслед отъезжающему Уолтерсу. – Не раздавите кольцо, оно очень ценное!
Они проследили, как грузовичок трясётся по тропе, сворачивает на Сентрал-авеню и пропадает из виду.
Они собирались рассмеяться, когда минет опасность, действительно собирались сесть на ступеньки и расхохотаться вместе, громче, чем когда-либо. Ни один из них не поделился этим намерением с другим, но им это было совершенно понятно, пока они беседовали с Уолтерсом. Но они устало посмотрели друг на друга, вспомнили, что за пять минут до того были очень близки к тому, чтобы доконать один другого во имя его Собственного Блага. Они не были уверены, что ссора уже фактически кончилась. И каждый осторожно следил за движениями другого и не смел говорить из страха, что у кого-то из них может не оказаться языка, а у другого – ушей. Они двигались так, как если бы шагали вброд или выбирались из-под обломков.
– Я лучше пойду, – сказала наконец миссис Клэппер. – Он не станет ждать до Страшного Суда – тот, кто ворота запирает. А мне всё равно надо попасть домой.
– Я вас немного провожу, – предложил мистер Ребек. Она не ответила, и они начали двигаться к Сентрал-авеню. Порой их плечи соприкасались.
– Как вы думаете, будет там кто-нибудь нервничать, когда увидит только одного выходящего человека вместо двоих?
Мистер Ребек покачал головой.
– Нет. Уолтерс ушёл домой, и дежурство принял кто-то из ночной смены. Никто ничего не заметит.
– А вы основательно знаете здешние порядки. Прямо как грабитель банков.
– Приходится.
Идя по Сентрал-авеню, мистер Ребек чувствовал сквозь тонкие подошвы жар нагретого асфальта. Вместе с миссис Клэппер он прошёл мимо застывших фонтанов ивовых деревьев, слыша вдали еле уловимое тарахтение моторчика. Миссис Клэппер несла на руке серый дождевой плащ.
– Ребек, – сказала она и глубоко вздохнула. – Послушайте, извините, что я устроила такой спектакль насчет того, где вы живете и всего остального.
– Забудем, – сказал мистер Ребек. – Давайте забудем. Ничего страшного, – он не хотел, чтобы она извинялась.
– Нет, я этого забыть не могу. Кто я? Бог? Полисмен? Разве я вам могу говорить: «Живите здесь, а там не живите». Где вам хочется, там вы и живёте. Мы – в свободной стране. Вы хотите здесь жить, это делает вас счастливым – ну так и живите. Никто не должен вам указывать, где вам жить. Ни я, ни кто-то другой. Вы имеете право жить, где вам хочется.
– Просто здесь я себя чувствую спокойно, – сказал мистер Ребек. – Я никогда где-нибудь ещё себя так не чувствовал.
– Несомненно, здесь очень мило, – сказала миссис Клэппер. – Во всяком случае, весной и летом. А зимой… Ну, где бывает мило зимой? – она посмотрела на него в упор. – Я только всё ещё боюсь, что вы тут промокнете. Вот простудитесь – а тут ни доктора, ни аптеки, и следующее, что вы обнаружите – это то, что вы лежите плашмя. Вот почему я подумала, что это, наверное, была бы хорошая идея – принести вам дождевой плащ.
– Я не мог бы его принять, – сказал мистер Ребек.
– Понимаю. Это плащ Морриса. А вы бы не хотели брать ничего, что принадлежит Моррису. Хорошо, не берите. Зачем нам ссориться из-за плаща? Боже сохрани, если кто-то подумает, что вы похожи на Морриса, так уж прямо настанет конец света.
– Не кто-то, а вы. Я это как-то не так сказал, и это прозвучало слишком трагически. Но я не стану для вас Моррисом.
«Делается немного прохладно, – подумал он. – Завтра уже август? Как быстро проходит лето».
– Если вы хотите подарить мне плащ, – сказал он. – Подарите мне мой собственный.
Миссис Клэппер остановилась.
– Я не знаю вашего размера, – восторженно запротестовала она. Её взгляд порадовал его и одновременно напугал.
– Я поменьше Морриса, – напомнил мистер Ребек. – Поторопитесь, пока они вас не заперли.
– Чудесно, вы поменьше Морриса. Так теперь я знаю, – миссис Клэппер снова двинулась вперёд. – Вы думаете, я – волшебник, мне достаточно на вас взглянуть и – бум! – я знаю, какой у вас размер плаща. Или, может быть, я всегда ношу с собой сантиметр, мало ли – понадобится? Ребек, извините меня, но о некоторых вещах вы ничегошеньки не знаете.
Теперь она улыбалась. Казалось, порядочно прошло с тех пор, как он в последний раз видел её улыбку. Он почувствовал, что опять подошел к Перекрёстку и миновал его, даже не узнав, что это Перекрёсток. Обернись он, то вероятно, увидел бы, что Перекрёсток маячит позади. Возможно даже – побежал бы назад, если бы повернул прямо сейчас. Но уж коли Перекрёсток пропал из виду, было слишком поздно. Он уже не сможет найти тот Перекрёсток.
– Лучше бы мне вернуться, – сказал он. – Скоро уже ворота.
– Подождите минуточку. По крайней мере, дайте мне прикинуть, какой у вас размер. Встаньте прямо ненадолго, – она быстро оглядела его и пожала плечами. – Так я вам принесу плащ, который пристанет к вам, как вторая кожа, вам станет жаль, что вы Моррисов плащ не взяли, Ребек. Пока. Не наступите на колечко.
И она одна зашагала дальше. Затем остановилась и обернулась к нему. Он не шевелился.
– Послушайте, я вам кое-что скажу, – она не улыбалась. – Помните, вы меня спросили, почему я опоздала, а я вам наговорила всякого о метро и о том, как мне пришлось вернуться, чтобы взять плащ? – Мистер Ребек кивнул. – Ну, было не так. Я шла, чтобы сесть на метро и встретила эту женщину. Я её знаю, она рядом живёт. Я говорю: «Привет, как поживаете?». А она говорит: «Прекрасно. Что же это мы вас больше совсем не видим?» Так я говорю: «Я занята». А она просто смотрит на меня и говорит: «И что у вас за занятия такие?». Ребек, как она это сказала, и как покачала пальцем, и как глазами повела. – «Дурацкие у вас занятия, – говорит. – Я-то знаю». И, Ребек, я как пришла домой и как легла на кровать на целый час и сказала: «Нет, я никуда не пойду, хватит. Я что – сумасшедшая?» И вот так я лежала целый час, а затем взяла этот плащ и вышла из дому. Вот почему я так опоздала.
Сентрал-авеню описывала широченную дугу как раз перед тем, как подойти к главным воротам. Мистер Ребек мог следить за миссис Клэппер, движущейся по аллее через железные ворота и дальше по улице. Он увидел, как она остановилась, пропуская машину, а затем пересекла улицу, и больше он её видеть не мог. На улице кишмя кишел народ, и не так легко было разглядеть в толпе чью-то шляпу, даже если шляпа эта имеет форму полумесяца.
ГЛАВА 11
Всю ночь шёл дождь. Майкл и Лора бродили под ним, наблюдая, как дождевые струи падают оземь с такой силой, что снова подпрыгивают. Ближе к утру дождь начал стихать, и ко времени, когда два призрака подошли к стене, с которой открывался вид на город, дождь стал тяжёлым туманом и повис среди деревьев. Он не растаял с восходом. Словом, обычный нью-йоркский дождь середины августа.
– Как славно, – сказал Майкл. Он потянулся, в чём, конечно же, не было необходимости, но это было одно из человеческих движений, которое он очень чётко помнил.
– Несмотря даже на то, что это бывало раньше? – спросила Лора. Она сидела на стене рядом с ним.
– Даже несмотря на это. Некоторые вещи выносят больше повторов, чем другие. Виноград, например. Не думаю, чтобы я мог когда-либо не доесть виноград. Бывало, я его покупал целую уйму. Всякого: зелёного, красного, пурпурного, чёрного. Некоторые люди не могут пройти мимо бассейна, чтобы не заглянуть, а я не мог пройти мимо фруктовой лавки.
– Вот и у меня то же самое было с бананами, – заметила Лора, – но я им по-настоящему не хранила верность. Я съедала связку в день, а затем отползала, ложилась и чувствовала себя совершенно больной. Это излечивало меня недели на две или около того, а затем я возвращалась к моим бананчикам. Виноград мне тоже нравился, но бананы – больше всего.
– А мне – виноград, – твёрдо сказал Майкл. – Но видишь ли, что я имею в виду. Мне это нравится. Мне нравится, что мы здесь сидим и разговариваем, следя, как тает туман, и по улицам бегут грузовики. Полагаю, через сто лет или через тысячу я от этого до смерти устану.
– Это много времени не займёт, – сказала Лора. – Месяц. Возможно, два месяца.
– Ладно. Знаю. Что ты стараешься доказать? В данный момент мне нравится наблюдать приход утра. Мы с Сэнди, бывало, частенько этому предавались. Сидели всю ночь, играя в карты и слушая записи, а затем – как раз под утро выходили и гуляли до тех пор, пока не вставало солнце. Мы завтракали где-нибудь поблизости, возвращались домой и спали часов до трёх-четырёх. А затем всё то же самое начиналось по новой, и нам это никогда не надоедало.
Лора заговорила, глядя вниз по склону:
– Иногда мне хочется, чтобы Сэнди удерживалась от того, чтобы прокрадываться во всё, о чем мы говорим. Если это звучит злобно и мелочно, так только потому, что я такая и есть.
– Да, мне не надо было о ней упоминать, – согласился Майкл. – Я понимаю, как это выглядит. Самая заезженная в мире тема – это женщина другого мужчины.
– Это не так, – сказала Лора несколько сварливо. – Ты – имеешь полное право о ней говорить. Все прекрасное, о чём ты можешь вспомнить, оказывается после смерти под рукой. Только…
Самолет взлетающий из аэропорта «Ла Гардиа» пронзительно прогремел над городом, и Лора воспользовалась этим, как поводом не закончить фразу. Но вот самолет пропал из виду, и Лора, все ещё не глядя на Майкла, сказала:
– Только я хотела бы, чтобы ты решил, любишь ты её или ненавидишь.
– Я её не люблю, – ответил Майкл. – Но все приятные вещи, которые я помню, кажется, связаны с ней тем или иным образом. Не потому что она – Сандра, а потому что приятные минуты бывают куда приятнее, если рядом – кто-то другой. Это смахивает на философию из дамских журнальчиков, но некоторые вещи не могут быть хороши, если только их с кем-то не разделишь. Сидеть и бодрствовать всю ночь было бы бесцельно, если бы кто-то, кого ты любишь, не сидел с тобой, выбирая, какую поставить музыку и помогая тебе покончить с виски. А бродить в одиночестве под дождём-это для детишек из колледжа, которые думают, будто одиночество делает их поэтами. Ты понимаешь, что я имею в виду?
– Да, понимаю, – ответила Лора.
– Хорошо. Пусть будет так. Мы определили, от чего плясать. Знаешь, Ворон был прав насчёт птиц. Они поют прямо под дождём. Я слушал, – Майкл взглянул на неё искоса. – В чём дело, Лора? Я что-то не то сказал?
– Ничего, – ответила Лора. – Всё нормально. Когда ты упомянул Сандру, я начала думать о суде. Теперь он уже должен кончиться.
– Теперь? О чём ты говоришь? Ещё и недели не прошло?
Лора впервые улыбнулась.
– Какое сегодня число?
– О, Боже мой. Не знаю. Ещё лето, но листья кое-где начинают жухнуть. Уже август?
– Да. Семнадцатое августа, – сказала Лора. – Суд был два дня назад. Я знаю, потому что мне сказал мистер Ребек. Ворон следил за делом по газетам, как ты его и просил.
– А я его просил? Я этого даже и не помню. Я утрачиваю всякое чувство времени… Лора, я думал, что продержусь чуть дольше.
В городе начали трезвонить будильники: один за другим, а иногда два или три сразу. Они вонзили свои серебряные ножички в тело Великого Сна, который распростерся на крышах домов нагой. Чувствительный, доброжелательный и беззащитный, каким он был, он всё-таки должен был умереть не сразу, а через некоторое время.
– А разве тут есть какая-то разница? – спросила Лора. – Что для нас время? Что такое для мертвого пять часов? Ведь у нас нет никаких срочных свиданий.
– Разницы нет. Но это – часть человеческой жизни, и меня бесит, что я это утрачиваю. Разве я тебе не говорил, что я цепляюсь за вещи?
– Я помню, – сказала Лора. Она взглянула в холодное небо, высматривая Ворона. – В любом случае, – добавила она – мы сегодня должны узнать о суде.
– Меня не волнует никакой суд, – сказал Майкл. – Для меня ещё что-то значило бы, если бы её обвинили, когда я только-только умер и полон был жажды мести. А теперь это меня мало беспокоит. Я даже не вспоминаю её так отчетливо, как бывало раньше. Она превратилась в постороннюю, которая что-то сделала постороннему. Я ей не желаю зла. Давай все так и оставим. Не говори о суде, Лора.
Где-то сзади ветка встряхнулась, как мокрая собака. И вода, застрявшая в листве, плеснула наземь. Майкл и Лора обернулись и увидели парочку, идущую мимо теплицы к стене.
– Какой-то народ, – сказал Майкл. – И так рано.
Лора подумала, что они очень молоды: 20-21, не больше. Волосы парня были такими влажными, что стали почти каштанового оттенка. Он был в плаще, но без капюшона. Мокрые концы его брючин мягко шлёпали по столь же мокрым носкам на каждом шагу. На девушке тоже был плащ, но верхней пуговицы не хватало, и влажная белая блузка облепила небольшую острую грудь. Голова девушки была повязана чем-то вроде полиэтиленового платка, но дождь пробрался внутрь, и из-под платка выбивались мягкие и влажные пряди. Молодые люди брели, обняв друг друга за талию, повернув друг к другу головы и о чём-то беседуя. Иногда они целовались, не останавливаясь, и тут же спотыкались, потому что не смотрели под ноги – и тогда оба смеялись.
– Давай-ка отсюда уйдем, – предложил Майкл. – Я их не хочу подслушивать. Пошли в какое-нибудь другое место.
– Погоди немного. Какие они мокрые и какие счастливые.
Затем послышался голос парня:
– Конечно, это сумасшествие – целую ночь где-то болтаться. Взгляни на это вот как. Я поспорю, что есть сотни ребят, которые водят тебя в кино, на каток и на танцы. А много ли ребят, которые водили бы тебя на кладбище до завтрака. И так ты меня запомнишь.
– Кладбище – до завтрака, – сказала девушка. – Всю ночь гулять под дождём, а теперь – на кладбище. Вы спорите, что я вас запомню, мистер? – Но она смеялась, когда это говорила, и ещё крепче обхватила его за талию.
– Представь себе, что это – вроде парка, – сказал парень. – Взгляни на статуи, которые стоят кругом. Взгляни на эти деревья. Это – Сентрал-парк.
Девушка посмотрела на него и покачала головой, изображая раздражение.
– Парк. Какой-то там парк. Подожди, пока в меня не вцепится мамочка. – Она произнесла старушечьим голосом: – «Где ты была, Норма? Всю ночь пропадала – и ни слова? Разве так обращаются с матерью?» А я скажу: «Всё в порядке, ма, всё в порядке, не паникуй. Мы с Гарри чудесно провели время. Мы отправились в кино, а когда фильм кончился, шёл дождь – вот мы и гуляли всю ночь. А утром Гарри привел меня на чудеснейшее кладбище. Ма, как жаль, что тебя там не было. Такая ночь…» – она чихнула.
– Будь здорова, – сказал парень. – Милая, а с тобой всё в порядке? Я не хочу, чтобы ты расхворалась только оттого, что я – сумасшедший. Я сейчас же отвезу тебя домой – ты себя плохо чувствуешь.
– Нет, со мной всё в порядке, – сказала девушка. – Я приму горячий душ, как только приду домой. Давай здесь надолго не задерживаться, Гарри.
– Несколько минут – и всё, – парень указал на стену. – Полезли. Мы там посидим и отдохнём немного, а затем двинемся обратно.
Когда они приблизились, Майкл нетерпеливо сказал:
– Лора, давай отсюда уйдём. Я не хочу за ними подглядывать. Да и ты тоже.
– Подожди, – сказала Лора. – Подожди немного. Я думала, что ты – из тех, кто всё свободное время проводит, наблюдая за людьми.
– Но не за парочками. Только не за ними. Я не настолько нахален, Лора.
– А я вовсе не нахальна, – сказала Лора. Но она осталась на стене, следя, как парень и девушка подходят всё ближе. И Майкл тоже никуда не ушёл.
Когда парочка поравнялась со стеной, парень пригнулся и подсадил девушку.
Тут началось пыхтенье, хихиканье и хлопанье мокрой одежды. Наконец, вскарабкавшись на стену, девушка элегантно протянула руку, парень взял её и, тяжело дыша, взобрался, как по лесенке, по выступам штукатурки и сел рядом с девушкой. Он совершенно выбился из сил и старался это скрыть, глубоко вздыхая и медленно выпуская воздух обратно. Но девушка взглянула на него и расхохоталась, теперь смех у неё был чуть иной, чем когда они целовались и спотыкались.
– Взгляни на себя, – сказала она. – Ты весь красный и бездыханный.
– А ты думала, ты легка, как перышко? – спросил тот не без злости. – Давай повторим ещё раз, и теперь ты меня подсадишь. Посмотрим, какой у тебя будет вид.
– Один-ноль в нашу пользу, – сказал Майкл Лоре. – Думаю, я буду за него, если дойдет до пальбы.
Но парень протянул руку, а девушка от него отодвинулась и обхватила рукой себя, словно запахиваясь в плащ. Она хихикнула разок, а затем быстро поцеловала парня, когда он недовольно взглянул на неё, и заговорила.
– Будь ты слабым, я бы над тобой не насмехалась, – сказала она. Его рука так крепко обхватила её плечи, что она содрогнулась.
Случилось так, что они уселись на том самом месте, которое облюбовали для себя Майкл и Лора, посреди стены, где росшие справа и слева деревья не загораживали вид на город. Мистеру Ребеку или Кампосу эти двое показались бы силуэтами из паутины воспоминаний призраков, которые сидели тут же на стене. Словно Майкл и Лора – всего-навсего ножны для новых мечей, а мечи – парень и девушка. Но для любого другого случайного прохожего здесь бы оказалось только двое молодых людей, сидящих на стене: девушка, приникшая мокрым лицом к шее парня.
– А я отсюда твой дом вижу, – похвастался парень. Девушка подняла голову.
– Где, Гарри? Где же?
– Посмотри вон туда. Видишь, квартал за рекламой Кока-колы? Единственное, что я знаю – ты там живёшь.
– Вижу. Я даже вижу… Боже мой, Гарри, в спальне свет горит. О, Господи, моя мама, наверное, совсем извелась, она меня убьет, когда я вернусь, она меня просто убьет.
– Я пойду с тобой, – неуверенно предложил парень.
– Она и тебя убьёт, – предупредила девушка.
– Я пойду с тобой. Твоя мама меня не испугает.
– О, какой ты храбрый, – заметила девушка. – Не знаю, что бы я без тебя делала.
– Проспала бы всю жизнь, – предположил парень. – Норма, взгляни, на улицах гаснут фонари. Взгляни на них.
– Как мило. Можно смотреть, как пробуждается целый город, – девушка водила пальцем по рту и по носу парня. – Скоро магазины откроются, – она чихнула ещё раз. – Гарри, я простужусь, и лучше, чтобы ты тоже заболел. Пусть тебе Бог поможет, если этого не случится.
– Прелестно, не правда ли? – прокомментировал Майкл, – что моё, то и твое. Любовь – приятная вещь.
– Как они смотрят друг на друга, – сказала Лора. – Словно один из них в любую минуту может исчезнуть, и они не знают, кто именно.
– Юношеское нетерпение. Не говори мне, что ты этого прежде никогда не видела.
– Конечно видела, – согласилась Лора.
– Сними туфли, – сказал парень. Девушка, нахмурившись, отпрянула от него.
– Зачем? Какой смысл?
– Давай, снимай туфли, – сказал парень. – Ты же простудишься.
– Знаю, что простужусь. А разве оттого, что я буду бегать босиком, выйдет лучше?
– Послушай, у тебя ноги мокрые. Сними туфли и носки, и я тебе разотру ноги. А затем ты сможешь надеть мои носки, пока мы не попадем домой. Что ты об этом думаешь?
Девушка снова начала смеяться.
– Гарри, да ты с ума сошел?! Какая мне польза, если я надену твои носки? Они такие же мокрые, как и мои.
– О, – сказал парень. – Ага, – он разочарованно ощупал свои носки и ботинки. – Хорошо, забудем. Это было просто предложение.
– Я хотела сказать: это было бы ужас как мило, Гарри. Но в этом нет никакого смысла. Я тут же промокла бы снова.
– Ага, знаю, – сказал парень, все ещё осматривая её ноги. – Мне просто понравилась мысль о том, чтобы ты надела что-то моё.
– Какая прелесть, – девушка осторожно коснулась его загривка в том самом месте, где начинаются волосы. – Гарри, это прелестно.
– Забудем. Это была дурацкая идея.
– Ладно, послушай, – сказала девушка. – Послушай. Мы бы могли обменяться плащами. Мой оказался бы тебе немного тесен, но думаю, получилось бы. Ты этого хочешь, а, Гарри?
– Нет, – ответил парень. – Я ничего подобного и предлагать не хотел. Забудем об этом, Норма.
Она улыбнулась медленно и неясно, как если бы пыталась вспомнить сон. Два её пальца – большой и указательный – то смыкались, то размыкались на шее парня.
– Гарри, – прошептала она. – Гарри, взгляни на меня.
– А, знаю, – сказал Майкл. – Это бальная игра. Посмотри в глаза девушки – и увидишь всё, что когда-либо думал о себе. И никогда не сможешь увидеть её безобразия, потому что это значило бы, что сам ты безобразен и неискренен. Вверх по ручью, вниз по ручью – только взгляни на бедного молокососа.
– Майкл, я тоже ревнива, – сказала Лора.
Парень и девушка потянулись, чтобы поцеловаться.
Глаза они закрыли так плотно, что веки сморщились, и у них ушла минута на то, чтобы найти губы друг друга. Они целовались влажно и шумно, а затем сели настолько близко друг к другу, насколько могли, бедро к бедру, обхватив друг друга руками за плечи. Девушка все ещё улыбалась. Она ущипнула парня за ухо и сказала:
– Думаю, нам пора, Гарри.
Парень сорвал у неё с головы полиэтиленовый платок и провел пальцами по гладким прядкам.
– У тебя мягкие волосы, – сказал он.
– Как у младенцев. Я – единственная в семье, у кого они такие. Мама говорит, такие же были и у моей бабушки, а я её не помню. Гарри, нам пора идти.
Её голос прозвучал выше, чем раньше и теперь он дрожал, потому что рука парня упала с её волос на плечо, с плеча – на талию, а оттуда – на бёдра, где и осталась. В его пальцах угадывалось какое-то ожидание, как если бы их движения или неподвижность зависели исключительно от реакции девушки. Даже не потянувшись, чтобы убрать с бёдер его руку, она скользнула в сторону, и парень сразу же уронил руку.
– Гарри, – сказала она, скорее, дразня, чем упрекая. – Не на кладбище.
– Не на кладбище, – сказал парень умиленно. – Не в гостиной. Не на крыше. Не в парке. Не в кино. Не посреди проклятой пустыни Сахары. Правильно? Правильно?
– Не кричи, – сказала девушка, когда он отвернул от неё голову. Она взяла его подбородок в ладонь и удержала в неподвижности его руку. – Гарри, я просто не хочу всего этого портить. Я не хочу, чтобы с нами случилось что-то плохое, потому что один из нас, знаешь ли, хватается за другого.
– Хватается? Чёрт возьми, я тебя касаюсь сквозь твои проклятые плащ и платье – и что ты там ещё носишь, и, оказывается, я за тебя хватаюсь – о, Господи!
– Иногда я за нас боюсь, – сказала девушка. – Действительно боюсь, Гарри.
Парень вырвал подбородок из её руки.
– Чёрт возьми! – воскликнул он. – Чёрт побери!
– Аминь, – сказал Майкл.
– Гарри, Гарри, – позвала девушка. – Обернись и взгляни на меня.
– Не вздумай, Гарри, – предупредил Майкл.
Но парень уже обернулся, и девушка вытянулась, чтобы целовать его в лоб, бормоча: «Гарри, Гарри, Гарри». Она притянула его голову к своей маленькой груди и задержала её там, похлопывая его по щеке и закручивая его волосы вокруг своих пальцев.
– Мой Гарри, – шептала она, – мой бедный нетерпеливый Гарри…
– Не обращайся со мной, как с ребёнком, Норма, – голос парня звучал слегка приглушенно. – Не делай из меня ребёнка. Вы всегда так. И мне это не нравится.
Девушка рассмеялась.
– Это превращает тебя в ребёнка? – она ещё теснее прижала к себе его голову.
– Да, – сказал парень. Но Майкл и Лора его еле-еле услышали. Он оказался склонён вперёд под весьма неудобным углом, и голова его покоилась на груди девушки – при этом он всё пытался передвинуть ноги и занять более удобное положение. Он сказал что-то ещё, и девушка наклонилась, чтобы расслышать.
– Что ты сказал, Гарри?
– Я люблю тебя.
Она отпустила его голову, но он не распрямился.
– Знаю. Я знаю, что ты меня любишь.
– Ну, так я тебе снова скажу, – громко произнес парень. – Я люблю тебя, Норма.
– А я – тебя, – она подняла его голову и поцеловала его в губы, медленно провела рукой по его щекам и сказала:
– Идём, Гарри. Мы выпьем где-нибудь кофе или что-то ещё и явимся к моей матушке. Думаешь, ты с ней справишься?
– Только подай мне её, – сказал парень. Спрыгнув со стены, он приземлился на корточки, повернулся, протянул руку девушке и сказал:
– Прыгай. Я тебя поймаю.
– А ты уверен? – девушка поманила его поближе к стене. – Ты меня не уронишь?
– Нет, не уроню, – пообещал парень. – У меня мускулы что надо. Давай, дорогая. Все в порядке.
– Хорошо, – сказала девушка. Она осторожно соскользнула со стены, парень поймал её и аккуратно поставил наземь, поцеловав её в уголок губ и обхватив рукой. Когда они зашагали обратно к теплице, Майкл и Лора услышали, как парень говорит:
– Славная погода, милая.
– Чудесная, – отозвалась девушка. – Надо бы нам как-нибудь повторить.
Когда они исчезли, Майкл вздохнул и сказал:
– Попался. Какое меткое оружие эта сексуальная морковка, если она в умелых руках. Бедный идиот.
– Думаю, она его любит, – заметила Лора. – Она ни разу не отвела от него глаз.
– Ну конечно. Когда кошка подкрадывается к славной жирной птичке, она не интересуется ничем другим. Для неё главное – глаза. «Гарри, взгляни на меня, взгляни на меня». Гипноз в сочетании с мягким удушением. Когда она потянула его к своей груди, он все ещё боролся, а когда высвободился, его уже не было. Его побили. Конечно, она его любит, но у них две разных идеи любви. Он хочет танцевать с ней на террасе при полной луне под оркестр из тридцати шести инструментов. Он хочет, напевая, идти с ней через бурю, словно Джон Келли. А она знает об оркестре из тридцати шести инструментов, что музыкантов надо покормить, и тогда ничего не останется детям.
Люди в городе спешили на работу. Почти в одно и то же время они выплеснулись из домов на пустые улицы, садясь в машины, ожидая автобусов, спускаясь, в метро, маршируя по серым тротуарам. Немного пройдёт, и улицы, минуту назад пустые, а теперь кишащие народом, снова опустеют, когда город впитает их, словно промокашка. В свое время он вернет обратно некоторых из них, большинство их, при условии, что время это будет основательно выкручено, выжато и разорвано между Теперь и Потом.
– Когда-то и я вот так сидела с мужчиной, – сказала Лора. Майкл не отозвался, и она продолжала. – Я обвила его руками, как она сегодня, и держала его, совсем, как она. Не совсем по той же причине, но я держала его, совсем как она и говорила те же слова. Скажи мне что-нибудь побыстрее, Майкл, потому что я это забыла, а говорю, как будто вспоминаю.
– Ты мне этого никогда не говорила, – отозвался Майкл. – И я не знаю, что сказать. Он сюда когда-нибудь приходил?
Лора рассмеялась.
– Боже мой, нет. Это было так давно, когда мы сидели рядышком, – она снова остановилась, ожидая его реакции. – Скажи что-нибудь, Майкл.
– Что я могу сказать? – теперь он рассердился. – Перестань превращать меня в своё эхо. Расскажи об этом, если хочешь. У тебя был возлюбленный? Отлично, так?
– Возлюбленный, – сказала Лора. – Так я его называла. Это – прекрасное слово. Я тогда училась в колледже. Бывало, я сидела на своём месте, закрывала глаза и говорила себе: «У неё есть возлюбленный, у Лоры есть возлюбленный». Я посматривала на девушек в весенних платьицах, сидевших рядом, они слушали все, что им полагалось слушать, немного приоткрыв рты, а я им всем мысленно говорила: «Когда это занятие кончится, некоторые из вас пойдут домой, некоторые – на другое занятие, а некоторые – в другие места. А вот я выйду из этой комнаты и отправлюсь на свидание с моим возлюбленным. У вас у всех есть кавалеры, поклонники или женихи, а у меня – возлюбленный. Это – большая разница».
– Вероятно, все они думали то же самое, – сказал Майкл. – И говорили, как учитель.
– Теперь-то я знаю, что у них у всех были возлюбленные, как бы они об этом ни думали. Тот был у меня первым. Мы с ним сидели как-то вечером под деревом, и вдруг он часто задышал, напустил на себя виноватый вид и сказал, что он для меня недостаточно хорош. А я обвила его руками – нет, схватила за шею, да, в самом деле – и притянула его лицо к своей недоразвитой груди. И как завела: «У, ну, я тебя люблю, не беспокойся, я тебя люблю…». Возможно, ты и прав насчет этой девушки, Майкл, потому что я схватила его, как если бы лгала в ожидании возможности вцепиться в него и удержать подобным образом. Мне это было очень приятно. Кажется, он даже немного вскрикнул.
На улице внизу мать закричала на ребёнка в бессловесном гневе и любви.
– А что случилось потом?
– А потом он ушёл. Это очень недолго продолжалось. Но тогда казалось, что долго, и до сих пор так кажется, когда я об этом вспоминаю. А больше всего времени уходило на то, чтобы перестать повторять: «У Лоры был возлюбленный», чуть выпадало несколько свободных минут, – она слегка сдвинулась вдоль стены, нематериальная и зыбкая, словно поэзия, и не более постоянная. Машины, завывая, толкались и теснились на улицах города. – Это довольно забавно. До той весны и много спустя я нередко гордилась, что я такая чувствительная и понимающая куда больше, чем основная масса людей. Я отмечала для себя потерянных и безъязыких и частенько думала, что я их понимаю. Я знаю, что такое – причинить зло из жалости, только потому что догадываешься, что кого-то не любят. Меня, возможно, и саму не любят, но, парень, я умею сочувствовать. Иногда я даже писала об этом.
Майкл не ощутил ни как будто ему сдавило несуществующее горло, ни будто слащавая жалость пробегает по несуществующему телу, но ничего, кроме Лориных слов, он не слышал.
– Но на то недолгое время, – продолжала она, – я начисто забыла об этой эмоциональной подпитке. Я стала самоуверенной. Меня любили. Я была одной из тех, кто имеет, а одна из особенностей имеющих – это то, что они не тратят времени на сочувствие. Я насыщалась тем, что меня любят, пока это у меня из ушей не полезло, а когда все прошло, даже не сразу поняла, потому что жила старыми запасами. Доказывая… – она вдруг остановилась, и Майклу показалось, будто её крайне заинтересовали дешёвые надгробия внизу, под холмом, такие похожие, так тесно поставленные, что на них можно было бы положить линейку – и до самых железных ворот.
– Доказывая? – спокойно переспросил Майкл.
– Да ничего не доказывая. Доказывая, что у каждого, а я имела в виду себя – своя цена. Доказывая, что легче полюбить самого угнетенного и обездоленного в мире, если тебя саму никогда не любили. Меня это испортило. Мужчина сказал мне: «Я тебя люблю». А я заставила его повторить это великое множество раз. И вот из-за этого я чувствовала себя много выше тех, кого не любили до тех пор, пока сегодня не поняла, насколько выше меня те, кто любим и всё ещё любит. Забудь об этом, Майкл. Я опять все усложняю. Но я понимаю, что я имею в виду.
Она взглянула прочь, неизвестно куда, но мимо него, а Майкл, посмотрев на неё, вдруг увидел её отчетливей, чем когда-либо. Он увидел и её большой рот, и совершенно неправильный нос, и глаза, которые не лучше сочетались со всем остальным, чем рот, нос или кожа. Он увидел её чёрные волосы, падавшие наискосок через опущенную шею и даже её любимое платье, серое и неприметное, но столь тщательно всплывшее в памяти, что можно было рассмотреть изгибы швов и то, что сзади не хватает пуговицы. Всё ещё – никакой жалости, никакой жиденькой печали, но чувство, от которого вот-вот выступят слезы, чувство, которое вряд ли можно выразить словами, не уничтожив его. Но он попробовал, ибо он был Майкл Морган и не доверял чувствам, которых невозможно поведать.
– Я тебя люблю, – сказал он.
Это сорвалось с его губ необдуманно и прозвучало весьма неважно. Он слишком подчеркнул «я», и слова его прозвучали агрессивно-покровительственно. Он понимал, как неуклюже это должно показаться Лоре.
– Не совсем так, – сказала она немного печально. – Моя мама это примерно так говорила. Я не хочу, чтобы меня защищали, Майкл.
– Я люблю тебя, – сказал он снова. И на этот раз прозвучало лучше. – Я. Я самый. Майкл Морган. Не твоя мама. Я тебя люблю, Лора.
– Мне нравится это слушать. Я бы никогда не смогла привыкнуть к тому, как это звучит. Скажи ещё. Скажи сколько хочешь раз.
Он собирался сказать это снова, но тут же опомнился.
– Ты имеешь в виду, что я могу это повторять, сколько захочу, но ты мне не поверишь.
– Майкл, ты меня не знаешь. Ты никогда меня по-настоящему не видел. Если бы мы оба были живы и как-нибудь встретились на улице или ты бы пришёл ко мне в книжный магазин что-нибудь купить, так ты бы на меня второй раз не взглянул. Если бы нас представили друг другу на вечере, ты бы пожал мне руку и сказал: «Рад познакомиться, мисс Хм…» и забыл бы обо мне, прежде чем договорил. Ты – пылкий человек, ты привык, чтобы тебя любили, а теперь ты одинок. Не упражняйся на мне. Не говори, что ты меня любишь, потому что это – часть настоящей жизни, когда кого-то любят. Это не воскресит тебя к жизни, да и для меня это не сделает смерть сколько-нибудь легче.
«Забавно, – подумал он. – Мы здесь сидим и беседуем об эмоциях совершенно неэмоциональным тоном, словно два соседа, извлекшие для себя всё, что только можно, из сплетни, дошедшей до них из четвёртых рук. А можем ли мы что-то чувствовать – мы, мёртвые? Или это – тоже воспоминание в результате усилия? Если она меня полюбит, буду ли я счастлив? А если нет – огорчит ли это меня? Почувствую ли я вообще какую-то разницу?»
– Я бы узнал тебя, – сказал он. – Я бы увидел тебя разок, познакомился бы с тобой, женился бы, и мы бы долго прожили вместе ещё до того, как кончился бы вечер.
– А что бы ты мне сказал? – спросила Лора. – «Дорогая мисс Дьюранд, я буду любить вас, пока я жив». А что ты мне теперь скажешь?
– Я буду любить вас и каждый день после моей смерти, много их будет или мало. До тех пор, пока в состоянии буду помнить, что такое любовь, я вас не разлюблю.
– Каждый день после моей смерти, – негромко повторила Лора. – Их не так уж много и осталось, Майкл. Наши души как порванные карманы – подумай обо всём том, что мы позабыли и забываем каждую минуту. Почему о любви надо помнить сколько-нибудь дольше, чем о других вещах?
– Потому что она нам больше нужна, – сказал он. – Потому что без неё у нас вообще ничего не останется. Любя друг друга, мы дольше продержимся, прежде чем забудем, что вообще когда-то жили. Пока мы знаем, что мы любимы, это ненадолго делает нас почти людьми.
– Совсем ненадолго, – вздохнула Лора. – Разве это того стоит? Разве стоит любовь усилия, чтобы не уснуть, пока не выкуришь сигарету и не прослушаешь ещё одну пластинку? Если это не может продолжаться достаточно долго для того, чтобы мы полюбопытствовали, а не может ли продолжаться ещё дольше, если бы мы знали, когда и как оно должно закончиться, так что в этом хорошего? Я устала надеяться, я устала перебирать упущенные возможности встречи с кем-то. Тот, кто трясет кулаком пред лицом богов, потеряет руку. Пусть всё будет, как оно будет, и оставь меня в покое.
Тележка с мороженым наполнила город своим нелепым звоном, но только несколько ребятишек выбежало на улицу, потому что было ещё слишком рано для мороженого. Вдалеке на стройке закашляла и зафырчала паровая дрель, а через решетки в тротуаре слабо донёсся визг поезда метро на крутом повороте. «Уже должна наступить жара», – подумал Майкл, поскольку большинство окон, которые он видел, были отворены, а строительные рабочие поснимали рубашки.
– Ничто в конечном счете не стоит усилий, – сказал он Лоре. – Ведь каждый когда-нибудь умрёт, и ничто и мире никого не избавит от смерти. Ничто не вечно. Кое-что продолжается дольше, чем живёт большинство людей, но всё равно исчезает. Исчезают надежда и желание, удивление, страх и нетерпение. Любовь остается ещё на несколько минут – и всё. Минуту, месяц или час. Спичка горит до тех пор, пока не обожжёт пальцы, и тогда гаснет. И вот – ты снова во тьме и трёшь одну о другую две маленьких палочки. Но это – последний раз. Последний огонёк. Больше света уже не будет. Никакого. И никакого шума передвигаемых вещей или укладывающихся спать животных. Только наши одинокие несоприкасающиеся сущности, а вскоре – даже этого нет.
– Тогда будем сидеть в темноте, – сказала Лора. – Сидеть и ждать.
– Чего ждать? Ничто не придёт. Боже мой, да мы целую жизнь провели в ожидании – и ты, и я. С чего бы чему-нибудь прийти к нам теперь, если оно раньше не приходило? Существует только это, только этот жалкий набросок любви, который удержит нас от бессмертия ещё некоторое время. Ты готова стать мудрой, Лора? Я – нет. Я бы скорее ещё день полюбил, а затем стал мудрым, даже если любовь только и значит, что говорить: «Я люблю тебя», как я сейчас говорю.
Воробей спорхнул откуда-то и приземлился на стене. Лора протянула руку, чтобы погладить его пёрышки, а когда рука прошла сквозь птичку, попыталась снова. Девушка совершала это бесполезное движение опять и опять, пока птичка не улетела.
– Это – всё, на что мы можем рассчитывать, – сказала Лора. – На таких условиях нам хоть что-то достанется.
– Вот и всё, что есть. Вот и всё, что когда-либо было.
– И я бы сразу согласилась, – сказала Лора, – пока я была жива. Если бы меня любил мужчина, я бы себя уговорила его полюбить, и некоторое время спустя я бы его очень серьезно любила. Теперь я не могу этого сделать, Майкл, это глупо звучит даже для меня и по-идиотски гордо, но я не полюблю тебя только потому, что я тебе нужна. Я хочу, чтобы ты любил женщину пусть лишь то недолгое время, что нам отпущено, но надо, чтобы она была Лорой. Я понимаю, немного поздно ставить такое условие, но я не буду любима только потому, что, глядя на меня, ты видишь смерть у меня за плечами.
– Тогда почему ты пыталась заставить того каменного мальчика полюбить тебя, оттого что он был одинок? – насмешливо спросил Майкл. – Почему ты ему сказала, что у него нет никого, кроме тебя?
Он снова увидел, как быстро и болезненно дрогнул её образ, прежде он видел это раз или два, но не вспомнил.
– Это – другое дело. Я не хотела, чтобы он меня полюбил. Я хотела, чтобы он поговорил со мной и попросил меня побыть с ним немного. Но я хотела быть ему нужна.
– Вся любовь – это зарифмованная нужда, – сказал Майкл. – Ты мне нужна. Ты была мне нужна, когда я был жив. Где же, чёрт возьми, ты пропадала? И теперь ты мне нужна, и ты здесь, и я тебя люблю. Я самоуверен, как бедный ненасытный Гарри. Я хочу делать тебе подарки и смотреть, как ты им радуешься, а это уже предел самоуверенности. Я не могу с тобой торговаться, Лора. Я оставил дома все свои зеркала и бусы. И всё, что я могу тебе дать – это моё желание. Я приму всё, что ты сможешь мне дать, и я буду доволен. Я люблю тебя, Лора.
– Я тебя тоже люблю, – сказала Лора. – Теперь споем вместе наш дуэт?
– Нет. Ничего не меняется.
Она придвинулась ближе к нему, и мука в её серых глазах и уголках мудрого рта была, словно рыболовные крючки, вонзившиеся ему в душу.
– Да, я люблю тебя, Майкл. Но я хотела бы, чтобы я могла полюбить тебя так, как желала. Когда всё таково, каково есть, я ничего не могу тебе дать. Я могу только принимать от тебя, а за это я себя скоро возненавижу.
– Не уносись прочь, – попросил Майкл. – Люби меня до тех пор, пока я тебе нужен. Именно так любят друг друга люди.
– Но это вовсе не так, как я хотела любить. Для меня любовь – это отдавать то, что в состоянии отдать человеку, которого любишь. Я не могу тебя даже коснуться, Майкл, а я хотела бы иметь такую возможность. Я хотела бы, чтобы нам с тобой можно было спать. Я хотела бы сделать тебе приятное.
Майкл ухмыльнулся ей.
– А теперь ты вроде как и не должна подобным образом рассуждать. Ты, вроде как, должна быть чистым духом, который не тревожит желания испорченной плоти. Идея в том, чтобы избавиться от всего телесного настолько, что ты теперь можешь свободно медитировать, и тебя не станут постоянно звать к телефону. Будь как пламя, Лора, как неяркое синее пламя.
– Довольно скоро я такой и буду, – сказала Лора. – Что же мы станем делать потом, во время того короткого «навеки», которое у нас есть? Как нам любить друг друга? Как нам жить вместе и делать друг друга счастливыми?
– Я даже и не знаю, – ответил Майкл. – Думаю, нам надо оставаться вместе и не уноситься слишком далеко друг от друга. Не так уж и много мы можем сделать для себя или один для другого, Лора. Разве что быть влюблёнными, потому что это немного лучше, чем влюблёнными не быть. Тебя это пугает?
– А разве мертвец может испугаться? Даже влюблённый мертвец.
– Они более уязвимы. Кто угодно более уязвим в любви или в колее, или что там из этого ещё получится.
– Что меня немного пугает, – сказала Лора, – это то, что меня узнают. Мы собираемся хорошо узнать друг друга, пока не потеряли почву под ногами, любовь моя. Я частенько думала, как было бы чудесно, если бы люди просто могли поднимать крышки над своими душами и позволять другим туда заглядывать, вместо того, чтобы доверяться словам. Теперь я не так уверена. Я сомневаюсь, полюбишь ли ты меня, если узнаешь.
Майкл рассмеялся.
– Я использую свой шанс. Это как женитьба. Идёт состязание между полным знанием друг друга и смертью. Если смерть приходит раньше, считается, что это – удачный брак.
Внезапно он указал на город.
– Взгляни, не те ли это двое, которые были здесь сегодня утром: Гарри и эта, как бишь её там?
– Норма, – сказала Лора. Она увидела две фигурки в дождевых плащах, ожидавших у светофора. Они держали друг друга за талию. – Слишком далеко, чтобы понять, – сказала Лора. – А вообще-то, похоже – они.
Они наблюдали за парочкой, пока не загорелся зелёный, и парень с девушкой не зашагали через улицу. Они шли так медленно, что зелёный успел погаснуть, когда они ещё не достигли противоположного тротуара, и машины зафыркали им на ноги.
– Удачи вам, бедные дурачки, – пробормотал Майкл. – О, удачи… – он вовремя обернулся, чтобы встретить Лорину улыбку, и пришёл в некоторое замешательство. – Видишь? – сказал он. – Ты ошибалась. С тех пор, как ты чувствуешь себя любимой, ты стала великодушной, экспансивной, сентиментальной. Ты любишь всех, даже молодые парочки, а это от тебя чего-то требует.
Лора улыбнулась и радостно воззрилась на него, не говоря ни слова.
– Я хотел бы иметь возможность тебя коснуться, – сказал он мгновение спустя. – Думаю, мне бы понравилось держать твое лицо в ладонях и покровительственно посматривать на тебя. У тебя была бы прохладная кожа и лёгкие кости, и я бы их чувствовал пальцами.
– Мне это тоже понравилось бы, но я бы при этом смутилась, и моя кожа стала бы горячей и жутко красной. Так всегда бывало. Хотя я не возражала бы, если бы ты этого не сделал.
– И я бы не возражал.
– Добросердечный Морган, – тихо сказала Лора. Всё ещё улыбаясь, она села, выпрямившись, так, чтобы Майкл мог ею любоваться.
И он совершенно внезапно сказал:
– Дотронься до меня. Попробуй дотронуться до моей руки.
– Не получится, Майкл, – она говорила еле слышно. – Я попробую, если ты хочешь. И у меня от этого разобьётся сердце. Но не получится. Время прямых прикосновений прошло.
– Попробуй, – попросил Майкл. – Пожалуйста, попробуй. Подумай об этом. Подумай о том, что ты меня любишь и хочешь до меня дотронуться. Подумай о том, что обычно чувствовала твоя рука, и как ты ею шевелила, и на что это было похоже – касаться чего-то рукой. Протяни ко мне руку, Лора. Это вполне может быть и твоя рука. Великий Символ.
– Майкл…
– Один разок. Одна попытка – и всё. Больше не надо.
Он выставил руку. Она без колебаний потянулась, чтобы коснуться руки рукой. Солнце уже нагрело листву, а город наполнился шумом машин и детей; и Майкл с Лорой, влюблённые, потянулись друг к другу, чтобы взяться за руки, как влюблённым и положено. Была точка в пространстве, где руки их, лёгкие, как дыхание, встретились и стали, казалось, одной рукой, сквозь которую светило солнце и падал лист. Некоторое время они с надеждой смотрели на своё рукопожатие. Затем каждый постепенно опустил взгляд, чтобы посмотреть в глаза другого, вроде бы, виновато, но всё же, надеясь увидеть что-то, что вовсе не их глаза видели. Они не опустили рук и не отвели взгляда друг от друга.
– Ничего, – сказал Майкл. – Я и не думал, будто что-то получится.
– А я что-то почувствовала, – сказала Лора, не в силах вынести печали в его голосе. – По крайней мере, мне кажется, что почувствовала. Возможно, это только воображение…
– Не лги мне, даже чтобы доставить удовольствие. У нас нет времени на ложь.
– Хорошо, – сказала она. – Я ничего не почувствовала. Ничего не вышло. Мы вообще не можем друг друга коснуться. Когда я честно говорю, ты себя лучше чувствуешь? Для меня это так же болезненно, как и ложь.
– Ничего страшного, Лора, – он уронил руку вдоль туловища. – Это неважно.
– Это важно! – вскричала она. – Вот почему я даже теперь не могу удержаться от зависти к Сандре. Что бы она ни брала у тебя, она хотя бы могла отдать вот столечко тепла. А я – ничего. Только моё общество и приятные слова.
– Лора, – сказал Майкл. – Лора, Лора. Сандра немного иначе смотрела на вещи. Для неё обнимать друг друга и спать вместе – это был способ брать. Мы никогда не занимались любовью. Не знаю, чем же это мы занимались, но то была не любовь, оно всегда умирало к утру, – он рассмеялся. – Я тебе кое-что скажу. Однажды мне ужасно понравилось одно стихотворение Эмили Дикинсон – или ещё чье-то. Я помню только одну его строчку, а там говорится: «Душа стремится быть сама с собой». Я любил её всем напоминать. Как-то я её процитировал одному своему другу, и он сказал: «Возможно, но при этом тело бросается на постель чёрт-те знает с кем». Я помню, как он мне это сказал.
Он довольно долго глядел на Лору, ничего не говоря. Один раз он потянулся, как если бы снова попытался дотронуться до неё, но она так быстро отдернула руку, что ей подумалось, а не вообразила ли она вообще это движение. Упал ещё один лист. «В этом году ранняя осень», – подумала она.
– Для меня быть с тобой, как с самим собой, – сказал Майкл. – Я искал тебя, пока был жив. Я относился к этому легкомысленно, чтобы мне не стало слишком больно, если я тебя не найду. А я кидался на постель чёрт-те знает с кем, когда становился слишком уж легкомысленным, но искал-то я тебя, Лора. Некоторое время я принимал за тебя Сандру. Извини, но было темно, а я близорук. Но вовсе не Сандрой была та, которую я любил. И вовсе не в Сандриных объятиях я спал.
– О, дьявол, – сказала Лора. – Почему ты так задержался в пути?
– Моя лошадь пала. Пришлось её съесть – бедное животное. Так ты любишь меня?
– Да. Очень-очень.
– А я люблю тебя. Не хочешь ли пойти прогуляться? Город может умыться, поесть и поработать и без нас.
– Нет, – сказала она. – Давай побудем здесь ещё немного. У нас есть время.
Ворон подлетел откуда-то сзади, и они улыбнулись, когда услыхали резкое хлопанье его крыльев. Он приземлился между ними на стене, отдышался и сказал:
– Я тебя повсюду ищу, Морган.
– Я был здесь, – сказал Майкл.
– А я носился туда-сюда по всему треклятому кладбищу. Ребек сказал, что ты, возможно, сидишь здесь.
– А, новости о суде, – догадалась Лора. – Суд закончился.
– Закончился, – Ворон опустил взгляд и заскреб клювом в пространствах между кирпичами, где вспучился раствор.
– И как он прошел? – спокойно спросил Майкл. – Что с Сандрой?
– Сумасшедший суд, – пробормотал Ворон, не поднимая глаз. – Самый бредовый суд, о каком я когда-либо слыхал.
– Она победила, – сказала Лора. – Победила, верно? И её отпустили.
– О, дорогая, – сказал Майкл. – Ты вроде как и не должна бы думать о судах, как о победе или поражении. Идея такова…
– Её освободили, – хрипло сказал Ворон. – Сочли невиновной.
– И хорошо. Я бы не хотел, чтобы с Сандрой случилось что-нибудь дурное. Было бы несправедливо убивать её.
– Морган, ты не усек главного, – Ворон избегал встретиться с ним взглядом. – Они рассуждают так: если не она тебя убила, значит – ты сам. Самоубийство. Её адвокат сказал, что ты пытался подстроить так, чтобы её обвинили. И вот теперь парочке ребят дано распоряжение выкопать тебя и перенести в другое место. Потому что ты – католик, и так далее…
Лора коротко и пронзительно вскрикнула и тут же умолкла.
– Лора, – сказал Майкл. Он отвернулся от Ворона, чтобы поговорить с девушкой, но, назвав её имя, ничего больше не сказал.
– Это был сумасшедший суд, – повторил Ворон. – Я рассказал обо всем Ребеку, и он тоже так думает.
ГЛАВА 12
– Все дело в бумажке, – сказал Ворон. – Они нашли тот самый листок.
– Какой листок? – спросил мистер Ребек. Все четверо сидели на маленьком пригорочке, с которого открывался вид на могилу Майкла Моргана. После того, как туман испарился, погода стала довольно солнечной, но было прохладно и дул ветер. Как раз такого рода дни мистер Ребек всегда любил.
– Бумажка, в которую был завернут яд, – спокойно сказал Майкл. – Теперь я помню.
– Ага, – сказал Ворон. – Видишь ли, у них был тот обрывочек, свернутый фунтиком. Только на нём не оказалось ничьих отпечатков пальцев, и вот, как об этом рассказывают газеты, её адвокат прошёлся по всему дому, пытаясь найти этот лист, буквально всё вверх дном перевернул.
– Под промокашкой у меня на столе, – Майкл казался очень спокойным. – Я положил её туда для надёжности. Я её собирался выбросить, но, видимо, был слишком пьян. Так когда они придут?
– Не знаю. Теперь уже довольно скоро.
– Я не понимаю, – вмешался мистер Ребек. – Почему бумажка оказалась так важна?
– На ней написан его почерком ряд цифр, – пояснил Ворон. – Насчёт самих цифр я не всё запомнил, потому что главным оказался почерк.
Майкл сидел рядом с Лорой, скрестив ноги – в той же позе, в какой она его впервые увидела. То и дело он поворачивал голову, чтобы взглянуть на неё и улыбнуться. Она сидела совсем тихо, устремив взгляд на длинную, усыпанную галькой дорожку, по которой, вот-вот придут те двое. Майкл не обращался прямо к ней, а она вообще ничего не говорила.
– Цифры имели отношение к дозам, – сказал он. – Главное в такого рода зельях – то, что если вы приняли слишком мало, случится всего-навсего расстройство желудка, а если принять слишком много – вырвет. Как от рвотного. И нужно точно знать, сколько принять. Я посмотрел в библиотеке и записал себе на бумажке. Затем, когда понадобилось в чем-то хранить яд, я оторвал уголок, а остальное положил под промокашку, потому что спешил. И бросил яд в свой стакан, когда мы с Сандрой вместе пили перед тем, как отправиться спать. Теперь я это помню, – внезапно он поднял голову. – Кажется, я что-то слышу. Машина.
Лора взглянула на него и собиралась вроде что-то сказать, но промолчала. Они сидели молча, вслушиваясь в шипящее перекатывание гальки, рассыпающейся из-под шин, в рокот мотора и шум голосов, ожидая, когда из-за поворота вынырнет широкий нос и ухмыляющаяся серебристая пасть радиатора. Мистеру Ребеку хотелось взять за руку Лору или положить ладонь на плечо Майклу, но, увы, он не мог. Он обнаружил в носке дырку и просунул в неё палец, наблюдая, как дырка увеличивается.
Они ждали, но ничего не происходило. Слышался только треск кузнечиков.
– Ничего, – сказал Майкл. – Должно быть, я перенервничал.
– Не могу вообразить, чтобы ты оказался самоубийцей, – почти изумлённо сказал мистер Ребек. – Я и теперь не могу себе этого представить всерьёз.
– Я тоже, – сказал Майкл. – Ни тогда, ни теперь. Это трудно объяснить, но я так и не понял, что собираюсь кончать с собой. Не так это было, как мы представляем себе сознательные действия – когда планируешь, живёшь с этим, просыпаешься утром и говоришь: «Ещё через два дня я приму яд и умру». Для этого требуется что-то такое, что мне несвойственно. Даже когда я высмотрел смертельную дозу и записал её, это было, чёрт побери, всего-навсего интеллектуальное любопытство. Что-то такое, что уместно вставить, если возникнет пауза в разговоре. Но не могу вспомнить, чтобы я когда-либо говорил себе: «Послушай, ведь ты больше не хочешь жить. Ты собираешься покончить с собой как можно скорее и разделаться со всем этим». Никогда я такого не говорил.
Он снова взглянул на Лору.
– Думаю, именно этого Лора никак не может мне простить. Она хочет, чтобы самоубийцы были честны сами перед собой – выбирали смерть и храбро искали её. Я этого сделать не мог. Я не был достаточно храбр или достаточно честен. Лора во мне разочаровалась. Вполне понятно.
– Вовсе не так, – сказала Лора. Она не повернула головы. – Я не имела права кого бы то ни было просить быть честным. Вовсе не так. Но оставить свою смерть на пороге своей жены, так умереть, чтобы это и ей угрожало – не знаю, право, что и думать. Если бы знала, так сказала бы.
– Да. Нехорошо вышло.
Ощутив необходимость коснуться чего-то живого, мистер Ребек протянул руку и погладил черные перья Ворона. Птица вздрогнула, но не шарахнулась, и мистер Ребек оставил руку на пыльных перьях. Он чувствовал, как бьётся сердце Ворона.
– Может быть, он не знал? – предположил мистер Ребек. – Мы делаем так много разных вещей, так и не поняв, что мы их сделали. Он не подумал, что Сандру обвинят в убийстве.
Майкл покачал головой.
– Подумал. И всё-таки, спасибо вам, – больше он ни на кого из них не глядел, не смотрел и на дорогу. Казалось, будто он с огромным интересом изучает белое облако, походящее по форме на лошадиную голову.
– Я знал, – сказал он. – Здесь по-настоящему нет обходного пути. Я чувствовал, что Сэнди довела меня до самоубийства, и что было бы только справедливо, если бы она пострадала. Смешно, что я так горячо верил в справедливость. Я всегда начинал свой курс истории, сообщая студентам, что если они рассчитывают услышать серию киносценариев, где хорошие ребята в конце побеждают, они могут сразу отправляться домой. Потому что хорошие ребята не только не побеждают, их вообще не было.
– И студенты должны ходить в колледж, чтобы это выучить? – спросил Ворон. – Чёрт возьми, да птицы узнают это ещё до того, как поймут, что они – птицы.
– Люди тоже узнают, – сказал Майкл. – Но это их несколько беспокоит, и они предпочитают избегать данной темы в целом. Я обычно говорил в аудитории: «Справедливости нет. Справедливость – это концепция, созданная людьми, инородное тело во вселенной. Тигры не поступают ни справедливо, ни несправедливо, когда, к примеру, убивают козлов или людей. Не существует такой вещи, как абстрактная справедливость. Существует такая вещь, как закон. Разница должна быть очевидна». Это – старая песня, отнюдь не Морган её сочинил, но студентов она всегда впечатляла. – Лора ничего не сказала, и Майкл вздохнул. – Что ж я могу тебе сказать, Лора? Что я перепутал справедливость и месть? Люди их здорово путают, и так было всегда. Это – не оправдание. Я никогда не допускал, что думаю, будто моя жена должна умереть из-за того, что вызвала мою смерть, но идея была именно такова. Это казалось вполне справедливым.
– А все твое неприятие смерти? – спросила Лора. – Это была ложь? Вся борьба за то, чтобы не расстаться с жизнью, все твои крики, что Сандра тебя убила – ты это все время знал?
– Нет, не знал. Пока не прилетел Ворон, я ничего не помнил о своей смерти. Только что она – от яда, и что это имеет отношение к Сандре. Вот и всё.
Лора молча наклонила голову, не глядя на него, и вдруг Майкл заорал:
– Чёрт возьми! А как ты думаешь, что я чувствую? – голос его колокольным звоном разнесся в голове мистера Ребека, так что больно стало слушать. Казалось, в мозгу у мистера Ребека раскачивается огромный маятник.
– Как ты думаешь, что я чувствую, зная, что я достаточно надоел себе, чтобы покончить с собой и достаточно мстителен, чтобы попытаться кого-то за собой увести? Отчетливо зная, не имея ни малейшей возможности закрыть глаза на то, что я – лжец, трус и убийца в любом смысле, только не на деле? Зная, что я никогда не любил Сандру и пытался её погубить, за то что она не любит меня? И я это спланировал, спланировал всю эту дребедень, детскую губительную затею, а потом обо всём позабыл, ибо события не развивались по сценарию, который я выдумал. Боже, что я был за человек, как я, должно быть, ненавидел!
– Я бы не стал так биться головой об пол, – сказал Ворон. – То есть, ты ничего с этим не можешь поделать. В любом случае, её освободили. Счастливый конец. Остальное – неважно.
Майкл покачал головой.
– Важно. А вот как это кончается, отныне не имеет значения, – его голос зазвучал спокойнее. – Забавно обнаружить, что я вовсе не любил Сандру. Я-то всегда считал, что люблю её.
Мистер Ребек почувствовал, что собранное тело Ворона зашевелилось под его рукой, и подумал: «Хотел бы я, чтобы этого не случилось. Я хотел бы от всей души, чтобы снова настал июнь, поздняя весна, последние дни перед тем, как начинает жарить, и ничего этого не случилось бы». Он увидел, как Лора медленно подняла взгляд и смотрит в глаза Майклу, и, ничуть не удивившись, понял, что произошло между ними этим утром. «Положим, это – чудесная вещь, – подумал он. – Даже что-то вроде чуда. Но я, кажется, не могу на это правильно отреагировать. Я слишком стар для внезапной красоты, для цветка, который появляется без бутона, и гибнет, не образовав плода. Что же теперь с нами случится? О, Боже мой, как я желал бы, чтобы снова настала весна, поздняя весна, дни перед тем, как начинает жарить».
Голос Майкла зазвучал негромко, когда он сказал Лоре:
– Охота закончена. Закончено преследование Моргана. Я знаю, кто я. Я – всё, чего я боялся в жизни, всё, что ненавидел в других: фальшь, жестокость, бездумное высокомерие. И я должен тащить их с собой, куда бы меня ни потащило, потому что это-часть меня, моя плоть и кровь. И я нигде больше не смогу от них укрыться.
– Это неправда, – сказала Лора. – Ты – добрый и нежный. Ты – не более злой, чем завтрак или заход солнца. Как ты думаешь, разве я не знаю?
– Нет, я не думаю, чтобы ты знала, Лора, потому что и сам я до сих пор не знал. Я не могу сейчас устремиться к доброте только потому, что ничего другого не осталось. Когда я был молод, то думал, что очень добр, что ненавижу низость и жестокость просто потому, что они сами по себе дурны. Став старше, я понял, что ненавижу зрелище людских страданий лишь потому, что могу вообразить себя на чьём-то месте. У меня всегда было очень хорошее воображение. То есть, я понимаю, что делал широкие жесты против этих вещей единственно потому, что они были во мне, и я это знал, но не смел допустить этого.
– Они – в каждом из нас, – в отчаянии сказала Лора. – И во мне. Майкл, послушай…
Майкл продолжал:
– И вот я говорил себе, что я – добр и нежен, а другие верили мне, и даже я сам себе верил. И вот – посмотри, что я наделал, Лора. Посмотри, что я наделал.
На этот раз все они услыхали шум машины и поняли, кто это едет, ещё до того, как увидели машину.
Мистер Ребек ожидал, что появится один из этих ослепительных чёрных катафалков с длинной задней частью и занавешенными окнами, которые он часто видел скользящими по кладбищенским дорожкам. Но забрать Майкла приехал большой грузовик с открытым кузовом и зелёной кабинкой, которая блестела так, словно её только сегодня утром покрасили. В машине ехало четверо: трое сидели впереди, а четвёртый – сзади, в кузове, опираясь о заржавленную красную лебёдку, торчащую над бортом, словно плавник гигантской рыбины. Мотор грузовика работал до странного неясно и приглушённо, даже когда машина подъехала совсем близко.
– Они меня увидят, – встревожился мистер Ребек. Он подтянул ноги, чтобы встать, но Ворон слегка толкнул его под руку и сказал:
– Нет, если не встанешь – не увидят. Оставайся.
Мистер Ребек расслабился, чувствуя себя немного пристыженным, что испугался, но довольный, что те его не заметят.
– Сделайте что-нибудь, – сказала Лора мистеру Ребеку, Ворону и Майклу. Она смотрела то на Майкла, то снова на подъезжающую машину. – Сделайте что-нибудь. Ну, пожалуйста.
Теперь грузовик двигался очень медленно. Один из сидевших в кабине высунул из окна голову и осматривал могилы, мимо которых они ехали.
– Никто ничего не может сделать, – сказал Майкл. – Время что-то сделать, как и время касаться или время быть добрым прошло. И всё равно, не каждому доводится увидеть, как его выкапывают, – он небрежно нахмурился. – Выкапывайте. Мне не нравится вот так лежать. Эксгумация. В этом тоже ничего хорошего. Разорение могилы. О, Господи Иисусе.
– Раскопки, – сказал мистер Ребек. – Разработки. Как насчет разработок?
– Разработки – вещь хорошая.
Мистер Ребек услыхал бессловесный крик, который издал человек, высунувший голову в окно, и грузовик со скрипом остановился.
– Ого-го, – пробормотал Майкл. – Наша сторона выигрывает в охоте за сокровищами.
Четверо вышли из грузовика и встали вокруг могилы. На них были чистые хлопчатобумажные комбинезоны и тяжёлые башмаки. Водитель прошел к заднему борту и вернулся с четырьмя лопатами. Мистеру Ребеку сперва почудилось, будто это кирки, но стояло лето, и земля была мягкой. Когда они начнут копать, затруднений не возникнет.
Первый рабочий поднял лопату, подержал с минуту, примеряясь, а затем всадил её в землю у края могилы. Поставив ногу на лопату, вогнал её поглубже, а когда выдернул её, быстрым движением отбросив в сторону землю, в траве остался тёмно-коричневый рубец.
– О, Боже, – тихо сказала Лора. Внезапно она повернулась к мистеру Ребеку, её умоляющая тень почти нависла над ним. – Сделай что-нибудь, – сказала она. – Ты должен что-то сделать.
«А она вообще-то красива, – подумал мистер Ребек. – А я этого и не замечал. Но почему она обращается ко мне? Почему ко мне? Я-то ничего сделать не могу».
Вместо него ответил Майкл.
– Ничего не поделаешь, Лора. А чего бы ты хотела? Чтобы он устремился по склону, крича: «Руки прочь от этого покойника, если вы его унесёте, мне не с кем станет разговаривать!»? Ничего нельзя сделать. Какой прок в подобных криках?
«Да, ничего не поделаешь, – подумал мистер Ребек. – Но кричать надо. Надо хорошо покричать, потрясти кулаками и поругаться, ибо откуда нам знать, что мы живы, если мы не шумим?
Лора, Лора, ради тебя я могу стать чуть храбрее и кинуться на этих людей, страшно ругая их, требуя оставить Майкла в покое. Для этого не нужно большой храбрости. Но когда я выдохнусь, устав ругаться, и они увидят, какой я маленький, они переглянутся друг с дружкой и рассмеются. И будут продолжать копать. Они даже меня могут отсюда выкопать. Я недостаточно храбр для этого, и никто в мире не в силах меня убедить, что это не так».
Первый кивнул второму, и тот тоже погрузил лопату в землю, пока не осталась видна только узкая металлическая полоска. Они работали вдвоём: один у изножья могилы, другой – сбоку, в то время, как двое других стояли, опершись о лопаты, и о чём-то болтали. Широколистый плющ, увивавший могилу, был сорван с земли и небрежно отброшен в сторону и валялся теперь, словно потрёпанное покрывало. На мгновение могила обрисовалась тёмно-коричневой прямоугольной возвышенностью в траве, зияющей чёрными ранами от ударов лопат.
– У плюща даже не хватило времени приняться, – сказал Майкл. – Он выглядел таким густым и надёжным, но бедному растеньицу даже корни не удалось пустить. Бедный старый плющ из теплицы, я бы не хотел, чтобы ему дали погибнуть. Как долго продолжаются обычно подобные вещи?
– Не знаю, – сказал мистер Ребек. – Никогда ничего такого раньше не видел.
Голова Ворона под пальцами мистера Ребека казалась маленькой и удивительно твёрдой. Мистер Ребек где-то читал, что птичьи кости – вещь ломкая и хрупкая, как стеклянные ёлочные шары.
Ворон сказал:
– Я видел такое раза два. С полчаса. Может – меньше, а может – и больше. Зависит от того, насколько сложно им будет поставить гроб в грузовик. Для этого они и лебёдку взяли.
– С полчаса, – сказал Майкл. – Спасибо. Ты можешь себе позволить любить меня ещё полчаса, Лора?
Те, у могилы, работали очень быстро. Они начали нагибаться, копая и бросая землю через плечо. И вот уже земля двумя широченными крыльями рассыпалась у могилы.
– Это – всё, чего ты хочешь? – спросила Лора. – Полчаса моей любви?
– Это – всё, что мне нужно. А значит – всё, чего я хочу. Я верю, что можно быть разумным лицом к лицу с фактами. Но эти полчаса мне страшно нужны, Лора.
– Хорошо, Майкл. Полчаса.
– Немного прибавим или отнимем. Может быть, у них выйдет накладка с лебёдкой. Как быстро они копают.
Как только он это сказал, те двое перестали копать, и пара, до сих пор бездельничавшая, взялась за работу. Они копали поспешно, едва давая себе время отбросить комья с лопат – и снова лопаты оказывались по черенок в земле. Один из них скинул рубашку, и видно было, как он обнажал верхние зубы в отрешённой ухмылке, сопровождавшей каждый рывок его лопаты, каждый её удар. Двое освободившихся вытерли лбы и шеи и осторожно напились из ближайшего крана.
– Интересно, что случится, когда они кончат? – спросил Майкл. – Вероятно, ничего, пока они не вывезут меня с кладбища. А тогда что? – он вопросительно взглянул на мистера Ребека.
– Я никогда прежде ничего подобного не видел, – отозвался мистер Ребек. – Я не знаю, что случается.
– Это правда. Я и не воображал, что ты знаешь. Впрочем, неважно. Они не могут сделать меня ещё мертвее или что-то от меня убавить. Это была моя ошибка. Однако я хотел бы знать, куда они меня увезут.
– На Маунт Меррил, – сказал Ворон. – Глухое местечко чуть дальше широкого конца Бронкса. Туда отвозят всех, кому нечего делать на йоркчестерском кладбище. Твоя старушка всё организовала.
– Приятное название. Хорошо звучит, – Майкл словно бы проигнорировал последнее замечание Ворона. – А знаете, если перестать об этом думать, сама эта операция по раскопкам не должна была бы меня сильно потрясти. Это – не так, как если бы я покидал кого-то, кого ещё не покинул. За исключением Лоры. Лора – всегда исключение, – он быстро повернулся к мистеру Ребеку. – Я не совсем это хотел сказать, Джонатан, – раньше он ни разу не называл мистера Ребека по имени. – Мы с тобой были друзьями. Мы стали бы друзьями и, если бы знали друг друга, пока я был жив… Мы могли бы состариться, играя вместе в карты, а своих детей я бы всячески поощрял называть вас дядюшка Джонатан. Но, будучи человеком и призраком, мы теперь располагаем очень малым временем, чтобы остаться друзьями. Сами знаете, это похоже на недолгое красное свечение, которое остаётся, когда выключишь лампу. Вроде того.
Надгробие Майкла совершенно внезапно начало падать. Мистер Ребек услыхал, как один из стоявших у могилы прокричал предупреждение и увидел, как двое копавших выбираются из ямы, а камень уже обрушивается на них. Как и плющу, камню не хватило времени врасти в землю, и теперь он медленно опрокидывался, взрыхлив облеплявший его основание тонкий слой земли и не производя ни малейшего шума. Он покачнулся за мгновение до того, как рухнул, и пропал в неглубокой яме, которую вырыли рабочие. Четверо, наблюдавшие за происходящим со склона, услыхали, как надгробие ударилось оземь, и мистеру Ребеку показалось, что за этим звуком последовало звонкое эхо. Могильщики не успели далеко продвинуться.
Лора сказала: «Ах», как если бы камень упал на неё. Рабочие стояли вокруг ямы, глядя друг на друга.
– Что за звук, – поразился Майкл. – Будто чемодан захлопнулся. Весьма символично: даже камень возопил. Что же, это дает нам чуть больше времени, за что я благодарен судьбе.
Они видели, как рабочий без рубашки жестом подозвал остальных обратно и соскочил в яму. Он потёр руки о бедра и наклонился к камню. Мистеру Ребеку была видна только широкая загорелая спина рабочего, но хорошо слышалось протяжное кряканье, вырвавшееся из глотки человека, воевавшего с камнем, и видно было, как полоски грязи и пота на манер арестантской рубашки разукрасили ему бока. Наступил момент, когда землекоп почти что поднял камень, встал почти прямо, немного согнув плечи и наклонив впёред шею, и руки его свисали прямо вниз, точно тетива – луком же была его потная спина. В руках он держал очищенный от земли камень. Локти землекопа были исцарапанными и ужасно грязными.
Затем наблюдатели услыхали, как камень снова падает, и увидели, как рабочий медленно выпрямился, потирая спину и открыв рот от внезапной боли. Водитель грузовика ухмыльнулся ему, и ухмылка была полна торжества и сочувствия, затем водитель соскочил в могилу, чтобы помочь. Он встал напротив человека без рубашки и отчётливо произнес: «Сядь-ка на корточки». И тут оба они присели, и теперь из могилы торчали только их головы. Они вместе схватили камень, подняли, выпрямляясь, бросили на траву и выкарабкались из могилы, тяжело дыша и смеясь резко и порывисто. Двое других взяли лопаты и снова принялись за работу.
– Вот оно, – сказал Майкл. – Вот что в действительности осталось от Моргана. Тело в гробу, до которого они с такими усилиями стараются добраться, вообще ничего не значит. Все мёртвые тела похожи. Но когда отсюда исчезнет камень с моим именем, исчезнет и старина Морган. Каждому полагается камень, на котором проставлено его имя. А также даты рождения и смерти. А у меня такого не будет. Разровняйте землю, и пусть на ней снова вырастет трава. С Морганом покончено.
– Они всегда берут камень с собой, – сказал Ворон. – Они снова установят его на Маунт Меррил.
Майкл не ответил. Он наблюдал за рабочими. Мистер Ребек тоже наблюдал, всё больше и больше заводясь. Теперь он не желал, чтобы снова вернулась весна. А желал только оказаться подальше от этого холма и этой могилы, которую рабочие вскрывали нетерпеливо, словно неожиданный подарок.
– Это несправедливо, – голос Лоры был печальным и детским. – Это несправедливо.
– А что справедливо? – ласково спросил Майкл. – Никто ничего плохого мне не делает. Это я сам. Должно быть, так я однажды захотел. Тише, Лора. Не плачь.
– Я и не плачу. Я – призрак.
– Не спорь со мной. Я знаю, когда ты плачешь. Я люблю тебя. Я всё о тебе знаю.
Яма стала значительно глубже. Самый маленький из рабочих скрылся в ней по плечи, когда добавил груз со своей лопаты к огромной куче земли у изножья могилы. Когда же он наклонился, копая, его вообще не стало видно.
Майкл сказал:
– Возможно, это и правильно. Мы любили друг друга полночи и полдня и немного согрелись. А что ещё может дать полюбившим поздняя любовь, вроде нашей? Даже если бы у нас было только полчаса, о которых я тебя просил, мы бы любили друг друга дольше, чем люди, которые любят целую жизнь. Люди любят от случая к случаю: пять минут здесь, минуту с этой девушкой, две минуты – в метро с другой. Мы знаем, как любить. Мы научились этому мысленно, став призраками. Вот как я буду любить, если кто-либо когда-либо меня попросит. А сегодня у нас было утро любви. И настолько в этом больше любви, чем для кого-либо, живого или мёртвого.
– Насколько больше, – яростно отозвалась Лора. – Ты ни слову не веришь из того, что сказал. Ты даже сам себя не слушал. Не пытайся меня утешить. Мне не нужно утешения, Майкл. Мне не нужна крохотная совершенная любовь. Мне нужен ты. И ты мне нужен на как можно более долгий срок. И я понимаю, какова разница между получасом и жизнью.
– Лора, – начал Майкл. Но она быстро повернулась к мистеру Ребеку. Её прекрасное, совершенно простое лицо взирало на него повелительно.
– Так не подобает вести себя призраку? – спросила она его. – Я не слишком чувствую себя призраком. Я чувствую себя по-человечески жадной до жизни. Или я не права, что не ставлю на себе крест, а стараюсь радоваться, чему могу, и принимать красоту, которая вот-вот исчезнет. Или я не права, что желаю большего, чем имею? Скажи мне. Я хочу знать.
«Как я вообще мог подумать, что у неё – голос печального ребенка? – поразился мистер Ребек. – Голос, который я слышу – это голос гордой и страдающей женщины. Что делает женщина здесь, в этом месте? Что я могу ей сказать? С чего бы ей ко мне прислушиваться? Я бы не стал себя слушать, если бы мог выбирать».
– Нет, – сказал он. – Кто я такой, чтобы приказывать тебе оставить всё желания? Но я знаю, что имел в виду Майкл. Существует род любви, который может быть только испорчен достижением цели.
– Это – вовсе не то, что ты хотел сказать, верно? Нет, нет, я так не думал. Если бы ты не принимал вещи, которых хочешь, так сказать, серьёзно, некоторые из них могли бы оказаться для тебя такими, как надо. Обрати внимание, как смеётся Ворон у тебя под рукой.
Он решил сказать им о девушке. Если сможет вспомнить. Он должен был рассказывать как можно подробнее.
– Однажды, когда я был много моложе, чем теперь, я пошёл куда-то с девушкой. Дело было вечером. Не помню, куда мы пошли, но знаю, что там были и другие люди. И вдруг мы оказались наедине: эта девушка и я. В очень большой комнате с высоким потолком и без стульев. Из соседней комнаты до нас долетали голоса остальных…
«Ты напоминаешь старика, рассказывающего единственную грязную историю, которую он знает. Быстро упомяни виолончель, ибо по-настоящему это – история о виолончели, а не о тебе».
– Там была виолончель, приставленная к стене. На вид – довольно старая, и одной струны у неё не хватало. И вот мы подошли к ней, принялись трогать её и извлекать звуки из трёх оставшихся струн. Время от времени мы смотрели друг на друга и улыбались, а один раз наши руки соприкоснулись, так как оба мы одновременно теребили струны. Мы довольно долго там торчали, выдавая друг дружке остроты с ирландским акцентом и дёргая струны. Затем мало-помалу в комнату начали заходить другие, а мы вышли на террасу…
Только теперь лопаты добрались до гроба. Раздался короткий удар металла о дерево, затем – ещё один, затем – ещё один. Рабочие торжествующе возопили, а человек без рубашки, который больше не копал, помахал лопатой над головой. Остальные лопаты заскребли по гробу, счищая с него последние комья, а водитель шлёпнул человека без рубашки по спине и пошёл к грузовику.
– Не так уж и много времени осталось, – сказал Майкл.
– Чуть-чуть, – ответил Ворон. – Им ещё надо подвести под гроб цепи и закидать яму после того, как они закончат.
– А я бы не знал, что делать, даже располагая большим временем. Пока они поднимали этот камень, я всё думал: «Мне подарено пять минут, а, возможно, и больше. Времени, конечно, достаточно, чтобы сказать что-нибудь важное Лоре или объясниться с самим собой». Но ничего не вышло. Ни слова. Я люблю тебя, Лора, но я никогда ничего важного в своей жизни не говорил, похоже, и сейчас не скажу.
«Я должен закончить свой рассказ, – подумал мистер Ребек. – Я не так честен, как Майкл. Я должен верить, будто всё, что бы я ни говорил – важно и не должно быть оставлено незавершенным. Так кончай же свой рассказ, но не проклинай их за то, что они тебя не слушают. Они-то знают, что важно, а что нет».
– В тот момент, когда мы с девушкой стояли в комнате, балуясь с виолончелью и шутя, мы любили друг друга так сильно, как когда-либо могли. А когда вышли в сад – ничего подобного. И немного спустя, мы разбрелись в разные стороны, потому что оба знали, что никогда больше не будет так хорошо, как было в комнате с виолончелью. Мы растратили всю нашу любовь в те несколько минут, а то, что произошло потом, оказалось только воспоминанием и попыткой сделать все таким, каким было раньше.
Водитель задним ходом подогнал грузовик к краю могилы, и цепь, гремя, спустилась с лебёдки. Звук этот поразительно напоминал дребезжание серебряной посуды в раковине. Человек без рубашки потянулся к заднему борту и достал два мотка верёвки, вручил один из них другому рабочему, и оба землекопа опять спустились в могилу, двигаясь крайне осторожно, поскольку яма стала довольно глубокой, и люди запросто могли в неё свалиться, что-нибудь себе повредив.
Лора все более и более обеспокоено металась по пригорку. Глаза у неё стали громадными и устремлялись то туда, то сюда, словно испуганные белки, запертые в слишком маленькую клетку. Они перемещались с Майкла на погружённого в молчание мистера Ребека, и далее – на Ворона с глазами, точно пиратские сокровища, и острым жёлтым клювом, а затем – на рабочих, стоявших в яме внаклонку и обвязывавших гроб верёвками – и опять на Майкла. Всё время глаза её возвращались к Майклу. И вот она села к нему как можно ближе.
– Как быстро они работают, – сказала она. – Куда они торопятся? Я на них смотреть не могу.
– И не смотри, – сказал Майкл. – Смотри на меня. Зачем ты вообще отводишь от меня взгляд?
– Майкл, должно быть что-то такое, что мы можем сделать. Что-то должно быть.
– Нет. Выхода нет, Лора. Нам не осталось ничего, кроме как смотреть друг на друга и надеяться, что мы будем помнить лица друг друга даже после того, как забудем свои собственные.
Двое шевелились в яме, а третий то и дело кричал, сообщая водителю об их успехах. Сидя рядом с Майклом, Лора наблюдала за ними, и когда бы ни появились над краем ямы их головы и плечи, она понимала, что они, конечно же, стоят на гробе.
– Забудем, – горестно сказала она. – Как только ты исчезнешь, я забуду тебя и умру. И ты меня забудешь.
– Что я могу тебе сказать? Что моя любовь так огромна, что она сожжёт и превратит в золу чёрные ворота между нами? Что мы снова встретимся и узнаем друг друга на Елисейских полях? Что я буду приходить к тебе при свете луны, хотя бы силы Ада преградили мне путь? Ты же все прекрасно понимаешь, Лора. Думаю, я люблю тебя больше, чем мог бы выразить, но такого рода любовь, как наша – не меч. Это свет. Не огонь, а небольшой огонёк, достаточно яркий, чтобы читать любовные письма и удерживать зверей на расстоянии, с которого они только и могут, что рычать. Со временем он угаснет. Все огоньки гаснут. И все большие огни, если это тебя утешит. Люби меня, смотри на меня и помни меня, как я – тебя буду помнить. И ничего больше. Сядь поближе и замолчи.
Мотор лебёдки ревел, словно у великана в желудке урчало, сверкающая цепь медленно опускалась в могилу. Человек без рубашки схватил её обеими руками, как бы с яростной страстью и тут же вместе с ещё одним рабочим занялся прилаживанием цепи к верёвкам, обвивавшим гроб. Это заняло несколько минут, в течение которых Майкл и Лора смотрели друг на друга, а не на могилу, и лебёдка бездействовала, бормоча себе самой старомодные ругательства.
Затем наблюдатель, стоявший между могилой и грузовиком, прокричал что-то двоим в яме, и они стали карабкаться наверх. Наблюдатель протянул каждому из них руку и вытащил поочерёдно через край ямы на дорожку. Не останавливаясь, чтобы расслабиться или отдышаться, они проковыляли добрые десять футов от могилы, прежде чем наконец уселись на траву и помахали водителю грузовика. Они были покрыты потом и заляпаны тёмной могильной грязью.
Цепь натянулась и задрожала. С секунду – никакого движения. Слышался только шум лебедки – и никаких звуков. Даже кузнечики умолкли. Лора собралась было издать звук, который, наверное, напомнил бы хмыканье, но оборвала его так скоро, что вылетел он не больше, чем наполовину. Ворон схватил клювом безмолвного кузнечика и хрустнул – и этот звук раздался вполне определённо.
В этот миг голодный стон лебёдки превратился в торжествующий вой метели. Весь грузовик содрогнулся от этого звука. Цепь звякнула, словно оборвалась струна скрипки, и гроб начал медленно подниматься из могилы, колотясь о её стенки, ровная струйка тёмной пыли сыпалась с него обратно в яму. Люди у грузовика грызли пальцы и ждали.
Лора произнесла: «Ах». Майкл сказал: «Тихо, Лора, тихо, дорогая».
Гроб поднимался неуклюже. Передняя часть оказалась выше задней, и при этом он ещё накренился набок. Но он покинул могилу, и лебёдка завыла ещё громче. Большущий ком земли упал с гроба, и рассыпался во тьме на дне могилы.
– Словно зуб вырвали, – сказал Майкл. – Ну, в точности как зуб вырвали.
Когда гроб оказался довольно высоко над могилой, шофёр выключил мотор, чёрный ящик покачивался в небе, и солнце сверкало на его серебряных ручках и маленькой серебряной табличке с именем. Цепь неясно проскрипела, а верёвки въелись в стенки гроба.
Майкл со странным изяществом поднялся на ноги и встал, уперев руки в бока и запрокинув голову, чтобы видеть висящий в воздухе гроб. Мотор заработал снова, и лебёдка дотянула гроб до кузова. Подошёл один из рабочих, чтобы отсоединить цепь и протолкнуть гроб подальше в кузов. А Майкл снова и снова кивал. Затем опять повернулся к Лоре и спокойно сказал:
– Думаю, теперь мне лучше уйти.
Он не дал ей времени ответить. Пытаясь не встречаться с ней взглядом, он подошёл к мистеру Ребеку и сказал:
– Пока, Джонатан. Мне тебя будет очень не хватать. Береги себя и беседуй с Кампосом, когда почувствуешь себя очень уж одиноко. Живые – это иногда чудесная компания.
У мистера Ребека едва ли нашлось время, чтобы начать свое растерянное «До свидания…», потому что Лора вдруг бросилась между ними и встала лицом к Майклу, крича:
– Нет! Время ещё не настало! Ты не должен уходить, Майкл!
– Мне бы лучше сейчас, Лора. Они уезжают. Будет легче, если я уеду вместе с ними.
– Но ещё не время, – сказала она в отчаянии. – Останься, Майкл. Пожалуйста. Они ещё не готовы к отъезду.
Мистер Ребек, колеблясь, заметил:
– Они уже начали закидывать могилу. Это займет ещё немного времени.
– Нет, – сказал Майкл им обоим. – Не надо. Мне пора. Будет лучше, если я уйду сейчас.
– Чёрт тебя возьми! – вскричала Лора, и голос её исказила скорбь. – Ты прекратишь хоть на миг демонстрировать свою храбрость?! Не будешь ли ты так добр перестать задирать свой благородный подбородок? И утратить своё достоинство, своё треклятое новообретённое достоинство. Не окажешь ли ты мне честь, мой любимый и дорогой, не пострадаешь ли хоть немного? Сделай это для меня, Майкл. Я хочу вспоминать тебя таким же, как и я – незрелым, нецивилизованным, утратившим гордость и плачущим.
Майкл встал к ней поближе и сказал:
– Это не храбрость и не достоинство. Я никогда не был ни храбрым, ни достойным. Это опять трусость. Самый лёгкий способ уходить. У меня нет отваги, и печаль моя не изысканна. Я не могу сказать: «Прощайте», я хочу уйти, прежде чем успею это сказать.
– Останься со мной, – снова сказала Лора. – Пока у нас есть хотя бы минута, оставайся со мной. Тебе нет необходимости уходить, пока они не минуют ворота. Оставайся со мной до этого мгновения.
– Не могу, моя Лора. Прости меня, я не могу остаться.
До предела смущённый, чувствующий, что он вроде как подслушивает, хотя они не обращали на него никакого внимания, мистер Ребек погладил грубые перья Ворона и стал смотреть, как рабочие снова засыпают пустую яму. Работало одновременно три человека, они поднимали землю на лопатах, бросали её через плечо и разравнивали. Они лениво трудились, болтая друг с дружкой, как будто вместе с потом вышли острое нетерпение и спешка, одолевавшие их до перемещёния гроба в кузов. Тем не менее, они прямо на глазах у мистера Ребека закидали яму землёй. Осталось небольшое углубление: земли не хватило на то, чтобы всё стало гладко и ровно. Гроб занимал немало места. Один из рабочих похлопал лопатой по свежей земле. Двое других присели, чтобы поднять надгробье и погрузить его через задний борт в кузов, рядом с гробом. Шофёр высунул из окна голову и следил, как они работают.
– Я не могу этого выносить. Сидеть, терять себя и чувствовать, что я не в силах что-нибудь с этим сделать, – сказал Майкл. – У меня не хватает храбрости. Я бы подождал ещё, если бы смел, Лора. И говорил бы тебе тёплые и мудрые слова. И непрерывно думал бы: «Пять минут, четыре минуты, вверх по склону, вниз по склону, мимо ив, а теперь дорога поворачивает, и вот мрачные ворота распахнуты. А что я ей могу сказать? Что можно сказать? Должно быть что-то, что я могу ей сказать, что-то, что помогло бы нам потерять друг друга по-доброму и со значением, что-то, что придало бы некий смысл этой печальной и дурацкой затее». А потом я думал бы: «Две минуты, одна минута… Ворота открыты…» – И я бы снова и снова говорил: «Я люблю тебя, Лора», – пока не исчез бы отсюда.
– Это очень много значит. Что может значить больше, чем это? Останься со мной, Майкл.
– Не могу, – ответил Майкл. – Я не изменился. Смерть и любовь не сделали меня ни отважным, ни благородным. Я все ещё Морган, покойный Морган. Дай мне уйти, дай мне со всем этим разделаться…
Рабочие побросали лопаты в грузовик и сели в него сами: трое в кабину, один – в кузов, как и приехали. Включился мотор, и машина задрожала, а лопаты зазвенели друг о дружку, и рабочий в кузове упёрся ногами в гроб. Затем грузовик укатил, и последним, что они увидели, когда машина исчезала за поворотом дороги, была высокая красная лебёдка с бурыми пятнами там, где облезла краска, и одинокий человек в кузове.
– Теперь мне пора, – вздохнул Майкл.
– Я люблю тебя, – сказала Лора без всякой надежды. – И любила бы тебя, даже если бы ты боялся всего на свете.
– Я и боюсь. Всего, кроме одиночества. Я люблю тебя, Лора.
Он снова попрощался с мистером Ребеком, а затем повернулся и зашагал вниз по склону к лоскутку тёмной земли, вокруг которого был разбросан разорванный плющ. Выглядел Майкл как небрежный карандашный набросок, и не имел цвета, а был только цветов травы, свежей могильной земли и цвета гальки на дороге. Солнце светило сквозь него, и теперь это тоже был его цвет. Он не обернулся и не взглянул назад, но дважды задержался и стоял молча, ссутулив плечи и не спеша идти дальше.
– Он хочет вернуться, – сказала Лора. – Если бы я его окликнула, он бы пришел обратно.
– Так окликни, – сказал мистер Ребек, опустив голову.
– Нет. Потому что он, в конце концов, может и не вернуться, а я не думаю, что смогу это вынести.
Она задвигалась вверх-вниз, не лента более, не вуаль, и отнюдь не красавица ныне, если и была когда-либо хороша. Она глядела, как Майкл проходит мимо пустой могилы, на которой скоро опять вырастет трава и, не сводя с него глаз, сказала:
– О, Боже, что я буду делать?
Мистер Ребек вспомнил, как этот самый голос пел ему давным-давно, перед тем, как поднялось чьё-то солнце, и понял, что это – тоже пение. Ворон безмолвствовал, ни на кого и ни на что не глядя.
А затем Лора внезапно замерла. Так внезапно, что мистер Ребек и не усомнился: она видит, как Майкл исчезает прямо у неё на глазах, и, пока он пытался что-то сказать, чтобы облегчить её скорбь, начала поворачиваться. Ещё до того, как они оказались лицом к лицу, он понял, о чем она собирается просить, и в нём пробудился дремавший до того страх, но в то же время его охватила дикая радость.
Лора подошла к нему, опустилась на колени и сказала:
– А не мог бы ты меня перенести? Выкопать мой гроб и зарыть на Маунт Меррил? Тогда бы я могла быть с Майклом. Да, мы смогли бы оказаться вместе.
– Лора, – сказал он. – Лора, дорогая моя, ты ведь знаешь: если бы это вообще было возможно…
– Это возможно, – её голос дрожал, как будто бы она вот-вот рассмеётся от радости. – Ты можешь сделать это ночью, чтобы никто тебя не увидел. А если ты оставишь на месте моё надгробие, никто не узнает, что я здесь не похоронена. Ты можешь это сделать, я знаю. Ты можешь.
Он провёл внезапно увлажнившейся рукой по челюсти, ни с того ни с сего подумав: «Мне бы надо побриться. С этой щетиной я ужасно выгляжу. Прямо как бродяга».
– Я недостаточно силён. У меня даже нет хорошей лопаты. А если б и была, у меня не хватило бы сил поднять гроб. Ты видела, как они это проделывали? Требуется четыре человека, и надо иметь грузовик, как я справлюсь без грузовика?
– Обратись к Кампосу, – нетерпеливо сказала Лора. – Кампос стоит четверых. И грузовик у него есть. Он тебе поможет. Ну, пожалуйста. Я знаю, ты можешь. Ну помоги же мне.
Ворон в изумлении дёрнулся под рукой мистера Ребека и пробормотал:
– Хо-хо. Тебя вывинтили, как лампочку. Пока, приятель.
– Нет, – сказал мистер Ребек (О, как было жарко). – Не проси меня, Лора. Ведь мне пришлось бы покинуть кладбище.
Сперва Лора его неправильно поняла, она выпалила:
– С тобой будет Кампос. Он сможет провезти тебя туда и обратно. И никто не узнает.
– Дело не в этом, – сказал он. И тогда Лора поняла.
– Я никогда не покидал кладбища. Ни разу за девятнадцать лет. Я просто не уходил отсюда.
– Так это же – в первый и последний раз, – не отставала Лора, но в голосе её больше не было надежды. – Ты сразу же вернёшься – и всё.
– Нет, не могу, – ответил мистер Ребек. Он подумал: «Это случилось, вот и случилось, так я и знал. А я – не более в состоянии справиться с этим, как давным-давно, когда я так жаждал быть добрым».
Его потрясло, что он видит Лору перед собой на коленях. Голова его дёргалась взад-вперед, как если бы его шлёпали. Он протянул Лоре руку, зная, что это – напрасный жест, но желая, чтобы девушка встала. Он не мог вынести того, что она – на коленях.
– Лора, – он как всегда с удовольствием произнес её имя. – Встань, пожалуйста. Я бы тебе помог, будь я в силах, если бы я действительно был в состоянии, но я не могу пройти через ворота, как и ты. Я тоже беспомощен, как и ты. И я ничего не могу сделать.
Она не сказала ни слова, и он подумал, что мог бы прямо здесь же и умереть, пока она стоит перед ним коленопреклонённая. Он подумал, что это был бы весьма подходящий момент для смерти.
– Я не могу тебе помочь, – сказал он. – Помочь может человек. А я – вроде Майкла и тебя. Ничто, причиняющее боль людям, не может причинить боль мне. Но также и ничто, что сделал бы человек, я сделать не могу. Я не могу пройти в ворота и доставить тебя к Майклу, Лора; это всё равно, что против ветра шагать. Делаешь тот же шаг снова и снова, и ветер мало-помалу уносит тебя от места, куда хочешь попасть. Не проси меня больше, Лора.
Он закрыл лицо руками и не видел, как Лора поднимается с колен. Его пальцы вцепились в кожу и терли её, словно он пытался понять, чьё же лицо по ошибке взял в ладони вместо своего. Ворон охотился за насекомыми.
– Ничего не получается, – сказала Лора очень тихо. – Вольные звери очень быстро становятся зверями в клетке. Извини, Джонатан.
В её глазах не было ненависти, когда он на неё взглянул. Ненависть его обрадовала бы. Но в глазах её действительно не было ничего, кроме него самого и, возможно, некоторой жалости.
– Извини, – сказала она снова. А затем отвернулась от него и побежала вниз по склону, мимо впадины на месте пустой могилы и дальше, по гравийной дорожке. Она двигалась, как лента, как вуаль, как пёрышко, как воздушный змей, как что угодно ещё, что ветер подхватывает и уносит далеко от места, где нашел – и вот оно пропадает, но затем, в положенное время, прилетает опять на своё законное место.
Солнце пылало так ярко, что мистер Ребек едва ли мог видеть Лору. То он видел черноту между деревьями и понимал, что это – Лорины волосы. То блеснёт что-то серое – и это было её платье. Большую часть времени он её вообще не видел. Но он слышал, как её голос зовет: «Майкл! Майкл! Подожди меня! Майкл! О, Майкл! Подожди!» И как раз перед тем, как она достигла изгиба дороги, и мистер Ребек вообще потерял её из виду, он услышал, как она опять повторяет: «Майкл!» – и понял откуда-то, что Майкл ждал её. Он почувствовал себя немного лучше и заметно печальнее.
– Он хотел вернуться назад, – объяснил человек Ворону. – Но боялся. И поэтому шёл медленно – надеялся, что она последует за ним. Теперь они дошагают вместе до ворот. Или хотя бы докуда смогут. Думаю, это лучше, чем если бы он шёл один.
– Вот ещё, – сказал Ворон. – Господи Иисусе, мне не нравится вкус сверчков. Не знаю, почему я их ем. Не исключено, что они тебе понравятся.
Мистер Ребек попытался снова погладить птицу, но Ворон бочком-бочком отодвинулся.
– Я был прав, – сказал мистер Ребек. – Верно? Я, вероятно, не мог бы ей помочь. Ты знаешь, что не мог бы.
– Я ничего не знаю, – ответил Ворон. – Не фыркай на меня, друг мой. Я не принимаю решений. Я – птица.
– Правильно, – сказал мистер Ребек. Он медленно встал на ноги и немного потянулся, так как у него затекли ноги: он слишком долго сидел на месте.
ГЛАВА 13
– Что же мне делать? – спросил он, всё ещё надеясь, что Ворон ему ответит. – Что же мне делать? Что же мне делать? – он стоял в траве, сунув руки в карманы и тесно сдвинув ноги, как если бы день был ветреным, и все повторял «Что же мне делать?», не в состоянии вспомнить, что это говорила Лора. Ноги его болели, спина онемела, и это чувствовалось при движении.
Он знал, что должен идти к воротам, если он вообще готов снова поверить в свою выдумку, что он полезен хотя бы мертвым. Лора будет там, и ей кто-то понадобится. Ясное дело, ему положено отправиться к ней и утешать её ласково, нежно и мудро. Он видел в жизни больше, чем она, и больше знал о смерти, и стало быть, естественно, слова, которые прибавят ей мудрости, также должны исходить от него. Он для этого подходил, а больше все равно никого не было.
Но он не хотел идти один, он попросил Ворона отправиться с ним вместе – хотя бы немного проводить. Но птица сказала: «Нет» и улетела. Мистер Ребек следил за Вороном, пока только мог, потому что считал, что тот красиво летает. Когда Ворон исчез, мистер Ребек почувствовал себя одиноким и ко всему безразличным. Ещё совсем недавно они сидели здесь втроём, теперь же он один стоял на склоне, и эта перемена была для него слишком внезапной. Он подумал, а могут ли нечто подобное чувствовать очень старые люди? Дети, наверное, могут – дети, засыпающие в комнате, где светло и приятно пахнет, где звенят серебро и хрусталь, – а потом, много позже, ребенок пробудится один в незнакомой постели посреди ночи в комнате, которая когда-то могла быть привычной и знакомой, но теперь уже какая-то не такая.
Даже один, без Ворона, он пойдёт и отыщет Лору – сейчас кто-то должен быть с ней. Он сделал несколько медленных шагов с холма, а затем остановился, упершись в склон ногами. Внизу, как тёмная проплешина, маячила могила. Он подумал: «Интересно, как много времени пройдёт, пока это место снова не покроется травой?».
– Она стоит у ворот, – сказал мистер Ребек. – И там в земле – глубокие колеи, где прошёл грузовик. Было достаточно просто вообразить её и её отчаянный шёпот перед насмешливо распахнутыми воротами, её крик, требование, чтобы чёрное железо её пропустило. Думать об этом было неприятно. Возникало чувство, будто он – безногий.
– Я не могу ей помочь, – он сказал это очень громко и огляделся вокруг. Насколько простирался его взгляд, нигде никого не было. Он подождал с мгновение, как если бы надеялся, что кто-то собирается на него напасть. Затем повернулся и опять зашагал к вершине пригорка по высохшей грязи бегущей туда дороги. Один раз он оглянулся и увидел глубокие шрамы, которые прорыл в земле тяжёлый грузовик. Когда снова пойдёт дождь, они наполнятся водой, а там потянется неделя за неделей, и всё забудется.
Но он не мог изгнать из своих мыслей Лору. В тот миг, когда он расслабился, когда выбросил из головы всё, чтобы подумать о том, какой сегодня хороший день, она вернулась, и словно факел зажёгся посреди его сознания. Он отвлекся было, восхитившись красотой каких-то цветов, но она снова вернулась – и теперь она была ещё прекрасней со своими тёмными волосами, в сером платьице и с глазами цвета умирающей зимы. И повторила: «Не получается. Извини, Джонатан».
– Я тут ничего не смог бы сделать, – сказал он ей. – Я – не тот человек, которого надо просить о помощи. Или ты предпочитаешь, чтобы я обещал тебе помочь, а затем разочаровал тебя? По крайней мере, я – достаточно мужчина, чтобы отдавать себе отчёт в собственной слабости. Далеко не каждый для этого достаточно честен.
Лора ничего не сказала. Вместо этого она тихо отступила на задворки его разума, где и осталась, мерцая в тени. Он снова сказал ей, что она только тратит время и причиняет ему боль своими уговорами, но она не ответила.
Даже поезда умолкли. Неподалёку была наземная железная дорога, она обегала кладбище с одной стороны, а с другой проходил туннель метро. И поэтому мистер Ребек воспринимал поезда как барьер, отделявший его от города. Ему нравился их шум. Ночью, в зыбкие минуты перед тем, как он засыпал, гулкий стук колёс и кошачьи вопли свистков давали ему возможность почувствовать себя менее одиноким. Он знал наизусть расписания и понимал, что прошло слишком много времени с тех пор, как он слышал, что мимо проходит поезд.
«Лора остановила поезда, – подумал он. – Или, по крайней мере, заставила их двигаться бесшумно, чтобы я мог свободно сосредоточиться на чувстве вины». Он знал, конечно же, что это – неправда. Несомненно, поезда ходили себе, как обычно, он их просто не слышал. Дорога расширилась и стала мощёной, и он пошёл дальше, говоря себе: «Я очень легко могу уяснить себе её точку зрения. Она не может вообразить, чтобы живой человек оказался не в состоянии выходить через кладбищенские ворота, когда ему вздумается. Она видела, как люди проделывают это каждый день. Они там, несомненно, и теперь ходят, пока она стоит на коленях у ворот. Они шастают туда-сюда так уверенно, что даже шага не замедляют, минуя ворота. Даже Кампос – а Кампос здорово похож на меня. Ей не понятно, почему это для меня такая неразрешимая проблема. Ну, я тоже по-настоящему только и понимаю, что место это – не просто место, где я живу, или место, где я ночую, оно – моя кожа, а человек выбирается из собственной шкуры с преизрядными трудностями, да ещё и сильную боль испытывает. Я боюсь боли, боль – это холод, старость и чувство собственной бесполезности. Надо бы помочь Лоре это понять».
Он подходил к участку кладбища побогаче. А дальше мало-помалу опять тянулись более скромные сооружения. Последний мавзолей был его старый любимец – большое цилиндрическое здание со ступеньками, образованными тремя концентрическими мраморными кругами, ведущими к маленькой стеклянной дверце, и наверху – крест. В целом это сооружение напоминало мистеру Ребеку голову и плечи Рыцаря: купол – как шлем, думал он, дверь – как рот, а три ступеньки – что-то там, защищающее горло. Вокруг здания бежал барельеф, он закрывал рыцарю лоб. Там вырезаны были изображения мечей, увитых виноградными листьями. Должно быть, это – талисман, если рыцари носили талисманы. Или – дар богатой леди. Возможно, рыцарь всего на миг застыл на месте или уснул, и мир вокруг него вдруг поднялся, словно куча опавших листьев. Это вполне могло случиться. Это было одним из свойств мира, который пугал мистера Ребека. Закроешь ненадолго глаза, а когда откроешь снова – ты уже по плечи в земле и опавших листьях. Приходится всё время бодрствовать и двигаться.
«Вольные звери быстро становятся зверями в клетке», – мысленно сказала ему Лора.
– Нет, не так, – раздраженно ответил он. – Страх остановился у здешних ворот. Если я отсюда уйду, страх снова на меня обрушится, но здесь он меня преследовать не может, здесь я в безопасности, и ничто не способно причинить мне вред.
– Если тебе здесь нечего бояться, – сказала Лора из ужасного далёка, – значит, ты не мужчина.
– А разве я на это когда-либо претендовал? – спросил он, чувствуя, что выбросил главный козырь – мужество – это не что-то такое, что надеваешь, снимаешь и надеваешь снова. Это – не награда за смелость. Нет мужества, которым меня одарят, если я только достаточно храбр, чтобы покинуть кладбище. Я не человек и не призрак. Ради тебя я хотел бы быть первым, а ради себя самого – стать вторым. А пока всё таково, каково есть, я ни тебе, ни себе не могу помочь. Постарайся не корить меня. Это вовсе не моя вина.
Сзади прогудел патрульный автомобиль, и он поспешно отступил на обочину, пропуская машину. Они всё ещё действовали ему на нервы, и он всё ещё пытался отворачивать лицо от водителя, но не думал уже больше о том, чтобы бежать и прятаться, увидев одну из чёрных машин с эмблемой дубового листа на борту. Он брёл по дороге, протягивая время от времени руку, чтобы погладить колючую зелёную хвою маленьких сосенок, которые росли на этом участке, лишь немногие из них тут уже были, когда он только-только пришёл и поселился на кладбище.
– Всё равно, – сказал он, хотя Лора в его мыслях ничего не говорила. – Это – не просто идея покинуть кладбище. А если я не смогу вернуться назад? А если мне больше не удастся здесь жить? – Желая быть честным, он добавил: – Конечно, я не вижу, почему бы и нет. Если бы я оказался достаточно сильным, чтобы однажды миновать ворота, я должен быть способен проделать это и во второй раз. Но предположим, чтобы продолжить дискуссию, что я не могу вернуться. Что я тогда буду делать? Как мне тогда жить?
Он обнаружил, что обращается с мольбой к молчаливой женщине, которую не видит.
– Я бы не стал жить в другом месте, Лора. Просто слишком много времени, слишком много времени я спал на мраморе да играл в шахматы с призраками. Как я смогу разговаривать с людьми – я, который рассказывал анекдоты покойникам и пел с ними песни. Привыкну ли я снова обедать в ресторанах после того, как меня кормил Ворон? Что мне делать с собой? Как зарабатывать деньги? Где жить? Мне некуда пойти отсюда, если вдруг окажется, что я не могу вернуться. Кто снова научит меня спать в постели и переходить улицу? Ради Бога, Лора, как я смогу жить в мире, где не умирают?
Лора не отвечала. Мистер Ребек миновал круглую колоннаду без крыши, которую увидел Майкл, бродя в свой первый день по кладбищу, ища, с кем бы поговорить. Вращающийся фонтанчик в центре обрызгал и сделал тёмными основания белых колонн, поливая траву внутри сооружения. Мистер Ребек остановился на несколько минут между колоннами, предоставив сверкающим струям разбиваться о его ладони и запястья.
– Я слишком стар, – попробовал он объяснить Лоре. – Старше, чем я думал. Не телесно. Телу моему всё равно, что я делаю, но разум мой состарился и нелегко принимает перемены. И любой вызов извне заставляет его метаться в поисках укрытия. Вы с Майклом мне очень дороги, и ты это знаешь, – это он даже произнес вслух. – Но ты должна мне поверить, когда я говорю, что ничем не могу вам помочь, не нанеся ущерба себе. А повредить себе я боюсь. По крайней мере, я перед тобой честен.
Поскольку Лора всё ещё не отвечала, и только неясно маячила в сводчатых коридорах его сознания, словно кинжал на дне колодца, мистер Ребек рассердился, чувствуя, что его честные объяснения отвергнуты. Затем он подумал о самоубийстве Майкла и о неуверенности Лоры насчет её собственной смерти и, подумав, решил, что обманут, понял, что страдает, и тогда сказал жестокую вещь:
– Дела не таковы, как если бы я был единственным, кто не подходит к этому миру. Подумайте о себе сами, прежде чем посылать меня с поручениями и молить о милостях. Кто из нас троих скрылся под землёй, словно испуганная лисица, а кто жил? Вы, возможно, кажетесь более приспособленными к этому миру, чем я, и вам лучше удалось поддержать видимость того, что вы живёте рядом со своими соседями, но кто из вас жил? Кто жил?
Даже произнося эти слова, он уже ненавидел их и считал несправедливыми, но он высказался до конца. Он говорил, пока не решил с уверенностью, что уже всё, а затем задрожал и почувствовал себя вконец никудышним. А потом в глубине его горла возникла легкая и жидкая горечь.
– Хорошо. Извини меня, – сказал он Лоре. Она так тихо стояла у него в сознании. – Ты знаешь, я прошу меня простить. Либо прости меня и стань хоть немного терпимее, либо возненавидь и оставь в покое. Прямо сейчас. Мне безразличен твой выбор.
На некоторое время ему почудилось, что Лора его оставила, потому что он и следа её на смог обнаружить у себя в мозгу. Он вздохнул, сказав себе, что неизбежное – великое благословение для человека, уставшего от необходимости выбирать. Со временем он, несомненно, простит себя, абсорбировав свою потерю, как поврежденная рыбья губа постепенно абсорбирует сломанный крючок рыболова. Если дать ему немного времени, он не только забудет Лору, но и придет к мысли, что её в действительности никогда не существовало, что он выдумал её из головы, начитавшись о единорогах и печальных девах. Возможно, так оно и было.
Он подумал, что не исключено, что Майкл, Лора и многие другие призраки, с которыми он разговаривал и проводил время, вообще не существовали, а просто он был одинок и желал общества. Возможно, мёртвые мертвы, и нет никаких призраков, кроме собственных его воспоминаний об утраченных шансах, друзьях, с которыми он беседовал, письмах, которые не написал и на которые не ответил, женщинах, с которыми не заговорил на улице и которым не улыбнулся в метро. Или, пожалуй, если уж прямо – он, чего доброго, куда в большей степени сумасшедший, чем думает. Он всегда считал себя немного тронутым.
Но он подумал, что всё-таки был им кое в чем нужен, а это, по-видимому, означало, что они – настоящие. Грёзы не требуют, чтобы ты вспомнил об их существовании, когда не хочешь – всегда находится какой-то обходной путь. Возможно, в конце концов, они и были настоящими – Майкл и Лора, и все остальные, что они приходили к нему, окликая его по имени, прося о небольших услугах, которые он никогда прежде не был способен оказать. И он шёл им всем навстречу, порывисто, почти безумно, и теперь уже ничего не осталось. Теперь он был в состоянии ощутить эту разницу, как если бы, подобно пещёре, начал оседать. В самом деле, не так уж много имелось у него того, что он мог отдать, а теперь не осталось ничего-ничего, кроме той малости, которую он всегда рассчитывал приберечь для себя, чтобы можно было согреться, когда он окончательно состарится.
– Я этого не сделаю, – сказал он, зная, что Лора слушает, хотя и не мог её видеть. – Даже для тебя. Я не стану тебе помогать, потому что требуется слишком много усилий для слишком малой цели. Я не люблю вас, – это заодно и Майклу, и любому другому, кто бы ни слушал. – И мне очень жаль, если я дал вам повод думать, будто вас люблю. Это – моя вина. Я люблю только себя. А это чувство умирает под влиянием времени и знания, как и всякая любовь. Скоро все пройдёт, и я достигну какого-то подобия мира, и никто ни о чём не будет меня просить.
Он подумал о миссис Клэппер: интересно, а не придёт ли она сегодня? Если придёт, он скажет ей то же самое и покончит с этим. Ему никогда и ничего не следовало от неё принимать – ни беспокойства, ни общества, ни рассказа о Линде. Если она придёт, он вернёт ей плащ и попросит больше его не тревожить. Он надеялся, что она послушает.
Разобравшись в этом вопросе, он обнаружил, что приближается к мавзолею Уайлдера, но с иной стороны. Дорога пошла на подъём перед тем, как соскользнуть в неглубокую долинку, в которой располагался мавзолей. На вершине холма, весь в финтифлюшках, белый, как мыло, стоял замок, основанием которого были грудь и живот Морриса Клэппера. Каждый раз, когда мистер Ребек видел это сооружение, оно словно бы вырастало всё больше. И оно было единственной вещью, с которой нечто подобное происходило.
«Я посижу немного на ступеньках, – решил он. – Потому что я устал. Расстегну рубашку, закатаю рукава и позагораю немного. Когда солнце пойдет на закат, спущусь с холма к своему жилищу и подожду, пока Ворон не явится меня искать».
Дойдя до ступеней Клэпперова мавзолея, он остановился, взглянув на белую крышу. Он читал или где-то слышал, что самые первые надгробия были всего-навсего кучками камней, густо набросанных на поспешно вырытую могилу, чтобы помешать волкам выкопать тело. «Если проблема – в этом, – подумал он, – то Моррис Клэппер – в полной безопасности. Звери в клетке, что бы под этим ни подразумевала Лора, не могут до него добраться. Сам Господь сломал бы ногти, прорываясь к Моррису Клэпперу».
Он присел на ступеньки, далеко не такие удобные, как те, к которым привык, и подставил лицо солнцу. Закрыв глаза, он чувствовал, как теплота проникает сквозь кожу. Ему нравилось сидеть на солнце. При этом он чувствовал себя вроде отца, лежащего на скамье в парке с газетой на животе и почти уснувшего, наблюдающего за сыном, играющим в пыли. Но сегодня эта грёза казалась немного оборванной по краям. Он не чувствовал себя удобно на деревянной скамейке, как ни ворочался, а мальчик исчезал, куда бы он ни устремлял ищущий взгляд.
– Очень хорошо, – сказал он вслух. – Меня немного мучает совесть. Это совершенно естественно, и здесь нечего стыдиться. Это тоже пройдёт и превратится в ничто.
Голос где-то позади заметил:
– Хотел бы я, чтобы это были мои слова.
Мистер Ребек быстро обернулся и ничего не увидел. Вообще ничего не было между ним и дверью мавзолея.
– Привет, – беспокойно сказал он. – Здесь кто-то есть?
– Что? – спросил голос.
– Тут кто-то есть? – снова спросил мистер Ребек, на этот раз чувствуя себя несколько глупо.
– О, – ответил голос. – Здесь – я. И довольно давно.
Голос звучал слабо, но отчетливо и очень сухо. Он вызвал у мистера Ребека мысли о тонких ботинках, ступающих по песку.
– Вы Моррис Клэппер? – спросил мистер Ребек.
– Не знаю, – ответил голос, – я не подумал… – затем – с уверенностью: – Да-да. Должно быть, это я и есть. Моррис Клэппер.
– Меня зовут Джонатан Ребек, – он хотел бы увидеть Морриса Клэппера, чтобы проверить, действительно ли они похожи.
– Что вы тут делаете? Я вас не знаю, верно?
– Не знаете, – подтвердил мистер Ребек. – Я здесь живу.
– Здесь? На кладбище?
Мистер Ребек кивнул. Голос ничего не ответил, но у мистера Ребека возникла уверенность, что тот его не одобряет.
– У вас прекрасный дом, – сказал он, неосознанно использовав словечко миссис Клэппер. – Я просто в восхищении.
– Как? От этого? – мистеру Ребеку показалось, что он слышит глубокий вздох. – Вы же не знаете. Всё, чего я хотел – это маленький камешек, а на нем – моё имя, и, возможно, ещё несколько благожелательных слов. И смотрите, что мне досталось. Синагога. Или здание суда.
– Ну, это ваша жена захотела, чтобы у вас была роскошная гробница, – заметил мистер Ребек.
– О да, – отозвался Моррис. – Здесь везде, куда ни взгляни, накорябано: «Гертруда Клэппер». Это – памятник ей, а не мне.
– Она вовсе не имела таких намерений, – сердито возразил мистер Ребек. – Вы дурак, если так думаете. Она вас любит.
– Любовь не извиняет дурного вкуса.
Мистер Ребек почувствовал, что на него весьма пристально уставились, и это вызвало у него напряжение. Обычно он никогда не испытывал неловкости, общаясь с мёртвыми, пока не обнаружил, что разговаривает с Моррисом Клэппером и не может его увидеть.
– А почему это вас так занимает? – спросил голос. – Вы ведь не знаете моей жены.
– Я познакомился с ней, когда она пришла навестить вас. Она сюда часто приходит.
– А, – сказал Моррис Клэппер. – Да, конечно. Вы же сказали, что здесь живёте. Я забыл.
– Я долго здесь прожил. Почти двадцать лет.
– Как интересно, – заметил Моррис Клэппер без всякого интереса. – Разрешите спросить, почему?
– Потому что я не гожусь для этого мира, и потому что все остальные годятся, – ему уже надоело об этом говорить, от разговоров любая тема со временем ржавеет.
– Понятно, – сказал Моррис Клэппер. – Значит то, что вы не принадлежите к одному миру, не оставило вам выбора, кроме как адаптироваться к другому. В силу невыполнения обязательств, как можно было бы сказать.
Этот безлично-учёный голос начал раздражать мистера Ребека.
– Нет, – резко сказал он. – Вначале, наверное, так и было, но затем я обнаружил, что моё место – здесь и что здесь мне будет не тесно среди моего народа. Мне нравится этот мир. Я себя здесь чувствую, как надо. Даже если бы я мог вернуться в страну, из которой прибыл, зная, что там для меня найдётся местечко, я бы туда не отправился.
– Браво, – сказал Моррис Клэппер. – Речь, способная тронуть замкнутые накоротко сердца покойников. Всё это неверно, но тем прекраснее, что неверно. Я рад, что слишком долго мёртв, чтобы оценить скромную красоту этого заблуждения. Это – не особый мир. Мир – только один, а здесь – его свалка. Свалку эту создали не мёртвые, им не особенно интересно превращать её в новый мир. Здесь нет ничего, с помощью чего можно было бы этот новый мир создать.
– Здесь есть любовь, – возразил мистер Ребек. – Я сам её видел. Здесь – чувство юмора, борьба и дружба – и всё это я видел.
– Они здесь только потому, что их сюда приносят с собой. Вы думаете, вы оставили мир? Вы думаете, от него так легко убежать? Куда бы вы ни пошли, вы несете свой мир на себе, словно черепаха панцирь. Сами вы – нагое, мягкое, бесформенное существо, но вы несёте на себе твердую броню этого мира, чтобы защитить спину и брюхо. Все люди носят мир на себе, куда бы они ни направлялись.
– Я не хочу, чтобы мир стоял у меня на спине, – сказал мистер Ребек. – Я об этом не просил. А не могу ли я выбраться из-под него и убежать? Нет ли выхода?
– Смерть. Не видимость смерти, но, когда спишь с ней в одной постели. Ничто, кроме подлинной смерти.
Мистер Ребек сел на ступеньки и уставился на железную дверную решетку. Над дверью красовалась надпись, но с такого расстояния её нельзя было прочесть. «У меня теперь не такое хорошее зрение, – подумал он. А затем: – О, Боже мой, что за большущий зуб с дуплом – это здание».
Тщательно подбирая слова, он сказал:
– Случалось, я подумывал, что я, наверное, и сам – призрак. Такое может быть? Мог я жить здесь, умереть и не узнать об этом? Я об этом много думаю.
Он снова почувствовал на себе взгляд усопшего Морриса Клэппера, но тот ничего не сказал. Мистер Ребек куснул обломанный ноготь. Ноготь хрустнул на зубах, у него оказался горький вкус. Где-то далеко взвизгнул автомобильный гудок. Мистер Ребек понадеялся, что машина едет не сюда.
– Все мы – призраки, – сказал наконец Моррис Клэппер. – Мы зачаты в момент смерти, рождаемся из призрачных утроб, играем на улицах с другими маленькими призраками, распеваем призрачные куплеты и сходим с ума, чтобы стать настоящими. Нам говорят, что жизнь полна целей, и что, хотя, увы, всегда необходимо бороться, можно, по крайней мере, выбрать, за что и с кем. Но мы узнаем, что для призраков возможна только одна битва: за то, чтобы стать настоящими. Некоторые из нас этого добиваются, это поощряет другие призраки поверить, что подобное осуществимо.
– И на что это похоже? – спросил мистер Ребек. – Я имею в виду – быть настоящим.
Смех Морриса Клэппера прозвучал, словно слабый шум переворачивающихся песочных часов.
– Господи Боже, да я не знаю. Я этого так и не достиг.
– О, – сказал мистер Ребек. Затем добавил. – Ваша жена вас любила. А это – не способ стать настоящим?
– Да выкинете вы из головы любовь или нет? – спросил Моррис Клэппер. – Любовь ничего не гарантирует. И всё равно Гертруда меня никогда не любила. Она любила того, кем хотела сделать меня. Это было всё равно, как если бы с нами в доме жил посторонний. Мы были счастливы вместе, все трое, но это не тот род любви, который делает призрачное настоящим. Я думаю, что единственный путь стать настоящим – это быть настоящим для самого себя и для кого-то ещё. Любовь здесь совершенно ни при чём.
Безо всяких особых причин мистер Ребек подумал о шляпе миссис Клэппер в виде полумесяца, так смешно и нелепо сидящей у неё на голове.
– У меня было двое друзей, – сказал он. – Они пожелали, чтобы я покинул кладбище. Не ради моего блага, а потому что хотели, чтобы я оказал им услугу. О таком несправедливо просить.
– Ничто не даётся просто так, – ответил Моррис Клэппер. – Если у вас есть друзья, вам рано или поздно придётся платить за дружбу, как и за всё остальное. И даже кладбище не избавит вас от необходимости платить долги. Один друг – и железная ограда вокруг этой свалки становится масляной; один непогашенный долг между друзьями – и вещи, которые вы любите и которых боитесь, входят в ворота, да ещё и посвистывают. Если вам нравится жить на кладбище, иметь друзей – ошибка. Вам ни в коем случае не следовало их заводить, мистер… Простите, как вы себя назвали? Эх, старость.
– Ребек, – подсказал мистер Ребек. – Значит, вы думаете, я должен вернуться? Думаете, я должен покинуть кладбище?
– Мне это безразлично. Для меня это ни черта не значит. Я мёртв, и что вы там делаете, а чего – нет, меня не интересует. Пока мы тут болтаем, вы можете добыть огонь и поджечь землю, словно стог сена, а мне до этого дела нет. Разве что я давно не видал огня и не помню, на что он похож.
Он замолчал. Мистер Ребек взглянул на железную дверь, подумав, что призрак где-то совсем рядом. Однако когда Моррис Клэппер снова заговорил, голос его зазвучал слабее, и мистеру Ребеку пришлось напрячься, чтобы расслышать.
– Но я вам скажу, что вы – живой и что вы обманули себя. Для человека нет выбора между разными мирами и никогда не было.
Тогда мистер Ребек поднялся со ступенек и закричал:
– Я боюсь! Вовсе не голод меня страшит! Не разговоры с людьми и не одиночество! Но я не могу вынести, что я так бесполезен и никчемен. Должно быть какое-то предназначение для меня, если не для моей жизни. Должна, конечно же, быть какая-то цель, на которой начертано моё имя. Если это не так, если я и в этом себя обманываю, тогда зачем мне желать стать настоящим? Какой мне тогда вообще смысл жить?
– О, теперь вы желаете смысла, – сказал Моррис Клэппер, и снова мистер Ребек услыхал в воздухе отдалённый смех. – У меня нет для вас никаких доводов. Умрите, если вам охота. Умрите, и мы с вами посидим вместе и поговорим о дружбе.
Мистер Ребек стоял на ступеньках и с отчаянием думал о шляпе миссис Клэппер. Мозг его был полон чёрных и голубых перьев, удерживаемых вместе надеждой и булавкой со сверкающей головкой. Где-то там была и Лора, она ждала. Он почувствовал внезапную боль в бёдрах и, взглянув вниз, увидел, что руки его вцепились в бёдра, словно перепуганные детишки. Его тонкие пальцы выгнулись и сомкнулись, а мускулы между большим и указательным пальцами напряглись, образовав чередование выступов и впадин. Он не мог позволить себе расслабиться. Он знал, что тогда станет ещё больнее.
– На что это похоже, быть мёртвым? – спросил он. Раньше он никогда не задавал этого вопроса.
Ответ Мориса Клэппера последовал мгновенно, словно кровь за ударом ножа.
– Это вообще ни на что не похоже. Вообще ни на что.
В последнее мгновение, пока он ещё стоял на ступеньках, малость дрожа и теребя руками бедра, он подумал, будто видит Морриса Клэппера. Но то, что он увидел, было только частью образа, серой и неясной, как воспоминание о чужой печали, и нечто подобное ему вполне могло пригрезиться, но всё-таки ему показалось, будто он увидел Морриса Клэппера и Моррис Клэппер чем-то похож на него, как один мужчина походит на другого.
А затем откуда-то сзади он услыхал резкий, отдающий городом зов миссис Клэппер:
– Эй, Ребек!
Он стоял, не оборачиваясь, и она снова его окликнула:
– Ребек, эгей, Ребек!
В её голосе звучало беспокойство, и он понял, что она испугалась, а не совершила ли ошибки и не прокричала ли своё приветствие человеку, внешне похожему на него, но в действительности кому-то совсем другому. Руки его сами собой упали, и он почувствовал молниеносную боль, когда кровь опять устремилась в его бедра.
Она снова позвала его, и на этот раз мистер Ребек повернулся и пошёл по дороге ей навстречу. Пошёл отчасти потому, что голос её, высокий и чистый, сразу же вызвал в памяти крик уличного разносчика, вопль возмущённого полицейского, автомобильный гудок и торжествующую песнь горна скачущей на подмогу кавалерии. Но главным образом он шёл ей навстречу потому, что она так рада была увидеть, что это действительно он, человек, которого она окликнула, и даже голос её сорвался и вылетел из горла, превратившись в восторженный писк.
Много позднее, и значительно позднее, когда он снова вспоминал тот вечер, в который решил покинуть кладбище, он пришёл к выводу, что именно писклявое: «Эй, Ребек!» подтолкнуло его к этому.
ГЛАВА 14
О, что это был за миг, когда Кампос выпрямился, чёрный над чёрной могилой, с гробом на плечах. В свете фар гроб отбрасывал тень, и лица Кампоса мистер Ребек не видел. Но он видел огромные руки, державшие гроб, ладони, тыльные стороны которых напоминали бесплодные земли – напряжённые мышцы, толстые голубые вены и костяшки пальцев, белые, как черепа под луной. Виднелась и обнажённая спина, где мышцы словно собрались в кулаки, а рёбра так отчётливо проступали сквозь кожу, что Кампос казался полосатым, словно тигр. И главное – виднелись мощные ножищи, широко расставленные, чтобы поддерживать человека и его нелёгкую ношу. Сам Кампос тени не отбрасывал, потому что земля была совсем тёмной. В этот момент, когда ещё так далеко было до утра, мистер Ребек поймал себя на том, что размышляет: «Это мир сейчас поддерживает Кампоса и даёт ему место, где стоять, или на самом деле как раз Кампос поддерживает мир и не даёт ему рухнуть?»
Гроб был довольно тяжёлым и слегка качнулся вперёд, но Кампос быстро наклонился, передвинул руки, и всё оказалось в порядке. Затем Кампос двинулся к грузовику. Он шёл медленными ровными шагами, неся гроб высоко на плечах. Его ноги и спина были прямыми, но плечи ощутимо согнулись, а шея перекрутилась, так что рот оказался у стенки гроба, как если бы Кампос объяснялся в любви женщине, тело которой бережно нёс. Добредя до грузовика, он повернулся и принялся сгибать колени, пока гроб не встал на опущенную откидную доску. Затем верзила отпрянул, почти упал, коснувшись рукой земли, чтобы удержаться, и снова выпрямился.
– Отлично, – сказал он двоим, которые сидели у грузовика и наблюдали за происходящим. Небрежным движением он подтолкнул гроб в кузов, и потянулся за рубашкой, которая висела на откидной доске, где он её оставил.
Мистер Ребек услыхал, как рядом преувеличенно-пылко вздохнула миссис Клэппер. Прежде чем она успела хоть что-то сказать, он обратился к Кампосу:
– Так что же, мы едем?
Кампос кивнул. Он держал в руках рубашку, не спеша её надеть. Он глубоко дышал, осторожно притрагиваясь к пятну на шее там, где гроб содрал кожу.
– Отлично, – снова сказал он, прошел к кабине грузовика и встал у двери. В неясном свете его потное тело отливало то золотым, то коричневыми оттенками, то чёрным. Он всё-таки надел рубашку, но не застегнул.
– А не закидать ли перед отъездом могилу? – спросил мистер Ребек.
Кампос оглядел пустую яму, вокруг которой были раскиданы кучи земли и пожал плечами.
– Закидаем, когда я приеду. Давайте.
Мистер Ребек поднялся с камня, на котором сидел, и предложил руку миссис Клэппер. Схватившись за него, она с усилием встала на ноги, свободной рукой отряхивая платье. А свою шляпу-полумесяц она сегодня всё-таки надела!
– Итак, – сказала она, – теперь всё в порядке? Никто ничего не забыл?
– Всё прекрасно, – сказал мистер Ребек. Они направились к грузовику. Кампос запустил мотор.
– Что теперь? – спросила миссис Клэппер.
– Теперь нам надо переправить гроб на Маунт Меррил, – сказал мистер Ребек. – Это недалеко.
Миссис Клэппер заморгала.
– И там вы его снова закопаете? Вэй, что за люди. Прямо как собака, которая прячет кость.
– Дружеская услуга. Я же вам об этом говорил.
– Знаю, что говорили. Это – дружеская услуга. Всё в порядке, кто может отказать другу? Как прекрасно, мы здесь сидим всю ночь и смотрим, как ваш приятель раскапывает могилу, а теперь нам надо с ним поехать, и тогда мы сможем посмотреть, как он снова зарывает этот гроб. Ребек, у вас такие друзья, что я их даже врагами иметь не пожелала бы.
– Я не мог ему отказать, – неубедительно пробормотал мистер Ребек. – Он – мой очень хороший друг.
– Отлично, вам он очень хороший друг. Ну, а я его не принимаю. Он пугает меня.
Последние слова она едва прошептала, так как они добрались до кабины грузовика. Мистер Ребек распахнул дверь и отступил, чтобы пропустить вперёд миссис Клэппер. Она бросила на него недовольный взгляд, слегка покачала головой, и он понял, что она немного боится сидеть рядом с Кампосом. Однако пререкаться было некогда – Кампос посматривал на них, нетерпеливо ожидая, когда они влезут, и у них хватало хлопот насчёт того, как бы втроём втиснуться в кабину, даже если и не выяснять, кто с кем поедет. И вот миссис Клэппер влезла и осторожно пристроилась рядом с Кампосом. Следом за ней в кабину осторожно вскарабкался мистер Ребек. Для него едва ли хватило места, даже когда миссис Клэппер теснее придвинулась к крепкому и потному Кампосу. Но мистер Ребек всё-таки сел рядом с ней и тщательно закрыл дверь. Мотор яростно заикал, и грузовик затрясся. Мистер Ребек уперся локтем в окно и почувствовал, что дверная ручка впивается ему в ногу. Судя по крохотным часикам миссис Клэппер, было три часа утра. Кругом стояла тьма. Мистеру Ребеку показалось, что ему тяжело дышать, и даже биение сердца ощущалось болезненно. Он отвернул голову от миссис Клэппер, не желая, чтобы она увидела, как он испуган.
Когда он объявил миссис Клэппер, что решил покинуть кладбище, она буквально завопила от восторга. А затем села на камень и принялась плакать. Внезапно она умолкла, когда он сказал, что надо дождаться ночи, чтобы уйти. А когда он поведал насчёт Кампоса и гроба, она вскочила на ноги, схватив обеими руками сумочку и сказала, что он – сумасшедший грабитель могил и что было бы несомненно лучше, если бы он оставался на кладбище, где психиатры не могли бы до него добраться. Он свихнулся от одиночества, как она его и предупреждала.
Но она осталась. Щелкая пальцами, она ждала объяснения, которое можно было бы принять с достоинством, поверит она ему или нет. То объяснение, которое он наконец выбрал – насчёт оказания последней услуги Кампосу, было не таким убедительным, какое она предпочла бы, но сошло. Она приняла его, сказав, что дружба – прекрасная вещь и добавив, что она подождёт вместе с ним, потому что он, конечно же, заблудится, если один направится в город нынче ночью.
Надо было ещё договориться с Кампосом, но он заступал на дежурство не раньше полуночи. И вот они остались на кладбище вдвоём, усиленно стараясь изображать заурядную пару средних лет и веря втайне, что кто-нибудь сможет посмотреть на них и сказать, что они – необычные люди, которые собираются проделать весьма необычную вещь. После пяти они укрылись от глаз Уолтерса, объезжавшего кладбище и высматривавшего, не остался ли кто. Мистер Ребек опасался, что миссис Клэппер это довольно скоро наскучит, но некоторое время спустя понял, что она наслаждается игрой в «полицейские и воры», потому что знает, что сегодня они в последний раз проделывают нечто подобное. Именно тогда удары его сердца стали такими болезненными, хотя оставалось ещё несколько часов до ухода с кладбища.
Они вместе посидели на ступеньках мавзолея на закате и доели то немногое, что у него осталось от предыдущего дня. Они до странного стеснялись друг друга, поскольку никогда прежде им не случалось вместе есть, но они часто улыбались друг другу, а иногда и переговаривались с набитым ртом. Когда с едой было покончено, он принес миссис Клэппер стаканчик воды из крана позади сооружения.
Затем он извинился и прошел на минуту в мавзолей, заперев за собой дверь. В помещёнии, как всегда после заката, было темно, но ему давно уже не требовалось глаз, чтобы здесь ориентироваться. Он знал, где тут что: его одежда – более или менее в одном углу, в другом – несколько книг, накрытых бумажными пакетами и вощёной бумагой, в третьем – одеяла, подушки и плащ. Плащ был тщательно сложен – он был слишком новым, чтобы швырять его как попало. На одеялах лежал теннисный мячик. Много лет назад Ворон нашёл его на кладбище и принёс мистеру Ребеку. Тот никогда мячиком не пользовался, но всегда держал на видном месте, хотя мячик со временем сделался зеленовато-чёрным от старости.
Он понял вдруг, что помещение – очень тесное, хотя оно всегда казалось для него достаточно просторным. Таким, должно быть, выглядело для кого-то постороннего его сознание: множество старых вещей, скопившихся в тесном пространстве, сложенных аккуратно, но по-настоящему – без всякого порядка. Но, как и это помещение, сознание его всегда ему подходило, и он знал, что и то и другое будет ему подходить по-прежнему, если он останется, потому что здесь их не с чем было сравнивать, разве что с ещё более опустошёнными сознаниями и тесными жилищами мертвецов.
– Я должен кое-что с собой взять, – сказал он вслух. – Как я могу снова отправиться в город безо всякого имущества? – Он остановился и подхватил груду одежды, смутно подумав, что её можно бы рассортировать и взять с собой что получше. Но он слишком много чего подхватил, чтобы должным образом всё это разобрать, и держал всё это слишком близко к груди.
– У меня, конечно же, должно быть что-то своё, – уверенно сказал он, и тут же дверь неуверенно скрипнула, и в помещёнии стало немного светлее. В дверях стояла миссис Клэппер.
– Мне послышалось, будто вы что-то говорите, – сказала она и увидела, что он стоит, держа в руках какую-то одежду, и прошла внутрь. – Ребек, что такое? Вы ожидаете фургона для перевозки вещей?
– Я просто хочу кое-что взять с собой, – сказал он, зная, как нелепо это должно для неё выглядеть. – Я не хотел покидать это место, оставив здесь беспорядок.
– А в чем дело? Почему бы вам не оставить здесь свое барахло ещё на денёк? Кто его украдёт? Послушайте, не нагружайтесь так всем этим сейчас, вы не сможете помогать вашему другу. Завтра же мы первым делом заглянем сюда, прихватив парочку больших сумок и всё унесем.
– Нет, – быстро сказал он. – Нет. Мне надо забрать все это сейчас, я сюда больше не вернусь.
– Хорошо, тогда я сама сюда приду и возьму все это. Ребек, не беспокойтесь ни о чем. Всё будет прекрасно, – она осторожно взяла узел с одеждой из его несопротивляющихся рук. Теперь она сама держала узел. Она улыбнулась, и он с усилием улыбнулся в ответ.
– Ребек, – сказала она. – А знаете, если вы внезапно изменили решение, если вы не хотите уходить, всё в порядке. Можете мне так и сказать. Это всё неважно.
Этими словами она вынудила его решить окончательно. А иначе он мог бы и остаться.
– Ну так бросьте все это, – сказал он и в последний раз вышел из дверей мавзолея. Она последовала за ним мгновение спустя. Они шли, держась за руки. И ни о чём не говорили.
Кампос явился ровно в полночь, как если бы прискакал верхом на полуночи, как другие ездят в автобусе, и оставил её снаружи у чёрных ворот на привязи, чтобы подождала его, пока не настанет пора возвращаться домой. Миссис Клэппер чуть не убежала, когда впервые увидела верзилу, да и Кампос, кажется, не меньше насторожился, увидав её. Она ждала снаружи, пока мужчины разговаривали в сторожке. И все время играло радио.
А внутри, время от времени повышая голос, чтобы перекричать приемник, мистер Ребек просил за Лору и Майкла – и ради них, и ради себя. Потом он вообще не помнил ничего из того, что сказал Кампосу в ту полночь, как не помнит человек, что сказал во сне, а когда ему это повторят, считает, что это – слова какого-то рехнувшегося незнакомца.
«Просить об услуге Кампоса, – подумал мистер Ребек. – Это все равно, что молить о чём-то нефритовый идол с невидящими ониксовыми глазами». Кампос развалился на стуле с полузакрытыми глазами и отсутствием всякого выражения на смуглом лице. Мистер Ребек, произнося свою речь, делал долгие паузы, словно, оставляя пробелы в вопроснике, но Кампос ничего не отвечал, и Ребеку приходилось продолжать. Он проговорил, должно быть, 15 или 20 минут, радио все играло, а Кампос громоздился на своём стуле, словно слепое божество.
Когда мистер Ребек умолк, Кампос не шелохнулся. Он уставился на мистера Ребека и начал медленно закрывать глаза, пока не угасла последняя чёрная искорка. Совершенно безмолвный, да, совершенно безмолвный Кампос, невозмутимый; как окно, сквозь которое видна разразившаяся трагедия.
Затем, всё ещё с закрытыми глазами, он протянул ручищу и выключил радио.
В тишине мистер Ребек слышал дыхание двух человек: своё и Кампоса.
Кампос открыл глаза и встал. Он вышел из сторожки, оставив свет. Мистер Ребек – за ним. Миссис Клэппер присоединилась к мистеру Ребеку. Им пришлось поторапливаться, чтобы не отстать от Кампоса.
Теперь, зажатый между миссис Клэппер и дверью с открытым окошечком, через которое ему в лицо дул горячий ветер, мистер Ребек взглянул на свои руки. На костяшках появились новые царапины с засохшей кровью, а ссадина на тыльной стороне правой ладони все ещё лениво кровоточила. Сперва он пытался помочь Кампосу копать, но порезал руку, и тогда верзила обернулся к нему и велел пойти куда-нибудь посидеть. Мистер Ребек с гордостью разглядывал свою повреждённую руку и надеялся, что Лора её увидит.
Миссис Клэппер вытянула шею, чтобы посмотреть, что он там разглядывает.
– Вы первым делом смажьте зелёнкой, – сказала она. Она легонько коснулась его руки и откинулась назад.
«То, что мы делаем – незаконно, – думал он. – Я должен сказать это Кампосу. А вдруг он не знает? Было бы только честно сказать это Кампосу. Мы очень скоро подъедем к воротам».
– Кампос, – сказал он, – если полиция узнает, что мы делаем, нас могут арестовать.
– Ребек, не говорите ничего такого, – обеспокоенно вставила миссис Клэппер. – Вас может подслушать дьявол.
Кампос даже головы не повернул.
– Полиция не узнает.
– Но если узнает, – не отступал мистер Ребек, – тебе это, конечно, будет стоить работы. Я просто хотел тебя предупредить.
– Поступлю куда-нибудь в другое место. Работы кругом полно.
– Ребек, ша! – воскликнула миссис Клэппер. – Что это за разговоры: полиция, потеря работы? Да не беспокойтесь вы так.
– Я просто хотел предупредить Кампоса, – сказал он ей, наклонился к окну и стал наблюдать, как мимо, словно паруса, проплывают надгробия.
Грузовик мощно качнулся на повороте дороги и задрожал, когда одно из задних колес соскользнуло в наполненную водой колею и снова на неё выехало. Мистер Ребек хорошо знал дорогу. По сторонам её тянулись длинные гребни из песка и сухой травы и немногочисленные могилы. Перед воротами будет ещё одна излучина.
Если бы он обернулся, он смог бы увидеть Лору. Он был в этом уверен. Она сидит на своем собственном гробу, глядя вперед, и, посмотри он назад, ища её, он увидел бы её вовсе не серой, а цветов утра. И платье на ней – тоже цветов утра с отделкой в стиле королевы Анны. А глаза – яркие, как у живой, и чёрные волосы падают на плечи. Как славно было бы обернуться, увидеть её и простереть руку к подобному воплощению Красоты.
Но если обернуться, она заговорит с ним, желая поблагодарить его за то, что он для неё делает, а он не думал, что заслуживает благодарности.
Мысленно он говорил ей: «Я везу тебя к Майклу, как ты и просила, Лора, но это – не жизнь, то, к чему я тебя везу, я везу тебя ради нескольких минут или часов счастья, которые ты заслужила, просто потому, что не знала его прежде. И как ты ни обхватывай его руками, оно ускользнет от тебя, подобно стайке диких птичек, и ты об этом потом даже и не вспомнишь. Возможно, было бы куда лучше оставить тебя там, где ты и лежала. Одного заблуждения у тебя никогда не было при жизни: насчет того, будто счастье вечно. Вот что я тебе даю: не жизнь, не любовь даже, а только это. Прости меня за то, что не могу дать тебе больше. Возможно, со временем я пожалею, что вообще что-то тебе дал. И не благодари меня ни за что. Будь счастлива, если сможешь, но меня не благодари».
Он взглянул мимо миссис Клэппер на сидевшего за рулем Кампоса, что-то негромко мурлыкающего себе под нос. Верзила отлично вёл машину, хотя и казалось, что не больно-то много внимания обращает он как на дорогу, так и на грузовик. Но когда он хватался за руль и мурлыкал свою песенку, на лице его было странное выражение. Мистеру Ребеку это не показалось бы выражением любви. Разве что грузовику показалось бы.
Повинуясь внезапному импульсу, мистер Ребек подался вперед и спросил:
– Кампос, а Лора хорошо пела, правда?
Кампос чуть повернул голову и окинул его из темноты спокойным взглядом. Одной рукой он вел машину, другой застёгивал рубашку и следовал дороге, даже не глядя на неё.
– Довольно неплохо, – сказал он и отвернулся.
– Спасибо, Кампос, – сказал мистер Ребек. Миссис Клэппер вздохнула и завертелась на месте, пытаясь расположиться поудобнее между двумя мужчинами.
– Ребек, а кто эта Лора? Не говорите мне, если мне нельзя знать.
«Неужели она ревнива? – подумал он, сдерживая ликование. – Когда это меня вообще ревновала женщина? Как поздно начинаются для меня многие вещи».
– Женщина, которую я когда-то знал, – сказал он. – Я почти что забыл её.
Затем – последняя излучина, и вот уже впереди – пологий склон, а у подножия холма – черные ворота.
Они были широко распахнуты, так их оставил Кампос. Слева в сторожке все ещё светился огонек. За воротами расстилалась глубокая тьма с серыми пятнами. Там, как понял мистер Ребек, должна быть улица. Ворота чуть пошевеливались в ночи. Мистер Ребек слышал, что они пищат тихонько, как летучая мышь.
«Железо пищит и бормочет в земле, а железные змеи скользят среди зелёной листвы. Мир затаился, чтобы выскочить на меня из-за ближайшего дерева. Почему я это делаю? Что я пообещал сделать? Помоги же мне, Лора; Майкл, побудь со мной немного. Кто-нибудь, побудьте со мной, человек не должен один отправляться в мир».
На полдороге по склону они заметили, что свет в сторожке голубовато моргнул и погас. Ворота исчезли. Мистер Ребек не удивился: лампочка перегорела нынче ночью. Свет исходил теперь только от фар грузовика и от луны, которая была прелестна, но не больно-то приносила пользу.
Кампос пробормотал: «Mierda» [ 13 ] и словно бы попытался выплюнуть язык. Он легонечко тронул ногой тормоз, как бы нехотя уступая тьме. Грузовик малость затормозил, но не слишком сильно.
– Ребек, – тихо сказала миссис Клэппер. – Вы уверены в себе?
Он взглянул на неё, сидящую рядом. Его радовало, что она об этом спросила, но он хотел ей сказать, что с каждой возможностью, которую она ему предлагает, она всё глубже затягивает его в мир. Знает ли она об этом? Он подумал, что, вероятно – да. Но вообще-то это было всё равно.
– Нет, – ответил он. – Я нисколечко в себе не уверен.
Миссис Клэппер цепко схватила его за руку. Её собственная рука была маленькой и мягкой, но поразительно сильной. Кампос сидел себе за рулем и мурлыкал, то и дело отчётливо выводя строчку или несколько слов песни. Мистер Ребек этой песни никогда прежде не слышал.
Так как фары грузовика светили недалеко, ворота не показались снова, до тех пор, пока машина не оказалась буквально перед ними. Мистер Ребек, как оказалось, встал и понял это только, когда стукнулся головой о потолок кабины. Миссис Клэппер держала его за руку, но никуда не тянула. Кампос не удостоил их даже взглядом. Он бросил грузовик к воротам, как если бы это был камешек, который он запускал в тёмное окно.
Вероятно, было бы легче, если бы ворота оказались такими, какими мистер Ребек видел их во сне ночью и воображал днём: острия наверху обагрены струящейся кровью, а железные змеи шипят, молча предупреждая о молчаливой смерти и нацеливаясь, чтобы поразить в голову или в пятку любого, кто подойдёт слишком близко. Им можно было бы взглянуть в лицо, ибо с ним было двое друзей, а человек может черпать силу в друзьях, когда его обступают железные змеи.
Но ворота, как выяснилось, были всего лишь воротами, а острия над ними преизрядно заржавели. Грузовик слегка задел их, проходя мимо, потому что Кампос на мгновение убрал руку с руля, чтобы вытереть нос. А затем уже под колёсами была новая дорога, и ворота остались позади. И постепенно мистер Ребек начал осознавать, что всё стоит, упершись головой в потолок кабины, что миссис Клэппер по-прежнему держит его руку, а Кампос так и не прервал своего низкого монотонного мурлыканья. Мистер Ребек сел, но не обернулся.
– Получилось, – сказал он миссис Клэппер. – Получилось.
– А я даже дыхнуть боялась, – призналась миссис Клэппер. Голос у неё был очень усталый.
Мистер Ребек выглянул в окно. Он был захвачен зрелищем домов и автомобилей, припаркованных у обочины.
– Где мы? – спросил он.
– Это Йоркчестер, – сказала ему миссис Клэппер. Она указывала рукой куда-то мимо него. – Вон там живет мой врач. Чудесный человек, только у него дурно пахнет изо рта, словно рту тысяча лет. Вы бы подумали: он врач, а врач мог бы что-то сделать, но – нет. Прекрасный человек. Он играет на скрипке. Ребек, я так беспокоилась. Я думала, что с ума сойду.
– Всё в порядке, – сказал мистер Ребек. Он откинулся на спинку сиденья, закрыв глаза.
– А я не знала, что делать. Я думала: Боже мой, я заставлю его это сделать, я тащила его сюда всю дорогу, посмотрите, как он испуган. Если с ним что-нибудь случится, это твоя вина, вздорная ты баба. Ребек, вы уверены, что нормально себя чувствуете? Вы не очень хорошо выглядите.
– Я себя чувствую прекрасно, – сказал мистер Ребек. Они ехали под наземной железной дорогой, которая огибала кладбище. Грузовик подпрыгивал на булыжнике, так близко проезжая мимо столбов линии электропередачи, что почти задевал их. В свете фар они выглядели красновато-серыми. Они были разрисованы густыми брызгами краски, которая затвердела снаружи, но оставалась полужидкой внутри. Было темно, как и положено в четыре утра, но на некоторых магазинчиках вдоль дороги всё ещё горели неоновые вывески, а окна их ярко светились на темных и пустынных улицах.
– А знаете, – сказал он, – я всегда думал, что должна быть снисходительность к жизни. Это было очень важно для меня. Иногда я говорил себе: когда мир научится снисхождению, я вернусь назад, не раньше. Я видите ли, думал, что узнаю, когда.
Пустое такси вырвалось вперед, когда они остановились у светофора. Кампос по-разному относился к светофорам, иногда он перед ними и останавливался. И вот водитель такси с мистером Ребеком глазели друг на друга с искренним любопытством, пока не загорелся зелёный, и такси не пропало между столбами, словно олень среди деревьев. Кампос повернул налево и поехал по длиной мощёной улице, застроенной домишками на два семейства каждый. В одном из них горел свет, и средних лет женщина стояла у окна. Глаза у неё были усталыми, но она мило улыбнулась, когда грузовичок прогромыхал мимо.
– Вот я и оставил кладбище, – продолжал мистер Ребек. – Безо всякой гарантии, что мир вообще изменился к лучшему. Фактически, я уверен, что нет. Ни в каком сколько-нибудь существенном отношении. Но по некоторым причинам это меня больше не беспокоит. Во всяком случае, в данный момент. Возможно, завтра или чуть позже будет иначе. А в данный момент всё, что меня печалит – это чувство, что я растратил впустую почти двадцать лет жизни. Они бы не оказались потрачены впустую, если бы я чему-то научился, если бы я стал лучше, благодаря этим годам. Но я – таков же, как был, только старше, и поэтому чувствую утрату. А утрата для меня – ужасная вещь. Вроде преступления.
Говоря это, он был уверен, что миссис Клэппер с ним согласится, но был также уверен, что она передёрнет плечами и скажет: «Хорошо, значит вы потратили время? Так что? Что вы можете с этим поделать? По крайней мере, вы не заболели и не умерли, слава Богу. А что ещё тут скажешь?» Ему необходимы были её разуверения.
Вместо этого она медленно проговорила:
– Все тратят время. Немного там, немного тут. Вы просыпаетесь утром, оно такое яркое и светлое, вы спрыгиваете с кровати и говорите себе: «Сегодня – тот самый день. Сегодня я собираюсь стать великим человеком». Затем выглядываете из окна и видите на тротуаре хорошенькую девушку – бз-з-з… – надели штаны, надели рубашку, бежите по лестнице, «Привет, это не вы уронили?» А сами себе говорите: «Хорошо, значит, я завтра стану великим человеком. Кто когда-либо чего-либо добивался сразу? Возможно – завтра. А в четверг – наверняка…» Скажите мне, Ребек, а это не называется тратить время?
Мистер Ребек только взглянул на неё. Лоб её был в тени, но мистер Ребек видел её глаза.
– Так пусть вы женитесь на этой девушке. Хорошо. Вы всё ещё можете стать великим человеком. Взгляните на всех великих людей, у которых есть жёны. Двигайтесь вперёд, будьте великим человеком и не давайте мне вас остановить. Но явно сперва вам надо зайти в бакалею и взять чего-нибудь для собаки. А заодно – и для ребенка. И помягче, потому что у него зубы режутся. Чтобы позволить себе это, вы должны ходить на работу пять дней в неделю. Можно быть великим человеком и по выходным.
Улицы были абсолютно пусты. Несколько машин проехало мимо, всё больше – такси. Один раз кошка проскакала через улицу перед грузовиком и скрылась за корпусом припаркованного автомобиля и следила за ними оттуда, пока они не проехали хорошо вперед.
– Ребек, а это не называется тратить время? Это – огромная трата. Пять минут там, час – здесь, возможно, неделя – где-то ещё. Если всё это сложить, то и получатся ваши двадцать лет. А, возможно, и больше. По крайней мере, вы получили своё в один присест. Теперь с этим покончено, вы можете стать великим человеком.
– Только я – не великий человек, Гертруда, – тихо сказал мистер Ребек. – И никогда бы не мог им стать. Во мне это не заложено.
– Но кто вам выкручивает руки, чтобы вы были великим человеком? Разве я произнесла это, как приказ? И не будьте великим, если не чувствуете себя способным. Просто не делайте ничего такого, чего не хотите. Вот и все, что я говорила. Вы не должны делать ничего такого, что вам не нравится.
Она задумчиво посмотрела на него, куснув, как обычно, указательный палец сквозь перчатку.
– Ребек, что вы собираетесь делать, раз уж выбрались с кладбища? У вас есть какая-нибудь идея?
– Не знаю, – ответил мистер Ребек. – Фармацея – единственное ремесло, которое я когда-либо изучал. Я мог бы к нему вернуться.
– Фармацея – это хорошо, – согласилась миссис Клэппер. – Аптекарь очень славно живет. Только многое изменилось за двадцать лет. Теперь появилась тьма всего нового. Чудесные лекарства.
– Я мог бы и поучиться. А забавно вышло бы – возвращаться в школу в мои годы.
– Что забавного? Так поступают очень многие, и люди постарше вас, – нахмурилась миссис Клэппер. – Я просто хочу сказать, что вам надо узнать обо всех этих новых лекарствах, которые теперь появились. Пенициллин. Вы что-нибудь знаете о пенициллине?
– Да, – сказал мистер Ребек. – Я читал о нем в газетах.
– Хорошо, значит, вы, хотя бы знаете пенициллин. Изобрели также много всяких вещей, у которых похожие названия. То есть, они одинаково кончаются. Дайте подумать минуту.
– Антибиотики и сульфамиды? – предположил мистер Ребек.
Миссис Клэппер так и воззрилась на него.
– Ребек, вы всё это знаете? Так зачем же вы меня дергаёте? Зачем вы меня морочите, будто вам опять надо идти учиться? Пять минут назад вы покинули кладбище, и вот вы уже снова аптекарь.
Мистер Ребек рассмеялся.
– Нет. Я всего лишь читал об этих лекарствах. Я не знаю, как они действуют. Надо учиться.
– Хорошо. Ну так и учитесь. Иногда вы меня прямо беспокоите, Ребек.
Когда они задержались перед светофором, мистер Ребек увидел группу подростков, болтавшихся на углу. Они были в спортивных рубашках и тяжёлых ковбойских ботинках. У всех – бледные лица. Облокотясь о стенку или друг о друга, они праздно пялились на грузовичок. Выглядели они порочными, слабыми и одинокими.
– Шпана, – сказала миссис Клэппер, проследив за взглядом мистера Ребека. – О, как я огорчена, что они попались вам на глаза. Бездельники все до одного. Что они могут делать тут так поздно? Нудники. [ 14 ]
Мистер Ребек улыбнулся ей, когда грузовик снова рванулся вперёд.
– А вы здесь что так поздно делаете, такая приличная дама из Бронкса?
– И я виновата? И я виновата? Я сказала: «Эй, давайте съездим на Маунт Меррил и закопаем труп»? Это была моя идея? Я с этим ничего общего не имею, Ребек. Если нас остановит фараон, вы меня похитили. Вы и этот здоровенный за рулем.
Она зевнула и потянулась, глядя мимо мистера Ребека на неосвещённые жилые дома и садящуюся за них луну. Рука её, когда она выглядывала в окно, осторожно покоилась на плече мистера Ребека.
Он вспомнил, что здесь уже не ходят трамваи. Об этом ему сказал Ворон. Непрочные на вид машины исчезли. Все. А все дороги, по которым ехал теперь грузовичок, были заново вымощены. То и дело, пристально вглядевшись, мистер Ребек улавливал серебристое мерцание в самом сердце какой-нибудь улочки и догадывался, что здесь ещё сохранились трамвайные рельсы, увязшие в неровной смоле и асфальте.
Один раз он посмотрел назад, в стеклянную щель за спиной, потому что хотел ещё раз увидеть Лору. Но в кузове не было ничего, кроме самодовольно-неподвижного гроба и нескольких инструментов, дребезжавших рядом. Никаких признаков присутствия Лоры – ни темных волос, ни осеннего голоса, ни серых глаз, ни малейшего подобия мягкого смеха, только гроб в кузове, кирка, лопата да лом. А той Лоры, что пела ему и любила Майкла – ни следа.
И всё же он знал, что она здесь столь же определённо, как и то, что никогда больше не сможет видеть призраки.
«Что же, я сам сделал свой выбор, – подумал он. – И я знал, что делаю. Рано или поздно понадобилось бы выбирать. Никто не может вечно общаться и с живыми, и с мертвыми».
Затем он услыхал, что Кампос мурлычет в некоей металлической гармонии с ворчащим мотором, и подумал: «А Кампос может. Кампос всегда будет чувствовать себя естественно в обоих мирах, потому что ни к одному не принадлежит. Он никого не любит… Нет, забудем об этом. Моррис Клэппер прав: любовь тут ни при чем. Просто Кампос не беспокоится о другом мире, а именно когда мы о чём-то беспокоимся, это перемалывает нам души и заставляет нас делать глупости. Он всегда будет способен видеть и призраки, и людей. потому что ни те, ни другие не трогают его: не радуют и не огорчают. Я-то считал, будто я такой…»
Некоторое время он думал о Лоре и завидовал Кампосу, тоскуя о жизни, которую оставил. Затем он забыл о зависти, наблюдая, как в тишине мелькают дома. Дома изумили его. В них было что-то нереальное. Чистое стекло и новые кирпичики не давали возможности вообразить, что там живут люди, что они едят, любят и совершают отправления. И всё же люди там, очевидно, жили. Он заметил мусорные баки перед большинством зданий. И детские коляски. А это – два непременных знака присутствия где-либо людей. Он подумал, а не живет ли миссис Клэппер в районе вроде этого.
– Гертруда, – сказал он, толкнув её под локоть. – Мы все ещё в Йоркчестере?
Миссис Клэппер заморгала и выпрямилась. Он понял, что она полудремала.
– Нет, – сказала она, пытаясь сориентироваться по названиям улиц. – Я не знаю точно, где мы, но из Йоркчестера мы уже выехали.
– Надеюсь, Маунт Меррил недалеко, – сказал мистер Ребек. – У нас не слишком много времени.
– Эй, вы, – весьма фамильярно обратилась миссис Клэппер к Кампосу – её страхи как рукой сняло. – Эй вы, бык за рулем, далеко ещё до Маунт Меррил?
Вместо ответа Кампос так резко совершил поворот, что миссис Клэппер бросило на мистера Ребека, и он чуть не задохнулся. Верзила вел грузовичок по крутому, усыпанному щебнем склону. По обеим сторонам дороги высились маленькие частные домики. Как только выбрались на ровное место, машина проехала ещё немного, а затем остановилась перед позолоченными железными воротами. За воротами не виднелось сторожа, а в деревянной будочке не горел свет.
– И это здесь? – спросила миссис Клэппер с некоторой досадой. – Эта бодяга и есть Маунт Меррил?
– Задний вход, – хмыкнул Кампос. Оставив мотор включенным, он вылез из кабины и прошел вперед, чтобы осмотреть замок на воротах.
– Хо-хо, – сказала миссис Клэппер. – Задний вход. Мы что, в бакалею пришли, а?
– Так проще, – объяснил мистер Ребек. – У них всегда кто-то дежурит у главного входа, как говорит Кампос.
Кампос небрежно дёрнул замок указательным пальцем и направился к кузову машины. Мгновение спустя он возвратился, неся лом, и вогнал его в дужку замка, без предисловий опустил на лом обе ручищи и подналег. Он буквально встал на носки и обрушил весь свой вес на замок. Длинные мускулы у него на руках быстро зашевелились, и затем замок слетел, издав звук, похожий на удар ложки по стакану. Кампос широко распахнул ворота и опять вернулся к грузовику.
– Боже мой, – сказала миссис Клэппер шёпотом, который она обычно приберегала к ураганам и рождениям четырёх близнецов. – Боже мой, Ребек, а он хоть когда-нибудь ходил в школу? Что мы здесь делаем?
– Нет другого способа попасть внутрь, – мистер Ребек и сам был малость обеспокоен. Сломав свой собственный замок, он сломал бы ещё сколько угодно, чтобы доставить Лору к Майклу, но он начал думать, что было неблагоразумно брать с собой миссис Клэппер. Если их арестуют, так ведь и её тоже. Он как-то до сих пор не обдумал такого варианта.
Зато миссис Клэппер обдумала.
– А вот за такого рода штучки, – пробормотала она, когда Кампос опять вскарабкался в кабину. – За такого рода штучки вас посадят в тюрьму, а ключ заставят съесть на завтрак.
– Ну, не может быть, чтобы уж так, – сказал мистер Ребек, уверенный, что так и будет.
– Нет? Ребек, я не думаю, что вам хотя бы почту получать разрешат. Вероятно, вам будут читать газету раз в месяц.
И вот они поехали по кладбищу Маунт Меррил, высматривая впереди, в глухой, как вата, тьме место, чтобы похоронить Лору Дьюранд. Со временем они кое-что нашли: довольно угрюмый клочок земли, вокруг – несколько могилок, и никого поблизости. Мистер Ребек подумал, что хорошо было бы похоронить её поближе к могиле Майкла, но это – всего лишь любезный жест. А мёртвые не оценят важности жестов для живых.
Острым краем лопаты Кампос обозначил контуры могилы и начал копать. Мистер Ребек и миссис Клэппер сидели в кабине, так как предложение мистера Ребека помочь было молча отклонено. Долгое время ни один из них не говорил ни слова. Они смотрели, как Кампос стоит по лодыжки в земле, по икры в земле, по колени, швыряя комья с лопаты через плечо, странно и резко вздрагивая всем телом. Заря ещё и не близилась, но тьма стала мягче, так как показались звёзды, и Кампос не казался больше чёрным видением, поджидавшим там, где, как считают люди, должен стоять их жребий; он был просто Кампосом, ничьим другом, роющим могилу для Лоры по каким-то своим причинам или без причин вообще.
Внезапно миссис Клэппер взглянула на мистера Ребека и задумчиво сказала:
– А вы знаете, Ребек, всё это – безумие. Все. Послушайте, уже пятый час утра, скоро солнце начнет всходить. Всё вот-вот пробудится. Я – старая баба, мне бы тоже надо пробудиться, а я вместо этого сижу в грузовике на кладбище в четыре часа утра, наблюдая, как Кинг-Конг рвёт траву и ожидая, когда же придет полиция. Ребек, для вас это, может быть, и не безумие. Одному Богу ведомо. Но для меня, поверьте, это безумие.
– Знаю, – ответил мистер Ребек, желая рассказать о Лоре и Майкле и понимая, что как раз этого он никогда не сможет рассказать. – Но это – действительно дружеская услуга. Когда-нибудь я вам об этом расскажу, если получится.
Миссис Клэппер передернула плечами.
– Расскажете мне, не расскажете мне – я вам верю. Слишком поздно, чтобы вам не верить. В любом случае, Ребек, когда поживёшь с моё, нет разницы, если не веришь чему-то, что кто-то рассказывает. А не всё ли равно? Ты-то остаёшься ни с чем. У женщины в мои годы нет выбора. Поверьте, кто знает, может быть, всё выйдет, как надо.
Она отбросила со лба густые волосы и с отчаянием принялась рыться в сумочке, пытаясь не чихнуть, пока не отыщется платок. Следя за ней в такой особенно неподходящий момент, мистер Ребек почувствовал, как наполняется теплом его сердце. Желая, чтобы на его лице хоть что-то такое проступило, он изобразил неловкую улыбку.
– Да вовсе вы не старая баба, – спокойно сказал он.
Тогда миссис Клэппер улыбнулась, потерев загривок и закрыв глаза.
– Знаю, – обрадовано сказала она. – А вы думаете, я могла бы так говорить, если бы была старой бабой?
Но вот Кампос закончил рыть могилу, и тогда уже все трое опустили в яму гроб, и мистер Ребек помог Кампосу закидать яму землёй и аккуратно разровнять. Глядя, как они подпрыгивают и подскакивают под темно-синим небом – огромное пугало и маленькое – миссис Клэппер разразилась смехом.
– Словно дети в кондитерской, – сказала она.
И неважно, каким ровным старались они сделать это место, каким невыделяющимся и плоским; оно смотрелось, как могила, там, где не должно быть могилы. Они только и могли надеяться, что никто из администрации Маунт Меррил не пройдет мимо, пока не исчезнет след. Зимой все замёрзнет, и свежая земля станет того же цвета, что и земля вокруг, а весной дикий папоротник вырастет на могиле Лоры, укрыв её и согрев.
– Всё равно у неё нет надгробия, его нельзя переносить, – сказал мистер Ребек. Он сделал паузу и добавил. Разве это не странно? Лора похоронена здесь, и никто в мире этого не узнает. Все будут видеть её надгробие на йоркчестерском кладбище и думать, будто она лежит там. И для них это будет всё равно, как если бы она там и лежала.
– Люди не понимают, – удовлетворенно заметил Кампос. Он облокотился о лопату, был снова весь потный, но дышал легко. – Камень – это всё, что им нужно. Поставь камень и скажи, что здесь похоронена их мать, вот и всё, что им нужно. Они пойдут к камню и забормочут: «Прости, мам, я – ублюдок». Никакой разницы.
Они медленно побрели к грузовику, но мистер Ребек всё оборачивался, чтобы опять посмотреть на могилу. Он вообще-то и не ожидал, что увидит, как Лора легко выскакивает из-под земли, очаровательная и бессмертная и бежит среди надгробий в поисках человека, которого любит. Но ему хотелось увидеть их вместе. Он знал, что счастливых концов не бывает, так как ничто не кончается, а если бы и раздавались счастливые концы, куда более достойные люди встали бы за ними в очередь до Майкла, Лоры и мистера Ребека. Но счастье недостойных и счастье таких-сяких столь же хрупко, эгоцентрично и дорого, как счастье праведных и достойных, а счастье живых не менее преходяще, отчаянно и подвержено забвению, чем радости мёртвых.
Кампос привез их обратно к воротам, которые тщательно закрыл за грузовиком, не оставив следов, а затем машина покатила вниз, по крутому склону. Молодая парочка маячила на крылечке одного из домов. Они сидели, негромко беседуя, очень близко друг к дружке, но не соприкасаясь. Когда машина проезжала мимо, они подняли глаза, а затем опять отвели взгляд.
– Лучший на свете способ простудиться, – сказала миссис Клэппер. – Вот дурачки-то, – она сонно улыбалась.
У подножия холма Кампос остановил грузовик и переглянулся с мистером Ребеком.
– Ну что? – спросил верзила. – Ты возвращаешься?
Мистер Ребек сидел совершенно тихо. Миссис Клэппер выпустила его руку и ждала ответа. Встретившись с бесстрастным взглядом Кампоса, он подумал: «Этот человек чист и безупречно-стерилен, как и всё на кладбище. А я не чист и не стерилен. Я заражен жизнью и в своё время умру от этого. Святость не для меня, мудрость – тоже, да и чистота – вряд ли. Только фармацея, а также любовь, которую я не зарыл в землю и не потерял. Этого очень мало по сравнению с тем, что может иметь человек, но это – всё, что человек получает. Буду продавать леденцы из мать-и-мачехи, если они ещё остались в мире». И тогда он покачал головой и сказал:
– Нет, Кампос.
Кампос кивнул и снова запустил мотор. Миссис Клэппер выбралась из грузовика, а мистер Ребек на миг задержался.
– Пока, – сказал он и протянул руку. Кампос взглянул на его худую загорелую ладонь без особого интереса, наконец поспешно взял её в свою, сухую, с грубой кожей.
– Всего хорошего, – сказал он и уехал. Мужчина и женщина смотрели вслед грузовичку с куда большим интересом, чем тот заслуживал, пока машина не пропала, свернув за угол. Затем миссис Клэппер нарочито потянулась, всё ещё не глядя на мистера Ребека, и спросила:
– Итак?
– Итак? – передразнил он. – Итак что?
– Итак, куда теперь? Уже почти рассвет, Ребек. Вам есть, куда идти?
Мужчина взглянул на чужие дома, на фонари, гаснущие, как звезды, и обхватил рукой плечи женщины.
– Это ещё не рассвет, – сказал он, улыбаясь ей. – Это то, что называют ложным рассветом.
– Хорошо. Рассвет. Ложный рассвет. Я не стану с вами воевать. Идите ко мне домой. Выпьем хотя бы по чашечке кофе. Это вас приободрит.
– А я бодр, – ответил мистер Ребек. – Я бодрствовал всю ночь.
– Ребек, вы – суд и наказание для старой бабы. Так вы идете или нет?
– Иду, Гертруда.
Они вместе побрели по улице – медленно, потому что оба очень устали. Каблуки миссис Клэппер стучали по тротуару. Насколько могли видеть эти двое, они были единственными людьми на улице.
– Где-то тут есть метро, – сказала миссис Клэппер. – На нём мы доедем прямо до дому, – она взглянула на него. «Какое блаженное ощущение», – подумал он.
– Ребек, а вы любите сметану с деревенским сыром?
– Не помню, – ответил он. – Я долгое время ничего такого не пробовал.
– В жару просто чудесно. И с черникой, если она у меня ещё есть. Но, вероятно, я её уже съела. Шагайте медленнее, Ребек, куда вы так несетесь? Может быть, мы увидим, как всходит солнце. Где тут восток?
Мистер Ребек указал туда, где небо было цвета новых кирпичных домов. Он увидел летящую птицу. То была единственная птица в небе, как и они – единственные на улице прохожие. Птица летела где-то далеко, описывая широкие неспешные круги, взирая на мир, на который падала её тень, с тем самым высокомерием, которое присуще всему, что летает. Мистер Ребек подумал, что это мог быть и Ворон и пожелал, чтобы представилась возможность с ним проститься, хотя и знал, что для Ворона это вряд ли имеет значение. Но люди всегда и со всем должны прощаться.
Вслух он сказал:
– Интересно, а что же случилось с той чайкой?
КОНЕЦ
САДОВНИК НАДЕЖД
Андрей БалабухаУ блестящего питерского фантаста Ильи Варшавского есть прелестный рассказ «Биотоки… биотоки…», из которого наше поколение почерпнуло фразу, ставшую крылатой: «Дайте ему полную анестезию Чарли Чаплиным». Целых семь лет – с 1964 года, когда я впервые прочёл эту миниатюру в сборнике «Молекулярное кафе», до 1971 года, когда случай подарил мне возможность за казенный счет прокатиться в тогда уже/ещё Свердловск и побывать наконец в редакции моей литературной alma mater, журнала «Уральский следопыт», – так вот, все эти семь лет я искренне почитал слова Варшавского просто удачной метафорой. Но с той весны семьдесят первого – перестал.
Поезд подходил к Кунгуру, когда у меня разболелся зуб. Что это такое – объяснять никому не надо, мало кто сей радости в жизни не испытывал. А тут – в поезде, где никакого анальгина днём с огнём не сыщешь… Оставалось только героически пытаться отвлечься, используя единственное подручное средство – взятый в дорогу двадцать первый том, последнюю новинку знаменитой красно-серой подписной «молодогвардейской» «Библиотеки современной фантастики». Надо сказать, что составленный великой умницей Еленой Гавриловной Вансловой, этот том и по сей день представляется мне одной из наиболее удачных антологий фэнтези. А тогда был, вдобавок, едва ли не первой. Продираясь сквозь зубную боль, я залпом проглотил и «Дженни Вильерс» Пристли, и «Срубить дерево» Янга… И всё-таки анестезия была лишь частичной. Но вот я дошёл до рассказа «Милости просим, леди Смерть» – и впервые понял, что такое полная анестезия. Правда, не Чарли Чаплиным, а Питером Сойером Биглом. Так состоялось первое моё знакомство с этим тонким и лиричным писателем.
Впоследствии я узнал, что рассказ этот покорил отнюдь не только меня – подавляющее большинство критиков единодушно относят его к числу самых блестящих образцов фантастической новеллистики. Но тогда я лишь вычитал из трёхстрочной справки об авторе, что Питер Бигл – молодой английский писатель, а из-под его пера выходит не только фантастическая, но и вполне добротная реалистическая проза. Если с последним тезисом нельзя не согласиться, то с первым вышла накладка: Бигл вовсе не англичанин, а уроженец Новой Англии, то есть исторически сложившегося района на севере Атлантического побережья США, куда входят штаты Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Мэн, Нью-Хэмпшир и Род-Айленд. Впрочем, ошибка неудивительна – многое ли мы знали тогда о западных коллегах? Крохи…
Должен признаться, что о самом Питере С. Бигле я и сейчас знаю ненамного больше: даже скрупулезная «Энциклопедия научной фантастики», вышедшая под редакцией Питера Николса, отводит ему лишь несколько строк, а «Новая энциклопедия научной фантастики», выпущенная под редакцией Джеймса Ганна, например, и вовсе умалчивает о нем. Могу лишь сказать, что родился Бигл в Пенсильвании в 1939 году. Что окончил он Питтсбургский университет, получив степень бакалавра искусств; что впоследствии защитил магистерскую и докторскую диссертации по английской литературе. Что он не является профессиональным писателем, то есть не живет исключительно на литературные заработки, а продолжает заниматься преподавательской деятельностью. И, наконец, что его никак нельзя отнести к числу писателей плодовитых – пишет он мало, подолгу работая над каждой книгой. Но зато каждая из его книг становится если и не событием, то уж во всяком случае заметным явлением. А к области фэнтези относятся три его романа: «Тихий уголок», которым он дебютировал в 1960 году, «Последний единорог», вышедший в 1968 году, и «Оборотень Лила», увидевший свет в 1974 году – это не считая нескольких десятков рассказов. Так что, взяв в руки этот сборник, можете со спокойной совестью считать, что вам теперь знакома, по крайней мере, половина фантастического творчества Питера С. Бигла.
Это очень рафинированное творчество, уходящее корнями в классику американской литературы. Здесь вы никогда не встретите оживающих скелетов и прочей иномирной мрази, всеми силами стремящейся уничтожить человека и человечество, как это свойственно фэнтези, написанной в жанре ужасов. Да и всепобеждающих суперменов с заколдованными мечами, привычных для героической фэнтези – тоже. Бигл чужд классике той фэнтези, что стала обиходным атрибутом массовой культуры. Его литературные предки и предтечи – это Эдгар Аллан По, Вашингтон Ирвинг, Натаниэль Готорн, Амброз Бирс. Замечу, кстати, что все они – тоже представители литературы Новой Англии… Проза Бигла являет собою, так сказать, литературу второго порядка, восходящую не к непосредственному авторскому опыту, а к литературной традиции, этим непосредственным опытом дополнительно обогащённой и оплодотворённой.
И ещё – она всегда печальна и светла; печальна, как кладбище, и светла, как лучезарный рог единорога. Вообще, надо сказать, кладбище – очень ёмкое литературное пространство, недаром столь многие писатели поселяют там своих героев. Оно может послужить превосходным материалом для физиологического очерка в духе нашумевшего у нас несколько лет назад калединского «Смиренного кладбища». Может явиться гнездилищем потустороннего ужаса, символом неизбывной тоски… Но только не для Бигла. Подобно тому, как леди Смерть из упоминавшегося в начале нашего разговора рассказа является на бал в облике очаровательной девушки, самого прекрасного из известных в литературе воплощений Смерти – по мнению таких критиков, как Бэрд Сирлесс, Бет Макхэм или Майкл Франклин, – так же и кладбище из «Тихого уголка» выступает скорее символом торжества человечности и жизни.
И точно так же, выбирая из обширного бестиария разномастных мифических зверей, Бигл останавливается не на свирепом мечехвостом драконе или какой-нибудь подобной твари, а на единороге – символе девственности, силы и чистоты. Правда, для западноевропейской культурной традиции образ и символ этот являются весьма распространенными: впервые появившись ещё в III тысячелетии до Р. X. на печатях из Мохенджо-Даро и Хараппы, единороги расселились со временем по всем мифологическим системам – от Китая, через всю Азию, эллинистический мир, дойдя постепенно до Атлантического побережья Европы, с кельтами переселившись на Британские острова и в Ирландию, а на кораблях Лейфа Эйрикссона, Христофора Колумба и Себастьяна Кабота перебрались в конце концов и в Новый Свет. Единорога изображали на государственных гербах – например, шотландском, а позже – британском. Да и на личных тоже – достаточно вспомнить российских графов Шуваловых (кстати, именно благодаря этому гербу начальника оружейной канцелярии П. И. Шувалова в России шестнадцатого века за одним из типов пушек укрепилось название «единорог»). А поскольку единорога может приручить лишь чистая дева, христианская традиция прочно связала его с Девой Марией. Между прочим, в славянской мифологии единорог тоже был в свое время известен под именем Индрик-зверя, однако со временем как-то подзабылся, растворился, исчез – и из фольклора, и из литературной традиции, и из национального сознания… Рогу единорога приписывалось невероятное количество магических свойств, и потому он активно использовался в медицине, алхимии, магии – пострадали от этого главным образом киты-нарвалы, чей винтообразно скрученный бивень и выступал в этом качестве во все века…
Сегодня для нас с вами единорог – зверь, скорее, экзотический; на роман с таким названием мы набрасываемся как на диковинное лакомство. Для западного же читателя вынесенное в заглавие слово это сразу обозначает весь культурный фундамент, уходящий на три тысячи лет. А утончённый, рафинированный Питер Бигл уверенно чувствует себя, лишь стоя на таком надежном основании.
Правда, традицию он расцвечивает и собственным воображением – чего стоит хотя бы Красный Бык в «Последнем Единороге» (забавная параллель – отечественным читателям моего поколения сразу же приходит на ум Синий Бык из орловского «Альтиста Данилова», хотя меж ними никакой связи, разумеется, вовсе нет…). Главное же – Бигл окрашивает все свои картины то потаенной, то явной иронией, той самой, о которой говорил некогда Анатоль Франс: «В свидетели и судьи дайте людям иронию и сострадание». Бигл выполнил этот завет, и потому может выступать не только как полноправный свидетель (это привилегия всякого писателя), но и как судья своего века. Судья праведный, на чей приговор всегда можно уповать как на воплощение справедливости.
И по-моему, в наш век, когда едва ли не всё оборачивается своей противоположностью: вера в науку и прогресс – атомной бомбой и экологической катастрофой; вера в Бога – религиозными войнами и смертным приговором Салману Рушди; патриотизм – национализмом и шовинизмом – так вот, в такие времена писатели, подобные Питеру Сойеру Биглу нужнее всего. Их книги возвращают миру цельность, а душам – веру и надежду. Ибо им дано было познать мудрость и любовь.
* 1 *
Перевод Георгия Бена.
(обратно)* 2 *
Кадиш – еврейская поминальная молитва.
(обратно)* 3 *
Мировая скорбь (нем.)
(обратно)* 4 *
О Боже! (еврейск.).
(обратно)* 5 *
Будь здоров (еврейск.).
(обратно)* 6 *
Суетливая и надоедливая женщина (еврейск.).
(обратно)* 7 *
Новый год, который отмечается в сентябре (еврейск.).
(обратно)* 8 *
Всё понять – всё простить (франц.).
(обратно)* 9 *
Как рассказывается в Евангелии, на 30 сребренников, которые Иуда, раскаявшись, бросил в храме перед тем, как удавиться, была куплена земля горшечника, где устроили кладбище для странников, то есть людей нищих и бесприютных.
(обратно)* 10 *
Украшение.
(обратно)* 11 *
Кампос поёт по-испански, на своем родном языке. Немного спустя он перескажет содержание песни, так что перевода не требуется.
(обратно)* 12 *
«Кукла» (испанск.).
(обратно)* 13 *
Испанское ругательство (дерьмо).
(обратно)* 14 *
Бродяги (еврейск.).
(обратно)



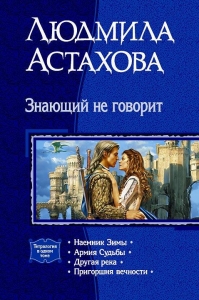
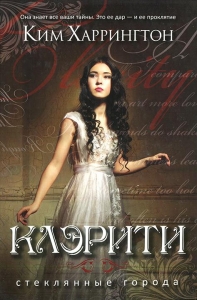
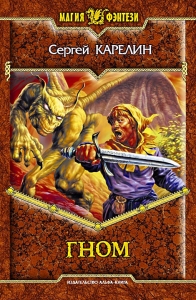

Комментарии к книге «Тихий уголок», Питер Сойер Бигл
Всего 0 комментариев