Азамат Козаев ЛЕДОБОЙ
Пролог
Рассветное солнце лениво куталось в молочную дымку, объявшую белый свет с востока до запада, а может быть, с полуночи до полудня – уж кому что ближе. Только-только истаяла сизая сумеречная пора, все сущее выше дальнокрая посерело, и лишь море осталось темно-синим, да почти черным. На носу ладьи впередсмотрящий на пределе сил трудил глаза, но простереть пытливый взгляд дальше нескольких шагов не удавалось.
– И то ладно, что тихо кругом, – шепнул кормщик бойцу в толстом бычьем доспехе, потемневшем от старости, пота и слитой крови, своей и чужой. – Ни парус хлопнет, ни весло хлюпнет. Скоро берег.
– То-то и оно, что скоро, – тем же шепотом отозвался бывалый воин. – Не нравится мне эта тишина. Нутром чую, не все ладно. Пустая лодка, что в море нашли – не просто так. И был бы привязной конец просто отвязан, так нет же – перерублен!
– Ты, Перегуж, как старый волчара, – беззвучно рассмеялся кормщик. – Нос да ухо кормят брюхо!
– Скажу иначе: тоньше нюхом – целее брюхом. – Перегуж назидательно воздел указательный палец. – Жаль, научить этому нельзя. Само с годами приходит.
«Берег». Впередсмотрящий сжал пальцы в кулак и поднял руку над головой – все немо, без слов. Перегуж сноровисто сбежал на нос ладьи и, перегнувшись через борт, вгляделся в мелкие пенные буруны. Берег здесь почти везде каменист и крут, но если повезет, поймаешь килем не острые валуны, а мелкие камни. Умерить бег ладьи веслами нельзя, тишина должна быть полной. На приливной волне корабль подходил к берегу, и только шелест бортов о прибрежную гальку могли себе позволить пришельцы. Ладья ощетинилась парой весел, что подобно рогам торчали справа и слева от головы морского змея на носу. Буде встанут на пути скальные стены – знай себе упирайся веслами, не давай разбить корабль.
Земля явилась из туманной дымки резко, будто отдернула покрывало-невидимку – даже «ох» не успеешь сказать. Завесу раздернуло набежавшим порывом ветра, и скалы разом взметнулись выше головы – мрачные, угловатые, острые. Повезло, небесным промыслом вошли в берега аккурат между двумя скальными выступами, не бросило корабль на каменные ножи, что торчали со дна моря. Как маслом мазаная, ладья скользнула в тихую заводь и, пропахав килем несколько шагов галечного берега, замерла.
Стрелки, державшие под прицелом скалы, медленно опустили луки. Пусто наверху, никто не ждет с недобрым умыслом. Подошли, действительно, тише мыши, ни одна собака и ухом не прянула. «Двое на берег, – жестами Перегуж отрядил дружинных в дозор. – Ты и ты. Один вправо, другой влево».
Парни стекли на берег бесшумные, как мед по стенке кувшина, и растворились в дырявом утреннем тумане. Оба унеслись вперед, туда, где кончалась галька, и начинались валуны, и скоро даже шороха под ногами слышно не стало. «Ждать, – приказал воевода и покосился на Ледка. – А ты ушки навостри, да ничего не пропусти».
Ледок молча кивнул и весь ушел в себя. Солнце уже высоко поднялось над дальнокраем, тот же сверкающий круг в молочном тумане, когда вострослух резко поднял руку. Стрелки дружно натянули луки и замерли в ожидании знака… но отпускать тетивы не пришлось. Почти одновременно, с небольшой разницей во времени, сначала один, потом другой, разведчики поднялись на борт.
– Тихо кругом. Можно говорить, – бросил Тяг.
– Что видел?
– Пуст берег. На пять перестрелов пуст. Ни одной живой души.
– На пристани был?
Тяг мрачно кивнул.
– Берегом подобрался – пусто. Ладьи нет. Вообще ничего нет.
– Ты что видел? – Перегуж повернулся к Извертеню.
– То же самое. Пуст берег по правую руку.
– Тихо, говорите, на пристани? – Воевода задумчиво огладил бороду. – Не нравится мне все это. Ох, не нравится! Снимаемся, парни! И чтобы трава под ногой не шорхнула! Даже дышать в полраза!..
Семьдесят дружинных сошли с корабля и тихо, молча растворились в тумане, необычно стойком в это время. А когда последний воин сошел с гальки и ступил на камни, даже подножный шорох перестал оживлять мертвенно-пустой берег.
– Может, на ладье ушли? – Тяг махнул в сторону причального мостка. – Потому и нет никого?
Дружина замерла неподалеку от пристани, в роще, откуда пытливому глазу в ясную погоду открывались узкий залив и невысокий холм с дружинной избой на вершине и прочими постройками, необходимыми для жизни, все, как водится, в кольце охранной стены. Сейчас же все затянула туманная завеса, и что там впереди, оставалось только гадать.
– Нет, – Перегуж покачал головой. – Хоть один да остался бы. Извертень!
– Туточки!
– В крепости бывал?
– Как не бывал! Разок довелось!
– Ровно молния метнись туда и обратно… Да, погоди ты, еще не все сказал! Нюхом, нюхом ведись! Знак подашь огненной стрелой. Ушел!
Извертень, беззаботно посвистывая, встал на тропу, а когда вышел из рощи на открытое, сменил шаг на рысь и, точно призрак, нырнул в туман.
– Поднялся на холм… подошел к стене… двинулся вокруг… встал перед воротами… – выдерживая нужное время, Перегуж озвучивал то, что происходило впереди, как будто видел сквозь мглистую завесу. Дружинные в лесу дышать перестали, даже через раз, как упреждал воевода.
Дозорного не было какое-то время – не много, не мало, а когда из тумана вылетела стрела с трепетным огненным «флажком» на древке и вонзилась в землю перед самой рощей, дружинные от недобрых предчувствий зубами заскрипели. Это значило только одно – путь свободен, но что предстояло увидеть в крепости?
– Быстро Извертень обернулся…
– Уж больно все там подозрительно…
– Пошли! – Воевода оборвал пересуды и потащил из ножен меч. – Смотреть в оба! И вперед, и взад, и в стороны!
Короткими перебежками, качая «пьяного», мореходы быстро «съели» открытое пространство, и пока бежали, чувствовали себя в поле неуютно. Будто овощи на блюде, хоть и туманно. Крепость отстояла далеко, из-за дымки видно было не ахти, но человека, выходящего из-за стены, разглядеть смогли – и даже то, что ноги тот передвигает еле-еле, а голову и вовсе на грудь повесил. Извертень остановился, поднял руки и несколько раз махнул крест-накрест. Потом бессильно привалился спиной к стене.
– Вроде цел, – пробормотал Тяг.
– Цел-то цел, – усмехнулся Моряй. – Но лица на нем нет.
– Ну, что там? Нашел кого?
– Нашел. Всех. – Извертень кивнул и сам белее белого повел дружину вокруг стены.
Сделав несколько шагов, пришельцы в изумлении остановились. Ворота безжалостно проломлены, но запаха гари нет. Ничто не горело, но людей не слышно. Дружина замерла, а Перегуж потянул носом.
– Кровищей пахнет, – буркнул воевода и первым нырнул внутрь…
Люди Перегужа мрачно ходили по крепости и вполголоса матерились. Не выжил никто. Вся застава полегла, как один. Парни лежали, где кого застала гибель – у двери дружинной избы, у амбара, у овина. От крови, щедро слитой наземь, солонил воздух, там и сям на утоптанной земле чернели подсохшие озерца. И вороны… Крикливая стая черноголовых, ругая живых почем зря на своем птичьем языке, неохотно покидала трупы.
– Ты гляди, обожрался так, даже взлететь не может, – сквозь зубы процедил Ледок и, не целясь, навзлет пригвоздил ворона стрелой к земле.
Дружинные как будто с цепи сорвались – остервенело похватав луки, избивали ненасытное воронье, пока тулы не опустели. Даже Перегуж не удержался и, стиснув зубы, подстрелил стервятника на лету.
– Ну все, уймитесь, парни! Уймитесь, я сказал! – Громогласный рев воеводы остудил горячие головы. – Зло избыли, и ладно. За дело! Рядяша, Неслухи, готовьте погребальные костры, Ледок, Извертень, сочтите всех до единого! Стрелы собрать! Моряй и ты, Щелк, держитесь подле меня. И никого не трогать!
Мореходы занялись делом, постепенно приходя в себя. Рядяша, братья Неслухи и еще с десяток бойцов, похватав секиры, отправились в рощу за дровьем – к закату все должно быть готово. Перегуж, Моряй и Щелк ушли на пристань, и там воевода внимательно оглядел берег.
– Что думаете, соратнички?
– А что тут думать? – развел руками Моряй. – Оттниры. Больше некому.
– Без сопливых скользко, – бросил Перегуж. – Дело говори! Что надумал?
– Мыслю так: три ладьи утром подошли к заставе, – подал голос Щелк. – Шли тихо, на приливной волне. Совсем как мы.
– Поясни, – усмехнулся Перегуж.
– Туман. – Щелк задрал голову. – Второй день висит. Оттниры тоже не дураками по морю ходят, не хуже нас знают: пал туман – иди тихо. Пройдешь дальше.
– Хорошо, врасплох не застали. – Моряй стиснул рукоять меча. – Судя по телам, аккурат вчера все и случилось.
– Пристали здесь. – Воевода взошел на дощатый настил и опустился на корточки у привязного столба. – Тремя ладьями пришли, ушли на четырех. Оттнирам также в сече досталось, и кровищи расплескали изрядно. Видите кровяные дорожки? Их четыре, потому что, ладей было четыре: три своих, одна – заставная. И на каждую внесли порубленных.
– Значит, стояли один-втрое… – Моряй оглянулся на крепость. – А заставную ладью, стало быть, в поводу увели, как осиротевшую собаку.
– Не бросать же добро. – Перегуж поднялся и двинулся обратно. – Мыслю, на пристани больше делать нечего. Айда назад. Там поглядим.
Крепостные ворота оттниры вынесли к такой-то матери тараном, что валялся рядом, словно почивший исполин. Как таковых, двустворчатых ворот на заставе не было вовсе. Сделанная наподобие волокового окна, массивная створка из цельных древесных стволов сколь могла долго сдерживала находников, но, в конце концов, сдалась, как сдается все под напором ярости и остервенелой злобы. Никакие петли не выдержали бы столь значительного веса, а если нашлись бы такие петли, закрывать ворота пришлось половиной дружины. Поэтому у ворот постоянно находилась пара тяжеловесных жеребцов, запряженных как для пахоты, только волокли не плуг и не борону, а огромную створку на колесах.
– Стрелами положили немало полуночников. – Моряй на ходу оглядел подъем к воротам. Там и сям жухлая осенняя трава пестрела бурыми пятнами. – Жаль, подъем не больно крут. Иначе таран вообще не подняли бы.
– Положили немало, а еще больше осталось, – буркнул Перегуж. – За щитами оттниры прятались, не иначе. А таран волокли на колесах, как телегу. Вон и станина, откатилась, у подножия холма стоит.
– Перед воротами много крови слилось. – Щелк присел у большого темного пятна в самом створе. – Лоб в лоб сошлись.
– Дыра невелика, ударили раз пять-шесть, не больше. – Воевода, примерившись, встал в пролом. Несколько бревен страшной силой вынесло из общего ряда, и, сломленные посредине, они половинчато щерились острыми сколами в сторону заставы. – Двое в ряд, не больше. Двое с этой стороны, двое с той.
– Потом еще двое, – процедил Моряй. – И еще двое. Человек десять-пятнадцать полегло у ворот. А внутри крепости совсем нет стрел!
– Вот они продавили. – Перегуж спрыгнул наземь и мрачно огляделся. – Хлынули внутрь, растеклись по заставе. Семеро наших парней полегло справа от ворот, двенадцать – слева. А стрел нет потому, что был туман. Туманище. Своих бы не подстрелить.
– Тощий Пес. Я знавал его. Несколько раз видел в Сторожище. – Щелк склонился над бойцом, на котором не осталось живого места. – Одна, две, три, четыре… Поймал четыре меча и три ножа.
– Глотка. – Моряй склонился еще над одним телом. – Семь ран. Пять мечей и два ножа.
– Чужаков не видно. Уходя, трупы забрали с собой. – Перегуж огляделся. – Ни одного не забыли. Хотя кровищи… как будто зарезали стадо быков.
– Да так и было, – хмуро бросил Моряй. – Бычье забили.
Подошел Барсук.
– Сосчитали всех. Пятьдесят два бойца, девять баб… – Дружинный замялся. – Трое мальцов.
– Никого не пощадили! – Моряй зло сплюнул.
Перегуж со Щелком переглянулись.
– А где двое последних, пятьдесят третий и пятьдесят четвертый?
Барсук пожал плечами.
– Не знаю. Если нет среди мертвых, значит, куда-то забились. Померли в какой-нибудь пыльной дыре.
– Ищите, – приказал воевода и жестом отпустил Барсука.
– Много парней полегло у дружинной избы и там… – Щелк показал на дальний конец заставы, где стену подпирала приступка, весьма похожая на лестницу.
– С дружинной избой понятно – там прятались бабы и дети, заставные стояли насмерть, – скривился Перегуж. – А у той стены…
– Дружина прикрывала гонца, или гонцов, что должны были уйти за стену и добраться до ладейки, – подхватил Моряй.
– Те самые пятьдесят третий и пятьдесят четвертый. За мной!
Дровье сносили во двор крепости. С наступлением темноты заполыхают погребальные костры, и пятьдесят два воина, девять жен и трое отроков навсегда обретут успокоение. Тела пока не трогали – воевода не велел, – лишь молча проходили мимо и скрипели зубами от бессильной злобы. Приступка, с которой гонец или гонцы должны были высигнуть за стену, скорее молнии унестись в рощу, а там, запутав след, уплыть в рыбацкой ладейке на большую землю, представляла собой настоящее поле брани. Семнадцать человек лежало у нижней ступени, и сколько на этом же месте должно было покоиться оттниров, Перегужу и остальным приходилось только догадываться.
– Гляди, полуночный меч. – Из-под горы тел за самый кончик рукояти Щелк потянул выщербленный клинок. – Весь в зазубринах…
– За стену! – Мельком оглядев меч, воевода первым поднялся по ступеням, а за ним, обходя убитых, поднялись Моряй и Щелк.
– Когда порубили заставных, оттниры припустили следом за гонцами, – спрыгнув со стены, Перегуж показал на вытоптанную площадь под самой стеной. – Человек двадцать.
Щелк мрачно присвистнул и покачал головой. Нет, гонцы не имели никакой возможности выжить. Наверняка раненные в схватке внутри крепости, они слабели с каждым шагом, а сзади, по горячим следам бежала свора распаленных кровью полуночников. Двадцать свирепых мореходов – это не шутка даже для свежих бойцов.
– Они уходили этой дорогой, – кивнул воевода под ноги. – А за ними неслась бешеная стая. И, сдается мне…
– Что?
– Оттниров тоже порубили за здорово живешь. Широко кровищей расплескались, очень широко. Слишком широко для двух гонцов. Уходим дальше!
Следопыты спустились по склону холма, пошли по низинке и, почти не глядя под ноги, уверенно двинулись к лесу. Ломать глаза, даже в клочковатом тумане, вовсе не приходилось: измятая трава и широкий кровяной след правдиво рассказывали все, что знали.
– Тут кто-то из находников споткнулся и лежал довольно долго. – Перегуж показал на кровяное пятно, значительно большее, чем все виденное раньше за стеной. – Оттого и натекло изрядно.
– Но поднялся и побежал дальше. – Щелк закусил ус. – Живуч, с-собака!
Вошли в лес. Листвяной навес уполовинил и без того скудный свет, поэтому пришлось кланяться в пояс, чтобы разглядеть под ногами следы. А через сотню шагов ждала первая неожиданность, если за таковую не считать полностью истребленную заставу – под корягой, в яме от вывороченного древесного ствола обнаружилось тело находника без малейших признаков жизни – от уха до уха на шее зиял разверстый зев.
– Чистая работа! – С довольством в голосе Перегуж обозрел рану. – Аккурат поверх доспеха.
– И готов поставить на кон собственную голову, этот труп не последний, – усмехнулся Щелк.
– Даже спорить не буду! – Моряй первым подхватился и унесся дальше по следам.
Через полсотни шагов нашли еще двоих. Вместо правого глаза одного из них чернела запекшаяся дыра, как раз по форме мечного лезвия, голову второго страшным ударом раскроило надвое – шлем валялся рядом, а со лба на затылок через самую макушку пролегла тонкая трещина в потеках высохшей крови.
– Ай, красавцы, – зацокал от восторга старый воевода. – Ай, молодцы! Знал Волочек, кого отряжать в гонцы!
– Все равно не успели бы доплыть, – покачал головой Моряй. – Виданное ли дело – рыбацкой ладейке тягаться с большой ладьей?
– Может быть, гонцы и опоздают. – Перегуж огладил бороду. – Но кто-то должен остаться в живых и сказать, как все было. Не-ет, что ни говори, гонец нужен всегда. Глядите… туда, за дерево! Мне кажется, или на самом деле что-то лежит?
В несколько прыжков перемахнули древесный завал, и за большой корабельной сосной следопыты потрясенные замерли – у дерева, привалясь к стволу, сидел мертвый оттнир и пустыми глазами таращился в полутемную чащу. Горла просто не было, разнесенное в ошметки, оно черными кусками висело на жилах и сухожилиях, как будто медведь когтистой лапой снес гортань к такой-то матери.
Какое-то время все трое молчали, переглядываясь друг с другом. Перегуж заговорил первым, разочарованно кривясь.
– Не-ет, все-таки один гонец ушел из крепости в лес. Вторым и не пахнет. И, похоже, отчаюга не поверил, что победа осталась за оттнирами. Ишь, лютует.
– Гляди, а руку вытер о рожу, – мрачно усмехнулся Моряй. – Вон, пятерня чернеет!
Пятипалый след, смачно залепивший мертвому оттниру лицо, как смертельная печать хищно распростерся по лбу, носу и бороде.
– Знал бы, кто он такой – в ножки поклонился. – Перегуж внимательно осмотрел тело. – Тут еще и в пузе дыра! Парень бьет и в бровь, и в глаз! На авось не полагается!
Моряй и Щелк переглянулись. Не иначе гонец посчитал своим долгом получить с оттниров сполна за порубленную заставу. Только где искать его самого?
– Не стоять, парни, не стоять! – рявкнул Перегуж, устремляясь дальше. – Голову ниже, глаза шире и нюхать, нюхать землю!
Оттнира, что умер, свернувшись комочком, они нашли через сотню шагов, на небольшой полянке. Распрямили с трудом – тот успел закоченеть и схватиться, – а, положив труп на спину, потрясенные долго молчали. Ожидать от измотанного воина того, что предстало глазам, не посмел бы никто – у неведомого гонца хватило сил и умения вскрыть брюхо полуночника от ребра до ребра. Тот и умер, пытаясь зажать дыру и не дать требухе вывалиться. Страшный разрез лег поперек бычьего доспеха, точнехонько под накладными пластинами.
– Становится горячее. – Перегуж оглядел лес, приложив руку к глазам. – Это который, четвертый?
– Пятый! – поправил Моряй. – Убирает по-одному. Режет, как заблудшую скотину.
– Скотина и есть. Сколько раз говорено – бычье должно стоять в хлеву!
– А в лесу быков режут волки, – усмехнулся Щелк. – Заметили, кругом заворачиваемся?
– Без сопливых скользко. – Старый воевода улыбнулся в бороду. – Он их растягивал и бил поодиночке. Ну же, вперед! Лес еще долог, ох, как долог! Еще бежать и бежать!
Двое. Лежат друг против друга. Убиты просто и без затей, в каждом всего по одной ране, но смертельной – первый убит точным ударом меча, отчего сердце разнесло надвое, жизнь из второго утекла через сквозную дыру: меч вошел в рот и вышел из затылка. Не помогли оттнирам кожаный доспех и кованый шлем.
– Шесть и семь, – на бегу прохрипел Моряй. Останавливаться не стали. – Будет кого бросить парням в ноги на погребальном костре!
– Кто говорил, что чудес не бывает? – отозвался Щелк. – По-моему, нашего гонца очень любят боги!
– По крайней мере, один из них! – Перегуж, бежавший первым, резко остановился и распростер руки. – Стоять! А этот долго полз. Вон вся земля кровищей изгваздана!
Широкий кровавый след вел куда-то в бурелом, как будто раненый тщился заползти поглубже и там отсидеться, невидимый и неслышный. Оттнир прополз под павшим стволом… там его Щелк и нашел.
– Ну, что? – Моряй и Перегуж в бурелом не полезли.
– Мертвее некуда! – Щелк вылез из укромного убежища, отряхнулся. – Жилу на шее разрубил. Оттнир умирал долго, пока кровь не вытекла. Ее там целое озеро – гляди, вот перепачкался.
– Одного не пойму, почему их зверье не потратило? – Моряй искоса взглянул на воеводу. – Заставных воронье поклевало, волки наведались, а этих…
– Сам гадаю, – помрачнел Перегуж. – Был бы ты волком, чего сторонился?
– Огня, медвежьего следа, кабаньей тропы…
– Всамделишный волчара не глупее нас с тобой, – усмехнулся воевода. – Чует опасность, потому и не лезет.
– Какая опасность от мертвяков?
– А сам отчего за меч уцепился, не оторвешь? Ведь кругом только трупы! И глаза круглые, как у совы!
– Жутковато.
– То, что жутковато, зверье раньше нас с тобой учуяло. Той жути, что вместе с кровью по лесу разлита, и боятся. Кстати, ты оттниров считаешь? Это который?
– Восьмой.
– Ох, чую, девятый недалеко. Бего-о-ом!
Девятый пренебрег доспехом, и неведомый заставный боец его просто-напросто вскрыл, как раковину, поперек груди. Нашли в кустах, справа от тропы. Десятого гонец прирезал со спины, под лопаткой остался торчать нож с рукоятью из бивня моржа.
– Его собственный. – Щелк вынул нож из раны и вложил в ножны, что висели на поясе оттнира.
– Обошел со спины, вырвал нож из ножен и уложил одним ударом. – Перегуж внимательно осмотрел траву вокруг. – А ведь наш ухарь тоже ранен! Вот глядите, подкрался с этой стороны, из-за дерева, выждал какое-то время, неслышно скользнул в самое подбрюшье и прирезал! А на стволе, пока таился, оставил свою кровь!
Пошли невысокие каменистые холмы. Одиннадцатого нашли внизу, под крутым обрывом, откуда тот никак не мог выбраться сам. Так и помер на камнях – со сломанной шеей долго не живут. Двенадцатый лежал на тропе шагах в двадцати, сжимая в руке окровавленный меч.
– Ох, не поберегся ты, парень! – покачал головой старый воевода. – Достал-таки оттнир! Меч в крови.
– Может быть, не его кровь? Вся застава кровищей изошла!
– Его, – мрачно бросил Перегуж. – Лезвием кусок рубахи вырвал, видишь, там на кончике? Было бы дело в крепости, от беготни по лесу клочок давно слетел бы.
– А ведь счет быкам пошел на второй десяток! – бросил Моряй и усмехнулся.
– Я уже ничему не удивлюсь. – Щелк присел на валежину. – А все же угадал Волочек с гонцом!
– У старого было чутье на таких. – Перегуж вытер испарину со лба. – Пусть ему сладко пируется в чертогах Ратника.
– Я не очень хорошо знал заставную дружину… – Моряй напрягся в потугах припоминания. – Знал несколько человек, но и только. Кто бы это мог быть?
Щелк пожал плечами. Пересекаться с заставными не приходилось. Видел нескольких в Сторожище, кое-с-кем водил шапочное знакомство, но тем дело и ограничилось.
– Я знал побольше вашего, но тоже не всех, – вздохнул Перегуж. – Гадать можно бесконечно. Солнце в полдень входит, а дел еще немеряно. Встали! К тринадцатому!..
Далеко за полдень, почти в самых сумерках нашли девятнадцатого и последнего. Лица на нем просто не осталось, пониже шлема застыла кровавая каша, ни губы, ни нос больше не просматривались. Полуночник застыл в нелепой позе у прибрежных камней – вытянул руку, будто тщился что-то ухватить слабеющими пальцами, – и от места схватки к морю тянулся теперь лишь один кровавый след. Бурая полоса обрывалась в прибрежных камнях, на гальке угадывался волок, словно к морю тащили ладейку… и все. Море не хранит следов. Давно растаяла пенная дорожка за рыбацкой ладейкой, а кровь, оброненная неведомым гонцом, давно смешалась с морской солью. Перегуж, Щелк и Моряй лишь переглянулись.
– Сдается мне, он еще появится. – воевода подкрутил ус.
– Станет обидно, если море не отдаст его земле. – Щелк прищурился, словно мог углядеть в туманной завесе черную точку. – Чарку-другую с ним я бы с удовольствием раздавил.
– Что теперь? – нахмурился Моряй.
– Война, – вздохнул Перегуж. – Будет война. Отсюда почти равно далеко до нас, до млечей и до соловеев. Куда ударят полуночники… не знаю. Нас не было восемь дней, вот сойдем дома на берег и попадем как кур в ощип – глядь, а в Сторожище уже оттниры хозяйничают. Не угадаешь. Посему закончим тут и тихонько двинемся восвояси. И вроде все ясно, большая беда стучит в ворота, а беспокойно мне от сущей мелочи.
– Какой? – в один голос вопросили Щелк с Моряем.
– Где пятьдесят четвертый?..
Часть 1 ИЗГОЙ
Глава 1 Сторожище
– Ну-ка в сторону сдай! Ишь, раззявился!
Седой и тощий мужик, по всему видно чужак, на окрик резко обернулся. Уличную толпу, словно ладья волну, резал надвое здоровенный детина с необъятной бочкой на плечах. Крикнул да впритирку прошел. Не рассчитал, а может быть, нарочно пихнул. Бочка – эвон какая! Тяжелехонька, полнехонька, жилы из человека тянет, свет белый застит. Вот и не углядел, толкнул самую малость. Седому да худому и того хватило. Слетел с ног наземь, растянулся на дороге, приняла его серая пыль, будто мягкая перина. А здоровяк лишь крякнул, подбросил бочку на спине, принял поудобнее и прочь зашагал. Дела торговые спешки не любят и к праздности не льнут. Голь перекатная, упал – поднимется, выпачкался – отряхнется. Ему пыль дорожная – стол, постель, подруга. Упал, пыль поцеловал – как с родней повидался.
Седой медленно поднялся, искоса выглянул в спину здоровяку с бочкой на покатых плечах и усмехнулся. Отряхнул пыль с невышитой рубахи, выбил волосы, стер с лица грязь.
– Ах, нечисть, ах, поганец! – залопотал кто-то за спиной. – И ведь не впервой ему так: человека – в грязь, девку – за подол, что плохо лежит – за пазуху! Вот ведь поганец, ой, поганец!
Собиралась толпа зевак, и впереди выступал убогонький, пьяный старик, что смешно качал кудлатой головой на худющей шейке. Тряс нечесаными космами и лучезарно улыбался.
– То Еська Комель озорует. Здоров бочки таскать, что я пиво дармовое хлестать. Жаден так же, как велик… Сам таскает, лишь бы другим не платить.
Седой исподлобья окатил толпу холодным взглядом и молча отвернулся. Дескать, все обошлось, люди добрые. Толпа разочарованно загудела. Эка невидаль, пылью человека угостили, ни драки тебе, ни разбитых носов. Убогонький пьянчужка, нимало не смущаясь, обошел седого, встал спереди и уставился тому в лицо. А что, интересно ведь! И вовсе чужак не стар. Сед – не отнять, однако не стар. Борода еще догорает рыжиной, но тлеет из последних сил. Лет еще пяток и подернется пеплом вся. Редкие, но глубокие морщины пробороздили лицо, будто трещины иссохшую землю. Глаза печальны, а что пожил, что жизни нахлебался – и так видать. Седой поднял с земли скатку, небольшой мешок, и последним отнял у дороги меч.
На людской гомон, как пчелы на сладкое, уже спешила стража. Где шум да брань – там княжий человек, зорко оком водит, бранящихся разводит. Здрав Молостевич по прозвищу Брань, к началу не успел, однако и за спинами не ворон считал. Едва углядел меч в хозяйстве чужака, мигом вперед протиснулся. Даром что чужак на вид невзрачен – знающему человеку только разок взглянуть. Навидался таких на всю оставшуюся жизнь. Княжьим повелением всякому стороннему клинку, будь то меч или сабля, место определено в ножнах. Впрочем, иному умельцу запрет вовсе не помеха. Один с мечом – как мачеха и падчерица, другой и простым топорищем чудеса творит. Аж земля горит под ногами.
– Двинь-кось! – Здрав растолкал зевак и, широко расставив ноги, встал перед чужаком. – Ну-ка, Сивый, дай сюда меч. Глядеть буду.
Чужак, не мигая, морозил десятника глазами избела-небесного цвета и медлил.
– Давай, давай! – Брань требовательно затряс рукой. – Всяк своим делом занят. Мое дело печать проверить, твое дело – меч отдать! Есть печать – гуляй ветер, если нет – взыщется с тебя. И не говори, что про указ не слыхал!
Сивый отвел глаза и, глядя куда-то в сторону, неохотно отдал меч. Здрав оглядел клинок со всех сторон. Вроде все на месте. Рукоять приторочена к ножнам не одним – двумя ремешками, ремешки увязаны не двумя – аж тремя узлами, не одна – две восковые печати ало полыхали на ремешках, и на обеих соколиная лапа хищно топорщила когти.
Брань окинул чужака с ног до головы цепким взглядом и знобливо поежился. Глядит Сивый, будто вымораживает, глаз холоден, не улыбнется, не отшутится, стоит себе и стоит. Молчит.
– Пожалел дурня? Скрепился?
Чужак даже не улыбнулся.
– Молод еще. Поседеет – перебесится.
– Если доживет до седин. Кто таков? Как звать?
Кто как звал, а чужие так и звали – «Сивый» или «Безродный». А на правду что ж обижаться?
– Безрод я.
Зеваки внимали молча, как один раскрыв рот. Думали, седому повезло, жив остался, не разметал костей по большаку, а дядька Здрав дело вон как обернул! Выходит – уберегли боги Еську-дурня?
– Гляжу, меч при тебе, стало быть, не землю пашешь. Чей человек?
Чей? Теперь ничей. Погиб Волочек-воевода, сложили головы сотоварищи. Один-одинешенек и остался. Даже смерти безродный оказался не нужен. Около родовитых такой – будто постный щавелевый пирог рядом с жареной олениной.
– Ничей. Сам по себе.
Брань узнающе прищурился и хитро оскалился.
– Врешь, поганец! Узнал я тебя! Волочков ты человек со Скалистого острова, с чернолесской заставы! Бывал я в тех краях три года назад! Видел тебя мельком. Видел мельком, а запомнил на всю жизнь!
– Был Волочков, теперь сам по себе, – буркнул Безрод.
– А надолго к нам?
– День-два – и нет меня.
Любопытный пьянчуга с козлиной бороденкой слушал так внимательно, что и не заметил, как оттоптал Здраву ноги, мостясь поближе.
– А ну вон отсюда, лень праздная! Ишь, рты раззявили! – рявкнул Брань, обращаясь к толпе. – У каждого забот – возок с верхом, так нет же, давай сплетни собирать да ухо гладить!
– Здравушка, миленький, а дальше что? Кого правым сделаешь, кто виноватым уйдет? Страсть как интересно!
Здрав, усмехнулся, оглядел толпу и, заговорщицки подмигнув, назидательно изрек:
– Дам слово заветное. Слушать внимательно, да на ус мотать!
– Уже мотаю! – Любопытный пьянчуга подался вперед и подставил ухо.
– А слово заветное вам такое будет: «Не лезь на рожон, целее будешь!»
– Ну-у-у! – восхищенно протянул «козлиная бороденка».
– Подковы гну! Вон отсюда! – Здрав беззлобно оскалился.
Проныра сделал вид, будто уходит. Дал круг за спинами и вылез меж зевак с другой стороны.
– А ты, Волочкович, ступай за мной. Тут недалеко, даже пыль поднять не успеем.
– Меч отдай. – Сивый окатил стражника стылым взглядом и спокойно протянул руку.
– Держи. Не пойман – не вор.
За неимением пояса и перевязи меч ни сбоку подвесить, ни за спину приладить. Так и зажал Безрод меч в руке. Невышитая рубаха полоскалась на ветру, в одной руке меч, в другой – скатка.
Здрав прошагал мимо двора кончанского старшины, княжий терем остался и вовсе в другой стороне, и толпа зевак в недоумении зароптала. Суд за уличные беспорядки могли учинить князь, голова городской стражи и старшина. Князя беспокоить – уж больно дело мелкое, голова стражи – еще туда-сюда, а вот кончанский старшина для такого случая самый подходящий судья. Но Брань рассудил по-своему. У корчмы Еськи-дуралея весь ход остановился, и Здрав сделал Безроду знак следовать за собой. У ворот корчмы остался второй стражник, молодой румяный парень, и зеваки стали расходиться. Не ушел только убогонький пьянчужка «козлиная борода». Все тянул тонкую шейку, выглядывал что-то в полутьме корчмы и косился на стража у дверей. Наконец не выдержал, собрался с духом и скользнул-таки в щелку между стражем и дверью. Тут-то его Будык и прижал коленом к косяку.
– Помощников только не хватало! Думаешь без тебя, Тычок, не разберутся?
– Я тут это… а вот желаю бражки выпить! – заявил пригвожденный к доскам Тычок. – Хочу!
– Да уж хватит. – Будык отпрянул, и корчемный завсегдатай осел наземь. – С утра плещешься. Домой иди. Все тетке Жичихе расскажу, бражник.
Тычок отошел, почесывая затылок. Толпа, утратив последнюю надежду, окончательно разошлась. Интересно, чем дело кончится, да ждать уж больно долго. Утром и так все станет известно. Тычок – он уж точно до конца выстоит…
Здрав за локоток поймал пробегавшую мимо девку из обслуги, спросил, где хозяин. Кивнул Безроду и пошел первым. Еська Комель правил плетень во дворе. Заслышал шаги, оглянулся, нахмурился. Узнал.
– Я вот любопытствую… – Брань грубо развернул Комеля к себе. – Во что день свой ценишь?
– День? – Корчмарь поскреб загривок. – Ну-у, бочка меду от Сиваня, бочка квасу, пяток поросят, мера пшена, мера гречи…
– А догляд?
– И догляд.
– Стало быть, золотом рубля два. – Брань, прищурив один глаз, смерил Безрода с ног до головы. – Множь всемеро. Да, пожалуй, и еще вдвое.
– С чего бы это? Не понимаю, дядька Здрав!
– Молод еще, потому и не понимаешь! Не встал бы ты раньше. Горюшко, оно ведь споро, сбудешь да не скоро.
Комель вдохнул, да так и остался с грудью, распертой, словно бочка. Дошло. Поскреб загривок.
– Да чудно как-то! Старик стариком, да и меч заперт… – вздохнул Комель, недоверчиво оглядев Безрода.
– Зенки не выкатывай! И смотри, Еська, доиграешься! По кромке ходишь, нынче мало за край не сверзился. Не этот – другой покалечит. Да и я за шум взыщу. По миру пойдешь, если жив останешься. Смекнул выгоду, бестолочь? Вот и выходит, что должок на тебе.
– Ка-какой должок? – Еська побледнел.
– А такой! Две седмицы поишь сивого, кормишь, кровом оделяешь. И тебе не в убыток, и мне спокойнее. – Брань хитро покосился на молчащего Безрода. – Ох, Еська, с огнем играешь! И не говори, что не слышал! А будешь из себя дурачка строить, не досчитаемся тебя однажды. Слезами изойдем горючими, погребем под ивами плакучими! Чего молчишь, как истукан? Понял?
– Чего ж не понять? Слава богам, не дурак! – Еська бросил на Безрода недобрый взгляд.
– То-то! И без шуточек тут у меня! Не вздумай Сивого цеплять! А то найдут тебя однажды калечного да увечного! А я скажу, что ничего не знаю.
Комель мрачно кивнул.
– Две, говоришь?
– Две, – кивнул Брань, уходя. – И не дури.
– Уже день долой! – крикнул корчмарь.
– Ты, Еська, шустер, как меч остер! – Здрав, не останавливаясь, покачал головой. – Да так и быть!
– Откуда же вы такие беретесь? – Едва стражник ушел, Комель глыбой навис над новым постояльцем и зашипел тому прямо в лицо. – Как придет напасть, хоть вовсе пропасть!
Уж как Еська не стращал… Сивый с места не отшагнул. И вовсе он не стар, как поначалу казалось. И морщины у него не морщины – четкие, будто ножом резаные. А и впрямь больше на шрамы похожи, что взбугрились там, где у простых людей морщины ложатся – «гусиные лапки» у глаз, три борозды на лбу, две убежали от носа в бороду.
– Не блажи. – Голос горе-постояльца оказался не слабее Комелева. Только не грохотал, как гром, а свистящей змейкой в ухо вползал. – Сдуйся.
Еська мгновение колебался и отошел. Провел Безрода на самый верх, под крышу, в каморку, где только метлы ночевали да ведра. Но тепло и сухо.
– Вот и спи в тоске, на голой доске, – Комель показал пальцем на угол, свободный от утвари. – Стол положу раненько утром, да поздно вечером, как закроюсь.
И ушел, сотрясая корчму смехом. А Безрод положил на пустую бочку меч, скатку, усмехаясь, огляделся. Выбрал метлу поновее и прошелся ею по своему углу. Потом бросил скатку в изголовье, меч уложил рядом с собой, задул плошку с жиром, что принес Еська, и лег.
Утром встал чуть свет. На бочке, стенах, на полу осел иней, а ворочался всю ночь, будто на углях спал! Несколько раз просыпался от жажды, шептал в кромешную темень: пить, пить… А подать-то и некому!
Безрод спустился вниз. Девки-кухарки только-только печь разводили. Сами сонные, опухшие с недосыпу, глаза трут, зевают, волосы дыбом стоят. Вышел на улицу. Еще не светло вокруг – серо, все видно как в тумане. Серое море слилось с таким же серым небом, и пришлось долго искать тонкую линию дальнокрая. Но если гонит вперед дело, самое важное в жизни, и дальнокрай найдешь, и выше головы прыгнешь.
Ладейщики на берегу уже сновали туда-сюда. Вот у кого сна ни в одном глазу! Не зевают, не чешут затылки, будто и вовсе не ложились. На пристани Безрод огляделся. Ладей – тьмы тьмущие! Иные грузятся, иные разгружаются. Туда-сюда по хлипким мосткам ходят грузчики. Выступают неспешно, каждому шажку цену знают. Тут спешка не в чести.
– Эй, парень, чего косишься? Сглазишь!
Безрод обернулся на голос. Этот купчина мог с закрытыми глазами говорить «парень» любому.
– Ты хозяин? – Безрод кивнул на ладью перед собой.
– По делу или язык почесать?
– Дело у меня.
Старик, крепкий, словно дуб, зычно крикнул, приложив руки ко рту:
– Ми-и-ил! Ми-и-ил!
Над бортом одной из ладей, красавицы с расписными боками, выросла соломенная голова.
– Чего-о-о?
– Через плечо, сволота! Больно медленно грузимся!
– Управимся-я-я!
Безрод огляделся. Все кричат. Купцы одергивают приказчиков, те – грузчиков, пристань, надрываясь, гомонит, будто птичий двор.
Старик, ставший от крика малиновым, спадал с лица.
– Ну, говори свое дело.
– Куда идешь и когда?
– То моя печаль.
– Возьми с собой.
Старик внимательно оглядел битого сединой неподпоясанного парня в одной невышитой рубахе. Разгулялся полуночный ветрище, хлопает рубаха, будто знамя, а сивый и глазом не ведет. Даже глядеть на него зябко – старик поглубже запахнулся в волчью верховку, а сивый стоит, будто сам жаром пышет.
– Куда тебе?
– В Торжище Великое.
Купец оглядел Безрода с ног до головы. Не хлипок, не велик, а лишь к веслу бы привык.
– Может, и возьму гребцом.
Безрод ухмыльнулся. Уж какая тут гребля, когда раны еще не зажили! Под рубахой места живого нет, весь холстиной перевязан. Возьмись только за весло, кровища потечет, как из резаной курицы. Да делать нечего.
– Приучен.
– Платы не возьму. На весле пойдешь.
На весле, так на весле! Торговаться нет времени.
– Через два дня ухожу. Пойдешь на этой ладье. – Старик махнул на ладью с расписными боками, где погрузкой заведовал приказчик Мил, что обещал успеть ко времени.
– Звать-то как? – Безрод усмехнулся.
– Дубиня.
Как есть Дубиня. Крепок, будто кряжистый вековой дуб. А Дубиня еще долго смотрел вослед новому гребцу. Чем-то по нраву пришелся старику этот неподпоясанный худощавый парень, прижимавший к груди меч. Неровно стрижен, должно быть, сам волосы режет. Деньги бережет, что ли? Ремня нет, рубаха штопана-перештопана, сам тощий, будто жердь. А глаз холодом леденит. И зачем ему в Торжище Великое? На купца похож так же, как сокол на курицу. Родня там, что ли?
– Эй, Дубиня, никак сынок сыскался? Эк его жизнь перевернула!
Пристань грянула таким хохотом, что проснуться должен был весь город. Дубиня побагровел, заозирался кругом, схватил ближайший булыжник, но пристань вмиг обезлюдела. Только равнодушные ко всему грузчики ходят по мосткам, а смех несется не пойми откуда. Смех есть, людей нет.
– Тьфу, пустобрехи! – досадно крякнул Дубиня, роняя камень. – Ладно, голос-то я запомнил. Вот пристрою камень в зубы, то-то смеху будет! Пузо бы не надорвать!
Безрод заканчивал с миской каши, когда ленивое корчемное утро подстегнули взволнованные крики кухарок:
– Идут, идут! Побитые соловейские рати идут! Уже в город вошли! Что ж теперь будет?
Ясно, что будет. Игры кончились. По всему видать, к драке дело идет, да такой, что потом не всякий ворон от сытого пуза взлетит. Безрод усмехнулся, спокойно доел кашу, хлебцем подобрал последние крупинки. Спустился на кухню, отдал миску девке-посудомойке. Получил солнечную улыбку, хотел было улыбнуться в ответ, да передумал. Не показано ему улыбаться. Шрамы так лицо кривят, что у милой девки не то что улыбаться – жить охота отпадет. Повернулся спиной, как бирюк бессловесный, и прочь зашагал к себе в каморку.
А по ступенькам Еськиной корчмы едва не кубарем один за другим скатывались постояльцы, заспанные, полураздетые. На ходу запахивались, терли глаза и бежали на площадь перед главными воротами, через которые входили в город остатки соловейской дружины. И, не прижмись Безрод к стене, невысокий, круглобокий купчина напрочь снес бы с ног. Растоптал и не заметил. Сивый лишь бросил холодно вослед:
– Порты упали. Загремишь.
Купчина так и замер с поднятой ногой – видать, сердце в пятки ушло. Опустил глаза вниз, опомнился и что-то буркнул про «шваль беспоясую». Безрод и ухом не повел.
Больно скоро все случается. Уже и соловейское войско разгромлено. Не сегодня-завтра сюда беда придет. Хорошо бы успел Дубиня снарядить ладью. И если удастся уйти в означенный срок, это будет настоящая удача. Только не стал бы купец откладывать. Того и гляди, вздумает подождать осенних медов, последних перед холодами, да с медами и отправится в Торжище Великое. Дурак не станет купцом, а кто из купцов по своей воле упустит выгоду? Нет, кажется, не успеть. Ладья грузится медленно, до сих пор зерно на пристань свозят, каждая пара рук на счету. А каждая ли? Безрод оглядел собственные крепкие ладони и усмехнулся. Есть еще пара рук, пока не пристроенных к делу под мешки и бочата. Можно, можно ускорить отъезд…
Сивый шел на пристань, и выходило так, что пройти мимо красных ворот все равно придется. Еще недавно площадь перед главными городскими воротами походила на муравейник – горожане с испугом глазели, как через Стрелецкую башню в город втягивалась пощипанная соловейская рать. Кто сам шел, кого на телеге везли. Долго шли или нет, слава всем богам, вскоре перед воротами опустело. Не целый же день бездельника праздновать! Уже и солнце в полдень вошло, и если бы не острый, звериный слух Безрода…
Будто стонет кто-то. И даже не стонет, а с присвистом громко дышит. Сивый мгновенно подобрался, поднял глаза с земли. Площадь как площадь. Редкий люд спешит по своим делам. Низина около площади прячется в липах и бузине. И как бы не из липовой посадки доносится стон. За деревьями да кустами ничего не разглядеть. Безрод рванул вперед, благо слепой увидит, куда идти. Трава примята, кровищи расплескалось – море, кусты продавлены. Сивый влетел в самое сердце посадки. Лежит. Молод еще, доспех изорван, да так яро, что крепкая воловья кожа толщиной с ладонь топорщится ошметками. Шлема и вовсе нет, голова тряпьем перевязана. Должно быть, шел боец последним, обессилел, повело назад и оступился. Один миг – и нет человека. Скрылся за бузиной, исчез. А в таком гомоне, грохоте телег, да лязге доспеха разве кто услышит, что человек стонет? Безрод пристроил меч в заросли, скатку бросил туда же.
– Бестолочь! Если так железом порвали, только на телеге и ехать! Нет же! Мы молодые да сильные, от нас не убудет!
Парень оказался здоров, что бычок, и так же тяжел. Безрод просунул руки под тело, задрал бороду в небеса, что-то истово прошептал и одним рывком вздернул соловея на руки. Ничего, что тяжел, руки не отсохнут! А если жив останется, с самого ремней настругать бы за безрассудное ухарство! С кем же, интересно, схватился молодец? Так порвать бычачий доспех – силища нужна дикая! Безрод сделал первый шаг. Тяжко! Ничего, подтолкнут боги в спину. Парень, видать, не последний в сече был, такому грех не помочь.
– Потерпи, дружище, – шептал Сивый. – Нам бы только до княжьего терема дойти!
Открылись наспех залатанные собственные раны. Безрод, обливаясь потом и кровью, кусая губы, выступил из-за лип. Редкие прохожие спешат по делам, по сторонам не глядят. И, как назло, ни одного стражника!
Вот ведь чутье у старого – поблизости оказался давешний пьянчужка с козлиной бородой. Безрод с натугой улыбнулся старому знакомцу и пошел быстро, как мог, благо искать дорогу не пришлось – прошедшее воинство оставила весьма заметный след. Справа и слева, откуда ни возьмись, как по волшебству выросли зеваки.
– Молчать! – рявкнул Безрод.
Тишина как воздух нужна. Перестанет здоровяк сопеть, только одно и останется – положить наземь и самому сделать все, что нужно. Толпа послушно умолкла. И уже не поймешь, чья кровь на земле остается – то ли спасенного, то ли спасителя.
Вот и терем. Сивый от души заехал сапогом в дубовые ворота с коваными полосами – аж гул пошел по всей округе. Стража переполошилась, загремела засовами. Слава богам, попался кто-то глазастый, в окошко углядел, что к чему, – мигом разнесли дубовые ставни на две половины, и Безрод, едва не падая, ступил на двор. Зеваки внутрь не пошли, остались у ворот.
– Быстрее! Куда нести, бестолочи!
– Сюда неси! – На пороге амбара появился средних лет дружинный, дверь держал широко распахнутой, глаза метали искры. – Живее!
Безрод не заставил себя упрашивать – мигом взлетел по ступеням и осторожно внес раненого в проем. Таки умудрился протиснуться с ношей на руках.
– Туда, – воитель, должно быть, воевода, показал в дальний угол.
Весь амбар заполнили остатки побитой рати, яблоку негде упасть, только-только внесли. Волоковые оконца распахнули настежь, дабы запах гниющих ран и крови не застаивался. Однако на всех порубленных ворожцов не хватало. Безрод положил найденыша на свободное место, огляделся. Все старики заняты, у каждого на руках страждущий. Ругаются, кривятся, скрипят зубами. Всего в шаге стоит громадный ворожец, бормочет наговор над стонущим соловеем, да все равно не жилец парень на этом свете. У такого грех лекаря отнять. Сивый оглянулся на воеводу. «Не знаю!» – мрачно скривился тот. Была не была! Безрод ухватился за посеченный доспех, там, где было разрезано (с ремешками возиться – только время терять), напрягся – да и располовинил.
У воеводы аж глаза полезли на лоб.
– Меч и тряпки!
Тот мигом протянул свой меч, подозвал кого-то из дружинных, одним рывком сдернул с него рубаху и разорвал на полосы.
Рубаха, пущенная на перевязку с молодого, да полного сил, оздоравливает крепче. В мече обретается дух бога Ратника – у кого же еще просить помощи для раненного? Безрод обернул меч полотнищем и зашептал:
– Бог могуч, с неба солнца луч, удальца освети, не давай увести в смерти чертог, дай пожить чуток… – приговаривал и поглаживал лезвие полотнищем.
Вот старые знахари от дел оторвутся да намылят холку за ворожбу! Верно говорят, наглости боги не дают, люди сами воруют. Ворожить под носом у мудрых стариков – не щепотку наглости украл, а телегу с возом!
– …Силой напитай, здравить помогай, меч-душа, чудно хороша, Ратника сестрица, помогай от смерти отбиться, молви брату слово, оживай парень снова! – Сдернул с меча полотно и бросил конец полосы на рану. Воевода, стоя в дверях, сдерживал любопытных.
– Света! Света дай! – прошипел Безрод.
Седобородый воевода развернулся к парням и мало не пинками согнал с крыльца.
Показалось – или на самом деле в избу проник солнечный луч? Самый старый ворожец, тот, что стоял ближе всех, открыл глаза и, не переставая отчитывать раненого, косился на Безрода. И не прочтешь по глазам, зол старик или нет. Просто косится, и, знай себе, наговор шепчет. Сивый перевязал найденца, приложил ухо к груди, прислушался. Вроде бьется, вроде дышит парень. Посмотрел на ворожца. Тот еле заметно кивнул. Безрод засобирался встать и… не смог. Сил не осталось. Хоть сам рядом ложись. Шумит в голове. С третьей попытки встал, поднял воеводин меч, еле переступая, пошел на свет. Облокотился о пристенок, зажмурился на солнце и протянул меч вперед. Кто-то тяжелый взошел на порожек и осторожно взял клинок.
– Жив?
– Жив. – Безрод открыл глаза.
Стоят кругом дружинные, насупились, будто съесть хотят. Безрод ухмыльнулся. Кому надо, тот и съест. Вот выйдут ворожцы, да раскатают наглеца по косточкам. А эти бестолочи пусть пялятся. Денег за погляд не берут. А брал бы – озолотился. Безрод отлепился от пристенка, качаясь, пошел вперед. Молодцы стояли стеной и расступаться не думали. Враз углядели, что нет на чужаке пояса ни воинского, ни ворожского, и хоть бы гашник захудалый опоясал сивого. Даже бывалые вои не всякий раз ворожат самовольно – накличешь беду, – а тут вы только посмотрите… Много чести неподпоясанному самозванцу дорогу давать! Еще бестолочами обозвал! Не дуб, корни не пущены, обойдет. Безрод и обошел бы, просто сил не осталось на лишний шаг. Воевода выручил. Рявкнул:
– Раздайся! Раздайся, кому говорю!
Раздались. Неохотно, правда, но дорогу на ворота открыли. Катись, мол, восвояси. И только было доковылял до середины двора, услышал шум за спиной. Кто-то окликнул: «Стой, Сивый!» Безрод остановился. Замер. Никак, спохватились? Старики решили за ворожбу без разрешения смертным боем бить? Плевать, что старики! Ворожцы получат по шее, будто простые скотники. Видал того старого ворожца в избе. Ручищи – словно бычьи ляжки, наверное, древесные корни голыми руками рвет. Такому холку начесать милое дело. Безрод повернулся к амбару, и усмешка сама собой застыла на губах.
В шаге от двери двое здоровяков под руки держали воеводу, чей меч помог отобрать умирающего у Костлявой. Тот не мог стоять сам и без преувеличений висел на своих парнях. А на крыльце, прислонившись к косяку, мало-помалу сползал наземь давешний могучий ворожец, и голова его бессильно болталась по груди.
Глава 2 Приговор
– Хорошо, не отобрал всю жизнь! – громогласно буркнул здоровенный ворожец, спуская ноги с ложа. Слава богам, отлежался! Его и воеводу под руки проводили в опочивальню, сюда же по знаку верховного ворожца втолкнули и Безрода. – Еще немного – и рядом легли бы три трупа! Ты, я и Перегуж!
– Ведь не легли же.
– Уж не знаю, кого благодарить! Я старец немощный, на меня только дунь!
– Ладно прибедняться! Здоров, как бык, а все туда же! За старость прячешься.
– Ты хоть понимаешь, что произошло?
– А чего тут понимать? – буркнул Безрод, поднимаясь на ноги с лавки. – Я не пустил парня в небесную дружину Ратника. Рановато ему пока.
– Не знаю, кто тебя учил, но ты едва не перешел грань! Да, ты забрал силу из меча Перегужа, но погляди теперь на воеводу! Меня едва не упокоил, да почитай все ворожцы в амбаре головной болью маются! А ведь не мальчишки сопливые – на этом деле поседели!
Сивый глядел исподлобья и молчал. Только-только начал шевелиться бессознательный Перегуж. Что сделано – то сделано. Иначе было нельзя. Верховный в упор глядел на Безрода и лишь головой качал.
– Самого где порубили?
– Пчелы покусали.
– Брось трепаться. Мигом язык узлом свяжу!
– С тебя станется, – усмехнулся Сивый и покосился на огромные руки старика.
Мало-помалу пришел в себя Перегуж. Кряхтя, сел на ложе, сбросил ноги вниз и только охнул, когда под ладонь лег давешний меч.
– Ох, парень, до сих пор не пойму, что это было. – Перегуж проморгался и огладил ножны. – Едва взял после тебя меч в руки, чую – холодом пальцы леденит. И перед глазами завертелось, ровно перепил.
– Ясное дело. – Ворожец многозначительно посмотрел на Безрода. – Сивый из меча силу вытянул, меч – из тебя. Чуть не обескровил клинок.
– Ладно, что все обошлось. – Перегуж пошевелил пальцами ног, повел плечами, покрутил шеей. Захрустело. – Парень жив остался. Нам теперь каждый боец на вес золота.
– Не уверен, что обошлось. – Ворожец выглядывал в окно, и на лицо мало-помалу сходила тень, как на ясное небо перед грозой. – Княжий терем гудит – ровно пчелиный рой. Твоя ворожба мимо не прошла, даже князь почуял.
– Ты гляди, – буркнул Безрод. – Ворожец на ворожце, ворожцом погоняет. Князь тоже из ваших?
Старик отвернулся от окна, какое-то время пристально разглядывал Безрода и, наконец, коротко бросил:
– В свое время узнаешь. Подойди, плечо дай.
– Да не дави ты, уже по колени в землю вогнал! Полегче!
– Не кряхти. Веди.
– Куда?
– На Кудыкину гору!
Вышли из избы и, повинуясь указкам старика, Безрод подвел ворожца ко входу в терем, помог подняться. А дальше только и оставалось, что мрачно кусать губу – старик, не спрашивая дозволения, ногами распахивал двери, а дружинные только прятали улыбки в бороды.
– Полегче, Стюжень, дверь только навесили. После тебя месяца не провисела!
Стюжень пнул сапогом последнюю дверь и едва не снес ее с петель. Князь о чем-то спорил с воеводами. Разгневался, покраснел. Безрод прикусил губу: тьфу ты, из огня да в полымя! Самое время на светлы очи вставать! Князь нынче зол, страшен, попадешься под горячую руку – быть беде. И ведь глядит с неприязнью, ровно сто лет знались и весь век враждовали. Сивый, не мигая, буравил князя стылыми глазами.
– Здоров ли, Стюжень? Больно бледен.
– А с чего румяным быть? До сих пор в ушах звенит. Только что поднялся.
– Ты кто таков, что ворожишь без спросу и с людьми не чинишься?
Князь вроде и словом не обидел, а все равно будто кулаком от души приложился.
– Кто я таков, про то сам знаю, да тебе не скажу, – буркнул Безрод, глядя исподлобья. Невзлюбил князь – и ладно. Не больно-то нужно.
Князь мгновенно сузил глаза, в них недобро заблистали гневные огни.
– В яму захотел? Не можешь язык укротить – сядешь в яму! Не с кем-нибудь говоришь – с князем! Спрашиваю – отвечай!
– Чего не сажал, того не жни, чего не давал, назад не проси. – Сивый мрачно выглядывал из-под бровей, сведенных в нить.
Стюжень все так же висел на плече Безрода, покряхтывал. Шумело в голове. Князя от злобы аж перекосило. Так стиснул поручень скамьи, что едва в щепы не смял затейливую резьбу. Держала Безрода на этом свете сущая малость – спасенная только что жизнь молодого соловея.
– Уговаривать не стану. Больно дерзок. Захочу узнать – мигом язык развяжу. Еще не вяжут языки теми узлами, что развязать нельзя.
– Крови жаждешь? – еле слышно прошелестел Безрод. Стюженевы пальцы на плече сжались, едва кости не смололи. – Скоро вдоволь напьешься.
– Что? – зашипел князь.
– Враг на пороге, – процедил Безрод. – Рот не перепачкай!
– С кем говоришь, безрод!
Ишь ты. Обидеть решил, безродом назвал. Смех один.
– Мне клыки не показывай. Ты – им князь. – Безрод кивнул в сторону воевод и дружинных. – А по мне – так просто боярин. И не всякому боярину голову склоню.
Князь аж зубами заскрипел, от злости побелел, а вои, дай им волю, изрубили бы дерзкого в ошметки. Но князь есть князь – взвился на ноги, вскинул голову и, не глядя на Безрода, процедил сквозь зубы:
– П-п-падалью смердит! Отворите окна!
Из палаты, вслед за князем, вышли все. Остались только Стюжень и Безрод. Старик не мог уйти сам.
– Присел бы. – Сивый подвел старого ворожца к скамье.
– Смел ты, парень, да так, что не пойму, смел или просто дерзок. Вроде и любить тебя не за что, а все равно благодарю. А еще за ворожбой ущучу – прибью насмерть. Падешь наземь, больше не поднимешься. Всякому кулику свое болото. Маши мечом, а в дела ворожские носа не кажи!
– А почем знаешь, что не ворожец я? Может, зря ругаешься.
– Зря не бьют бобря. Я воителя с закрытыми глазами распознаю. А что пояса на тебе нет, так мне это не помеха. Иди. А будешь ворожить – прибью.
Безрод вышел, а Стюжень еще долго смотрел сивому вослед. Странный парень. Ему ведомо слово, ему покорился дух меча, ему помогли боги, но ведь не было в округе ворожца такой силы! Не было! Уж он, старый Стюжень, знал бы.
Безрод вышел за ворота, в зарослях бузины подобрал меч, скатку, добрел до корчмы, по стеночке доковылял до каморки – да и рухнул на пол замертво.
Утром встал тяжело, а встав, зашатался. Словно полсебя отдал вчерашнему найденцу. Еле-еле пахнет рассветом. Солнце ворочается лениво, да вставать не спешит, день еще не начался, а ноги уже не держат. Безрод осторожно сошел вниз. На востоке лишь только-только начало заряниться, город зябко кутался в сырую ночную тишину, и даже собака лишний раз не сбрехнет в такую-то рань. Так же было в то злополучное утро на заставе две седмицы назад: тихо, туманно и промозгло сыро.
Только-только стало румяниться небо, а грузчики уже взялись за бочки и мешки. Время и самому под бочку встать. Быстрее погрузится Дубиня, быстрее уйдет. Не сегодня-завтра полуночники закроют губу.
– Здоров ли, Дубиня?
– Жаловаться нечего. Чего пришел?
– Помочь хочу. Раньше погрузимся, раньше уйдем.
– Никак узнал что-то худое? Оттниры близко?
– Ближе некуда.
– Не беда! Мы – бояны! Отобьемся! Чего кривишься?
– Вроде и пожил на свете, а нос дерешь, будто дите малое.
– Потому и нет мне от девок отбоя. То-то сам ворчишь, будто старик древний.
– Больно много оттниров. И злы они. На вот, схорони. – Безрод протянул купцу меч и скатку.
Сам подошел к бочатам на берегу, взгромоздил на плечи один и медленно, но верно, будто настоящий грузчик, пошел к сходням. Дубиня только крякнул.
Безрод много где побывал, ходил и под ветром, и на веслах, но не представлял себе, что трюмы купеческих ладей так ненасытны. Носишь, носишь, а она все просит и просит! Еще и еще! Воистину ненасытная утроба – снаружи меньше, чем внутри. И хорошо бы с таким трюмом убраться отсюда пораньше. Если случай-шутник сведет в узкой губе Дубинины ладьи и полуночные граппры, ничего хорошего из этого не выйдет. С таким-то пузом далеко не убежишь. И отбиться не отобьешься. Разменяешь себя на троих-четверых, сложишь голову, и сделает тебе ручкой счастье-марево, багровое зарево. А какое оно, счастье? С рыжим волосом или ржаным? Статна или круглобока? Эх, пустое все! Дураком жил, дураком и помереть!
Бочка рассадила шею, расковыряла рану. На многих бочках потом найдут кровавые следы. Почешут затылки и покачают головой. Дескать, до чего грузчик бестолковый попался, всю шеяку себе до крови сбил.
Грузчики разошлись полдничать. Звали с собой. Но Безрод лишь рукой махнул. Не хотелось есть. Ушел на самый конец пристани, в лесок, чтобы никого не видеть и самого никто не видел. Прилег под березой, подложил скатку под голову и задремал. Знал – долго не проспит. Как выйдет из-за листвы блеклое осеннее солнце, пощекочет нос, так и вставать пора. И снова под бочку или под мешок. Хорошо, рубаха красная, крови не видно. Пусть думают, будто взопрел. С умыслом красную взял, как раз для такого случая.
Обратно шел не спеша. И не поймешь – то ли отдохнул, то ли еще больше устал. Так, серединка на половинку. Сон видел. Сколько себя помнил, всегда был при дружине. Ходить начал при дружине, первый раз упал – при дружине, первые портки справил – опять же при дружине. Перешила тогда воеводина жена мужнины штаны, и бегал в них отроком, и спать в них ложился. Меч при дружине взял…
Подходя к пристани, Безрод отвлекся. Страшный шум спугнул сладкие дремы. Стоят люди, кричат, руками машут. Так раскраснелись, того и гляди – каждого удар хватит. Безрод протиснулся ближе. Стоит полуночный купец, прижат к углу сарая, бороду ощетинил, рукава засучил, никого не подпускает, рычит, будто пес на цепи. Подойди к такому! Кулачищи – с хлебный каравай. Кто-то уже потянулся за дубьем.
– Чего натворил?
– А чужое за свое принял. – Какой-то купчина, не оборачиваясь, прошипел за спину. – Его товар стоял рядом с товаром Зигзи. Вот и повадились его люди втихомолку Зигзевы бочата к нему в ладью таскать! У-ух, погань оттнирская!
– А если грузчики начудили? Перепутали?
– Не-е-е! Как пить дать, воровство задумал! Знает, что свои близко, вот и тянет руки к чужому!
Купцы перекипели и с криками ринулись вперед. Кто с кулаками, кто с колом, но скорее всех в угол влетел Безрод. Толпа будто расплескалась о седого да худого в багровой рубахе. Сивый поискал взглядом Дубиню. Не нашел. Отлегло от сердца. Хватило ума у старого, не ввязался в свару. Настоящим делом занят.
– Что удумали, купцы? Если виноват, волоки в терем!
– Уйди, парень! Добром просим. Быть беде!
Безрод обвел глазами толпу. Нет, не дойдет дело до князя, купцы уже все для себя решили. Овиноватили. Может быть, полуночный купец на самом деле виновен, но где же тогда сам Зигзя? Отчего молчит? Кто из разъяренных купцов Зигзя?
– Чего же толпой? Никак перепугались одного полуночника? Пусть один на один выйдут.
– Не то говоришь, парень. Не в свое дело встрял. Уйди, добром просим…
Вчера встрял не в свое дело. Сегодня, завтра… Так и жизнь пройдет.
– Дверь видишь? – бросил Безрод за спину полуночнику.
– Где?
– Слева.
– Да.
– Туда ныряй.
– Но…
– Ж-живо! – Сивый прыгнул вперед и обрушил кулак на дубье, что держал кто-то из купцов. Раздался треск, толпа отпрянула, будто от огня.
Оттнир воспользовался заминкой, подался влево, толкнул дверь амбара и мышью юркнул в темень.
Обозленный купчина бросил обломки жерди и разъярился пуще прежнего. Голь перекатная! Не подпоясана! Стращать вздумал! Не в свое дело суется!.. Стиснул пальцы в кулаки и первым обрушился на Безрода. Сивый только ухмыльнулся, встал перед дверью в амбар, ссутулился.
Озверевшие купцы тешились, пока не взопрели, били, пока кулаки не рассадили. За частоколом рук Безрода видно не стало. В амбаре, куда юркнул полуночный купец, что-то гремело, грохотало, падало, наконец, дверь отворилась, и на белый свет с огромным колуном над головой выскочил оттнир. Уставшие битейщики отхлынули, будто волна, огонь злобы в глазах погас. Выдохлись, остыли. На пятачке перед дверью остались только Сивый и полуночник, с топором наперевес. Безрод стоял, стоял да и рухнул на колени. Держал руки на теле, раскачивался, что-то шептал и ронял кровь наземь.
– Откушай боянских кулаков, полуночный лазутчик!
– Пошли. И так сдохнет!
– Может, и не того побили, а душу отвели!
Плюнув, купцы разошлись. Оттнир бросил колун, глянул туда-сюда, поддел Безрода под руки и вздернул стоймя. Подвел к поленнице, усадил на колоду, прислонил к стенке дров. Безрод хрипел, стонал, что-то шептал. Полуночник присел.
– Не отвечать… – шептал Безрод. – Только не бить.
– О, боги, могучий Тнир, храбрый Ульстунн, что же с тобой делать? Куда ни тронь – там отбито. Так свело болью, что и не разогнуть. А начну разгибать – от боли помрешь…
– Помоги встать, – еле слышно прошептал Безрод, но купец услышал.
Осторожно помог встать.
– Распрямляй.
– Помрешь.
– Д-давай!
Полуночник прижал Безрода спиной к своей груди, обнял за плечи, начал осторожно разводить. Сивый глухо стонал, крошил зубы, кусал губы и только под конец захрипел.
– Ну вот, слава всем богам! Нашли! – Из-за угла выметнулись Дубиня и стражники за его спиной во главе со Здравом.
Зеваки стайкой вились поодаль – мальчишки и взрослые бездельники, коих на любой пристани всегда пруд пруди. И впереди всех выступал давешний знакомец с кудлатыми вихрами, тонкой шейкой и козлиной бороденкой. Оттнир напрягся, но Безрода не отпустил.
– Дыши ровно, полуночник. Ошибка вышла. Бочки свои у Терпеня заказывал?
– Ну.
– Подковы гну! То-то и оно, что Зигзя тоже! И сам Терпень собственные бочата не различит! Нарочно не придумаешь – бочки одинаковые купили, и даже ладьями вы пососедились. Рядышком стоят, борт к борту! Грузчики виноваты, хотя виноватее всех Терпень.
Безрод плохо видел и слышал. Стоят какие-то люди, что-то спрашивают.
– Эге, парень еле дышит! Да посади ты его, что ли! – Брань в сердцах рявкнул полуночному купцу.
– Не отвечать… – превозмогая забытье, шептал Сивый. – Только не бить…
Что? Брань прислушался.
– Не отвечать… Не би-и-ить…
Здрав дышать забыл. Не отвечать? Не бить? Опять, стало быть, сдержался? Скрепился? А если бы разозлился Безрод, распустил руки? Уж Сивый точно знает, как спровадить человека на тот свет. У Здрава глаз на такие дела наметан, кроме того – на заставах других не держат. Стражника прошиб холодный пот. Вот смеху будет, если не сегодня-завтра Безрод и полуночный купец выйдут на пристань требовать платы по долгу! У всех по одному! Будет ли купцам так же весело?
– Ну, ты, парень, даешь! Уж так получается, что княжью честь пуще меня бережешь.
– Кому честь, а кому бы ноги снесть! – прошептал Безрод и ухмыльнулся разбитыми губами.
Брань услышал, но промолчал.
– А ведь по миру купчин пустят! Что один, что другой! – Здрав повернулся к Дубине.
Тот засмеялся.
– По мне, так пусть я один и останусь!
– Хитер, старый бобер!
– Не старый. Просто живу долго. А безвинного сроду не бил.
– Отведи меня к морю, – шепнул Безрод.
– К морю хочет, – мрачно буркнул Здрав и выпрямился.
– Я помогу. – Полуночный купец осторожно поставил Безрода на ноги.
– И то ладно. Мне же в терем дорога. – Брань кивнул своим стражникам. – Ступайте за мной, сонные тетери!
Оттнир и Безрод шли к морю через всю пристань. На купцов даже не глядели. А захотели бы взглянуть – ни одной пары глаз не нашли. Все под брови попрятались. Купцы чесали затылки, ломали шапки в руках да прикидывали отступные. Ничего хорошего не выходило, хотя… не сегодня-завтра оттниры нагрянут, а там еще с полуночника взыщут. А то и весь товар отберут, если сбежать не успеет.
Кое-как доковыляли до берега, и Безрод без сил опустился на гальку.
– Чего полез, дурень? Зашибить ведь могли! – Купец присел рядом.
– Так ведь и зашибли.
– Насмерть, говорю.
– Пустое… – Безрод устало ухмыльнулся.
– А чего сам не бил?
Сивый промолчал.
– Странная штука жизнь, в сыновья мне годишься, а нынче ты мне заместо родителя. Жизнь подарил.
– Ни отца у меня, ни матери, и какого роду-племени – не знаю. – Безрод усмехнулся, покосился на купца. – А может быть, полуночник я.
Купец задумался, прикусил ус.
– А годков тебе, парень, сколько?
– Тридцать с лишком.
Полуночник недоверчиво покосился. Ишь ты, тридцать с лишком! Уже седой совсем! Почесал затылок.
– Сосед у меня есть. Белый Авнюр. Что-то около твоих лет тому назад и пропал у него сынок.
Безрод улыбнулся разбитыми губами.
– Пустое. Ты-то кто будешь?
– Люндаллен я.
– Уходи, Люндаллен, отсюда. Нынче же ночью. Не тяни. Знал ведь, к чему дело катится, чего приехал?
– Я торговый гость. Мне…
– Говорить тяжко, язык не ворочается. Не заставляй повторять. Не сегодня-завтра ваши нагрянут. Первым ляжешь, на тебе наши оторвутся. Убьют, и как звать не спросят.
Купец нахмурился.
– Бросай все. Что успел – то унес. Один?
– С доченькой.
– Увози… – Безрод закашлялся, его переломило пополам, застучало о берег побитым телом. – Увози… Сейчас же…
– На островах будешь, заходи. На Тумире меня всякая собака знает. – Люндаллен наклонился, неловко обнял Безрода, поцеловал в макушку, будто отец сына, и зашагал прочь.
Безрод подполз к морю. Больше не к кому за лаской идти. Раздеться сил не осталось, так и вполз в воду одетым. Вот-вот зальет всего тошнотой, слова станет не вымолвить. Пусть ласкает море синяки и ссадины. Сегодня мало не убили, завтра и вовсе под горку закатают. Уж так на пристани ударить хотелось, в глазах потемнело. Но стиснул зубы и скрепился. Чуть не забыл обо всем на свете. Купчишки в раж вошли, разъярились, думали – страшно седому, от боли ревет. Дурачье! На чернолесской заставе, бывало, загонял Волочек пяток бойцов поздоровее в избу, давал к темноте привыкнуть и запускал остальных по одному, без доспеха. Один доспех – рубаха на ребрах. Там-то похлеще было. То не купцы гладили, то вои били, каждый быка наземь валил. Ничего, выходил заживо. Поначалу воевода чару кваса не успевал допить, выкидывали из избы полудохлого. А как пошел счет на три чары – Волочек первый раз в сечу допустил. Крутился тогда в избе, как уж на противне. Насколько будешь скор, настолько и жив.
Как добрался до корчмы, и сам не помнил. К себе в каморку поднялся, а дальше – туман.
– …А ты не гляди, что худ! В нем костей на целый пуд.
Безрод открыл глаза. Стоят Брань и давешний ворожец, глядят внимательно. Стюжень поднес руку ко лбу, и такое блаженство затопило гудящую голову, будто уже помер, от земных болей освободился. Вдохнуть не успел, как обратно в сон провалился, только сон чистый и легкий, без мути в груди и шума в голове…
Долго проспал или нет, сам не знал. Открыл глаза, а Стюжень еще тут. Один. Брань, видать, службу дальше понес. Привел ворожца, ус покрутил и ушел.
– Я в гости не звал.
– Ну, до чего хозяин грозен! И суров, и сердит, аж бровями шевелит! Лучше?
– Лучше, – буркнул Сивый и попробовал встать.
Старик не мешал.
– Ты ведь Волочков человек?
– Был. Чего надо?
Безрод встал ни легко, ни тяжело.
– Князь к себе зовет.
– Своих пусть зовет. Не пойду.
– Боишься?
– Ага, языка своего боюсь. Бед не натворил бы.
– Отвада хочет узнать про то, что на чернолесской заставе приключилось. Почему выжил только ты, почему не открылся, почему шастаешь без пояса. – Старик сел на бочку. – Что нынче на пристани случилось?
Нынче? Так день еще не кончился?
– Нельзя мне в терем. Князь больно сердит. Невзлюбил меня почему-то. Нет, не пойду.
– А тот парень белобрысый, которого ты притащил, на поправку пошел. Гремляш зовут. Ты ему навроде отца теперь. Зайди, проведай.
Чудно! Был один, словно дуб в чистом поле, теперь что ни день сынок находится! Полуночный купец Люндаллен, теперь вот Гремляш.
– Ты еще корчмаря Еську мне в сыновья сосватай. Нет, не пойду в терем. Больно сердит князь.
– Да уж. Зол Отвада. Отпираться не стану.
– А чего сердится?
– Полуночники обложили. Война будет. Сам знаешь.
– И тут я со своим языком. Кровопийцей обозвал. – Безрод нахмурился.
– Не сердись, просто тревожно мне.
– С чего бы?
– Чую перемены страшные. С князем что-то дурное делается. Не тот стал, как вернулся из чужедальних краев. Переменился, будто кем иным перекинулся. Зол стал сверх разумного. Никогда раньше к ворожбе не был склонен, а последнее время чует ровно волк – овцу.
– А дружинные что же? Не замечают?
– Так разве углядишь, если любишь? Дружинным разреши – по земле ступить не дадут, на щите носить станут.
– Ты-то заметил.
– Я старый. Мне Отвада будто сын. Люблю, люблю, а и в душу гляжу.
Стюжень ждал вопроса, но Безрод молчал, как воды в рот набрал. Ворожец не дождался и начал сам.
– Весь город князя любит, потому и не видит. И даже если увидят люди, многое простят. Ты другое дело. Тебе любовь глаза не застит, приглядись к Отваде. Сынок, приглядись, очень тебя прошу.
Безрод нахмурился пуще прежнего.
– Уйду. Через день-два уйду. Некогда мне на князе прыщи выискивать.
Стюжень тяжело поднялся с бочки, прошел к выходу, в дверях оглянулся. Занял собою весь проем, огромный, лохматый, седогривый.
– Ты один волком зыркаешь на князя, тебе одному умильная слеза взор не туманит. Приглядись. Знаю, свидитесь еще.
Сивый угрюмо проводил старика взглядом. Каждому своя дорога, ему в Торжище Великое, князю – тут оставаться. Все, хватит! Где-то ждет счастье, дождаться не может…
Безрод спустился во двор, присел у поленницы и сидел до первых звезд на чистом небе. Корчемные выпивохи уже разошлись, постояльцы разбрелись подушки давить. Девка с кухни прибежала, повечерять принесла.
– Молочко только-толькошнее. Сама доила.
Корова у Еськи однорогая, бодливая, смекалистая. От такой молочка попей, разумнее многих двуногих станешь.
– Кхе-кхе, здоров ли, Безродушка?
Сивый оглянулся. Вы только гляньте! Старый знакомец в гости пожаловал! Переминается с ноги на ногу, пазуха чем-то оттопырена, улыбка хитрющая. Добрый старик, беззащитный.
– Никак питье принес. – Безрод кивнул на оттопыренное пузо гостя. – Ты кто ж будешь, добрая душа? Видимся часто, да вот беда – не знакомы.
– Да Тычок, несчитанных годов мужичок.
– Скажите, пожалуйста!
– Ага! – Тычок смешно тряхнул кудлатой головой. – Айда?
И заговорщицки кивнул на самый верх корчмы, где располагалась каморка Безрода.
Сивый усмехнулся, поднялся с колоды, отнес пустую миску на кухню, и вдвоем со стариком они поднялись в каморку под крышей.
– Иди, иди, – прошипел Еська, невидимый в тени поленницы. – Лети, ясный сокол, крылья не обломай.
Заморское вино Тычок просто-напросто стащил. Купец на пристани зазевался, а юркий старик тут как тут. Будто из-под земли вырос. Еще вчера приходил, но никто ему, разумеется, не открыл. Стучал, стучал, да все без толку. А еще пахло из каморки кровью и болью. С тем и вернулся восвояси.
– А что, и боль пахнет? – Безрод закусывал вино сухой хлебной коркой.
– Еще как! – Егозливый старик истово закачал головой. – Как зачнут коровку забивать, меня аж мутит. Так болью пахнет, что еле ноги уношу. Будет сеча неподалеку – и вовсе протяну.
– Поди, все в городе знаешь?
– Нос человеку для того и даден, чтобы совать его куда ни попадя. Жичиха говорит, мол, прищемят однажды.
– А ты?
– А я спрашиваю, однажды – это когда? Вчера – знаю, сегодня – знаю, завтра – и то знаю, а однажды – это когда?
Безрод усмехнулся.
– Небось, ни один выезд не пропустил?
– Выезд княжьей дружины – это святое! Куда ж без меня? Меня князь в лицо знает! Вот летом ехал из чужедальних земель, проезжал мимо, улыбнулся, рублик бросил.
– Пропил на радостях?
– Чего ж радоваться? Улыбается князь, а боль такую везет, что я чуть оземь не грянулся. Потерять сына – хорошего мало. Как еще княжить сил остается.
– Сына?
– Ага. Полег в сече с урсбюннами. Отвада будто тень стал. Затворился в тереме, носа не кажет. А ведь раньше многих молодых переплясывал. Первый в сече, первый в плясках. А нынче душой ослаб. Подкосила его сыновняя гибель. Боюсь, как бы злой дух в душу не проник.
Безрод усмехнулся, призадумался. Может быть, и проник. Уже. Злой дух ждет слабую душу, подстерегает и впивается, лишь пробьет в ней горе брешь. В эту брешь и выдувает злыми ветрами тепло счастья. Душа дичится, леденеет и под конец становится крепка, будто лед на реке. И так же холодна. Не каждый сам душу запахнет, поставит заслон холодным ветрам, отпугнет злого духа. А бывает и так, что бьется человек, всю жизнь дыры латает в собственной душе, да и устает. Просто отчаивается. Надсаживается. То-то лютует князь, душу в клочья рвет. Ждет полуночников, как избавления от земных горестей, жить больше не хочет. Для князя теперь самое милое дело – возьми его Стюжень, разложи на коленях, да и отшлепай ладошкой! Даром ли та ладошка широка, словно заступ? Не стар князь, будет еще сын. А если сомневается – так запустить Дубиню в княжьи покои, к девкам под бочок! Как пить дать, половина дворни забрюхатела бы!
Разошлись далеко за полночь. Тычок радовался, будто дитя малолетнее. Мог и сам выпить заморское вино, да не стал. Дождался. Очень хотел поговорить со странным чужаком, что не вспылил на улице, оставил Еську-дурня жить. Сивый не отпустил хмельного старика одного восвояси, довел самолично. А перед самым домом неопределимых годов мужичок уткнулся Безроду в грудь, и что-то горячо тому стало и мокро. Сивый погладил старика по макушке, обнял. Уж так не хотелось Тычку домой идти! Долго не мог успокоиться, плакал, да так тихо, чтобы Жичиха не услышала. А та Жичиха не жена ему, и не дочь вовсе, а так, сбоку припека. Живет у нее как приживалка, за скотиной ходит.
– Помру скоро, – всхлипнул Тычок. – Чую.
– Рано собрался.
– Чую, – замотал головой старик. – А помру, никто не заметит. Только коровки. Помычат, помычат да и привыкнут.
– Погоди умирать. Зажми душу в кулаке, не отпускай. Ты мне нужен.
Старик с надеждой посмотрел сквозь слезы, и Безрод тут же отругал сам себя. Не много ли наобещал? А если не получится? Точно помрет старик от разбитого сердца.
– Иди, Тычок. Утро вечера мудренее.
Старик тихонько притворил за собой дверь и исчез в глубине избы, точно мышь, невидимый и неслышный. Страшнее бабы зверя нет… Но что страшный зверь для храброго сердца?
Безрод возвращался не спеша, глубоко вдыхая прохладный осенний воздух. Скоро грянет зима, а зиму Сивый любил. Душа заводила тоскливую заунывную песню, и обе – зима и душа – пели в один голос.
А из-за угла выплыли две тени и без всякого предупреждения занесли над одиноким путником ножи. Лезвия тускло блеснули в желтом свете луны, на мгновение замерли и пошли вниз. Лиходеи не кричали и глотки не драли. Не стращали и золота не требовали. Били молча. Сзади из темноты вышли еще двое. Сердцу и разу не ударить, как быть бы Сивому распущенным на ремни… только не так обернулось, как замышляли ночные душегубы.
Дурачье! Безрод не стал пятиться, сразу подался вперед, прямо под ножи. Тот, что стоял ближе, локтем налетел на подставленное плечо, а Сивый еще и наддал снизу вверх, да так, что в локте что-то хрустнуло. Нож второго Безрод принял крестовиной меча, отвел в сторону, да так ударил головой, что смял нападавшему пол-лица, все выпуклости с хрустом вдавил внутрь. Времени прошло – всего ничего. Те, что стояли сзади, пыхтя от злости, ринулись вперед. Безрод молча ушел от удара одного из нападавших и пальцем, согнутым, как рыболовный крюк и крепким словно камень, продырявил убийцу – порвал кожу на плече, уцепил ключицу и резко рванул. Ломаясь, ключица разорвала плоть, одежду – и двумя острыми сколами вылезла наружу. Душегуб как упал, так и замер. Даже звука не издал. Четвертый и последний, видя неожиданный расклад, остановился, сдал назад и так припустил, что лишь пятки засверкали. Безрод зашатался. Прислонился к стене амбара, огляделся. Двое ничком лежат, тише воды, ниже травы, третий руку держит да глухо стонет, а последний пятками сверкает. Не многовато ли? И ведь мирное время, а стражи в городе полно, будто пчел в улье.
Вдали загремело железо. Стража. Легки на помине. Безрод нахмурился. Вроде стража как стража, а только ведет их тот четвертый, что сбежал.
– Он! Это он! Двоих как не бывало! Скол без руки остался! Люди добрые, что же это делается? Уже в корчме не посиди, темной улицей не пройди! Как выскочит из-за амбара, да как рыкнет, мол, золото сюда!
– Кто бы говорил! – Стражник, на этот раз не Брань, презрительно скривил губы. – По тебе самому петля плачет!
– Плачет – не растает! А нынче я прав! Веди в княжий терем. Из двоих душа вон!
Стражник с огнем подошел ближе. Крепкий малый глухо стонал, баюкая изувеченную руку, двое вообще не подавали признаков жизни, причем лица на одном больше не было. Зато на лбу Безрода осталась кровь, мало не мозги чужие. Блюститель порядка присел, положил безлицему руку на шею, покачал головой. Не дышит. Второй тоже. Сердце не выдержало. Стражник только кивнул, и Безрода тут же взяли в кольцо копий.
– Пошли, парень. Помогите ему. – Старший кивнул на Безрода.
– Сам пойду.
Крепко прижал к себе меч и отлепился от стены. Сделал шаг, второй, закачался.
– Меч заберите. Еле тащит. Умелец…
Безрод усмехнулся. Отдал. Только и повернул к старшему восковицами, чтобы увидел. Запечатан честь по чести.
– И ты с нами, правдолюб. Поутру князь рассудит.
Того, с увечной рукой, куда-то увели, остальные двинулись к терему. Шли медленно, подстраиваясь под шаг Безрода. Сивый кривился и кусал ус. Будто ждали. Будто не ограбить хотели, а убить. Ни «здравствуй», ни «кто таков», а ведь в темноте и лица было не разглядеть. Значит, знали, кого ждут. Четвертый торопливо отошел подальше и всю дорогу знобливо ежился под взглядом Безрода, зябко поводя плечами.
Их заперли в разных клетях поруба. Кто прав, кто виноват, про то судить будут утром. Душегуб с покалеченной рукой тоже свидетелем будет. И мертвые покажут, что смогут. Безрод бросил скатку на пол, под голову, свернулся калачом и провалился в жаркое забытье в нетопленой клети.
Вышел на яркий свет и сощурился. С чем забылся, с тем и миру явился. Не получается разойтись гладко с князем. Не получается идти своей дорогой. Все сталкивают многомудрые боги лбами. И, наверное уже не уйти с Дубиней в Торжище Великое. Отвада зверем глядит, да лыбится. Так ухмылялся бы матерый волчище, умей серый улыбаться. Ох, не будет этим утром добра, ох, не будет!
Безрод лишь усмехнулся. Во дворе под сенью дуба сидит князь, дружинных кругом – море, глядят недобро, суд предвкушают. Позади Отвады стоят родовитые бояре, советы давать будут. Яблоку негде упасть. Привели того, с увечной рукой, посадили на скамью в середине. Двоих, что вчера навсегда успокоились, тоже принесли, рядом положили. Четвертый сам вышел. Заговорил. Да так ладно и складно, будто всю ночь глаз не смыкал, слова в нить снизывал. Не речь держит, а песню поет! Так и шибает слезу из простых и доверчивых зевак. Безрод скривил губы, задрал бороду в небо.
– Ой, ты светлый князь, заступник от лихих людей! Ой, что же делается в городе твоем, что за беды на меня ополчились? Как дальше жить? Как от собственной тени не шарахаться? Как не убояться соседа своего? С полуночи оттниры грозят, здесь лихие люди последнее отнимают! Куда податься простому человеку?
Безрод покосился на четвертого. Ишь, соловьем залился! Вон, глаза у людей на мокром месте. Жалеют горемыку.
– …И как выскочит из амбарной темноты! А нож-то при нем! Да как хватит Лобана головой в лицо! Да как продырявит пальцем Выжигу! Да как поломает Сколу руку! А на меня мечом замахнулся. Да только не на того напал! Я в беге жуть как проворен!
Отвада лицом потемнел, бояре недобро засопели, завозились. Безрод презрительно ухмыльнулся. Дурачье! Вокруг пальца обвести – как от слепого убежать!
Повернулся к нечестивому свидетелю и плюнул тому прямо на ноги. Князь зубами заскрипел, дружинные мощно выдохнули. Плевать на княжьем дворе, да в присутствии самого князя – сущее безумие. А может быть, просто равнодушие к жизни. Тоже недалеко ушло. Отвада сдержался, не вспылил, спрятал зловещую улыбку в бороду и дал знак продолжать.
– Лобан кошель выронил, а Сивый руку протянул, шасть, и в скатку сунул. Подальше, значит, от глаз.
– Разверни. – Процедил Отвада и указал пальцем на скатку.
Ну, вот и все. Безрод усмехнулся небесам. Сколько ни толкуй, что твое, не поверят. Теперь не поверят. Вытянул руку, встряхнул скатку, плащ на лету развернулся и на землю, негромко звякнув, упал кошель.
– Он?
– Он! – убежденно закивал четвертый.
Безрод холодно улыбнулся.
– Что скажешь?
– Болтает.
– Да ну!
– Подковы гну.
– А сам-то кто будешь?
– Волочков я человек. – Скрывать толку нет, уже, наверное, все знают.
– Так ведь пала Волочкова дружина! – Отвада с улыбкой оглядел воевод и бояр. Те согласно кивнули. Пала.
– Дружина пала, я остался.
– А как же так вышло? – Князь вроде просто спрашивает, а будто нож в сердце вонзает. Что ни скажи, одно и выходит – струсил, пересидел битву в лесу.
– А так и вышло! – огрызнулся Безрод. – В рубке уцелел.
– Неужели в ратном деле ты лучше всех? – съязвил князь.
– Лучше или хуже, а жив остался.
– Двоих заставных среди трупов не нашли, – усмехнулся Отвада. – Один, видать, в море сгинул, положив оттниров без счета. Но это вряд ли ты.
Безрод промолчал.
– А правда, что не знаешь своего роду-племени?
– Правда.
– Может быть, ты как раз и есть полуночник? – Отвада зловеще улыбнулся. – Своих навел, вот и остался жив? Ты и есть второй выживший!
Безрод от ярости побелел, на нетвердых ногах шагнул вперед. Князь даже бровью не повел, но будто стена встали перед ним дружинные с обнаженными мечами. Зарубят, и подойти к Отваде не дадут. Безрод остановился. Не потому что испугался – от злости в голове так полыхнуло, чуть богам душу не отдал. Стоял перед князем, шатался и скрипел зубами.
– И сказать-то нечего. – Отвада с притворной жалостью покачал головой.
Безрод, не мигая, смотрел на князя и молчал. Есть что сказать, только не по нраву придется многим последнее слово, ох, не по нраву!
– То-то давеча на пристани за полуночника встал! – припомнил кто-то из бояр.
– Может, я и полуночник, только и тебе, князь, чести немного, когда без суда купцов бьют.
– Тебя-то по суду побьют. Почему себя воинского пояса лишил?
Безрод промолчал. Слова бесполезны. И не успеть Отваду за глотку взять. Те молодцы костьми лягут, а князя не дадут.
– А не за тем ли, чтобы с глаз исчезнуть? Ведь бойца издалека видать! Будто полег со всеми в том бою. А что ходит по свету голь перекатная, беспоясная, кому какое дело? Так задумывал?
– Все-то тебе понятно, – холодно улыбнулся Безрод.
Отвада поднялся, двор замер. Все ясно, как белый день. А князь только и произнес:
– Виновен!
Вот и все. Прав был Тычок, тысячу раз прав, только не свою погибель чуял, бедолага. А княжий поруб страсть как неуютен, холоден и мрачен. Куда желаннее смерть под мечами дружинных. Положить самому, сколько получится, и рядом лечь. Лишь Тычок добрым словом и попомнит, больше некому.
– Выходит, и в гибели заставы я повинен?
Ворожцы, уже было готовые посохами освятить приговор князя, замерли с поднятыми руками.
– Да.
– И вчера ночью я на честных людей напал, золото отнял?
– Да.
– А правду ли говорят, что двум смертям не бывать, а одной не миновать?
– Да. – Отвада сощурил глаза и пытливо оглядел Безрода.
Князь не понимал, куда гнет Сивый, никто вокруг не понимал, и оттого становилось неспокойно.
– Хоть помру не напрасно, – буркнул Безрод под нос и медленно повернулся к нечестному свидетелю.
Отвада догадался, понял, закричал на весь двор, будто гром громыхнул.
– Стой, безродина! Стоять!
А Сивый и бровью не повел. Подшагнул к четвертому, что онемел от страха, и сделался бел, как некрашеное полотно, холодно улыбнулся и средним пальцем, будто стрелой из лука, пробил ямку под горлом, как раз посреди ключиц.
– Три. – Безрод вырвал палец из раны.
Горлом хлынула кровь, пошла розовыми пузырями, и лжесвидетель повалился наземь, дергаясь, будто припадочный.
– Ошибся ты, князь, в трех смертях я виновен. Лишь один остался, да и тот наказан.
Скол в ужасе завыл, сполз наземь и забился под скамью. Пока с обнаженными мечами набегали разъяренные дружинные, Безрод успел попрощаться с белым светом. И будто наяву углядел червя, что точил душу князя, поддувал огонь злобы. А когда оставалось до Безрода всего ничего, каких-то пару шагов, густой зычный голос объял судное место. Вязкий, тягучий, будто мед. Вои замерли, словно муха в патоке. Оглянулись, расступились.
– Не дело, князь, удумал. – На середину двора вышел Стюжень, мрачный, насупленный. – Кому поверил? Разбойнику, ночному лиходею? Поди, у всех четверых руки по локоть в крови! Овиноватили? Невзлюбили Сивого? На это сказ у меня короток: Не девка, нравиться не обязан! Чего хвосты поджали? Ты, Моряй? Ты, Лякоть? Молчите? Кто человека едва не проворонил? И кто его спас? Ворожба без спросу – то моя печаль, вас не касается! Ох, не дело ты, Отвада, удумал!
Стюженев голосище гремел в полную силу, собаки отбежали подальше, дружинные и те конфузливо сдали назад.
Лишь на мгновение что-то дрогнуло в глазах Отвады, и снова подернулось льдистой синевой.
– Как сказал, так и будет!
– Тогда парня к воям, – буркнул Стюжень. – Не в яму. В дружинную избу.
Молодцы зашипели. Еще чего не хватало! Своих предал, простых убивает, не чинясь! Старик на возмущенный ропот и ухом не повел, будто нет его вовсе.
– Парня к воям! – на весь терем рявкнул верховный ворожец.
Отвада, сын Буса, поморщился, но рукой согласно отмахнул.
– Пока смерти не предам, быть этому среди дружинных! Уж там-то глаз не сведут! Я все сказал!
Глава 3 Дружинная изба
Три дня Безрод провалялся без движения под присмотром Стюженя рядом с остальными ранеными. Смотрели как на прокаженного. Кто мог отползти – отполз, но амбар не тянулся, будто медовый воск, и кому-то пришлось лежать рядом. Однако ничто не длится бесконечно. Утром четвертого дня, едва Безрод встал на ноги, пришел воевода Перегуж и забрал в дружинную избу, где обитали здоровые. У самого порога, когда оставалось лишь войти, Сивый запнулся. Оглянулся и попросил чару меду покрепче. Перегуж вскинул брови, усмехнулся, подозвал мимохожего отрока и услал за медом. Зла воевода на Безрода не держал. Просто пожил на свете, как никто из тех, что грудь колесом гнут. Принимая чару с медом, Безрод мрачно прошелестел:
– Теперь уж без меня уйдет Дубиня-купец. Легкой воды ему. – Поднял глаза в небо, выпил чару и последние капли выметнул в небо, богу-солнцу.
Старый воевода без неприязни глядел на Безрода. Не может человек дарить первому встречному жизнь, свою на это дело класть и тут же отбирать за пустяк три других. Не может.
– Рта не раскрывай, в драки не вяжись. Поумнее многих будешь в избе. А там и поглядим, что к чему и с чем едят.
Застив собою свет, Безрод переступил порог и почти немедля получил сапог в грудь. Едва не в лицо. Мог и пригнуться, но сзади стоял старый воевода, и что же – за человеческую теплоту сапогом в лицо?
– Сгинь со свету, дрань рогожная!
Безрод вошел в избу, оглянулся на Перегужа. Тот показал в дальний угол, куда скудный свет маслянки не доставал. Торчал в стене рогатый прихват, но самой плошки не было. Сняли. В дальнем, темном углу отдельно от всех стояло незастеленное ложе. Голое дерево. Ни лоскутка, ни перышка. Поглядывали с презрением или не глядели вовсе. Это же надо! Учудил князь, вот удружил! Дружинных сделал сторожами при душегубе! Были тут свои, боянские, были и пришлые, соловейские. Теперь воеводы не давали даже вздохнуть свободно. Вот-вот полуночник нагрянет, тут не до полежалок на перинах. По семь шкур с каждого спускали, семь потов сгоняли. Пока ходится и дышится, должны в меру сил постигать ратную науку. Парни как раз на труды собирались, когда вошел Безрод.
– А ну вон пошли, лоботрясы! На свет! – Перегуж едва не пинками выгонял подопечных из избы.
Нашлись и такие, что оказались младше воеводы лишь самую малость, седые и немногословные, как сам Перегуж. Но и старые, и молодые, пряча улыбки в бороды, друг за другом выскакивали на улицу. Гоготали и топотали на весь двор, будто дети малые, сбивали с травы росу. Впрочем, будить было уже некого, весь двор поднялся. Широкой лентой дружинные вытекали за ворота, к морю, и в голове – Перегуж-воевода, поджарый, словно гончая. Только седина возраст и выдает. Около Вороньей Головы, немного не добегая до пристани, вои хватали мешки с галькой, взгромождали на плечи и бегом уходили вокруг сопки, грохоча костями и камнями. Только-только показался краешек солнца.
Двоих оставили для присмотра за Сивым, и те косились на смертника с ненавистью, как на собственного врага. Все бегают и плавают, а ты сиди тут, сторожи душегуба! Свернувшись клубком на жестком ложе, Безрод притих в своем углу и даже дышал через раз.
Дав полный круг – солнце уже поднималось над дальнокраем, – парни побросали мешки, скинули рубахи, сапоги и, тяжело дыша, один за другим ушли с каменистого обрыва в море. Губу пересечь туда и обратно – успеешь не только отдышаться, а и снова запыхаться. Вот где воевода любого молодого обставит, да под хвост себе загонит! Вроде и не спешит, но пока первый среди прочих на берег вылезет, успевает и бороду отжать, и одеться полностью. И опять бегом назад.
Столько тоски разлилось в глазах сторожей, что остались при нем неотлучно, Безрод лишь ухмыльнулся. Себя вспомнил. Будто совсем недавно было, а кажется, вечность прошла.
Дружинные поели, забылись коротким полуденным сном, а потом до самого вечера точили ратный навык. Бились на мечах, на кулаках, до пота, до синяков. Оттниры высадятся, жалеть не станут. Полуночник – боец страшный, в бою двоих-троих стоит. А после дневных трудов, уже в сумерках, друзья-приятели подначивали друг друга, дескать, каких двоих-троих стоит? Если таких, как этот Сивый, что пыль рубахой по углам собирает да горазд лишь мирных поселян резать, глядишь, одного Рядяши достанет. Безрод все слышал, но только ухмылялся. Тот Рядяша, к ночи помянутый, все с быками забавлялся. Обхватит за шею и гнет книзу, пока не падет рогатый на колени, а потом ладонью «хлоп» в плечо, и скотина бессильно валится на бок. А звук от шлепка шел такой, будто кнутом кто-то щелкнул. Еще с десяток ухарей валил быка с одного удара. У соловеев не меньше. Быков на всех не напасешься. Стали пугливы, человека увидят – и ну бегом в загон.
Ел Безрод на заднем дворе с рабами и обслугой, от которых за версту несло навозом. Ел нарочито медленно, чтобы сторожа в бешенство вошли. А те менялись так часто, что даже лиц их Сивый не запоминал.
Как-то на узкой дорожке едва не лоб в лоб столкнулся с верховным ворожцом. Поздоровался и спросил.
– Ты-то чего влез? Ведь никто я тебе. С князем в спор вошел.
– Поживешь с мое – поймешь. А князя твоего еще в отроках порол. Нужда встанет, и теперь выпорю, – лениво бросил Стюжень, обошел да исчез по своей надобности.
Вечером на третий день Перегуж подозвал Безрода и объявил:
– Вот что, сердешный, двоих я к тебе приставил, от дела оторвал, непорядок это. Как-никак, полуночник идет. С завтрашнего дня ты с нами. Уже и мешок для тебя набили. Посечен или нет – меня не касается. Понял?
Безрод только ухмыльнулся, а Перегуж поежился. Странные глаза у Сивого. Как ясно на небе – так и синие, а как пасмурно – серые.
– А мешок для меня кто снаряжал?
– Рядяша. А что?
– Да ничего.
Перегуж проводил Безрода с улыбкой. Поначалу воевода боялся, как бы горячие головы чудить не начали, не устроили Сивому темную, холку не намяли. Но то ли брезговали, то ли не оставалось лишних сил – только клали голову в изголовье, уже спали да похрапывали.
Ночью Безрод уснул поздно. Ворочался на голом тесе и все понять не мог, для чего князь бережет приговоренного. Для чего кормит, поит, скучать не дает? Ни с чем и уснул. Скатка в голове, меч на хранение Стюжень забрал.
Утром проснулся незадолго до побудки. Не спеша поднялся, огладил мятую рубаху и, выходя во двор, столкнулся с Долгачом – воеводой пришлых, соловейских. Его была очередь выводить дружинных на разминку. Проводили друг друга внимательным взглядом. Долгач ощерился в усы и вошел в избу, Безрод, ухмыляясь, взлохматил неровно стриженые лохмы и сошел по ступеням.
Бежал до Вороньей Головы тяжело. Будто жидкий огонь влили в жилы. Все казалось – только прыгни в море, вода зашипит и взовьется паром. Из ран потекло. К Вороньей Голове прибежал последним. Вои к тому времени все были на месте. А как расхватали свои мешки, да как увидел Безрод то «чудовище», что в ожидании притаилось под кустом, сердце в пятки ушло. Стиснув зубы, взвалил на плечи неподъемный мешок. Сразу потекло из раны на шее, и не сказать, что мир сделался светлее. Сивый лишь мрачно подумал, что никогда не заживут укусы мечей и копья. Никогда. Остается или умереть под этим мешком, или добежать. Да что добежать, дойти бы…
В голове шумело, рубаха вымокла потом пополам с кровью, губы искусал. Все чудилось – перекрутило нутро будто тетиву, вот-вот лопнет, и вон дух. А если сердце не лопнет, ноги подломятся. И рубаха теперь не пойми какого цвета, не то багровая, не то просто черная.
Половина дружинных уже плыла к противоположному берегу, блаженно загребая под себя прохладу, другая половина только сбрасывала мешки наземь, когда из-за сопки, шатаясь, будто пьяный, показался смертник. Начали было ржать, но Долгач, прикрикнув, осек. Дыхание, мол, берегите, остолопы, плыть еще. На обрыве никого не осталось, кроме Долгача, когда уже не бегом, а шагом, да и не шагом, а стариковским шорканьем приколченожил Безрод. Бросил мешок наземь, пал ничком и глухо, в бороду захрипел. Не двигался и только хватал воздух ртом, сколько мог, и все мало было. Долгач, подозрительно щурясь, окатил Безрода удивленным взглядом. Еще утром человек был как человек. А теперь на лице резко проступили скулы, кожа натянулась, шрамы стали резче, глаза потемнели, будто грозовое небо. Сивый, качаясь, поднялся, и стоял, пока не прошло головокружение. Долгач бросил быстрый взгляд на море. Нет, не плыть ему самому сегодня. Скоро мо лодцы начнут возвращаться, а этот все дышит и надышаться не может. А когда седой да худой шагнул к обрыву, соловейский воевода удивился так, как никогда не удивлялся. Хотел было остановить Безрода, но чтобы не пустить того в море, пришлось бы насмерть бить – серые глаза стали просто бешены.
– Не ходи. Потонешь, – остерег воевода.
– Не твоя печаль, – просипел Безрод, и в груди его свистело и клокотало.
– Рубаху-то хоть сними.
Княжий подсудимец промолчал. Не прыгнул с обрыва, а просто неуклюже свалился и ушел под воду с громким всплеском. Долгач, перегнувшись над невысоким обрывом, все искал внизу сивый, прилизанный ко лбу чуб. Наконец выдохнул с облегчением. Не приведите боги, пришлось бы отвечать за смертника. Безрод всплыл на поверхность, будто топляк. Полежал на спине и сделал слабый гребок, потом еще, еще…
Словно дружина Морского Хозяина, парни друг за другом выходили на берег, как на подбор, крепкие, блестящие, будто лущеные ядра. Отряхиваясь, отпуская сальные остроты, рыскали по берегу – искали свои рубахи по вышивкам на вороте.
– А что, храбрецы, не проплывал ли кто мимо?
На вопрос Долгача бойцы грянули смехом так, что чайки разом поднялись со скал.
– Да несло что-то волнами навстречу, а что – не понять. Разве только… по запаху!
Дружинные, как один, дались всеобщему сумасшествию и, держась за животы, покатились по гальке. Лишь Долгач не смеялся. Кусая ус, оглядывал смешливое воинство и качал головой.
– А не сбежит? – Рядяша первым отсмеялся, встал с земли и поскреб загривок, все оглядываясь на море.
– Не-е-е! Без меча никуда не денется! Дрожит над ним, что мать над дитем, – давясь хохотом, ответил Лякоть.
– Ну, добро! – Долгач, хлопая в ладоши, поднял воинство на ноги. – Эй, там, а ну припусти галопом, во всю мочь!
Нескоро осела пыль, взбитая босыми ногами. Последняя пыль. То ли дождями прибьет, то ли сразу снежком…
Парни вставали после короткого полуденного сна, того самого, после которого не поймешь, то ли выспался, то ли нет, когда на двор, заплетаясь в собственных ногах, ступил Безрод. Видно было – много раз падал, но вставал и шел дальше. Мокрый, вполовину исхудавший Сивый ни на кого не глядел, но от глаз можно было запалять лучины, так горели синие злобой и упрямством. Старая Говоруня, что еще князя нянчила, а его сына вовсе с рук не отпускала, аж попятилась. Зашептала:
– Боги, боженьки, Расшибец! Как же посекли тебя, оболтуса! Все не бережешься, малец, кольчугу не надеваешь! – Глаза старухи заволокло сумасшедшими слезами.
И в полной тишине на притихший двор влетел Отвада и затряс няньку за плечи:
– Очнись, безумная старуха, не Расшибец это! Безрод, душегуб и вор! Прошлым летом зарублен Расшибец, да очнись же ты!
Мало душу из полуслепой бабки не вытряс. Еле утихомирился. И с такой ненавистью взглянул на Безрода, что весь двор изумленно ахнул. Дружинные, дворовые, бояре стояли, разинув рты, и даже дышать забыли. Как же похож стал мокрый, измученный Безрод на Расшибца, посеченного в той злополучной битве! И как сами того не увидели? Глаза проглядели, что ли? Так же приколченожил тогда княжич в стан, так же пузырилась на ветру рубаха, так же не было на нем пояса. Только меча в руке Сивому недостает для полного сходства. Лицом и вовсе один к одному. Те же черты, тот же взгляд. Соратники Расшибца, уцелевшие в той битве, за обереги похватались. Показалось – шагнул княжич на двор прямо из прошлого лета, идет, шатается, вот-вот упадет. Но ничего этого Безрод не заметил. Скрипя зубами, подошел к избе, поднялся на порожек и привалился к дверному косяку. Ничего не видел и не слышал, все злоба заглушила. Нельзя злобу отпускать из сердца, с нею силы тут же уйдут.
– Ну, чего встал? Свет не засти, рвань дерюжная!
Из глубины избы прилетел сапог и ударил в грудь. Не углядел, чей подарок – темно, да к тому же глаза дурнотной мутью заволокло. Опрокинулся навзничь, будто сраженный стрелой. Нынче курица крыльями взмахнет – снесет, будто перышко.
Друг за другом парни выходили на белый свет, брезгливо перешагивая через смертника, ни один руки не подал. Безрод глядел мутным взглядом в небо и кусал губы, пытаясь подняться.
– Наверное, даже до середины не доплыл. – Огромный Тяг сапогом откатил Безрода с дороги.
– Обессилел. Жаль какая! – откатил еще дальше Трескоташа.
– Не-е-е, – почесал затылок Сдюж. – Видать, к берегу прибило. Оно ж не тонет!
Отвада первый грянул хохотом, а там и остальных смех разобрал.
Далеко перевалило за полдень. Теперь, после обеда и отдыха, вои уйдут пробоваться на крепость за городской стеной. Станут друг другу шеи мять да холки чесать. Вернутся затемно. Отлынивать и разлеживаться никак нельзя, враг на носу. Чего не доделал, где ратной науки не добрал – вмиг аукнется. Тяг с изумлением воззрился на собственный сапог. Носок ало пламенел кровью.
– Да он кровит, будто резаная курица!
– Весь двор испоганил! – Трескоташа показал на пятна крови у крыльца, на само крыльцо, на дорожку от ворот до дружинной избы.
– А ну-ка, Извертень, легкой ногой пролети до того берега и обратно. – Долгач, задумчиво глядя на Безрода, отослал быстронога на тот берег. – Да погляди, доплыл или нет!
– Птицей пролечу! – Молодому и сильному второй раз губу переплыть – раз плюнуть.
– А ты, безродина, скидывай рубаху. Если ранен, покажи. – Отвада подошел к самому крыльцу.
Безрод молчал. Он уже поднялся на одно колено и качал головой, глядя исподлобья снизу вверх.
– А не снимешь рубаху, значит, не ранен, – процедил Отвада сквозь зубы.
Безрод холодно улыбнулся. Княжья задумка проступила на лице, будто кровь на белой рубахе. Раз не ранен – так и жалеть нечего, пусть-ка с остальными походит. Завтра, послезавтра и так далее. А там, глядишь, и рук марать не придется – сам подохнет. Сивый молча стиснул зубы. Прятаться за собственную кровь… не этого ли ждет князь? Боги, боги, и чего взъелся?
– Время не ждет, бестолочи! – прошептал Безрод. – Вон за ворота!
– Я не расслышал. – Князь окатил Долгача, стоявшего ближе всех, жгучим взглядом.
– Время не ждет, бестолочи, – медленно, с расстановкой повторил Долгач. – Вон за ворота!
Отвада недобро ухмыльнулся.
– Этого с нами. Если здоров, как бык, так нечего за овцами бегать.
За городской стеной, на поляне, вытоптанной до единой травинки, люто бились дружинные, боянские и соловейские, по крупицам стяжая ратную премудрость. Бились на мечах, на кулаках, на секирах. Ядреный запах пота, щедро пролитого на землю, обещал буйную поросль весной. Земля, политая без жали, родит щедро, от души.
Безрод сидел у старого дуба, у всех на виду. Стоять не мог – ноги просто не держали. Лишь разок прервались, когда прибежал Извертень и что-то шепнул Долгачу, тот – Перегужу, и все трое в шесть глаз уставились на Безрода.
– Доплыл, – с удивлением в голосе возвестил Долгач. – На том берегу кровавый след оставил.
Парни, как один, повернулись к старому дубу, у ствола которого то ли дремал, то ли просто сидел с закрытыми глазами Безрод.
– Ну, чего встали, бестолочи! – рявкнул Отвада. – Трое с мечами ко мне!
Вечером Безрод шел назад медленно, отдыхая через каждый шаг. След во след шел Жало, бывалый воин, чьи длинные вислые усы доставали аж до груди. Теперь без присмотра не оставят. Сивый меж лопаток чувствовал взгляд немолодого дружинного и все гадал, кинжалом ли спину пронзает, до сердца достает или теплом ласкает, в спину подгоняет, будто ветерок попутный. Жаль, оглянуться не мог. Лишних сил не было.
Безрод замер на пороге избы, застив собою последний солнечный свет. Укрыл солнце без всякого умысла. Не терпение испытывал соседей поневоле, просто силы кончились. Прямо на порожке и кончились. Зубами скрипел, а двор прошел без остановки и на крыльцо поднялся, расправив плечи и подняв голову. А что плечи расправил криво и голову вздернул косо, в том не виноват – искусан мечами, словно медведь пчелами. На одной воле и дотянул. Под язвительными взглядами просто не мог рухнуть посреди двора, в шаге от избы.
Стоял, тяжело дышал и ждал сапога. Сапог незамедлительно прилетел и лениво стукнул в грудь. Безрод крепко держался пальцами за створ, только потому и устоял. Сделал шаг вперед и без сил упал на пороге. Где упал – там и на ночь остался. Никто из воинства не поднялся и даже бровью не повел. Безрод и есть безрод. Половик придверный.
А утром Перегуж, подходя к дружинной избе, почуял странное. Вроде сидит кто-то на порожке? Или кажется? Нет, не кажется! В самом деле, сидит человек на пороге, будто на жизнь обозлился. И сон ему не в радость. А подойдя к ступеням, воевода замер, будто истукан. Как занес ногу над порожком, так и забыл поставить. Сидит княжий подсудимец, к перильцам привалился. Глядит кругом так люто и зло, что, не взойди солнце вовремя – дневной свет от глаз займется. Ждет. Готов уже. Зубы крепко сжаты, лицо – чисто череп, обтянутый кожей. И без того телесной мощью не отмечен, быка с одного удара наверняка не повалит, а после вчерашнего даже смотреть на него больно. Полсебя растерял, пока бегал да плавал. Хотел воевода что-нибудь сказать, да передумал. Каждый свою судьбу в кулаке держит. Ишь ты! Глядит, будто и впрямь огнем обжигает. Даже в глазах защипало. Зол парень, ох, зол! Зубы съест, а пробежит и проплывет, если душу раньше не отдаст. Помирать станет, но помощи не попросит. Да и кого просить? Мизинчика не протянут.
Парни выходили друг за другом и с изумлением оглядывались. Ведь сами видели, как рухнул вчера Сивый в самом порожке. Так и не дошел до своего ложа. Только пол кровищей извозил. А нынче сидит в уголке, зубы скалит, ни на кого не глядит. Будто и не случилось вчера ничего, будто почивал всю ночь на мягких перинах. Плюнув под ноги, Рядяша даже в избу вернулся, пристально обозрел ложе Безрода. Свежей крови нет, все старое. Значит, всю ночь на полу пролежал, и только под самое утро росяные холода в себя привели. Сидит, ждет.
Безрод последним поднялся, последним и побежал. Как и вчера, у Вороньей Головы дружинные похватали мешки и, пыхтя, унеслись вокруг. Безрод, задрав голову к небу, что-то прошептал, скривился и рванул огромный мешок на плечи. Моряй не стал бежать во всю прыть, встал за смертником, и сам видел, как потекло по спине Сивого что-то темное, аккурат из-под мешка. Для пота рановато, значит… кровь? К слову сказать, и мешок-то не мал. Князь-мешок! Такой лишь Рядяше да воям поздоровее на холке таскать. А тут кожа да кости, не ходите ко мне в гости! Раздавит мешок Сивого, как пить дать, раздавит! А Безрод по сторонам не смотрел вовсе. Моряй усмехнулся. Гордыня штука тяжелая, недешево обходится. Да и сам не маленький, понимает, за какой гуж уцепился.
Моряй пристроился следом за Безродом и диву давался. Уже не бежит Сивый, а просто еле ноги передвигает, колени дрожат и подгибаются, вот-вот рухнет. Давно должен упасть, но бредет седой да худой, будто осел под поклажей. Наверное, губы до крови искусал. Моряй забежал вперед. Бредет себе жилистый человек в красной рубахе, под огромным мешком дороги не видит, пот заливает глаза, а на зубах скрипит колышек, обернутый кожей. Сивый кожу разгрыз, до дерева добрался. Рубаха промокла, кровь на землю капает. И куснула Моряя шальная мыслишка – а того ли князь овиноватил? Этот из-за угла ни за что не нападет. Захочет души лишить – подойдет и лишит, как тогда на судилище. Но с такой-то гордыней да из-за угла?
– Не плыви. – Сделав круг, Моряй на обрыве сбросил свой мешок наземь.
Прогулочным шагом он даже не запыхался. Безрод на мгновение замер, дал богам рассмотреть себя и вместе с мешком тяжело рухнул назад. Загремела галька. Моряй поморщился. Или это кости Безрода загремели? Сивый с таким посвистом всасывал воздух, что Моряю казалось, вот-вот его грудь разорвется. А когда чужак поднялся, встал на обрыве и полыхнул кругом темными от усталости синими глазами, только и подумал: синее к синему.
Безрод все же прыгнул со скалы и долго отдыхал на воде. Моряй плавал кругами, не решаясь уйти далеко.
Дружинные выходили во двор после короткого полуденного сна, когда Моряй и Безрод прошли в ворота. Как и вчера, двор Безрод пересек прямо, не шатаясь, и лишь войдя в избу, рухнул на пороге. Вои грянули смехом, но Моряй не подхватил. Все глядел в спину человеку, что и помощи не принял, и на подставленное плечо не оперся. Даже костыль с рогатиной, срезанный по дороге и поднесенный от души, зашвырнул подальше. Вернее, хотел зашвырнуть, но улетел костыль едва на несколько шагов. Так и шел Сивый, морщась. И слова не сказал. А у самых ворот выплюнул колышек с ошметками изжеванной бычьей кожи и ногой поддал.
На поляну Безрод пришел сам. Сел под свой дуб и дышал так легко и незаметно, что иным казалось – концы отдал. А вечером, переступив порог избы и крепко ухватившись за створ, Безрод замер в ожидании сапога. И дождался. Лишь покачнулся, когда в грудь ударил огромный сапожище. Сивый не упал, а только посмотрел сквозь муть в глазах туда, откуда прилетел вонючий подарок. Моряю даже показалось, что Безрод ухмыльнулся краем губ. А парни во все глаза смотрели на Сивого, как шел он к своему углу, и должно быть сглазили не раз – чужак спотыкался на каждом шагу и путался в ногах. Но, видать, хранили его боги, ни разу не упал. Добрел до ложа и рухнул на голый тес. И лишь когда все уснули зыбким, тревожным сном, Безрод на четвереньках выполз на порожек, скатился со ступеней, и там его вывернуло мало не наизнанку. Как ни было муторно и больно, заставил себя улыбнуться. Одними губами…
Очнулся в дыму, в пару и ничего не увидел. Хотел шевельнуться, но непонятная тяжесть опутала руки и ноги. Из пара возникло лицо с белой бородой. Безрод узнал старика. Стюжень. Руками водит, шепчет, ворожит.
– Душу из тебя выну, сил придам и назад верну.
Огромный старик. Огромные ручищи. Огромные… Ручищи… Безрод закрыл глаза и будто невесомая птаха вознесся над своим безрадостным бытием. Будто самого себя увидел внизу на лавке. А старик и вовсе не смотрел на тело, поднял голову вверх и глядел прямо в глаза. И рядом с Безродом, так же невесом, парил бесплотный молодец, статью очень похожий на быка-Рядяшу, только взглядом помягче и полукавее. Чем-то неуловимым оказался похож румяный парень на старого ворожца, но эта тонкость ускользала с глаз, если смотреть в упор. Молодец усмехался, а Стюжень знай себе что-то шептал. И тут здоровяк, похожий на Стюженя, с веселым смехом пожал Безроду руку. Тот едва крик удержал, так ладонь сплющило. Пришлось в ответ жать, и жал Сивый до тех пор, пока боль не исчезла…
Открыл глаза. Кто-то несет, голова на весу болтается, а душа так легка – дай волю, к звездам улетит. И боль уснула.
– Рот закрой. – Все шепотом, шепотом, но как ни шепчи, все выходит низкий голосище верховного ворожца. – Душу к звездам выпустишь, обратно не воротится.
– Больно ей у меня. Страшно. – Безрод усмехнулся. Глядит старик в самое нутро.
Стюжень осторожно внес Безрода в дружинную избу, прошел в угол. Пол скрипнул, но старый ворожец и ухом не повел. За день вои так умаялись, что, начни все доски петь разом – не проснутся. Положил Сивого на ложе, приложил руку ко лбу, и Безрод мигом провалился в сон.
Моряй едва успел отпрянуть, чтобы не столкнуться с верховным ворожцом нос к носу. Скакнул за перильца, притаился и не дышал, пока старик не ушел. Только и слышал последние слова ворожца, сказанные в небо:
– Ты, парень, князю нужен больше, чем он тебе.
Это он о ком? Кто князю нужен больше, чем князь кому-то? Что делал в избе старый ворожец? Моряй огляделся и осторожно поднялся на крыльцо, положив себе утром выйти раньше всех. Пока весь двор не истоптали. Лишь бы самого никто не заметил. А то найдется какой-нибудь зевака, станет вопросы задавать: «А куда это Моряй в ночи шастал?» Куда, куда… на Кудыкину гору!
Моряй выскочил из избы ни свет, ни заря, присел над пятачком у самого крыльца, вгляделся, покачал головой. Огромные следы так глубоко вдавлены в землю, словно ворожец кого-то нес. Кто же позволит носить себя, если только не болен?
– Ты умеешь подходить неслышно, Стюжень. – Моряй встал и оглянулся.
Ворожец вышел из-за спины, усмехнулся в бороду, кивнул.
– Это я его принес. Парень душу богам отдавал, да я придержал.
Моряй долго смотрел в выцветшие стариковские глаза. Почитай вся дружина выросла на этих глазах, без малого все прошли через его руки после сеч и рубок, и никогда ворожец не врал.
– Старик, ты ему веришь?
– Кому я верю, только богам и ведомо. – Стюжень говорил тихо, но голос рокотал, будто гром в отдалении. – А вот ты как будто уже не уверен?
Моряй помрачнел. На душе муторно, а правда прячется так, будто она вор ночной, а не дева-краса с ясным взором.
– Не ты ли на судилище рубаху на себе рвал, изрубить грозился?
– Я. – Моряй смотрел прямо, глаз не отводил. – Но я в сомненьях, старик. Не верится мне, что Безрод зло замышлял. В мыслях против князя иду. А ведь Отвада мне как отец.
– А я князю как отец. – Ворожец пожал плечами. – Значит, и я против иду. Вместе, стало быть, идем?
Из-за угла вышел воевода будить молодцев на ратные труды. Безрод, не дожидаясь побудки, вышел на крыльцо сам. Моряй глядел на него во все глаза. Вроде румянец на скулах затеплился, вроде лицом посветлел, кривится меньше. Оглянулся на ворожца. Но Стюжень исчез так же бесшумно, как появился. Оставил одного воевать со своими сомнениями. Моряй с тоской глядел в спину ворожцу и впервые завидовал седине и прожитым годам верховного. Наверное, старик не в пример легче одолевает сумятицу в душе. И откуда ему знать, что не легче, совсем не легче. Тяжелее. Ошибки больнее бьют.
Безрод бежал увереннее, чем вчера. Так же хрипел, так же свистело в груди, но уже не вело из стороны в сторону, не шатало, ноги не подгибались. Почти не подгибались. А когда воинство похватало мешки с галькой, Моряй во все глаза глядел за Безродом. Сивый вздернул мешок на плечи, недоуменно замер и повернулся. Свел брови в ниточку, глаза сузил. Оглядел каждого, кто еще не убежал. Моряй взгляд отвел, но того, что Сивый сделал потом, не ожидал никто. Безрод сбросил мешок наземь, поставил на попа, развязал веревку на горлышке, широко раскрыл – и полными горстями стал бросать гальку в мешок. Дружинные в удивлении рты раскрыли. Вот это наглость! Вчера едва концы не отдал, решил сегодня помереть! И только Моряй помрачнел и прищурился. В ночи прокрался на берег и прилично отсыпал из мешка Безрода. Дурень Рядяша такой мешок Сивому снарядил, что только на телеге и возить. Да только зря все это. Сивый не принял помощи. Посчитал за жалость. И правильно посчитал. Помощь от равного принимают, а чужак одной гордостью и жив. Всыпал обратно, как было, и показалось Моряю, что за эти горсти гальки Безрод, не колеблясь, жизнь отдаст. Кровищей изойдет, но ссыпать не позволит. И будет так же у порога принимать сапог в грудь, пока не заметит, откуда летит… Шутливого побоища до первой крови не будет. Серые глаза промозгло спокойны, в них плещется холодная решимость. Больше ничего не разобрать. И глаза-то каждый день разные, то синие, то серые! Вот ведь чудеса! Моряй в сердцах плюнул и убежал. Сегодня не его очередь сопли Безроду подтирать.
Сивый опоздал, но меньше, чем вчера. Парни только-только отправлялись давить подушки после обеда, когда двое, Безрод и Дровень ступили на двор. Безрод шатался не в пример меньше вчерашнего, да и на губах играла холодная ухмылка. Сивый задержался у порога, пропустил всех до единого, и только тогда встал на пороге. Застил свет.
– Вон от двери, душегуб. – Сапог ударил в грудь.
Безрод прищурил глаза. Успел увидеть наглый оскал Гривача и услышать его икающий смешок. Не стал сапог ловить, хотя очень хотелось. Мочи не было, как хотелось. Слаб еще. Рука не та. Поймать не поймал бы, только оконфузился. Прошел в свой угол и бревном повалился на ложе.
Все поселения на полдня пути от Сторожища обезлюдели. Селяне, прослышав о близкой войне, уходили в леса, в глубь стороны. Побитые рати со всей округи стекались к Сторожищу. Город запасался всем, чем мог.
Подошли остатки избитых млечских дружин, и княжий терем превратился в один большой военный стан. И, по-прежнему один, в стороне от всех держался только Безрод.
Перестал шататься. Пошел на поправку. Занялись молоденькой кожицей раны, шаг окреп, на лицо вернулись щеки. Он прибегал и приплывал все так же последним, но уже не отставал на полдня, как раньше. На мрачное лицо вернулась ухмылка. Дни текли за днями.
В один из дней Безрод, как обычно, сел под свой дуб на бранном поле. Вои пыхтели, бросали друг друга через спину, охаживали боевыми рукавицами и здоровенными дубовыми мечами вдвое тяжелее обычных. Тесновата стала поляна с приходом млечей. Вновь прибывшим разъяснили, кто это под дубом сидит, неровно стриженный, седой, со страшными морщинами. Или шрамами, кто его разберет. Млечи начали коситься с тем же презрением, что бояны и соловеи. А нынче, видать, Коряга и вовсе не с той ноги встал. Млеч, огромный, словно бык, едва не лопался от избытка силы. Боги, наверное, всунули в телесную оболочку всю мощь, сколько вместилось, и ходил Коряга, неуклюже растопырив ручищи. Кто-то из поединщиков нагрел Коряге загривок, и синие глаза мигом налились кровью. Млеч, как бешеный пес, подскочил к Безроду, никто и внимания не обратил – ну, попинает безродину и успокоится. Коряга одной рукой за ворот рубахи вздернул с земли уснувшего Безрода и что было дурной силы ударил кулачищем в сердце. Дуб не пустил Безрода далеко, но гул, который издало дерево, слышали все. Моряй оставил своего поединщика, опустил руки и молча покачал головой. Свел брови на переносице, крепко сжал зубы, и две вертикальные морщины прорезали лоб. Безрод не издал ни звука, но в глазах разлилось столько боли, что лицо его враз потемнело. Сивый обнял себя руками и сполз по стволу наземь.
– Скотина! – взревел Коряга на весь лес. – А когда придут полуночники, мне спиной к тебе встать? Да с ножом промеж лопаток наземь и осесть? Нет уж!
Безрод не убрал рук, скрещенных на груди. Просто не успел. Так и дремал. Теперь, серея от натуги, Сивый поднимался с колен, и вся поляна дивилась тому, что смертник еще жив. Не иначе сами боги сложили чужаку руки на груди. А Коряга стоял и насмехался, уперев руки в боки. Хочешь, мол, ответить, так давай! Вот он я весь! Жду! Безрод, с невероятным трудом разогнувшись, едва сдерживая крик, подошел вплотную. Роста одного, но будто пересеклись на узкой дорожке сытый, налитый мощью лесной тур, поперек себя шире, и худющий, заморенный телок-недоросток, все ребра наружу. Безрод молча оглядел неохватную шею млеча, ручищи, толстые, ровно свиные окорока, заглянул в глаза Коряги, залитые бешенством, и отступил. Но Моряй готов был поклясться всеми богами, что не увидел страха в серых глазах! Только безмерно расплескавшиеся боль и непонимание. И – холод.
Усмехаясь, Коряга отошел. Убить не убил – жаль, конечно, – однако настрой сивый душегуб все же поднял. И, прежде чем вернуться к своему поединщику, млеч дал волю смеху. Заливисто гоготал на всю дубраву да за живот держался. Бродяга даже слово побоялся бросить! А чему удивляться? Нужно быть умалишенным, чтобы переть на быка с хворостиной. Вон отошел, сел под свой дуб, глаз больше не смыкает, рвань подзаборная. Боится! Второго раза ему не пережить. Тогда уж точно насмерть зашибут.
Безрод кривился от боли, и, щуря глаза, все искал того млеча, что кулаком оходил, точно дубиной. В глазах плыло и множилось, боялся, что полыхнут всамделишным огнем, челюсти так сжал, что под зубами онемело, нутро злобой залило. «Будь здоров, млеч, – прошептал, стоя напротив Коряги, да так тихо, что и сам едва услышал, – дадут боги, потом свидимся. Теперь каждая пара рук на счету. Дай тебе Ратник сил и здоровья! Главное, жив останься!»
Раньше между Безродом и остальными воями в дружинной избе лежала незримая граница – ничейная земля. Но теперь пришлых воев стало так много, что ничейную землю заставили новыми ложами. Уж теперь-то придется локтями потолкаться. Раньше делали вид, что не замечают, нынче всякий спешит презрение выказать. Считают обязательным толкнуть лишний раз, пихнуть, ноги отдавить, отшвырнуть, если на дороге зазевался. Безрод, стиснув зубы, молчал и ухмылялся. Моряй все замечал и качал головой. У парней по жилам шальная сила бегает, бурлит, сшибки ищет, глаза огнем горят. Чужак спокоен и молчалив, глаза не горят, а только тлеют. То ли догорают, то ли вовсе еще не разгорались.
Приходил Тычок. Топтался у ворот, шейку тянул, на дворе высматривал. Упросил кого-то из дворни позвать Сивого. А как увидел, так непритворно обрадовался, так горячо обнял, что Безрод всерьез обеспокоился за старика. Как бы плохо ему не стало, когда княжий приговор свое возьмет. Старик даже гостинец приготовил, сунул в руки что-то, обернутое в тряпицу, и беззвучно заплакал. Безрод глядел сверху вниз на Тычкову макушку, и что-то в горле пережало. Гладил старика по шее да и брякнул сдуру:
– Ты помни, о чем уговаривались. Крепко помни.
И чуть язык себе не откусил. Не сегодня-завтра князь жизни лишит, а тут получите – обнадежил бедолагу, наобещал с три короба! А если не выйдет? Сейчас Тычкова душа вырвалась вперед головы, и уже не догнать ее. Поздно кусать язык. Теперь старик и Жичиху перетерпит, и все на свете превозможет.
Помешал старый кому-то из млечей. Пихнул его, тщедушного, и дальше пошел, будто ничего не случилось. Безрод лишь усмехнулся и покачал головой. За плечо развернул грубияна к себе, сомкнул на шее крепкие пальцы и дернул вниз. Здоровяк, будто подкошенный, рухнул на колени, засучил перед собой руками, побагровел, язык вывалил. И ведь не слепой, видел – старик стоит. Должно быть, подумал, что оба одного поля ягоды, душегубы. И как же не пихнуть старого разбойника? Сивый коленом приложился к багровому лицу, и дружинный мигом обеспамятел. Безрод угрюмо сплюнул. Не сдержался. Не смог. Тычка-то за что? За душу добрую, за жизнь беспросветную?
Несчитанных годов мужичок испугался, прослезился. Впервые кто-то встал за него после смерти сына.
– Дурак я, сам видишь. – Безрод пожал плечами. – Уж ты не обессудь, если что…
Безрода и Тычка уже брали в кольцо обозленные млечи, соловеи, бояны. Это была последняя капля! Ох, прольется теперь чья-то кровь! Сивый отступил к забору, задвинул старика за спину, выглянул на всех исподлобья.
– А ну разойдись! – рявкнул Перегуж, проталкиваясь в середину. – Если кто скажет, что Безрод сам набросился – уши оборву! Своими глазами все видел. Вот этой рукой ухо за ухом оборву! Тьфу! Бабы базарные! Поклепщики!
В сердцах сломал плеть, что в руках держал, и с таким презрением бросил обломки наземь, что вои попятились.
– Так злоба жить мешает, что со стариками воюете? А может, и меня старого туда же? По роже мне, дураку, да посильнее? Чего же брови супите, храбрецы, чего исподтишка гадите, будто не дружина, а шайка разбойников? – Долго воевода молчал, и вот не выдержал, выплеснул. – Думаете, не знаю, что и мешок Сивому больше своих отмерили, и воды никто не подаст, если помирать вздумает? Будто не знаете, чего стоит слово тех четверых! Вы только поглядите, осерчали, храбрецы! Оскорбились! Ишь, цацки хрупкие, тьфу!
Старый воевода в сердцах плюнул воям под ноги и остервенело зашагал прочь. Многих он в свое время по попке шлепал, и на тебе, оперились!
– Против князя идешь, старый! – догнал в спину чужой голос.
Перегуж обернулся, зло бросил:
– И пойду, коли не прав князь! А ты, гостенек, в чужом огороде траву не топчи!
Тычок ушел, беспамятного млеча унесли, а Безрод долго сидел на заднем дворе. Что-то будет этой ночью. Сердце тревожно сжалось. Что-то будет?
Как всегда, поднялся на крыльцо последним. Скрестил руки на груди, сцепил зубы и мертво встал в дверном проеме.
– А-а-а, явился, голь перекатная! На дружинного руку поднял?
И полетели сапоги. Не один, не два, много. Безрод лица не отвел, только руку выбросил и схватил один сапог перед самым носом. Понемногу, день за днем возвращал себя былого, и сегодня попробовал силу на заднем дворе. Теперь можно. Сивый ногой вышвырнул сапоги на улицу, а последний сапог, тот, что поймал, скомкал в ладонях и медленно развел руки. На голенище появилась трещина, спустилась к стопе, и в конце концов сапожище с громким треском лопнул. Только пыль встала. Сивый усмехнулся. Бестолочи. Глаза выпучили, рты раскрыли. Да ты не гляди, что в тебя влезет два таких, как я, подмечай то, что в мою ладошку две твоих войдет. И всей-то руки не нужно, не плечом – ладошкой рву. На это гляди.
– Рты позакрывайте. Душа вылетит – не удержишь.
Бросил половинки сапога на улицу и прошел к себе. Впервые спокойно уснул. Сразу. Будто спал на мягкой перине.
Утром впервые обошел кого-то из млечей на бегу вокруг Вороньей Головы. Жаль, не Корягу. А когда к скале подбежал, от радости попробовал петь. Пел про скорые морозы, про девицу-красавицу, про горячую любовь, что снега топит, про верность девушки вою. В голос выводил переливы. Хоть и в четверть того, что раньше, а все же пел. То-то певцы доморощенные вылупились, даже рты пораскрывали. Всякий безголосый неумеха воображает, будто петь умеет. Ласточкой вспорхнул с обрыва, без брызг ушел головой в воду и широкими саженями погреб к тому берегу.
Вышел на берег все равно последним, однако чью-то спину перед самым поворотом все же увидел. Стало быть, не так все плохо. А молодцы даже поесть не успели, когда Сивый с ухмылкой ступил на двор. Воинство проводило Безрода мрачными взглядами и снова уткнулось в миски. Ели прямо на земле, вокруг костров, бойцы постарше – в тереме с князем и боярами. Безрод прошел мимо дружинных и бровью в их сторону не повел. На мгновение повисла тишина, в головах все гадости вертелись, но Моряй скорее прочих оказался на язык:
– Поглядите, идет гордый, будто горы своротил! А всей-то горы – крохотный мешочек. А гонору на всю Воронью Голову!
Парни грянули громким смехом. Иные чуть не подавились. Нашел время шутки шутить! Безрод не обернулся, однако губы в ухмылке растянул. Шутка – не гадость. Узнал голос.
Сивый ушел есть в избу. Оставил в миске немного каши для домового. Всякий раз проверял, принял ли? Принимал. Не оттого ли даже на голых досках спалось мягко и спокойно, будто на пуховой перине?
На ратную поляну Сивый забрал с собой березовое поленце, чтобы не зря время проводить. Сел так, чтобы только ноги и видели, а что человек делает, было деревом скрыто. Прижался затылком к старому дубу. Пошептался со старожилом дубравы, вылил в корни полный кувшин меда. Тот, что принес Тычок. Без балагура пить одному не хотелось, а пить с кем-то – да и не с кем. Утвердил на коленях березовое полено, угловатую четвертину, прошептал что-то и положил пальцы на острый край. Ущипнул ногтями, оторвал волоконце…
Гуща заревел как бык. Так по загривку получил, что звезды из глаз посыпались. Того и гляди, лес подпалят. Вскочил на ноги, поискал глазами Безрода, чтоб зло сорвать, как давеча Коряга сделал, и, всхрапывая, словно настоящий бык, бросился к дубу. Однако, не добегая пары шагов, остановился и замер. Будто с разбегу наскочил на каменную стену, хорошо мозги не расплескал. Сидит себе человек в березовых стружках, личину из полена стругает… Да не железом – пальцами! Уж и лик носатый из дерева проступил, угадывается борода, усы, высокий лоб. Больше ничего пока не видно. Гуща и дышать забыл. Сидит душегуб и образ лепит, будто не дерево под руками, а хлебный мякиш. Пальцы в кровь сбил, но это понятно – отвычка. Дело наживное. Пяток поленьев, и снова пальцы мозолями покроются. Вся дровина кровью измазана, прямо по лику пятна идут. И вдруг понял Гуща, чей лик так благосклонно принял кровь. Ратник. Смертник поднял глаза с немым вопросом. Млеч закусил губу, покачал головой. А следом уже топали Коряга, Рядяша, другие. Увидели, что Гуща замер, как столб, решили выяснить, в чем дело. Безрод едва шаги услышал, лик упрятал за спину и одним жестом стряхнул с ног березовую стружку. Очень выразительно поглядел в глаза Гуще и притворился спящим. Гуща подумал-подумал и несколько раз яро пнул дерево, будто человека. Прошипел, чтобы все слышали:
– Получи, соглядатай полуночный! У-у-ф, полегчало!
И за руки отвернул всех обратно на поляну. Мол, время не ждет, враг на носу, а безродина свое получил.
Вечером, перед самым заходом солнца, в ту закатную пору, когда последние лучики растекаются по земле, Безрод встал на свое место в дверях. Уже не держался руками за створ, сложил их на груди. И тотчас получил сапогом в грудь. Потом еще одним. И еще. Восемь дружинных вышли на середину избы, обозленные до предела, если только была середина в избе, сплошь заставленной ложами. Коряга, Дергунь, Взмет – млечи, Торопь, Шкура – соловеи, Гривач, Остряжь, Лякоть – бояны. Глаза горели у всех восьмерых. Надоел смертник пуще неволи, и без того зажился на белом свете. Будто сговорились.
– Полно бока отлеживать, гадина полуночная. Завтра на поляну выйдешь. Сам не выйдешь – силком поставим.
Безрод молча кивнул и ушел в свой угол. Завтра, так завтра.
Утром на бегу троих обогнал. Одного вплавь. Есть не стал. Наоборот, ушел на задний двор да желудок очистил. И отдыхать не стал. Завернул в тряпицу обед – хлебец, миску каши, ушел на поляну и отдал старому дубу. Присел в корни и о чем-то долго говорил со стариком, прижавшись макушкой к стволу. Не хотел спать, а все же сморил сон. Сладкий сон с запахом дубовой коры.
Безрода разбудили голоса. Ухари орали, смеялись, кого-то поносили, обвиняли в трусости. Дескать, мирных поселян резать – это одно дело, а встать против дружинного – на это нужна подлинная смелость. Сивый не стал спешить. Получилось бы, словно нашкодивший отрок бежит на очи разгневанного наставника. Лишь положение переменил, зашуршал листьями. Голоса мигом смолкли, и раздался топот ног. Вои подбежали и остолбенели. Спит, рвань дерюжная, почивать изволит. Как будто из важных дел осталось только выспаться под старым дубом и день проводить! Уму непостижимое спокойствие. Словно не было вечером разговора. Лякоть пнул смертника мыском сапога под ребра. Зашипел:
– Вставай, безродина! Вчерашнее помнишь?
Безрод открыл глаза. Хотел было зевнуть да передумал. Никогда в людях не зевал и нынче не будет. Отвечать не стал, просто кивнул. Притворяться сладко спящим без толку. С какого бы просонья ни подскочил, а глаз никогда не бывал заспан! Всегда холоден и остер. Сколько раз пробовал спящим притвориться – парни на заставе не верили. Шутили, смеялись, по плечам хлопали. Дескать, пустое, даже не пытайся. Сивый встал, прижался к старому дубу щекой.
Поглазеть на представление сбежались едва не все дружинные. Отвада встал в самой середке, а вои расчистили место, как будто еще одно судилище подготовили. А так и есть. Сейчас князь громогласно объявит: «Предать полночного лазутчика смерти!» – и все. Восемь здоровяков почешут кулаки – и на сук стервеца.
– Ну, чего встали? – Отвада весело захлопал в ладоши. – Время не ждет! За дело принимайтесь! Или шутов на потребу ждете? Один есть, и хватит!
Коряга, Дергунь, Взмет, Шкура, Торопь, Гривач, Остряжь, Лякоть разом взяли в кольцо. Обычный человек уже под себя пустил бы от страха, а Безрод лишь ухмыльнулся. Вот только обычные люди не морозят равнодушием из глаз, не угрюмничают от солнца до солнца.
Коряга ударил под дых, Дергунь – в грудь, Шкура – в лицо, Лякоть – с обеих рук по почкам, а Безрод закрылся, как умел. Жестокие удары потрясали с головы до ног, но уже с первых кулаков Безрод оценил битейщиков, будто заглянул каждому в душу. Вымерил все умение и силу, усмехнулся разбитыми губами. Жить будет, несмотря на то что у молодцев разыгрался нешуточный задор.
Безрод продержался столько, что остальные, раскрыв рты, столпились вокруг восьми битейщиков, где девятым в круге стал комок перекрученных жил, гудящих от напряжения.
Гуща молчал и ничего не понимал. Вроде и пожил на белом свете, но вчера собственными глазами видел то, о чем только слышал краем уха. И вот теперь перед глазами… Млеч пытался найти всему объяснение, и такими вдруг мелкими показались свои и чужие!
– Падай, падай, – шептал Моряй. – Искалечат ведь! Да к лешему гордыню, падай!
Но Безрод не мог упасть раньше, чем вокруг поймут, что не бравые парни избили подлого душегуба, а Сивый сбил кулаки восьми храбрецам. Так то!
Когда Безрод простился с памятью и лег на землю, битейщики, тяжело дыша, опустили руки. Гнев ушел через кулаки, и стояли восьмеро пустые, словно испитые крынки. Против желания всех на поляне переполнило восхищение.
– Чего же сам не бил? – почесывая затылок, пробубнил Лякоть.
– Тебе в битву не сегодня-завтра. – Щелк снисходительно похлопал его по плечу. – И ручонки береги. Меч придется держать.
Глава 4 Поединщик
Грустным выдался праздник урожая. Справить его, как обычно, не удалось. Не резал князь последнего снопа в ближайшем поселении, не варили пива хмельного, не водили девки хороводов. Скорее всего, и до осенних свадеб дело не дойдет. Не успеть. Потому играли свадьбы, не дожидаясь урочного времени. Князь еще и старейшин подгонял. Дескать, не откладывай жизнь на потом, живи теперь.
Кто-то из дружинных женился, но кто именно, Безрод не знал. Да и знать не хотел. Только вчера встал на ноги и по-прежнему сторонился всех. Отлежался несколько дней, и, едва смог ходить, стал пропадать на заднем дворе. В душе кошки скребли. Сначала на закат грешил, такой багряный, что глаза резало. Багровое знамение грозило в скором времени обернуться большой кровью, но Безрод махнул на примету рукой. Не иначе кровь еще из глаз не ушла, вот и видится мир в красном свете. День и ночь дал Отвада дружинным на свадьбу. Маловато, конечно, и на том пусть благодарят. Женатые по семьям соскучились, однако ни жену приласкать, ни детей потетешкать сил теперь не оставалось. Безрод ухмыльнулся. Силы всегда только на дурость находятся, как бы ввосьмером одному кости посчитать. Отвада суров. Жен отослал в глубь стороны, в леса, чтобы не отбирали у воев последние силы. На последние силы боец должен покрепче взять меч – и уйти в битву, спокоен за семейство.
За амбаром, там, где открывался вид на всю губу, и нашел Безрода Стюжень. Присел рядом, спокойный, степенный, каким и должен быть верховный ворожец. Негоже ему быстро бегать, часто говорить, суетиться. Молча взглянул на море, на багровую солнечную дорожку, тяжело вздохнул.
– Полуночник идет. Завтра будет. – Безрод заговорил первый. Стюжень вздрогнул.
– Откуда знаешь?
– Гляжу вот на море, и мерещатся следы крови на снегу. Снег рано падет.
– Да, раненько в этом году.
– А почему я с восьмерыми устоял, знаешь?
– А то как же! Дурак потому что!
– Не без того. Но пока не узнаю, что было в бане, когда ты надо мной ворожил, не уйду. Кто был тот парень?
– Ну-у, жить тебе, Сивый, вечно! – Стюжень улыбнулся.
Не хочет старик говорить, и не надо в душу лезть. Чужая душа потемки, кто знает, что прячет верховный ворожец? А у самого лучше, что ли? Когда били, в душе что-то страшное во весь рост поднялось, пробовало наружу вылезти, едва сдержался. Еще бы чуть-чуть… На мгновение так нутро охолонуло, и без тех восьмерых едва не помер. Уж как душу запахнул, про то отдельный сказ.
– Поди, разгадал уже княжью задумку? Почему в живых держит?
Безрод кивнул, разжевал стебелек мурмурки, горький, терпкий. Теперь свою погибель ясно видел. И на том спасибо, что доведется от меча помереть, не от удавки.
– Ты, главное, седмицу продержись, я того, четвертого, с покалеченной рукой, разговорю.
– Поздно. Ни к чему теперь.
– Имя очистить никогда не поздно.
– Хочешь помочь – помоги. Живет в гончарном конце у Жичихи Тычок-старичок. Добрый малый. Не дай пропасть, как уйдут полуночники.
Стюжень заглянул в глаза, но Безрод лишь отвернулся. Нельзя давать людям пить обреченность из твоих глаз. Это как мертвая вода – сам пей, а другим не давай.
– Ты должен выстоять.
– Я никому не должен.
Сивый усмехнулся. Все, кому он был должен, пируют нынче у Ратника. Так странно было слышать про какие-то долги, что Безрод не сдержал улыбки. Даже последнему дураку в Сторожище ясно, что княжий смертник не протянет седмицы.
– Твой меч у себя держу. Никто пальцем не тронул.
Безрод кивнул.
Ворожец ухмыльнулся в бороду, отвернулся.
– А насчет князя помни мои слова.
Сивый усмехнулся. Никак ослышался? Выходит, старик не оставил своей дурацкой затеи? Все о том же толкует?
– Рот прикрой. Душа вылетит – не поймаешь. – Верховный поднялся, на прощанье бросил: – Помни.
Ни свет, ни заря зычный крик переполошил Сторожище:
– Корабли! Тьмы-тьмущие!
Князь и старшие дружинные конные высыпали на берег. Море усеяли темные точки, и все прибывали из-за дальнокрая и прибывали. Отвада глядел на море, сузив глаза, и медленно качал головой. Слишком, слишком много полуночников. Один – впятеро, как пить дать! В лучшем раскладе один – вчетверо. Оттниры ни баб, ни обозов за собой не тащат, только бойцы на ладьях. Рубиться в чистом поле – заведомо полечь.
– Возвращаемся. Город запереть.
Ладьи укатили в леса еще раньше. Вставать на полуночника морем – только людей терять и корабли. Всегда кажется, будто чего-то не доделал, что-то ускользнуло от острого глаза, цепкой памяти, но что именно – выяснится только потом.
– Закрывай город! – зычно прокричал Отвада.
Вои забегали, засновали, под стенами в городе расцвели костры, и… пошел снег.
С Безрода теперь глаз не спускали. Водворили в темную клеть без окон и наружу больше не выпускали. Двое сторожевых неотлучно находились у двери. Лик Ратника, щипанный из березового полена, бросили следом.
Ровно отняли Безрода у белого света. Не видело его солнце, не видели звезды, не видел месяц рогатый. Был человек, и не стало.
Как долго просидел в темной, Сивый не знал – потерял счет дням, стал безразличен ко всему вне клети. И раньше за лишним днем не особо гнался, теперь же и подавно. Только и делал, что втемную щипал лик из полена.
Спал без снов. Не было ни вещих снов, ни даже простых. Едва клал голову на березовое полено, будто в пропасть падал. Парил в черной бездне и не мог, подобно камню, рухнуть на дно, и не мог воспарить, как птица. А может быть, это душа тело покидает? Не сразу, а постепенно? Сперва возвращается, потом и вовсе не вернется.
Все случается в этой жизни. Случается порой такое, хоть бочонок меду осуши, в хмельных видениях не привидится ничего и близко похожего. Отворилась однажды тяжелая дверь, и вывели Безрода на свет. Сивый щурился. Бледное осеннее солнце немилосердно резало глаза. Какое-то время даже казалось, что светило жжет сильнее, чем в летнюю пору. Почти ослепшего, Безрода повели куда-то за руку, второй он прикрывал глаза. Все вокруг изменилось, и даже глаза были не нужны, чтобы это понять. До узилища время от времени долетали какие-то звуки, и уже не знал Сивый, сон это или явь? Смертник шел, зажмурившись, а вокруг хрипели, стонали, бранились дружинные. Где-то в отдалении булатными голосами пела битва. Голоса поющих мечей, щитов, секир Безрод узнал мгновенно. Его куда-то подвели, заставили подняться по ступеням, и чей-то хриплый голос рявкнул:
– Руку с глаз долой!
Сивый отвел руку, сощурился. Человека, стоявшего рядом, Безрод узнал сразу. Отвада-князь. С лица спал, кольчуга в трех местах порвана. Должно быть, и под кольчугой не все ладно. Кривится, из глаз искры мечет. По всему видать, не первый день рубятся. И с такой ненавистью Отвада глядит, будто ухмылка Безрода только хуже сделала. Смертника подвели к самому высокому месту стены, если посмотреть вниз – голова кругом пойдет. Князь тоже подошел к самому краю и бровью не повел, когда вокруг засвистели стрелы. Сложил руки воронкой, поднес ко рту и так рявкнул, что перекричал гул сражения. Кто-то снизу крикнул в ответ. И такая встала тишина, густая да вязкая, хоть топор вешай.
– Эй, Брюнсдюр, рыбоед протухший, глаза б мои никогда тебя не видели, хорошо ли речь мою разумеешь?
Попутный ветер забросил на городскую стену голос предводителя оттниров. Сильный голосище, густой, словно мед в дупле! Как играет! Должно быть, Брюнсдюр неплохо поет. Безрод усмехнулся, это ясно всякому, кто худо-бедно умеет слушать.
– Да, князь, речь твою разумею. Вот только голос твоего меча никак не услышу.
Полуночная сторона грянула дружным басовитым хохотом, и Безроду показалось, что в море смеха, не мешаясь с остальными, грохочет голос вождя оттниров. Теперь Сивый голову отдал бы на отрез, что вождь полуночников поет не хуже местного сказителя Витея. А у того под словом пиво делалось хмельнее, кровь бежала быстрее, хлеба поднимались без дрожжей. Отвада и сам улыбнулся. Красивому броску, сильному удару, острому слову как не улыбнуться? Тот, кто живет клинком, всему цену знает.
– Тебя ждет мой меч. А уж песню сыграет – заслушаешься! – весело крикнул князь, оглянулся на своих, подмигнул.
– Чего же ты хочешь?
– А всякий ли бой твои парни знают? Или только стенка на стенку? Оно и понятно, в стенке даже неумеха спрячется.
Безрод тяжело сглотнул и потер глаза. Скоро все кончится. Вот он, княжий приговор.
– Никак скучаешь, Отвада-князь? Сколько моих воинов из шкуры лезут, а тебе все скучно! Чем тебя потешить? Говори сейчас. Город возьму, станет не до смеха. Сам смеяться буду.
Безрод глядел туда, откуда прилетал сильный голос, пытался разглядеть князя полуночников, но мешали слезы. Разбередил отец-солнце глаза после долгой отвычки, в слезы бросил. Ничего не видно.
– Есть у меня диво-поединщик! Когда рубится, будто песню поет! С мечом чудеса творит! Пляшет так, что подметки отлетают! Да только в стенку не поставлю! Все равно что свиней из золотого корыта кормить. Как тебе такое диво, поедатель рыбы?
Брюнсдюр не замедлил с ответом. Грянул так, что, не будь ветра-помощника, и без того услышали бы.
– Голомей, князь млечей, уж на что силен был да храбр, а все равно побил я его.
Млечи на стене засопели.
– Соловейский князь Рев был угрюм, рубился тяжело, да скучно. Но я поднялся с ложа и вскорости забыл про те раны.
Соловеи набычились, насупились, поглядывали вниз мрачно, исподлобья.
– Но ты, Отвада-князь, – другое дело! Я справлю по тебе пышную тризну! Такого врага у меня еще не было.
– Так нравится мое диво, Брюнсдюр-ангенн? Выставишь своего поединщика?
– Да!
– Значит, на рассвете?
– Да!
Отвада повернулся к Безроду, хищно оскалился.
– Твой черед подошел. – Князь усмехнулся. – Догадался, кто этот диво-поединщик? Уж ты спой, спляши, не посрами князя!
Дружинные едва наземь от смеха не осели. Умеет князь развеселить, будь то мир или война! Этот неровно стриженный, неподпоясанный смертник, седой да худой, завтра на рассвете уйдет на верную гибель. Смех один! И, кто бы ни победил, Сторожище останется в выигрыше. Если Безрод побьет оттнира, глядишь, поубавится спеси у полуночников. А если побьют Сивого, тоже не беда. Выйдет князь на стену и скажет: «Ай, спасибо! Сделали за меня черное дело! Этот сивый горазд лишь глотки исподтишка резать да золото в темноте таскать! Благодарю, что зарезали, самому мараться охоты не было!» А безродному придется завтра со своими рубиться. То-то потеха предателю выпадет! Говорят, этот сивый продал Волочкову заставу полуночникам! Поэтому и остался в живых. Значит, сам из полуночников! То ли рюг, то ли урсбюнн. Собаке собачья смерть! А чтобы к родичам не сбежал, даст на мече клятву. Хуже нет бесчестья для того, кто свой меч ложной клятвой сквернит. Не будет ему покоя ни у своих, ни у чужих. Последнее дело на мече ложную клятву приносить. Прилюдно поклянется.
Безрод возвращался в дубовую клеть и чувствовал себя необыкновенно легко. Как будто выше ростом стал. Плечи раздались, грудь колесом выгнулась! Словно бы таскал на ногах неподъемные колодки и разом сбросил. Там, на стене, оглядел дружинных, каждого нашел глазами и усмехнулся.
Князь и остальные думают, что не добрый малый выйдет утром на поединок, а предатель, трус, купчина, только не меха продал нечестивый торгаш, не зерно – жизни товарищей. Все сторговал, никого на белом свете не оставил. В клети Безрод сел на ложе, вздохнул. Дверь дубовая, а дуб – дерево праведное, ему нет нужды объяснять, что да как. Князю кажется, будто все выйдет по его задумке. Чем бы ни обернулось заряничное единоборство, он окажется в выигрыше, словно удачливый игрок в кости, чью руку направляет сама судьба. Как же, завтра свои своих начнут резать! Тут, пожалуй, весь город станет за Безрода болеть. Чтобы подольше остался жив и побольше оттниров уложил на речную гальку.
Сивый горько ухмыльнулся. Как бы и впрямь княжья правда не вышла. Может быть, не только на словах, а на самом деле Безрод по рождению полуночник? Ведь никто не признает его своим. Кому же охота признавать соплеменником эдакое страшилище? Лицом ужасен, будто прокаженный. Еще бы! Всякий дурак руку приложил, а то и нож. Где уж тут ладно выглядеть в свирепой личине?
Эх, прижаться бы щекой к мечу, пусть клинок и кажется холодным. Согреет так, как не всякая девка, успокоит, как не всякий успокойщик-доброхот. Безрод хотел было встать с ложа, подойти к двери и стучать, пока не откроют, но что-то глубоко внутри подсказало: «Сиди! Сиди спокойно, само образуется». Только ухмыльнулся, вытягиваясь на жестком ложе.
Ждал того, о чем предупредило чутье, и дождался. Дубовая дверь отворилась, и остатний вечерний свет, багровый, будто кровь, пролился в клеть. Утренняя заря и вечерняя – две сестры. Утренняя озорней, вечерняя мудрее, печальнее. Облитый малиновым сиянием, в темную вошел Стюжень и принес меч.
– Обещал – держи.
Сивый бережно, как сокровище, принял меч, огладил ножны, словно здороваясь, пожал рукоять. Несмотря на прохладные дни, рукоять осталась теплой, будто вовсе не остывала.
– Печати утром порву.
– Молись, парень. – Стюжень заметил в изголовье березовый лик. Усмехнулся. Узнал. Поклонился.
– Помолюсь.
Знал, что должен отдохнуть, но сон не шел. Просто лежал, скрестив руки на груди, а бок подпирал березовый лик Ратника. Хотел было что-то рассказать покровителю воев, да передумал. Усмехнулся и промолчал. Ратник и без того знает, что у кого на уме. Под утро Безрод забылся тревожным сном, и даже не сном, а дремой. Слышал возню мышей в углу, и, едва скрипнула дверь, тотчас открыл глаза.
Вывели еще затемно. Хоть и ненавидит князь, а делает разумные вещи. Тут даже ему Ратник не даст глумиться. Позволяет привыкнуть к свету, чтобы не сразу бросаться в его пучину, а потихоньку войти. Пока же темно, и только на востоке начинает еле-еле багроветь. Безрод к Отваде не пошел, остановился поодаль, ухмыльнулся. Не спрашивая дозволения и благословения, глядя прямо в глаза, одним рывком сорвал ремешки с печатей.
– Рубаху долой, безродина! – Кто-то из млечей потянулся огромной лапищей к вороту.
Мол, чего со смертником нянчиться! Полагается без рубахи выйти на поединок – будь любезен. Сивый прянул назад, не дался.
– Руки не тяни, орясина. – Безрод ухмыльнулся здоровяку прямо в лицо. – Без сопливых скользко.
Уже все собрались. Даже ночью бойцы со стен не уходят, как тут уснешь. Наверное, вовсе не спят. И никак не назовешь сном то короткое забытье, куда парни проваливаются, когда кончаются силы. Не от кого-то слыхал, сам знает. Кое-кого из дружинных недостает. В рядах защитников города зияют пустые места, словно дыры. Многие перетянуты повязками, все без исключения измучены, лица потемнели, будто сажей вымазаны. Первый снег почти весь растаял. Развезли, растоптали в грязь, в кашу. Под ногами хлюпало.
– Поди сюда, – поманил князь. – Взгляни.
Безрод подошел. Взглянул туда, куда показал Отвада. Под стеной журчала Озорница, изгибалась, ровно змея, и плакалась пресными слезами соленому морю. Таких речек, сколько Безрод за Волочком ни ходил, не видел. Как правило, далеко к морю небольшие реки не добирались. Мелкие речушки впадали в реки покрупнее, те расширялись, разливались, и уже не поймешь, то ли еще река, то ли уже море. А Озорница текла сама по себе, подбегала к скалам и низвергалась прямо в море меж острых камней. И перед самым устьем, аккурат под городской стеной, родился у Озорницы каменистый плес с одним деревом. На этот плес и показывал Отвада. Что-то говорил, а Безрод смотрел на князя и все больше верил Стюженю. Чего без толку пялиться на тот плес, глаза слезить? Плес никуда не денется. Куда интереснее смотреть на князя. И чем дольше глядел Безрод на Отваду, тем больше ему нравился этот воитель. Если бы мог, сам пошел на утренний поединок и с радостью сложил голову, но не пойдет. Отвада нужен тем, кто с любовью и верой глядит в спину. Будет улыбаться, когда не хочется, шутить, когда не шутится, а если до рубки дойдет – первым бросится в пекло.
– …С тобой, рвань, говорю. Слушаешь?
– Нет. – Безрод повернулся спиной и отошел.
Говорить без толку. Сивый сел на чурбак у кипящего котла, между ног поставил меч на кованую пяточку, оперся спиной о столб и закрыл глаза. Странная война. Вчера побоище прервали в середине дня. Остановили бойню и через стену перешучивались, уговаривались о поединке. Отвада сосватал Безроду поединщика из первейших. Абы кого на утренний поединок не выставят. Только не знает ангенн полуночников Брюнсдюр, кто именно выйдет от боянской стороны на плес. У оттниров на плес выйдет первый среди первых, и Безрод сильно удивится, если тот окажется здоровенным костоломом вроде Рядяши. Скорее всего, полуночник будет среднего роста, сух и травлен сединой. Безрод ухмыльнулся.
– Тычка позовите, с гончарного конца. – Не открывая глаз, бросил туда, где шуршали сапоги и звучала речь.
Замолчали. И почти сразу же раздался топот ног. Наверное, вои переглянулись, Отвада кивнул, и самый скорый убежал в гончарный конец.
– Ты вот что… – кто-то подошел ближе, кашлянул. Незнакомый голос. – Любят полуночники по глазам метить. Ну… тот их удар с разворота, когда бьют сверху вниз, а с середины заворачивают и пристраивают клинок под брови. Сделать так очень тяжело, но оттниры учатся этому сызмальства.
Сивый открыл глаза посмотреть на советчика – и обомлел. Князь. Рядом никого нет, дружинные разошлись по сторонам. Потому и не узнал голос Отвады, что тот говорил без надрыва, без натуги. Спокойно говорил. Так вот какой у тебя голос, Отвада-князь! А он-то все больше с личиной лаялся! Отчего же князь прячется за нее, зачем хочет казаться злее, чем есть на самом деле? Сивый и Отвада мгновение глядели друг на друга – и как будто выстроили меж собой хрупкий мосток. Однако наваждение быстро исчезло. Сломалось что-то внутри у князя, глаза подернулись обычной насмешливой злобой. Снова глядел на Безрода жестокий воин, синие глаза полыхали злобой, губы поджал. Безрод ухмыльнулся.
– Уйди, князь. Не ходил я за тобой год за годом, так и учить нечего. Пустое.
Отвада уже давно наблюдал за Безродом. Иногда, когда Сивый отворачивался и не смотрел на князя, у того прорывалось на лицо что-то теплое, истинно отеческое. Но злоба сминала все, подминала под себя. За долгие ратные годы поизносился князь, истончилась душа, вошло в нее горе и грызло изнутри. Князю бы тепла сыновнего, да где ж его взять? Так и стояли друг против друга – горячий, как пламя, князь и холодный, как лед, Безрод. Стюжень раньше всех разобрался, что к чему, успеть бы только.
Тычка пустили на двор. Старик подбежал и обнял Безрода, отпускать не хотел.
– …А если погибну, сделай все сам, тело мое никому не отдавай.
Тычок едва не плакал. Только-только начал улыбаться – и на тебе! А Безрод сам себе удивился. До чего же старик по жизни замерз, если рядом с ним тепло показалось. Сивый что-то еще говорил, а старик никак не хотел отпускать. А когда все же отлепился, глаза оказались на мокром месте. Безрод отвернулся.
Солнце вставало над дальнокраем – огромное, багровое. Смертник, не дожидаясь понуканий, вышел со двора сам. С ним двое дружинных и ворожец. Не Стюжень. Другой. Полагалось идти в середине, позади ворожца, но Сивый ушел первым. Пусть догоняют. Уже за городской стеной расправил плечи, поднял голову – тем шире и выше, чем ближе подходил к реке. С той стороны к реке шли четверо – трое с мечами и полуночный ворожец. Безрод, не снимая сапог, полез в воду. Утащить Озорница не утащит, но по грудь вымочит. Дружинные неловко глядели на старого ворожца, хотели перенести, а тот им:
– На меня смотреть нечего! Не растаю. Лучше под ноги себе глядите! Не пришлось бы реке кланяться! – Подобрал рубаху и, что-то шепча, полез в воду.
Сивый глядел на полуночного ворожца. Таков же отчаюга? Таков же! Только помоложе.
Ворожцы сблизились, о чем-то пошептались. Поединщики смотрели друг на друга с интересом. Полуночник был уже по пояс обнажен, рубаху, видать, в стане оставил. Жилист, узловат, трачен сединой, причем седины меньше, чем у Безрода. Оттнир происходил из племени рюгов. Расписной рюжский пояс держал черные кожаные штаны. Ворожцы разошлись, к Безроду подошел полуночный, к рюгу – боянский.
– Твой ли это меч? – Ворожец кивнул на клинок Безрода. Говорил по-боянски, и Сивый прекрасно его понял, несмотря на то, что слова старик выговаривал жестко.
Пожал плечами, вынул меч из ножен, протянул ворожцу. Тот одну руку положил на лезвие, другую на Безродов лоб, закрыл глаза, и кругом вывесилась мертвая тишина. Сивый с кривой ухмылкой вспоминал, как в кузнице разрезал руку над раскаленным клинком, как вскипела кровь – и не вверх облачком вознеслась, а в сталь просочилась. В каждом мече душа живет, девица-огневица, солнца дочь, ратного бога сестрица. Из жаркого пламени переходит она в клинок, кузнец запирает ее в лезвие да приговаривает: «Живи, огневица, душа-девица, красиво и благостно и никогда тягостно, в новом доме светло, заботой да ласкою тепло, вражью пей кровь, бей и в глаз, и в бровь…» В тот день приняла девица-огневица кровь Безрода, признала. Не подведет, лишь ты первый не обесчести.
Ворожец-полуночник открыл глаза. Кивнул. Да, меч принадлежит поединщику по праву. Подошел к самой воде, сложил руки воронкой, поднес ко рту, закричал своим:
– Его меч! Быть бою!
Полуночники заревели, вверх полетели шапки.
Старый Урач проделал то же самое с мечом полуночника. Повернулся в свою сторону и крикнул в Сторожище:
– Его меч! Быть бою!
Город потонул в едином крике.
На поединок звал боянский князь, Безроду и приносить клятву первым.
– Пусть могучий Тнир и храбрый Ульстунн с небес глядят за моей рукой! Пусть громовержец Ратник и всеблагой Отец-солнце убедятся в чистоте моих помыслов! Не опущусь до бесчестья, в том порукой мое слово! – Безрод порезал мечом грудь против сердца, прямо по рубахе, ладонь сложил ковшиком, набрал полную пригоршню крови и выметнул в воздух, богам. И своим, и чужим. Глядите. Судите.
Оттнир первыми призвал боянских богов.
– В свидетели чистоты помыслов зову повелителя молний Ратника и Отца-солнце! Приглядите за мною с небес праведным оком, могучий Тнир и храбрый Ульстунн! Клянусь, что не оскорблю святости поединка! Быть по моим словам!
Взывай за справедливостью перво-наперво к чужим богам, чтобы ни у кого не возникло сомнений в победе. Чужих богов на ложь и лесть не купишь.
И вот на плесе остались только поединщики. Оттнир повернулся к своему берегу, задрал голову в небо, разбросал руки в стороны, о чем-то зашептался с Тниром. Безрод лишь ухмыльнулся. Куда поворачиваться? К Сторожищу? Лицом к князю? Нет уж! Повернулся к солнцу, подставил лицо. Хорошо, что солнце восходит не над Сторожищем, если смотреть отсюда с плеса. А вот о чем просить солнце, и не знает. О жизни? А чего о ней просить? Знать бы еще, что с нею делать!
Рюг подобрался, стал похож на меч. Так же холодно заблестели глаза из-под бровей, сведенных в ниточку. В рыже-седой шерсти на спине и плечах прячутся старые шрамы.
Только теперь Безрод снял рубаху, когда никого вблизи не осталось. У рюга аж глаза от удивления округлились, хотел было спросить – да вовремя язык стреножил. И ведь пожил, всякое повидал.
А дальше было то, чего никто не ожидал. Ни бояны, ни полуночники. То-то Брюнсдюр-ангенн удивится – уж он как пить дать знает в этом толк! Пусть слышат все, как поет последний осколок дружины воеводы Волочка! Пусть рюг стоит и глаза таращит! Безрод запел, а оттнир на самом деле замер, глаза вытаращил. Много храбрецов и силачей в стане на берегу реки под стенами города, но такое под силу лишь Брюнсдюру, и, выходит, не с одним – с двумя сразу схватился этот неровно стриженый боян. Меч скрестит не с кем-нибудь – с ним, Хаксэльве, что, говорят, с клинком родился. А перепеть пытается Брюнсдюра. А он просто ангенн, и этим сказано все!
– …Растворю амбары, распахну хлева, эх, вы, тары-бары растабары, напеку на целый мир добрые хлеба, эх, вы, тары-бары растабары, что судьбы мне злой жестокие удары? эх, вы, тары-бары растабары, ни за что погибну, просто так, задаром эх, вы, тары-бары растабары…Богам песня понравилась, солнце ярко плеснуло сквозь осенние тучки, и на мгновение вернулось лето, а со стороны полуночников громыхнула запоздалая гроза.
И крикнул Безрод рюгу, чтобы тот сбросил чары переливчатого хриплого голоса:
– Эй рюг, не спи, замерзнешь!
Сивый ударил первым. От правого плеча к левому бедру. Рюг вкрутился в центр сверкающего полукруга и, в свою очередь, повел меч снизу вверх, от бедра к плечу. Поединщики встали, как начали, только местами поменялись. Разошлись на два шага, и рюг ударил первым. Двуручным хватом, сверху вниз, словно колун обрушил на полено. Над головой такие удары не встречают. Рука не удержит собственный меч, вражий клинок все равно сломит защиту и достанет голову. Отводят скользящим касанием в сторону или назад, да и не бьют подобным образом, если мало-мальски возможно получить упреждающий тычок острием в лицо. Мечи попробовали друг друга и звонко спели. Этого момента знающие люди ждут. Клинки тоже обладают голосом – каждый своим. И началась бешеная пляска с короткими перерывами. Три-четыре удара, перерыв, три-четыре удара, перерыв… Сверху, снизу, в голову, по ногам. Оттнир вперед не кидался, собственной силой не бросался, подарков не делал. Безрод, возвращая себе ратный навык, несколько раз ладонью отшлепнул рюгов меч. Этот прием бояны знали как «пощечина», он требовал изрядной наглости и тонкого расчета.
Долго такие поединки не длятся, Сивый узнал рюгу цену, и, чем быстрее все закончится, тем лучше. Еще немного, и все решит не умение, а случайность. Безрод намеренно подставился, замешкался, приготовился к боли. Рюг тут же переменил руку, бросил меч в левую и нанес резкий удар в подреберье. Сивый, не сходя с места, изогнулся вбок – меч оттнира просвистел над самыми ребрами и оставил после себя тонкий, длинный разрез, – распрямился, ударил сам. Едва встал ровно, перед глазами полыхнуло, скривился от боли и зажал рану ладонью. Рюга распорол от бедра до шеи. Оттнир сделал два неверных шага и в ручье крови рухнул наземь. Вряд ли выживет. Добивать Безрод не стал. Шатаясь, подошел к рубахе, морщась от боли, надел. Мокрая рубаха приятно легла прямо на полыхающую рану. Красиво получилось. Такого никто раньше не делал, – сам придумал. Был похожий прием, только там поединщик отгибался не вбок, а назад. Слава Ратнику, складываться вбок получается чуть не вдвое. Впрочем, уловку еще оттачивать и оттачивать. Не углядел оком – заплатил боком!
Оттнир захрипел. Сивый вложил в его холодеющую руку меч и, не оглядываясь, вошел в реку. Когда рана скрылась под водой, хотел остаться в этом блаженстве навсегда. Выбрался на берег и, стараясь не шататься, побрел вперед. Со стен восторженно улюлюкали, что-то бросали вверх, шапки, наверное, но ничего этого Безрод не видел. Глядел под ноги, чтобы не споткнуться, и считал шаги. Сам не заметил, как дошел. Не успел оглянуться – встал на княжьем дворе. Его окружили дружинные и повели себя донельзя странно. Кто глаза прятал, кто норовил по плечу дружески хлопнуть, кто угрюмо кивал в знак одобрения. Не глядя по сторонам, Безрод побрел прямиком к себе в клеть, в темноту, в сон, в забытье. Даже словом ни с кем не обмолвился, будто нет никого вокруг. Да так и есть, двор заполнен, а людей нет, воды никто не подаст. Ну и ладно, не привыкать.
Как долго пролежал – сказать некому. Едва упал на ложе, так и провалился в забытье, положив деревянный лик под больной бок. Поил свежей кровью. Когда поднялся, стало ощутимо лучше, даже озноба не было. А ведь ждал. Которые сутки пошли? Третьи?
– Вторые. – Стюжень присел на колоду, знаком велел молодцам отойти от дверей, чтобы свет не застили. – И горазд же ты спать! Только-только солнышко встает. Рубаху снимай.
Безрод покачал головой. Не сниму. Ни к чему.
– Тогда, вставай. Иди в свет.
Сивый встал и покачнулся. Сделал неверный шаг, второй, третий, встал в дверях. Оперся о створ. Всем тяжело дались эти сутки. Потрепали защитников. Кое-кого даже Безрод не увидел, не обращавший на дружинных особого внимания.
Недавний поединщик вышел во двор. Раненые лежали в дружинной избе, откуда не стихая неслись проклятия, ругань и стоны, оттуда же вынесли умершего от ран воя. Безрод рухнул на завалинку, уронил голову на колени и уснул бы, гори все ярым огнем, если бы Стюжень за плечо не потрепал.
– Князь ждет. Вставай.
– Чего ему?
– Сам скажет.
– А полезут когда?
– По-разному. Когда ночью, когда днем. Вот солнце встанет, и полезут.
Стюжень протянул руку, Безрод отстранился. Слава богам, руки-ноги на месте. Сам встал. А что в глазах звезды забегали, эка невидаль! Не первый раз и не последний. Опять по ступеням на стену подниматься! Ворожец шел следом и чему-то улыбался. Стюжень тоже осунулся, но ему худоба – что камню зубило. С боков обтешет, сердцевину откроет. И стал верховный еще больше похож на валун. Здоров же седобородый!
Князь на взводе ходил взад-вперед по стене, как прошлый раз. И был так же зол и яр. Кольчугу заменил. Старую пустили на кольца для латок.
Безрод встал перед князем. Встал, хотя пуще неволи хотел сесть прямо наземь. Но сесть не предложили. Князь и дружинные воззрились на победителя, как на диво. Сивый усмехнулся. Сам говорил, что диво-поединщик, чего же таращится, будто впервые видит? Поди, не ожидал, что падет рюг. Отвада, наконец, заметил, что Безрод шатается, показал на бочонок у стены – дескать, садись. Сивый и глазом не повел, остался стоять, будто не увидел.
– Здоров ли?
– Издалека заходишь. Чего надо?
Отвада закусил губу. Дерзит. Впрочем, и раньше дерзил, ничего не поменялось.
– Знатно рюга уложил.
– Сам не знатен, кладу знатно.
– Еще раз пойдешь.
– Полон город воев.
– Тебя не жалко! – ухмыляясь, бросил князь.
– Нет. Кончай здесь. – Безрод развернулся уходить.
В спину догнал голос Перегужа.
– Сынок, передых нам нужен. Хоть на денек.
Сивый замер у самой лестницы. Медленно повернулся. Просит бывалый, посеченный воин, просит вместо своего князя, у которого злоба язык отняла. Просит не за себя – за тех бестолочей, что проливают кровь на городской стене и гибнут. Сивый помолчал и усмехнулся.
– Только ради тебя и выйду, Перегуж. Только ради тебя. – Сказал и ушел.
Пытались перевести в амбар к здоровым или в дружинную избу к раненым – не пошел. Упрямо затворился в своей темной клети и понемногу начал тягать из ножен меч, руки нарабатывать. И сам удивлялся. Дыхание должно быть сиплым, бок должен просто гореть, как после раскаленной кочерги, а на поверку выходило не так все плохо! Утром Безрод вставал на ноги и до одури махал мечом. Снова видел себя отроком, которому воевода наказал рубить воздух от рассвета до заката. Даже в беспамятстве руки должны рубить сами. Простое движение должно въесться в самую плоть.
Иногда давал себе отдых, садился и вспоминал. Чем же пахло тогда в избе Волоконя, когда на мужскую половину вынесли новорожденного мальчишку? Молоком, хлебом, прелыми пеленками. Наверное, так и должен пахнуть дом. А еще дом должен пахнуть женщиной. И железом. Огнем, деревом и кашей. И в какой-то момент становилось не по себе. Страшно. Когда так собою бросаешься, что стоит однажды разбросаться близкими? Если на себя плевать, не станет ли однажды плевать на счастье, пахнущее молоком?
На ночь клал под бок деревянный лик. И в свете лучей солнца, когда приносили поесть, всякий раз находил его в свежей крови. Пусть пьет. Пусть кровь дурную тянет.
На третий день вышел из клети. Дружинных стало еще меньше, двор – еще захламленнее, живые – помятее, чернее, измученнее. Запертый в своей клети Безрод не видел ни одной схватки. Жизнь проходила мимо, да с собой не звала. Сивый не знал, кто из оттниров порубил воеводу Долгача, что сидит на бочонке и морщится под руками ворожца. Какой полуночный ухарь посек Трескоташу так, что пол-лица пришлось замотать льняной тряпкой, отчего шатается Перегуж? Нынешняя война – будто клетка для боевого пса. Выпустят подраться, да обратно водворяют. И не оборвать эту цепь. Есть пока приносят. Значит, голода еще нет.
Отвада стоял на стене и мрачно глядел вниз, на полуночников. Пришли с полуночи, вот и помереть бы им на полудне. Безрод шел к плесу и спиной чувствовал взгляды всего города, и среди всех один, достающий ножом до сердца. Княжий.
– Его душа! Его меч! Быть бою!
Даже полуночный ворожец смотрит с каким-то странным выражением в линялых глазах. С каким – поди загляни в его темную душу! Но насмешки во взгляде больше нет.
Старый Урач крикнул свое:
– Его душа! Его меч! Быть бою!
Безрод вытянул меч острием вверх. Пусть Ратник молнией войдет в клинок и поразит нечестивца, если он нарушит данное слово.
– Глядите с небес за поединком, могучий Тнир и храбрый Ульстунн! Да не увидят ваши глаза ничего, кроме удовольствия от битвы! Никто не попеняет тебе, громовержец Ратник, и тебе, Отец-солнце, за то, что ваш потомок нарушил клятву! Я все сказал!
Сивый, не снимая рубахи, положил новый порез рядом со старым. Новой крови – новую дорогу. Когда выбросил пригоршню крови в небо, город взорвался криком радости, а с дуба снялся черный ворон.
Теперешний противник Безрода, неулыбчивый крепыш с грустными, холодными глазами, из гойгов, отдал богам такие слова:
– Метатель молний Воитель, и ты, светлый Отец-солнце, я честно одолею вашего сына в поединке, и пусть не будет в этом обиды! Могучий Тнир и ты, храбрый Ульстунн, вам я посвящу честно пролитую кровь!
– Боян, ты не подаришь своим врагам песню? – Из стана полуночников прилетел могучий голос. Вблизи еще более сильный. Слушая такой голос каждое утро, вои должны исполняться тонкости души и крепости духа.
– Меня не нужно упрашивать, Брюнсдюр-ангенн! Я и так сделаю это! Жди мою песню и в следующий раз! – Дерзость, и еще раз дерзость.
Безрод ухмыльнулся. Тяжко в жизни дерзким и дурным.
Брюнсдюр густо расхохотался со своего берега. Ушли ворожцы, ушли провожатые, Безрод и гойг остались на плесе одни. Сивый скинул рубаху, и гойг в изумлении попятился, будто увидел змею. А Безрод поднял руки с мечом в небо и запел:
– Одно лишь помню – меч поймал, врагов рядами окружен, и без души на землю пал, изрядно сталью посечен. Сколь долго духом был забыт — мне память ведать не велит, а как вернулся дух гульной и просветлел я головой — со страху обмер, сам не свой! Водитель воев, где же я? Чье неживое волшебство сюда забросило меня? Где сонм поверженных врагов, что не сжалел моих боков в никчемной схватке роковой? Ведь если я, как таковой, в суме изметной седловой везу лишь постных пирогов для пары крепких едоков, да турий рог для пития, одно выходит – баловство был весь тот праздник бития, где тьма сошлась на одного…Гойг начал стремительно. Меч взмывал и сверкающей молнией падал. Через раз оттнир менял направление удара, отворачивал клинок и бил по глазам. Та самая полуночная уловка, о которой предупреждал Отвада. Впрочем, Сивый и без того прекрасно знал коварный прием оттниров. Полуночник вел схватку весьма осмотрительно – вперед не лез, равновесие держал прочно, безрассудно за мечом не тянулся. Зато Безрода мотало под ударами крепко. Но он лишь улыбался. Гойг стал запаздывать. Ход его меча удлинился, между тем как меч Безрода ходил короче и быстрее. Сивый так раскачал крепыша-полуночника, что тот на три четверти опоздал с защитой. Безрод уже сек, а полуночник только опускал клинок. Врубился мечом в шею, и наземь чуть не упали двое – гойг и его голова.
Не криком – ревом изошло Сторожище. И Безрод ревел от того, что стонали потревоженные ребра. Боль навалилось только после боя. Сивый нахлобучил на голову рубаху, пролез в рукава, вошел в реку. Вышел на берег, в кулаке отжал подол.
Растопил удачливый поединщик толстый лед. В стенах города, сами не свои от радости и гордости, дружинные протягивали Безроду руки, пытались похлопать по плечам, бойцы постарше скупо кивали. Хмель победы унес неприязнь. Безрод рук не жал, похлопываний избежал, ни в чьи глаза не глядел. Молча прошел к своей клети, а подойдя, недоуменно остановился. У дверей стоял Стюжень и уходить не собирался. Стоял мертво, загородив собою вход и скрестив руки на груди.
– Уйди.
– Ты не вернешься в клеть.
– Вернусь.
– Твое место в дружинной избе.
– Нет.
– Ты встал на полуночника ради Тычка.
Безрод нахмурился. Хотел что-то сказать, но промолчал.
– Ты встал на полуночника ради Перегужа.
Безрод сцепил зубы.
– Сынок, не прошу встать на оттниров ради меня. Я только прошу уйти из темной.
Вои подобрались ближе. Потрепанные, порубленные, но счастливые. Однако с лиц понемногу уходила радостная улыбка.
– Я не дружинный князя. Не пойду в дружинную избу. И я по-прежнему приговорен.
Безроду показалось, что ворожец под бородой и усами едва не смеялся. Губ не видать, глаза под брови спрятал, но хоть ты тресни – как будто смеется! А еще Сивый давно хотел спросить: «А ешь-то ты как? Моржачьи усы не мешают?» Стюжень только буркнул:
– Оговорен ты, а не приговорен! – и ушел с дороги, прямой, будто ладейная сосна.
Парни потоптались, почесали затылки да и разошлись кто куда. Отсыпаться и раны зализывать, пока время есть. Даром ли Сивый на плесе подставлялся?
Безрод вошел в дубовую клеть и рухнул на ложе.
Глава 5 Брюнсдюр
Три дня Безрод провел словно в тумане. С некоторых памятных пор дверь перестали запирать, и стражей возле нее больше не было. Нужда отпала. Сивый знай себе резал мечом воздух и отдыхал, резал – и отдыхал. Прижмет князя – опять на плес выгонит. А прижмет, как пить дать. Сторожищу никуда не деться, и помощи ждать неоткуда. Раньше надо было думать, когда полуночники прибрежных князей по одному щелкали, как орехи. Все оказалось проще пареной репы – ума не хватило млечам и соловеям объединиться, гордыня поперек головы полезла. И где теперь млечи и соловеи? Под князем боянов. Те, что остались. От судьбы не уйдешь, она тебя перехитрит, а ты ее – нет. Брюнсдюру эти поединки забава. Хорошую песню послушать – и то ладно. А что лучших воев теряют – злее будут. На этой войне новые заматереют. Брюнсдюр свой умишко не на печи высидел. Уж всяко не глупее Отвады. Никак не следует врага делать глупее, чем он есть на самом деле. Как только посчитаешь себя умнее врага, собирайся на тот свет.
А когда Отвада прислал за Безродом в третий раз, Сивый у самых ворот впал в озноб. Что-то не так станется этим утром. Безрод чувствовал себя так, словно зима вползла в нутро самыми лютыми холодами. Всего растрясло, будто в проруби искупался. Что-то случится. Безрод мельком взглянул на дружинных, измученных злыми набегами, посмотрел на верховного ворожца и усмехнулся. Так и есть. Стюжень отбросил ворожачий посох и ухватился за меч. Клинок у ворожца старый, очень старый. Истончился под правильным камнем, пообтесался, но даже теперь в палец шириной. Старику досталось – голова замотана, рукав порван и весь в крови. Глядит мрачно, но без исхода. Тяжело дается каждый день. А кому легко в эту мрачную пору? Безрод шел к реке и хребтом чуял – в третий раз не все пройдет гладко. Будет ли четвертый? Поглядывал на Урача, на воев – и знай себе мурлыкал под нос. В одном был уверен: песня получится такой, что оттниры рты разинут и закрыть забудут. И добро бы душа через рот к звездам вылетела, да назад не вернулась.
Невиданное дело! Неслыханное! Уходя с плеса, парни вполголоса пожелали удачи. Старый Урач просто схватил за волосы, притянул к себе и отечески поцеловал в лоб.
Безрод поднял голову и оглядел вражий берег. Дожили, свой берег вражьим обозвали! Дадут боги, ненадолго. Среди прочих оттниров стоял воитель в обычной поддоспешной рубахе из кожи и, скрестив руки на груди, глядел на плес. Сивый нутряным чутьем угадал в нем ангенна полуночников. Одно жаль – далековато стоит, лица не разглядеть.
– Я помню, Брюнсдюр-ангенн, свое обещание. По нраву ли мои песни?
– По нраву.
– А ведь бью вас, оттниров и так, и эдак.
– Эдак – это как?
– И мечом, и голосом. Понимаешь, к чему клоню?
Оттнир молчал. Только дурак не поймет, а князь полуночников далеко не дурак.
– Да, боян, понимаю. Ты храбрец и песни играешь знатно.
– Наверное, во всем твоем воинстве некому перепеть меня и перебить. Или обеднела полуночная сторона голосами? Осипла, шастая по морям? Или руки под веслами ослабели?
Оттнир помедлил, улыбнулся и покачал головой. Не обеднела, не осипла, и руки под веслами не ослабели. Все случается на белом свете, может быть, и найдется достойный поединщик сивому бояну, но вот перепеть его точно некому. Во всем войске не найти такого голоса… Молодые хорохорятся, кровь играет, им кажется, что хорошо спеть – проще простого. Открой рот, да набери побольше воздуху. Но крик и песня не одно и то же. Молодость на то и молодость, чтобы играючи браться за любое дело, но старые мореходы угрюмо отворачиваются. Сами были молоды, повидали, послушали. Ни гойгам, ни урсбюннам, ни рюгам не перепеть бояна. В кои-то веки встретил равного себе. Стало быть, нужно готовиться к худшему – в следующий раз выходить на плес придется самому. Слишком далеко все зашло. Еще не известно, какие песни сложат об этих поединках у реки. Неровен час, получится так, что одного бояна всем войском воевали! Тяжела честь! И не просто одолей бояна на мечах, а перепой!
– Как ты узнал, что я пою?
– Мне раз человека услышать.
– Быть посему.
– До встречи!
Брюнсдюр только кивнул.
Сивый оглядел поединщика… вернее, поединщиков, и поежился. Одно лицо, два человека. На плес вышли братья, которых, наверное, родная мать путала. Пошутили боги над доброй женой, в небесном зеркале отразили мальчишку, и стало их двое. Сивый знавал таких. Близнецы друг без друга никуда, оба по девкам, оба в драку, а в битве таким равных не бывает. Один другого понимают с полуслова и бьются так, что у противника в глазах двоится. Вот, значит, отчего нутро вымерзло, вот почему хмурился Стюжень и улыбался князь!
Безрод, усмехнулся, без лишних слов кивнул и воздел руки к небу, замкнув над головой полный круг. Засыпает Отец-солнце, спрятался в тучи, ровно в пуховые перины. Спит-спит, а проснется. От того, что услышит, как не проснуться?
– Черный ворон, воронок, граешь надо мной, Юность буйная прошла дальней стороной, Бросив отчий уголок, пыли наглотался, В чужедальней стороне весь поиздержался, Полных сорок сороков истоптал сапог, Исходил дружинным тысячи дорог, Вражьей крови наземь слил – море-окиян, По живому злым мечом трижды по три рван, Затянулось, зажило, стану дальше жить, Чтобы в битве страшной голову сложить, Во широком поле прямо у реки Грудью в грудь ударили ратные полки, Бились, не щадились, мечный звон стоял, И последним из дружины я на землю пал…Песня еще разлеталась по обеим сторонам, когда с дуба поднялся черный ворон и улетел в сторону оттниров. Брюнсдюр слушал стоя, широко расставив ноги и по обыкновению скрестив руки на груди. Безрод чувствовал тяжелый взгляд полуночного вождя, полный немого сдержанного восхищения. И даже солнце ласково проглянуло сквозь пелену мрачных, совсем уже зимних, облаков, и будто теплой рукой кто-то прошелся по голым плечам Безрода. Благодарило солнце, понравилось.
И они пошли. Зашли с разных сторон, зато ударят наверняка одновременно. Дело только на замах шло, а Сивый уже знал, как поступить. Стало вдруг яснее ясного, что удумали близнецы. Безрод скорее молнии взвился в воздух и нырнул вперед. Двух ударов сразу не отразить, и насколько будешь быстр, настолько и жив. Ударили разом, один в грудь, другой в ноги. И не подпрыгнешь, и не присядешь, и всей-то жизни осталось – меж небом и землей, меж двумя мечами. Безрод распластался в воздухе, вытянулся в струну, и клинки близнецов просвистели сверху и снизу. Сняли клок волос. И ладно, что только волосы. Зато меч Безрода напился полуночной крови по самый дол. Оттнир дернулся, обмяк, и меч увлек хозяина за собой. На ногах раненый не удержался, упал на колени, а из распоротого бока захлестало, ровно из бочки с брагой, когда корчмарь выбивает пробку. Пробовал зажать – без толку. Моря не вычерпать решетом. Второй озверел, как медведь, зажаленный пчелами. Перед Безродом заблистало стальное кружево, только воздух засвистел. Но один на один – всяко полегче.
Вдруг Сивый разорвал мечную вязь, отскочил на несколько шагов и замер. Вытянул руку с клинком, нацелил острие в лицо полуночнику и усмехнулся. Оттнир замер, тяжело дыша. Теперь будет один замах, один удар и одна смерть. Осиротевший близнец слышал про такое, где бойцы пытали друг друга терпением и неподвижностью. Иногда подолгу стояли.
Полуночник не стал ждать долго. Знал, что хорош в плетении стальных кружев, надеялся на силу и быстроту. Безрод позволил оттниру сделать резких замах, а сам лишь подшагнул вперед. Непостижимо просто и оттого невероятно скоро, обошелся вообще без замаха. Косая глубокая рана располосовала шею полуночника. Сивый отряхнул клинок, подобрал рубаху, трижды рассеченную в священной клятве, надел и побрел в город. У самого берега повернулся и долго глядел в глаза Брюнсдюру. Ангенн полуночников коротко кивнул. Быть сече. Быть поединку мечей и голосов.
Сивый не слышал криков горожан, если и были. В ушах стояли звон мечей и рев полуночников. На княжий двор Безрод ступил по-прежнему бирюк бирюком, ни на кого не глядел, ни с кем не говорил. Как и в прошлый раз, на приветствия не ответил, руки никому не подал, но Стюжень… Старик выступил вперед, его широченный меч покоился на вытянутых руках, а на лезвии стояла чаша, полная меду. Почетная чаша. Безрод оторопел. Впрочем, даже тут Сивый остался верен себе – усмехнулся и отпрянул, будто увидел змею. Замотал головой и сделал назад еще один шаг. Почетную чашу принимает лучший дружинный, а тут не лучший, и не дружинный.
Рядом с верховным встал Перегуж. Воевода и Стюжень загадочно переглянулись. Безрод не знал, что делать. И принять нельзя, и отказать верховному тяжело. Старик совсем по-дедовски принял все близко к сердцу, а Перегуж и вовсе по-отцовски! Глядит так, будто снимет пояс да и оходит по заду, как несмышленыша беспортошного.
– А вот попей, сынок. Устал, поди. – Стюжень говорит, а сам смеется, даром что ранен, и лихо кругом. – Медок сам настоял, словом заговорил. Не князь – город просит.
– Чужак я, – буркнул Безрод и, положив меч у ног, снял чашу.
– Каков певец, такова и честь! Ты вокруг оглянись, посмотри на людей! Глаза сияют, ровно звезды в небе! Послушай, что босота малолетняя на улицах поет!
Безрод прислушался. И ничего не услышал. Но город велик, не враз и обойдешь. Может быть, и поют. Наверное, не врет Перегуж.
Сивый припал к чаше. Вкусило горькой полынью, терпкой рябиной, клюквой и чем-то еще. Отменное питье! Последние капли Сивый метнул в воздух, и налетевший ветер унес их с собой, не дав упасть наземь. А Безрод зашатался, перед глазами все поплыло, завертелось. К нему кинулись Перегуж, Стюжень, но Сивый опередил всех. Будто скошенный сноп, рухнул в растоптанную грязь, в лужу воды и крови. Достал-таки второй близнец. Чаша крепкого меда Безрода и свалила.
– В избу. Живо, – рявкнул Стюжень.
Перегуж и кто-то из парней, подхватив беспамятное тело, мигом унесли. Вроде бы плакать надо. А ворожец улыбался.
Рана оказалась не опасной. Меч ровно и аккуратно рассек бок над печенью. Стюжень костяной иглой, волчьим сухожилием деловито сшил разрез. Известно, от волчьего живучей становишься. Во время штопки к Безроду вернулось сознание, и от нечего делать Сивый считал бревна в стене. Одно неудобство – в голове хмель буянил, с глазами играл.
Через день Сивый встал. Только погляди! Перенес-таки старый хрыч в дружинную избу! Что хотел, то исполнил. Безрод потянул бок. Болит, но жить можно. Ишь ты, даже ложе застелили, чтобы мягче почивалось! Вышел на крыльцо. Только что кончился приступ. Вои суетились, носили раненых. На пороге избы двое озирались: куда класть? Сивый кивнул за спину, дескать, клади на мое место. Как раз нагрел для такого случая. Вышел во двор. Там за амбаром, на пустыре стоит одинокая темная, в которой коротал время между поединками. Там и доживать свое. В тишине да темноте спокойнее песни складываются. Жаль только, звезд не видать, не треплет ветер неровно стриженую седину.
Но, повернув за амбар, Безрод остолбенел. Не стало больше темной. Сгорела. Дотла. Сивый сдал назад, в растерянности оглянулся по сторонам. Будто дом родной потерял. Как же так?! Видать, шальная огненная стрела попала в кровлю, в пылу схватки и не заметили. А как отбились, уже догорала. Безрод присел рядом с обугленными головешками и опустил голову. Усмехнулся. Куда теперь идти? Было единственное место, где мог укрыться от «гостеприимства» князя. В дубовых стенах клети все менялось, и съеденный хлеб ни к чему не обязывал. Куда теперь? Осталась только одна крыша – бескрайнее небо над головой. В закатной заре Сивый ступил на пепелище, разгреб сапогом золу, и вдруг из-под ноги, в облачке пыли выкатился березовый чурбак с ликом Ратника. Ты гляди, не сгорел. И даже кровь с лика не сошла.
– Дурак я. Мало таких на свете. – Безрод присел, взял в руки лик, усмехнулся. – Зато видать издалека.
Прижал к груди, бросил плащ на землю и, свернувшись калачиком, встретил осеннюю ночь.
Хоть и студеной выдалась ночь, Сивый будто на печи пролежал. Спекся весь, ровно глина в огне. Сам заполыхал, едва не сгорел. Таким и нашли поутру, в пылу да в жару. На нем даже иней стаял. Дружинные кругами ходили, а на руки взять не решились. Безрод волком глядел и ничего не говорил. Встать не мог, говорить не мог, трясся, будто пес после воды. Свернулся клубком, подтянул колени к груди, молча скалился, да зубы показывал. И лишь когда подошел Стюжень, успокоился. Но даже в горячке усмехался. Дуракам закон не писан, если писан – то не читан, если читан – то не понят, если понят – то не так. Последнее дело уходить на тот свет, оставляя после себя долги. Лучше задолжать другу, но не обмануть честного врага. Чуть не задолжал поединок Брюнсдюру. Что сказал бы ангенн полуночников, узнай о смерти противника? Наверное, удивился бы и спросил: «А где мой поединщик? С последней схватки ушел на своих ногах!» Ответили бы со стены: «Спекся, дурень, лежит в золе!» Усмехнулся бы оттнир и был прав. Сто раз прав.
Безрод открыл глаза. Крыша над головой. В середине и по бокам огромные рогатые столбы. Наверное, амбар. Весь ложами заставлен. Бойцы мрачны, угрюмы, точат оружие, перевязываются, кто-то спит. Горят лучины. Маслянки уже не зажигают. Нечего добро переводить, как бы голодать не пришлось. Многие ложа свободны, чисто застелены полотном, в изголовьях шлемы лежат. Эти, стало быть, отвоевались. Ничего, нанесут еще раненых, сразу после приступа нанесут. Сивый усмехнулся. Жизнь стала похожа на перегонки с ранами: одна затягивается, другая на подходе, третья порожек обивает. Из огня – да в полымя, ни дня без заботы. Уже и забыл – каково это, когда нигде не болит.
Безрод зашевелился, заерзал. Вои подняли головы. Хотел было съязвить, но промолчал. Смотрят настороженно, ровно не поймут, что за зверь такой? Было чудище, знали его страшным, зубастым, клыкастым, а вот сбросило шкуру, и как это называть? Глядят недоверчиво, не знают, каким глазом щуриться. Сапогом, как раньше, запустить неловко, но и княжий приговор по-прежнему в силе.
Сивый приподнялся на локте, поморщился – не с того бока вставать начал – и сбросил ноги вниз. Дружинные как-то странно косились. Многих Безрод уже знал. Моряй, Трескоташа, Щелк, Остряжь, Рядяша… Пока искал сапоги, чувствовал на себе взгляды. Поднял голову, непонимающими глазами оглядел каждого и похолодел.
– Сколько без памяти был?
Прошептал еле слышно, однако, Моряй, лежавший ближе всех, услышал.
– Два.
– Болтал?
– И болтал, – Моряй улыбнулся, – и пел.
– Пел? – Безрод нахмурился. Неужели про счастье, пахнущее молоком? – Что пел?
– Да разное. – Моряй, как ни был измучен, едва не смеялся. – Мало в краску не вогнал, а уж мы всякое слышали!
И весь амбар грянул таким гоготом, что спящие подскочили, а со столбов снялись перепуганные голуби.
Два дня Безрод провалялся в горячке, все это время пел, и закрыть ему рот не было никакой возможности. Почитай, два дня вои не спали, слушали, разинув рты. Иногда боялись, что Сивому не хватит дыхания, так долго держал он голос. Два дня Безрод мотал парней по морям неизбывной тоски и молодецкой удали. Два дня Сивый вспоминал речной плес, поединок за поединком, и теперь вся дружина знала до слова разговор Безрода с вождем полуночников. Два дня без устали твердил, что нужно во что бы то ни стало выйти на плес, просто выйти, а там будь, что будет. Что еще наговорил?
Сивый нащупал сапоги и слабыми руками натянул. Хорошо, что у столба положили, можно встать. Постоял у столба, прогоняя головокружение, сделал шаг. Вои что-то говорили, предлагали плечо для поддержки, но Безрод и глазом не повел. Отмолчался. Ни к чему. До задка сходить помощь не нужна. Да и потом обойдется. У самых дверей Сивый покачнулся и едва не упал. Ухватился за створ, прижался к двери и выстоял свою слабость. А когда Безрод вышел, Моряй буркнул в пол:
– Нет на нем вины. Не он разбой учинил. Те четверо.
– Да что ты говоришь? – с издевкой протянул Взмет, один из восьми битейщиков, которым Безрод рассадил кулаки собственными боками. – Тут прямо и кинусь в ноги прощение отмаливать!
– Ему, дурень, твое прощение вовсе не нужно! – вмешался Прям. – А даже попросишь – все равно не простит.
– Да разбойник он! Справедливым судом, небесным промыслом приговорен к смерти!
– Дурак ты, Взмет, дурак и слепец! Возжелай боги его смерти, лег бы под первый же меч там, на плесе! Трижды ушел на своих ногах.
– Все равно приговорен! – из своего угла встрял Шкура. Он тоже бил.
Прям с сомнением покачал головой.
– Я пожил и людей вижу до дна. Этот не возьмет и пылинки чужой. Помирать будет, а чашу воды у тебя не примет. А ты говоришь, разбойник! Уж на что тяжко было, а не принял от вас, дураков, ни милости, ни прощения. И не примет. В старину говорили, с такой гордыней рождались только Ратниковичи. Самого Ратника сыновья. Так-то!
– Он разбойник! – чуть не в один голос крикнули Шкура и Взмет.
– Тяжко нынче князю. У кого сын на руках не умирал – тому не понять. Я Расшибца учил на лошади ходить, а под лошадью сам выучился. Здоров был! На плечи взметал своего гнедого. А Сивый с княжичем одно лицо. Вот и рвет сердце Отвада. Лютует. Безрод жив, а сын помер. Тяжко князюшке. – Прям говорил, будто сказку сказывал, тихо, напевно. Взмет и Шкура насупились и все равно остались при своем.
– Вот придет – и запусти сапогом в лицо. Думаешь, испугается? – жестко отчеканил Моряй.
Запустить в человека сапогом, зная, что не будет ответа, не это ли последняя гадость? И не потому промолчит, что испугается, а потому, что каждая пара рук теперь на вес золота. Затевать глупые ссоры – делать за оттниров черное дело. А еще в скором времени предстоит выйти на плес к Брюнсдюру, и об этом тоже нельзя забывать. Шкура и Взмет отвернулись, а весь амбар напрягся: что же будет?
По возвращении Сивый замер в дверях и со слабой улыбкой ждал. Сапога. Который почему-то не летел. Безрод оглядел воев одного за другим, и каждый спрятал глаза. Ухмыльнулся, пошел к себе и, как мог, держал спину прямо.
– Больно ты горд, Волочкович. – Голос низкий, густой, хриплый.
Сивый обернулся.
– Сапога ждал? А напрасно. – Рядяша встал у серединного столба, скрестил руки на груди. – Не будет больше сапог. Поиграли, хватит. За один город кровь льем.
Поиграли? Безрод мрачно ухмыльнулся. Как все просто! За один город кровь льем! Сивый доковылял до серединного столба и встал напротив бугая Рядяши. Молча нашел глаза молодца, и взгляд Сивого получился красноречивее слов.
Рядяша конфузливо потупился.
– Вылежал бы себя. – Прям подошел ближе. – Ведь не подарок Брюнсдюр. Сам знаю.
– Тебе-то что за печаль? – усмехнулся Безрод.
– А есть мне печаль, когда хороший человек сам себя губит! – Прям покачал головой. – Не ершись. Дураков на свете больше, чем кажется. На всех зла не удержишь. Вот тебе моя рука. Хочешь – пожми, хочешь – нет.
Сивый долго смотрел на протянутую руку, наконец отвернулся и пошел к себе. Дружинный так и остался с протянутой рукой.
– Думаешь, не знаем, отчего на пепелище ночевал? Под княжью крышу не захотел идти? – Прям говорил в спину без злобы, просто с горечью. – Зло таишь, от людей хоронишься. Как бы один не остался.
И без того один остался. Хуже не станет. А ты, Прям, не марайся, руку тебе не пожму. Не иди против князя, не наживай из-за меня злосчастья. Пожмешь мне руку, а в один прекрасный день все же решит Отвада жизни лишить, да на тебя укажет. Что делать будешь? Станешь веревку на моей шее затягивать и душу пополам рвать.
Ночью Безрод опять стал плох. Метался в бреду, пел, всех переполошил. Бессильные что-либо сделать, раненые ворочались и слушали. Хорошо, что пел Сивый негромко, что-то спокойное вроде колыбельной. И лишь Коряга, измученный бессонницей, с горящими от бешенства глазами подскочил с ложа, схватил нож и ринулся к Безроду. Но путь млечу преградили Щелк и Сдюж. Коряга опомнился, сдул щеки, вернулся на место. А когда Безрод запел про тихую ночку, про теплый ветерок, уснули все, даже Коряга. Глубоко в ночи пришел старый Урач, напоил Безрода горячим отваром и укрыл потеплее.
Утром полуночники двинулись на приступ. Сивый пришел в себя, лишь когда в амбар, грохоча, ввалились вои и, сняв шлемы с пустующих мест, положили раненых. Мрачные, нелюдимые, они тащили друг из друга стрелы и помогали перевязываться. Безрод молча ждал, пока из Моряя вынут стрелу – вошла в шею, но неопасно, – перемотают полотном, и лишь тогда подошел.
– Князь где?
– Слег. Порублен. – Говорил Моряй тяжело, еле слышно. – Но даже порубленный улыбается.
– Их все так же много?
– Уже поменьше. Один-втрое, а то и вдвое. Тоже не зря хлеб едим.
– Денька три еще простоите?
Моряй закрыл глаза. Может, да, а может, нет. Сивый огляделся. Кто еще вчера на ногах стоял, теперь лежмя лежит. Каждый день в городе зажигают погребальные костры. Порубленных находников кладут в ноги павшим защитникам. Сегодня ты зажигаешь костер под соратником, завтра под тобой зажгут. Безрод вышел во двор. Как там нынче Тычок? Должно быть, обезумел старик от запаха боли. Вот уж чего в избытке! Закачало. Сивый прислонился к столбу и ждал, пока не прояснится перед глазами. Выходит, в самом удачном раскладе один-вдвое. Помощи ждать неоткуда. Так или иначе погибать, но уж лучше отпустить дух в бою, чем от голода.
– Чего задумался? Того и гляди, от умных мыслей лоб треснет. – Стюжень вразвалку подошел ближе и без сил рухнул на бревно у столба. Держался за бок, но никаких рук не хватит зажать такую рану. – Вот передохну малость – и к раненым подамся. Вот только передохну…
Безрод покосился на старика. Самого штопать и штопать, а все туда же!
– Руки дрожат?
Сивый взглянул на огромные руки верховного. Вроде не дрожат, а то сам не видит!
– Да не мои, дурень! Твои! Штопать меня станешь.
Безрод поднял с земли жердь, вытянул руки, замер. Перед глазами поплыли звезды, но руки остались тверды. Сивый помог ворожцу встать, и оба неторопливо пошли, один качался, второй шатался. В избе новоявленный ворожец запалил все лучины, все маслянки, из амбара принес лик Ратника, поставил в углу. Заговорил иглы и сухожилия. Старик тяжело дышал, а по широкой скамье уже растеклось озерцо крови.
– Слово скажу. По шее потом дашь, когда встанешь. И не перечь, нынче ты не указ.
Стюжень пил крепкий мед, молчал и только косил налитым кровью глазом. Мол, потом поговорим, ворожец, так твою…
…Безрод обрезал сухожилия, накрыл старика волчьей шубой, сел на лавку у стены, и самого будто выкрали. Даже маслянки не задул. Так и замерли один подле другого – заштопанный старик и ворожец-самоучка. Один на скамье, другой – на лавке у стены, откуда скатился потом на пол. И все равно не проснулся, лишь глухо застонал. Догорели маслянки, изба погрузилась в темень. Заглядывали другие ворожцы, заглядывали воеводы, князь присылал справиться, как там Стюжень.
Сивый очнулся от собственного стона. Послушал дыхание старика, усмехнулся, тихо вышел наружу и, обласканный полной луной, поколченожил к амбару. А когда проходил мимо городской стены, замер. Который день на исходе? Третий? На стенах всегда кипела жизнь, кто-то нес дозор, кто-то точил оружие. Безрода узнали, поздоровались, как с равным. Сивый тяжело поднялся на стену, приложил руки к губам и крикнул, что было мочи:
– Э-э-э-й! Брюнсдюр-ангенн, никак спишь?
Стан полуночников недолго молчал. Из темноты прилетел низкий, могучий голос:
– О да, седой боян, я узнал тебя.
– Я уж думал, спишь. Не ранен ли, Брюнсдюр-ангенн? Хорошо ли почивалось?
– Нет, боян, я не ранен.
– Жду тебя на плесе через день. Застоялся что-то. Скучно.
Брюнсдюр помолчал.
– Хорошо. Я ждал. Не пей, боян, холодного молока. Береги горло. Прошу.
– И ты, Брюнсдюр-ангенн, зазря не подставляйся! И не подходи близко к реке. Сыро, как бы голос не сел.
С того берега реки по морю лунного света приплыл зловещий, раскатистый хохот. Безроду смеяться не хотелось, от боли в боку едва не плакал, но парни, окружившие со всех сторон, смотрели с тайной надеждой. Сивый натужно, деланно расхохотался. Вои, стоявшие ближе всех, отпрянули. Так и слуха лишиться можно. Безрод смеялся с грустным лицом, и силу для смеха черпал не в веселье, а в боли. Отсмеявшись, едва не падая, сполз по бревнам на тесаный настил. От натуги перед глазами зацвело, чисто летом на заливном лугу.
– Чего же так скоро? – спросил кто-то из дружинных. – Рано. Отлежался бы пару дней. Порубит Брюнсдюр.
Безрод молча покачал головой. Нет у вас, бестолочи, пары дней. Нет. День-другой, и сомнут полуночники. Уже который день подряд через стену перелазят. Хорошо, везет пока.
Совершенно обессилел. Ровно в одиночку закидал мешками и бочатами полный трюм Дубининой ладьи. Безрод спустился со стены и, качаясь, поковылял к себе. Стелясь тенью, нырнул в амбар и, как бревно, повалился на ложе. Скоро встанет солнце, а там и поглядим.
Утром Безрод, едва глаза открыл, почувствовал на себе взгляды. Ну, что еще? Опять пел, спать не давал? Чем недовольны? Сивый усмехнулся. Все стоящие на ногах, как один, обступили ложе Безрода. Потрепаны, перевязаны, исхудали, посерели.
– Никак бредил ночью?
Перегуж тут как тут. Воевода сунул руки за пояс, подступил вплотную, насупился, заиграл бровями.
– Что ж ты, подлец, делаешь? Легкой смерти захотелось? В дружину к Ратнику не терпится? Зачем на рожон полез? Почему не вылежался?
Ты гляди, ровно и впрямь отец. Поговорит-поговорит, а возьмет и всыплет.
– Засиделся. На волю хочу. Тесно, душно, задыхаюсь.
Безрод встал перед воеводой. Пока князь от железа страдает, Перегуж всем дружинным заместо отца.
– Ты, парень, языком не трепли. Враз оторву. Не абы кого вызвал – Брюнсдюра! Посечет за здорово живешь! Видал? – Воевода вытащил рубаху из-за пояса, задрал. Уродливый шрам белесой нитью вился по всей груди. – Насилу ушел.
Сивый усмехнулся.
– А я не уйду. Уж как в город вошел, все к тому идет. Скорее бы.
– С огнем играешь.
– Это вам все игры, а я устал.
Безрод обошел воеводу и побрел из амбара вон, соратники поневоле расступались, без помех давая пройти. Удивленно глядели вслед и поджимали губы. Сивый будто сам себя приговорил. Говорит нехотя, смотрит холоднее обычного, ровно покойник ходит по белу свету.
Перегуж сердито оглядел воев. Не того ли хотели? Повесить, утопить, обезглавить, стрелами утыкать? А себя на его место никто не ставил? Конечно, до такого никто не додумался! Не пора ли задуматься, о ком сложат песни после этой войны? О боянах? О млечах? О князе? Как бы не так! О человеке, который заставил весь город расправить плечи, набрать полную грудь воздуху и смеяться во всю мочь. И встал последний против первого. Ведь так? Свою чару пьет до дна сам. Воевода мрачно оглядел дружинных и вышел.
– Всем лежать. Нечего скакать. Утро вечера мудренее.
Безрод ушел на задний двор, сел на бревно и долго смотрел на море. Всего ничего осталось. Дождаться бы завтрашнего утра. Над морем дымка висит, белая, словно молочный дух, а налетит ветер – порвет в клочья, развеет по сторонам. Не было молочного счастья и уже не будет. Даже глазком не взглянул и пальцем не потрогал. Вьется дорожка, у каждого своя, идешь по ней, сколько богами отмерено, в болота лезешь, в трех соснах кружишь, а на чужую не перескочить. Долю не обмануть, глаза не отвести. Как идешь, так и смерть принимаешь. Пятками сверкаешь – в спину бьют, а прямо идешь, головы не гнешь – так и бьют в самое сердце. Тяжко в жизни дуракам. Голова не гнется, зато и видать издалека.
Ноет бок. Но странное дело, только начни мечом махать, вмиг обо всем забудешь. Будто и нет никаких ран. Поплачутся кровью, да усохнут. Завтра не мелочь сопливая на плес выйдет – первый из первых. Таких днем с огнем ищи по всем сторонам – не вдруг и сыщешь. В море бы войти. Пусть обжигает студеная вода. Она ведь, как мать, всякого примет, в грязи извозишься – отмоет, душой зачерствеешь – размягчит. Будет шуметь-пошумливать, ровно колыбельную петь. Безрод закрыл глаза и мысленно вошел в море. И так стало спокойно, будто смыло с души грязь, кровь, дурную память. Перед последним поединком душа должна быть свежа, как роса на лугу, горяча и трепетна, как жеребец в поле.
Никто не посмел войти на задний двор. Дворовые, завернувшие сюда по хозяйственной надобности, замирали и тихонько шли на попятный. Перегуж и сам долго стоял, во все глаза глядел на Безрода.
– Эх, парень, парень. – Воевода горько покачал головой. – Во всем Сторожище от силы один-двое Брюнсдюру под стать, и то – как счастье обернется. Куда тебе с твоими ранами? Эх, парень, парень!..
Сивый перестал шептать, замер неподвижно. Только ветер трепал волосы, с рубахой забавлялся. Перегуж поставил у заднего двора дружинного, чтобы никто войти не смел. Утром седому да худому тяжелее всех придется. В стенке не спрячешься, о помощи не попросишь. Весь на виду.
Вечером Безрод переступил порог амбара, замер на мгновение, и тотчас получил сапогом в грудь, да с такой силой, что едва не вынесло с крыльца. И следом еще несколько.
– Пригладь перья, воробей! – заорал взбешенный Коряга. – Распушил, словно жар-птица! Не ты один жаждешь против Брюнсдюра встать! А если ты сдохнешь, я пойду! И не бывать мне битым, безродина! А жив останешься – про сапог мой помни! Нечего поединками прикрываться! Полно глумиться над честными людьми, предатель, змей островной!
Млеч раскраснелся, жилы на шее взбухли, будто ладейные канаты, достиг предела в своем лютовстве. Разве что на куски Безрода не порвал. Как потерял всю семью, так и обезумел в ненависти к оттнирам. На тень бросался, белый свет стал не мил, себя не берег.
Дергунь и того пуще взбесился. Едва пеной не плевался, чуть рубаху на себе не порвал, за нож схватился. И не понять, что кричал, насилу успокоили. Всем тяжко полуночник вышел. А Безрод знай себе улыбался. Глаза пусты и бессмысленны, в руках сапог теребил. Рядяша встал между Корягой и Сивым, буркнул:
– Охолони, млеч. Назад сдай. Не ершись и к Безроду не цепляйся. Кого увижу за непотребным делом, бить буду смертным боем. Всех касается.
Плюясь руганью, ненавистники Безрода разошлись по местам. И не потому, что испугались, – правда поединка остудила ненависть, вернула рассудок. Рядяша и Моряй, встав рядом, переглянулись. Лишь бы ничего не случилось этой ночью. Не приведите боги оказаться на месте Безрода перед схваткой. Ни друзей, ни покоя. Даже уйти некуда.
– Этот не мог продать своих, – задумчиво промычал Рядяша, стоило Сивому уйти в свой угол. – Руку на отрез дам! Ошибся князь, ох, ошибся! Да и мы хороши!
Восход солнца Безрод встретил на улице. Сидел на колоде, привалясь к стене, глядел на розовато-серое небо и дышал полной грудью. Чем угощал ветер напоследок? Бросил в нос запах моря, что собирал по всей губе, и даже клок тумана урвал с берегов Озорницы.
Все, кто мог ходить, как один вышли во двор. Даже ненавистники. Рядяша и Моряй вышли вперед. Сами пойдут с Безродом до плеса. Хоть и не друзья, но больше не враги. Из утренней дымки вышел Стюжень. Еще тяжело ходить, но дойти до плеса и вернуться назад сил хватит. Губы под бородой сжаты, видать, крепко отговаривал князь. Однако не послушал старый, сам пошел.
Безрод, ни на кого не глядя, встал, двинулся сквозь толпу. Люди расступались молча. Может быть, и хотели сказать что-то доброе, да языки не ворочались. С Безродом говорить – будто с мертвым, слова пропадут втуне, ответа не дождешься. А если порубит его Брюнсдюр? Так и сложит голову душегубом? Так и останется предателем? Ворожец оглядел дружинных. У кого глаза злом не горят, те молча глядят в сторону. Эх, крепко сидит в душах приговор князя!
– А ну стой, парень! – Стюженев голосище разметал тишину двора, ровно шалый ветер палые листья. – Стой, говорю!
Сивый остановился не сразу, будто не услышал. Повернулся и недоуменно стегнул верховного холодным взглядом. Ворожец подошел ближе. Посмотрел сверху вниз, покачал головой да и сгреб в охапку. Безрода видно не стало в могучих стариковских объятиях, только сивая голова наружу и осталась. Не стал вырываться, лишь прижался лицом к твердой, как валун, груди ворожца. Так и замер бы на веки вечные. Жаль, плакать нельзя.
– Хочешь – не хочешь, а и я обниму. – Из-за спины Стюженя вышел Прям. Старик разомкнул объятия, и бывалый воин сдавил Безрода крепким хватом, как родной брат, от души, тепло. Сивый усмехнулся – жаль, не мелочь сопливая, разревелся бы в три ручья.
Сам отстранился и быстро пошел вперед. Рядяша с Моряем – следом, шествие замкнул Стюжень. Коряга отчаянно плюнул под ноги. Как ни лез под мечи на стене, смерть стороной обходит. Не тем везет в жизни. Несправедливо…
Стюжень поцеловал Безрода в лоб, Рядяша и Моряй потрепали по плечу, и на плесе остались лишь двое. Брюнсдюр оказался высок, на полголовы выше Безрода, плечист, велик, но не огромен, по груди вился светлый волос. Князь оттниров глядел спокойно, не суетился. Борода короткая, глаза светлы, едва не белы, кажутся стылыми, ровно весь полуночный холод в них собрал.
– Я пришел, боян.
О-го-го! Вблизи голосище ангенна вышел еще сильнее. У Безрода по спине мурашки разбежались, а внутри зазвенело, будто по струне ударили. Так бывает, когда встанешь возле огромного кленового била, а в него ка-а-ак… Аж хребет чешется. Сивый не удивился бы, окажись Брюнсдюр-ангенн прямым потомком самого Храмна, хозяина небесных гуслей.
Безрод скинул рубаху. Вся шита-перешита, но, видать, больше ее не носить. Брюнсдюр окинул Безрода цепким взглядом, помолчал и нахмурился.
– Я слышал о тебе. Так ты выжил?
– Да, я выжил. А жив ли Сёнге? С тобой пришел? – Голос Безрода звучал ровно змея на камнях – тих, шелестящ, зловещ.
Ангенн усмехнулся, кивнул. Жив милостью богов.
– Передать что? – громыхнул Брюнсдюр, холодно улыбаясь.
– Сам скажу. – Безрод оскалился. – Потом.
Полуночник молча ждал.
Сивый прокашлялся, продышался и повел так, как поют лебединую песню, зная, что потом уже ничего не будет.
– Черный ворон с дуба в небо возвился,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Знать, полягу вскорости в чистые поля,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Я, дружину славную по свету водя,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Видел, как рождается за морем заря,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Стану в битве страшной сам себе судья,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
И умчит нас, павших быстрая ладья,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
И узрим воочию вящие края,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Я и мной водимые верные друзья,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Боле не услышим трелей соловья,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Не укусит пяточки жесткая стерня,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Черною завесой по небу паря,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
На поле опустятся стаи воронья,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Бравые соратнички – вся моя семья,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Кто падет от палицы, кто-то – от копья,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Знаю, что поникну на спину коня,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Страшной болью мучим, зубьями скрипя,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
И оставлю тело, об одном моля,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Поскорей испить бы чару забытья,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Чтобы боль уснула, бросила меня,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
И тепло укрыли кустики былья,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя…
Эхо, непонятно откуда взявшееся на этих просторах, подпевало Безроду переливчатым многоголосьем. Брюнсдюр слушал, опустив меч, глядел в землю, качал головой. Да, этот седой боян сдержал обещание. Сивый замолчал и, глубоко дыша, опустил руки. Взглянул на Брюнсдюра. Ангенн поднял меч и трижды хлопнул лезвием по ладони. Это должное врагу. Мужественному и искусному. Безрод глядел исподлобья и ждал. Брюнсдюр описал руками круг, воздел их над головой и зарокотал, будто струны гусляра…
А когда любопытное и жадное эхо унесло последнее слово, ангенн развел руки, чисто крылья, и повел боевую пляску. Так летает горный мокк, птица самого Тнира, предвестник битв. Горд и величав его полет. Так пляшет на празднике весны лучший боец оттниров. Ангенн могуч и непременно сразит лучшего поединщика боянов. Меч Брюнсдюра ткал в воздухе холодное, блестящее кружево, а мелкие камешки так и разлетались из-под тюленьих сапог. Сивый будто вымерз, пляска Брюнсдюра заворожила и не отпускала. Об этом поединке сложат легенды, сказители обеих сторон воспоют врагов, достойных друг друга, но никто не споет о том, что ангенн полуночников переплясал седого да худого. Безрод рванул на середину плеса – и заплясал. Так взлетит ворон со старого дуба и недобрым вестником улетит в полуночную сторону. Так налетит боянский сокол и порвет полуночного мокка, что залетел слишком далеко на сушу…
Мечи высекли первые искры. Солнце, проглянувшее сквозь плотные облака, оживило клинки, и они заблистали, как маленькие молнии. Ох, и силен ангенн полуночников, ох, и быстр! Путь к победе над Брюнсдюром только один – бить сильнее, быть скорее. Сивый никогда не был так скор, еще малость – и в жилах кровь закипит. Но всюду меч Безрода натыкался на клинок Брюнсдюра. Ангенн одинаково сильно бил с обеих рук, отменно защищался, знал многие приемы, а те, что не знал, схватывал на лету. Полуночник раскачивал защиту Безрода, удлинял ход его меча, и Сивый сам понимал, что не успевает, но битое-перебитое тело жило на пределе. Угадать бы с ударом. Безрод угадал. Безнадежно опаздывая вернуть меч в защиту, Сивый не стал рвать жилы и просто сложился вбок. Меч ангенна просвистел над самыми ребрами, а не догадайся Безрод изогнуться – быть ему располовиненным. Возвращая клинок, Безрод ударил сам. Полуночник резво отскочил, только клок волос потерял. Холодно улыбнулся и коротко кивнул. Боян обещал стать достойным поединщиком и слово держит. Брюнсдюр наотмашь ударил по ногам, не попал, развернул кисть и тут же повел клинок вверх. Подпрыгнув, Безрод избежал удара в ноги, второй застиг его в воздухе, мечи звонко клюнули друг друга, и все бы ничего, но ко всему ангенн мощно наддал плечом. Как будто оглоблей приласкали. Сивый рухнул на спину, а оттнир обрушил на противника град ударов. Три из них Безрод отбил, бросил ноги к плечам и встал через голову. Поднимаясь, повел меч наискосок, слева направо. Полуночник немыслимо изогнулся – и пропустил удар над собой.
Противники встали друг против друга. Сивый повел дело на замах, повел медленно, да ударил быстро. Полуночник ввернулся внутрь удара, пропустил Безрода мимо себя – и стегнул мечом вдогонку. Клинки встретились и разошлись. Уже давно кровоточил Безродов бок, кровоточили все незажившие раны. Сивый устал. Дышал тяжело, бились всего ничего, но сил почти не осталось. А Брюнсдюр пребывал спокоен, холоден и свеж, как будто только что вышел на плес.
Полуночник налетел как вихрь, его меч был везде – справа, слева, сверху, снизу, – Брюнсдюр на ходу менял руку, направление удара, бил двумя руками, бил кинжальным хватом. Безрод и сам так умел, но силы убывали, как снег под жарким солнцем.
И вдруг поединщики, не сговариваясь, отскочили друг от друга. Брюнсдюр, прищурившись, покачал головой. Достойный противник. Очень достойный. Полуночник взял меч двумя руками, опустил рукоять вниз, нацелил клинок Безроду в лицо. Сивый сделал так же. Бойцы осторожно сблизились и медленно скрестили мечи. Клинки подпирали друг друга, а противники ждали. Долго ждали. Очень долго. Начался поединок выдержки и терпения.
Безрод не выдержал, перегорел. Боль залила все тело, еще немного – упал бы от дурноты и немощи. Хотел было ударить, но слабость не дала. Остался на месте, будто на руки и ноги подвесили тяжелые колодки. Лишь еле заметно дернулся. Брюнсдюр по глазам понял, что Сивый «созрел», и решил перехитрить. Дождался рывка Безрода, чтобы уйти в сторону и ударить самому. Разорвал сцепку, прянул влево и без замаха полоснул противника справа налево по груди. И выиграл бы схватку, ударь Безрод на самом деле. Ангенн понял, что попал в ловушку, но остановиться уже не мог. Безрод наитием пригнулся, избегая удара, и подбил клинок Брюнсдюра снизу вверх. Раньше остановился и раньше вернул меч. С оттягом полоснул справа налево и тяжело врубился в туловище, поперек живота, от ребра до ребра. Мгновением позже опоздавший меч оттнира ударил Безрода в грудь.
Противники опустили клинки и неподвижно замерли друг против друга. Мечи стали просто неподъемными. Один из двоих должен пасть. Кровь заливала обоих, в голове звенело, будто в кузне. Судьбу поединка решила усталость Безрода. Нечаянная уловка пришлась как нельзя более к месту. И вышло так, что перехитрил-таки оттнира, сам не хотел, а перехитрил.
Ангенн полуночников рухнул. Повалился ровно дерево под топором, прямой, несгибаемый. Сивый покачнулся, упер меч в землю и всем весом навалился на клинок. Сил ни на что не осталось. Победитель должен уйти с плеса сам, только тогда победа в поединке останется за городом. Таково условие. Безрод проморгался и вздохнул. Что-то горячее, отвратительно липкое растекалось по телу. Скосил глаза и усмехнулся. Кровь, опять кровь. Сколько ее подарил Озорнице? Полуночники напряженно ждали на своем берегу, а тишина кругом встала просто мертвецкая. Обе стороны, как завороженные, следили за каждым вздохом Безрода. Лишь только победитель уйдет с плеса, оттниры подхватят Брюнсдюра на руки и мигом унесут в стан ведунам под иглы. Могуч ангенн, просто так душу не отдаст. А Сторожище изойдет радостным криком, если Сивый на своих ногах уйдет с плеса.
Безрод сделал осторожный шаг. Еще один. Вот рубаха валяется. Нагнуться и поднять сил нет. Наклонишься – больше не встанешь. Проткнул мечом, накрутил на лезвие, так и поднял. Кое-как надел. Вошел в реку, и вода мигом побурела, зарделась, понесла кровавые разводы в море. Как течением не снесло – не понял, как перешел на свой берег – осталось загадкой, как с ног не упал – сам удивился. Так и шел, будто в полусне. Уже в черте города кто-то подхватил на руки, и все провалилось в муторную бездну. Только и заметил напоследок Рядяшину рожу.
Безрод открыл глаза и взглядом уперся в потолок. Всего мутит и выворачивает наизнанку, ослабел настолько, что дыханием даже перо не поднять. Все знакомо: и слабость, и дурнота, как будто это уже было. Самое частое воспоминание – лежишь, укутан по самое горло, ранен, всего мутит и знобит. Будто заблудился по жизни и ходишь по своим же следам, круги нарезаешь. С этой думой и утонул в головокружительной бездне…
Открыл глаза и едва душу не отпустил. Лицо. Огромное, зубы белые, глаза маленькие, склонилось, дыхание слушает. Рядяша. Так ведь и на тот свет можно спровадить!
В дружинную избу к раненым не понесли, уложили в амбаре, на привычное ложе у столба. Хотел оказаться в избе Стюженя, да только никто умирающего не спрашивал.
– Гляди, очнулся! Очнулся! – Чей-то знакомый голос радостно загремел над самым ухом, да так, что Безрод едва концы не отдал.
– Да тише ты! Ревешь, чисто медведь над медом. Глушишь ведь! – Знакомые лица склонились над Безродом. Рядяша, Моряй, Прям, Долгач, Щелк. Сивый оглядел каждого, косил глазами. Шея не поворачивалась, будто не было ее вовсе.
– Стюженя позови, – прошептал Сивый. – Зови.
Старик точно будто из-под земли.
– Ну, чего звал?
Безрод тяжело сглотнул.
– Унеси меня. К себе.
Чтобы услышать, ворожец наклонился к самым губам.
– Ишь ты! Унеси! Раз такие речи повел, точно не помрешь! – буркнул старик в бороду.
– Что сказал, Стюжень? – Старика обступили дружинные. Ворожец оглядел каждого. Потеплели глаза, стали на человеческие похожи. Переполошились, будто друга едва не потеряли. А как растолковать это человеку, который по краешку ходит, не сегодня-завтра за край сверзится? Сивый не потерпит ухода за собой, не хочет быть должным. Того, что все Сторожище в неоплатном долгу, с которым вовек не расплатиться, и понимать не желает. Уже новый день наступил, а Безрод в темном прошлом блуждает. Не зря говорят, что утро вечера мудренее, только Сивый этого знать не хочет. В темном «вчера» бродят оба – и Безрод, и Отвада, бродят и друг друга не видят.
– Прошу! – жжет ухо горячая просьба. – Унеси!
Дурное дело нехитрое. Уноси, не уноси, вои достанут Безрода где угодно, ровно молодые глупые щенки, которые лезут к старому псу и весело лают. Нынче все Сторожище – те глупые игривые щенки, а Безрод – потрепанный, порванный пес…
Вечером, после отраженного натиска, Стюжень сшивал Моряю рану на плече и терпеливо втолковывал, как несмышленому дитяте.
– Не наседайте, дайте человеку передыху. Знаю, виноватишься, в душе горит, но погоди, не торопись. Захочет – сам руку протянет, и не будет у тебя друга вернее. А силком замиряться не станет.
Моряй молчал. Все старый верно говорит, но нельзя справедливость на потом откладывать. Прилетит шальная стрела – и не станет Моряя, а Безрод осиротеет на доброе слово и крепкую дружескую руку. Сделал вид, будто во всем согласен со стариком, но, дождавшись, когда Стюжень по какой-то нужде выйдет из избы, прокрался за тряпичную перегородку, на половину к Безроду. Потоптался, кашлянул. Сивый открыл глаза. Моряй встал под светоч.
– Ты это… парни здравствовать желают, справлялись, не надо ли чего? А нас опять, видишь, посекли за здорово живешь. Лезет и лезет полуночник! Обозлились, видать!
Безрод моргнул, что-то прошептал. Моряй подошел ближе, наклонился.
– Жив ли Перегуж?
– А что ему, старому, сделается? Наперед знает, где стрела упадет, куда меч ударит.
Сивый кивнул. Хорошо, что жив Перегуж.
– Ты вставай поскорее. И полно обиду держать. Я вот молод, и уж на что горяч, но столько не смог бы. Не отвергай руку. Тогда, на судилище, я был не прав. Не прав.
Безрод молча смотрел на Моряя. А я могу. Костенеет душа, не гнется. Старею, наверное. Ни жизни, ни счастья…
Часть 2 СВАТ
Глава 6 Темный
Дружинных и горожан косило, будто косой. Город не выстоит и полной луны, это всем сделалось яснее ясного. Оттниры числом возьмут. Сомнут, погребут под волной, закрытой клепаными щитами и шлемами. Через несколько дней после поединка, Безрод, повиснув на плече Стюженя, сделал вылазку на улицу. Старику еще самому вылеживаться, так нет же! Подставил плечо, на солнышко поволок. Ночью снег выпал, весь двор устлал, а к утру белоснежный ковер уже изрядно истоптали. Безрод вдохнул полной грудью, и голова тут же закружилась, будто залпом осушил чару вина. Захотелось взять снег в руки, потянул Стюженя присесть. Ворожец посадил Безрода на бочонок и Сивый с наслаждением сунул руку в снег. Его узнали, радостно закричали, как будто над стеной заполоскался на ветру княжеский стяг. Дружинные, дворовые, горожане обступили со всех сторон. Босоногие ребята, весело топтавшие поодаль свежий снег, вовсю распевали:
– Черный ворон с дуба в небо возвился, Будь ко мне поласковей долюшка моя. Знать, полягу в скорости в хлебные поля, Будь ко мне поласковей долюшка моя…Сивый изумился. А далеко ли ушло то время, когда даже не косились в его сторону, в спину злобно плевались? Предпочли бы сквозь землю провалиться, лишь бы чашу воды не подать! Только князь не спустился со стены, мрачен, сердит, голова перевязана, руки на груди скрестил. Теперь каждый вечер отроки высовываются из бойниц и поют в темноту Безродовы песни, и нет им счастья слаще, чем стрела, пущенная в ответ обозленной рукой. Пока жив человек, почти надвое разрубивший полуночного ангенна, непобедима боянская сторона! Души лучших поединщиков нынче пируют в чертогах Тнира и рассказывают всю правду о тех поединках на плесе. Этот человек принес с собой удачу и честь, отвагу и славу! Вовек не отдарит Сторожище за такой щедрый подарок! А седой да худой сидел на бочонке, слаб да бледен, и гляделся кругом в недоумении. Там, в глубине синих глаз, сверкал не тающий лед, и отчего-то смех и восторженные крики его не топили.
Еще через седмицу полуночники через стену ворвались в город большим отрядом, и хотя остальных отсекли, около пятидесяти человек остались в городской черте. Оттниры огрызнулись полусотней мечей и секир, и дорого встал дружинным этот прорыв. Загнанные в угол полуночники отчаянно «кусались» и пятнадцать защитников унесли с собой на небо, прежде чем пали, расстрелянные и порубленные. Безрод видел все, несколько раз порывался встать с бочонка, но не смог. И сидел, вынужденный наблюдать за боем, как безучастный, равнодушный зевака – боль сковала. Дергунь, бежавший мимо на подмогу, едва не споткнулся, застав Безрода мирно сидящим на бочонке, как будто под стеной не насмерть рубились, а скоморохи кривлялись. Как держал секиру наизготовку, так и огрел Безрода обухом, что было сил. Сивый повалился с бочонка, как сидел – скрюченный и мрачный. Ровно вихрем снесло. Таким его и поднял набежавший Рядяша. Безрод не потерял память, только по лицу разливалась кровь, а глаза потемнели от злобы. Хорошо, удар вскользь пришелся, успел дернуться. Разбил бы голову млеч, и все дела.
– Да ты что, изверг, ополоумел? – напустился Рядяша на Дергуня. – Весь умишко отбили?
– Наших режут, а он сидит, чисто на скоморошной потехе! Как будто ряженые дурью маются! Едва рот до ушей не растянул!
– Думай, что несешь. – Рядяша понес Безрода в избу. – Ишь, чего придумал! Жизни едва не лишил!
Скрюченного – если посадить на бочонок, как будто и не падал – Рядяша положил Безрода на ложе. Слава богам, жив, да как жив! Глаза так и пыхают злобой! Здоровяк хотел что-то сказать, но промолчал. Лишь по голове Безрода погладил. Столько седому да худому досталось, уму не постижимо! Врагу не пожелаешь! Один тот мешок с галькой чего стоит. Дурное дело нехитрое. Хоть самому голову пеплом посыпать. Если бы удалось вернуть прошлое, точно посыпал бы. Рядяша нацепил шлем и унесся на подмогу.
Не берегся князь, рвал душу в клочья. Дружинные по молчаливому сговору заслоняли Отваду собой и приглядывали за князем денно и нощно. От мечей закрыли, от секир заслонили, да от случайной стрелы не сберегли. Как будто нашли друг друга князь и стрела. Жаждущий напиться лужу найдет. На щитах отнесли князя в терем. Стюжень выгнал всех, на три дня и три ночи заперся с раненым и велел даже не стучать. Вои просто озверели. Вне себя от ярости в капусту рубили полуночников на стене, и ни один оттнир в город тем днем не ворвался.
На четвертый день громкий крик возвестил победу жизни над смертью. Бойцы ревели, будто оголодавшие медведи, бряцали железом о железо, выкрикивали в ночь хулу полуночникам. Отвада-князь выбрал жизнь, а Стюжень отогнал смерть. Сивый уже худо-бедно оклемался, ходил сам, побывал в городе, навестил больного Тычка. Старику стало совсем худо. И всюду за Безродом бегала детвора и распевала про долю, которая должна быть поласковее к бывалому вою. Вот и теперь Безрод оглянулся, сделал страшное лицо, и детвора с веселыми криками брызнула врассыпную. Сивый сгреб самого маленького, что не успел убежать, как остальные, поднял на руки и взглянул в веселые ребячьи глазки. Веснушчатый нос смешно курносился, а передние зубы большие, как у кролика, торчали пока единственные во рту. Мальчишка с восторгом смотрел на воителя, что срубил главного полуночника, синие глазки озорно поблескивали. Мир или немирье – дети будут бегать по улицам и играть.
Сивый вдохнул ребячий запах и зашатался. Так пахло в избе Волоконя. Молоком и чем-то еще. Одним вся жизнь – как следы на снегу, все ясно, все понятно. Другим каждый день тайна. Что первым легко дается, вторые с кровью выгрызают. Вроде не дурак, пожил на свете, должен знать. Но будто спал и ничего вокруг себя не видел. Всякий знает, что в детях счастье, а тут… до седых волос дожил, и лишь недавно в нос шибануло! Через нос правда жизни в голову пробралась. И спросил бы кто-нибудь: «Неужели раньше этого не знал?» Ответил бы: «Знал. Только ведь так же знаешь, что избу чинить надо, да все руки не доходят». Ответили бы: «У справного хозяина дойдут руки». Кивнул бы и согласился: «Непутевый я. Ровно не жил тридцать лет и три года. Вся жизнь в схватках, походах, а жизнь мимо идет. Кто ж виноват, что лишь недавно сообразил, для чего на свете живу? Не успел с Дубиней уплыть за мечтой, эх, не успел…»
– Ты кто?
– Мамкин я, и папкин! Кличут Босоног. А я тебя знаю! Ты порубил Брюнсдюра!
Безрод поцеловал ребенка в лоб и отпустил. Босоног, счастливый и безмерно гордый, убежал показывать приятелям чумазый лоб, куда его поцеловал тот сивый боец, который всех полуночников одной левой уложил, да наказывал больше не воевать боянскую сторону.
Возвращаясь в амбар, Безрод подошел к стене в том единственном месте, где ее выстроили на скале. Озорница текла прямо под стеной. Сивый долго глядел вниз, что-то высматривая, бросил в реку камень, поглядел, послушал да и поплелся восвояси.
Стюжень ждал. Кивнул, дескать, ступай за мной. Ворожец и Безрод ушли на задний двор, на холм, с которого вся губа была видна как на ладони. Присели на бревно.
– Помнишь, обещался разговорить того четвертого, из переулочка?
Сивый равнодушно кивнул.
– Помирать удумал. Поймал боком шальную стрелу. Говорит, сон вещий видел. Явился Ратник и говорит, мол, душа тяжела, грехов много. Вот и облегчает.
Безрод усмехнулся.
– Раньше бы чуток.
– Уж как есть. Все рассказал. Подговорены все четверо.
Сивый кивнул. Конечно, подговорили. Это было ясно с самого начала. Просто так не убивают.
– Даже не спросишь?
Безрод холодно, не мигая, уставился на старика.
– Ты меня глазами не морозь. И без тебя стуженый. Все корчмарь твой учудил. Еська. Дабы не кормить задаром. Зачем ты ему нужен, безродина? Только добро переводишь.
Сивый поднял глаза туда, где небо целует землю, прищурился, зачерпнул пригоршню чистого снега, захрустел им на зубах.
– Знает ли князь?
– Теперь же узнает. Отсудит приговор назад. Заставлю.
– Раньше бы чуток.
Стюжень покачал головой. Не понравился ему холод серых глаз. Чем дольше смотрел ворожец в глаза Безроду, тем крепче воображал себя влезающим в темную пещеру, полную вековечного льда.
– Ой, что-то глаза твои мне не нравятся! Скукожилась душа, свернулась, волком глядит, зубы точит.
– Боится. – Сивый доел снег, облизнулся, отряхнул руки. – Боится. Страшно ей.
– Боится?
Не ответил, только отвернулся. Да, Стюжень, страшно. Один я на этом свете. Сам за себя стою.
– А чего меня князь не взлюбил? Что я ему сделал? Может быть, насолил когда? Что-то не припоминается.
– Так ведь знаешь!
– Нет, не знаю.
Стюжень помолчал, нахмурился.
– Прошлым летом сын Отвады погиб. Вы с ним одно лицо. Ровно братья близнецы.
Сивый молча глядел на старика.
– Тяжко князю. Пойми…
Безрод кивнул. Чего уж тут не понять. Даже лицо его никак в покое не оставят. Все сапогом, да по глазам, чтобы закрылись, да по губам, чтобы уста замкнулись. Жаба князя задавила. Как же! Сын погиб, а безродина – одно лицо с сыном – живет! Ни роду, ни племени. Голь перекатная. Живет, ходит, горя не знает. Ой, благодарствую, князь!
– Хорошо, помогу, – буркнул Безрод и отвернулся. – Об этом хотел говорить?
Стюжень, опешил. Приготовился к долгим уговорам и убеждениям и нате вам! Попалась на старуху проруха! Уел старика молодой!
На утренней заре, князь объявил боярам о своем решении. Отсудить назад старый приговор, и объявить новый. Корчмаря Еську Комеля признать виновным и присудить к смерти. А дабы не переводить лишних рук, отправить на стену. В бою смерть свою возьмет. А жив останется – его счастье. Еська аж повеселел, грудь раздул, будто снегирь. Дескать, где наша не пропадала.
Перегуж донес княжью волю до всех остальных. Дружинные трижды прокричали здравицу князю, и только Безрод остался безучастен. Нечем радоваться, душу будто на плесе оставил. Дубинина ладья уже далеко, время упущено. Того, что случилось, не вернешь, хоть ладоши себе от радости отбей, хоть горло сорви. Уплыло счастье, пахнущее молоком, вслед за ладьей уплыло. Только парусом хлопнуло на прощанье. И не догнать его теперь. Здесь голову и класть.
Вечером, когда солнце уходило на покой, и последние лучи обега ли землю, Стюжень вымазал Безроду лицо кровью и провел в терем. Дружинные с обнаженными мечами стояли через каждые два шага у самых княжеских палат и вдоль стен. Только протяни руку с мечом и достанешь соратника. Ворожец крепко-накрепко всем наказал зажечь по светочу и глядеть в оба. И рубить в ошметки любого, кто выбежит из покоев Отвады.
Верховный ворожец напоил князя из резной чаши, окованной серебром, и уложил обратно на ложе. По углам комнаты застыли дружинные и не дышали, только глядели во все глаза. Единственная лучина бросала тусклый свет на исхудавшее лицо Отвады, и некогда могучее тело лишь угадывалось под медвежьей шкурой. Тень играла с лицом князя, и Безроду показалось, что глаза его бегают, словно белки в колесе, а выражение лица меняется так скоро, чисто облака на небе в сильный ветер. Ни дать, ни взять, нечистый на руку ключник застигнут с поличным.
– Кто здесь? Кто? – Князь едва приподнял голову. Сивый прикусил губу. Отвада как будто никого не узнает, словно не в доброй памяти. – Кто тут?
– Это я, князь. – Ворожец присел на ложе и положил руку на полыхающий жаром лоб. – Я, Стюжень.
– Стюжень, а это кто? – Отвада выпростал руку из-под одеяла и показал на стоящего в полутьме Безрода. – Ну-ка, выйди на свет!
Сивый сделал шаг вперед, прищурился. Безрод крепко подозревал, что сейчас перед глазами князя все плывет.
– О, боги! О, боги! – Отвада чуть было не подскочил на ложе. Хорошо верховный обхватил сильными руками, не дал соскочить на пол, иначе рана, как пить, дать открылась бы. – Ты ли это, сынок? Где был так долго, непутевый? Не ранен ли? Весь в крови! А мы, видишь, с полуночником бьемся!
Сивый побледнел. Не в себе князь. Очень мудрено спутать молодца, взметавшего на плечи коня, с ним, худым да жилистым! Стюжень говорил только лицо и похоже. Так вот почему старик запалил всего лишь одну лучину!
– Расшибец, оторва, и чего тебя одного к урсбюннам понесло? Никак славы захотел? Много ли оттниров порубил?
Стюжень повернулся к Безроду. Старые глаза взывали, просили, умоляли. Дружинные в своих углах даже не дышали. Что скажет, Безрод? Ведь не за что ему князя любить.
Сивый нахмурился, холодно взглянул на старика – у того на мгновение сердце замерло – и, сцепив зубы, процедил:
– Много не много, а след оставил. След оставил, да голову назад принес. – Помедлил и глухо, тяжело бросил. – Отец!
– Сынок, не враги – ты меня на погребальный костер отправишь! Почему один ушел, почему дружину с собой не взял?
– С малой дружиной по лесам разгоню, с большой и вовсе в море опрокину. Незачем.
– Ах, незачем!? Вот я тебе, пока никто не видит! – Отвада соскочил с ложа – Стюжень больше не держал – схватил Безрода за волосы и вздернул голову к потолку. – Ты, поганец, поперек батьки в пекло не лезь! Сначала я к Ратнику отойду, щен сопливый, только потом ты! Еще дитем не обзавелся, а все туда же! Отца на дружине теснить!
Безрод еле сдерживал ухмылку. Стоило огромных трудов сохранять виноватую мину. Стюжень молча просил у богов выдержки и терпения для этого парня, хлебнувшего в жизни сверх меры. Безрод не спускал со старика глаз, ждал подсказки. Стюжень кивнул, все правильно делаешь.
– Ох, отец, все волосы выдернешь! Девки любить не станут!
Князь таскал «сына» за седые космы, таскал да приговаривал:
– Осенью женю! Первую встречную тебе сосватаю, и пока брюхом не прибудет, в сечу не пущу! Уразумел?
– Уразумел, отец! Для тебя хоть всех городских девок обрюхачу, только волос пусти!
Отвада повеселел, перестал трепать сивые лохмы. Притянул «Расшибца» к себе, и с такой силой прижал к груди, что едва нос Безроду не сломал. Разом больше, разом меньше…
Сивый неловко обнял князя. Чего ему стоило это объятие, Стюжень только догадывался. Безрод до крови закусил губу, только бы не отстраниться. Всего затрясло, лицо перекосило.
«Сын» осторожно заглянул в глаза «отцу». Сияют счастьем, но в глубине что-то неровно полыхает, будто пламя мечется. Сам князь дрожит, ровно мерзнет, но улыбается так широко, что не остается и тени сомнения – счастлив! Сивый закусил прокушенную губу. Ты гляди, как в жизни бывает, он уж точно пахнет не ребенком, и не молоком, но для кого-то это счастье! И точно раздвоился князь. Что-то очень темное, темнее, чем мрак по углам палаты, изникло из Отвады, словно пряталось внутри и только теперь наружу выступило. Человек. Большой, сильный, жуткий, глаз не видать, рот оскален. Отвада забился, будто в падучей, со счастливой улыбкой повалился Безроду на руки и приник к груди. Сивый оглянулся. Темного человека никто не видит. Никто в его сторону даже не глядит. Ни ворожец, ни старые дружинные. Глаза всех прикованы к Отваде, дескать, улыбается князь, и хорошо. И по тому, как скосил Безрод удивленные глаза в темный угол, Стюжень понял, что вышел-таки из Отвады злой дух, только в своей любви никто его не видит. Вышел из счастливой души, не вынес счастья, выкурил его Сивый, ровно лису из норы. То-то князя трясло! Это злой дух от ненависти исходил. А Безрод углядел Темного и недобро ухмыльнулся. Серые глаза сузились и полыхнули жаркой злобой. Старик подхватил князя у Безрода, а мнимый княжич повернулся в угол, куда отступил Темный.
– Вороняй, медленно выйди из угла, – процедил Безрод.
Бывалый дружинный сделал шаг вперед, и за его спиной – Темный.
– Наземь! – рявкнул Сивый, и понятливый Вороняй мигом рухнул на пол.
Безрод прыгнул в угол и с кем-то ожесточенно схватился. С кем – никто из дружинных не видел. Даже верховный ворожец оказался бессилен. Во мраке угла ревело на два голоса, и даже отблеска не давали красная рубаха Безрода и черные кожаные штаны.
Внезапно из угла истошно закричали могучим голосом. Не Безрод, другой. Дружинные, стоявшие в сенях, мало дверь на крик не вынесли. Застыли на пороге, играя мечами. Увидели князя со счастливой улыбкой на руках Стюженя, и отлегло. Безрода швырнуло из угла на середину палаты. Сивый кого-то крепко держал, но и самому досталось – рубаха повисла лоскутами, кровь разлетелась по всей палате. Седой да худой висел на ком-то, как пес на косолапом, давил рукой невидимое горло, и стал Темный понемногу проступать, будто начал куриться сажной дымкой. Огромен, силен, могуч, но Сивый остервенело ломал горло, и злой дух лишь отчаянно ревел, словно хотел перезлобить. Да где уж тут! Из Безрода собственное зло полезло, из души, из самых глубин. Долго держал. Хватит на двоих таких. Сивый едва не в колесо скрутил Темного, у того едва хребет не затрещал. Гнул на излом, ровно силищи прибыло. Злой дух дернулся, сбил Безрода наземь, и оба покатились по полу. Стюжень закрыл князя собою, Отвада слушал шум побоища, слепо таращился в заугольную тьму и лишь вопрошал:
– Ты наддай-ка ему, сынок! Мало, что ли, каши ел?
А когда Безрод прижал Темного коленом к полу и превратил лицо злого духа в сплошное месиво, дружинные ножами добили. Под праведным железом завыл Темный, заметался по полу, разбросал воев, словно березовые поленья. Побуянил немного и перестал быть. Изошел дымом и вытек в окно, только жженый след на полу остался. Безрод упал на колени, обнял себя руками, уткнулся лбом в пол. Не смог встать.
– А что, сынок, чья взяла?
– Наша взяла, отец! Ох, и парень я у тебя! – прохрипел Сивый, теряя сознание. Болит. Все болит…
Перетянутый свежими повязками, Безрод открыл глаза и усмехнулся. Как пошутил однажды, так все и случается: стоит открыть глаза – посечен, порублен, да полотном замотан. Хоть вовсе не ложись! А сегодня где довелось проснуться? В дружинной избе или в амбаре? Интересно, чем опоил Отваду ворожец? И каково станет князю очнуться от вчерашних грез?
Безрод спустил ноги на теплый тесовый пол. Голова закружилась. Ой, держите, сорвется-укатится, назад не воротится! Замутило. Сивый глубоко вдохнул и выдохнул. Всегда помогало. Кто-то сообразительный слатал ошметки рубахи на живую нить, в прорехи льняные повязки светятся. Должно быть, Стюжень постарался. Безрод огляделся. Светло, чисто, просторно, через окошко ветер баловник носит свежий снег. Сколько дней прошло? Как будто все было только вчера – князь, лучина, Темный…
Где-то за дверью шумели голоса. Один из них знакомый. Того и гляди разнесет все по бревнышку, грохочет, будто гром по весне. Тяжелая дверь отворилась и, кланяясь низкой притолоке, вошел Стюжень. Лицом светел, хоть от самого лучины зажигай. Подошел и молча сгреб в охапку, едва не раздавил.
– Что князь?
– Плох. Да не телом – душой. Скорбит. Ходить-то сможешь?
Сивый кивнул. По всему видать, к Отваде идти придется. Сам не пойдешь – Стюжень отнесет.
Отвада безучастно глядел в потолок. И такая тоска плескалась в усталых глазах, что Стюжень поморщился и подтолкнул Безрода к ложу. Сивый подошел, остановился в шаге, поднял голову. Отвада глазами показал, дескать, в ногах сядь. Безрод поколебался и присел на край ложа. Ближе, показал князь, ближе, чтобы рукой можно было достать. Сивый пересел. Отвада глядел на Безрода, и слезы туманили глаза князя. Сивый представил себе, каково это, глядеть на лицо сына и знать, что это не сын. От чего ушли, к тому и пришли. Один злой дух изгнан, вползет другой, ведь ничто не поменялось.
Отвада взял Безрода за ладонь, хотел что-то сказать, да не смог. Просто смотрел в глаза и жал руку. Этот сивый парень украл лицо его сына, хотя кто у кого украл – еще поглядеть. Ведь постарше Безрод Расшибца. Похожи, ровно братья-близнецы. Отвада глядел и терялся. И хочется смотреть, и больно. Все плющил Безроду пальцы, будто за прошлое виноватился. Сивый молчал. Князь отпустил руку и потянулся к лицу, аж посерел от натуги. А Безрод не мог понять, чего же князь хочет. Потом догадался, стиснул зубы и подставил голову. Отвада ухватил неровно стриженые волосы и затаскал из сторону в сторону. Несильно, вовсе не так отчаянно, как вчера. Подкосило князя разочарование, подкосило, как не всякая рана подкосит. Стонал и таскал в отчаянии седые космы, будто это могло воскресить в Безроде погибшего сына. Потом обессилел, глаза Отвады закатились, и раненый провалился в беспамятство. Сивый пытался осторожно высвободить волосы, но тщетно. Княжья хватка крепко стиснула вихры. Давно следовало подкоротить, но все недосуг было. Стюжень тоже пробовал разжать пальцы, и тоже тщетно. Давить сильнее – только пальцы князю ломать. Старый ворожец едва не смеялся. Удивительное зрелище – любящий сын у ложа больного отца! Может быть, дружину позвать, пусть полюбуются? Когда еще такое увидишь? Безрод вполголоса пообещал начесать Стюженю гриву, ворожец, тихо смеясь, обещал в ответ намять бока.
– Да спи уж подле князя. Не укусит.
Сивый поерзал-поерзал да и впрямь уснул, подперев собою бок Отвады.
И все бы ничего, ведь оба на поправку пошли – и Безрод, и князь – если бы не злой полуночник. Те просто озверели, после того, как боянский поединщик срубил их ангенна. Себя перестали жалеть, на один удар отвечали двумя. На нескольких оттнирах горожане даже приметили пену бешенства, взбитую на губах. И все меньше становилось времени до того мгновения, когда сломают оттниры сопротивление. Отвада начал выходить в свет, злой, исхудавший. Сивый старался держаться подальше от князя, но что-то изменилось после того, как изгнали Темного. Отвада несколько раз в день звал Безрода к себе, о чем-то говорил, и от тех бесед зримо теплел лицом. Сивый же, наоборот, мрачнел. Трудно давить в себе злую память, но еще тяжелее сталкивать обратно в топкое болото отчаяния осиротевшего человека. Ведь только-только начал князь выкарабкиваться из трясины. Отвада еще и сам себя обманывал. Думал, будто выглядит по-прежнему сурово, но никого не могли обмануть теплые глаза.
Князю выпала доля выздоравливать. Отвада смирился с потерей сына, но видеть его лицо хотел каждый день. Безрод крепко подозревал, что князь глядит куда-то сквозь него, смотрит прямо в глаза и видит нечто свое. Ну и пусть видит, лишь бы любви не требовал. И однажды перепугался не на шутку, когда князь оговорился, назвал «сынок». Воистину не знаешь, где найдешь, где потеряешь. То холодно, то горячо. Из огня да в полымя. Сивый кривился и морщился. А может быть, и в самом Темный сидит? Может быть, и сам болен злобой? Но сколько себя Безрод помнил, всегда таким был. И мальчишкой, и отроком, и посвященным воем. Стал избегать княжьих палат, терем десятой дорогой обходить. Но куда спрячешься от Отвады? Князь будто прощения просил, но разве злость вымоешь из души, ровно грязь с тела? Непросто все.
Сивый стал понемногу тягать меч из ножен и однажды встал на стену. И получилось так, что встал рядом с князем. Просто получилось так. Хотел уйти, но не вышло. Полуночник не дал. Отбились…
Безрод вернулся к себе на ложе в амбар. Не осталось пустых лож, все раненые заняли. И сапоги что-то летать по амбарам перестали. Видать, в теплые края улетели. Не стал больше замирать на пороге. Зачем? Все, что должно было прилететь – уже прилетело, ждать нечего.
Сивый начал односложно отвечать на вопросы дружинных. Морем тепла, конечно, не затопил, но лед молчания Пряму, Рядяше и Моряю сломать удалось. Только «да», «нет», «не знаю». Остальные уважительно поглядывали издалека и так настырно, как эти трое, не лезли. Попробуй, не уважь того, кто взял да и сломал лучших полуночных воев. Подумать только, за человека не считали, ноги босые давили, пихали, ровно утварь неживую! Кое-кому из дружинных стало не по себе, пожалуй, впервые за долгие годы в себя заглянули. Очень им не понравилось то, что увидели. Едва не обесчестили воинский пояс.
Однажды, когда весь амбар спал, измученный до предела, застонал кто-то из раненых. Вои, смертельно уставшие от ран и недосыпа, даже бровью не повели. Встал только Безрод и огляделся в тусклом свете луны, что в окно заглядывала. Спит Моряй, спит Прям, Рядяша спит, спят Извертень, Трескоташа, Люб, спит Кривой, спят братья Неслухи. Сивый встал у срединного столба, покрутил головой. Стон прилетел откуда-то из млечей. Безрод подошел ближе. Дергунь хрипит, жаром так и пышет, мечется на ложе, повязки срывает, пытается до ран достать и расчесаться в кровь. Пить просит. Все же умудрился сорвать повязку, бурую от крови. Сивый прижал руки млеча к телу и держал, пока тот не обессилел. Взял у изголовья полосы стираной льнины и ловко перемотал раны заново. Из ковша с водой смочил сухие губы. Так и просидел подле Дергуня до самого утра. Ворожцы с ног валятся, которую седмицу почти без сна, где им за всеми уследить? Еще немного – и самих придется укладывать. А старые вои сами почти ворожцы. И раны обиходят, и перевяжут, и сошьют где надо. Так и метался Безрод от одного к другому, пить подносил, нескольких перевязал. Лег под самую зарю, да так и не уснул.
Утром снова ходил на то место, где Озорница плещется ровнехонько под стеной. Долго смотрел вниз, щурился. Мимо ребятня пробегала, Босоног окликнул, помахал ручонкой. Сивый спустился вниз, потрепал мальчишку по светлой головенке, подбросил пару раз, ловко поймал. Что-то в груди зашевелилось, возле сердца. Прижал мальца к себе и будто согрелся. Отпускать не хотел. Уткнулся в светлую макушку и глубоко задышал. А когда счастливый Босоног убежал, хотя откуда взяться детскому счастью в суровую пору? Сивый побрел назад. Безрода окликали горожане, здоровались. Недавний поединщик хмуро кривился – только поглядите, справляются о здоровье, ровно знают не первый год, благодарят. Кто хотел одарить новой рубахой, кто сластей в руку сунул, парням побаловаться, ведь все равно до голода не дожить – раньше побьют. Провожали так, будто своими глазами видели счастливую долю.
На дворе первым делом разыскал Перегужа, просил собрать князя и остальных воевод. Старый воин хотел было спросить о чем-то, да передумал, покрутил ус и удалился. А Безрод ушел в амбар, встал у срединного столба и пробубнил в потолок, никому и всем сразу.
– Гостинцы вот люди передали. Сласти. Налетай.
Сам не ожидал. Ровно дети малые налетели, похватали. К мечу привычны, бьются обеими руками, знают всякий бой, но Сивый даже моргнуть не успел, как на дне ладоней, сложенных лодочкой, осталась только одна сласть – витая рогулька, сваренная на липовом меду. Делили на двоих, троих. Остались только он и Дергунь. Млеч пришел в себя, лежал бледен, будто снег на дворе. Сивый подошел, переломил рогульку и приложил к самым губам Дергуня. Тот зло фыркнул, и сласть покатилась по полу. Хотел что-то обидное сказать, но сил не осталось. Все забрала беспокойная ночь. Безрод повернулся и молча вышел.
В один из дней, когда окончился утренний приступ, но еще не начался вечерний, в дружинную избу вошли Перегуж, Щелк и Моряй. Войдя, все трое бросили острый взгляд в угол Безрода, и старый воевода, найдя глаза Сивого, кивнул, приглашая выйти.
– Что за нужда?
– Как всегда, весел и приветлив, – усмехнулся Щелк. – Дело есть к тебе.
– Думу думаем, друг сердешный, – тепло улыбнулся Перегуж. – Уже все передумали, а загадка не дается. Того и гляди, голова треснет.
– Три головы, – уточнил Моряй.
– А я при чем? – усмехнулся Безрод.
– А при том! Чернолесская застава… Скалистый остров… туманное утро… – медленно начал Перегуж, кося на Сивого – дрогнет или нет?
– Ну, застава, ну, остров, – буркнул Безрод и замолчал, ожидая продолжения.
– Мы нашли тела, много тел. Пятьдесят два воя, – Перегуж начал загибать пальцы. – Девять баб и трое отроков.
– Ну, нашли, если их порубили.
– Тьфу, что за человек! Я ему про близких, а он и ухом не ведет! Пятьдесят третий – ты!
Сивый молча кивнул.
– А последний? Пятьдесят четвертый?
Безрод усмехнулся.
– Болтуна унесли оттниры.
– Зачем?
– Приняли за своего и унесли на ладью вместе с остальными ранеными.
– Не признали в нем заставного?
– Болтун сдернул с кого-то из оттниров доспех и нацепил на себя. Полуночников было очень много, не все знали друг друга в лицо.
– Даже думать не хочу, что с ним сталось!
– А ничего, – усмехнулся Сивый. – Его не зря Болтуном прозвали.
– Думаешь, отболтался? – изумился Моряй.
– Ему бы до берега дотянуть, а там ищи-свищи.
– Значит, увидели своего на земле и унесли на ладью?
– Это последнее, что я запомнил, перед тем как спрыгнуть со стены. Подмигнул мне, словно прощался.
– А потом девятнадцать оттниров навсегда успокоились в Черном лесу, – как бы между прочим бросил Щелк.
Безрод не ответил, лишь мрачно ухмыльнулся и ушел в дружинную избу, плотно притворив за собой дверь.
– Вот и выяснили. – Перегуж задумчиво почесал затылок.
– Не понимаю, на что надеялся Брюнсдюр… – Моряй состроил хитрую рожицу и пожал плечами.
– На что надеялся Брюнсдюр, не знаю, а вот на что надеяться нам, я, кажется, начинаю понимать, – загадочно обронил Щелк.
– Ну, чего хотел?
В княжьих палатах сидели Отвада, воеводы, бояре, вои постарше да поопытней. Сивый каждого оглядел, ухмыльнулся и глухо бросил:
– Думаю, не выстоим на стенах. Сомнут.
– Вроде сед, а ума нет! Сами знаем! – Рявкнул Смекал. – Для того собирал?
– И до голода не дойдет. Раньше побьют, – упрямо продолжал Сивый, не обращая внимания на гневные выкрики. – Самим бить нужно.
– А как? – мрачно буркнул Долгач. – Нас меньше. Один-втрое, в лучшем раскладе один-вдвое.
– Знаю как.
Все уставились на Безрода. Знает? Этот?
– Все едино помирать. Выйти надо.
– Порубят!
– Смотря, как выйдем. Тайком сойдем. Леса наши, а полуночник чужак. Затерзаем. Ночью полоснем, ровно волк, и в чащу, полоснем – и в чащу.
Отвада прищурился, глаза вспыхнули. Безрод ухмыльнулся. Не понять, верят или нет?
– Как спуститься? Станем ворота открывать – мигом заметят! Да и мосток по бревнышку разнесли! Нет больше мостка!
– У гончарного конца стена стоит прямо на скале, а под скалой Озорница бьется. Спуститься по веревке, да прямиком в воду.
– Ишь ты, спуститься! Берега-то вражьи! Станешь выходить из воды – стрелами утыкают, ровно ежа! Думай, паря, что несешь! Слово не птица, вылетело – не поймаешь!
И будто гром грянул среди ясного неба.
– А не надо выходить на берег.
Перегуж хмыкнул, свел брови на переносице. Остальные так удивились, что перестали быть на себя похожи.
– Как это не выходить? Не темни!
– Плыть с Озорницей до устья и с водопадом попасть в море.
Боярин Чаян аж подскочил.
– Побьются! О камни размечет!
– Не размечет. Живы будут, не помрут. Сам пойду. – Безрод исподлобья оглядел военный совет. – Тот водопад всего-то четыре человеческих роста. Может быть, пять.
– Не попались бы. Не знаем, как широко по берегу оттниры встали.
– Надо плыть как можно дальше, – Безрод глухо ронял слово за словом. – И выйти к старому святилищу. Если святилище пусто, первый весть перешлет, скажем, стрелу пустит. Перебросит через стену. А там и за остальными очередь встанет.
Бояре и воеводы задумались, а князь воссиял, как начищенный шлем. Сивый усмехнулся. Сложная штука жизнь.
Решили попробовать. Первым пойдет Грач, лучший охотник. В лесу всякое дерево ему знакомо, каждую тропинку знает. Приладил справу так, чтобы не болталась и не звенела, попросил у князя и ворожцов благословения и ночью, когда взошла звезда Синий Глаз, ушел в темень. Грач по веревке ловко спустился со стены и бесшумно канул в черную воду. В лагере полуночников даже собаки не проснулись. Князь так и простоял на стене до утра, вглядываясь в даль. Как там смельчак в реке, да в студеном море? Должен выдержать. Помогут боги, Ратник приглядит. Собственными руками, еще не вошедшими в полную силу, Отвада заколол быка, вырезал сердце, и то сердце Грач съел сырым.
День ждали, другой, а на третью ночь прилетела стрела с той стороны реки, из леса. Вонзилась в столб сторожевой башни. Стрелу мигом унесли в терем. Добрался! Молодец! Отчаюга! Нет в старом святилище полуночников, кругом только дубы да сосны. Что делать мореходу в густом лесу, ведь кругом все чужое? Ясное дело, нечего. Оттниры далеко от ладей никогда не отойдут.
– Перегужа ко мне, Долгача, бояр, Стюженя, – Отвада поколебался. – И Безрода.
– Добрался! – князь показал стрелу Грача. – Пусто старое святилище от полуночника. Да и берегом оттниры нешироко встали. Далеко от ладей не пошли. Думаю, ждать нечего. Сотня воев уйдет в леса. Следующей же ночью. Готовь дружину Перегуж. А поведет… – Отвада замолчал, поиграл желваками. – Безрод!
Если бы посреди палаты грянул гром и сверкнула молния, удивления было бы меньше. Только старый ворожец не удивился, усмехнулся и мотнул головой.
– За разбойником дружинные не встанут! – рявкнул Смекал. – Не встанут! Своих не дам!
– За разбойником? – разъярился Отвада. – Так тебе княжьего слова мало, пень трухлявый? Я очернил, я и обелил! Твое дело мое слово в воздухе ловить, да в ухо класть! Это первейший-то боец – разбойник?
– Он не вой! Беспояс Безрод! И если думаешь, будто это сын – глубоко ошибаешься! Хватит уж! Заморочил тебе голову, отвел глаза, света белого не видишь! Разумом ты ослаб, князь! – орал Смекал. Остальные бояре хмуро поддакивали.
– Размягчел ты, Отвада, занемог, что ли?
– Крепость утратил!
– Не дадим воев беспоясу под начало! В том тебе наше слово!
Бояре не знали об изгнании Темного, той ночью в княжьих покоях бдели только старые дружинные, надежные как скала, на которой стоял город.
– Не дашь, значит? – Отвада медленно встал с лавки. – Не дашь?
– Не дам!
Князь без сына – одинокий волк, что слабеет год от года. Встанет ли одинокий волк против целой стаи? Князь без наследника… Смекал усмехнулся в бороду. Не вернется с того света Расшибец. Не вернется. Да и в бою всякое случается.
– Обойдемся.
Второй раз будто гром прогремел, молния сверкнула. Бояре замерли, и как один повернулись в угол, где сидел старый ворожец. И даже князь изумился не меньше остальных. Смекал нахмурился. Да никак старый мысли читает?
– Обойдемся. Неделена станет слава. Вся княжья. Обойдемся.
– Так тому и быть, – процедил сквозь зубы Отвада. – И упрашивать-уговаривать не стану. Осрамили своих воев.
Безрод ни слова не проронил. Сверкал глазами исподлобья, и думал странные вещи. Пора бы волос подкоротить. Зарос, чисто медведь.
Новоявленного воеводу старик нашел на заднем дворе. Где же еще ему быть? Стюжень присел рядом, набросил Безроду на плечи принесенную верховку.
– Люди знают? Сказал?
Сивый покачал головой. Не знают. Пусть спят.
– Все понять пытаешься? Да не получается?
– Не получается.
– А ты, сердешный, князя обычной меркой не меряй. В душу не заглядывай – замутит, в думы не ныряй – утонешь. Княжье сердце – к богам дорога, десница князя – шуйца Ратника, слыхал про такое? – И совсем тихо добавил. – Смирился Отвада с потерей, но второй раз видеть родное лицо посеченным не желает.
– Когда на плес ходил, так вроде ничего было. Руби, секи, не жаль. – Сивый глядел на звездное небо, свободное от серых зимних облаков, и ухмылялся.
Старик промолчал. Все Безрод понимает, да только полыхает в груди злая память, и поздняя осень ее не студит, и кусачий снег не леденит.
– Воев сам подбери. Злым глазом не косись, хорошее помни.
Безрод усмехнулся. Верховный втолковывает, ровно дитяте, да уж пусть. Тоже не сразу посох взял. Сначала за меч держался. Знает, что говорит.
– От своего деда слыхал. Говорил старый, будто летает счастье по небу, точно птица. У кого низко, словно ласточка, у кого высоко, ровно сокол, а иным доля сама дорожку переходит в людском обличье. Ходят вокруг тебя люди, и вроде люди как люди, а только кто-то из них твоя доля счастливая. Пропадать станешь – руку подаст, биться станешь – одним человеком дело поправишь. Только найди. В глаза гляди.
Ну, в глаза, так в глаза. Сивый смотрел туда, где восходит солнце. Может и впрямь счастливая доля по двору ходит, от ран морщится? Может и впрямь чей-то щит прикроет от шальной стрелы, а всего один боец решит исход войны? И догонит он свое счастье молочное, уплывшее на Дубининой ладье. Чье обличье примет доля?
– И сдается мне, что найдешь ты свою удачу. Столько прошел, столько вынес, для пустяка ли боги хранят?
Видение вспомнилось. После битвы с оттнирами на заставе, когда вся дружина полегла, Безрод и увидел тот памятный вещий сон. Лежал тогда в ладейке и качался на волнах, роняя кровь в соленую воду. То ли укачало, то ли усталость одолела – навалилась, будто снежный ком, погребла, сморила. А в забытьи привиделся тот воитель. Бородища во всю грудь, простая рубаха на ветру полощется, глаза светлые, лучистые, глядят прямо, да так, что стужа пробирает. Присел рядом на скамью, взялся за весла, улыбнулся, а лодка вперед так и полетела:
– Куда бежишь, бестолочь? Для чего? Все выжить пытаешься, а для чего тебе жить? Может быть, не доделал чего? Или не долюбил кого? Ты кругом оглянись! То не море-окиян вокруг без дна и берегов – то жизнь твоя. Куда глаз ни кинь, всюду пусто и пристать некуда. И всякая сторона с другою одинакова, иди куда хочешь! Сгинешь в бескрайних просторах и будто в воду канешь. Даже следа не останется на морской глади. Всю жизнь землю топтал, а под ноги и не глядел, самого главного не увидел! Земля ведь кровью напоена, плотью напитана, потому и родит. И хоть высуши, хоть пожги, превозможет, а родит. А ты? Всех порубишь, всех превозможешь, самого на костер положат, но добрым словом никто не вспомнит и после тебя ничего не останется. Так и проходишь свой век в темноте да тумане. Знаю, знаю, что жизнь не в радость, а смерть не в тягость. Непросто тебе, не горит в душе огонь, холодно там и неуютно. Все знаю. Знаю, что помереть не боишься, и даже мне твой конец неведом… но оглянись кругом. Солнце встало, облака бегут по небу, море волнуется, ветер дышит. Жизнь идет вперед и никого не ждет… ждет… ждет…
Тот вещий сон перевернул все вверх дном, перетряхнул, будто суму со скарбом. Как если бы шел по жизни с закрытыми глазами, а потом открыл в одночасье. Никогда не смотрел внутрь себя. А чего туда смотреть? Страшно там. Пусто. Холодно. Мрачно. А если поглядеть на себя со стороны, что увидишь? Бредет по земле неприкаянный человек, лицом страшен, к жизни равнодушен, к смерти беспечен, лишний раз не улыбнется, словом добрым не согреет. Берет жизни, сколько дается, а за лишний день и руки не протянет. Куда идет – сам не знает. Девки стороной обходят, боятся. Страшен больно. Глазом холоден. Одна вот сходила замуж, да недалеко ушла. Сгинула вскорости. Отца-матери не знал, всю дружину потерял, теперь выходит, дважды сирота. Пусто в душе и холодно, самому неуютно.
Сивый прошел в амбар и повалился на ложе как был, не раздеваясь. И уснул без задних ног, ровно отмахал бегом от зари до зари.
Утром полуночник пошел на приступ. Сивый со всеми стоял на стене, двоих скинул, одному дал влезть, дождался замаха и мгновением позже ударил сам. Косым ударом распорол оттнира сплеча. Попробовался на быстроту. Тяжеловато еще. Тянут раны. Бок заныл, спина заплакала, грудь заголосила, не так остро, как раньше – тупо. Терпимо. Приглядывался к воям, косил глазом туда-сюда. Отбились. Потеряли троих.
И в амбаре к парням приглядывался. На того поглядел, к тому приценился. После полудня нашел Отваду на стене.
– Долг за тобой, князь. – Безрод уставился прямо в глаза, не мигая.
– Долг? Отдал вроде.
– Мое золото.
Князь помолчал, грозно шевеля усами-бородой.
– Сколько было в кошеле?
– На полную справу.
– А те говорили на четырех коней!
– От кого про коней слыхал, с теми и толкуй. Мне мое отдай.
– А на что тебе деньги?
– То моя печаль.
– Справу я дам.
– Сам куплю. Сроду у чужих не одалживался.
Отваде будто оглоблей под дых заехало. Глаза выкатил, грудь расперло, будто вдохнул и задержал дыхание, едва сердце не остановилось. Потом выдохнул, взгляд потух. Безрод чужой. Нужно привыкнуть к тому, что лицо родное, да речи чужие. Едкие, колючие, каждая бьет прямо в сердце, ровно кол осиновый нечисти загоняет. Кивнул, подозвал кого-то из бояр, и тот мигом достал из поясной сумки нужное золото. Сивый, не прощаясь, повернулся и ушел.
В оружейном конце у лучного мастера купил тугой лучище. Долго выбирал. На вес пробовал, к руке прикладывал, вымерял, даже слушал, как звенит. Жаль, не осталось времени под себя заказать. К луку прикупил три вязанки всяких стрел. А когда уходил, взгляд упал на полушубок мастера. Стрельник сильно удивился. Только-только справил, еще ни разу не надел. Почесал в затылке, да и продал вместе со стрелами, если просит. У кузнеца Сивый купил отличный нож, у веревочника – пятьдесят локтей веревки. В усмарском конце купил несколько бычьих шкур, сшитых в мешок, вываренных в жире и выдержанных в воске. Такие воды не боятся, ни пресной, ни морской. У знахаря купил сушеных жил и костяных игл раны сшивать.
Заполдень принес все в амбар, а дружинные стоят молчаливы и насуплены, ровно ждут, не дождутся. Им собираться – раз чихнуть, на всем готовом сидят.
– Говорят, что воев за стену ты поведешь? – выступил вперед Прям.
– Да.
Смотрят вызывающе, но удивление мало-помалу сходит на «нет». Высшей почести и славы достоин боец, сразивший цвет полуночного войска. Встанет ли еще Брюнсдюр-ангенн? Кто не признает очевидного – просто упрямец. Нет ничего зазорного встать под начало такого умельца. Безрод молча оглядел каждого.
– В воеводы не лез. И за собой никого силком не потяну, – мрачно буркнул Безрод.
Молчали. Сивый внимательно оглядел каждого.
– Ты? – повернулся к Моряю.
Моряй силен и крепок, а с мечом – ровно братья родные, на двоих одна душа. Молодец сдержанно кивнул, отошел.
– Ты? – Безрод кивнул Пряму.
Прям очень быстр, может, потому и не ранен до сих пор. Да и нрав его под стать имени. Не кривит и не юлит, черное называет черным, белое – белым. Прям кивнул и отошел к ложу собираться.
– Ты? – Сивый поглядел на Щелка.
Щелк обоерук. В одной руке меч, в другой секира, секира свистит, меч поет. В бою страшен. Щелк постоял-постоял, подошел ближе, пристально посмотрел в глаза Безроду, холодно ухмыльнулся и кивнул. Нравился Щелку этот невзрачный, седой вой. Нос бит-перебит, глаза холодны, то ли серые, то ли синие, губы поджаты. И весь ровно стальной сизью отливает.
– Ты? – спросил Рядяшу.
– Обижаешь! – Здоровяк словно того и ждал. Выступил вперед, молодецки расправил необъятную грудь, и смешливо добавил. – Да за тебя, отец родной, хоть в огонь, хоть в воду!
Дружинные грянули сердечным смехом.
– В воду, только в воду, – криво улыбнулся Безрод.
Усыновлять начать что ли? Сначала Люндаллен, потом Гремляш. Теперь вот косая сажень в плечах в сыновья набивается. Кстати, как там Гремляш? Видел несколько дней назад. Был ранен, однако жив. Справиться бы надо.
– Ты? – повернулся к Любу.
Этому сшибка – мать родная. Назвать бы не Люб, а Лют, но до этого еще дойдет, если голову не сложит. Юркий, верткий, чисто живчик под пальцем. А с виду – дурак дураком. Хорошо, что только с виду. С таким играть сядешь – без штанов уйдешь.
– Да я уже собрался, – потянулся, будто спросонок, зевнул, прищурился. Глядит одним глазом хитро-хитро. Ранен в шею, но легко. Рук хватит перечесть не раненых. – Спать лягу. Разбудите.
– Вы?
Трое братьев Неслухов, огромные, словно из камня тесаные, переглянулись и кивнули. Этих только пусти в драку! Пока враг не поляжет, либо самих не порубят, Неслухи будут мечами крушить. Про них говорили, будто заливает им кровью глаза во время битвы, и если кончатся все враги, как бы сослепу за своих не принялись. А так и не скажешь. Увальни увальнями.
– Ты?
Млеч Багрец молчал. Отказаться – как бы трусом не сочли, но и ходить под началом человека, который попробовал твоего сапога, не с руки. Стоял Багрец и губу жевал. Наконец, поднял глаза и коротко мотнул головой. Нет!
– Ты под моим сапогом был, безродина, – скривился Багрец. – А я под твой не пойду.
Сивый молча кивнул.
– Ты?..
– Ты?..
– Ты?..
Коряга, не дожидаясь очереди, вышел на середину и громыхнул:
– Я пойду!
Безрод оглянулся. Помрачнел и коротко мотнул головой. Нет!
– Почему?
Сивый подошел близко-близко, как тогда на поляне, когда млеч едва не убил, и молча поглядел в синие глаза, темные от непроходящей злобы. И, усмехнувшись, еще раз мотнул головой. Нет!
Млечу не дали вспыхнуть. Сразу несколько человек оттащили Корягу в угол. И не успел Безрод отвернуться от млечского конца амбара, как из угла донесся хриплый голос:
– Не срами, воевода, млечскую сторону! Меня возьми. Сапогов я тебе не дарил, стар уже сапогами разбрасываться. Об одном прошу – не срами нашу сторону!
Вперед вышел сухой, неприметный боец, невзрачный, ровно мышь. Тоже сив, лицо словно топором рублено, одни углы. Безрод пригляделся. Зверь, что на рожон не лезет – опаснее всего.
– Злы млечи – да! Так ведь и подрубили нас под корень! Жен-детей не стризновали, там, на пепелище оставили. Душа кровавыми слезами плачет, от скорби вредоумие подступает. И помереть бы, да смерть не берет, ровно издевается. Меня возьми, вой.
Сивый кивнул. Спорить не стал, но остался при своем. Ни одного из восьмерых битейщиков с собой не отобрал. Свое горе не должно множить чужого. Проще простого обозлиться на белый свет и косить всех одной косой, будто заливной лужок.
– Ты?..
– Ты?..
– Ты?..
Отобранные времени терять не стали, разбрелись по амбару собираться. Дел невпроворот, нужно справу подготовить, отоспаться, набраться сил. Вряд ли все уйдут за одну ночь. Придется уходить в несколько приемов. Дело трудное, да и вождь непрост! Только посмотри в глаза – аж мороз пробирает, холоден и спокоен.
Безрод перебрал в амбаре всех. На досадливые взгляды внимания не обращал, на мрачные оскорбления и ухом не вел, только раз фыркнул и ощерился. Должно получиться, больно задумка красива. Тычок, поди, от запаха боли совсем сдал. И Босоног должен увидеть спокойную жизнь, чтобы отец и мать вволю надышались запахом счастья. И Стюженю спокойное житье станет вовсе не лишним, и Перегужу, и Долгачу…
Сивый торопился. Воям не только собраться, еще и выспаться нужно. За амбаром последовали овин и дружинная изба. А когда уходил из дружинной избы, где вовсю шли приготовления к вылазке, будто в спину толкнуло что-то. Сивый замер на пороге, оглянулся и взглядом уперся в чьи-то глаза, сверкавшие в полутемном углу ровно светочи.
– И ты. – Безрод, почему-то уверенный, что все делает правильно, показал пальцем в темноту.
Некто вышел на свет и широко улыбнулся. Гремляш. Сивый до сих пор чувствовал зуд меж лопаток, будто на самом деле огрели по спине ладонью. Совсем парень выздоровел. Могуч, силен, девки, наверное, покоя не знают. А зачем им покой, когда такие молодцы по земле ходят?
– Уж не чаял. Думал, мимо пройдешь. – Голосище-то о-го-го! Густ, будто мед.
– И прошел бы. Чего на глаза не явился?
– Хочу последним стать. Последний удачу приносит.
Удачу? Что там про счастливую долю Стюжень говорил? Безрод усмехнулся, поглядим.
– Хотел – станешь. Последним со стены уйдешь. Для злосчастья дверь за собой закроешь.
Парни собирались до вечерней зари. В амбаре, в овине и дружинной избе стоял глухой, ровный гул. Мечи, секиры, луки, топоры, ножи, стрелы, тетивы, копейные наконечники прятали в один мешок из вощеной шкуры, полушубки, шапки, рубахи, сапоги – в другой. Безрод придумал хитрую штуку. Оружие крепко стягивали веревкой, чтобы не гремело, потом кузнечным поддувалом наполняли мешок воздухом, туго затягивали под горлышко и тут же обмазывали смолой со всех сторон. Получался воздушный пузырь. Плыть поможет. В смоле также пачкали штаны и рубахи, не должно быть в воде белых пятен. Вои боярских дружин, раненые и те, кто оставался, с тоской поглядывали на отчаянную дружину. Впрочем, на стене тоже кому-то стоять нужно.
– Ты про Тычка помни, если что, – наставлял Стюженя Безрод. Старик усмехался. Пусть поучит, пусть. Не зазорно седому сивого слушать.
– К Отваде зайди. Простись.
Безрод криво ухмыльнулся.
– Сын исчез, не простясь, и я так уйду.
Расшибец ушел тогда один и нарвался на засаду. Многих порубил, но и самому досталось. Пока брел к своим, думал к спасению идет, оказалось, ковылял умирать на руках у отца.
Старик и слова не сказал, но Безрод ухмыльнулся, вздохнул и направился в терем. Стюжень тепло поглядел вслед, и Сивый почувствовал, будто легкий ветерок идти помогает, в спину толкает. На пороге княжьей палаты молча встал и уставился куда-то в угол. Старшины городских концов, решив общие дела, стали расходиться. Минуя порог, поклонились Безроду, приняли ответный поклон. Остались только дружинные, да князь. Отвада какое-то время смотрел на Безрода, потом буркнул:
– Все в одной рубахе шастаешь. Стужу в грудь поймаешь.
– Стужа мне сестрица, не кусает – лишь ласкает.
Такие разные они, Расшибец и Безрод. Сын был могуч и весел, этот сух, будто вяленый лещ, и угрюм. А лицо одно. Таким стал бы Расшибец лет через десять. Больно смотреть, а хочется.
– Ты зла не держи, парень. – Отвада закусил ус, покосился на мрачного Безрода. Даже искрой тепла не вспыхнули темно-серые глаза. – И на рожон не лезь. Один вот слазил. Хватит!
Сивый кивнул. Повернулся уйти. Слегка дрогнувший голос князя догнал в спину.
– Вернись.
Безрод недоуменно остановился, оглянулся, с вопросом в глазах подошел. Отвада лишь прошептал:
– Дай хоть обнять тебя, дурень.
И сгреб в могучие объятия. Да уж, как сыну быть слабаком при таком-то родителе? Едва в кашу не смял, и недавняя рана не помеха. Сивый стоял не шевелясь. Даже рук не поднять. Отвада спеленал медвежьим хватом, и Безрод отчего-то расхотел вырываться. Просто стоял, как столб и глядел на стену поверх княжьего плеча.
– Ну, иди. – Князь оторвался, и только слепой не увидел бы, каких трудов ему это стоило. Стюжень давеча говорил, будто нельзя мерить князей и воевод обычной меркой. Дескать, в них бродит закваска богов, поэтому дух тверд, словно меч. Но в жизни все бывает. Случается даже о свой меч раниться.
Темнело. Безрод заглянул в амбар. Парни, отобранные в поход, последнее доделывали. Молча оглядел и вышел. То же в дружинной избе. То же в овине. Раны в лесу долечат, хватит сидеть в тесном городе, на волю пора. Неслухи стягивали веревками оружие, да пережали малость. Порвались веревки. Со смехом кто-то бросил им замену. Моряй перепроверялся, все ли на месте. Щелк закончил полностью. Люб не соврал, управился раньше всех. Осталось мешки надуть и запечатать. Тот невзрачный млеч, который сам напросился в поход, делал все удивительно споро, и складывал, и вязал. Правду люди говорят, мала птица перепелка, но диво как вкусна. Без суеты собирается, любо-дорого смотреть. Лишнего движения не делает. Где нужен один узел, один и кладет, а где два – там и два.
– Осталось наипаче трудное, – вздохнул Стюжень. – Как бы в море не померзли. Ведь не лето на дворе.
– Есть придумка?
– Есть. – Ворожец усмехнулся. – Чудодейственное снадобье. Завороженное! Как знали. Все лето на солнце стояло, тепло вбирало. Теперь отдавать время. В нем сила солнца и, ясное дело, ворожба. Годны еще старики на что-то?
– Поглядим, – усмехнулся Безрод.
Небо чистое. Как взойдет звезда Синий Глаз, значит, наступило самое темное время ночи, темнее не будет. Едва выкатится на небо Девичья Звезда, стража поднимет Безрода первым, а к Синему Глазу уже должны уйти. Сивый вышел из амбара, чтобы не греметь справой, на пепелище своей темницы расчистил место от золы и, воткнув светец в расщеп обгорелых бревен, стал собираться. Аккуратно связал меч, секиру и лук. Хорош лук! Норовист, плечист, круторог! Тетивы, уложенные в навощенный свиной желудок, привязал к черену меча. Вязанку стрел крепко приторочил к ножнам. Копейный наконечник притянул к луку. В один сапог сунул шапку, в другой – рукавицы. Полушубок расстелил, рукава раскинул, в рукава сунул сапоги, в середину бросил новые штаны и рубаху. Завернул подол и скатал. Положил все в мешки. Кольчуги и шлемы не возьмут, слишком тяжелы. Придется на месте добывать. Нож не стал прятать. На руку приладит, на правое плечо, чтобы достать было легко. Теперь прямая дорога в кузню, надуть мешки да просмолить. Потом спать. Сивый поднялся, подхватил справу и ушел в кузнечный конец.
Когда вернулся в амбар, замер на пороге. Тихо. Спят уже. Безрод постоял немного и, стараясь не скрипеть тесаным полом, пошел к себе.
Глава 7 Вылазка
В кромешной тьме его безошибочно нашел сторожевой дружинный, потряс за плечо. Сивый мгновенно проснулся, открыл глаза.
– Пора, – шепнул боец и растворился во тьме амбара.
Безрод встал, несколько раз присел, разгоняя кровь по членам, запалил маслянку, а от нее светоч. Разбудил Моряя. Моряй – Пряма. Кто-то от возни проснулся сам. Невзрачный млеч открыл глаза, едва скудный свет обласкал закрытые веки. Остающихся будить не хотели – тем поутру на стену – да сами проснулись, и скоро амбар глухо гудел. Справу с оружием местополагали на спину, так, чтобы не мешала, и ходили ровно горбуны – топорщится за спиной пузырь, полный воздуха, а в нем оружие. Перегуж и Долгач ходили меж воями, помогали, подсказывали, ровно отцы, собирающие сыновей в поход. Скатку с одеждой прилаживали кто куда, в основном на поясницу, но были и такие, кто привязывал скат с одеждой к ноге, оплетая ремнями бедро. Безрод попрыгал. Не звенит, не дребезжит, не ерзает. Справа сидит плотно, в сторону не сползет, плыть не помешает, а дадут боги – поможет пузырь с воздухом. Ну, вот вроде и все. Вои стояли мрачные, насупленные. Ждали.
– Пошли. – Сивый первым вышел из амбара, накинув на плечи верховку. По одному дружинные уходили следом.
Под дубом на дворе уже стояли сам Отвада, парни из дружинной избы и овина полностью собранные. Рядом с князем – ворожцы и между ними – ослепительно белый жертвенный бык. У Безрода глаза на лоб полезли. Стоит старый Стюжень, и вроде все как обычно, да только бугрит спину верховного воинская справа, а на пояснице топорщится скатка. Ворожец подмигнул, дескать, не ожидал, сопливый? Рот закрой, душа вылетит, не поймаешь! Сивый покачал головой, ухмыльнулся. Воевать старый, собрался, не захотел сидеть в городе. Рассудил, что и в лесу ворожец пригодится. Что ж, правильно рассудил. Где война, там и раны, где раны, там и ворожец. А если понадобится – рядом встанет, и только успевай пригибаться, когда огромный меч над головой засвистит.
Князь подошел к Безроду и произнес во всеуслышание.
– Призываю сень богов на голову вождя! – Отвада обнажил меч и положил лезвие на макушку Безрода. – Этот человек возглавит поход, этого человека дружинные поставили над собой, он достоин стать предводителем и принять, Ратник, твое благословение!
Налетевший порыв холодного ветра взъерошил волосы Безрода. Ратник услышал призыв.
– Кто из твоих воев уйдет последним?
Сивый повернулся к Гремляшу, кивнул. Парень вышел на середину.
– Этот воин станет последним, Отвада-князь.
Князь и Гремляш вместе отошли к дубу. Гремляш изготовил нож. Князь поднял к небу меч, пошептался с богами и одним ударом поразил быка в самое сердце. Вои напряглись, не случиться бы промашке. Не успел бык пасть на колени, как Гремляш опрокинул жертвенное животное на бок, молниеносно рассек горло, разрезал шею, выудил горловину и завязал узлом. Тот, кто уйдет последним, перевязал горло быка, так же, как закроет за собой дорогу злосчастью. Теперь из желудка животного ничто не выльется и не осквернит жертвенную кровь. И пусть так же гладко истечет поход, и удача стоит за спинами воев. Гремляш встал, весь перепачканный кровью, и ворожцы подали ему чашу с медом. Он не станет отирать с рук жертвенную кровь, даже если не удастся уйти этой ночью. Озорница возьмет ее сама. Парень осушил чашу и выметнул последние капли небу.
Отроки принесли чары со снадобьем, над которым Стюжень и остальные колдовали целое лето. Оно согреет, пока будут плыть. Ох, и крепок мед! Безрод, как водится, отдал последние капли небесам, оглядел воев, князя, ворожцов. Отвада кивнул. Пора.
Со стены сбегали вниз две веревки. Сивый сбросил верховку, сапоги, не оборачиваясь, взлетел на стену, обхватил руками веревки и, коротко выдохнув, медленно заскользил вниз. Вои дышать забыли, ни звука не издали. Не слышали даже плеска воды, так бесшумно Безрод ушел в реку. В этом месте Озорница особо широка. На том берегу все пребывало в спокойствии и ночном умиротворении. Ночь темна, на черной скале не видно черную тень. Выждали какое-то время, и второй взошел на стену…
Река задышала сыростью, заплескалась волнами в самые босые пятки. Сивый посмотрел под ноги. Еще полроста. Медленно ушел в воду сначала по щиколотки, потом по колени, потом по грудь, отпустил веревку и без всплеска ушел под воду с головой. Озорница помогала, подталкивала течением. Плыть тяжеловато, да можно. Холодная вода покалывает, ей противостоит ворожское снадобье, в жилах буянит, и не поймешь то ли зябко, то ли жарко. Снаружи студит, внутри жар кружит. Безрод оглянулся. Вроде тихо. Своим шепотом Озорница перебивает все звуки. На вражьем берегу горят редкие огни, сторожевые, должно быть, никто не кричит, тревогу не бьют. Не спеша, поплыл дальше. Еще на заставе плавал в полной справе, дело привычное. Тянет, конечно, но лишь бы тело не подвело за эти дни битое-перебитое.
Сторожище медленно «уходил» назад, скоро второй должен уйти со стены. Сколько воев затемно уйти успеет? Хорошо бы все. Безрод плыл, не спеша, берег силы. Скоро водопад. В море надлежит выплыть подальше от пристани, обойти ладьи оттниров и тихонько идти вдоль берега до самого святилища. Безрод там не бывал, но Стюжень рассказал все. Пересечь придется всю губу, и надо ж было такому случиться – Озорница падала в море слева от губы, а не справа! А старое святилище лежит как раз на востоке, по правую руку. Безрод плыл, по-собачьи. Нельзя саженками плыть, услышат. Говорили, есть много невиданных земель на белом свете – далеко на западе, сразу за горами, лежит море-окиян. Далеко на полдень лежат дивные княжества, где живут чудные народы. На полночь, сразу за островами оттниров, лежит студеная земля, что раскинулась широко-широко, так же широко, как земли боянов, млечей и соловеев. Все ведь хочется увидеть, везде след свой оставить. На восток, сразу за боянскими землями идут земли млечей, далее – земли соловеев. А еще дальше – княжество володеев. Через три реки, через три гряды гор лежит страна понежеев, бочок им подпирают о ки, а в море-окиян на востоке обрываются земли былинеев. Что там дальше – всякий купец врет по-своему.
До водопада уже недалеко. Справа сидит ладно, пригнана, как положено, не ерзает, не ездит. Сколько проплыл, столько и до водопада осталось. Еще не зябко, холодит студеная вода руки-ноги, но до нутра еще не добралась. Дадут боги, только под самый конец пути доберется.
Близок водопад, уже слышно шум. Лишь бы у полуночников не нашлось охотников до ночного купания в водопаде. Есть и такие ухари. То-то смеху будет, когда им на голову человек рухнет. Знать бы еще, кто последним посмеется – нож под рукой, достать легче легкого. Безрод ухмыльнулся. Плыл размеренно, неспешно отгребал от себя воду, будто лягушка.
Ладьи полуночники, наверное, в губу завели. Заняли и купеческую пристань, и боевую. Если все ладьи сосчитать, можно узнать, сколько всего оттниров. Все же полегче будет воевать, когда знаешь, сколько их осталось.
Шум впереди нарастал. Озорница понеслась к устью стремительно. Безрод все силы положил на то, чтобы не дать себя закружить-завертеть, а про то, как стрелой влетел в створ между скалами, да выпорхнул в простор, будто камень из пращи – лишь песни складывать. И все бы ничего, только ногу распорол о камень, что торчал на самом дне. Ощутил резкую боль, словно мечом полоснули. Наверное, водяной на что-то обозлился, взял то, что ему причитается. Ох, теперь стужа гораздо скорее заберется в тело! И ладно, лишь бы остальных водяной не тронул, ведь получил старик жертвенную кровь. Откуда сделался уверен, что все вои до последнего минуют водопад без сучка без задоринки, пройдут горловину, чисто горячий нож кусок масла? Ровно в голову кто-то вложил уверенность.
Безрод поплыл прочь от водопада, намереваясь пересечь губу по косой. Пересечь губу по косой, значило пройти мимо ладей, тут уж чем тише – тем целее. Плыл мимо полуночных ладей, вереницей вставших на пристани, и считал их про себя. Где-то на берегу переговаривались дозорные, жгли костры, грелись. Если бы в спину не дышали остальные, увел бы лодку. Но нельзя. Спохватятся оттниры не вовремя, разуют глаза, забьют тревогу. С берега не видно, что в море делается, и тем паче не слышно, а все равно держи ухо востро. Полуночник большую часть жизни отдает морю и на слух отобьет шум отливной волны от приливной. Кому выкажет море благосклонность? Волна шумит, берег лижет, глядишь, за ладьями не заметят. На самих ладьях тоже охрана, на носу и у кормила. Безрод, поил Морского Хозяина горячей кровью, и просил за остальных. Лишь бы дал до берега невредимыми доплыть.
Стужа в ногу вошла, сковала, будто веревками опутала. Безрод выплыл из губы в открытое море. По берегу тоже костры горят, и с десяток ладей в чистом море стоит. Оттниры никогда не заведут все ладьи в залив. Тридевять ладей насчитал. Немало. Не менее полутора тысяч оттниров высадились на боянский берег.
Ладьи остались за спиной, а Безрод все плыл вдоль берега. Скоро и костры кончились. Завиднелся первый мысок, а перед вторым и будет старое святилище. Справа будто вдвое отяжелела, а ведь плыть еще столько же. Стужа забиралась все глубже и глубже, стала одолевать солнечное снадобье. Тут сам не зевай, греби усерднее. Безрод перешел с лягушачьего плавания на привычное, большими саженями – лицо в воде, воздух забирается через два взмаха на третий. В такой темени, без луны, далеко от берега одинокого пловца никто не заметит. Кровь побежала быстрее, но тело уже окоченело.
Безрод плыл бездумно. Если открыться для раздумий, единственной мыслью станет чудовищный холод, хватающий за сердце. Рассеченная нога давно окоченела, Сивый даже не знал, на месте ли она вообще. Руки ходят, будто весла, лицо горит, губы, наверное, посинели. Ничего нет вокруг, ни земли, ни моря, есть лишь кусок льда внутри.
От соленой воды слезились глаза, но и такими Сивый приметил скалу, вставшую по правую руку. Что-то еще более темное, чем ночная мгла, выросло на пути и застило небо. И даже если бы не увидел скалу, все равно повернул к берегу. Сил больше не осталось.
Море помогло, подтолкнуло в спину. Безрод коснулся земли и застонал. Не получается встать, руки подламываются. Грач где-то здесь, глядит из лесу, но не выйдет, пока не уверится, что свои. Выполз на берег и долго лежал недвижим, ровно безрукий-безногий. Захочешь руку поднять – не поднимется, будто отлежал. Шею схватывает, словно кто-то сомкнул на загривке пальцы, которыми только подковы щелкать. Как подумал о том, на какие труды предстоит себя ломать, стало тошно, чуть концы не отдал. Кое-как перевернулся на грудь, кое-как подогнул ноги и встал на колени. Замутило. А как отдышался, встал с колен. Сделал шаг и остановился. Будто забыл, как шагать. Раненой ноги, словно вовсе нет. Сама не идет – волочится за здоровой.
– Вот и встал. И шаг сделал, – прошептал Безрод. Даже губы не слушались, все лицо судорога искорежила. Посмотреть бы на себя в зерцало. Наверное, губы синие, шрамы сине-белые, сам бледен, чисто утопленник!
Сивый сделал еще один шаг. Покачнулся, едва не упал. Еще шаг. Приноровился. Пошло дело. Стужа добралась-таки до самого нутра, зубами застучал. Так зачастил, что самому не остановить. Обманул костлявую. Старуха пришла, когда уже на берег выбрался. Безрод заставил себя улыбнуться. Пусть видит улыбку на губах и знает, что сегодня не ее ночь. Давеча, подумал-подумал да и сунул лик Ратника в скатку. Пусть лежит, хранит. Сохранил.
Хорошо берег пологий, будь немного круче, не взобрался бы. Шел, приволакивая ногу, руками разгонял кровь по телу. Вот и лес. Теперь, когда встал, навалилась бесконечная усталость. Безрод сжимал пальцы в кулаки, возвращая рукам чувствительность, но получалось плохо. Вошел в первые деревья, ступил в снег и привалился к сосне. Вытащил нож, неловко полоснул по завязкам. Веревка лопнула, скатку перекосило. Разрезал вторую веревку, третью, четвертую. Скатка с одеждой отвалилась на снег, а Безрод обессилел, будто дерево срубил. Руки ходуном ходили. Скатка с оружием легче пошла. На Грача надеяться нечего. Может быть, лежит Грач на берегу Озорницы, утыканный стрелами, ровно еж. Скоро парни приходить начнут. Их нужно отогревать, и сделать это больше некому. Безрод ухватил оба мешка неверными руками и потащил вглубь. Недалеко нашел каменную грядку, расположился там. Неловок стал, руки трясутся, зубы стучат, ноги подгибаются… Видел бы теперь город своего поединщика, то-то смеху было бы!
Сивый втащил скатки за гряду, и неловко распорол. Все равно, свое отслужили. Размотал скатку с одеждой, расстелил полушубок и выудил из рукавов сапоги. Из одного сапога достал шапку и огниво, из другого – рукавицы и лик Ратника. Оглянулся назад. Сколько времени прошло? Не подходит ли следующий? Успеть бы!
Первым делом снял мокрое и надел сухое, влез в сапоги. С рукавов и подола полушубка нарезал длинношерстной овчины (как увидел у лучных дел мастера полушубок с длинной шерстью, клещом вцепился – продай!), из рукавиц вытряхнул бересты и тряскими руками расчистил место. Насобирал веток. Положил на землю шерсть, поднес огниво, и чуть не рассмеялся. Даже стараться не нужно. Руки так трясутся, лишь поднеси кремень к кресалу – искра сама появится. Будешь сыт, здоров, не всякий раз такое повторишь. Смех один. Чуть подправил, и запалила искра шерсть. Сивый подбросил еще шерсти, сверху приложил берестой, а из рукавицы лучин достал. Занялся костерок, и только у огня Безрод понял, как устал. Смертельно устал и замерз. Не будь сам холоден, как лед – без сомнений отдал бы концы. Поодаль сухо треснула ветка. Безрод вскинул голову, прищурился. Неужели видение? Глаза играют дурную шутку, тьма балует? Не-ет, Костлявая, стоит поодаль в дерюжном ветхом клобуке, бесплотно таращится, ничего не разглядеть, только белесое пятно парит на высоте человеческого лица. Уходя, безносая обернулась, и Сивый, проморгавшись, увидел страшные, пустые глазницы.
Подбросил в костерок лучин, потом веток и заставил себя встать. Достал топор и с повалки – рухнувшей сосны, неловко нарубил сучьев. Бросил в огонь, и костерок превратился в костер. Сивый отогрел руки и нарубил сучьев побольше. Наверное, боги не придумали ничего более благостного, чем огонь и солнце. И стужу сотворили только для того, чтобы пламя огня стало жарче. Иногда Безроду казалось, будто прозревает замысел богов, но один день сменялся другим, и Сивый сам себе ухмылялся. Чуть в костер не влез, казалось – лижет огонь руки, но как-то вяло. Не кусает. Безрод надел полушубок, натянул шапку до самых глаз, влез в рукавицы и чуть не помер от блаженства. Не мешкая, взял топор и обрубил с повалки все, что мог. Жарко взметнулось пламя. Сивый оглянулся на костер и поспешил на берег. Как там верховный поплывет? Хоть и здоров, ровно бык, а все же старик.
Безрод потерял счет времени. Уже сиял сквозь прорехи облаков Синий Глаз, но берег оставался пуст. Нутро холодом обдало, неужели не доплыли? А может быть, просто отпустили подальше? Дескать, мало ли что может случиться, пусть у первого будет времени побольше. Безрод прошелся вдоль берега. Ничего и никого. Вернулся, доложил сучьев. Приколченожил обратно на берег. С холодной угрюмостью вглядывался в седину волн. Ничего и никого. Неужели полуночники что-то разглядели? Неужели перехватили, переловили, точно глупую рыбешку? Сивый, хромая, мерил шагами берег, всматривался вдаль. Даже представить себе больно, как парней прямо из моря ссаживают в лодки, будто раненых тюленей.
Как будто всхлип. Словно кто-то хлюпнул носом, глотнув морской воды. Сивый торопливо, стиснув зубы, похромал к берегу. Точно так! Еле слышно кто-то возился в самом бережку, там, где волны исходили белым ажуром. Лег почти без памяти, из последних сил. Их не осталось даже на то, чтобы выползти на берег. Безрод узнал его. Тот серый, невзрачный млеч, чья неприметная сноровка так о многом говорит знающему человеку. Усмехнулся, вынул из-за пазухи веревку, намотал на свое запястье, потом на запястье млеча – сжать пальцы и тем паче удержать в них такой волок вышло бы теперь не под силу – и потащил в лес. Млеч мычал, утробно кашлял, наверное, содрал о гальку и мерзлую землю весь живот, да ладно. Мычит, больно – значит, жив. Пока тащил и сам разогрелся. У костра распорол завязки и снял снаряжение. Совлек с млеча мокрое, торопливо вдел в сухое и подсадил к костру. Подбросил сучьев. Недалеко нашел упавшую березку – не толстую, рубить недолго – и распустил на дрова. Когда вернулся, млеч уже глядел кругом одним глазом и разевал рот, глотая горячий воздух. Встанет. И даже от простуды не сляжет. Сивый угрюмо покосился на млеча. Самому больше всего хочется упасть около костра и забыться, и лишь поворачиваться к огню то одним боком, то другим. А еще боги наряду с огнем придумали сон, а чтобы он стал слаще, сотворили великую усталость. Безрод угрюмо покосился в небеса, прикрытые рваным облачным покровом. Как будто второй раз кряду промыслил великую истину богов, словно за спиной стоял, пока они творили.
Вои, что полегче, уйдут первыми. Окажись на месте млеча, например, тот же Рядяша – оба легли бы на берегу. Безрод жилы надорвал бы, втаскивая в лес неподъемную тушу. Здоровяки пойдут последними – Моряй, Рядяша, братья Неслухи и еще трое-четверо. Последним из них Гремляш.
Безрод подкинул в костер дров и похромал обратно на берег. Долго ничего не было видно и слышно, кроме белой пены и шелеста волн, и, наконец, кто-то захлопал по воде. Третий встал на четвереньки и, падая с рук на гальку, побрел на берег. Выполз из воды, и силы его оставили. Перевернулся на спину, мутными глазами взглянул вверх, прошептал:
– Вот и я, воевода.
Люб. Сивый убрал с лица улыбку и молча кивнул. Молодец отдышался и перевернулся на живот, как сделал это Безрод немногим ранее, подтянул колени к груди и встал, сначала на одно колено, потом и вовсе с колен. Сивый подпер его плечом и довел храброго парнишку до костра. Млеч уже мало-мальски отогрелся, непослушными руками разбирал справу. Первым делом достал небольшой топор. Безрод бросил последние дрова в огонь и присел над Любом. Совлек мокрое, выгреб горячей золы, рассыпал на холодное тело. Люб аж застонал. Ясное дело больно, когда тепло гонит стужу, тело кричит и плачет. Сивый тонко присыпал отчаюгу теплой золой, а стук зубов парнишки, наверное, распугал всю живность в округе.
– Терпи, ухарь. – Сивый будто колыбельную напевал. – Скоро горячо станет, разбежится кровь по жилам, и нарекут Любу имя Лют. Дескать, парень так яро дрался с Костлявой, что новое имя придется очень кстати.
Чтобы Костлявая, не к ночи помянутая, не схватила походников ледяными пальцами и не утащила в свои чертоги, кому-то пришлось гореть самому, будто костер. Интересно кому? Безрод усмехнулся. Не из огнива родился этот лесной костер – прямиком из души. Но за все платишь, и сколько новых седых волос прибавится наутро?
Люб кивал, закрыв глаза, и трясся всем телом. Не выпустил крик наружу – тот вышел со злыми слезами. Каждый из парней прыгнул бы выше головы, если бы знал, что следом другие идут. Млеч и Люб остались целы, не разбили ноги в водопаде. Должно быть, хватило с водяного его крови. Сивый стряхнул с парня золу, помог облачиться в сухое, закутал в подбитую волком верховку и оставил отогреваться.
Глаза смыкались, а в сапог набежало изрядно кровищи. Так устал, что улегся бы на берегу и вон душа. Умылся морской водой, хоть немного сон разогнать и увидел четвертого. Щелк. Бредет по колено в воде, выступает из тьмы и воды, чисто порождение морских глубин. Не доходя до берега, рухнул лицом в волны и снова поднялся. Никому даром этот заплыв не пройдет. У кого седины не было – обзаведется, у кого была – станет еще богаче. Щелк на четвереньках выполз на гальку, тяжело поднялся, его закачало.
– Я приплыл, Безрод.
Голос дрожит, руки плетьми висят, ноги подгибаются. Шатаясь, будто пьяный, пошел сам. Безрод лишь плечо подставил, так вместе до костра и дошли. Мутным глазом Щелк поискал Грача, не нашел, и с вопросом посмотрел на Безрода. Сивый пожал плечами. Нет Грача. Может быть, сгинул, может, лежит где-то в лесу, остывает, может быть, в плен попал. Млеч принес дров, подкормил огонь, помог одеть Щелка в сухое. Заерзал Люб. Отогрелся худо-бедно.
Этой ночью из морских волн Безрод принял еще двадцать пять воев. Последний приплыл с бледной зарей на востоке и с вестью о том, что этой ночью больше никого не будет. Некоторые сами добрели до костра, и, хвала богам, доплыли все. С последним воем, Безрод скинул сапог, задрал штанину и закачался. Невзрачный млеч подпер крепким плечом, не дал завалиться набок. Распоротая лодыжка опухла. Крови натекло столько, что хватило бы затушить небольшой костерок. Млеч быстро достал иглу – у него меньше всех дрожали руки – сшивные сухожилия и попросил у богов твердости. Меда не было, и Сивый крепко закусил сухую деревяшку…
Проснулся на следующий день близко к полудню. Весело трещал костер, парни отсыпались. Скосил глаза. Веки распухли, еле белый свет видать. Трое несут охрану, один в камнях на берегу, двое в лесу. Ничего, успеют выспаться. К ночи, когда нанесут волны забот, сна не должно быть ни в одном глазу. О, боги, как же тепло! Пляшет огонь, трещат поленья.
– Я пришел из ниоткуда, – прошептал Безрод, приподнимаясь на руках. – В никуда же и уйду. Странник мрачный безымянный, к счастью своему бреду.
Ногу стегнуло острой болью, едва попытался встать. В шаге от себя, только руку протяни нашел кем-то предусмотрительно срезанный костыль. Оперся на длинную дровину и кое-как поднялся. Наступил на порванную ногу, прислушался к себе и равнодушно кивнул. Затянется. Млеч сшивал. Не отрок сопливый, уже сединой блещет, должно быть все сделал, как следует. И рану свел, и золой присыпал. Никогда еще Безрод людей не водил, а вот повел – и ничего. Ни радости, ни печали. Повел и повел. Может, так и должно быть? Слишком горячий не годится в воеводы, слишком холодный тоже. Сложная штука жизнь.
Сивый доковылял до берега. В прибрежных камнях упрямо сражался со сном Щелк. Зубы сцепил, лицо мокрое, наверное, морской водой сон прогонял, но все равно глаза сами собой закрываются.
– Полно. Спать иди. Сам постою. – Безрод взглянул мимо Щелка, туда, где море целовало небо. Оба стыдливо прикрылись от любопытных глаз полотнищем тумана. Со Щелка мигом сон слетел. Воин сузил глаза и уставился на Безрода, будто что-то искал.
– Ну, чего уставился? – буркнул Безрод. – Я не девка, чтобы на меня пялиться.
Щелк усмехнулся. Сивый, сивый, ни урод, ни красивый… Не стыдно ходить за таким воеводой. Жаль только, глаза пусты и холодны. Спокойно принял парней из моря, обогрел, и лишь тот, кто сам проплыл до старого святилища, знает, как тяжело пришлось вчера первому. А сам воевода чьим теплом обогрет? Или на самом деле внутри у Безрода булатный остов, который не ломается, лишь гнется под ветром? У самого до сих пор руки-ноги трясутся, а Сивый, хоть и ранен, не трясется и не дрожит. Эх, люди, люди!
– Это верно, лучше на девок смотреть. – Щелк улыбнулся. – Хоть уснешь спокойно.
Безрод ухмыльнулся, кивнул себе за спину. Дескать, иди, отсыпайся, дадут боги, приснится что-нибудь доброе.
Ближе к полудню сменил дозорных в лесу. К вечеру все станут, будто огурчики, один к одному, румяные с мороза. Только седины у кого-то прибавится. Через три дня уже должен ходить. Безрод встал и прошелся по берегу. Одно слово «прошелся» – проковылял. Не стать бы обузой. Как с такой ногой по лесу побежишь? Иное дело, что оттниры в лес и не сунутся, но нужно быть готовым ко всему. Может быть, полуночники озвереют и полезут в чащу. Всякое возможно.
Вои облепили костры, не просыпаясь, поворачивались то одним боком, то другим. И даже не спали, а просто блуждали в забытьи. Как если бы вековечная усталость, которую люди с начал времен сбрасывали в море, вползла в члены, и стонешь от непомерной тяжести и кривишься спросонок и губы кусаешь до крови. Безрод нашел у костра невзрачного, серого млеча – усмехнулся, так и ходит безымянным – разбудил.
– Звать-то как?
– Зови Круг. – Глаза глубоко запали, изошли синяками. Исхудал, измучен, только взгляд остался цепким, колючим. Моргает Круг, сон сгоняет.
– На промысел собирайся. Парни подойдут, тут бы горячего в зубы.
Млеч улыбнулся. Даже мысль о горячем жарком возвращает к жизни. Как ни устал, слюна потекла.
– Добуду. – Млеч устало разлыбился, подхватил справу и исчез в лесу.
Безрод следом еще двоих отрядил за добычей. Мяса нужно много, и среди благостных только одна черная дума не давала покоя. Где Грач?
Сивый без устали расхаживал ногу. Не хватало только обузой стать. Чтобы таскать безногого, нужны двое, четыре сильные руки будут от дела оторваны. Ближе к ночи, уже в сумерках, размотал повязку, отодрал от раны, и пересыпал золой огалища. Растет огалище-трава и зимой и летом, будто елка, одним цветом. Имеет чудодейственную силу. Пока не стемнело, ползал на коленях, искал огалище под снегом. Нашел. Через три дня нужно обеими ногами крепко стоять на земле, поэтому плюнул на запрет Стюженя и ворожил на закате. Никогда не задавался вопросом, почему выходит. Выходит и все тут, хоть никто не учил. Как пошел однажды, малолеткой сопливым, так и ворожить начал – все в свое время. Разбудил смену и со свежей повязкой уснул у первого костра, который сам и запалил. Вои переглянулись. Даже лишним словом не перекинется с парнями. Все один да один. Сначала не приняли, а теперь сам не идет. Так по сей день и тянется, а как разбить эту стену, как засыпать пропасть, никто не знает. Сивый свою жизнь за них отдаст, а их жизни не примет. Чужим пришел, чужим и уйдет.
К Девичьей Звезде Безрод уже встал. Никто не будил. Но как будто в бок пихнули. Запах жареной оленины разносился по лесу, словно наколдованный, как бы полуночники не сбежались на аппетитный мясной дух, этим волкам только унюхать…
– Уже будить хотели! – весело крикнул млеч. – Прими должное.
Круг, добытчик оленя, протянул Безроду мясо, жаренное на дубовом вертеле. Сивый встал и принял оленину стоя.
– Жаль, пить нечего, кроме талой воды!
Безрод усмехнулся. Последнее время слишком часто стал ухмыляться, того и гляди, лицо окривеет. Сивый благодарно кивнул, вынул нож, отрезал кус мяса, бросил в небо – доля Ратника. Отрезал еще кусок, бросил за спину, в лес – почтение Лесному Хозяину. Потом костями вернут оленя, земле отдадут. Отрезал третий кусок и поглядел на Люба. Люб, самый младший, подошел к Безроду и принял оленину из рук воеводы. Сивый закусил губу, выглянул на парней исподлобья. Вот и очертил круг мирозданья, небо – Ратник, Люб – человек, все остальное – посредине круга, между небом и землей.
Ели, перешучиваясь, топили снег в ладонях, перебрасывались едкими словами. В словесные игрища пытались втянуть и Безрода. Сивый ел молча, на удачные шутки посмеивался, но молчал, пока Щелк не прошелся по нему самому.
– Всякий свое слово вставил, да не всякий молчит красиво. Я слыхал, старики говорят, дескать, молчи – за умного сойдешь. О чем молчишь, воевода? – и хитро покосился на Безрода.
– О тебе, зубоскал. Остер ты на язык, вот только… – Безрод, усмехаясь, взглянул на Щелка и замер над мясом.
– Что, что? – Парни едва с мест не вскочили.
– Вот только не облизывайся после еды. Порежешься!
Ночной лес грянул ладным мужским хохотом, и тьма как будто отступила, стало светлее и радостнее. Как и не было смертельно опасного заплыва. Должно быть, Лесной Хозяин за деревом стоит, от смеха надрывается. Может быть, и сам Ратник с небес улыбнулся.
Те двое, что ушли следом за млечем, птицы набили. Развешенные на деревьях, тушки висели-покачивались. Мясо есть, можно приплывающих отогревать. Скоро выкатится Синий Глаз. Жарко пламенели костры, вои приготовили все: горячую золу, расчистили место для лежки, на всякий случай изготовили иглы и сухожилия.
Для Безрода и дружинных время потянулось мучительно медленно. Несколько человек несли стражу в лесу, несколько человек хлопотали с мясом, держа оленину на подходе, несколько человек стояли на берегу, высматривая море. Уже сходили под покровом леса к полуночнику. Далеко враг сидит, не увидит, не услышит.
– Плывет кто-то.
Востроглазый Прищур углядел человека в волнах. Просительно взглянул на Безрода, и тот кивнул. Прищур, скинув сапоги, разбежался и стрелой метнулся в море. Подплыл к темному пятну на волнах и повлек обессилевшего человека к берегу. Там сразу несколько пар рук, мигом сорвав скатки, извлекли походника из мокрых одежд и молнией унесли к костру на горячие камни, под теплую золу. Поглядывали на Безрода с удивлением и восхищением. Пока все на месте, потерь нет. Дружину для вылазки Сивый отобрал безошибочно.
Жаль меда, нет. Не помешал бы. Однако мясо, зола и горячие камни тоже неплохи для замерзших пловцов. Отпустил их Морской Хозяин, подарил жизнь.
Безрод каждого встретил на берегу, каждому заглянул в глаза, каждому сказал доброе слово. Иные не смогли ответить – язык отнялся, иные сами на берег вышли. Каждому свое. Кому плыть дальше всех, кому стрелять. Те, что приплыли во вторую ночь, рассказали, будто насели утром полуночники, будто озверели. Не иначе, кто-то помер. Обозлились до предела. Уж не Брюнсдюр ли концы отдал? Не его ли оплакивают оттниры? А если не он, чего пеной изошли? Или опасность почуяли, как звери?
Еще две ночи подходила дружина, и пока шла, Сивый гляделся кругом чернее тучи, как там старый ворожец? А с восходом Девичьей Звезды в последнюю ночь вдруг улеглось в душе, ровно еж колючки пригладил. Безрод успокоился и даже усмехнулся. Понял, что увидит на волнах. Старик пойдет предпоследним, а уж как на берег сойдет – животы у парней не лопнули бы от смеха!
Несколько человек отходили особенно тяжело. Незажившие раны проснулись в море, огрызнулись, укусили. Но стоило Безроду посмотреть храбрецам в глаза, понял самое главное – выкарабкаются. Не для того плыли по студеному морю, чтобы на берегу душу отдать. Глаза горят, будто кострищное пламя. Если в глазах есть огонь, там и кровь займется, согреется. Ничего им не сказал, просто кивнул.
А Рядяша только отряхнулся на берегу, да подмигнул устало. До сердца, сквозь телесную мощь стужа не достала. Огромный и мокрый, будто медведь, Рядяша на карачках выполз из воды, поднялся на ноги и фыркнул. Дескать, вода в море слишком соленая и невкусная, то ли дело давешний мед! Вои только улыбнулись. Можно представить, как станут хохотать, когда Стюжень встанет на берег!
А когда Прищур углядел в море что-то совсем неожиданное, и с немым вопросом в глазах обратился к Безроду, Сивый спрятал улыбку в бороду. Смейтесь, смейтесь, только животы берегите. Не лопнули бы. Плывет… лодка, а в ней… Стюжень и Гремляш, гребут мерно, размеренно, в темноте зубы белеют, это было видно всем. Важные, ровно богатые купцы, ворожец и Гремляш сошли на берег. Едва не смеются, будто мальчишки. Только шасть из-под княжьего ока за стену… и будто подменили обоих. Чисто сорванцы, нарвавшие в запретном саду спелых яблок.
– Рты позакрывайте. Душа вылетит, не поймаешь, – смеясь, буркнул Стюжень, едва сошел на берег.
– И счастье зубами не ухватишь, – ответил Безрод, и старик сгреб воеводу в охапку.
Стюжень и Гремляш пошли след в след. Рассудили, что ворожец нужен живой и не мерзлый, может кому-то помочь нужно. Стюжень подождал Гремляша, и озорники стянули у полуночников лодку. Подплыли незаметно к ладьям, которые стояли в открытом море, подождали, послушали да и перерезали веревку. Прикрываясь лодкой, тихонько поплыли вперед. И пока далеко от берега не отвели, не влезали. Мол, всякое бывает, сама отвязалась и плывет бесхозная в открытое море, уносит ее вдоль берега поперек волн. Морскому Хозяину сказали, что на доброе дело взяли, жаль, ответа не услышали. Должно быть, смеялся Морской Хозяин. О, да, бесхозная лодка, плывущая против волн, это очень смешно. Когда отошли от ладей достаточно, влезли в лодку. Пока гребли, отогрелись. Верховный попал из огня да в полымя – сразу мерзлых начал пользовать, чем-то поил. Старик взял с собой сушеных трав, а Гремляш чарку. Мерзлые пошли на поправку. Не просто встанут на ноги, но и мечи возьмут.
Меда не было и с куском оленины – даром Лесного Хозяина, Безрод встал у костра. Благодарил Ратника за удачный исход из города, благодарил Отца-солнце за огонь, благодарил Лесного Хозяина, вспомнил каждого из богов, никого не забыл. Люб, как и раньше, принял мясо из рук воеводы, и круг замкнулся.
Ногу Безрода Стюжень осмотрел сразу после еды. Покачал головой:
– Где кровь оставил?
– В самом водопаде. На дне камень стоит, прямо в створе.
– Вот и выходит, что откупил ребят у Водяного. Теперь они твои. А свое не бросают. – Сивый исподлобья выглянул на старика, но промолчал. – За что кровью плачено – то богами дадено, а с богами не спорят. Станешь спорить – прогадаешь.
– Грача не вижу. – Стюжень перетянул ногу Безрода свежей повязкой.
– Я тоже не вижу, – буркнул Сивый. – Будто сгинул в глухомани. А может быть, попался оттнирам на глаза и принял смерть от стрелы или от меча.
Безрод кривился. Больно. Давно понял, что лечить раны гораздо тяжелее и болезненнее, чем получать. Получать легко, р-р-раз – и готово. А лечить…
– Что делать удумал?
– Подожду, как все на ноги встанут. Там и начнем. Есть одна задумка...
– Тебе верят. За тобой пойдут.
Безрод отвернулся, встал, ушел на берег. Парни поймали кураж, готовы жизнь отдать за воеводу, им, без преувеличения, теперь море по колено. Лежит на лицах сумрак вины, вот и пытаются всеми силами растопить лед. Долг неподъемный, но отдавать нужно все равно.
Безрод таскал глаза по земле, вперед не смотрел вовсе. Где уж тут других понять, себя – и то не получается. Любого из ребят прикрыть – как само собой! Но душа не шевелится, будто нет ее вовсе. Вон сколько костров горит, вон сколько глаз огнем светится, а самому теплее не становится. А если бы несправедливо приговоренный оказался чуть менее искусным бойцом? Если бы погиб в первом же поединке? Если бы Коряга убил тогда на поляне? Ладно, к смерти приговорили, но измываться зачем? А если завтра случится то же самое, только с кем-то другим? А если приговоренный к смерти окажется мельником, пекарем или ткачом? Не сможет отстоять свою невиновность с мечом в руке, не станет вдруг нужен всем? Станут ли уважать пахаря, горшечника, пастуха? Действительно поняли, что были не правы, или только признали в нем равного себе? Ох, боги-божечки, загадка на загадке, одна сложнее другой!
Стюжень внимательно смотрел Безроду вослед, а когда Сивый ступил на прибрежную гальку, старик вздохнул, встал с бревна и пошел следом. Обида пустила корни очень глубоко, так глубоко, что, начни дергать, как бы с вместе душой не вырвать. Это не молодеческое помутнение рассудка, которое приходит быстро, а уходит еще быстрее. Из крохотного семечка проросла обида человека, который винить не торопится, а если овиноватил, простить не спешит. Это обида человека, знающего цену и тому и другому. Не дети малые, давно из распашонок выросли. Как забыть, что в беспомощного от боли швыряли сапогами, давили босые ноги, от нечего делать наземь бросали?
– Прости их. – Стюжень и Безрод сидели на камнях на пустынном берегу. В старом святилище, у костров дружинные весело перешучивались, перебирали справу.
– И рад бы, да не понимаю, что значит «простить». Зла не покажу, но и забыть – не забуду, – сквозь зубы выдавил Сивый.
Вои не слышали, о чем шла речь у ворожца и воеводы, видели только, что старик встал, и, понурив плечи, пошел к поляне. Разом примолкли, уткнулись в землю. Стюжень посидел-посидел да и рявкнул на весь лес:
– Чего смолкли? Песню дайте!
И дали. Моряй повел звонко, молодецки, о пути-дорожке, которую однажды перешла девица-краса, длинная коса, и не стало парню покоя. Весь чаровница унесла с собой. Вои дружно подхватили, даже Стюжень, и только Безрод один сидел на берегу и тоскливо глядел вдаль. Кто-то из молодцев хотел позвать в песню, но старик удержал за руку. Чужой он. Чужим пришел, таким и уйдет. Еще до вылазки питал ворожец надежду, но теперь видно – бесполезно. Сам понял, сник. Только в сказках все бывает легко и просто. Ишь, размечтался старый, крылья расправил, будто птаха. Думал, вот придет в себя князь, обнимет Безрода, ровно сына, глядишь, оба оттают. А когда Сивый поведет за собой людей и увидит со всех сторон преданные глаза – и вовсе отогреется. Куда там! Спина к спине встанет, даже жизнь отдаст, но не простит, и руки не подаст. Странный он. Как будто из особого теста слеплен. Стюжень и не встречал таких, а ведь пожил немало. Даже не знал, что такое на свете возможно. До седых волос дожил, а не знал. Ровно нож в сердце всадили. Старый пел вместе со всеми, а по щеке катилась одинокая слеза и пряталась в бороду. Хорошо, голос не дрогнул.
Безрод сидел на камне и глядел вдаль, в темноту, чтобы посторонние мысли не лезли в голову. Видел, как потухли глаза старика. Будто ребенка обидел. Холодно было на душе, теперь и вовсе мороз. Но того, что сделано, не вернуть. Жизнь заново не перепишешь, черные дела белым не замажешь. Каждое слово записано в большой книге судьбы. Против Коряги там написано – чуть не убил безвинного. Хоть выше головы прыгни, так и останется. Говорят, простить – значит выказать силу духа. Тогда выходит, что слабак. Понять бы еще, что такое «простить». Вовсе забыть обиду или просто злую память наружу не пускать? Так он, вроде и не пускает.
С Девичьей Звездой Сивый сменил стражу, сам обошел все заставы, но так и не нагнал усталостью сон. Проворочался до самого рассвета, и когда начало заряниться, поднялся. Обошел святилище кругом, на каждом вое задержал взгляд. Уже завтра все померзшие крепко встанут на ноги. Дружинный дозор третий день во все глаза доглядывал за оттнирами. Полуночники расположились большим станом на Озорнице и малым станом у ладей, которые остались в чистом море. Люди Безрода охотились, баловались оружием, дабы кровь не густела от безделья, хворые поправлялись, попивая отвары Стюженя.
На те десять ладей, что оттниры в губу не завели, и начал Безрод зуб точить. Стражи при них сотня. Спят на ладьях, где же еще оттниру ночевать? Каждое утро полуночники уходят на лодках в море на рыбный промысел. Орава-то вон какая, поди прокорми! Охотой тоже промышляют, да только в заповедную часть леса не суются. Глухомань. Заманит местный лешак – поминай, как звали! Ходу от малого стана до большого – не спеша съесть миску каши и выпить чару меду. Дорога лежит вдоль берега, в обход леса, который острым клином выдался почти к морю. Через лес идет тропа, но дозорные заметили, что оттниры по ней не ходят. Предпочитают длинный путь, вдоль берега. Кормить местного лешака охоты не нашлось. Сосчитали стражу до единого человека, два дня в засаде лежали. Сотня с небольшим хвостиком. На приступ вместе со всеми не ходят, аж на месте подпрыгивают, скалятся, за мечи хватаются, но отойти не могут. Ангенн не велел. Выжил Брюнсдюр. Про то сами слыхали. Могучий боец.
– Сотня стоит у ладей пять дней. На шестой день меняются. От нечего делать забаву себе придумали. Набили сапог тряпками, с двух сторон воткнули в землю по два весла, вроде ворот в ста шагах и ну давай носиться между воротами и вырывать друг у друга сапог. Кто занесет сапог в ворота, тот и победил. Чудно.
– Ворота, говоришь, – Безрод усмехнулся. – Расскажи еще раз и не упускай мелочей.
Дозорные рассказали все, что видели. Сивый кивнул и бросил.
– Сам в дозор схожу.
Накануне вылазки Безрод собрал парней на поляне, велел присесть на полеглые деревья. Оглядел каждого.
– Вызнали все. Эта сотня сменяется через два дня. Встают с рассветом, уходят в море на рыбный промысел. После восхода солнца из большого стана приходят несколько обозов за рыбой. Затем оттниры сторожевой сотни завтракают. Дел у них больше нет. После обеда от скуки начинают играть в «сапог». Потом ужин, выставляют ночную стражу, и все. Когда лучше напасть?
– Ясное дело – ночью! – закричали едва не хором.
Безрод, усмехаясь, покачал головой.
– Нет, днем.
– Как так? – Дружинные повскакивали с мест.
– А так. – Сивый поднял Моряя. – Расскажи, как в «сапог» играют.
– Бьются на две дружины, по полста человек в каждой. Защищают свои ворота и пытаются донести сапог до чужих. Можно отнимать сапог, валить соперника, передавать своим, не пускать чужих к воротам. Бьются в полном боевом облачении. Ржут, смеются, орут, грохот стоит такой, ровно всамделишная битва идет…
– Значит, орут и грохочут, ровно битва идет? – переспросил Безрод, усмехаясь.
– Да. – Моряй запнулся и умолк. – Ты хочешь… Средь бела дня? Во время игры?
– Почему нет? Нападем ночью – перебудим большой стан. Шум да грохот встанут до небес. А днем ни одна собака ухом не прянет. Играют и играют себе. Все привыкли. Лес выдается клином к самому морю, из большого стана ничего не видно.
Безрод заставил лесное воинство хорошенько отоспаться, поднял молодцев позже обычного и после полудня объявил готовность. Дозорные уже на месте, остальных Сивый внимательно оглядел и кивнул. Помороженные крепко встали на ноги, глаза так и сверкали злобой, будто у котов.
– Глаза прищурьте! Неровен час, заметят блеск в лесу, пропадем!
Дружинные грянули смехом. С таким-то воеводой как не смеяться? С Безродом даже один-вчетверо без страха выйдут. Сивый поднял кусок мяса, одарил Ратника, одарил Лесного Хозяина, только резал не ножом – мечом. А когда закончил, первым растворился во мраке чащобы, будто призрак.
Несколько человек встали на лесной тропе, что соединяла большой стан полуночников с малым. Те оттниры, которые по недоразумению избегут смерти, и припустят с дурной вестью в большой стан, найдут на лесной тропе свой конец. Остальные вои дружины Безрода притаились в лесу. Снега на берегу не осталось, весь истоптали. И ветер стих, будто уснул грозовой белопенник. Засадники тенями скользили за стволами и осторожно, по шажку, выдвигались к самой кромке леса, надолго замирая в тени деревьев. Полуночники готовились к игре. Разнесенные на сотню шагов торчали из земли весла, два с каждой стороны. Оттниры облачались в доспехи, перешучивались и обещали начесать друг другу холку. Лязгало железо, гремели доспехи, один из полуночников между воротами поставил сапог, аккурат посередине. Оттниры разбились на привычные дружины по полста человек, и каждая отошла к своим воротам. Чтобы различать друг друга, повязали на руки белые и красные повязки. На короткий миг повисла мертвая тишина, затем кто-то ударил мечом о щит, люди взревели и самые быстрые понеслись к сапогу. Две дружины сшиблись с таким грохотом, что с ладейных мачт, негодующе клекоча, снялись поморники.
Безрод молча покачал головой, нет, не сейчас. Пусть устанут. Дело пошло на закат, солнце начало медленно клониться к дальнокраю, и когда оттниры после короткого отдыха вновь устроили кучу-малу, Безрод какое-то время выждал и кивнул – пора. Разом спели тетивы, и над берегом взвился неистовый рев боли и ужаса. Лазутчики спокойно вышли из лесу и отрезали оттнирам дорогу на большой стан. Полуночники бросились к оружию, но и там их ждала оперенная смерть. Оттниры выли, ровно загнанные волки, от отчаяния с ножами и кулаками бросались на лучников Безрода, и падали, как скошенная трава. Сивый приказал в рукопашную не вязаться, бить стрелами. Вытянувшись цепью от берега до леса, дружина Безрода по косой теснила оттниров назад, подальше от ладей, в море. За несколько дружных перестрелов малая дружина находников перестала существовать. Сотни оттниров как не бывало. Времени на все ушло сущие крохи, Безрод не успел и до двадцати досчитать. Стрела, пущенная с нескольких шагов, не знает пощады. Простая бьет насквозь, а бронебойная проносит два щита, поставленных один за другим. Берег усеяли мертвые тела, как тюлени на лежке, только на этой лежке больше не осталось жизни. Несколько самых отчаянных полуночников бросились в море. Люди Безрода взбежали на корабли и с носов расстреляли пловцов.
– На ладьи! Быстро! – рявкнул Сивый.
Еще живых милосердно добили. Подобрали стрелы, что смогли унести быстро – остальные заберут четверо дозорных – погрузили на ладьи утварь, которая могла пригодится, и спешно обрубили причальные концы.
Сивый стоял на носу головной ладьи и все поглядывал назад. Цепью вытянулись, нос в корму, ровно утиный выводок. Проснулся ветер, неистовый, холодный белопенник, побил-затрепал паруса. Случись погоня, мигом снимутся с ладей, подожгут корабли и в лес уйдут. Но в большом стане оттниров даже не заподозрили ничего худого. Ну, кричат и пусть себе кричат. Каждый день орут. Сотня сменится, новые тоже станут орать. «Сапог» всем по вкусу пришелся. Что еще делать, если находиться при ладьях велено денно и нощно?
Еще загодя сговорились, что с ладьями делать. Дальше по берегу на восток среди скал пряталась тихая заводь. Если не знать про нее, никогда не найдешь – с моря просто не видно.
Безрод вместе со всеми бил без промаха, ровно и мерно растягивая лук. Троих упокоил. Когда все стало кончено, поискал среди павших оттнира с рыжей бородой и рваной щекой. Не нашел, облегченно выдохнул. Мало радости от такой встречи, нет возможности заглянуть в холодные, пустые глаза. Перед схваткой велел своим искать среди мертвых краснобородого полуночника со шрамом под скулой. Кто найдет, немедленно звать. Парни тоже не нашли. Оно и к лучшему, значит жив. Может быть, доведется свидеться лицом к лицу. В укромной пристани оставили корабли и только затемно сошли на берег. А еще назад идти.
В трюмах добра нашли видимо-невидимо, но из всего Безрод разрешил взять только по бочонку меду с ладьи, общинные котлы, прочую едальную утварь, крупы, масло. К утру добрались до стана в лесу, выжатые до последней капли. Четверо, что не пошли на ладьях и остались на страже, встретили сумрачными лицами. Безрод хотел спросить, что стряслось, только надобность в расспросах отпала сама собой. На снегу, привалясь к валуну, повесив голову на грудь, не дыша, сидел человек.
– В лесу нашли. Уходил. Стрелами достали.
Грача нашли под елью, далеко в стороне от святилища, куда он, раненный, добрел из последних сил. Уходил от погони, только шел не в ту сторону. Две стрелы вытащил, третью не смог, она и теперь торчала из спины. Сивый хмуро усмехнулся. Вот и пригодился мед. Только нерадостно станет от того пития. Подошел, обломил стрелу, вынул обломки.
– Всем спать. Вечером тризну справим. Хороший боец к Ратнику уйдет.
Сивый стоял с чарой в руке и молча оглядывал лесное воинство. Грач полусидел на тризных бревнах, будто руками опирался. Под одну ладонь положили нож, под другую – его любимый лук. Безрод кривился и кусал ус, боги-божечки отчего же так неловко, ровно залез не в свою тарелку? Многих проводил в последний путь, но впервые доводится самому зажигать тризный огонь. Сотня пар глаз напряженно глядит со всех сторон. Как ни крути, а придется сказать то, чего они ждут. И захочешь – не отвертишься. Можно живым руку не подать, а с павшим-то что делить? За Тычка парень голову сложил. И за Босонога, и за Перегужа. И даже за него самого. Может быть, получится догнать свое счастье? Вот за стену выйти удалось. Чем Злобог не шутит?
– Я, Безрод, перед людьми и богами отдаю должное храбрецу: он один выступил против всего полуночного войска, был достоин лучшей доли и теперь отдаю его в твою дружину, Ратник. Пусть чаша Грача никогда не пустует за столом, и пусть будет у него столько еды, сколько доброй памяти оставил на белом свете!
Сивый осушил чару и запалил огонь. Пока не занялось пламя, поднялся на бревна, вытащил нож, полоснул себя по руке и окропил кровью сапоги Грача. Метка Ратнику. Уходит не сирота ничейный, а человек, ради которого есть, кому пролить кровь. Ратник по крови узнает, кто есть кто. Для него нет загадок. Жаль, нельзя отправить с Грачом белого коня, нет с ними лошадей. Сивый сошел вниз и оглядел воев. Вот и проводили первого. Для всех началась новая жизнь. Были раньше дружинные князя, и было их много. И как бы дальше ни сложилось, сколько бы их ни осталось, нынешние лазутчики навсегда останутся «дружиной Безрода», и год от года их будет становиться только меньше.
Глава 8 Победа
Четверо, что остались в лесу прошлой ночью, видели и слышали тот переполох, что случился, когда оттниры не нашли поутру десяти ладей, а людей наоборот – нашли, да только мертвыми. Рассказали, как полуночные ворожцы закололи черного коня, дабы отогнать нечистую. Добытчики стали ходить, да на тень свою коситься, с ужасом смотрели в сторону леса и остервенело плевались. Облазили весь берег, ткнулись носом в каждый камень, однако ничего не вызнали. Ровно не стояли тут никогда ладьи.
– Будто корова языком слизала! – хохотал Люб.
Безрод усмехнулся, кивнул, думая о своем, и как будто очнулся. Услышал свое имя, оглянулся и обомлел. Самый младший, Люб, стоял перед костром и держал в руках чару с медом. Не пить собирался – преподнести.
– Прими, вождь, чару с медом. Моя очередь подошла, но я хочу тебе отдать. Прими!
Сивый медленно встал, а Люб, довольный, улыбнулся. Во всем их воевода первый: и в сече, и в песнях, и в плясках, даже в молчании и угрюмости. Безрод принял чару и оглядел отчаянное воинство. Сегодня над Грачом кровь пролил. Та кровь нынче у Ратника, Грач принес. Наверное, спросил его предводитель всех воев: «А кто воеводой у тебя Грач? Поглядим, поглядим, Хм… Безрод! Стало быть, принял дружину?» Принял, куда деться. Своими бойцов признал, перед богами и людьми признал.
– За вас пью, парни. Давеча впервые за мною пошли, а сегодня… – Безрод неловко замолчал. Поздно отступать. Уже все сделано, осталось только сказать. Дружинные напряглись, даже с мест привстали. – … а сегодня говорю: мои вои!
Громогласный торжествующий рев разметал лесную тишину, Безрод испуганно заозирался. Не услышал бы полуночник тот рев. Руки дружно взметнули оружие верх, и Сивый осушил чару до капли. Засадники окружили своего воеводу, подбросили в воздух и взметнули на скрещенные мечи. Безрод встал на клинки, и ему подали полную чару. Поднял чару над головой и всю отдал богам. Да будет слово нерушимо и крепко!
Полуночники окружили Сторожище со всех сторон, дабы и мышь наружу не просочилась. Большое становище растянулось по кругу, разбилось на цепочку станов поменьше. Несколько дней Безрод не давал тревожить полуночников, дабы те худо-бедно успокоились.
– Могу себе представить, что передумали оттниры, когда увидели побоище на берегу. Ведь некому ударить, окрестность вырублена подчистую на несколько дней пути.
А когда полуночники перестали озираться, и даже изготовились ринуться на очередной приступ, Сивый подвел свое отчаянное воинство на расстояние крепкой оплеухи и ударил в незащищенное место, почитай, в самое подбрюшье. Несколько маленьких станов подожгли, а людей стрелами повысекли, будто хлеба градом. Оттниры выбегали из шатров и ловили оперенную смерть боками. Никто ничего не видел. Люди Безрода не потеряли ни одного человека. Из предутренней тени изникли, в нее же ушли.
Полуночники перестали заходить в лес, даже недалеко от стана. Из хохотливых, громогласных находников, превратились в испуганные, мрачные подобия самих себя. Половина войска теперь не спускала с леса глаз, повернувшись к Сторожищу спиной, провались оно в чертоги к Злобогу! Который день кряду на земле, возле шатров оставались трупы с перекошенными ужасом лицами. Трудно умирать с благостным выражением на лице, если смерть летит отовсюду, не предупреждая, и клюет бронебойным наконечником прямо в сердце, под лопатку, и доспех ей не помеха. И живые согласились с мертвыми, это проклятое место, Злобог недобро шутит этой зимой! Незваные гости чувствовали на себе взгляды, любопытные, злые, насмешливые, ненавидящие… всякие. Оборачивались и никого не видели, косились друг на друга и низводили долу потухшие глаза. На третий день после расстрела, обозленные и уставшие коситься, оттниры большой дружиной с собаками вошли в лес. Огромные, мохнатые полуночные псы, что-то учуяв, оборвали поводы. Их отпустили и побежали следом. До самой вечерней зари в становище ждали две сотни, ушедших в лес.
Дозорные нашептали, будто оттниры потеряли терпение, вошли в лес. Безрод который раз строго наказал в единоборство не вязаться.
– Только ваши спины должен видеть полуночник…
Несколько самых горячих, вспыхнув, подскочили. Спины? И это говорит их воевода, кого давеча на мечах подняли, в чьи глаза заглядывали, ровно старшему брату? Уже готовы были сорваться с губ горячие слова, как Безрод взмахом руки резко осадил нетерпеливых. Мрачно ухмыльнувшись, досказал:
– … неспешно и горделиво уходящие вдаль.
Вои расхохотались. Не сдержали улыбок даже горячие головы. Стюжень одобрительно кивал головой.
– Рано. Еще сойдемся лицом к лицу.
Сначала убрали собак. Затем пришел черед людей. Стрелы летели отовсюду, но полуночники никого не видели. Оттниры ярились, поносили лесных призраков самыми грязными словами, клеймили трусостью, требовали выйти грудь в грудь, но слышали только свист каленых стрел, да издевательский смех. Жалкие остатки двух сотен со всех ног бросились обратно, да вот беда, заблудились. Понесло бедолаг не в ту сторону, увлекшись погоней, охотники за чащобными привидениями потерялись. Последнему дали выметнуться прямо к стану и подстрелили на руках у соратников. Оттнир, будто раненая птица, со стрелой в спине рухнул на руки товарищей, захрипел, отмахнул последний раз в сторону леса и бессильно поник головой.
– Не ходите, – прошептал полуночник, на чьих руках умер незадачливый ловчий. По губам прочитал, искаженным болью. – Не ходите!
Яростный рев прокатился по всему становищу. Брюнсдюр, еле-еле отошедший от страшной раны, опирался на помощников, задумчиво глядел в лес и хмурил брови. Не очень удачный год.
Безрод не оставлял пришельцев без внимания ни единого дня. Обо всем знал. Знал, как устраивали засаду на утро очередного приступа. Усмехнулся и перестрелял засадных, ровно куропаток. Подождал, пока схоронятся на оговоренные места и прибил к земле стрелами. А когда с оглядкой ушли на приступ, обезлюдил еще три маленьких стана.
Оттниры пробовали вырубить деревья вокруг стана, отодвинуть лесные пределы подальше, вглубь, но двенадцать лесорубов нашли свою погибель, не успев и разу ударить топорами. И что делать дальше полуночники не знали, лес охватывал становище со всех сторон, кольцом. Незваные гости оказались меж двух огней, отодвинь становище подальше от леса – как раз подойдешь на прицельную дальность к стенам.
Как-то в сумерках люди Безрода подожгли несколько шатров и снимали выбегавших оттниров, словно поднятых зайцев. Еще раньше перестреляли в становище всех собак, а на открытое место и носа не казали. Лишь издевательски хохотали. А Безрод из лесной глухомани на сон грядущий каждую ночь заводил оттнирскую колыбельную. Мол, спи, малыш, засыпай, вот вырастешь – станешь большим и сильным, как отец… Полуночники спать перестали. Когда подожгут шатры после колыбельной, когда нет, вот и вскакивали на каждый шорох-треск. Брюнсдюр хмурился. Узнал и голос и песнотворца. Вырастай малыш, станешь большим и сильным как отец… и так же погибнешь под стрелой глубоко в ночи… Неудачный год. И были бы хоть ворота, снеся которые, мог на плечах своих людей ворваться в город! Так нет же! К воротам вел только мосток через реку, и тот разнесли. Даже на поединки людей спускали в люльке со стены, и забирали так же. А река перед воротами широка!
И одним прекрасным утром оттниры взглянули друг на друга, и ровно глаза открылись. Того рядом нет, этот почил, тот слег. Без малого две тысячи воев сошли на берег с ладей, и теперь едва семь-восемь сотен посмотрели друг на друга в угаре злобы и будто отрезвели…
– Откупайся, Отвада-князь. Уйду, – как-то студеным утром крикнул Брюнсдюр, встав под стенами. – Только дни даром с тобою считаем.
– А чего же, Брюнсдюр-ангенн? Никак надоело?
– Скучно.
– А сколько хочешь?
– По мерному рублю золотом со двора, по два с меча.
– Не-е-е! Не пойдет! По мечу с рубля!
Ангенн оттниров лишь зловеще нахмурился.
– И когда дашь?
– Если доживешь, через день.
Брюнсдюр кивнул и отошел.
Безрод оглядел лесное воинство и нахмурился. Через день станется рубка, да такая, что победа сравняется в цене с поражением. Но и теперь на две-три сотни полуночник перевесит. Дело поправимое, один дружный перестрел уравняет силы. Только был бы он, этот перестрел. Сивый правил меч и поглядывал по сторонам. Хотели открытую сечу, горячие головы? Получите.
– Чего, воевода, напрягся, ровно лучная тетива? – Моряй сел поближе.
– А кто из парней женился, ну тогда, аккурат перед самым полуночником? – неожиданно спросил Безрод и усмехнулся.
– Кто? Да я!
– Красивая девка?
– Есть красивее. А по мне лучше не надо.
Сивый кивнул. Заведомо есть.
– А сам чего же?
Безрод ухмыльнулся. А ничего! Девки только глянут в душу одним глазком, в страхе убегают. Баба, она ведь жизнь дает, все за версту чует, ровно волк. У самого внутри такое… слов еще не придумали. Темно, холодно, страшно.
– Ты это… – Моряй замялся, глаза потупил. – Ну… в общем…
– Чего язык узлами вяжешь! Толком говори!
– Парни болтают, как одолеем оттниров, дескать, уйдешь. Так, или брешут?
Сивый уткнулся в меч.
– Да.
– Оставишь нас?
– Надоело. – Буркнул и тряхнул головой. – В глухомани осяду, на земле. Охотой проживу. Надоело воевать. Устал.
– Парни с тобой хотят уйти.
– Куда? – ухмыльнулся Безрод. – Вы княжья дружина. Не моя. Вожу вас пока кругом лихо, а как станет тихо, вернетесь в дружинную избу. Не бывает в одной дружине двух воевод. Вы присягали Отваде и водить вас – Перегужу.
– Мир поглядеть охота.
– По своим делам уйду. Вам же ратную заботу дальше нести.
– А в Торжище Великое зачем снаряжался?
– Все тебе и скажи. – Сивый ухмыльнулся. – Дело.
– Парни тебе верят. Пойдут за тобой даже один–вдесятеро. Останься.
– Уйду.
– Останься.
– Да кто я вам, княжьим воям? – буркнул Сивый. – Не отец, не мать, не сват, не брат, без роду, без племени, может темного семени, ни матери, ни отца у ничейного молодца ! Не пойму, что с вами сталось? То со свету сживали, то на руках готовы носить!
– Я скажу, что сталось, – встрял подошедший Щелк. – Ты нам былое вернул! Была большая дружина князя, была и малая княжича. Будто снова за княжичем идем, да не идем – летим. А что со свету сживали, так дураки были! Кому хочешь крикнем, что дураки. Глотку за тебя перегрызем. Не держи зла, воевода. Хочу на тот свет уйти твоим воем. Чую недолго осталось.
– Чует волк ягненка, – буркнул Сивый. – Нечего тризновать себя раньше урочного! – Простишь?
Безрод покачал головой.
– Простил бы, да не знаю как. Зла не держу.
– Останься.
– Да, послушайте же меня! – рявкнул Безрод, вскидываясь на ноги. – Послушайте меня, храбрецы!
Подтянулись остальные, окружили.
– Перед богами присягал быть вашим воеводой, и слово мое крепко. А как в сечу уйдем, сколько нас назад вернется? Хорошо, если четверть. Гляжу на вас и не знаю, под кем тризный огонь запалю! Может быть, подо мной запалите. Кого стану водить после рубки? Двоих? Троих?
Молчали. Правда жестока и тяжела. Сивый оглядел дружинных. Память осталась, а зло ушло. Все. Перегорело. Только горечь и грусть пеплом порхают в душе. А когда мрачные вои разошлись, к Безроду подсел Стюжень.
– Я все думаю… значит, не помнишь ни отца, ни матери?
Безрод кивнул. Волочек рассказывал, что его нашел дружинный Хадсе в самую длинную ночь, в самый лютый мороз. Тогда неведомо откуда на заставу налетела короткая летняя гроза, и землю били молнии. Хадсе заплутал и даже с жизнью простился, но неожиданно жизнь и нашел. Забрел в скальную пещеру и в ней наткнулся на малыша, русенького, крохотного, вот только русые волосенки уже била ранняя проседь. Рядом лежало тело женщины, видать не успела опростаться, как отпустила душу. Не нашли потом той пещерки. Как ни искали. И как баба попала на остров – тоже не узнали.
– Кажется, я знаю твоего батюшку, – задумчиво бросил старик, оглаживая бороду. – Знаю.
– Кто? – пересохшим горлом проскрипел Сивый. – Кто?
Мудрый старик ничего не ответил, только посмотрел на Безрода и отвернулся, покачав головой.
Той же ночью истребили ладейный дозор. Теперь даже грести оттниры не смогут, как раньше. Половина скамей запустует.
А еще Безрод видел Сёнге. Жив гойг. Дадут боги, еще свидятся лицом к лицу. Уже скоро, недолго осталось…
Оттниры оказались в ловушке. Начни собираться к отходу на ладьях – перестреляют, как давешний дозор. Даже паруса поднять не дадут. Еще поглядеть, кто кого осаждает! Смешно, только горек получается тот смех. Как они оказались в лесу? Как там оказался седой боян, который перепел, переплясал и на мечах побил? Как? Брюнсдюр стянул людей в один стан. Нечего больше дробиться. Перестреляют поодиночке и головы поднять не дадут. Только и осталось, что сойтись грудь в грудь.
В урочное утро ворота Сторожища отворились. Дружинные прыгали в воду, переходили речку и стройными рядами вставали на берегу. Оттниры держались поодаль и даже подойти не смели, чтобы перебить боянов по одному. Подойди они ближе, тут же попали бы под стрелы. А бояны сиганули бы в реку, лови их потом у водопада, подставляй бока ночному ужасу. Стало бы лесных призраков только больше. Полуночники отошли от леса насколько сделалось возможно и ждали. Окружили становище скамьями, снятыми с ладей и щитами и с бессильной злобой глядели, как собирается на берегу Озорницы боянское воинство. Ох, жарко станет!
Только быстро смешавшись с горожанами, оттниры могли избежать убийственных стрел, и едва все бояны встали на берегу, полуночники стремительно покатились на противника грохочущей, лязгающей лавиной. Их находили стрелы лесных призраков, дружинных на стене, оттниры спотыкались и десятками катились под ноги бегущим сзади, но остановиться уже не могли. Две дружины, летящие друг навстречу другу, сшиблись. Люди Безрода бессильно опустили луки и закусили губы.
Брюнсдюр оставил три сотни в запасе. Как много лесных призраков, он не знал. Не знал и того, когда те ударят. Кто кого пересидит, кто кого перетерпит. Больше людей не было ни у полуночников, ни у боянов. И те, и другие это знали. Все на виду.
Сивый приказал стоять на месте, пусть хоть руки-ноги иззудятся. Если невмоготу – кусай губы, но стой. Хочешь рубиться – руби лес, но на поле ни шагу. Сам стоял за дубом и, прищурившись, мерил глазами три засадные сотни оттниров. Они встали поодаль, ровно скалы, такие же неподвижные и мрачные.
Отвада рубился в голове дружины, отбросив щит, ухватив меч двумя руками. Оттнир в бою не подарок. Любому племени в гордость. Боян такой же, силен, зол, свиреп. Две дружины вгрызлись одна в другую, ровно волки у туши в голодный год. Кусались железными зубами, перемогали силу силой. Отрывистое дыхание сотен сорванных глоток, с каждым ударом взлетало в небо, чисто порыв горячего ветра. Изголодавшись по настоящей сече, мучимые злой памятью, Коряга и остальные млечи рубили врага остервенело. Корягу окружило несколько оттниров. Тех, что впереди стояли, сам срубил, остальных млечи смяли. Перегуж рубился холодно и расчетливо. Набежавшего полуночника полоснул по ногам, а едва тот с ударом взмыл в воздух, пропустил мимо себя и по самую рукоять вогнал в шею нож.
Несколько оттниров, сильные и злые, врубились в самый центр боянского воинства. Секлись мрачно, мощно и умело. Резали боянскую дружину, будто нож масло. Разили с двух-трех ударов. На их пути встал Долгач, спину ему подперли Трескоташа и Кривой, трое против пяти. Воевода млечей схватился сразу с двумя, прикрылся щитом, отбил меч мечом и ринулся вперед. С грохотом двое сошлись на одного, и воевода взялся с обоими щит в щит. Давили друг друга, напряглись так, что и мечом лишний раз не отмахнуть. Но сухой, жилистый Долгач поколебал полуночников, наддал еще и опрокинул с ног долой. Одного добил на земле. Сам получил меч в бок. Зажав рану, зарубил и второго.
Трескоташа потерял щит, перехватил меч обеими руками и только воздух засвистел перед оттнирами. Полуночники быстро просчитали Трескоташу. Над бояном взмыли сразу два клинка. Трескоташа увел один меч, изогнулся, пропуская второй мимо себя, но оттнир ударил тем самым косым ударом, когда меч на середине меняет направление. Клинок с отвратительным хрустом врубился в бок Трескоташи. Выпустив меч, боян выбросил руки в стороны, огромными ладонями ухватил противников за шеи, сжал изо всех оставшихся сил. Одним бешеным усилием смял горло обоим. Те просто не ожидали такой прыти от умирающего человека. Не размыкая хват, рухнул с обоими наземь. Так втроем и отпустили дух. Рук Трескоташа так и не разнял.
Кривого не зря кривым прозвали. Биться по заведенному – до чего же скучно! Рубил мечом, вдруг доставал из сапога нож и колол ножом, махал секирой – начинал бить-ломать врукопашную. Будто шел человек по прямой дороге и сворачивал на кривую тропинку. Вот и сейчас, отбив удар, Кривой вдруг бросил меч наземь, колобком прокатился в ноги оттниру, прямиком под щит, ухватил за ноги и, навалившись всем телом, бросил навзничь. От неожиданности оттнир потерялся, выпустил меч, а Кривой несколько раз ударил полуночника лбом в лицо. Погнул наносник, вбил гнутое железо в переносицу, лишил памяти, так беспамятного и прирезал.
Брюнсдюр бился холодно и скупо. Рана еще тянула, открылась не вовремя, но ангенн полуночников только губы поджал. Кривая улыбка перекосила лицо, и немало боянской крови предводитель оттниров слил на землю. Там где недоставало движения, возмещал расчетом и опытом. Навалил вокруг себя мертвых тел, не ко времени самому запнуться. Схватился с двумя противниками, и тремя взмахами все стало кончено. Поймал мечом удар над головой, провалил за спину, повел клинок обратно и врубился в бок. Удар второго отшлепнул ладонью и ударил в шею сам.
Отвада себя не жалел, распалился, паровал на морозном воздухе, будто котел кипятка. Рубил остервенело, несколько оттниров уже оставил позади себя на земле. Попал на огромного полуночника, с огромной же секирой. Меч застучал об окованный железом обух. Князь изловчился, ухватил руку, сжимавшую секиру, оттнир так же изловчился, сжал, ровно клещами, руку Отвады с мечом. Стояли и ломали друг друга. Под пальцами Отвады хрустнуло – баловался князь подковами – но и его жилы мало не затрещали. И все же додавил, сломал полуночника. Дернул руку оттнира вверх, ладонь, в обратное – к низу, противник истошно завыл, пальцы сами собой разжались, и секира упала наземь. Хрустнуло запястье, громко, смачно. Отвада заревел и пристроил меч аккурат над кольчугой, прямиком в горло. Оттнир зашатался и повалился наземь, повело князя, едва не упал. Перед глазами зацвело…
Безрод, скрестил руки на груди, выглядывал кругом исподлобья, поджал губы и держал свою маленькую рать, словно в узде. Вои молчали, но руки ходили ходуном, а ноги тряслись, ровно у застоявшихся жеребцов. Вдруг Сивый подался вперед, хищно сузил глаза, увидел в крошеве на берегу то, что видит лишь один из тысячи воев, прошептал:
– Наша берет!
– Что, что? – окружили его вои.
– Наша берет, – процедил Безрод и перевел глаза на засадную дружину оттниров, которая пряталась от стрел чащобных привидений за щитами и ладейными скамьями.
Во главе засадной дружины полуночников стоял, по всему видать, умудренный вой. Оттнир тоже увидел, что противники берут верх, зашагал туда-сюда. Если сейчас в сечу вступит засадная рать находников, горожанам не удержать скользкой победы.
– Изготовиться! – рявкнул Безрод.
Воевода засадных оттниров непременно бросит свою дружину вперед, ломать боянскую удачу. Эти три сотни, вонзись они в сечу, пересилят зыбкую удачу Сторожища. То-то воевода полуночников косится в лес, знает, что вот-вот из чащобы выметнутся лесные призраки. Оттнир что-то крикнул, его засадная дружина подхватилась и громогласно выдохнула боевой клич.
– Мои вои, – нараспев крикнул Безрод. – Три сотни на нас, один-втрое станем биться! Даже стрелами не всякий раз достанешь! Пришел наш черед головы класть, и, наверное, поляжем все! А вы говорили, води нас и дальше!
Рядяша рассмеялся первым, остальные дружно подхватили. Горьким вышел тот смех. Предводитель запасной дружины повернулся к лесу, прислушался, помедлил мгновение и прокричал:
– Вперед, воинство Тнира!
Громогласно взревывая, топоча и бряцая оружием, полуночное воинство понеслось в сечу, рубить мечами и секирами боянские ряды и вертеть удачу на полночь.
– Пошли! – рявкнул Безрод. – В кои-то веки оттнир первым побежал. Шустер подлец, аж под ногами горит!
Вои грянули таким громогласным хохотом, что добрая половина засадной дружины полуночников с шага сбилась, едва не споткнулась. Предводитель оттниров мрачно сплюнул на бегу, недобрый знак.
– Ратник с нами! – крикнул Сивый и первым выметнулся из лесу, на бегу натягивая лук.
Боян стреляет стоя, на скаку, на бегу. Лесные призраки успели сделать лишь несколько выстрелов. На бегу спуская тетивы, люди Безрода выбежали наперерез оттнирам. С полсотни находников так и не поднялись, жаленные стрелами насмерть и затоптанные соратниками.
Рядяша бросил секиру, подобрал кем-то брошенную ладейную скамью, и будто ураган, врубился в саму гущу. Как в песне пелось, махнет – улочка, отмахнет – переулочек. Огромная скамья на двоих гребцов, с руку толщиной, длиной во весь немалый Рядяшин рост, мерно взлетала и опускалась на головы, и не было от нее спасения. Ни мечом, ни щитом, ни секирой от дубовой балки не защититься. Рядяша укрывался ею как щитом, бил как дубиной.
Обоерукий Щелк завернулся в смертоносное, блистающее кружево, что сплел секирой и мечом, бормотал «трое», «трое» и рубил всех, кого видел. Посчитал, что должен оставить на земле не меньше трех оттниров, пока ляжет сам. Взялся с тремя разом, ужом вертелся, бил всяко – снизу, сверху, справа, слева. Первому страшным ударом секиры разрубил шею, пинком в живот отбросил прочь. Клинком отвел мечи остальных, дал провалиться, и, не отводя меча из сцепки, ударил секирой. Разбил щит, достал полуночника в руку. Пропустил мечи оттниров, шедшие снизу вверх, резко присел и мало не по самый обух всадил секиру в ногу третьему полуночнику. С колена мечом достал последнего, с раненой рукой. Прикончил всех, и, тяжело дыша, засобирался встать. Не смог, затрясся, ровно в приступе лихоманки. Последний оттнир рассек ногу, чуть ниже бедра. Так и остался рубиться стоя на колене.
Братья Неслухи уж давно приноровились биться втроем. Не глядя, знали, где который, вокруг только свистело и падало наземь. Двое шли вперед, третий прикрывал со спины. Все трое ревели, чисто быки в засуху, мечами воздух в круговерть мутили. Один брат только принимал меч противника, а другой уже бил. Не любили Неслухи щитов, никогда за ними не прятались. По мечу сверкало в каждой руке. Успевали и своего остановить и братнего посечь. Уж как в сказке сказывалось, было у старика три сына…
Как бился старый Стюжень, дивились не только свои, но и чужие. Про то лишь песни складывать, да отрокам сказывать. Немногие видели старика в рубке, стычки в городе не в счет. Старик скрещивал с оттниром меч, и если тот был без щита, кулаком охаживал в лицо. Был тот со щитом – открытой ладонью стучал в щит, валил наземь тут и резал, чисто жертвенную скотину. С одного удара валил наземь, видать, в молодости быков играючи ронял. Человек же не бык, иные замертво падали, когда Стюжень в лицо попадал.
Истекающий кровью Люб рубился из последних сил. Прилетевшая откуда-то секира ударила парня в бок и сломала несколько ребер. Самый младший в дружине перехватил меч в другую руку, подобранный щит и вовсе бросил, недолго поносил. Полуночник, вставший перед парнем, с хищной улыбкой неторопливо ударил справа, в больной Любов бок. Боян отбил удар, зажав рану левой рукой. Оттнир ударил еще раз, Люб с трудом отбил и встал, опустив руки. Парень качался и водил по сторонам мутными глазами. Оттнир зловеще ощерился, занес меч… и вдруг ожил Люб. На миг в глазах прояснилось, младший зло взглянул исподлобья и опередил оттнира, сунув меч острием в лицо. Убить не убил, но переносицу размозжил и высадил глаз, а когда ошеломленный оттнир упал, зарубил на месте.
Дружина Безрода таяла, как снег на солнце. Встала между рекой и лесом на узкой дорожке и держалась до последнего. Круг, отбиваясь от троих, дважды раненный, затянул хриплым голосом старую млечскую песню. Знал, что не допоет до конца, знал, что нужно беречь дыхание, но затянул. Не пригодится больше дыхание. Первого сразил, и, видя, что не поспевает, что сил не хватает, сам бросился на мечи. Поймал собственными боками, и пока оттниры возвращали клинки, одним ударом разрубил обоим горла. Над млечем встал Моряй и не подпустил никого добить. Так и рубился над телом, пока Круг сам не испустил дух.
Безрод взялся с бывалым урсбюнном, предводителем запасной дружины, и только схватившись, понял, на какого противника нарвался. Воевода оттниров знал о мече все, наверное, под солнцем не осталось тайн для старого. Холодно глядел на Безрода почти белыми глазами, и как будто слиплись два меча. Куда иголочка, туда и ниточка. Сивый отпрыгнул назад, хотел разорвать сцепку, но урсбюнн, скакнув следом, не дал. Через клинок знал намерения Сивого, как если бы тот говорил вслух. Безрод ухмыльнулся, на короткое мгновение бросил взгляд куда-то за полуночника и коротко бросил: «Давай!» Оттнир еле заметно скривился, разорвал сцепку и молниеносно полоснул у себя за спиной. Думал, кто-то подобрался сзади и готовит смертельный удар. Никого не нашлось, только отдельные жаркие схватки, даром пропал сильный удар. Отдавая врагу должное, бывалый воин кивнул, и стало настоящее противостояние. Урсбюнн рубился отменно, несколько раз достал Безрода, пустил кровь. И быть Сивому разваленным на части, не сложись он вбок, как тогда, на плесе, старый воитель даже губы поджал от восхищения. А Безрод сделал то, что делает лишь один из тысячи – обрушил на противника град ударов: сверху, снизу, справа, слева; ударил по ногам, и когда полуночник ловко прижал меч Безрода к земле, а клинки на короткое мгновение замерли внизу, Сивый крепко схватил меч оттнира за лезвие. Урсбюнн дернул к себе, вырывая, но тщетно. Сивый даже не порезался и мертвой хваткой держал лезвие плашмя, не касаясь режущей кромки. Скорее молнии полоснул по руке, державшей меч, и когда полуночный воевода отпустил оружие, дал тому умереть быстро. Этот боец желанный дружинник в рать его бога, могучего Тнира. Он тоже забирает самых лучших. Безрод перехватил меч оттнира за рукоять и пошел раздавать смерть направо и налево с обоих мечей.
Нашла коса на камень. Здоровенный оттнир, под стать мучителю быков Рядяше, подхватил с земли такую же скамью и пробился к бояну. Здоровяки успели только по разу оходить друг друга. Скамьи у обоих разлетелись, и страшно заныли отбитые ладони. Искать оружие не стали, сцепились врукопашную. Жутким ударом Рядяше едва не снесло пол-лица, а сам с левой руки свернул полуночнику челюсть. Ровно быки, перепахали под собой землю, схватились грудь в грудь и, что было дурных сил, давили друг друга могучими руками. Трещали ребра, оба поединщика ничего не видели от боли, знали только, что стоять останется лишь один. И смял-таки Рядяша полуночника, треснул у того хребет, и рыжий оттнир обмяк. А боян, превозмогая боль в сломанных ребрах, развел руки, выпустил мертвого врага и остался стоять, ровно дуб в чистом поле, пока не поймал грудью шальной меч. Без счету оттниров накрошил Рядяша вокруг себя, тех, что первыми полегли под страшной скамьей, даже видно не стало. Гору трупов увенчал собой.
И когда Безрод усталым взором оглядел бранное поле и чутьем, что дается одному на тысячу, углядел в мешанине тел и мельтешении оружия колесо судьбы, облегченно выдохнул. Сивый увидел тот единственный удар, который развернул колесо судьбы в нужную сторону. Медленно разгоняясь, колесо понеслось на полдень. Решающий удар нанес Гремляш, и в суматохе жаркой схватки проступило лицо судьбы, и оказалось оно курносо и по-боянски стрижено.
От всей дружины Безрода осталась лишь горстка воев, полуночников немногим больше. Лесные призраки даже оглянуться назад не смели, что там увидят? Как доламывают горожан, и получится, что затея с вылазкой ни к чему не привела? Что они напрасно разбрасывались направо и налево своими и чужими жизнями? Лучше биться до конца и не оборачиваться. И только Безрод знал истину и усмехался в бороду.
Полуночники отхлынули. Лесные призраки подтянулись к воеводе. Посеченные Неслухи, Гремляш, Моряй, Стюжень и еще два воя, даже имен которых Безрод не помнил. Вымазанные чужой и своей кровью, парни стояли из последних сил и тяжело дышали, руки больше не держали мечей и секир, была бы воля – побросали наземь и сами рядком улеглись. А если воевода назад не оборачивается, значит, им тоже не следует. Победит Сторожище – услышат, нет – все равно погибать.
…Вражьей крови наземь слил – море-окиян, По живому злым мечом трижды по три рван, Затянулось, зажило, стану дальше жить, Чтобы в битве страшной голову сложить, Во широком поле прямо у реки Грудью в грудь ударили ратные полки, Бились, не щадились, мечный звон стоял, И последним из дружины я на землю пал… –прохрипел Безрод и пошел вперед. Он не смог удивиться даже тому, что старый ворожец еще жив. Удивится потом, если выживет. Все переели битвы. Уже мутило, как будто до тошноты напились меду, от запаха крови едва не выворачивало. Остатки двух дружин сошлись и рубились из последних сил. Пал посеченный Моряй, но Безрод этого не видел, просто не оглядывался. Пали те двое, имен которых Сивый не помнил, но этого он тоже не видел. Пал Стюжень, и земля вздрогнула под ногами, когда рухнул верховный ворожец. Окруженные со всех сторон, один за другим обняли землю Неслухи и взгромоздили вокруг себя оттниров видимо-невидимо. Затих за спиной Гремляш, только прохрипел что-то и пал, и лишь Безрод все рубился и убивал.
Их осталось только двое. Сивый стоял против оттнира, и было уже не понять, стар полуночник или молод. Оба перепачкались кровью и грязью с головы до ног, лица исказились болью и усталостью. Последние люди двух дружин выстаивали один другого, и даже просто поднять меч, значило умереть от усталости. Они и виделись друг другу ровно в тумане, и поди догадайся, на самом ли деле туман сделался красен?
Полуночник захрипел и рухнул Безроду в ноги. Сивый не мог даже обернуться, посмотреть, что творится за спиной. Упер мечи в землю, боясь шевельнуться. Если бы победили оттниры – уже зарубили, но еще звенят за спиной мечи, еще хрипят люди. И будто во сне донесся крик:
– Сы-ы-ын!
Безрод оглянулся и едва не упал. К нему со всех ног неслись люди, а из городских ворот прямо в воду прыгали горожане…
Будто сонный, ходил Сивый по полю, не выпуская мечей и опираясь на них, точно на клюку. Перестоял муть в груди и пошел. Не дал увести себя и брел по полю, ровно смерть по своей жатве. Едва сотня осталась на ногах от основной дружины князя, оттниры полегли все до единого. Последним упал Брюнсдюр. Хотел спеть напоследок, но дыхания не хватило. Только хрип да свист вырвались из осипшей глотки. К ладьям не побежал ни один полуночник. Лучше пасть мертвым, чем остаться в живых и слушать на родине смешки и упреки.
Горожане и дружинные сносили раненых в становище оттниров. Тащить через реку и поднимать на стену в люльках не стали. Из-под горы трупов извлекли Стюженя. Старый оказался еще жив, застонал, когда взяли на руки. И как тут не застонешь? Все посечено, даже взяться не за что. Безрод хотел помочь, но даже с места не смог сойти. А когда на радостях кто-то заключил в медвежьи объятия, Сивый провалился в беспамятство. Только и узнал в бородаче Перегужа…
Несколько дней Безрод провалялся без сознания. Мутило так, что даже беспамятный кривился. Сколько мечей-секир поймал, и сам не знал. Язык не ворочался. А когда на третий день открыл глаза, увидел над собой чье-то бородатое лицо. С трудом разлепил спекшиеся губы и что-то зашептал. Урач даже слушать не стал, приложил руку ко лбу, и Безрод снова провалился в сон. Всего-навсего хотел спросить, кто из лесной дружины остался в живых.
В следующий раз пришел в себя утром. Повернул голову и в полутьме шатра увидел тела, лежащие рядком. Которые стонали, а которые неподвижно лежали, ровно бездыханные. Из угла сверкал зелеными глазами старый Урач.
– Чего встал? На тот свет торопишься? – загрохотал ворожец, однако настоящей злобы в голосе старика не было, только усталое ворчание на молодого да глупого.
– Не ворчи, Урач, – прошептал Безрод, опуская ноги с ложа. – Клюку дай.
– Я тебе, бестолочь, не клюку, а клюкой дам! – Старик незло ворчал, а сам зорко поглядывал, не упадет ли Сивый с ног. Ворожец исхудал, глаза запали, по лицу пошли тени. Которую ночь не спит, за ранеными ходит. Безрод потянул носом. Все вокруг пропахло медом и травами. Сивый подхватил копье, что лежало рядом, упер древко в землю и встал. Повис на копье, голову закружило, замутило, повело. Ноги ослабли, растряслись, и Безрод рухнул обратно на ложе, ровно мешок соломы…
– …Один-втрое стояли, и ни один полуночник не ушел. А сколько наших встанет?
– Немного, – прохрипел Безрод. Отроки услышали, топоча сапожищами, подбежали. – Помогите встать.
Подхватили под руки, подняли на ноги. Сивый обхватил одного из ребят за шею и по шажку пошел вперед.
– Сколько дней минуло?
– С самой сечи? Уже седьмой пошел.
– Стризновали? – Голос так слаб, а сам так легок и невесом, что если бы не держался за отрока, улетел в небо.
– Княжьих проводили, застенков нет. Тебя ждут.
Застенков? Стало быть, парней, что ушли за стену, в леса, в городе застенками прозвали? Хотел было ухмыльнуться, но лицо словно тоже посекли. Все одеревенело, губы не растягиваются. Безрод остановился против огромного тела, целиком замотанного повязками, даже глаз не видать. Вопросительно глянул на отрока.
– Это Рядяша. Страшно посечен. Дадут боги, встанет.
– Сам-то как выжил?
– Да уж, слава богам, остался цел. Почитай, дважды Коряга с того света вернул, мечи отвел. Я тоже в долгу не остался. Тем же отдал.
Безрод замер, дышать перестал.
– А жив млеч?
– Живехонек! – весело ответил паренек. – На роду ему написано жить-поживать, добра наживать!
Безрод сделал осторожный шаг, остановился, махнул слабой рукой еще на одно ложе.
– Это Гремляш лежит, – пояснил отрок. – Многажды ранен, разок в голову секиру поймал. Когда принесли, все лицо было синее, глаза черные. Урач говорит, что выкарабкается.
Сивый усмехнулся, или только показалось, что усмехнулся? Уж, как пить дать, выкарабкается. Не может он помереть. В нем судьба наша, его меч удачу на полдень завернул.
Стюжень. Лежит, будто мертвый, руки сложены поверх медвежьей шкуры, глаза прикрыты, щеки ввалились. И увидел Сивый то, что видит лишь один из тысячи; гаснет человек, ровно светоч на ураганном ветру, вот прямо сейчас из порубленного тела мертвяным сквозняком выдувает огонек жизни, он уже не горит, а только тлеет.
– Урача! – рявкнул Безрод и толкнул отрока вперед, к выходу. – Живо!
Молодцы лишь покосились. Обоих будто корова языком слизала, только полог в шатре затрепетал. Сивый рухнул на колени в самом изголовье, рванул с себя повязки, открывая раны, собрал горсть крови и пролил старику на лицо.
– Кровь-живица, что смерти противится, уноси хворь, здравие ускорь…
Урач ворвался в шатер и застал одно неподвижное тело возле другого. Безрод лежал на земле, у ложа старого ворожца, и грудь того… как будто дрогнула. Урач только рот раскрыл! А ведь потеряли всякую надежду на возвращение Стюженя с кромки, и ничто не возвращало его к жизни, ни отвары, ни меды, ни заговоры… Порубленный ворожец закашлялся, на горле под бородой затрепетало, а на левой стороне груди забил живчик, да так сильно, что всего затрясло, от головы до пят. Невиданная сила бушевала в сердце, вот-вот разнесет грудь и вырвется наружу. Старик захрипел, и разом, как одна, открылись все его раны. Урач одним прыжком – молодость вспомнил, не иначе – подскочил к верховному, напоил отваром и придавил к ложу, раненый все порывался встать и шарил по тесу ладонью, искал меч.
– Полог, отдерните полог! – крикнул Урач.
Отроки мигом исполнили. Рассветное солнце заглянуло в шатер. Верховный ворожец стал румян, задышал спокойно и умиротворенно. Урач жестом показал парням вернуть Безрода на ложе. И долго смотрел на Сивого. Перевязывал Стюженя и думал о своем…
Безрод вышел из-под навеса. Полушубка не надел, все равно не зяб. Сам не понимал, почему не мерзнет. Нутро полыхало, будто в легких развели огонь да старательно поддувают, дохнешь посильнее – снег растает. После рубки еще не остыл? Все, кто выжил в недавней битве и мог ходить, в полном боевом облачении стянулись к берегу Озорницы. У самой воды длинной вереницей встали огромные тризнища, сложенные из березы и ольхи, и на каждом, сидя, покоилось четверо воев, спина к спине, лицом к стороне света. Безрод в одной рубахе, той самой шитой-перешитой, вышел к реке. В левой руке держал осмоленный светоч, в правой – чару меда. Достойные бойцы уходят в дружину Ратника, небесный воевода поведет их на последнюю битву со вселенским злом, и будь, что будет.
Язык не ворочался, в душе, подвывая, загулял промозглый ветер. Теперь самое мило дело просто окропить каждого своей кровью и промолчать. Тризновал бы соратников один – так и сделал, но… кругом люди стоят, ждут. Многословие не нужно, Ратник видел все. Двадцать человек осталось жить, и то еще дело времени!
– Пусть ваша последняя дорога станет легка, а хлеб небесного предводителя мягок. С вами только укрепится дружина Ратника, в том порукой кровь живых!
Сивый осушил чашу, метнул в небо долю Ратника, скинул рубаху и рванул на себе повязки. Взобрался на первое тризнище и каждому из воев оставил на лбу метку кровью. И запылали на берегу Озорницы погребальные костры, а холодные, неподвижные «лесные призраки» исходили дрожащим маревом за пеленой огня. Живые своими глазами видели – будто расстаются с телами души, легкими светлыми тенями выметаются из пламени и уносятся ввысь. А боянская рать выводила:
– Черный ворон с дуба в небо возвился, Будь ко мне поласковей долюшка моя. Знать полягу в скорости в хлебные поля, Будь ко мне поласковей долюшка моя. Я, дружину славную по свету водя, Будь ко мне поласковей долюшка моя, Видел как рождается за морем заря, Будь ко мне поласковей долюшка моя. Стану в битве страшной сам себе судья, Будь ко мне поласковей долюшка моя. И умчит нас павших быстрая ладья, Будь ко мне поласковей долюшка моя…Выжили Стюжень, Рядяша, двое Неслухов, Гремляш, Моряй, Щелк… Пал Круг, пал Люб, погиб третий Неслух, погибли еще восемьдесят воев. Безрод усмехнулся. Глупо выходит, когда побитые жизнью звери, вроде него, вроде Щелка, вроде Стюженя, ходят и коптят небо, а молодые, которые даже жить не начали, уходят к Ратнику. Едва миновала угроза смерти, раненых перенесли в город. Пока в стане оттниров лежали, мосток через Озорницу восстановили.
Теперь Сивый целыми днями просиживал на заднем дворе, глядел на море, а на душе сделалось горько, ровно золы объелся. От этой горечи скулы сводило. Всю зиму придется в Сторожище сидеть. В окрестные деревни возвращались поселяне, жены воев, ровно голубицы, слетелись к дружинной избе, перевязывать, кормить, отогревать. Неженатых раненых горожане разобрали по домам. Только Безрод никуда не пошел. Одна девица звала к себе. Лишь усмехнулся, посмотрел в глаза, и та ровно пожухла. Спрятала глаза и ушла. Красивая. Нутром почуяла опасность. Если бы заперла в четырех своих стенах бездну в человеческом обличье – сбежала бы, и ничего не смогла объяснить. Только повторяла бы: «Страшно!» Боятся его бабы. Улыбайся – не улыбайся, все едино. Колючую, холодную душу баба учует, как ни притворяйся.
Отвада просил захаживать. Посадит против себя и молча смотрит. Будто с сыном разговаривает. Выздоравливает князь.
– Обними меня, сынок.
Безрод обнял. Ни тепло, ни холодно, просто обнял.
– Не держи зла. На руках тебя носить будем. Город спас, старых и малых выручил. Задумка с вылазкой оказалась чудо как хороша. И если бы не твоя дружина, смял бы нас полуночник засадной ратью. Великое дело сделали, силой силу перебили. Один-втрое стояли. Хотел в ноги вам поклониться, да кланяться не могу, слаб еще. Хоть обниму покрепче!
Сивый буркнул ни с того, ни с сего.
– Жениться тебе надо, князь.
– Мне?
– Да и мне тоже.
– Не думал о том.
– Дубиня-купец тебе в отцы годится, а по девкам шастать горазд, будто отрок беспоясый. К добру ли в тереме прятаться? Родишь еще сына.
Отвада посмотрел, будто впервые увидел. Сивый отвернулся. Гляди, коли охота.
– Не сын я тебе. И мог бы стать – не стану. Не хочу.
Встал и вышел. Выздоравливай князь.
Безрод слонялся по городу, глазел туда-сюда, навестил Тычка. Старый балагур несказанно обрадовался, и даже страшный зверь Жичиха ничего не сказала против, когда воевода застенной дружины переступил порог. Дорого далась мужичку несчитанных лет эта осада. Осунулся, потемнел лицом, и даже веселая улыбка съежилась вполовину против прежнего.
Сивый каждый день заглядывал в дружинную избу к выздоравливающим. Стюжень почти встал, садился на ложе, свешивал ноги. Вот только встать пока не решался. Был страшно зол на свою слабость. С Рядяши сняли повязки и едва признали в нем здоровяка, каким помнили. Пока выздоравливал, вполовину исхудал. Плечами остался широк, и сделался похож на ладейную доску, широченную и плоскую. Однажды шепнул Безроду на ухо:
– Ну-ка подсоби, воевода.
Безрод подставил плечо, и вдвоем они пошли в сарай, где содержались пленные. Сивый ногой толкнул ворота и провел Рядяшу внутрь.
Скупой свет пролился в сарай. Раненые лежали на сене, при них ворожец и вои поздоровее. Когда отворились ворота, полуночники уставились на порог, и разговоры тут же смолкли.
– Храбрый воин что-то позабыл? – с издевкой прохрипел рыжеусый оттнир, что лежал ближе всех. – Или вид раненого врага помогает выздоравливать? Иначе никак?
– На языках никогда не бился, – ухмыляясь, буркнул Рядяша. Он понимал речь оттниров. – Я больше к мечу привычен.
– Жаль, встать не могу, боян, – сипел рыжеусый. – Ваш Тнир стал бы рад такому вою!
– Да стоял уж. Хватит. И где стоял-то? Не в запасной ли дружине?
– А тебе не все равно?
– Кто-нибудь знал здоровенного бойца, опоясанного бычьим поясом с серебряными бляхами, а на шлеме порхала птица с распростертыми крыльями? В засадной дружине бился.
– Знал я его. Это Оденга. А тебе зачем? – Из угла, скрытый тенью, заговорил какой-то полуночник. Безрод мигом повернул голову на голос. Все-таки выжил?
– А чем силен был?
– Камни разбивал кулаком! Как я погляжу, ты ему и попался вместо камня. Как личико, не болит? – оттниры грянули сдержанным смехом.
– Болит. – Рядяша потрогал едва зажившее лицо. – Это ж выходит, что я покрепче камня оказался?
– Могуч был Оденга, и ты навсегда сохранишь память о нем на своем ли…
– Да где он, ваш Оденга? – перебил Рядяша, зевая. – Отдал душу за здорово живешь! Нажал посильнее, и вон дух из тела! Только мокрость осталась! Будто горшок каши раздавил!
– И ты, боян, за мои слова тем же отдай. Кто из лесных призраков остался последним? Тот с двумя мечами, который перестоял меня по чистой случайности?
Гляделись тогда глаза в глаза и не узнали один другого. Безрод покосился на Рядяшу.
– Постоишь сам?
– Конечно, постою. – Здоровяк отлепился от Безрода и встал ровно.
Сивый шагнул вперед, остановился против говорившего оттнира.
– Я тот последний лесной призрак. Узнаешь меня, Сёнге?
Оттнир медленно поднялся и встал против Безрода.
– Вот и свиделись, оттнир, – зловеще прошелестел Сивый.
– Да, свиделись, – нехотя, процедил Сёнге. – Говорил мне Брюнсдюр, будто ты спрашивал обо мне, я и подумал, что в бою встретимся. Не добил тебя в ту ночь, хотел нынче исправить. Ровно чуял – пересекутся наши пути.
– Правильно чуял. Должок за мной. Скоро отдам. Не люблю быть в должниках.
– Тем же отдашь?
– Да. Собирайся с духом. Если останешься жив, дам уйти. – Сивый усмехнулся. – Лишнего не возьму.
Сёнге молча смотрел на Безрода. Синие глаза потемнели, сузились, челюсть заходила. Оттнир гордо откинул голову.
– Тебе не напугать меня. Плевать!
Безрод вернулся к Рядяше.
– Не ершись, дурак. Мне твой страх вовсе не нужен.
Сивый повел Рядяшу к выходу. На пороге обернулся, ощерился, бросил с кривой ухмылкой.
– Собирайся с духом, оттнир.
В дружинной избе Безрод уложил Рядяшу на ложе. Совсем обессилел. Ничего, обойдется. Длинная дорога начинается с первого шага. Все понимает, не впервой. Да и сам устал. Сивый ухмыльнулся. Когда ранен, льняная повязка обнимает крепче и нежнее жены, унимает кровь, убаюкивает. Разве не накормит. Впрочем, когда порублен, есть не хочется.
Несколько раз на пороге дружинной избы Безрод нос к носу столкнулся с Корягой. Млеч выжил. Отводил глаза и хмурился. Сивый всегда первый давал дорогу, пристально смотрел вослед и мрачнел. Коряга упорно не заговаривал, глядел в сторону и однажды, когда Безрод замешкался на пороге, просто отпихнул с пути. Сивый, ровно окаменел, вымерз… но потом лишь равнодушно усмехнулся. Прошел в избу и огляделся. Дергунь улыбался, Взмет щерился, Гривач и Остряжь смеялись, как умалишенные. Смеялись, хоть и трудно было смеяться. Гривач так и вовсе закашлялся, жилы на шее вздулись, того и гляди лопнут. Стюжень глядел на все одним глазом и хмурился. Рядяша хотел встать, да рты дуракам позакрывать, но, в конце концов, махнул рукой. Не с ранеными же воевать. Старый ворожец поманил Безрода пальцем.
– Не серчай. Пустое, – шептал Стюжень. – Проживется – перемелется, перемелется – ветром развеется…
Сивый согласно кивал, но отворачивался и мрачно кусал губу. Все верно говорит старик, но отчего-то внутри завьюжило, застудило пуще прежнего. Проживется – перемелется, перемелется – ветром развеется… Который день на счету, но отчего-то не проживается и не мелется. Коряга волком глядит, не подойдет и руки не подаст. И уже не поймешь в чем дело, на самом деле не верит, или себя никак не переборет.
– Вам делить нечего. Нечего! – Но в голосе старого так изрядно горчило, будто понимал, что впустую увещевает. А в глазах Безрода столько стужи разлилось, что стало яснее ясного, чему быть – того не миновать.
– Молчу. И слова не сказал, – буркнул Сивый.
Стюжень вдруг замолчал, отвернулся и уткнулся в изголовье. Слова бесполезны.
– В долг не просил, а если должен – возвращаю. – Прошептал Безрод.
День проходил за днем, седмица текла за седмицей. Безрод привел в губу те десять кораблей, что спрятали в укромной заводи. Отвада сам встречал на берегу ладейный поезд. Сивый первым сошел на берег, и хотел того или нет, попал прямиком в медвежьи объятия князя. Вырываться не стал, но обнял холодно, без души. Пристань огласилась криком, горожане ликовали, бросали в воздух шапки. Как будто все по-прежнему: княжич, победа, удача! Сивый спрятал лицо на груди Отвады, чтобы люди не видели тоскливых глаз, а народ пуще прежнего зашумел. Даже сам почувствовал, как застучало в груди князя. Отвада шевельнутся не смел, боялся спугнуть хрупкое счастье.
– Жалую воеводе Безроду две ладьи из десяти со всем содержимым! – крикнул Отвада на всю пристань.
Сивый только ухмыльнулся. Ишь ты! Воевода Безрод! Весьма кстати. Только проснется солнце после зимнего сна, тут и придет время уходить. И уже есть на чем.
– Укажи рукой, которые из десяти?
Сивый равнодушно махнул на две первые ладьи.
– Быть посему! – заревел Отвада.
Дружный крик улетел в море, шапки полетели вверх, и во всеобщем реве звенел тонкий голосок Тычка. Безрод поднял глаза и увидел ту девицу, что хотела приютить, за ранами ухаживать. Она стояла в толпе, и синие глаза счастливо блестели. Ее обнимал боярин Чаян, теплее укутывал. Те же носы, только Чаянов бит-перебит, те же синие глаза, только боярские мечной сизью отливают. Соломенные брови красавицы, изогнулись над ресницами, будто луки, губы пунцовели, морозный румянец горел на щеках, ровно снегириные грудки. Безрод и Чаяновна встретились глазами, короткое мгновение гляделись, и боярышня отвернулась. Сивый только ухмыльнулся.
Глава 9 Каждому свое
Отвада запретил править торжества, пока не встанет последний раненый. Но очень скоро он поднимется, и город закатит пир горой. Вынесут из подвалов заветные бочата, забьют скотину, напекут пирогов, и небесам станет жарко, когда победители запоют и запляшут. Чужак чужаком слонялся Безрод по городу. От всей дружины осталось девятнадцать бойцов, Стюжень ворожец не в счет. Хорошо воинство! Сивый слонялся по улицам, сидел на заднем дворе и лишь ратными забавами не пренебрегал. Часто поднимался на свои ладьи, мерил шагами от носа до кормы и думал о своем. Как понесут корабли по морю к неведомому счастью, пусть только птица удачи хвостом махнет, пусть только блеснет золотым пером! Ничего не оставлял он в этом городе, а забирал многое. Забирал злую память, забирал страшную боль, людскую ненависть и… честь вести дружинных на смерть. Дорогого стоит.
– Останься. Сыном тебя считаю. Уйдешь – снова осиротею, – глухо бубнил Отвада.
Князь глядел на Безрода и наглядеться не мог. Даже время начал назад считать. Может быть, тридцать с лишком лет назад собственная жена разродилась мальчишкой, и что-то плохое сталось? В те годы как раз и ходил походами на полдень. Мог и не узнать. И теперь вызнай правду у покойницы, что стряслось, как сын пропал? Даже девок теремных от той поры не осталось, одна Говоруня зажилась на этом свете, да что толку от старой? Совсем из ума выжила.
– Какой из меня сын? – глухо обронил Безрод. – Мрачен, холоден, лицом страшен. Ни любви от меня, ни тепла, ни ласки.
– То моя печаль, – уговаривал за вечерней трапезой Отвада. – Стоит посмотреть на тебя, так снова себя отцом чувствую.
Безрод мрачно смотрел на князя. Занеможет душой, ослабеет, долго ли Темного ждать? Ничего не сказал, только молча зыркнул из-под бровей по сторонам. На бояр, на воевод, на дорогих гостей.
Как-то утром, впервые после сечи, Безрод вывел Стюженя во двор. Едва дружинные заметили старого ворожца, будто летняя гроза прогремела – заорали так, что весь терем на уши встал. Раньше никто не видел старика в битве, и теперь люди не знали, кого в Стюжене больше: воя, который и теперь не всякому по зубам, или ворожца, которому мало что на свете не по силам.
Оба сели на заднем дворе и обратили взоры на море. Хмурое и серое оно сурово катило волны на берег.
– Почему одинцом по свету маешься, ровно перекати поле, почему от своего угла бежишь?
Сивый разгреб снег, нашел жухлую травинку, сунул в зубы.
– Какой с дурака спрос?
– Ох, темнишь Сивый!
– И то верно! Темного сломал, а и сам будто Темный. Иной прозрачен, ровно лед на реке, нутро видно до печенок, и жизнь кругом такая же – ясная и понятная. А у меня все не как у людей.
– Лучше поздно, чем никогда.
– Боятся меня бабы, словно проруби – сунут ногу в водуяснее ясного и назад. Одна чуть рассудка не лишилась. Месяц только и продержалась.
– Бил?
– Пальцем не трогал. А только душило ее что-то. Чахла, будто от хвори, в глаза смотреть перестала, дичиться начала. Сложно все, старик.
– В глаза, говоришь, не глядела?
– Боялась. Говорила, пусто там и холодно, ни конца, ни края, заглядишься – памяти лишишься. Пропадешь, сгинешь, вымерзнешь… Как посмотрит на меня – у самой глаза столбенеют.
– Бобыли мы с тобой. Я старый, ты молодой. И что теперь?
– Ничего. Одно понял – не всякая со мной выдержит. А где искать ее, как понять, что это она – не знаю. Ищи свищи. Вот настанет весна, уйду за море. Еще осенью хотел, да не успел.
– Тебя здесь многие вспоминать будут.
– Да уж! – Безрод криво усмехнулся. – Поди, лежит еще в кустах у Вороньей Головы тот мешочек с галькой.
Сидели на бревне старик и молодец и глядели на губу, один прожил тяжелую жизнь, второй и до середины не добрался.
– Отвада зовет остаться. Сыном называет.
– Ну и оставайся!
Безрод покачал головой. Нет.
– Значит, жди беды. – Стюжень тряхнул головой. – Погиб Расшибец – Отвада приютил Темного. Уйдешь ты, придет еще один злой дух.
Сивый молчал. Только кивал.
К середине зимы поднялся с ложа последний раненый. Друг на друга попали два праздника: середины зимы и победных торжеств. И небесам действительно стало жарко. Гуляли во всех углах боянской стороны. Играли песни, плясали, водили хороводы, гусли и дуды не смолкали. Отвада взял Безрода в плен, и не отпускал от себя ни на шаг. А как Сивый всех перепевал-переплясывал, глаза князя заволакивало слезой радости. В кои веки не одно девичье сердце заходилось тревожным стуком, когда рядом водил пляску воевода застенной дружины. Слушая Безрода, не одна пара девичьих и бабьих глаз слезно затуманивалась. И рубцы на лице уже не пугали, девки шепотом перевирали друг другу страшные истории про жуткие давнишние раны. Дескать, и не шрамы это вовсе, а отметины, которые наложил страшный ворожец. Вон, даже Стюженю злые чары не по силам. Девки и вдовицы помоложе вставали в пляс против Безрода, ног не жалели. Но Сивый извел всех плясуний, ни одна не выстояла.
Последняя поединщица, вдовая Вишеня, молодая баба, потерявшая мужа три года назад, держалась до последнего. Упрямо стиснув зубы, плясала, пока могла. Но яркие зеленые глаза все-таки поблекли, Вишеня сбила дыхание, ноги подогнулись, и она рухнула бы, как подкошенная, не подхвати Сивый на руки. Усадил на лавку, поднес воды. Вишеня долго не хотела сдаваться, не отводила взгляда, дышала и не могла надышаться. Парни вслед за Безродом пошли в пляс, ровно в битву. Только воевали нынче не оттнира – девок, а такой это противник, который непременно должен запросить пощады. А воевода на то и воевода, что всегда и везде первый. За таким хоть в сечу, хоть в веселье!
Доплясывали при светочах. Долго ждали, а теперь остановиться не могли. Того и гляди, рухнут без сил. Вои постарше и то костями гремели, не удержались.
Вишеня отдышалась на лавке, в полутьме влажно блеснули усталостью зеленые глаза. Вдовица без боязни поймала взгляд Безрода и почему-то не отвернулась. Крепко сжала его ладонь, и, еле слышно постанывая, тяжело поднялась. По стенке, не выпуская руки Безрода из крепких пальцев, пошла к порогу. Сивый усмехнулся. В сенцах вдовица забрала свой полушубок, а когда вышли на мороз, Безрод только и спросил:
– Куда?
– В гончарный конец, – выдохнула Вишеня глубоким грудным голосом.
Ее черный вдовий покров, расшитый серебряным узором, мерцал, ровно звезды на чистом ночном небе. Даже рукавиц не надела.
Миновали шорный конец, усмарский, бондарский, а когда вошли в гончарный, Вишеня подвела к дому с расписными ставенками и веселым коньком на крыше. Мочальная грива колыхалась на слабом ветру, будто настоящая. Двор как двор, баня, работная клеть, под навесом сложена поленница, рядом стоит колода, в которую по-хозяйски всажен колун.
– Пришли. – От шепота Вишени у Безрода по спине мурашки поползли, а сердце подхватилось, ровно олень, поднятый с лежки.
– Нет, светец не зажигай, – остановил Сивый хозяйку. – Маслянки хватит.
– Пусть будет маслянка. – Вдовица усадила Безрода на лавку, разула, сложила сапоги под лавку, а Безрод глядел на нее сверху вниз, и нежданное-негаданное тепло растекалось по душе. Сама устала, а все равно суетится, снедь собирает. Из подвала принесла холодного пива, пахучего разносола, мяса, рыбы. Только поставила все на стол, унеслась баню топить.
Сивый сидел и ждал. И хороводом, друг за другом плыли в памяти отчего-то не девицы-красавицы из прошлой жизни – чего только не случалось в походах – а дома, где чувствовал себя уютно и тепло. Вот как теперь. Немного вышло за всю жизнь, сосчитать просто. Хватит пальцев одной руки.
– Истопила. – Такой голос, идущий прямо из души, можно слушать и слушать. Глубокий. Будь этот голос пропастью, дно оказалось бы очень далеко. – Хоть не у реки, зато снега полно.
Сивый подхватил кувшин с холодным пивом и взял хозяйку за руку. Она не упиралась и вовсе не боялась Безрода. А чего бояться? О Сивом по всему городу легенды ходят, чужого никогда не возьмет.
Света в бане было немного. Сивый сунул кувшин молчаливой Вишене, разоблачился и прошел в парную. Разлегся на лавке и спрятал лицо в руки. Времени прошло – бабе унять сердцебиение, неспешно разоблачиться, постоять под дверью и взяться за ручку. Со скрипнувшей дверью, разметав облака пара, внутрь проникло дыхание зимы. Безрод не видел Вишени, лежал на животе, но тихий вздох ужаса услышал. Усмехнулся. Понятное дело, жутко. Наверное, стоит, зажав рот ладонью. Как еще не уронила кувшин?
– Чего замерла?
– Страшный ты.
Сивый не ответил, лишь усмехнулся. Вишеня поставила кувшин, подошла ближе и осторожно взяла Безрода в руки. Мяла, как гончар мнет глину, обдавала паром, умягчала медом, хлестала веником, обливала горячей водой. С ранами обошлась очень бережно. Распарила до того, что капни на Безрода холодной водой – обратилась бы в пар, ровно от каменки. А как выскочил Сивый во двор, да как пал в снег лицом – думал, уснет от блаженства, воспарит, словно невесомая птаха. Все тяготы остались в бане, водою смытые, веничком сбитые.
Будто на крыльях, Сивый вернулся в баню. Вишеня сидела на лавке спиною к порогу, перебросив толстенную косу на грудь. Едва услышала стук двери, едва дохнуло стужей – напряглась. Статная, крепкая, узкая в поясе и крутая в боках.
– Словно к жизни вернула, хозяюшка. – Безрод усмехнулся и положил руки на белые плечи. – Стал чисто малец беспечный, а не боец увечный. По добру и счет, а только пока не зардеешься, как утренняя заря, не выпущу.
Вишеня лишь кивнула.
Сивый мял белое тело, как мнет усмарь тонкую телячью кожу, сильно, но осторожно, обдавал попеременно горячей водой и студеной, поддал пива на каменку, дабы пар захмелил.
– Я виноват, – усмехнулся Безрод. Вишеня стесала ноги до кровавых пузырей. Сивый обдал пяточки пивом, обмазал медом. – Мои ступни крепки, словно камни, сапоги не держат, не угнаться тебе за мной.
– Давно так не плясала, ровно в девки вернулась. – Этот голос можно есть вместо снеди и будешь сыт, можно пить вместо пива и станешь хмелен.
Безрод вынес вдовицу во двор и бросил в снег, розовую на белое, тонко забросал снегом и рухнул рядом. Лежал и смотрел, как тает снег на впалом животе, обращаясь в капельки, как стекает с высокой, полной груди, как растекается с бедер. Вишеня глядела полуприкрытыми глазами в ясное небо, на звезды и улыбалась чему-то своему. А когда снег на коже растаял, Безрод укутал «снежную бабу» в овчинную верховку и унес в дом. Вернулся в баню, поддал пару, оставил новый веник, занес полную кадь свежего снега топиться и, выходя, поклонился бане в пояс. Весело трескнула печь.
Вечеряли оба легкие и чистые, хотя после княжеского пира куда уж наедаться? От Вишениных медов, настоянных на малине и полыни, делалось чудо как хорошо.
– Чем живешь?
Вишеня усмехнулась.
– А гончарю.
– Ты?
Она кивнула.
– Я.
Сивый припал к чаше, сделанной в виде ладьи, и поверх резного бока неотрывно глядел на гончаровну. Вишеня потупилась. Так вот почему руки, что мяли в бане, были крепки и царапали мозольками. Так же мастерица месит глину, лепит кувшины, миски, братины, сулейки, мучницы.
– У мужа покойного переняла, пусть ему будет привольно в мастеровых клетях Успея. Глядела из-за плеча, что-то и сам поручал, всякую мелочь вылепить. А как одна осталась, тут живот к хребту и прилип. Отощала, пока не выучилась. Запас глины остался, вот и лепила днями и ночами.
– А чего замуж снова не пошла?
Вишеня улыбнулась.
– Тебя ждала.
– Ну, вот он я.
Она отвернулась.
– Не пьешь. Или меды не по вкусу?
– Чудные меды. – Сивый залпом осушил чашу. – Да и рассказчик хорош.
– Да, почитай, уже все рассказала. Звали замуж, да не пошла. То не по нраву, другое, третье. Выдавать уже некому, одна я, сирота. Может быть, и выйду еще. А пока сама себе голова, леплю да на торг несу.
– И берут?
– Берут. Давеча у князя ты из братины пил. Моя.
– У князя?
– Да.
– Та, что по кругу изукрашена оленями и стрелами?
– Она.
– Руки – золото.
Вишеня подняла на Безрода глаза, и улыбка сошла с губ. Погасла одна маслянка, и глаза гончаровны враз потеряли цвет, заблистали из тени двумя звездами.
– Твоими бы устами…
Сивый слушал ее голос, а внутри все ухало, будто в пропасть падал. Глубокий голос, дна не видать.
– Чего молчишь, застенок?
– Говори. Тебя слушаю. Хмелею, будто с медов.
– Всего ли хватает?
– Жаловаться не на что.
Погасла вторая маслянка и как будто сама темнота обрела этот голос, грудной, волнительный, чарующий.
– Запалить еще?
Безрода со всех сторон объяла мгла.
– Нет, – прошелестел Сивый.
Вишеня любила отчаянно, горячо, своим жаром спекала в головешку, грозилась вовсе сжечь, и не могла любовью наесться. Не могла отдать ее всю, сама стала как яма, отдавала много – становилось еще больше. Безрод, как великая стужа, без остатка пожирал ее жар и не мог согреться. Вишеня горела, ровно солнце, и не было конца ее пламени. Гляделась в синие, бездонные глаза, но даже во мгле они зияли мутными провалами. Вишеню будто в пропасть затягивало, голова кругом шла, грозилась вовсе укатиться. Гончаровна щедрыми горстями бросала тепло в озябшую душу Безрода и была ненасытна, отдаваясь… Заснули только к утру.
Встали поздно. За столом не глядели друг на друга. Вишеня не поднимала глаз, но если бы подняла, светлее стало в горнице.
– Слыхала, по весне морем налаживаешься.
– Уйду, – буркнул Сивый.
– А замуж взял бы?
Сивый нахмурился.
– А пошла бы?
Вишеня грустно взглянула.
– Пошла бы за тебя, да не смогу! Надорвусь. Ровно в тени ходишь, ровно в стужу неодетый бродишь. Обогреть хочу, да сама мерзну. Гляжу в глаза и будто внутрь проваливаюсь. Страшно мне. И зябко, и трясет всю. Хоть вовсе в глаза не глядись. А разве это жизнь? Давеча голодна была, потому и перемогла. Но надолго меня не хватит. Высохну. От тени шарахаться начну. Страшно.
Вдовица отвела глаза, а Сивый ощерился горькой улыбкой. В бабе два мира клином сходятся, она по кромке ходит, оба мира душой чувствует. Эта хоть сразу поняла, не стала мучить ни себя, ни его. Не девка, пожила на свете.
– На «нет» и суда нет.
– Дни мечу отдай, а ночи мне, – жарко шепнула Вишеня. – Урву у доли немного счастья, пока не снялся в дорогу.
Безрод уходил в терем, крепко задумавшись. Нет, не в этом доме поселится счастье, пахнущее молоком. Не здесь. Да и есть ли вообще такой дом?
Пленных оттниров, тех, что отошли от ран, князь озаботил. Город разжился ладьями за эту войну, и полуночники ставили для них сараи. Остаток зимы быстроходные граппры должны простоять в сухом месте. Сёнге махал топором чернее тучи, несколько раз подмечал Безрода, глядящего издалека, и угрюмо отворачивался. Рыжий оттнир лишь крепче сжимал челюсти и ругался вполголоса, Злобог бы побрал этого живучего бояна. Сивый кривился. Зима на лето повернулась. Немного осталось до того, как уснут на море злые зимние ветры, и откроются пути. Тогда и станет можно бросить ветер в паруса. Парни начали помалу нагружать себя ратными заботами, дружина пополнилась новичками. Вспомнили про мешки у Вороньей Головы. Безрод выбежал с остальными. Рядяша морщил нос, глядя, как он воюет с огромным мешком, отворачивался, кряхтел, и однажды не выдержал.
– Судом суди, мечом секи, не позорь! Дай половину ссыплю! Велик вырос, да и дурак вымахал немалый!
Безрод взглянул в повинные глаза Рядяши и кивнул.
– Пяток горстей сбрось.
– Чьих горстей? Моих?
Сивый усмехнулся. Рядяшина горсть чару заполнит.
– Твоих. Сам сыпал, сам отсыпай.
– Мигом, воевода!
Бегать по снегу тяжело. Бежали, будто по колено в воде, и даже не бежали, а размашисто шли. Каждый день снег заваливал тропинку, и кто-то каждое утро, чисто олений вожак, шел первым, торя дорожку. Так и сменялись. Хорошо было идти за Рядяшей, за Моряем, за Неслухами. За ними оставался торный путь, ровно от саней, широкий, удобный. И теперь прыгали со скалы, только не плыли на тот берег. Почти сразу выходили. Те, кто с Безродом ходили за стену, всякий раз морщились. Вспоминали заплыв по студеному морю. Но ничего, прыгали.
Несколько раз Коряга, пыша злобой, делал Безроду подножки. Однажды просто столкнул со скалы в спину. Сивый мрачнел день ото дня.
– А чего я хотел? – криво ухмыляясь, бросил Безрод Стюженю на заднем дворе. – Наймит я.
– Зря ты так. – Старик огладил бороду.
– Нет, не зря. – Сивый правил меч бычьей кожей. – Я не дружинный – чужой и по весне уйду. Млечи кровь проливали за родной дом. А я? За себя, за свою жизнь старался. И кто я после этого? Наймит и есть. Повоевал, получи награду – собственную жизнь. Одного хочу – спокойно уйти.
Стюжень чему-то тоскливо улыбнулся. Не дадут млечи уйти спокойно. Чему быть, того не миновать.
Безрод еще дважды невзначай встречал ту девицу, которую на берегу укутывал боярин Чаян. Это она тогда заразительно смеялась и горько поглядывала в их сторону. Потом нарочно искал Чаяновну, приглядывался да высматривал. И однажды, дав крюк и проходя мимо хором боярина, забрел во двор и попросил напиться. Отослал слуг, захотел испить из рук самой боярышни. Вышла Зарянка, подала в ковше воды. Спросила:
– А не студено ли?
– В самый раз. – От ледяной воды ломило зубы, но вода была очень вкусна.
– Жадно пьешь.
– Так и жажда велика.
Сивый глядел на Чаяновну поверх ковша. Глаза глубокие, синие, в них душа плещется, живая, бездонная.
– Выйди вечером, красавица. Ждать буду.
– Я слыхала, ты с бабой теперь, воевода. Неужели одной мало? – Зарянка хитро сощурилась.
– А ты баб моих не считай. – Сивый незлобиво оскалился. – За себя отвечай.
Она долго смотрела на Безрода и кусала губу. Потом кивнула и ускакала в дом, а Сивый ушел в дружинную избу, снова ставшую просторной.
Как стемнело, Зарянка вышла за батюшкины ворота. Сивый уже поджидал. Боярышня сторожко ощупывала взглядом воеводу засадной сотни, что еще Безрод придумал? Неужели обхаживать вознамерился?
– Ну? Говори, вой.
– Не здесь. Слова мерзнут.
– А в беседне у нас бывал?
– Нет. Веди. – Безрод ухмыльнулся. Там девок много, ей будет спокойнее.
Все разговоры замерли, когда отворилась дверь и внутрь, отряхиваясь от снега, вошли Зарянка и Безрод. Так всегда бывает, люди с любопытством обрывают разговоры и ждут, кто же войдет. Потом смешки и треп вспыхивают с новой силой. Дружинные, свободные от службы, занимались важным делом – переплясывали девок, смех и шутки витали под потолком, и самыми старыми были тут, пожалуй, Сивый да Коряга. Млеч недовольно покосился на Безрода, едва тот вошел, расстарался, повел пляску близ порога, и когда Сивый проходил мимо, пихнул, что было сил. Безрод в последний миг спохватился, напрягся, и столкновение вышло очень громким, словно два барана стукнулись лбами. Пляска замерла, напряжение в беседне сгустилось такое, хоть топор вешай. Млеч криво улыбался, Безрод и глазом не повел. Мрачно оглянулся и пошел в самый дальний угол.
– За что он так?
– Не знаю. – Сивый сел на лавку, покосился на ехидных млечей.
– Злые они.
– Все потеряешь, не так обозлишься.
– Чего звал?
Безрод поднял на Зарянку колючие глаза.
– Сколько тебе лет, красавица?
– Все мои. За тем звал?
– Почему замуж не идешь?
– Не зовут.
– Плохо врешь.
– Тебя это не касается! Взять решил? – Она вскочила.
Сивый за руку усадил строптивицу.
– Не ершись.
– Чего надо?
– Всю душу себе порвала. Сохнешь, а и слова не говоришь. Дура, девка.
Зарянка испуганно отпрянула. Колдун! Как есть колдун! В самое нутро глядит, все видит по самое донышко.
– Если помогу открыться – пойдешь за него?
Чаяновна с надеждой подалась вперед, глаза распахнула, руками прикрыла рот. Поможет воевода?
– А возьмет?
Безрод усмехнулся, тряхнул сивым чубом.
– Я бы взял.
– Так за тебя и пошла! – Зарянка ехидно скривилась. Потом задумалась. – А как узнал?
Безрод отвернулся. Как, как… По счастью в глазах, по тоске в губах. Только слепой не увидит.
– Я пойду спляшу? – Ее глаза вспыхнули надеждой.
– Иди.
Боярышня, ровно козочка, подскочила с лавки, прыгнула в кружок, и всем парням стало жарко, как будто в самой середке хоровода взошло солнце. Весело смеялась, а смеялась – чисто колокольцы переливаются, глаза искры метали, того и гляди, что-нибудь подпалит. Вертелась, не одного ухаря перевертела. Сивый усмехнулся, встал и бочком, по стенке, пошел к выходу. Совсем было вышел, но кто-то влетел в спину и так пихнул, что Безрод отлетел к самой двери. Сзади раздался злорадный смешок. Сивый повернулся. Пляска прекратилась, девки стояли, испуганно зажав рты ладошками, парни напряглись. Коряга и Взмет стояли, уперев руки в боки, и дерзко лыбились. Безрод мрачно ухмыльнулся, оглядел обоих и молча вышел. Даже за дверью был слышен смех млечей. Сивый скрипнул зубами, почерпнул снега и залепил им все лицо, дабы остыть…
Отвада обнял, ровно сына. Усадил, сам чару налил, поднес. Безрод криво усмехнулся. Принесла нелегкая прямо к трапезе. Кругом родовитые да именитые, глядят, как волки на ягня. Сивый осушил чару, почетным пленником просидел рядом с князем всю трапезу, а потом заперся с Отвадой в думной.
– Молод ты еще, князь. Хватит горе-злосчастье мыкать.
– К чему ведешь, сынок?
– Если за сына почитаешь, слушайся будто сына.
– К чему клонишь?
– Девка есть одна. Сама ровно лебедь выступает, глаза – как небо летом, коса русая, чисто ржаной сноп.
– Складно поешь, сынок!
Безрод согнал с губ улыбку.
– Любит – усыхает.
– Так женись!
Сивый ухмыльнулся.
– Тебя любит.
Отвада замер, прищурил глаза, колко взглянул на Безрода.
– Играешь? Не то время.
– Не до игр. – Сивый посерьезнел. – Довольно прятаться. Молод еще. Девка с ума сходит. Пойдут еще свои сыновья. На руках станешь баюкать, на шее катать.
Отвада медленно покачал головой. Безрод ухмыльнулся.
– Поздно уже, князь. Просватал ты нынче девку у отца. Сам там был, мед хмельной пил.
– Я? Просватал?
– Ты. Такими мужьями не бросаются. Быть свадьбе.
Отвада сгреб Безрода за ворот.
– Что творишь, паскудник? Глумиться удумал?
– Или не сын я тебе, батюшка? – Сивый ухмыльнулся. – Неужели бить будешь?
Отвада весь трясся от злости, глыбой навис над Безродом.
– Кто просватал?
– Стюжень, Перегуж и я.
Слова застревали в горле князя, он только сопел да клокотал, чисто кипяток в котле.
– Чего ж не спросишь, кого просватал?
– И кого? – проревел Отвада.
– А Зарянку, Чаянову дочь. Детки от нее чудные пойдут. Девка в самом соку!
– Много взял на себя, мальчиш-шка! – Отвада, побелев от ярости, рычал Безроду в лицо. Сивый отпрянул. Страшен князь в гневе. – Ишь, заботливый нашелся! Твоя задумка?
– Не дам родителю помереть заживо! – Сивый ухмыльнулся и дурашливо протянул руки. – Для того ли в сече выжил, чтобы в мирной жизни зачахнуть?
Князь отпустил Безрода, устало опустился на скамью.
– Шут гороховый! Нынче же растолкую Чаяну…
– Поздно, князь. Город ликует. Да и боярин обидится.
– Бестолочь! Все трое бестолочи! – Князь взвился со скамьи, сжав пальцы в кулаки.
– Не везло тебе до сих пор с сыновьями, князь. – Безрод усмехнулся. – Дадут боги, отныне завезет.
– Мальчиш-шка!
– А рука у нее тонкая, белая. Когда поднесли договорное колечко, девка зарделась, чисто рассветная заря, а когда надела, засияла, ровно луна средь бела дня, – усмехаясь, рассказывал Безрод.
– Во-о-он! – Отвада с ревом выпростал руку к двери.
Сивый равнодушно пожал плечами и вышел. А когда дверь думной за ним закрылась, по всему терему разлетелся зычный, раскатистый смех и полилась песня: Ой, вы девушки невестушки, ой вы, белые лебедушки…
На собственной свадьбе князь сидел мрачный, насупленный и гневливо зыркал по сторонам. Сивый восседал в самом конце стола и усмехался. Дабы испепелить грозным взглядом Безрода, Отваде пришлось бы отвернуться от невесты и долго искать «сына» в ряду бояр и прочих высоких гостей. Не видимый князем, Сивый тонко усмехался. Зарянка сидела сама не своя. Дышала через раз, от волнения икота напала, хорошо лица невесты никто не видел. Слуги настежь распахнули княжий терем, и за несколько дней весь город перебывал на свадьбе Отвады и Чаяновны. Всякий стоящий на ногах пригубил чарочку во здравие мужа и жены.
Безрод пил за счастье князя и новоиспеченной княжны от всей души, но едва видел млечей, незаметно исчезал. Уходил на задний двор и долго смотрел на небо, вечернее, утреннее, полуденное.
– Помнишь, говорил, будто вместо сына тебе Отвада?
– Помню. – Стюженя хмель не брал. Сидел на бревне на заднем дворе так же рассудителен и спокоен.
– Вот и вышло, что сына женил. Ухватил за чуб и отчей рукой на путь наставил.
– Вышло. – Старик улыбнулся. – А помнишь, я говорил, что ты князю нужнее, чем он тебе?
– Помню.
– Вот и по-моему вышло.
– А чуешь, старик, весной пахнет? – Сивый потянул носом пролетающий ветерок.
– Что такое?
– Не знаю. Так лишь по весне пахнет.
– С первыми птицами снимешься?
– Да.
Стюжень замолчал. Глядел в дали дальние и видел то, что другим углядеть не под силу.
– Иди уж, Отвада, наверное, тебя ищет. Там один Перегуж весь гнев на себя принимает. Подсоби воеводе, отведи грозу.
Сивый усмехнулся.
– Ты заметил, ночь прошла, и князь как будто помягчел? Глядит кругом, ровно кот, натаскавший рыбы. Интересно, в чем тут дело? – младший сват хитро покосился на ворожца.
– Пошел, пошел! – Верховный погнал Безрода клюкой и вдогонку бросил. – А дело в том, что кот и впрямь на рыбку попал!
Сивый пошел было прочь и вдруг замер на полушаге с поднятой ногой. Повернулся.
– Ну, чего встал, ровно столб?
Безрод хитро взглянул на Стюженя, а старик, будто наперед знал, что тот скажет.
– А давай и тебя женим, Стюжень? – Безрод почесал затылок. – Девку найдем покрасивее. Котов много, а рыбы еще больше.
Стюжень укоризненно покачал головой, хотел было ответить, но заметил дворню в углу. Поманил Безрода пальцем.
– Наклонись. Ухо дай.
Сивый наклонился, и пока слушал, усмешка тронула губы.
– А ты к палке привяжи!
– Я вот те дам, палкой! – старик огрел Безрода клюкой. Сивый резво отпрыгнул и убежал в терем, разливая по дороге зычный смех. Стюжень усмехнулся, огладил бороду и усы, сложил огромные руки на клюке. Хотел принять степенный вид, но не получилось. Прорвало старика, полез из груди смех, и на заднем дворе будто гром загремел посреди зимы. Дворня аж присела от испуга.
Как ни бегал – вот она судьба, стоит в двери, руки на груди скрестила, от медов не хмельная, а лишь злая. Стоит Коряга ухмыляется. Не берет млеча хмель, бурлит в душе, выхода ищет. Сивый, как вылетел из-за угла дружинной избы, так и расплескался о порог, ровно волна об утес. Пела в душе вешняя птица и улетела, остались только мрак да холод. Какое-то время молча стояли один против другого, Безрод мрачно ухмылялся, млеч наливался краской злобы. Наконец Сивый развернулся и зашагал прочь. Только не сегодня. Сегодня свадьба. И завтра свадьба, и послезавтра.
Млеч крикнул в спину, что было сил:
– Трусливый пес! Неверно то, что ты безроден, порождение ночной тьмы! Твоим отцом был обман, а матерью трусость! Ты боязливая девка, которая прячется в тени князя! Ты презренный трусишка, который схоронился за спины сотни воев и лишь поэтому выжил!
Сивый только шаг замедлил. Громкий хохот ударил в спину – это вышли на порог Взмет, Дергунь, Гривач. Остальные вои, мрачно насупившись, ждали ответа.
– Враг никогда не видел этого мужественного лица, – посмеивался Коряга. – А только спину труса, которая так и просит сапога!
Коряжий сапожище, чиркнув по волосам Безрода, пролетел вперед. Сивый остановился, оглянулся и лишь холодно усмехнулся. На пороге дружинной избы хохотали несколько млечей, остальные вои молча недоумевали. И только остатки лесной дружины недобро кривились, косясь на Корягу. Безрод отвернулся и зашагал прочь. А в княжьем тереме, ни о чем не подозревая, веселились люди. Гусляры играли песни, скоморохи колесом катались, входили и выходили хмельные гости.
Еще три дня город стоял на голове. Все три дня Сивый не казал и носа в терем. Отвада звал, но Безрод отговорился больным. Вишеня по-всякому обхаживала – чару поднесет, пирогов напечет. Сивый, не хмелея, пил, с аппетитом ел и целыми днями просиживал в работной клети, подле гончарного круга. До верчения головы смотрел, как вращается круг. Гончаровна прятала косу под простую мужицкую шапку, облачалась в просторную рубаху, надевала штаны и принималась за работу. Было удивительно глядеть, как из ничего появляется нечто. Кувшины, сулейки, чаши. Теперь, после разорительных торжеств, когда посуды перебили видимо-невидимо, Вишеня вовсе спины не разгибала. Почитай, вся глиняная утварь черепками легла под ноги пирующих. Еще день, два, люд протрезвеет, очухается, обсчитается и кинется на торг возмещать убыток. А тут и ендовки лепные, и сулейки расписные, и кувшины бокастые, и чаши ушастые, любо дорого смотреть! Вишеня помочь не просила, но Сивый, ухмыльнувшись, помог и без просьб. Набил в лесу птицы, изжарил на вертеле. Силком оторвал мастерицу от круга и заставил умять четверть глухаря. Потом глину месил и только подавал мастерице на круг. В конце дня, на пороге ночи Вишеня падала на ложе ни жива, ни мертва и мгновенно засыпала. Безрод лишь укутывал потеплее. А перед самым торгом, истопил вечером баню, загнал туда гончаровну и парил до седьмого пота, изгонял из поясницы ломоту. Обессилил Вишеню до того, что баба стоять не могла, на руках в дом унес. Со счастливой улыбкой на сочных губах, разметав косу по изголовью, гончарных дел мастерица мгновенно уснула сладким сном.
Светила полная луна, Вишеня видела седьмой сон. Безрод взял в руки березовый лик, что выщипал еще в дубовой клети, погладил пальцам, положил на место и задул маслянку. Надел полушубок и вышел во двор. Белоух засопел, выбежал из-за угла. Сивый ласково потрепал молодого пса, сунул в зубы глухарятину. От Безрода пес еду принимал, хозяйка разрешила. Сивый ступил за ворота, почерпнул снега и, жуя, направился к терему.
У дружинной избы стражу нес Моряй. В зимнюю пору кто-то постоянно находился около печи, в нужное время забрасывал дровами. При виде Безрода, Моряй удивленно поднял брови, мол, чего в такую позднюю пору? Вишеня что ли выгнала? Но потом нахмурился и посерьезнел. Безрод не улыбался, не шутил, ни словечка не вымолвил. Глядел холодно. Приложил палец к губам. Моряй мрачно кивнул, и Сивый тихонько отворил дверь. Та даже не скрипнула. От печи запалил маслянку, подошел к ложу Коряги и носком сапога пнул в пятку. Млеч мгновенно взвился, подскочил с ложа. Увидел Безрода, опустил руки, усмехнулся.
– Одевайся, пошли, – холодно прошелестел Сивый.
Коряга медлил, буравил Безрода сонными глазами, потом скривился и стал одеваться.
– Меч не бери. Даже нож ни к чему. И тише. Не разбудить бы кого.
Двумя тенями Коряга и Безрод вышли из избы.
– Кто нынче на воротах?
– Валок, Тетерев, Рядяша. Куда собрались?
– Потолковать.
– Где?
– На ратной поляне. Ничего что один на один? – Сивый, ухмыльнувшись, повернулся к млечу, и тот не увидел в серых глазах страха.
– Одного меня достанет холку тебе начесать!
Валок и Тетерев усадили обоих в люльку, закрутили подъемный ворот и проводили вниз мрачными взглядами. Рядяша только улыбнулся.
Поляну заливала полная луна, и все было видно, как днем. Сивый сбросил полушубок, остался в одной рубахе. Коряга остервенело сорвал с плеч верховку.
– А до утра подождать не мог?
– Нам солнце ни к чему, млеч. Хотел что-то сказать? Говори.
– Я уже все сказал!
Коряга ринулся вперед, и только воздух засвистел под мощными взмахами – ударил сначала кулаком, потом локтем, поменял стойку и повторил то же с другой руки. Впустую. Безрод прянул назад и ушел. Млеч осторожно подобрался на верный удар и выбросил кулак в грудь, целя прямо в сердце. До того Сивый нырял, уклонялся, а теперь внезапно остановился, закрылся локтями, принял жуткий удар предплечьями. Коряга развел ручищи, с быстротой молнии прыгнул вперед и сгреб негодяя-безродину в охапку. Сивый будто ждал. Ударил млеча головой в лицо, словно уж выскользнул из объятий, ухватил ненавистника повыше запястья, рванул. С треском расползлась под пальцами Безрода рубаха, лопнула кожа, красные волоконца плоти, оторванные от остальных, вытянулись в струну. Коряга заревел, выпростал здоровую руку к шее ненавистного ублюдка, но того и след простыл. Млеч обезумел, обрушил град ударов на Безрода, несколько раз попал, но у самого в боку ровно что-то треснуло. Всего залило острой болью. Коряга остановился, пред глазами плыло, в ушах звенело, испепеляющим огнем и ненавистью был полон, словно кувшин с пивом – до краев. С другой стороны треснуло еще два ребра, а Сивый выплыл откуда-то из-за спины, страшным ударом в сердце швырнул на снег, сунул млечу палец в рот, согнул крючком и разодрал щеку до самой губы. Коряга еще оставался в памяти, стонал, пытаясь подняться, подтянул ноги к груди. Безрод стоял рядом и молча глядел на мучительные потуги. Вот Коряга поднялся, и чего ему стоило это усилие, рассказала волна дрожи, встряхнувшая огромное тело, ровно хозяйская рука мятую рубаху. Млеч таращился на город безумными глазами, и неловко переступая, мелкими шажками пошел к воротам. Он уже не видел Безрода, он ничего не видел, кроме городских ворот, тихо стонал и подвывал, будто рваный волк.
Сивый подхватил верховку Коряги, небрежно бросил тому на плечи, надел свой полушубок и, не оглядываясь, первым ушел в город.
– Один? А Коряга? – Стража переполошилась, когда Сивый, отряхиваясь и умываясь хрустким снегом, сошел с подъемной люльки.
– Следом бредет. – Безрод кивнул за спину и, не торопясь, ушел в гончарный конец.
Когда на мосток мелкими шажками взошел потерянный Коряга с оледеневшим взглядом, стража раскрыла рот. Тетерев спустился со стены, усадил млеча в люльку, остальные подняли воев на стену. Рядяша и Валок мигом соорудили носилки из копий и щитов, положили изувеченного Корягу и умчали в дружинную избу.
– Стой! Не туда – в овин! – сообразил на полдороге Рядяша. – Переполошатся, до утра не заснут!
– Верно! – прогудел Валок. – Шуму, визгу не оберешься.
Сторожевые принесли млеча на сеновал, и Валок убежал за Стюженем.
Рядяша разгреб сено, в ведре с водой стоймя утвердил светоч, дабы на сено не попало, и поставил на землю около раненого. Старик ощупал Корягу, послушал стоны и помрачнел.
– Воды и тканину, живо! – Рядяша убежал за водой и полотном для перевязки, а Валок вернулся на стену.
– На кабана что ли в одиночку пошел? – Ворожец перетягивал разорванную руку млеча. – Ладно, что сухожилия не порвал.
– Нет, – Рядяша ухмыльнулся. – Не на кабана. На Безрода.
Старик долго смотрел на Рядяшу, не шутит ли, потом отвернулся.
– Доигрался, дурак! – Стюжень влил в Коряжью глотку добрую чару крепчайшего меду. Порванную щеку ожгло будто огнем, раненый застонал.
– Полно выть, бестолочь! – Верховный опрокинул Корягу обратно на сеновал. –Вставать еще собрался!
Глаза млеча закатились, только белки засверкали. Ворожец ножом окоротил бороду вокруг разрыва и аккуратно сшил порванную щеку. Осторожно перемотал тело – четыре поломанных ребра все же не шутка, как бы еще грудина не треснула – и велел унести. Пусть отлеживается. Рядяша на руках бережно внес Корягу в дружинную избу, положил на ложе. А переполоху-то утром будет!
– Ты будь в избе, когда вставать начнут. Не взыграла бы дурь, – бросил Моряю Стюжень. – Говоришь, безоружные, ушли?
– Даже пряжки поясной не было.
– Дурак, млеч. Дурак.
Утром, когда пришла пора собираться на пробег, дружинную избу огласил ярый рев. Вставший первым, Дергунь обнаружил Корягу, затянутого повязками до самых глаз,.
– Кто! – ревел млеч, будто раненный медведь, кулаком потрясая срединный столб. – Кто?
– Безрод уложил, – подошел Моряй. – Вчера один на один бились.
– В клочья порву! – Дергунь побелел, схватился за нож, бросился к двери.
– Охолони. – Моряй локтем отбросил разъяренного молодчика от порога. Вои похватали за руки, отобрали нож. – Всему своей черед. Или опять восемь на одного встанете?
– Пор-рву! – хрипел Дергунь и бился в руках дружинных.
– Чего шумите? – Перегуж вышел на середину. – Уже бежать должны.
– Дергунь лютует. Мести жаждет.
– Перебесится. Ступайте все на мороз. А ты, орел, свару затеешь – голову сниму. Все вон!
Безрод присоединился к воинству у городских ворот и бежал, ровно ничего не случилось. Воевода ни на шаг не отставал. Все обошлось.
Сивый и глазом на млечей не повел, будто их вовсе нет. Зато Дергунь не преминул в грязи извалять.
– Ублюдок и сын ублюдков! Даже родичи от тебя отказались. Кому такое добро надобно?
Ему вторил Взмет:
– Как есть набрехал, что безоружный вышел. Припрятал нож в сапоге!
Трапезничать за один стол с Дергунем Безрод не сел. Не стал есть вовсе. Раньше всех ушел на ратную поляну, опустился под свой дуб и прислонился затылком к стволу. Исполин уснул на зиму и стоял спокоен, кряжист, необхватен. И самому возле старика стало спокойно. Когда вои начали ломать друг друга, Сивый дал им разогреться и вышел из-за дуба.
– Ты, – указал на Дергуня. – Против меня встань.
Снял полушубок, шапку, сапоги, с улыбкой бросил все позади себя, а сапоги так и вытряхнул каждый. Ничего оттуда не посыпалось. Млеч остервенело сорвал с себя верховку, сбросил сапоги. Притоптал снег вокруг и медленно пошел на Безрода. Хитер и опасен кружил вокруг, примерялся, и внезапно ожил втрое быстрее против прежнего. Ссутулил плечи, пригнулся и хлестал кулаками с обеих рук. Потом резко прошел Безроду в ноги, распрямляясь, ударил затылком в подбородок, обхватил в поясе и швырнул через себя. Сивый перелетел через голову, несколько шагов прокатился по снегу и мгновенно встал на ноги. Ощерился, сплюнул снег.
Вои окружили поединщиков мрачные, хмурые. Чего ж хорошего, когда свои грызутся? Перегуж стоял чернее грозовой тучи. За обоих, не колеблясь, встал бы на врага, да только долю не обхитришь, не спрячешься. Везде найдет.
Дергунь пригнулся и ударил. Попал вскользь. И вдруг перешел на бой охлябь, когда руки бьют, словно цепы для молотьбы пшена. Безрода поглотил вихрь ударов, даже воевода вдохнул и замер. Дадут боги – живым выйдет из смертоносной мельницы. А Безрод, присев, чисто уж скользнул под рукой Дергуня тому за спину, обхватил шею млеча и рванул на себя. Дергунь как стоял, так и начал валиться на спину, и непременно улегся бы на обе лопатки, не подправь Сивый. Подсек в воздухе бедром и швырнул вниз лицом. Снег мгновенно окрасился кровью, и беспамятный Дергунь закрыл глаза. Бок сочился кровью, два ребра острыми сколами торчали наружу, и ко всему сзади, из шеи хлестало, как из ручья. Почитай, весь загривок Дергуня остался на пальцах Безрода. Сивый отряхнул руку, вытер о снег. Молча, из-под бровей оглядел воев, обулся, оделся и ушел.
– Живо в город, бестолочи! – рявкнул воевода. Еще одного увечного дурака не хватало. – Если кто-нибудь скажет Безроду хоть слово – из дружины взашей прогоню, а княжью метку огнем выжгу!
– Да уже все сказали, кто хотел. Больше и не надо. Правда? – Рядяша, улыбаясь, повернулся к Взмету. Тот стоял бледен и крепко сжимал челюсти.
– Ты дружинных калечить перестань! – рокотал на заднем дворе верховный. – Не война, чтобы людей терять.
Сивый молча глядел вперед, глаза сощурил, губу закусил.
– Видать, уйду так же, как пришел.
– Как так?
– Ненавидим парнями и князем.
Старик горько покачал головой. Слова сказаны, сапоги брошены. Всякий знает, что слово не птаха – вылетело, не поймаешь! Улетевшие сапоги поймать можно, только лови их, не лови… И те дураки головы не склонят, и этот упрямый попался. Коряга сущий остолоп! Начав с него, теперь Безрод вынужден и остальных охаживать. И ведь забыл уже… Ну, сделал вид, что забыл! Эх, дурость людская, нет тебе сносу, нет переводу!
С самого утра Сивый молча глядел на Взмета. Ждал. Может быть, опомнится, забудет злое, попросит не упомнить былого. Млеч не сказал ни слова, только сжал крепче зубы, и чем ближе подбирался полдень, тем крепче сжимал.
На поляне сам встал против Безрода, не удосужился ждать. Этот не бил, а больше ломал. Каждый в схватках находит свое, иному сподручнее бить, иному ломать. Взмет сразу перехватил руку Безрода, начал выкручивать локоть. Сивый ногой ударил по голени, Взмет, скрипнув зубами, отпрянул. Ровно кот, ходил вокруг да около, все захват верный искал. Прянул в ноги, подсек, навалился всем телом, стал заламывать. И вдруг заревел, точно медведь, упавший в яму. Обе его ладони Безрод держал в своих и нещадно перемалывал кости. Рук Взмета даже видно не стало в Безродовых. Но Сивый против ожиданий разжал клещи – Взмету еще меч держать – и слева, резким тычком сунул пальцы млечу в рот. Выбил зубы, рассадил десны. Взмет захрипел, заревел, стал биться головой, разбил Безроду нос и губы. Сивый с короткого правого маха всадил пальцы меж ребер, пробил плоть, уцепил ребро и сдернул противника с себя. Пошатываясь, встал, полными горстями зачерпнул снег, залепил пылающее лицо. Снег начал таять, закапал меж пальцев красными каплями. Безрод подхватил полушубок и, спотыкаясь, побрел в город.
Гривач не выдержал. С ревом забежал Безроду в лицо, сдернул с себя верховку, согнул плечи для боя. Целый день томиться, ждать своей очереди… Нет уж! Теперь же! Сивый помедлил и, усмехаясь, кивнул. Гривач, качаясь из стороны в сторону, ударил с быстротой молнии. Сивый ушел. Гривач раскачался перед Безродом, ударил с левой руки, подался в ту же сторону, куда ушел от удара Сивый, и правой ухватил за плечо. Безрод ощерился, пронес голову под локтем, пригнулся, обхватил Гривача за пояс и, распрямившись, швырнул через бедро. Гривач вскочил мгновенно, но еще быстрее его догнал Сивый. Налетел, опрокинул грудью, ударил в лицо лбом, разбил губы, сломал нос. Гривач рухнул на спину уже без памяти. Раскинул руки, голову отвернул на бок.
Сивый зло сплюнул и вернулся на поляну. Теперь, так теперь.
– Выходи, – кивнул Безрод Шкуре. Тот помедлил и выступил вперед. Поздно каяться. Скоро понял, что сглупил тогда, возвел на человека напраслину, только обороту дать язык не повернулся. Так и ходил молча, глаза прятал. И вот пришел черед боками за язык расплачиваться. А поглядим еще, и сам не лыком шит!
Шкура уже многое видел, многое намотал на длинный ус. Не спешил. Ждал. Вперед не бросался. Сивый глядел исподлобья. Шкура выставил вперед левый локоть, правую руку занес над головой и ребро ладони резко повел вниз, как будто меч. Дружинные шумно выдохнули, все знали, Шкура ладонью камни колол. В голову придется – размозжит. Безрод убрался. Шкура опять выставил левую руку, правую сложил в кулак. Подошел на верный шаг и ударил, однако на полдороге разжал кулак, нырнул в пояс Безроду, обхватил ручищами и вздернул на вес. Прижал к себе, и так сдавил, что иным послышался хруст. Сивый и бровью не повел, ладонями обхватил голову противника, сдавил. Шкура все сделал правильно, ближе остальных подобрался к победе, вот только хребет Безрода оказался крепок не по виду. Соловей будто столб раздавить пытался. А как сжал крепкое тело в ручищах, как распробовал ту крепость собственной грудью, так и понял, что кончина подошла. И сам того не заметил. Шкура зашатался, заблажил, разомкнул руки, выпустил Безрода, обнял голову и со страшным криком рухнул, как срубленное дерево. Из носа, ушей, рта текло, глаза налились кровью, даже из уголка глаза выбежала кровавая слеза.
– Ты. – Сивый показал на Остряжа. Из восьми битейщиков он остался шестым и последним. Торопь и Лякоть сложили головы в битве.
Безрод недобро ухмыльнулся. Все тело ныло. Не хотел калечить всерьез, медлил, не бил, но этот последний едва жизни не лишил. Сивый встал против Остряжа и замер. И едва тот начал двигаться, ушел навстречу живее стрелы. Резко вскинул руки к лицу противника, и Остряжь отпрянул, увидев смертоносные пальцы у самых глаз. Сивый подшагнул вплотную и швырнул последнего битейщика через бедро. Только сапоги в воздухе и мелькнули. Все успели только два раза моргнуть, а Остряжь лежал на спине и жадно глотал воздух. Легче всех отделался, только в голове шумит и в груди гудит, будто не сердце часто бьется, а в било бьют.
Безрод, тяжело дыша, медленно оглядел угрюмые лица дружинных, не пропустил ли кого. Парни стояли молча, не роптали. Всякий дурак свое получил.
– В долг не прошу, но долги возвращаю, – прошелестел Сивый над телом Остряжа. Двое приводили незадачливого битейщика в память. Остальных уже унесли в город, в дружинную избу отлеживаться. Коряге и Дергуню под бочок. Сивый нашел свой полушубок, набросил на плечи, тут же сдернул. Жарко. Так, волоча в ладони, и пошел в город. Руки дрожали, тело ныло. Бил бы насмерть – вышло скорее и легче.
Зима пошла на убыль. Все чаще Безрод стал поглядывать на восток, туда, где лежал Перекрестень-остров, а на нем стояло Торжище Великое. Пленные оттниры всю зиму ходили за ладьями, готовили к весеннему спуску на воду. Как настанет весна, часть полуночников обменяют на пленных боянов, соловеев, млечей, а те, что останутся, присягнут новому ангенну, которым для них станет Отвада. Рабы-то из них никудышные. Слишком гордые. Помрут, а меч на метлу не променяют. Да и слишком это расточительно, все равно, что подметать улицу хвостом жар-птицы. В ожидании весны Сивый часто сиживал на заднем дворе. Для воев стал своим. Часто приходили дружинные помладше, ровно к старшему брату, за тем, за другим. К воеводе боязно, словно к отцу идешь. Известное дело, отец и по шее накостылять может. Вот и шли к Безроду за словом, за делом. Сивый никого не гнал, но глядел на парней удивленно. У самого душа не на месте, все вверх дном, кому он может помочь? А однажды на задний двор пришел один из Неслухов. Мялся за спиной, переступал с ноги на ногу, наконец, кашлянул. Сивый замечтался, не услышал. Оглянулся, брови изумленно поползли вверх.
– Я тут это… – Неслух комкал в руках шапку. – Ну, в общем… Как бы это словами сказать… Ну, я слыхал, что тебе на человека только раз посмотреть… Вот князю помог…
До Безрода стало понемногу доходить.
– Никак жениться удумал по весне?
Неслух выдохнул.
– Ага! Как брат полег, мать обоих заклевала, женитесь да женитесь! И осени ждать не захотела. Мало ли, говорит, что.
– Ну, а я тебе зачем?
Неслух отчего-то зашептал, как будто могли подслушать.
– В сваты зову. Рука у тебя легкая, твой след удачлив. Ты на нее толечко глянь. Говорят, в душу глядишь, истину человека видишь, а с меня, дурня, что возьмешь? Смотрю на нее и ничего не вижу, только глазищи синие, синие. Может, глаза мне отводит, может злая она, может быть, я зачарован!
– А скажу, что зла – не возьмешь? – Сивый усмехнулся.
Неслух почесал затылок.
– Не-е! Все равно возьму. Только боюсь, если норов не вовремя явит – прибью ненароком. Мне бы загодя знать.
– Хорошо, пойду. – Безрод, криво усмехаясь, кивнул. – Третьим сватом, вслед за князем и воеводой.
На радостях Неслух сграбастал Безрода в медвежье объятие, сдернул с бревна и едва не раздавил о свою необъятную грудь. Сивый только поморщился. Здоров Неслух, ой здоров!
Сговаривал старшую Воронцовну сам князь. Мать ласточкой по избе летала, на стол метала. Глядишь, если все пройдет ладно да складно, и младшая дочь уйдет за младшим Неслухом. Воронец занимал гостей разговором, сваты расселись, как того требовал уклад. Князь первым сел, Перегуж – вторым, Сивый – третьим, все глядел на старшую Воронцовну и еле заметно ухмылялся. Как пойдет жизнь у молодых, все трое уже поняли. Двое улыбки сдерживали, князь не смог.
– Весел ты, князь, – наклонился к Отваде Перегуж. – Или Стюжень весну вёдрую напророчил?
– А? Чего? – Отвада будто очнулся. Сам наклонился к воеводе. – Понесла Зарянка. Поутру сказала.
– Да ну!? – Воевода едва со скамьи не вскочил.
– Вот те и ну! Хорошо бы мальчишка.
– Уж как расстарался! – ехидно подмигнул воевода. – Знать, хороши были сваты!
– Не обижу. – Князь, между тем, все изучал Воронцовну, потупившую глаза.
Добрая выйдет жена. Браниться будут обязательно. Неслухов не зря Неслухами прозвали, молчат, и делают все по-своему. Истину говорят, муж – голова, жена – шея. А как станет Воронцовна голову семьи в свою сторону вертеть, тут и найдет коса на камень. Не единожды будет бита, только легки и прозрачны сольются ее слезы, утекут вешними водами, и лишь ярче цветы станут. Безрод усмехался. Правду сказал Неслух на заднем дворе, не глаза – глазищи! В пол глядят, еще чуть – дыру прожгут. Сидит Воронцовна и ждет вопроса отца: «Пойдешь за старшего Неслуха, доченька?» И уже всем известно, что ответит. Быть свадьбе!
– Сильно не бей, – усмехаясь, наставлял Безрод Неслуха на заднем дворе после сватовства. – В раж не входи, не усердствуй. Добрая жена будет. Не сгуби.
– Да я тихонько. Слыхал, уходишь скоро? – пробормотал молодец.
Сивый кивнул и отвернулся.
– Значит, не ждать на свадьбу?
Безрод промолчал. Горюет, будто родного брата провожает в чужедальнюю сторону.
– И Рядяша по осени жениться удумал.
Сивый промолчал. Странная штука жизнь. Высеял по осени тоскливую угрюмость и равнодушную обреченность, а зимой пожал неподдельное уважение, крепкие плечи и сильные дружеские руки. Полно, боги! Бывает ли так?
Неслух тихонько ушел, оставив Безрода одного. Жаль, что воевода уходит. За таким воеводой ходить – себя уважать. Самое милое дело, если Безрод подпер бы Перегужа с правого плеча. И сам Перегуж опереться рад, да только ничего не поделаешь, уходит Сивый. Грустно улыбаясь, Неслух отступил. Неуютно стало, как будто в сечу без мечей пошел, с голыми руками. Несчастливая зима выдалась, брата потерял, теперь воевода уходит…
Глава 10 Жичиха
После трапезы Отвада заперся с Безродом в думной. С давешнего сватовства в доме у Воронца, князь пребывал сам не свой.
– Сынок, сынок! – Отвада тряс Безрода за плечи, то обнимал, то отстранялся поглядеть. – Ведь к жизни вернул! Тяжела Зарянка! Оставайся! Никому еще не сказал, только Перегужу. Брат у тебя будет!
– А вдруг сестра? – усмехнулся Безрод.
– Брат! – Князь даже бородой затряс. – Брат! Расшибец назову!
– А не боишься?
– При таком-то старшем бояться? На днях признаю тебя. Ох, чую, натворила жена покойная дел! Не все с рождением твоим чисто. Уж как от меня скрыла – ума не приложу!
Сивый помолчал.
– Уйду, князь. Ты теперь не один. Уйду.
– Все же уходишь?! – Отвада поблек и опал, будто сдувшийся бычий пузырь.
– Ведь не одного оставляю. По осени сынок следом пойдет. – Безрод хмыкнул. – Или дочка.
– Сын! – упрямо буркнул Отвада. – Сын!
Уткнулся лицом Сивому в шею и замер. Замер и Безрод. Опешил, будто вымерз. Так горюет, будто и впрямь сына провожает. Признать хотел, во княжение ввести, что ли? Да полно, боги, бывает ли такое?
– Князь, отдай мне…
– Отец! – глядя прямо в синие глаза, твердо изрек Отвада. Тяжелым княжьим словом хоть орехи коли. – Отец!
Сивый глядел исподлобья, и не мог заставить себя произнести такое простое слово. Будто колодки на язык навесили, лежит на зубах, не шевелится. Одно дело потрафить беспамятному, другое дело в здравой памяти сказать чужому человеку «отец». Безрод молчал. Язык будто умер.
– Ты прав. – Отвада спрятал лицо в ладони, огладил бороду и отступил в угол, где лавку скрывала тень. – Да. Какой я тебе отец? Мало со свету не сжил. Бери!
– Что бери?
– А что просил.
– Пленника просил.
– Ну и бери. А на что?
Безрод усмехнулся и промолчал. В тени, в углу печально усмехнулся и князь.
– Все счеты ведешь. А я-то, дурень, подумал, будто забывать умеешь, зла не держишь! А ты мне кукиш под нос, дескать, вот тебе, образина старая, кушай-укушайся! Ты ничего не забываешь, и никому не прощаешь… – Отвада тяжело вздохнул. – Впрочем, мне ли безгрешному сетовать?
Что говорить? И надо ли? Не разгорается в душе пламя, как ни старался. Не становится внутри теплее. Самому страшно. С таким холодком в груди только счастье искать! Встретишь его, а внутри ничего не отзовется, не зажжется. Упустишь, пройдешь мимо.
Безрод молча, исподлобья буравил темный угол.
– Которого тебе?
– Сёнге. Против меня в сече стоял. Последним упал.
– Чего сразу не прикончил?
– Не того хочу. Просто долг отдам.
– А велик ли должок?
Сивый угрюмо оскалился.
– Едва жив ушел.
– Не простишь?
– Нет. – Крепким Безродовым «нет» только сваи заколачивать.
– А не тяжко тебе, сынок? Душу не давит? Жить когда станешь?
Безрод уже уходил.
Сидя все там же, на заднем дворе, Сивый как-то углядел клин перелетных птиц, что летел с полудня. Медленно встал на ноги и, стоя, проводил косяк, утянувшийся на острова. Первые. Скоро весна. Глядел птицам вслед, пока их не скрыла туманная дымка.
– И так же ты вскорости. – Безрод оглянулся на грустный Стюженев голос. – Ровно птица перелетная снимешься в края обетованные. Птица, она ведь где теплее ищет, а человек – где лучше.
Ворожец тоже провожал взглядом клин. Глаза прищурил, ладонь к бровям пристроил, чтобы гляделось дальше.
– Тяжко, старик, ровно оставляю кого-то.
– Может и оставляешь. Жизнь в сегодняшнем дне не задерживается, дальше идет. Прошла эта битва, будут еще. Парни часто будут вспоминать, как им за тобой ходилось. Вспомнят, как стояли на Озорнице один-втрое и перебили силу силой. Им есть, что вспомнить. Тем, что остались…
– Может и загляну когда. – Безрод все глядел на море, в сторону, куда унесся перелетный клин. Там день ото дня стихали злые зимние ветры. – Свидимся еще.
– Говори, говори… – Стюжень грустно, понимающе улыбался. – А ждать все равно буду. Хоть и не дотягиваешь до моего Залевца, а как будто внук ты мне.
Хотел про Залевца спросить, да язык не повернулся. Поглядел на старика и отвел глаза. Сам не говорит – и не нужно душу бередить.
– Оттниры ладьи к походу готовят?
Сивый кивнул.
– И когда же снимешься?
– Еще одна забота на душе осталась. Последняя. А там и снимусь.
– Какая забота?
– Долг.
– Вроде все отдал.
Сивый помотал головой. Не все.
– Кому же?
Безрод помолчал, пожевал губу.
– Оттниру. Пленному.
– Помилуй.
– Убивать не стану. Я ведь жив. Просто долг отдам.
– На тебе воду возить, да пахать.
Сивый усмехнулся.
– Ничего, выдержит. Лишнего не дам, только долг верну.
– Весь в отца, – прошептал старик.
– Слишком тихо говоришь. Не слышно.
– И не надо.
Разговоры в сарае оттниров смолкли, когда Сивый закрыл собою заряничный свет в проеме двери.
– Сёнге, – позвал Безрод.
Полуночник, глядя исподлобья, неспешно подошел.
– Собирайся с духом, оттнир.
– Лучше убей. Я не боюсь смерти. – Гойг презрительно откинул голову.
– Хорошо. – Безрод равнодушно кивнул. – Дважды тебя бил. Быть и третьему.
И повернулся выйти.
– Стой! – скривив губы, бросил вслед оттнир. – Мне по силам то, что вынес ты. Третьему разу не бывать!
Сивый остановился на пороге и повернулся.
– Жалеешь, что не убил?
– Да! – ненавидяще выдохнул Сёнге.
Еще мгновение они кололи друг друга острыми взглядами, и Безрод, усмехнувшись, вышел. Сёнге угрюмый вернулся на сенное ложе.
– Давно знакомы? – Сосед, средних лет урсбюнн задумчиво жевал соломинку.
– Пять зим. – Сёнге откинулся на солому и вперил взгляд в потолочный тес. – Пять зим тому назад этот сивый был в моих руках.
– И что?
– Задолжал я ему, – скривился гойг. – Нынче долг взыщет.
– И много должен?
– Жизнь едва не отобрал. С ноготок оставил. Но он выжил. – Должник обреченно усмехнулся. – Выживу ли я?
– Крепись. Тнир с тобою.
Сёнге мрачно кивнул. Урсбюнн пожевал соломинку, выплюнул.
– Я тебя в трусости не уличал. И спина к спине с тобою встал бы. Хоть и против сотни.
– Честные слова.
– Что станешь делать?
– Спать! – Сёнге ощерился. – Да, спать!
Отвернулся и зарылся в сено. Что должно быть, пусть будет.
Сивый, бездумно глядя в пол, правил на бычине нож. Надоело, все надоело! Сам от себя устал! Устал от злой памяти, которая не хочет уходить. Отпустил бы этого рыжего дурня Сёнге на все четыре стороны, плюнул бы и отпустил, но теперь нельзя. Начал долги раздавать – раздавай всем. Чем Коряга и остальные хуже? Дурень Коряга, столько народу подставил! Если бы не млеч, никто не пострадал. Наверное, потому и выжил пять лет назад, что питал надежду на эту встречу. Надежда жизнь сохранила, дала силу выжить.
– В долг не прошу, но долги возвращаю, – шептал Безрод в работной клети Вишени. Уже мимо ножа глядел застывшими глазами, в никуда.
Правил нож до тех пор, пока Вишеня за руку не оторвала. Сама измоталась до предела, но последние силы отдала, затопила в любви да ласке, и мгновения не оставила на мрачные думы. Сивый был гончаровне до того бессловесно благодарен, что заполыхала баба на ложе, мало голой грудью в снег не бросилась. Заснула со счастливой улыбкой.
Сёнге не видел снов, будто в бездну провалился. Черно кругом, ни звуков, ни запахов. Даже сеном не пахнет, собаки не лают, доски не скрипят. Глаза открыл – а уже солнце встает. Наверное, Тнир глядит с небес, раздумывает, брать ли Сёнге по смерти в свою дружину? Гойг расправил плечи, откинул голову. Говорили, будто ходит по земле воевода Тнира, Ёддёр, оглядывает храбрецов, отбирает в дружину. Как увидишь его, значит пришел твой черед. Руби сильнее, кричи громче. Знающие люди говорили, будто глаза его пронзительно сини, как небо летом, волос бел, что облака, усы, точно ржаной колос, а борода рыжая. Если покажет на тебя пальцем и улыбнется – будешь пировать в Тнировом воинстве, мимо пройдет – жив останешься, головой покачает – не бывать тебе в дружине Тнира. Все искал тогда в сече Ёддёра, кричал, бил, ревел. Не увидел. Стало быть, нынче ночью появится.
Сёнге ушел в угол, сидел в полутьме, не говоря ни слова. Ему не мешали. Человек с белым светом прощается. Лишь однажды подсел тот урсбюнн, Ветреск, толкнул в плечо.
– Выдь на солнце. Увидишь ли еще?
Сёнге угрюмо кивнул. Все правильно говорит Ветреск, только перед смертью не надышишься! Лишь помирать жальче станет. И все-таки вышел за порог, вдохнул морозный воздух полной грудью. Наверное, никогда еще зимний воздух не был так вкусен. Сел в сугроб у порога и улыбнулся солнцу, горстями черпал снег и умывался. Нынче ночью подойдет Ёддёр, улыбнется, поманит рукой и уведет от земных болей в дружину Тнира. А снег земной тоже вкусен! Кто сказал, что у снега нет ни вкуса, ни запаха?
На заходе солнца Безрод вошел в сарай к оттнирам.
– Готов ли ты, Сёнге?
– Да.
Трое пленных оказались родичами Сёнге, и все трое пять лет назад стояли на каменистом берегу рядом с рыжим гойгом. Они и рассказали остальным, что ему предстоит ночью. Самый старый из оттниров, Греенно, заговорил из полутемного угла.
– Это справедливо. Седой – ты достойный враг. Но и наш Сёнге не из пены сделан. Он выстоит и утрет тебе нос.
– Пора бы. Уж сколько времени соплив хожу. Подтиральщика все нет.
– Обещаешь ли ты боян, честное испытание?
Сивый ухмыльнулся и промолчал. Вот еще! Обещать!
– Я готов. – Сёнге сбросил полушубок. Ехидно оскалился. – Ведь и ты был в одной рубахе?
– Да. И мечом укушен трижды. Забыл?
Полуночник встал на пороге и, не оглядываясь, вышел. Сивый шагнул было следом, но вернулся с полдороги.
– Ты, – показал пальцем на Греенно. – Тоже пойдешь.
– Пришел аппетит во время еды? – Голос гойга сочился издевкой. Греенно встал, сквозь зубы процедил. – В рубахе, или как?
– Или как. Зубы спрячь, гойг. И сильно голову не задирай, шея треснет. Верховку надень!
Греенно, гордо откинув голову, вышел. Оттниры на весь сарай затянули старую боевую песню, ее подхватил гойг, вышел на улицу, передал Сёнге и тот потянул низким, сильным голосом.
– Я тоже пел? – усмехнулся Безрод. – Что-то не припомню.
Сёнге не ответил, лишь покосился краем глаза, продолжая петь. Безрод подвел обоих к городским воротам и тут гойг, изумленный, замолчал.
– Чего встал?
– Помнится мне, пять лет назад на холме Дорсйок от факелов было светло как днем. Твои соплеменники не станут смотреть?
– Это касается только нас.
Сёнге покачал головой, остановился у ворот, сел прямо в снег.
– Все должно быть, как тогда. Я не уступлю тебе ни единого человека.
Сивый усмехнулся.
– Может быть, и стражу к лодке приставить? И приказать в сторону леса не глядеть? А если увидят ползущего человека, пусть делают вид, что никого нет?
Сёнге упрямо твердил.
– Твои соплеменники увидят храбрость оттниров. Они умолкнут так же, как пять лет назад умолк изумленный холм Дорсйок. Я отдам долг до единого человека.
– Скольких звать?
– Сотню воев.
Сивый ухмыльнулся, отдал полуночников страже под присмотр, сам ушел на княжий двор и скоро возвратился в голове целой дружины. Князь пожелал самолично зреть «сыновний» суд, был мрачен, недобро поглядывал на оттниров. Вои пошли бы за Безродом хоть на край света, не то, что за ворота. Сивый только встал посреди двора и громыхнул: «Нужна сотня воев. Будем правду искать!», а двор уже запрудили. Среди воев шел и Стюжень, за ним послали особо.
Безрод вывел судный ход за ворота, в лес и подвел к валежине, один конец которой лежал на земле, а другой конец подпирала толстая рогатина. Сивый, раскинув руки в стороны, остановил дружину. В лесу повисла тишина, и только снег скрипел под сапогами, да светочи потрескивали.
– Пять лет назад я попал в руки гойга Сёнге. Взяли меня в плен беспамятного. – Безрод повернулся к Сёнге.
– Да. Так было.
– Я бился до последнего дыхания и надеялся на скорую смерть.
– Да. Так было. Многие полегли под мечом седого.
– Но боги оставили меня жить.
– Да. Так было.
– И лучше бы я пал в той сече.
Оттнир промолчал.
– Нынче взыщу долг пятилетней давности. Уж так боги рассудили, что это было как раз пять лет назад, ночь в ночь.
– А что собственно было? – князь выступил вперед.
Безрод ухмыльнулся, сбросил полушубок, оглядел воев, снял сапоги, закатал широкие штаны до самого паха. Вои тяжело сглотнули, напряглись, у иных глаза вспыхнули злобой. Сивый сбросил рубаху и дружинные похватались за мечи. Рядяша замычал, Отвада заскрипел зубами, Неслухи шумно выдохнули. Безрод подошел к валуну, что лежал недалеко, напрягся и вздернул камень над головой. Дружинные, вся сотня, будто вымерзла. Пожалели боги жира на Безрода, получился сух, как постная вепревина. Кости да мясо, всякая жила на глазах. Напрягся Безрод под валуном, и будто повторяя обводы плоти, по всему телу разбежались шрамы. Страшные, толстые, будто ужи. Словно Безрод когда-то стоял под таким же валуном, и кто-то ножом чертил прямо по телу, водя острием по рукам, ногам, груди. Четко расписал грудь на две половины, живот расчертил на восемь частей, руки, ноги, спину, шею, лицо…
Сивый бросил камень и тяжело вздохнул.
– Вот, что было. А когда я остался один, увел лодку и уплыл. Недосмотрел Сёнге. Не думал, что смогу.
– Да. Так было, – мрачно кивнул Сёнге.
– Жив останешься, дойдешь до лодки, – Сивый махнул к морю. – Плыви, как я уплыл. А помрешь в море – себя вини. Значит, и в третий раз я одержал верх.
Оттнир задрал голову в небеса, зашептался с Тниром.
– А если уронит валежину? – Щелк оглядел бревно со всех сторон. – Да прямо на тебя?
– Значит, такова моя доля. Иначе никак Сёнге меня не убить. – Безрод ухмыльнулся, покосился на гойга.
– Я выстою, боян, даже не надейся! – фыркнул оттнир и гневно сверкнул бледно-голубыми глазами.
– Значит, уйду целым. – Сивый хмыкнул. – И на том благодарю.
– Нет уж! – мотнул головой Рядяша. – Сам позади оттнира встану. Береженого боги берегут.
– Не встанешь! – твердо отчеканил Сивый. – Это наше дело. Пять лет назад никто не подпирал.
Безрод подошел к Сёнге.
– В лодке весла и овчинная верховка. Все, как тогда. Готов?
Оттнир вместо ответа презрительно сплюнул под ноги, сорвал с себя рубаху, сбросил сапоги, закатал штаны до самого паха. Ушел под валежину, замер на мгновение и глубоко вдохнул несколько раз.
– А ты гляди, гойг. – Безрод повернулся к Греенно. – Все подмечай, да своим расскажи.
Греенно хмуро кивнул.
Валежину окружили дружинные со светочами. Оттнир уперся руками в ствол, Щелк выбил подпорку, и Сенге заскрипел зубами. Лицо исказилось, пошло морщинами. Еще мгновение назад лицо было лицом, теперь же – личина, рот оскален, глаза как щелочки, жилы на шее и лбу вздулись. Весь затрясся, задрожал. Дерево хотело упасть, но человек не давал. Валежина давила своей мертвой тяжестью, грозила смять, перемолоть кости. Сивый ухмыльнулся, не торопясь, обошел вокруг, достал нож, обтер куском кожи, попробовал на ветке.
– Чего тянешь? – Отвада повернулся к Безроду. – Так было?
– Да.
Сивый подошел к оттниру, присел на пятки. Сёнге хрипел, его трясло, вот-вот уронит. Безрод очертил острием сначала лодыжки, потом голени, расчертил лезвием бедра. Обильно текла кровь, все ноги Сёнге были в ее потеках, оттнир ревел, ровно бык на заклании. О-о-о, как он теперь понимал Безрода! Душа обмирает, когда красное от крови лезвие подходит к телу, от ожидания жгучей боли сердце начинает лихорадить. Потом приходит сама боль!
Сивый расписал живот Сёнге, очертив каждую выпуклость, обозначил каждое ребро, расчертил всю спину. Сёнге уже хрипел – сел голос – тела не стало видно под кровью. От полуночника валил пар, будто на мороз выставили кипяток. Безрод расчертил грудь надвое, несколькими взмахами расписал шею, отряхнул нож и навис над самым лицом. Глаза Сёнге оледенели, глядели с мукой в никуда, щеки тряслись, губы дрожали. Оттнир не смел даже глаз прикрыть. Боялся упасть. Часто-часто задышал и когда нож прочертил морщины у глаз, вокруг носа и на лбу, глухо завыл.
Вои забыли дышать, рты пораскрывали. Рядяша под шумок все же подпер валежину, сразу за Сёнге. Думал, не видит Безрод. Мрачно улыбался и теребил пояс. Стюжень шептал: «Дурень, Коряга, дурень!», Отвада исподлобья хмуро бычился.
Сёнге уже не выл – сипел. Оттнир все-таки закрыл глаза, чтобы кровь не заливала, и прошептал: «Скорее, скорее!»
– А я ведь не хрипел, – ухмыльнулся Безрод, нахмурился, и, как будто припоминая, свел брови. – Что же я делал?
Из последних сил рыжий гойг запел, даже не запел – заскрежетал:
Девы полуночи, стройные жены,
Дочери Тнира в злато ряжены,
Длинные косы, кожа бела,
Плещутся синью небесной глаза…
Сивый усмехнулся и быстро расчертил ножом руки оттнира. Сёнге открыл глаза, запрокинул голову, багровеющим взором огляделся вокруг, нет ли Ёддёра? Не идет ли воевода Тнира, забрать его в дружину небесного ангенна? Не осталось больше сил! И вдруг по рядам дружинных пронесся ропот. Неизвестно откуда вышел человек, вои никогда его не видели – глаза синие, ровно небо летом, волос бел, будто снег, усы цвета соломы, борода горит, точно крашенная охрой. Вои расступились, человек встал рядом с Безродом и Сёнге, взглянул обоим в глаза. В залитые кровью глаза Сёнге и стыло-серые глаза Безрода. Вои напряглись, замерли. Начали узнавать, раскрыли рты. Гуляет молва, только своими глазами видеть не доводилось. Здесь, на земле боянских богов расхаживает воевода Тнира? С миром пришел, потому и молчат боянские боги. Пусть заберет душу оттнира, видать, помирать удумал. И такой стужей повеяло от краснобородого, что дружинные зубами заскрипели. И только Сивый глядел на чужака спокойно.
Сёнге углядел Ёддёра, весь просиял. Что скажет? Влиться ему в ряды Тнировой дружины, или нет? Улыбается Ёддёр или хмурится? Безрод и Ёддёр глядели друг на друга, Сивый холодно, Ёддёр понимающе.
– Ты памятлив, боян.
– Знаю.
– И безжалостен.
– Тебе виднее.
– И справедлив.
– Может быть.
– Похож на отца.
Безрод перестал дышать.
– Ты знал моего отца?
Боги оттниров и боянов – братья, вскормленные на одной правде, знают друг друга как облупленные. Но Ёддёр уже отвернулся к Сёнге. Постоял, поглядел на гойга, полумертвого от напряжения и боли, ничего не сказал и ушел. Не улыбнулся, и головой не покачал, ушел в лес и будто сквозь землю провалился. Вои оглянулись глазами проводить, а Ёддёра уже нет. Оттнир останется жить. Эта ночь не его.
Сёнге под бревном ходуном заходил. Сивый зашел со спины, отогнал Рядяшу от валежины и пнул оттнира ногой. Полуночник вылетел из-под бревна, ровно стрела с тетивы. Свежий снег под оттниром тут же покраснел, напитался кровью и таял в красную лужицу. Взбив облачко снежной пыли, дерево ухнуло рядом. Сёнге лежал неподвижно, красное на белом. Безрод снегом очистил нож от крови, в сторону оттнира даже не глядел. Молча обулся, надел рубаху, накинул верховку и зашагал в город. Впереди, гордо вскинув голову за себя и лежащего Сёнге, шествовал Греенно. Дружинные вытянулись цепочкой и по-одному вставали на следы Безрода. Уходящий последним, Стюжень покачал головой, крякнул, наклонился над Сёнге и развернул полуночника лицом к морскому берегу, где плавала-качалась на волнах лодка. Утро вечера мудренее.
Словно камень отвалился с души, унес неизбывное тягло пяти лет ожидания. Как будто часть души забрал. Сивый шел в город и сам не понимал, легко на душе или пусто, как в испитом кувшине? С одной стороны легко, ведь теперь ничто не держит на боянском берегу, зовет морская дорога, уже задули попутные ветры. А с другой стороны пусто, отчего-то нет радости от взысканного долга. А может быть, души вовсе нет, потому и пусто? Легче убить, чем резать. Впрочем, не сам выбирал – другие за нож взялись.
Жизнь и смерть рядом ходят, боль и радость – сестры. Всю ночь от душевной пустоты, от смертельного холода в тепло бежал, о Вишеню грелся, из рук не выпустил. Не меряя, черпал жизни из бабьей души, и не мог заполнить пропасть. С блаженной, но донельзя измученной улыбкой Вишеня уснула только под утро, Безрод забылся и того позже.
Утром гончаровна поднялась тяжело. Под глазами высыпали синяки, глядит устало. Не просто ей далась эта ночь. Ни слова не сказала, но и сам не дурак. Сивый усмехнулся. Тяжелая ноша – пустая, холодная душа. Не всякая вынесет.
Отвада прислал за Безродом отрока, дескать, пора, на лобное место сходить. Сивый хмыкнул и первым вышел за ворота. Кровавая дорожка вела по снегу прямиком на берег. Стюжень усмехнулся. Оттнир пополз туда, куда голова лежала, а если бы вчера остался лежать головой в лес? Уполз бы в чащобу, скормил себя лесному зверью. Смилостивились боги. Ночью метели не было, снег не шел, морозец поутих. По кровавому следу пришли к самому берегу. Лодки не было. Ушел Сёнге. Если хватит ума и здоровья – недалеко уйдет, в лесу отлежится. Сухожилия остались целы, вен лезвием не трогал, уймет кровотечение как-нибудь.
Сивый отвел хмурого Греенно в сарай – гойг не знал радоваться или печалиться – и собрался было уходить, как его окликнул невзрачный, жилистый полуночник. Выскочил следом за порог.
– Я слыхал, ты сирота?
– Тебе-то что за печаль? – огрызнулся Безрод.
– Да я тоже. Нет никого на островах. Никто не ждет.
– А мне что с того?
– Ангенну твоему присягну. Останусь.
– Ты сам себе хозяин. Дело ко мне?
– Несколько раз видел тебя на торгу с бабой. Статная такая. Волос пшеницей отливает…
Безрод нахмурился. Вишеня?
– И отец при ней всегда. Бойкий старик. Что за баба?
Сивый спрятал улыбку в бороду. Тычок и Жичиха! Вот те раз!
– Что, урсбюнн, баба понравилась?
– Да. – Пленник почесал затылок. – Осяду. Она замужем?
– Нет, свободная.
Оттнир мялся.
– Сосватаю, – буркнул Безрод. – На седмице и сосватаю. Того ли хотел?
– Да. – Рыжий урсбюнн испустил такой вздох облегчения, как будто в одиночку одолел целую дружину.
Тычок ужом вертелся, то одно к столу поднесет, то другое. Старик веселел, когда Безрод заглядывал в гости. Метнул на стол масло, которое сам сбил, грибы, что сам солил, пива хмельного, гуся жарко го. Жичиха незыблемо восседала против Безрода – хозяйка. И никак Сивый не мог понять, молода баба, или в годах, красива, или нет? Дородна, но не слишком, как будто красива, лишь бы брови не сводила и не хмурилась. Была бы баба, а охотник найдется. И голос низкий, говорит, а будто из бочки слышится. Уже третью свадьбу устраивает за зиму. Сват!
– Здорова ли, хозяюшка?
– Богами крепка, боками вертка. Благодарствую. – Жичихе льстило, что воевода засадной дружины в дом захаживает. Не одной Вишене, вертихвостке, справных воев привечать. И как тут не пройтись по концу, задрав нос на зависть соседям?
– Наверное, нелегко с балаболом? – Безрод кивнул на Тычка. – Ни проку, ни прибытку, да и быть ли старцу прытку?
Жичиха сложила пред собой ручищи, толстенные, будто колбасы, хитро прищурилась и паточно так спросила:
– Ох, издалека зашел, дорогой гость! Уж сколько раз бывал, а все не распробую тебя на душу. Хитер больно.
– Не без того, хозяюшка. Да и я который раз твой разносол вкушаю, никак в толк не возьму, для кого хоронишься, для кого бережешься? И статью завидна, и ликом ви дна, издалека видно, ну просто обидно!
Жичиха пригубила чару, вытерла алые губы полотенцем и ухмыльнулась.
– А боятся!
– Чего ж?
– На руку тяжела, да норовом крута, – и так взглянула на Тычка, что старик попятился на своей скамье.
Все-таки Жичиха больше молода, чем в годах. Ни единой морщинки на гладком лице. А все равно парни за перестрел обходят. Вот и засиделась бабища в девках. Впрочем, наш женишок тоже не лыком шит. Ясное дело пороть станет, пока дурь не выбьет. И с добром!
– Уж не сам ли клинья подбиваешь? – Жичиха плотоядно оскалилась. А зубы у нее ровные, будто частокол на княжьем дворе. Стрелу перекусит. – Никак Вишенька надоела? Переел постнятины, и на сочное потянуло?
Да уж, бабища в самом соку! Но как бы кости не сложить в охоте за сочным мясом. И мокрого места не останется. Пожалуй, не было у оттнира битвы тяжелее.
– Не жених я нынче.
– А кто? – Жичиха осушила чару, глядя поверх. – А речи странные ведешь!
Сивый подмигнул Тычку.
– Я менщик!
– И что меняешь?
– Одного молодого на одного старого. – Безрод, улыбаясь, поднял чару за здоровье хозяюшки. Жичиха замерла и перестала дышать. – Пришел и твой час, красавица.
Баба обмерла. А ведь уже отчаялась! Как только норов по углам не прятала, все равно наружу лез, парней стращал. Зараза, а не норов! Сдерживалась, как могла, женихов привечала, да только удержишь ли кота в мешке? А когда под горячую руку попал Глубочень, молодцы позабыли сюда дорогу. Хорошенькое дело – так приложила, что человек памяти лишился! Много ночей проплакала в перину, все губы искусала. Как будто ворота кто-то дегтем вымазал! Погоревала-погоревала, да и озлобилась, отпустила норов. Махнула на себя рукой, перестала сдерживаться, стала весела, как раньше, хохотлива. Парни глядели, как кот на рыбу, но женихаться не ходили. Боялись. И вот!
– Кто?
– Вой.
Жичиха дар речи потеряла. Только кивнула. Веди.
– А как замуж выйдешь, Тычка с собой заберу.
Она кивнула. Если будет свадьба – забирай.
– Днями просватаю. Вот присягнет князю, и просватаю.
Тычок, сказать просто сиял – половину утаить. Едва дырку в скамье не провертел тощим задом.
Князь объявил пленным просто, кто хочет остаться – оставайся. Присягни на крови, и оставайся. Тринадцать полуночников, кого на островах ничто не держало, решили остаться. Отвада недовольно морщился. Это ж надо, тринадцать! Хоть пореши тринадцатого! Позади довольный стоял Чаян. Боярин сиял, как полуденное солнце. А как понесла Зарянка, едва не летал старый. Ну и что, что тринадцать? Кому злосчастья, а Отваде-зятю удачи прибудет с нечетной дюжиной!
– Вихры пригладь! – буркнул недовольный Перегуж. И присягнуть не успел, а ты ходи, сватай, ровно своего!
– Не ершись, воевода. Корни пустит – спину тебе подопрет.
– Если пустит! – рявкнул воевода, и незаметно для урсбюнна заговорщицки подмигнул Безроду. – Не убив глухаря, уж перья щиплем. Переживет годик, там и видно станет.
Урсбюнн замедлил шаг, тяжело сглотнул.
– Дура баба. Не просто так в девках засиделась. Да и чему дивиться? До сих пор Глубочень ходит, на тень косится. Бабища-то норовом крутища! Ровно в битву провожаю. Не стризновать бы!
Жених помрачнел, на лицо набежала тень, закусил ус, чуть с шага не сбился.
– Уже и назад не сдашь. Неудобно. Ждет, как никак. – Перед самым порогом Перегуж почесал затылок. Подмигнул Безроду. – Эх, была не была! Семи смертям бывать, одной не миновать!
Урсбюнн замер. Он часом не ошибся с выбором? Воевода говорит, за невестой битые есть?
Жичиха сама встречала сватовство. Низко, в пояс поклонилась Перегужу, Безроду, бросила косой взгляд им за спину, выглядывая своего нареченного. И обмерла. Никого не увидела. А где жених? Неужели попятного дал? Воевода и Безрод переглянулись, раздались в стороны, и глазам невесты предстал будущий муж. Ростом… Короче Безрода на полголовы, за Перегужем и вовсе не видать. Жичиха вдохнула и забыла выдохнуть. Замерла пред сватовством горой, и возмущенная душа расперла грудь, ровно кузнечный мех.
– Прошу гости дорогие, – отчеканила невеста сквозь зубы.
Помнится, мама говорила «стерпится-слюбится». Ой, мама, с этим, кажется, не стерпится и не слюбится! Но делать нечего, уж замуж невтерпеж. Впрочем, Безрод говорил, будто этот недомерок всамделишный боец. В сече не последним был, если выжил. Видать, боги телесную мощь ему на дух сменяли. Может быть, в нем духа на двоих заключено? Вон, глазами зыркает, ровно огнями жжет. Ой, бедная ты мамкина дочка!
За столом урсбюнн помалкивал, просто слушал, как сватовство идет. Жичиха все косилась на полуночника, а ему казалось, что невеста мало не облизывается. Но, кажется, баба добрая. Настоящая жена вою.
– Мы купцы, у тебя товар, – умасливал Тычка Перегуж. Тычок смешно делал озабоченный вид. Единственный мужчина в доме, ему и сидеть во главе стола. И сговаривать красную девку тоже ему. – У тебя утица, у нас селезень.
«Утица» смерила «селезня» с ног до головы, презрительно фыркнула и нарочито отвернулась. «Селезень» будто окаменел, лишь крепче стиснул зубы.
– А люб ли тебе, Жиченька, ясный сокол? – ехидно улыбаясь, вопрошал Тычок.
– Люб! – Таким «люб» только к злым богам и посылать.
Сказала – будто гром ударил. И глазами так сверкнула, что рыжему храбрецу стало не по себе. Так страшно было только перед первой битвой.
– Ну, вот и ладушки! – поднялся с чарой Перегуж. – А по осени и свадебку сыгра…
– Нет уж! – Хозяйка встала из-за стола, а ложки, плошки, чары так и заходили ходуном. – Теперь же! Чтобы при живой невесте жених в сарае жил?
Перегуж выразительно посмотрел на урсбюнна и глубоко вздохнул. Дескать, не враг погнал, сам того хотел. Сватовство засобиралось восвояси. С порожной чарой вышел в сени Тычок. Весело подмигнул Безроду. Сивый в ответ ухмыльнулся.
– Доброго пути, сватовство почтенное, – подал старик чару Перегужу.
– А вам счастливо оставаться. – Воевода пригубил первым, передал Безроду.
– Дверь открытой не держи, счастье не упускай. – Сивый осушил чару, плеснул в угол долю избяного, остальное в небо – Ратнику.
Гюст возвращался в сарай смурной, хмурил брови, тревожными предчувствиями был полон по самую макушку. Хмурился-хмурился, а у самых ворот расхохотался.
Свадьбу сыграли днями. Выкуп за жену урсбюнн дал поистине щедрый – все что было. Отдал за жену золотое обручье, серебряный перстень, а косу выкупил за боевой нож с золотой рукоятью. Дружинные приняли Гюста, на свадьбе пели песни, плясали. Сивый глядел на них и ухмылялся. Прошла зима, а парни постарели, будто на полжизни. Помудрели. Давно ли невиновному отказали в правде, и давно ли беспояс в сечу водил? Судьба порой такое учудит… Все под богами ходят.
Был князь, поднял чару за счастье молодых. Удивлялся, дескать, не успел присягнуть, а уже корнями пророс в новую землю. Поглядел на Жичиху, укутанную с ног до головы, съехидничал, мол, теперь ясно, куда корни пустил. От дружного хохота едва крышу не снесло. Безрод усмехнулся. Показалось, будто под покрывалом что-то блеснуло. Может быть, молодая искры из глаз мечет? А еще Отвада пожелал, чтобы теми корешками прирастала дружина. Жичиха шумно выдохнула под своим покрывалом. От всеобщего хохота едва светочи не задуло.
Безрод сидел на заднем дворе. Тычок быстро умаялся, от радости был сам не свой. напился в два счета. Сивый увел балагура к Вишене отсыпаться, благо изба большая, не стеснит. Сам же пришел на задний двор, сел на свое бревно. Вот и все. Теперь дело осталось за ладьями. Как только будут готовы, лягут под киль холодные волны, а паруса надует ветер. Не сегодня-завтра примет ладьи синее море. По-прежнему беспояс, меч приходится в руке носить. Отвада то грустит, то веселится. Грустен, потому, что «сын» уходит, веселится, потому что сын приходит. Ох, доля-долюшка, шутишь так, что сердце останавливается, а помирать ведешь – в груди песня играется! Просидел на бревне до самого утра, зарю встретил. В груди бушевало – все равно не уснул бы.
Оттниры вовсю готовили ладьи. Одна радость осталась – повозиться с граппрами. Конопатили, смолили, красили.
Тычку собраться – только подпоясаться. Все Тычково уместилось в махоньком узелке. Старик поглядывал на море, а глаза слезой туманились. Больше не таскал на торгу – люди сами давали. Спросили как-то:
– Сбыл с рук Жичиху, а, Тычок?
Хитрец присел подле, и горемычно так покачал головой.
– Негоже смеяться, люди добрые. Тяжко ей нынче.
– Ей? Не путаешь? Может быть, ему?
– Нет, ей! Вой, сами знаете: Еду-еду,свищу, а наеду – не спущу!
– Ну и что?
– А ничего! – Тычок горестно вздохнул, спрятал в землю хитрые глазки. – Подъезжает! Свистит покамест!
Сколько было людей на торгу, все со смеху покатились. Пока торговка сластями слезами заливалась, да живот надрывала, Тычок преспокойно стащил с лотка медовый петушок и дал деру, не очень, впрочем, скрываясь. Хотела было торговка шум поднять, да рукой махнула. Не до того. Живот бы со смеху не надорвать. Да и шут с ними, с петушком и Тычком. На здоровье. Вот уж рассмешил!
Думали, ради красного словца Тычок соловьем заливается. А только через седмицу после свадьбы истошный бабий клекот переполошил ночью весь гончарный конец. Какая-то страдалица орала, будто резаная, а из ворот по всей улице высунулись любопытные, что в свете делается? В одной исподнице простоволосая, растрепанная баба неслась по снегу босиком и орала, размазывая слезы по лицу. Как будто сам Злобог на пятки наступал, грозился живьем сожрать. Безрод мгновенно взвился на ноги, оторвался от теплого Вишенина бока, надел штаны, рубаху, выскочил за дверь. И только раскрыл ворота, баба как будто того и ждала, нырнула внутрь, и с криком забежала в дом. Чуть не растоптала, едва увернулся. Насилу признал Жичиху. А на другом конце улицы, ревел хриплый мужской голос. Безрод усмехнулся, горлопан скоро будет здесь. На счет раз-два вылетит из-за угла, там и поглядим, что за зверь. Хотя чего гадать, и так ясно.
– У-у-убью, стерва! – Из-за угла выметнулся Гюст, тоже босой, в одних штанах.
Сивый едва сдержал смех. Перед самой свадьбой оттнир спросил, как ему по-боянски осаживать жену, если та вдруг явит норов. Безрод, особо не раздумывая, и присоветовал. Оттнир недолго ждал. Употребил. Соседи, торчавшие в воротах, в большинстве своем мужики, осенялись знамением Ратника, да посмеивались.
– Слава Матери-Земле, вот и вышла баба замуж. Слава тебе, Мать-Земля, что родит да питает, добром не оскудевает!
– У-у-убью, коровищ-щу! На м-м-мясо, свинью пущу!
Безрод улыбнулся. А это уже сам придумал. Никто не подсказывал. Сивый скрылся в тени ворот, а когда Гюст пробегал мимо, прыгнул на спину, чисто лесной кот, сбил с ног, сунул носом в снег.
– Охолони, боец! – Увещевал Безрод. Оттнир жевал снег, неразборчиво мычал и тряс головой. – Совсем бабу со свету сжил. Сама не своя в избе схоронилась.
– У-у-убью, буренку! – Гюст выплюнул снег. Порывался вскочить, но Сивый сидел на спине и не давал. Согласно кивнул.
– Совет да любовь. Мать-Земля в помощь.
Вокруг собрались соседи.
– В чем дело?
Оттнир поостыл, перестал дергаться, и Безрод отпустил молодожена.
– Так в чем дело?
– Да говорит… – Гюст оглянулся на толпу зевак, умолк, поманил Безрода пальцем и что-то сказал на ухо.
– Да-а-а! За это и убить мало! – покачал головой Безрод, пряча усмешку в бороду.
Гюст поднялся на ноги, отряхнулся, глянул на распахнутые Вишенины ворота и сквозь зубы бросил:
– Пусть немедля домой идет. Там разберемся.
И ушел. Мужики-соседи громко кричали вослед, смеялись, подбадривали, тут же направились к кому-то бражничать. Надо же, неприступная Жичиха огребла-таки свое, нашла счастье. Ну, как за такое не выпить?
Безрод вернулся в дом, прошел в избу. Сидят, ровно две подруги. Жичиха пьет, не напьется, икота бабу разбила. Икота бабу разбила, а кулак Гюста – ее нос. Сидит, глотает кровавые сопли, под глазом синяк зреет, силой наливается. Еще день-два и станет Жичиха полосатая, синее по белому, словно крашеный лен на торгу. Безрод усмехнулся. Видать, с первых дней взялась мужа в бараний рог скручивать, слова сказать не давала, недовольство являла и вот нынче распустила руки. Ручищи. Смех один, чем не угодил. Ну, чем маленький муж не годит большой жене? А Жичиха, разъяренная, распаленная, возьми да и брякни все сдуру. Что на уме водилось, на языке появилось. А ко всему прочему наотмашь мужа ударила. То-то челюсть у него распухла, хорошо в снег вовремя сунул. Что было дальше, Сивый догадывался.
– Ой, сват, сватюшко! – запричитала Жичиха, едва увидела Безрода. – Ой, кого ты мне сосватал, истинно Злобог! Ой, мне, сама дурища! Не люб он мне был, зачем пошла? Ой, матушка родная, насилу ноги унесла, чуть жизни не лишил!
Вишеня, наконец, уняла кровавые сопли, и Сивый разглядел страдалицу при маслянке. Вовремя убежала. На самом деле прибить мог.
– Толком рассказывай! Хватит причитать!
– Ой, сват, сватюшко, и слова ему не скажи, то ему не так, это не эдак… – Жичиха оборвалась на полуслове, уставилась в угол, как будто там стоял Гюст, и прошептала. – Не пойду домой! Не пойду!
– Меду принеси. – Сам сел подле Жичихи, набросил ей поверх исподницы верховку. – Да что стряслось?
– Ой, оборони, воевода, ой, защити… – Жичиха никак не могла унять икоту. – Не пойду домой, не пойду!
Безрод передал зареванную бабу в руки Вишене. Толку от Жичихи сейчас никакого, а в ласковых Вишениных руках битая жена размягчеет.
– Я к Тычку. Там сночую. Обиходь ее.
Вишеня кивнула.
Тычок притащил из подвала меду, хитро подмигнул Безроду и обстоятельно повел рассказ, косясь на горницу. Должно быть, спит Гюст, умаялся.
– Сам удивляюсь, что он целую седмицу вытерпел. Зверем глядела, поедом ела, говорит, навязался на мою голову, недомерок. То, что не красавец – это душе мучение. И ладно бы только душа страдала. Так ведь и тело мается. Говорит, что раньше в девках была, что теперь замужняя – все едино. Ничего не изменилось. А когда он попросил воды принести, ровно обезумела баба. Орать начала. Кричала, дескать, колодец во дворе, сам иди! Говорит, никогда ни за кем не ходила и теперь не станет. И ка-а-ак даст ему по сусалам! В горнице что-то брякнулось.
Сивый усмехнулся. Известно, что брякнулось.
– А я будто чуял. Говорил ей давеча, остерегись, Жиченька, не доведи до беды. Отмахнулась, дурища. Зубы мне заговорила. Говорит, коровы у тебя ухожены? Отвечаю, конечно, ухожены! Поены, кормлены, доены, разве колыбельную не спел. А когда второй раз у них загремело, сначала тихо было, а потом ка-а-ак даст Жичиха визгу! И опять что-то брякнулось. Только в этот раз… – Тычок хитро подмигнул, – изба вздрогнула. Вбегаю в горницу, а молодая жена на карачках уползает, кровавые сопли по полу возит. Оттнир ее с полу прямо за шеяку одной рукой ка-а-ак вздернет, да второй раз ка-а-ак даст! В стену ушла. Хорошо дом не рухнул. Разок в зубы, разок в ребра. И сдулась Жичиха. Впервые слыхал, как ревет. Насилу вырвалась. Кричит, за водой тебе бегу, только не бей! И вовсе сбежала. Легко ли бабе дружинного своевать?
Сивый усмехнулся. Дура баба. Нет бы жить, поживать, да счастья приживать, она давай свою половину гнобить, соки давить. И додавилась. Летала по избе, как бабочка по весне. Тот недомерок мог голыми руками из одной бабы сделать две, с удара мог вдовцом остаться, хорошо сдержался. Теперь ученая стала, помягчеет. Наверное, всю свою жизнь непуганая проходила. А теперь взяла свое на год вперед. Безрод ухмыльнулся. Совет да любовь!
– А давай-ка, несчитанных годов мужичок, на боковую собираться? Говорят, утро, вечера мудренее.
– Да-а? – лукаво протянул Тычок. – Не слыхал!
Еще три дня Жичиха и носа домой не казала. Стала сине-белая, как полосатый лен на торгу. Губы распухли, схватились кровяной корочкой, нос разнесло будто свеклу, глаза синяками заплыли. На шее остались отметины от железных мужниных пальцев. Куда ни ткни, в синяк попадешь. Жичиха вздрагивала на каждый скрип ворот. Впервые сама оказалась бита. На молоке ожглась, дула на воду. А к исходу третьего дня, когда стемнело, Безрод потащил бабу домой, укутав с ног до головы и оставив только щелочки для глаз. Жичиха вырывалась, мычала что-то невнятное, порывалась убежать обратно. Безрод стращал.
– Тс-с-с! Не шуми! Если соседи услышат, повылазят. То-то животы надорвут от смеха!
Жичиха притихла и замычала как-то глухо, с затаенной мукой. Безрод, прихватив ее за руку будто клещами, подтащил к порогу, втолкнул в избу, закрыл дверь и привалился спиной. Как бы назад не полезла. Прислушался. Вроде тихо. Но вдруг тонко заскрипело волоковое окошко в сенях. Что за диво? Сивый отлепился от двери, заглянул за угол. Так и есть! Видать, совсем стала плоха, если через окно вздумала улизнуть. Ишь, тихонько лезет, дабы не шуметь, пытается выбраться. Ну ладно, вылезет по пояс, а дальше как? То, что у Жичихи идет дальше, ни в какое окошко не пролезет.
– Далеко собралась?
Битая жена замерла ни жива, ни мертва. Углядела Безрода и аж затряслась. Голову просунула, да груди застряли. Мудрено ли?
– Вот хнычешь без слез, а слезы не куда-нибудь – в тело уходят. Распухнешь и застрянешь в окне как пробка в горлышке, ни туда, ни сюда. Тут тебя муженек тепленькой и возьмет. А что, пороть удобно! Сам в тепле, твоя голова на улице, знай, охаживай сыромятиной и криков не слыхать. Тишина-а-а!
Как Жичиха полсебя в окне не оставила, достойно удивления. Выскользнула назад, будто маслом смазанная. Сивый протащил ее через сени, открыл дверь в горницу и втолкнул. Поставил Тычка подпирать дверь, чтобы не сбежала, а сам в один присест осушил чашу воды.
Вытер усы, прислушался. Как будто тихо? Старый балагур хитро пожал плечами. Вроде тихо. Безрод и Тычок, чисто заговорщики, приоткрыли дверь и заглянули в щелку. Стоит бабища, уткнулась в грудь мужу на голову ниже, сопит, хнычет. Гюст жену утешает, гладит по голове. Сивый и Тычок тихонько притворили дверь и выпили в сенях за счастье. Обошлось.
Ладьи к походу подготовили. Корабли стояли на катках в ладейных сараях, жаждали соленой воды. Через несколько дней Безрод в сопровождении дружины уйдет в Торжище Великое. Не своей волей задержался на зиму, зато проводят с почестями. И первыми ласточками полетят красавцы Безрода Проворник и Улльга. На днях снимутся. Но однажды во время трапезы в тереме Сивый встал и поднял чару с заморским вином. Разговоры стихли.
– Один я не одарил тебя к свадьбе, князь. Не руби повинную голову, теперь одарю.
Все кругом замерли. Ждали.
– А в подарок отдаю свои ладьи, Проворника и Улльгу. Не откажи, князь, прими. Верой и правдой будут служить. Тяжело достались и место их тут. В этих берегах.
Отвада слушал молча. Хмурился. Да сам виноват. Думал, все же останется, примет малую дружину, начнет ладейным дозором ходить. А вот уходит. И что станет делать с двумя ладьями на чужбине, один, без дружины? Продаст?
– Без добра возьму, – буркнул Отвада. – Ладьи мои, добро твое.
Сивый усмехнулся и осушил чару. Прибыло княжьими ладьями. Безроду в радость, князю в печаль.
Вишеня словно обезумела. На весь поход, на все холодные ночи в студеном море теплом запасала. Душу открыла, словно кладовую, заходи, бери, сколько сможешь унести. Безрод забирал, и все мало было.
На единственную ладью дружину отобрал быстро. Девятнадцать лесных призраков, уцелевших в битве, даже ждать не стали. Загодя застолбили девятнадцать мест. Сивый не стал отговаривать. Ухмыльнулся. Остальных набрал сам. Пошли с радостью, закисли на берегу. Отвада хотел было набить ладью припасом из княжеских закромов, да места не нашлось. Безрод усмехнулся, и без того трюм набит добром до предела, пришлось даже избавляться. Сивый продал его купцам и боярам. Кормщиком взял Гюста. Он раньше на Улльге ходил, его граппр. Кормило будто приросло к руке оттнира, когда Улльгу вывели порезвиться. Сходили до тихой заводи и назад. Граппр пролетел туда и обратно, как застоявшийся жеребец.
Тычок уже отнес вещи на ладью. Каждый день поднимался на борт, ходил туда-сюда, место себе выбирал. Там сядет, поморщится, затылок почешет, туда пересядет. Потом махнул на все рукой, решил в трюме пересидеть. И мягко, и тепло. Только вот темно. Да не беда. Никогда не ходил морем, не знал, как оно там. Говорили, дескать, мутит поначалу.
В день перед походом князь устроил проводной пир. Сам не свой был, глаза подозрительно блестели. На людях крепился, а как один остался, прослезился. Даже хмель Отваду не брал. Бояре и те звенели в голосах неподдельной горечью. Сивый будто удачу приманил – от полуночника отбились, с боярством у князя наладилось. Не отпустить бы вовсе, чтобы удачу с собой не увез. Но делать нечего.
Походники ушли отсыпаться засветло. Утром садиться за весла да целый день грести, ветру помогать. Пили немного, а на заре свежий ветер и остатний хмель выветрит. Вои разбрелись по женам и подругам. Вишеня не знала, доведется ли свидеться, вперед не загадывала, просто гнала черные думы прочь. Перед походом баню истопила, парила Безрода до седьмого пота, хлестала березовым веником с липой и калиной, гнала прочь хворь-усталость. Умяла ровно глину, лепи, что хочешь. Сивый тем же отдарил. И заставил говорить, говорить… Будто утонул в Вишенином голосе – и слушал, слушал…
Часть 3 КУПЕЦ
Глава 11 Островные
Весь город высыпал на пристань, – проводить воеводу застенков. Думали, станет Безрод водить малую дружину, да, видно, не судьба. Жертвенный бык уже стоял на берегу. Полным мехом его крови и бычьим сердцем одарят походники Морского Хозяина, чтобы легкая волна легла под киль, а ветер крепко надувал парус. Вишеню Сивый не пустил на пристань. Да и сама не пошла. Провожают тех, кого ждут, кто вернется. Осталась дома, снова одна в четырех стенах. Уставшая, исхудавшая, опять вдовая. Но как будто дышать легче стало, точно камень с души отвалился. Едва не придавил. Вишеня за чарой меду шепотом пожелала счастья той неведомой, что пойдет однажды с Безродом по жизни плечо к плечу, не убоясь холодных глаз. Сивый с одного удара поразил быка в самое сердце. Зверь глухо заревел, рухнул на колени и тяжело завалился набок. Дружина доделает остальное. Доброе начало, верно меч пошел. Пусть так же пряма и удачлива станет дорога. Безрод подошел к Отваде и принял чару. Попросил у богов попутного ветра. Попросил удачи. Все остальное сами возьмут. А, отдавая пустую чару, наклонился к Отваде и что-то прошептал на ухо. Князь расплылся в широкой, довольной улыбке. – О-го-го! – рявкнул Отвада во все горло и подбросил чару вверх, точно неразумный отрок. – Отец! Люд на пристани оглушительно завторил князю, выбросил шапки вверх: – О-го-го! Стюжень, улыбаясь, кивнул, Сивый усмехнулся верховному и холодно пожал плечами. Дружина заняла места за веслами. Безрод с размаху бросил в крутой ладейный бок глиняный кувшин с пивом, последнее Вишенино «прощай» и по шаткому мостку вбежал на Улльгу последним. Хотел тихонько сняться, без шума и криков. Проснется Сторожище поутру, а седого, да худого и след простыл. Не вышло. Не дали. Кувшин с глухим треском раскололся, медовое пиво залило бок Улльги. Выйдут в море, слижет мед Морской Хозяин, останется доволен. Добрый мед. Стюжень встал у причальной веревки со старым мечом. Ворожец одним взмахом оборвет связь походников с берегом. Верховный стоял, уперев меч в землю и положив руки на набалдашник, – оба старые, огромные, непослушные времени. Выпрямился, занес клинок над головой, на мгновение замер и обрушил клинок на чурбак с намотанной на него толстой веревкой. Старый, тяжелый меч разнес чурбак надвое вместе с веревкой. Придется новый ставить. Убрали сходни, первая сажень легла под киль, вторая, легко встрепенулся парус. Вои налегли на весла, Улльга рванул вперед и скоро исчез в туманной утренней дымке, что укутала всю губу. Последними походников проводят сторожевые ладьи, в таком туманище они всегда «пасутся» у входа в залив. Улльга вплыл в туман и скрылся из виду. Только скрипели впереди весельные замки, да мерный плеск прилетал из-за пелены. Если целый день идти морем на запад при попутном ветре, к вечеру дойдешь до конца боянских земель. Там они острым углом обрываются резко на полдень. Говорят, боянские земли огорожены с запада грядой гор и, сказывали, будто очень высоки те горы. Издалека видать. А если из Сторожища податься на восток, через три дня пути дойдешь до Торжища Великого. – Нам бы в течение попасть, – сетовал кормщик. – Всяко легче станет.
– То, что на полуночи? Большое? – Безрод встал из-за весла.
– Нет, другое. Найти его трудно, – больно узко. – Гюст почесал затылок, сбив шапку на нос. – Ищешь всякий раз, будто живчик на теле умирающего. И проскочишь, не заметишь.
– Много выгадаем?
– За полдня поручусь.
– А узнаешь?
– Помирать стану – весельный ход от парусного отличу вслепую.
Сивый подумал и кивнул.
– Ищи.
Гюст положил граппр на полночь. Безрод со светочем спустился в трюм. Кругом уже давно открытое море, позади спокойная губа, волны подросли. Как там старик? Не укачало, не замутило? В груде рухляди, зарывшись в меха по самые глаза, лежал Тычок. Укачало все же старого. Даже глаза закрыл. Сивый подошел поближе и замер. Укачало, да как-то странно. Лежит, калачиком свернулся, руки под щеку положил, губы надул. Спит. Да похрапывает. Разве не улыбается, хотя… Безрод отбросил медвежью шубу. Так и есть! Улыбается. Спит, похрапывает, да улыбается. И качка ему не в тягость, и скрип деревянных ребер Улльги не помеха. Погиб в Тычке мореход. Старый ни разу не был в море, однако судьбы не избежать. На склоне лет все-таки вышел. Если суждено вымокнуть в морской воде, – хоть разок, а вымокнешь. Сивый осторожно укрыл несчитанных годов мужичка шубой. Пусть спит. Брюхо заурчит, сам вскочит. Солнце вошло в полдень. На море распогодилось, ветрище разметал облака. Скоро бросят весла и пойдут на одном только на парусе. Гюст будет искать течение. – А что, оттнир, хороша ли жена? – заговорщицки подмигнув остальным, повел Щелк. – Довольно хороша. – Гюст не отрывал глаз от пенного следа под кормилом. – Широка ли душа, – продолжал Щелк. – Сердце велико? – Не отнять. – Гюст поднял глаза. – Ну да, оторвался ты от жены, а разве найдешь крохотное течение после такой бабы? Улльга закачался на волнах, – так его раскачал дружный гогот. Вои бросили грести и повисли на веслах. Падали со скамей и катались по проходу от носу до кормы. Гюст и сам не сдержал улыбки, лишь представил себе мощный живчик на широченной груди жены, и против того – неуловимое дыхание течения. Да, можно и промахнуться. Даже Тычок проснулся. Разбудили старика. Вылез из трюма заспанный, глаза трет, ничего не понимает. Стонут, по палубе валяются, корчатся. Неужели ранены? А где враги? И болью не пахнет. А когда уразумел, что к чему, едва обратно не свалился. Расхохотался прямо на ступенях из трюма на палубу.
– Суши весла! – крикнул Гюст. Теперь все внимание на море, на пену под кормой да на собственное нутро. Стихли разговоры и смешки, кормщика больше не отвлекали пустяками. Что называется, шли наощупь. – А чем тебе большое течение не угодило? – тихо прошелестел Безрод.
Гюст, не отнимая глаз от пены под кормой, помедлил и ответил: – Есть и большое. И на том течении мы выиграем день против нашей половины. Но его знают все. Лихой народ скачет на спине большого течения, как вы, бояны, на лошадях. Сивый задумчиво кивнул. Вот и думай, воевода, ломай голову.
День перевалил за середину, солнце пошло вниз, когда впередсмотрящий крикнул: – Парус! Идет с полуночи. К левому борту на четверти! Безрод мигом перекинулся на левый борт. По косой с полуночи-запада споро шел граппр. Пока далеко, но если оба корабля пойдут по-прежнему, к концу дня стукнутся бортами. Сивый оглянулся на воев. Те, что помоложе, воспряли, чуть к мечам не бросились. Глаза загорелись. А зря.
– Клади Улльгу строго на восток, – бросил Безрод Гюсту и повернулся к горячим головам. Те замерли с раскрытыми ртами. Усмехнулся. – А кто у нас поутру мерз? – Поршень зяб! – громыхнул Рядяша. – Иди к ним, встань рядом, – Сивый кивнул Поршню на молодых дружинных, воодушевленных возможной схваткой. – Может быть, оттаешь. Так и полыхают, чисто костры. – Неужели побежим, точно зайцы? – процедил сквозь зубы Вороток. Он влился в дружину совсем недавно, и жажда напоить меч вражеской кровью изрядно туманила голову. – Нам бы морковью хрустеть, а не мясо есть! – Тебе нужно дойти до Торжища Великого, а не бросаться на первого встречного, – ухмыльнулся Безрод. – А надо будет – побегаем.
Вороток и остальная молодежь нахмурились. – Тот не бегает, кто не умеет. А мы умеем. – Вои постарше даже рассмеялись, не зло так, по-доброму. Вороток сотоварищи молча наливались краской, а зубами скрипели так, что, наверное, было слышно на морском дне. – Да наш воевода просто боится! – наконец воскликнул Вороток, хлопая себя по бедрам. Парня прорвало, вся дурь наружу полезла. – Да гляньте же, вои, наш воевода просто боится! – Ясно, боюсь. – Безрод пожал плечами. – Не дурак ведь. – Против полуночника встать – это не безоружного Корягу ножом кромсать! – гневливый Вороток упер дрожащий палец Сивому в грудь.
Вои за спиной Безрода напряглись. Воистину дурной язык хуже острого меча. – Да, не ножом, – Сивый почесал затылок. – Мечом. Двумя мечами. – Я так и знал! Сначала думал, поклеп, – так нет же! – Вороток, растопырив пальцы, с перекошенным от злости лицом, рванулся к Безроду. – Удавлю гадину! Безрод, выбросив руки в стороны, сдержал воев за спиной. Вороток одним рывком перемахнул к воеводе через скамью, сомкнул пальцы на шее и сдавил, что было мочи. За Корягу, за Дергуня, за Взмета, за всех несправедливо порванных сивым. Глухой ропот бил воздух за спиной Безрода, но растопыренные руки сдерживали парней. Молодой и пылкий Вороток давил изо всех бездумных сил, и казалось молодцу, что с равным успехом можно выжимать воду из камня. Пальцы едва не отнялись, мослы заскрипели. Сивый поднял плечи, пригнул голову и стал точно вкопанный. Так и замерли, – один давил, второй не отшагнул с места ни на шаг. Гюст по-прежнему держался за кормило и лишь краем глаза косился на безобразную свару. Все молодым неймется, всюду надо влезть, сунуть нос. – А ты меч возьми, – прохрипел Безрод и ухмыльнулся, как смог.
Жуткой вышла эта ухмылка. Оскаленный рот, страшные рубцы, и только серые глаза горели холодом на багровом лице. Вороток ощерился, руки начали уставать. Но за меч ухватиться – предать себя позору, удавить грозился, а не выходит. И никто ведь не мешает. О-о-о, боги! Вороток взревел и стиснул пальцы на шее Безрода из последних сил. Руки корчами свело, и ведь не получилось ухватить чисто – плечи мешают. Сивый покачнулся, но устоял, а Вороток завыл. Руки свело так, что за сердце ухватило. Оторвался, осел на доски, страшно захрипел, забил ладонями о скамью. – Отпускай! – Скамья гудела под градом ударов. – Отпускай! Безрод шатался, но стоял, тряс космами и глубоко дышал. Как пошло дыхание, глаза заволокло цветным маревом, голова кругом заходила, едва за борт не сверзился. – Разомните его, – хрипнул Сивый назад и кивнул на молодца. – Да не шибко.
– Мигом! – Щелк рысью прыгнул на Воротка, сел ему на спину и ровно тесто замесил плечи. Вороток аж заныл, когда стало отпускать. – В следующий раз бить стану. – Безрод глядел на мрачных сорвиголов и крутил головой. Встанут поутру на шее синяки. Смех один. Давили, – недодавили… Сивый нетвердой походкой подошел к Гюсту. Оттнир, глядя на море, коротко бросил: – Знаю, что спросить хочешь. Рано пока весла гнуть. – Догонят ведь. – Того и хочу. Они идут на веслах, и парус поднят, да не один – двое на весле сидят. К темноте устанут, а там и мы на весла сядем. Поминай в темноте, как звали. Стало полегче, шум в голове стих. Вороток пришел в себя, успокоился, Щелк отпустил правдолюба, встал за Безродом. Пристыженный душитель отряхнулся, полыхнул кругом горящим взглядом и, покачиваясь, удалился на нос. – Синяки встают, – скривился Рядяша, глядя на Безрода. – Ну, силен! Не вдруг тебя, воевода, и задушишь! – Силен – не силен, – Сивый ухмыльнулся. – А не из глины сложе н. – Озлился. – Щелк задумчиво огладил бороду. – Еще напакостит. Зло затаил.
– Не успеет. День кончается, а идти всего-то три.
Оттниры подошли ближе, и стал виден их парус, – красное полотнище без единой полосы. – Чьи? – спросил Гюста Неслух. – Видсдьяуры. С Кюлейли-острова. Боянский парус им нынче, – что вожжа лошади под хвост. С весел стружку снимают, так догнать хотят. – Пора? – спросил Гюста Щелк. – Нет.
– Стрел пять будет. – Моряй прищурил один глаз. – Весла в дугу гнут, плечи трудят. – Мечом били. – Сивый ухмыльнулся. – И ногами побьем. Солнце покатилось на запад стремительно, и те пять перестрелов между ладьями таяли, как снег на огне. – Пора? – Гремляш кусал соломенный ус. – Рано. – Безрод покосился на запад. – Рано. Небо забагровело, солнце повисло над самым дальнокраем. Пять перестрелов истаяли до верных трех. Востроухий Ледок даже речь полуночников услыхал. Наверное, ветер подхватил слова и бросил через море Ледку прямо в ухо. – Алливарре. – Ледок повернулся к Гюсту. – Они сказали «алливарре». Да еще «трис». – Тихоходные коровы, – улыбнулся кормщик. – Нас обозвали тихоходными коровами. Обещали съесть. – Костьми подавятся. – Рядяша обглодал куриную ногу, обсосал и, размахнувшись, бросил кость в сторону оттниров. – Жрякай полночь, коли голодна! Два перестрела. С востока стремительно подступали сумерки. Ледок, что слышал, передавал Гюсту, а кормщик переводил на боянский, едва не смеясь. – Говорят, мол, до чего бояны тупые, на одном парусе уходят. Нет бы весла замочить. Безрод сощурился, глядя на море. Один перестрел, пора. Оттниры уже и луки приготовили. – Весла на воду! Сам встал по левому борту и низко, в пояс издевательски поклонился видсдьяурам. Дескать, благодарю, люди добрые, вовремя подсказали! Улльга ощетинился веслами. – Отбиваю меру: раз… два… три! – Гюст быстрее обычного хлопнул в ладоши. Вои налегли на весла. – Р-р-раз! Весла разбили бирюзовую гладь. Два – Улльга рванулся вперед. Три – ветер бросил на палубу злобный рев. Видсдьяуры почти догнали, какое-то время шли почти след в след, но стали понемногу отставать. Полтора перестрела, два. Солнце до половины ушло за дальнокрай, когда Гюст выкрикнул: – Нашли малое течение! На спине сидим! Безрод кивнул и усмехнулся:
– Самое время повернуть на полночь. Гюст, верти на осьмушку! Оттнир кивнул, и Улльга стал забирать влево. Видсдьяуры гребли так же мерно, но подустали. Не удивительно, ведь полдня догоняли, а бояны, свежие и румяные, бросали ладью вперед, ровно жеребца в галоп. Десять стрелищ… поди, и все пятнадцать. В темноте уже всяко не догнать. Оттниры перестали рвать жилы, бояны прибавили. Как стемнеет окончательно, оторваться станет проще. Впереди есть небольшой островок. Там и можно бросить кости на ночь.
Остров. Что-то темное, еще более темное, чем сажное небо, встало перед ладьей. Парни дружно выдохнули, утерли пот. А зря. – Кормило на полдень! – Холодный Безродов голос, ровно ледяной водой окатил распаренных гребцов. – Или устали? – Да не-е-е! – протянул Рядяша. – Поршень только-толечко отогреваться стал, – правда, Поршняга? Поршень хмыкнул. Истинная правда. Так бы и греб дальше! Только разогнал кровь по телесам, и на тебе! Стой, приплыли! – Если в темноте подойдут к острову, у них даже весло не скрипнет. Теплыми возьмут. – Гюст положил кормило на полдень. – Негде больше ночевать, кроме как тут.Все правильно боян делает. Если бы сам не сообразил – подсказал. Настоящий ангенн! Только такому и был Брюнсдюр по зубам, пусть ему пируется у Тнира сытно. Снова заскрипели весла. Улльга разворачивался на полдень. Дружинные улыбались в бороды. Представляли себе – в полной тишине оттниры подходят к островку, парус убран, не хлопает, весла не скрипят, сходят на берег, обшаривают островок, а нет никого! Куда делись? Потонули? Обманули бояны! Дальше ушли! Так и улягутся не солоно хлебавши. Четверть ночи до большого берега под парусом, да на веслах. Гребли неспешно, лишь бы не замерзнуть. Тычок, наверное, десятый сон досматривает. Все вымокли, паровали, как горячая каша на снегу. Навощенные верховки мешали грести, их отбросили, остались в простых овчинах. Весла мерно вспарывали воду.
– Суши весла! На парусе пойдем, – крикнул Безрод и спросил Гюста. – Знают ведь про островок?
– Знают, воевода, ой, знают, – улыбнулся кормщик. – К тому и вели, чтобы туда на ночлег загнать.
– Жаль, с течения столкнули.
– Ничего. – Гюст почесал затылок. – Как потеряли, так и найдем.
– А что Жичиха? Отпустила? Ведь только-только вышла замуж.
– Впервые провожала. Стенала, будто умер кто. Аж соседи сбежались. – Гюст бросил острый взгляд на гребцов, навостривших уши. Притянув Безрода поближе, горячо зашептал. —…Ну, думаю, вот и конец мой пришел! Едва ноги не протянул!
– Сколько? – усмехнулся Безрод. – Пять?
– Пять! Глаз не сомкнул! Думал, помру! Да не взяться мне больше за кормило!
На ближайшей скамье Ледок недоверчиво крякнул, покачал головой и громко бросил сидящему рядом Щелку:
– Ишь ты, пять! Сказал бы сразу «семь»! Гюсту сбрехнуть, – все равно что кормило повернуть!
– А ты, вострослух, меньше слушай, – Сивый спрятал ухмылку в бороду. – Сходи, гойг, погрейся. Эй, Щелк, за кормило встань! Пусть выяснят меж собой, пять или семь.
Когда Гюст согрелся, встал обратно за кормило. Вот-вот должен появиться берег. Теперь глаз да глаз нужен. Скоро вырастут прибрежные скалы, не поймать бы днищем острый камень. Свернули парус, пошли на веслах. Когда впередсмотрящий углядел пенные кружева, Гюст крикнул: – Первые пять, суши весла!
На оставшихся сторожко подкрались к берегу. Кормщик велел сушить еще три пары весел. Пару раз чиркнули днищем по камням, и каждый раз душа обмирала. Да минуло. Обошлось. Пролезли в узкую, неглубокую щель меж высоких скал – с моря не сразу углядишь – и причалили.
– Сходи за стариком. – Сивый кивнул Гремляшу на трюм, где сладко спал Тычок. Здоровяк на руках вынес несчитанных годов мужичка, а балагур так и не проснулся. Сопел-посапывал во сне.
– На ночлег становитесь. Я встану на стражу, со мной Вороток. Щелк, Неслухи, Гремляш, становитесь в дозор с полуденной стороны. Костров не запалять. Все. Спать!
– Знаю, зло затаил. – Безрод сел на камень против Воротка. – Решил жизнь отдать, но меня со свету сжить. Правды ищешь?
Парень молчал. Брехня, что трус, брехня, что с ножом на безоружного ходил. Нынче днем понял. Больше надо слушать кривотолки. Одно оправдание – в дружине совсем недавно. Никогда не видел, чтобы свои своих так жестоко рвали. Вот и поверил навету. А застенок даже бровью не шевельнул, но и без того верх взял. Помнят еще пальцы. Словно камень давил. А как полуночнику нос утерли – смеяться, живот надорвать, только теперь понял!
– Не дождешься! – буркнул Вороток, не поднимая глаз. – Молод, конечно, но не дурак!
– Если сомневался, чего за мной пошел?
– Всякое болтают. Хотел сам доискаться.
– Тебе-то на что? Несколько дней – и нет меня больше! Не увидишь. Воеводу себе выбираешь, как будто и дальше за мной ходить.
– То мое дело, за кем ходить! Мне моя голова указ! – буркнул Вороток, потом помялся и совсем тихо бросил. – Дурень Коряга.
– Сколько тебе лет?
– Да двадцать по весне.
– Так весна же!
– Так и двадцать.
– Горяч больно. Голову бы не сложил по дурости.
– Знаю, – отмахнулся Вороток. – Только без дураков жить скучно.
– Это точно.
– Не держи зла, воевода. На меня, непутевого, держать зло – только время без толку изводить.
Безрод ухмыльнулся. Прям и честен. А пальцы будто камни… До утра глаз не сомкнули. Вороток рассказывал про свою жизнь, Безрод хмуро слушал, не перебивал. Не с детства при дружине, не от рождения. Десяти лет от роду прибился к дружине соловейского князя Рева. Сначала за лошадьми ходил, воям глаза мозолил. И домозолился. Получил в глаз от отрока, не стерпел, и от себя наградил противника синяками. Бывалые вои потом рассказывали, пыль на весь двор стояла. А им потеха, едва животы от смеха не надорвали. Подзуживали мальчишек, – половина за одного, половина за другого. Сам князь на шум вышел, хмурился-хмурился, и сказал, – дескать, если лошадник против отрока устоит, быть ему тоже в отроках при дружине. Уж как выстоял, не помнил. Наглотался тогда пыли. Стал отроком. Потом дружинным. А с тем парнем спина к спине бился, когда оттниры нагрянули. Да только срубили побратима, и всю соловейскую дружину. Самого раненным подобрали селяне, увезли с собой вглубь, в леса, там и переждал напасть…
Поднялись вместе с солнцем. Сунули в море опухшие со сна лица, прополоскали рты, поели – и обратно на ладью, за весла. Еще денька два, и встанет из морских глубин Перекрестень-остров, а на нем Торжище Великое. На трех веслах осторожно выползли в море, огляделись по сторонам и взяли на полночь, на тот каменистый остров, что вчера оставили оттнирам для ночлега. Около него «живет» искомое течение. Сесть бы на него и до самого заката идти под парусом. Только бы видсдьяуры не ждали. Когда из морской пучины выросли островные скалы, повернули на восток. Тихонько обошли остров с полудня, вскоре нашли течение и оседлали, ровно жеребца. Лишь море заклубилось под кормилом. В дне пути рассеяна гряда островов. Там можно будет бросить кости под шкуры и выспаться. В полдень востроглазый Ряска углядел на полуночи парус. Неужели красный? Тот же самый? Шли далеко, по самому дальнокраю.
– Догнали-таки? – скривился Неслух.
– Мы догнали! – ухмыльнулся Гюст. – Знать, хорошо выспались!
– А расскажи про это течение, гойг, – подал голос Моряй. – Раньше не слыхал. Уж сколько разговоров за два дня.
– Да и я тоже не знал. Четвертый десяток разменял, а только в предпоследний поход понял, что к чему. Больно узко, не всякий и внимание обратит.
– Говори, слушаю.
– До Перекрестня-острова ходят на большом течении, это в дне ходу отсюда на полночь. День ходу, зато три дня долой. А малого течения вовсе не замечали, проскакивали махом. А тем летом хаживал я до Перекрестня-острова вдалеке от большого течения. Неспокойно там было. Отовсюду ходил, – с полудня, с востока, с запада. И подметил, что, если иду с запада, в какой-то раз оборачиваюсь на полдня скорее. Это становится видно только на многодневном переходе, когда идешь без остановок. На дневном и не заметишь, а ведь округа полна островов, есть, где заночевать. Вот и не ходят ночью по здешним водам, нужды нет. Выгода мала, глазу незрима, – то на ветер свалишь, то на весла легкие. А не замечали раньше потому, что на восток ходили по большому течению. Какой дурак пешком пойдет, если рядом горячий конь бьет копытом! – Вокруг Гюста собрались вои. Слушали с интересом.
– Большое течение огибает Перекрестень-остров с полуночи, а малое – с полудня. Немногие про него знают. Кто знал – в сече полег. А малое течение по волнам уличаю. Волна иная. Чистое море по-другому дышит, и даже большое течение иначе воду крутит. Уж почему два течения рядышком катят и не сливаются – не моего скудного разумения дело. Может быть, по морскому дну горная гряда легла, режет течение под водой. А только лежат между ними полдня пути и обычная волна. Дорогу по малому течению еще прошлым летом вымерил. Идешь прямо под Огонь-звездой на Деву-звезду, не сворачивая. Больше так никто не ходит. И пойдет не скоро.
– Ты-то пошел!
– Дурак потому что! – парни рассмеялись. – Оттнир прямо не ходит, рыщет словно волк. Туда сунется, сюда влезет. А если сходить нужно далеко, скачет на течении, как вы, бояны, на лошади. Уразумели, про течение, кривоногие? Стало быть, глаза вам открыл, грамоте научил, – Гюст усмехнулся, невольно выпрямился, подкрутил усы, – словно мальцов беспортошных!
– Ишь ты! – Щелк закрылся руками, будто от яркого солнца, отшатнулся, как обожженный. – Три дня рук мыть не стану! Буду бегать по Торжищу Великому и ладошки за золото показывать, – дескать, еще утром ручкался с укротителем малого течения!
– Половину мне, – улыбаясь, объявил Гюст, и ладья опять заходила ходуном.
Полдень. Оттниры бросились вдогонку. Безрод стоял на корме и глядел назад, – туда, где ярко краснело пятно паруса.
– Что там впереди? – Сивый прошел на корму.
– К ночи подойдем к островам Трюллю. Камней по дну раскидано – не счесть. Не поскупились боги. Говорят, это слезы солнца по уходящему лету.
– Что за люди на островах?
– Обитаем только самый большой. Ссаживался. Бывало. Сначала бьют – потом спрашивают, кто такие. Есть меч, – бьют мечом, нет меча, – бьют кулаком, свяжешь, – зубами грызет. Всякий чужак – враг. Легче перебить, чем втолковать что-то.
– А пробовали?
– Бывало. По нашим островам байки до сих пор ходят.
Подошли Неслухи, Моряй, Рядяша, Щелк. Окружили кормчего.
– Знают железо. Доспехи делают. Но больно круты норовом, глаза так и полыхают злобой. Даже меж собой дерутся, их на острове несколько родов. Волосом светлы, как мы, как вы, а лбы низкие. Торга не ведут, да и торговать нечем. Хорошо, что по морю не ходят! Словно боги за ноги держат! Душа-хозяева!
Вои рассмеялись. Безрод нахмурился.
– А ведь не отстанут оттниры. – Рядяша зашел издалека. Мялся, мялся, скреб затылок. – Может быть, лучше сшибиться? А все спокойнее плыть.
Безрод покачал головой.
– Больно дорого мне встанет поход в Торжище Великое. Не по цене счастье. Будем уходить.
Рядяша скривился.
– И нечего рожу кривить, если и без того крива, – ухмыльнулся Безрод и заговорщицки подмигнул. – А что, побьет тебя оттнир в беге?
– Ясное дело, не побьет!
– А может быть, передерзит?
– Куда там!
– Подойдут ближе – смейся в голос.
– Самим бы не оглохнуть!
– Вот и выходит, что всяким образом верх берешь?
Рядяша только крякнул. Отошел, сел за весло, и сосновая лесина начала гнуться в его лапищах, словно тонкая зубочистка.
– Не перекосил бы ход. – Гюст, усмехаясь, кивнул на Рядяшу.
– Моряя посажу напротив. Два сапога пара, за что нам божья кара? – Безрод встал за кормило. – Поди, согрейся. Отогреешься, – пошепчемся. Думка есть.
Солнце карабкалось к полудню. Оттниры встали прямо в кормило, каких-нибудь пять-семь ладей позади. Сели на течение, и, наверное, сами не знали, что оседлали конька Морского Хозяина. Такие, как Гюст, тоже не каждый год рождаются. А едва день покатил к ночи, Сивый посадил за весла всех.
– Двое на весло! – рявкнул Безрод.
Во что бы то ни стало нужно оторваться. Пусть хоть клочья кожи с ладоней останутся на веслах. Скрипели весельные замки, гнулись весла, Улльга несся вперед, расталкивая грудью ленивые волны. Второй день длится погоня. Оттниры, наверное, слюной изошли, меж лязгающих зубов искры бегают. Ничего, светлее будет. Граппр видсдьяуров медленно пополз назад.
Солнце неуклонно падало, и когда наполовину скрылось за дальнокраем, а по миру разлилось багровое зарево, Улльга подошел к Трюллю-острову.
– Парус долой! – крикнул Безрод. Оглянулся на Гюста. – Веди.
– Первые пять – суши!
Более длинные носовые весла взметнули в воздух и убрали внутрь. Гюст почти шагом повел Улльгу вперед между скал и подводных камней.
– Еще три суши!
Убрали еще три пары весел.
– Как, говоришь, поучал жену? – с тенью улыбки Безрод повернулся к Гюсту.
– Да просто! Говорю, дескать, что такое! Всего несколько дней мужняя жена, а уже душу из меня гонишь! – Гребцы навострили слух. – Несколько дней? – говорит. – Да я всю жизнь этого ждала!
Сумеречная тишина вспорхнула вместе с птицами, осевшими на скалах. Надрываясь громогласным хохотом, парни едва не растрясли Улльгу от борта до борта, а над ними клекотал растревоженный пернатый народ.
– Это что! – усмехнулся Безрод. – А вот однажды отец не пустил дочь на посиделки.
– Рассказывай, – улыбнулся Гюст. Только они вдвоем и не смеялись.
– Жили-были как-то нос-отец и сопля-дочь. И собирается как-то вечерком сопля на посиделки. Пред зерцалом повернется и так, и эдак. Откуда ни глянь, хороша! – Парни едва дышали, чуть не падая со скамей. Воевода еще рассказывать не начал, а уже до смерти смешно! – И тут нос-отец грозно спрашивает, – дескать, а куда ты, дочка, собралась? Та отвечает, мол, на посиделки с подружками, лясы поточить, косточки парням перемыть. Тут нос-отец сделал так – глядите, не зевайте!..
Безрод шмыгнул битым-перебитым носом.
– …И говорит: Никуда ты, дура, не пойдешь!
Весла так и заходили в руках гогочущих парней, – хорошо, хватило ума сушить. Гребцы из них уже никакие. Остальные хватали широко раскрытыми ртами воздух, и все им было мало. Стоять уже не могли, катались по настилу, били себя в грудь, ржали, чисто кони. А над Улльгой клекотали поднятые с гнезд моречники. Безрод, ухмыляясь, оглядывал берега. Показалось, – или на самом деле в деревьях что-то шевельнулось? Но об этом узнают лишь на берегу. Еще долго хохотали. Только начнут успокаиваться, как одного опять смех разбивает. А много ли нужно остальным? И снова катаются по палубе. Сивый – и тот улыбнулся в усы. Уж на что байка стара, а смешит как новая. Вроде успокоились, тяжко дышат, за животы держатся, встают кое-как. И тут в хрупкой тишине Вороток возьми, да без всякой задней мысли, носом и шмыгни. Безрод махнул рукой и отвернулся. Лишь двое остались на ногах, Сивый – потому что в мачту вцепился, Гюст – потому что на кормиле повис. Наверное, никогда эти тихие скалы не оглашал такой бешеный хохот. Пересмешник моречник не в счет. Смеялись, пока солнце не зашло. Только тогда унялись. Просто не смогли больше. Едва-едва встали на ноги, уселись за весла. В небесном багреце провели ладью через россыпь подводных камней и посунули носом в гальку.
– Моряй, Щелк, Вороток, Нюнга со мной. Остальным оставаться на ладье.
– Опять что-то удумал! Неужели и костей размять не даст? Вои беззлобно заворчали. С таким воеводой никогда не заскучаешь.
Безрод первым спрыгнул на берег, остальные четверо ушли следом. Вороток и Нюнга с луками. Впереди стояла стена леса, сосны да березы, берег пуст и чист. Сивый повел туда, где приметил шевеление. С опаской вошли в деревья, и будто попали в темный мир. Снаружи небо догорает пурпуром, – хоть какой, а свет – тут же темень почти кромешная. Кое-как углядели тропку. Безрод оставил стрельцов по обе стороны от дорожки, в кустах, и сам-третий ушел вперед.
Лес миновали, вышли на открытое. Скорее даже не лес, а подлесок. Леса, наверное, дальше стоят.
– Заметил? – бросил за спину Безрод.
– Заметил, – буркнул Моряй.
Справа, то появляясь из-за камней, то снова исчезая, скользила какая-то тень.
– Следят, – Щелк оглянулся, положил руку на рукоять. – Аж мурашки по спине разбежались.
– На языке оттниров что-нибудь знаешь?
– Самую малость. «Эй, красавица, неси пива», и «Сей же миг, оттнир, по зубам получишь».
– А ты?
– Да тоже немного. – Моряй поморщился. – Припоминаю вот: «Больно цены ломишь, сволочь», и «Эту вонючую горчину пей сам».
– Должно хватить. – Безрод усмехнулся.
Дошли до скал. Теперь и справа, и слева, не скрываясь в наступающих сумерках, по обеим сторонам плыли тени. – Гляди, встречают! – Щелк махнул рукой вперед.
С дюжину трюллей выступило из-за скалы, – в руках мечи, на телах доспех. Хмурые, злые, походникам даже показалось, задери хозяева губы – во рту сахарно блеснули бы клыки с мизинец. Так и зыркают из-под нависших бровей. А лбы и впрямь низки да узки.
– Мне вот интересно, спросят чего или сразу бросятся?
– Если спросят, говори, что знаешь. Если бросятся, тоже на месте не стой, – шепнул Безрод.
– Говорить, что знаю? – изумился Щелк. – Которое?
– То, второе. Про зубы. Вперед выступил здоровенный трюлль и занес над плечом старый, потемневший от времени меч. Дескать, если что, – рубить буду сразу.
– Чего надо?
– Да вот шли мимо, дай, думаем…
– Во-о-он! – заревел островной.
Оглоушил так, думали – слуха лишит. Щелк ему и выложил, что знал.
– Сей же миг, оттнир, по зубам получишь.
Моряй тут же добавил:
– Больно цены ломишь, сволочь!
Хозяин с ревом обрушил меч на чужих. Рубил справа налево, хотел голову снять. Безрод присел, и клинок молнией просвистел над макушкой. Сивый едва не быстрее той молнии рванул вдогон за уходящим мечом, левой ногой подсек звероватого трюлля под коленом, а правой ладонью приложился к лицу. Падая, здоровяк задел мечом кого-то из своих. Бил одного, – упали двое. Хозяева с криком ринулись крушить, ломать дерзких чужих. Безрод сотоварищи огрызнулись. Трое островных полегли в первые мгновения. Еще трое чуть погодя.
– Уходим! – рявкнул Безрод. – Живо!
Повернулись и побежали. Наперерез из-за скал выметнулись «тени», что провожали всю дорогу. Моряй врезался в заслон и разметал соглядатаев, как большая ладья маленькие лодки. Безрод и Щелк на бегу порубили то, что отвалилось в стороны после Моряя. Вот и лесок. Ломая ветви и кусты, походники влетели в чащобу, а, дабы свои же стрелами не утыкали, Моряй во все горло рявкнул: – Вороток, Нюнга, это мы!
Миновали. А как только разведчики, в мыле и чужой крови, пронеслись мимо, стрельцы отпустили тетивы. Пока сидели, попривыкли к лесному сумраку. Каленые стрелы с жутким свистом унеслись в глубь леса, и кто-то истошно завопил. Расстреляли весь запас, и все вместе побежали назад, на ладью. Безрод последним взлетел по веслу на отходящего Улльгу. Встал на носу, что-то крикнул и расхохотался.
Из лесу осторожно изникло несколько островных. Увидели отходящую ладью и взревели. Безрод все кричал и кричал, и от его слов трюлли растеряли и без того скудный рассудок. Подбежали к самой воде, швыряли камни, метали стрелы, да все без толку. Камни не долетали, стрелы не доставали. Да и стрельцы из них оказались те еще…
Улльга сторожко крался на двух парах весел назад в чисто море.
– Что ты кричал? – Щелк зачерпнул бадейкой морской воды и, отфыркиваясь, умывался. – Ишь, лютуют! Того и гляди, вплавь догонять бросятся!
– Да, ничего. – Сивый протирал тряпицей меч. – Стращал. Дескать, мы уходим, да заместо нас другие придут. Нынче же ночью. Злее и страшнее.
Вои замерли. Ждали продолжения.
– Хозяева обещали съесть живьем. Моречники с гневным криком снялись со скал. А ведь только-только успокоились. Вои рухнули на палубу как один, будто трава под косой. Катались, хохотали, задыхались. Да сколько можно! Животы лопнут! На ногах остались только двое: Безрод усмехался, сидя на скамье, а Гюст хохотал, повиснув на кормиле. Дело к ночи, скоро оттниры с красным парусом подойдут к острову и встанут на ночлег. Тут хозяева и встретят, как обещались. Добрая будет драка. И тем, и другим все равно кого резать, – и те, и другие жаждут крови. У оттниров, к тому же, кости в море затекли. Вот и разомнут.
Улльга шагом пробирался меж камнями и низкими скалами. Небо на востоке стало темно-сизым, на западе догорало последними красками. Перед островами Трюллю, как дозорный, стояла одинокая островерхая скала. Сами проходили мимо, и оттнирам с красным парусом ее не миновать.
– Ловко придумал! – Моряй наощупь чистил меч да посмеивался.
Безрод отмахнулся.
Едва-едва успели. Только схоронились за дозорной скалой, а граппр уже тут как тут, – из темноты наплывает. Красный парус убран, идут на трех веслах. Безрод замер с поднятыми руками. Эх, знать бы с какой стороны видсдьяуры обойдут «дозорного», справа или слева! Граппр пошел с правой стороны, и Безрод резко выбросил в сторону левую руку. Три пары весел тихонько вспороли воду, и ладья прянула влево. Граппр с красным парусом обходил скалу с полудня, Улльга – с полуночи. Невидимые друг для друга, корабли разошлись. Оттниры убрали еще одно весло, ползли вперед, будто улитка по камням.
– Ну, куда нам вторая ладья? – шепотом дурачился Рядяша. – Разве что на привязи поведем, ровно телушку?
Сивый оглядел воев. Подозвал Воротка.
– …В драку не вяжись. Будто и нет тебя. Тишок да молчок. Твое дело только смотреть!
Вороток улыбнулся. Не маленький! Умишка достанет! Сбросил с себя рубаху, приладил за спину меч, встал на весельный люк и прямо, как стрела, ушел в воду. Взял вправо от граппра, не вместе же выходить на берег!? и поплыл от камня к камню, будто крупная рыба. Осталось ждать. Вои мрачно поглядывали на утонувший во мраке остров и точили мечи. Безрод замер на носу. Ледок рядом. Оба слушали.
– Будто крикнул кто, – неуверенно пробормотал Ледок. – А вот еще.
– Мечного лязга не слыхать? – Не слыхать.
– Наверное, на берег пустили. Дождутся, как уснут, и сонными порубят. – Вои чесали затылки. В предположениях недостатка не было.
– Может быть, заведут в лес, да там и оставят, – отвечали другие.
Все может быть. Безрод до рези в глазах проглядывал темень, до звона в ушах слушал тишину. Ничего. Востроглазый Ряска – и тот оказался бессилен.
За полночь. И вдруг Ледок, раскинув руки, призвал к тишине. Вои, не договорив, замерли. Не донеся точил к мечам и секирам, застыли на месте. Ледок слушал.
– Будто плещется кто-то.
Не дыша, ждали. Плеск, плеск, плеск. Ближе, ближе. И, будто порождение морских глубин, у правого борта из воды появился Вороток. Сильные руки махом выдернули парня из воды, укутали в овчинную верховку. Сунули под нос чару с медом.
– Цел? – только и спросили.
Вороток, не отрываясь от чары, кивнул.
– И ждать островные не стали. Ума не хватило. Здорово ты их разозлил, воевода. Едва оттниры сошли на берег, да начали судить-рядить, куда делась наша ладья, что-то в лесу шумнуло. Я сначала в сторону уплыл, да потом вернулся, подплыл под самое кормило, потому и слыхал все. Что-то шумнуло в лесу, и оттниры подумали, что это мы в деревьях прячемся, засаду готовим. Дескать, сами спрятались, а ладью подальше отвели. Только пошли к лесу, а тут камни прибрежные словно ожили! Видсдьяуры даже убежать на ладью не успели. В кольцо их взяли. Половина полегла, впрочем, трюллей тоже накрошили изрядно. Даже не знаю, смогут ли теперь оттниры уйти. Грести, почитай, уже некому, почти все порублены. Кто больше, кто меньше. Твое слово, воевода.
– Ладью возьмем. – Безрод, усмехаясь, повернулся к Рядяше. – На веревке поведешь, ровно телушку на торг. Сам придумал – сам и тащи! Два весла на воду! Остальным разобрать луки и за щитами ждать на носу!
Улльга подкрался к берегу, как рысь к зайцу. За шумом драки никто ничего не заметил. Схватка шла уже на самом граппре, морских оттниров дорубали дикие островные. У кормила сгрудилось человек десять. За криками и ревом Улльга, словно молчаливый призрак, изник из темени, и дружным перестрелом трюллей снесло с палубы, как сухие листья осенним ветром. Не повезло и кое-кому из видсдьяуров. Люди Безрода стреляли без особого пристрастия, им было просто все равно. Стреляли навскидку, на глазок, во все, что шевелится. Первыми полегли те островные, что держали светочи, потом началась игра в прятки. Стреляли на шум, на шорох, на скрежет. Людям Безрода такая игра была хорошо знакома. Хозяева граппра мигом уразумели, что к чему, упали под борта и лежали тише мыши. Оно и понятно, бывалые вои по морям ходили и в битвах рубились. Лишь туповатые островные ревели на берегу, да стонали, попадая под стрелы. Но даже они вскоре сообразили, чем грозит каждый звук. Замерли там, где стояли. Востроухий Ледок что-то услышал и мигом отпустил тетиву. Кто-то вскрикнул. Еще один не выдержал, побежал. Сразу три стрелы нашли мягкий бок, и тело глухо повалилось на гальку. Кто-то устал стоять, скрипнул камнем под ногами. Утыкали, ровно ежа. Звероватые хозяева свои стрелы давно расстреляли, и ответить оказалось просто нечем. Хотя, нашелся один. Только начал растягивать лук, на скрип мигом отозвался Ледок. Вогнал стрелу прямичком в шею. Моряй поджег светец, размахнулся, бросил прямо перед собой, далеко на берег. Падая, горящая палка осветила троих, замерших в нелепых позах. Махом сняли всех троих, не успела деревяшка разбиться о землю. Неслух запалил светец, швырнул влево. Двое. Нет двоих. Второй Неслух швырнул светец вправо. Четверо. Нет четверых. А когда светец запалил Щелк, кто-то не выдержал. С криком дал деру. Поймал две стрелы собственной спиной.
Светало. Пока островных расстреливали на звук, видсдьяуры помалкивали, а как только небо на востоке посерело, завели боевую песню. С песней и смерть на миру красна. Пусть ночные стрельцы слышат, да потом всем расскажут, как плевали дети красного Тнира на безносую. Они не опозорили Кюлейли-острова, а таких дев, что прольют по ним слезы, у ночных призраков никогда не будет!
Развиднелось. Весь берег Трюллю-острова усеяли тела хозяев и пришлых. Из тех оттниров, что сошли на берег, живых никого не осталось. Все полегли. У трюллей выжил только один. Старый вой. Злые глаза сверкали под покатым лбом, тяжелая нижняя челюсть убежала далеко вперед от верхней, седые космы клочьями вылезали из-под мятого шлема, а сломанный нос горбился влево. Всю ночь простоял не шевелясь. Раньше остальных понял, что к чему, даже доспех у старого не скрипнул. Остаток ночи до утра простоял не шевелясь. Только злобой и грелся на сыром берегу.
Безрод сошел на берег и подошел к старому трюллю. Островной не выдержал насмешливого взгляда, заморгал и отвернулся.
– Иди, старый. Уходи.
– Я?
– Да, ты!
Звероватый хозяин переступил с ноги на ногу и закряхтел. Аж кости заскрипели, видать за ночь суставы схватились. Последний трюлль неловко спиной попятился к лесу, а когда оказался в шаге от деревьев, скакнул в чащу и пропал.
Сивый смотрел старому островному вослед и улыбался. Подошел Вороток.
– Сколько их еще в глубине острова?
– Думаю, немало. Остров большой. Хорошо, боги не дают рога бодливой корове. – Безрод ухмыльнулся и кивнул в сторону леса, куда нырнул трюлль.
– Да уж, эти никогда не выйдут в море, – устало вздохнул Гюст. – Знаются с железом, худо-бедно делают мечи и доспехи, но в море никогда не выйдут. Боги пожалели на них ума, людимости и духа. И никогда не вольется в их жилы свежая кровь. Их жены безобразны, а мужчины никогда не выйдут в море. Как бы совсем в зверей не превратились.
– Заколдованный круг.
– У каждого свой. Вои собирали стрелы. Мертвых трюллей оставили на берегу, оттниров перенесли на граппр. Оставшиеся в живых стоять не могли. Каждый оказался не единожды ранен. Сидели там, где спрятались от стрел – на корме, под бортами. Волками зыркали на чужаков, бродящих по их славному Ювбеге. Но встать и прогнать незваных гостей вон, – уже не хватало сил. Только пели. Все тише и тише. Безрод подошел к видсдьяурам. Рыжий полуночник без шлема, с окладистой рыжей бородой, заляпанной кровью, надменно оскалился.
– Кто ты такой, и что делаешь на моем граппре? Я тебя не звал!
– Два дня бегал за нами по морю. Наверное, позвать хотел. – Безрод ухмыльнулся. – Мы здесь. Приглашение принято. – Так вот чей граппр помешал мне завершить охоту на островных зверей! – Оттнир высокомерно ощерился, пытаясь встать. Безрод не мешал, стоял, скрестив руки на груди, и ухмылялся. Полуночник едва памяти не лишился, тяжело повалился обратно на палубу, поморщился. – Эй, боян! Ты был настоль неряшлив, что подарил зверям свой пояс! – глухо прогудел из-под кормила невзрачный, сухой видсдьяур. В таком теле, – такой голосище?
– Пояс? – Безрод, усмехаясь, присел возле кормила на корточки. – У меня и не было пояса. Беспояс я.
– Эй, вы, сброд, слепленный из простых пастухов, провонявших козьим дерьмом, где ваш вождь? Я хочу говорить с ним! – на последние силы заревел рыжий. – Не кричи, унд. – Гюст встал перед рыжим. – Ты с ним и говорил. – Врешь, подлое гойгское отродье! – Рыжий предводитель заметался по палубе. – Где это видано, чтоб граппр водило отребье!
– Не твоего ума дело, сын рабыни. – Гюст ходил по граппру и осматривал мачту, кормило, киль.
– Мой отец оттнир, а мать благородная женщина! – закашлялся рыжий. – А вот ты кто, пена морская?
– Случалось, и в пене захлебывались. – Гюст попробовал кормило по руке, поводил туда-сюда. Быстрый граппр, послушное кормило.
– Я не хочу умирать от рук дерьмоносца! – хрипел оттнир. – Спустите меня и моих людей на берег! Мы найдем зверей и падем в сече, – смертью, достойной детей Тнира!
– Слишком сложно, – ухмыльнулся Безрод.
Видсдьяур захрипел, из последних сил ударил мечом перед собой. Сивый, сидя на корточках, лениво отшлепнул лезвие.
– Перетяните им раны. Половину дружины на граппр. Уходим.
Глава 12 Гусек
Ушли недалеко. В гряде островов нашли крохотный клочок суши с родником и небольшим леском, свободный от обладателей низких лбов и выпяченных челюстей. Люди не сомкнули глаз до самого рассвета, и эти день и ночь Безрод отдал им. Вои разожгли костры, ели горячее, грелись и отсыпались. Счастливый Тычок все ходил по земле туда-сюда и от долгой отвычки все дивился тому, что земля такая твердая, аж колени подгибаются. С Рядяшей и Моряем Безрод спустился в трюм граппра. Негусто. Граппр оказался тощ, ровно волк по весне, с животом, прилипшим к ребрам. Два мешка с крупой, несколько баранов, кое-какая птица. Все.
– Живность на огонь! Да крупой приправьте. Взяли с бою – ешьте!
Смеясь, Рядяша с Моряем взгромоздили на загривки по барану, да ухватили по гусю в руку. Полезли наверх, Безрод напоследок обошел со светцом весь трюм еще раз. В углу прела сваленная сюда старая солома, изгаженная животными, вонючая, старая. Сивый подошел поближе, поглядел на солому, поглядел да и бросил:
– Вылезай, иначе подожгу.
В куче кто-то зашевелился, словно до этого не дышал, а теперь вдохнул полной грудью. Маленькие руки разгребли вонючий ворох, светлая головенка показалась из соломы, синие глаза глянули с чумазого лица. Малыш. Лет пять-шесть. Мальчишка. Глядит испуганно, прячет голову в плечи, но кулачонки стиснул.
– Вылезай.
Вылез. Волосы сбились в колтуны, рубашонка драная, рукава закатаны. Безрод смотрел на соломенное чудо и ухмылялся, малыш давно уже не молоком пахнет, а лежалым сеном, да бараньим навозом.
– Когда взяли?
– Три седмицы тому назад. Сивый усмехнулся. Мальчишку еще ни разу не продавали, праведное солнце еще не освящало купли-продажи, после которой человек становился рабом, если в нем ломалась воля. – Ступай вперед. Съем тебя за обедом. Малыш отпрыгнул назад, что-то звонко крикнул, и острая боль пронзила Безроду ногу. Сивый удивленно оглянулся. Гусь, обыкновенный серый гусь щипал ногу повыше сапога, а мальчишка прошмыгнул мимо Безрода и ринулся было к лестнице, путаясь в длинной рубашонке. Сивый стряхнул лапчатого с ноги и снял беглеца со ступеней. Повелитель гусей порывался кусаться, да не больно-то укусишь крепкие, будто деревянные, пальцы. Безрод поднялся на палубу, и парни изумленно замерли. Аж лица вытянулись. Спускались втроем, – вышли вчетвером!
– Где нашел подарок, воевода? – весело загоготали. – Неужели ладейное чрево мальчишкой разрешилось? – Хохотали так, что спящие на берегу проснулись.
– Наверное, раб.
– Нет. Ни разу не продавали. Вороток, сходи умой мальца, разит больно.
Под хохот дружины, Вороток понес мальчишку мыться. На ходу сбросил с него рубашонку, зашел по колено в море и окунул в воду. Маленький пленник фыркал, отбивался, а Вороток знай себе оттирал укротителя гусей до розового. – …Что-то крикнул, и будто углями ногу ожгло. Глядь, а это гусь меня терзает! – Вои катались по земле, держась за животы. – Духовитый малец!
Вороток вынес мальчишку на берег, кто-то кинул ему верховку. Закутанного в овчину малыша подсадили ближе к огню.
– Звать-то как?
– Гусек. – Мальчишка глотал злые слезы и косился исподлобья.
– Истинно Гусек! – Безрод подсел к огню. – Как попался?
– Пограбили нас, да пожгли. – Гусек утер глаза. – Так и попался.
– А какого роду племени?
– Былинеи мы. – Мальчишка закусил губу. – Только никого в деревне больше не осталось.
Крепился-крепился, – да и заплакал. Спрятался с головой в огромную верховку, и толстая шуба затряслась. Так и уснул у костра в овчине.
Баранов и гусей забили и зажарили. Ели, спали, спали, ели. Найденыш просил не бить того гуся, что ущипнул Безрода. Боевого гуся оставили жить. Посмеялись и оставили. Гусек сгреб друга в охапку и поведал, что, едва началась битва с островными, Столль-унд велел схорониться в трюме в солому, и если звери придут, лежать не шевелиться. Говорил, дескать, потом убежишь.
– Звери – это вы? – спросил мальчишка настороженно.
Нет, это невозможно! Столько смеяться невозможно! Животы надорвутся! – Может, и мы. – Безрод усмехнулся. Сам ведь обещал съесть мальчишку.
Гусек украдкой оглядел берег. С Сереньким бежать будет трудно, но он не оставит его этим. Вместе попали в плен, вместе и бежать.
– Да некуда отсюда бежать, малец! – хохотал Ледок. – Некуда! Вода кругом!
Они так смеялись… они так смеялись, Гусек крепился-крепился и залился вслед за воями звонким детским смехом. Впервые смеялся за три седмицы.
Вышли в море утром. Два граппра шли друг за другом. Павших оттниров упокоили в морской пучине, и впервые за два дня лица раненных полуночников разгладились. Благодарили молча, без слов, одними глазами.
– Еще один встречный граппр – и придется биться, – кусал ус Щелк.
На двух ладьях не уйти, когда одна идет на привязи, как ленивый осел, и тянет вторую назад. Потому и шли всё морскими глухоманями. Впрочем, издалека два корабля – не один. Поди, разгляди, что на две ладьи всего одна дружина.
– На торг не выйду! – твердил предводитель видсдьяуров Столль. Встать он не мог, ноги перебили.
– Я тебя отнесу, унд. – Безрод криво усмехнулся.
– Тебе придется меня зарубить! Я буду грызться! Мы все будем грызться! Ты правильно делаешь, что не подходишь!
– Я просто боюсь. – А я нет!
– Тебе легче.
Сивый отошел от пленных к кормилу. На граппре видсдьяуров кормщиком шел Моряй. Глядя назад, на Ювбеге, Гюст одобрительно кивал. Моряй от богов кормщик. По старому поверью оттниров, когда погибает граппр, его душу боги вкладывают в кого-то из новорожденных детей. Наверное, в Моряя боги вложили душу отличного граппра, бояны зовут их ладьями.
Сколько идут, а небо сине, и ветер тих. Подозрительно. Не случиться бы вскоре буре! Весной такие затишья не редкость. Вроде и должен ветер терзать парус, а он спит. Спит, но в эту пору просыпается внезапно. Без упреждения. Небо синее, и солнце светит, однако ветер налетит, будто из ниоткуда, завертит, закружит, изорвет парус в клочья. – Где заночуем?
Гюст задрал голову. Небо синее. Ясно. Да неспокойно что-то на душе.
– На Туманной Скале.
– Тебя что-то тревожит?
– Да, сват. Как бы буря не случилась.
– Небо ведь синее!
– То-то и страшно!
– И пусть грянет буря! – заревел Столль-унд. – Я призываю Тнира наслать бурю, и пусть морские волны упокоят одних и утопят других, как лишних щенят!
Гюст продолжал, будто никто и не встревал.
– Туманная скала очень мала, и на день пути в любую сторону других земель просто нет. У той скалы есть место всего для двух граппров.
– Слыхал я про Туманную Скалу, – крикнул Рядяша со своей скамьи. – Страшное про нее рассказывают. Дескать, это зуб Злобога, который он бросил посреди моря-окияна. И всегда получается так, что в бурю пристают одновременно сразу несколько ладей. И за место в заводи непременно случается бой. Ведь места – с воробьиный нос. А Злобог сидит на самом верху и смеется.
– Наддай! Р-раз-два-три! – Безрод ладонями отбил гребную меру. Сам сел за весло.
Рук не жалели, плечей не щадили, гребли – аж весла стонали, с ладоней отставала кожа. Грести приходилось еще усерднее, ведь на привязи теперь шел еще один корабль. Небо беззаботно синело, море ласково плескалось в борта, но все мрачнее с лица становился кормщик. Поглядывал на запад. Ювбеге мчался следом, на привязи, в одной длине позади. Редкие облачка плыли по небу. Гюст хмурился. Все начинается с облачков. Слабый ветер больше играл с парусом, чем помогал идти. Не случилось бы так, что скоро ветра станет, хоть отбавляй. Тогда бы и отбавить, но это не в человеческих силах. Солнце ушло за полдень, стало клониться к дальнокраю. Осталось меньше чем полдня, с таким ходом еще до заката поспеют. Только не нашлось бы в округе еще одного кормщика, одаренного даром предвидения, а с ним – дружины при острых мечах. Сивый дал знак сушить весла. Дух переведут – и снова в путь. Умаялись.
– Сказывали, Злобог нарочно подстраивает так, чтобы буря гнала к Туманной Скале сразу несколько мореходов, – продолжал Рядяша. – И тогда за спокойное место среди скал происходят жаркие битвы. Да только мало чести в той победе.
– Это еще почему? – усмехнулся Безрод.
– Будто за добычу дерешься, а только с собой не унесешь, в трюм не кинешь! Ночь переждешь – и тут же бросишь.
– Жизнь себе сохраняешь. Мало ли?
– Что жизнь? Держаться за нее, что ли? Я вот бурю люблю. Сколько раз попадал – только душа поет!
– Ты-то всяко не утонешь. – Щелк подмигнул остальным, кивая на могучие Рядяшины телеса.
– Не в море ждет меня кончина. На земле.
– Почем знаешь?
– Да уж знаю! – Рядяша многозначительно поднял палец.
– И я твою кончину знаю, – встрял Гремляш. – Всякий раз на стол подают. Жареную с хреном. У нее еще пятачок есть. Тычок сидел на корме, кутался в навощенную верховку и травил байки, смешно тряся козлиной бородой.
– Как-то мужик захворал горлом, пива холодного хлебнул. В горле перхает, кашляет, аж сил нет. Мучился день, другой, на третий понял, что денег в кулаке все равно не удержишь.
Вои заулыбались.
– Пришел к знахарке за снадобьем. А ее нет. В избе лишь какая-то девка. Мужик подумал, будто девка перенимает у старухи ведовскую науку. Знахарки нет, но дело простое, девка должна знать. Мне бы, говорит, что-нибудь от горла, перхает, кашляю, сил нет. Та ему: вот, возьми снадобье, добрый человек, пей. Мужик тут же выпил, деньги оставил, ушел. А тут знахарка из подвала вылезла, по какой-то надобности спускалась. Говорит, что за голоса были? Девка отвечает, – так и так, был мужик с больным горлом, уже ушел. Знахарка спрашивает, – дескать, что ты ему дала, глупая? Та показывает, вот это снадобье дала. Ну, знахарка в крик, дурища, это же снадобье от запора! Спрашивает, – где мужик? А девка отвечает, мол, за дверью стоит, на порожке. Кашлянуть боится. Вои аж по скамьям растеклись, – так смеялись, кто-то на палубу стек, от смеха безвольный, ровно студень. – А ну прекращай, Тычок, – прикрикнул Безрод сквозь ухмылку. – Чисто вражина, с настроя сбиваешь. В трюм запру.
Тычок отвернулся, якобы все это относилось не к нему. Но даже байки травить больше не было нужды. Воям только палец покажи. Стоило балагуру повернуться к воям, подмигнуть и просто раскрыть рот, – дескать, сейчас такое расскажу…
– А ну, собирайся на нос, болтун! Мигом!
Кряхтя, Тычок перебрался на нос. Еще долго оттуда слышалось неразборчивое бормотание. Но и того, что слышалось, хватало для смеха за глаза.
Солнце падало к дальнокраю. И все больше и больше хмурился Гюст. Быть буре нынче к ночи. И хоть молчат пока небо и море, буря случится непременно. Больно уж приметы говорливы. Нутро бывалого морехода не проведешь ясным небом! И вдруг, откуда ни возьмись, налетел порыв ветра, да так вздул паруса, что обе ладьи прыгнули вперед, ровно горячие жеребцы. И снова полуветрие. Но Гюст нахмурился еще больше. Этот порыв – провозвестник. Настоящий ураган еще впереди.
– Наддай, наддай! – крикнул Гюст. – Р-р-раз-два-три!
Вои сменили меру. Участили. – Знал, что на весле боян против оттнира никуда не годится, но чтобы так! – Гюст презрительно скривился. Вои глухо взревели, и Улльга полетел, чисто моречник. Скоро земля, вот и птицы закружили над ладьями. Так и летели; моречники по небу, ладьи по воде. Гюст покусывал ус. Весенний ветер очень силен и зол, хоть не встать ему рядом с бешенными зимними ветрами. Разгонит море до огромных волн, которые перепрыгнут граппр – и не заметят, растреплет прилизанное море в пенные лохмы. Солнце подкатилось к дальнокраю. Небо на западе побагровело, а вои все гребли и, плеч не щадили. Устали, очень устали, гребли уже не так быстро, как вначале.
– Скала! Наддай, мореходы! Глядит на вас Тнир и, наверное, смеется! – закричал Гюст.
– Любому… оттниру… нос… – Неслух выплевывал слова с каждым выдохом.
– …утрем! – закончил Щелк.
– Слышите? – Гюст прислушался. Где-то вдали прогремел гром. – Так смеется над вами Тнир, что в этом мире отдается!
Солнце коснулось дальнокрая.
– Успеем! – крикнул Гюст.
Туманная Скала вырастала неохотно, слишком медленно. Может быть, гребли небыстро, может быть, Злобог отводил глаза. Одно слово – скала. Только камень. Ни лесочка, ни земли, ни травы. Ничего.
Налетел ветряной порыв. Сильнее, чем первый, и гораздо дольше. Паруса захлопали, как белье на просушке. Протащил обе ладьи двадцать длин, – и бросил. Облака на небе наливались мощью, матерели, из белоснежных на глазах превращались в сизые, мрачные. Кормщик вперил взгляд куда-то к дальнокраю и вполголоса ругнулся.
– Что? Что там? – Безрод не мог обернуться. – Ну, что?
– А ну-ка наддай, бояны! Вам, кривоногим, только на лошадях скакать, так нет же! В море полезли!
Вои ревели и пыхтели, того и гляди, весельные замки раскалятся. Стонут, скрипят, пощады просят.
– Тетери сонные! Оттниру ходить с бояном на одном граппре – только плеваться! Р-р-раз-два-три!
Гюст ускорил меру, как мог. Гребцы еле дышали, сил не осталось никаких. – А-а-а! – выдыхали вои с каждым гребком. Распугали моречников.
– У вас руки не под весло заточены! Бе зруки! – Толком… – ревел Безрод. – … сказывай! – Вижу парус! – Гюст показал рукой на восток. – Тоже к Туманной Скале идут! Раньше их поспеть бы!
Поди, тоже гребут из последних сил.
– Кто… – Безрод скривился. – …ближе?
– Вровень идем! Они ближе, но с нами ветер!
Нынче ра вно – потом забавно! После такой сумасшедшей гребли руки меча не удержат, затрясутся, будто у горького пропойцы. А если потребуется рубиться, – как меч держать? Впрочем, у тех тоже не лучше. Встанут две дружины друг против друга – руки трясутся, плечи ходуном ходят, – то-то смеху будет. От смеха помрут, а не от ран. – Ну! – рявкнул Безрод.
– Ра вно! – Гюст прищурился.
– Наверное… никогда… Улльга… так… не… летал? – Так? – удивленно переспросил Гюст. Презрительно скривился, фыркнул. – Точно, не летал. Упал бы и разбился.
Солнце на треть ушло за дальнокрай. Вполовину. Пошли облака. Полнеба заволокли. Чудо, что целый день как по маслу шли! Нынче за это чудо придется расплачиваться. Все чего-то стоит.
– А теперь!
Гюст нахмурился, покачал головой.
– Ра вно.
С двух сторон к Туманной Скале подходили мореходы, с запада – ладьи Безрода, с востока – чужаки. У чужаков, наверное, тоже не малец безусый за кормилом стоит. Ведет ладьи уверенно, прямиком в укрытие. Значит, нужно держать ухо востро. Впереди выросла Туманная Скала. Гюст уже видел укрытие в скалах, щель в камне, куда еле-еле пролезет широкий торговый грюг. А граппр проскочит в узкую горловину, будто маслом смазанный. Сущая мелочь осталась – проскочить первыми. Паруса на чужих граппрах разные, на первом белоснежно-белые, левый верхний угол выкрашен красным. Горюнды. Второй парус полосатый, в продольную синюю полоску по белому полотну. Тьертский. И прибавить бы ходу, но не прибавишь, – на пределе идут. Уже языки, ровно собаки, на спины забросили. А потом несколько дней будет ломать руки, плечи, даже ноги. Три дня шею не повернешь. Вот она, Туманная Скала. И ведь на самом деле туманная. Невысокая верхушка укрыта туманом, ровно шапкой. Четыре ладьи с двух сторон подходили к узкому горлышку скального укрытия. Было уже темно, плохо видно, а Гюст считал весла у чужаков.
Корабли до сажени ра вно подходили к спасительной горловине. Разбежались, того и гляди, сомнут носы друг другу. Не будет нынче ни первого, ни второго.
– Суши весла! – крикнул Гюст. Если не остановиться, все пойдет прахом. Два граппра просто сомнут друг друга. – Ход назад! Р-р-раз-два-три!
Что-то кричали на чужаке. Там тоже сушили весла и спешно сдавали назад, останавливая красавца с бело-красным парусом.
Два корабля, чисто скаковые жеребцы, придушенные упряжью, вздыбились на волнах, закачались. Тихо-тихо подошли друг к другу и легко стукнулись носами. Вторые ладьи успели отвернуть в сторону, Моряй – вправо, чужак – влево. Горюнды не стояли на весельных замках с крюками на веревках, не скалили плотоядно рты, предвкушая ловкий прыжок. Некому. Вои на ладьях сушили весла и тряскими руками утирали пот. Даже встать со скамей не могли, лишь тяжело дышали и злобно косились на друг на друга.
Безрод начал подниматься. Спину свело, поясница просто взвыла. Сивый рывком вздернул себя на ноги и привалился к мачте. Ноги не держали, руки тряслись, перед глазами плыло. Воеводе горюндов приходилось не легче. Воитель в толстой черной верховке с разводами пота на спине и груди, пошатываясь, распрямил спину. Побелел, чисто некрашеное полотнище. Также полдня греб на пределе, едва жилы на весло не намотал. Чуть не упал, оперся на чье-то плечо и выстоял. Переваливаясь, ровно гусь, Безрод кое-как прошел на нос. Ноги стали как будто пустые, – только кости и воздух. Подкашиваются, дрожат, не идут. Ладьи бортами уткнулись в скалу, их разделял только узкий проход, уходящий вглубь островка, в крошечную заводь под защитой каменных гряд. Берега, как такового не было, плоский камень уходил сразу под воду. Небольшой каменный уступ – сотне воев улечься рядком – опоясал кромку воды. На тот каменный порожек с обеих ладей перекинули по веслу. Воеводы сойдут наземь, потолкуют, может быть, договорятся. Биться сил просто нет, пальцы не то что рукоять меча – иголку не удержат. Захочешь врага удушить, и то не удушишь. Даже просто устоять на ногах представляется немыслимым испытанием. С такими валкими ногами как бы вовсе не рухнуть.
Гюст косился на чужие граппры и невольно улыбался. Тоже не двумя дружинами в поход вышли, второй граппр, – тот, с полосатым парусом, – без сомнения, с бою взят. Именно поэтому на нем кормщик и половина дружины.
Воеводы замерли у бортов. Нужно пройти по веслу всего-то несколько шагов, прибивные волны сами не дают ладьям отойти, но до чего же тяжко дастся этот переход. Даже стоя ноги подгибаются. Вои напряженно глядели на своих воевод. Не упадут ли? Безрод мотнул головой, вскарабкался на скамью, перешел на весло, заваливаясь вперед, пролетел эти несколько шагов и рухнул на камень на своей стороне уступа. Десятком шагом дальше, через узкую щель, упал на скальный камень и полуночник. Сивый и оттнир с огромным трудом встали и подошли к самой расщелине каждый со своей стороны. – Я Бреуске-унд, со мною мои ундиры. Мы намерены переждать бурю в скальном укрытии. Ты пустишь сам, или нам овладеть тихой пристанью?
Сивый, не мигая, вымораживал оттнира серыми глазами. Ноги слабы, руки дрожат, пусть хоть глаза смотрят холодно и твердо, благо и стараться особо не нужно. Знай себе, гляди, и все.
– Больно горяч ты, унд. Я – Безрод.
Бреуске не старше Безрода. Нос тонкий, глубоко посаженные глаза оделись тенями изнеможения, – видать, который день толком не спит, – светлые лохмы выбиваются из-под шапки.
– Горяч? Тем и согрет! Уводи граппры. Мне не нужна добыча. Все равно унесет бурей.
– Кого-то уж точно унесет. – Безрод усмехнулся, кивая на сизое небо.
– Я даже знаю – кого. – Бреуске хищно оскалился.
Сивый усмехнулся. Налетит ветер, с ног снесет, а все туда же, – грозить да стращать.
– Уж не меня ли?
– Пусть твои ноги станут так же быстры, как думы!
– Каждому свое. Бояну – сушь, оттниру – море. Тебе и уходить, ведь не чужой Морскому Хозяину. Поди, хвастаете на каждом углу.
Бреуске улыбнулся. Верно, боян подметил. Море – дом оттниру. Дескать, вот и ступай к себе домой. Море не обидит, выкрутитесь.
– Уж если море наш дом, а суша – ваш, – оттнир хитро улыбнулся. – Ведь вы не откажете гостям в приюте?
Сивый ухмыльнулся. Боян гостеприимен, если дойдет дело до приюта, сам избу покинет, а гостя приветит. Хитер оттнир. Остры языки, да мечи острее.
– Темнеет, ветрище гуляет, – Безрод мотнул головой на открытое море, где ветер уже вовсю забавлялся с волнами. – Выходит, не договорились?
Оттнир мрачно кивнул. Выходит, не договорились. Быть сече. Оба, не сговариваясь, отошли от расщелины. Сивый оглядел воев Бреуске. Тоже не круглая сотня, одной дружиной две ладьи тащат. Бреуске скосил глаза на ладьи Безрода. Маловато на два граппра, вымучены, измотаны. Поди, не на скамьях отлеживались. Вои обеих дружин уже тяжело поднимались со скамей, тянулись за оружием, когда глаза Бреуске вдруг сузились в щелочки. Оттнир что-то выглядел на Улльге.
– Боян, пойдешь ли ты на единоборство?
Сивый без раздумий кивнул.
– Твой человек против моего?
Безрод кивнул.
Оттнир небрежно, скривив рот, кивнул на Улльгу.
– Твой мальчишка?
Безрод удивленно обернулся. Гусек стоял возле Тычка, кутался в верховку и во все глаза смотрел за воеводами, аж рот раскрыл.
– Ну, мой. – А вон стоит мой. – Оттнир показал на свой граппр. Так же, как Гусек, светловолосый мальчишка неотрывно глядел на каменный стол, где вели беседу воеводы обеих дружин, и тоже забыл закрыть рот.
– Зачем лить кровь справных воев, тем более, что победа выйдет сродни поражению, – Бреуске водил глазами с корабля на корабль и отчего-то светлел лицом. – Не поступить ли более мудро?
– Как?
– Не доверить ли выбор богам? – оттнир показал на мальчишек.
Над Гуськом властен не был, а своему одним жестом приказал вылезти на берег. Маленький полуночник мигом перемахнул на камень, подбежал к отцу, встал рядом. Сивый нахмурился, подозвал Гуська, тот смахнул с плеч верховку, выбрался на весло, ловко сбежал на берег.
– Говорят, дети чище нас и ближе к богам. – Оттнир воздел глаза в темные небеса.
Безрод оглядел маленького горюнда, потом Гуська, ухмыльнулся.
– Мой-то, пожалуй, года на три поближе к богам будет.
Гуську шесть, Бреускевичу – лет девять.
– И в том его сила. Твой сильнее. – Оттнир хитро улыбнулся.
Сивый долго смотрел на Гуська сверху вниз, мальчишка доверчиво глядел снизу вверх.
– Хорошо. Здесь же. При светочах. На нашей половине. Бреуске лишь кивнул.
Оттниры ушли к себе, Безрод увел Гуська на Улльгу. Вои ничего не слышали, ветер относил разговор от ладей, – мигом налетели с вопросами, стоило Безроду свалиться в ладью.
– Мальчишку? – зашипел Вороток, и глаза его гневно полыхнули. Вернулся в них пронзительный ледок недоверия. – Биться за воев?
– Да не блажи ты! – процедил Безрод уголком губ, взглянул – ровно холодом окатил и отвернулся к найденышу. – Гусек, поди, частенько с мальчишками в деревне дрался? – Да-а-а! Ка-ак дал однажды мало му воеводскому, – Гусек широко размахался, описывая свои ребячьи страсти. – Аж на четы… на пять шагов улетел! А еще Наворопке губешку раскровил, а он камнями бросаться стал. А еще Тишинок и Брызгулька вдвоем захотели мне синяки под глазами посадить, да я ка-ак…
– Вот и молодец. – Безрод погладил найденыша по светлой головенке. – А сына оттнира не сбоишься? Тот хвалился, дескать, побьет немоща белобрысого одной левой. Тебя то есть. Говорил, и места мокрого не оставит! Гусек мгновенно вспыхнул и ринулся было на берег, пытаясь пролезть меж обступившими воями. Дружинные хохотали, не пропускали мальчишку, а драчун пытался найти малейший зазор, пыхтел, ужом юлил.
Безрод поймал маленького поединщика, прижал к себе. – Скоро, скоро пойдешь. Да помни, бей, – что есть силенок. Кашу-то ел?
Гусек, сурово нахмуренный, кивнул, глядя на Безрода. Сивый передал мальчишку Неслуху, сам подозвал Воротка.
– Поди, пройдись от носа до кормы.
Вороток недоуменно вскинул брови, но пошел, неуклюже переваливаясь на дрожащих ногах.
– Ты. – Безрод показал пальцем на второго Неслуха.
– Ты…
– Ты…
– Ты…
В конце концов, подозвал сухого, невзрачного на вид, но выносливого, будто тяжеловоз Тяга и о чем-то с ним пошептался. Тяг лишь головой кивнул и нырнул в трюм. Затем Сивый перекинулся парой слов с Тычком.
Вои друг за другом высаживались на каменный стол. Граппры поставили бок о бок и крепко увязали. Сначала оттниры высаживались на Улльгу, и только потом на скалу. Два-три шага по веслу – и полуночники вслед за людьми Безрода сходили на берег. Все тревожно поглядывали вверх. Небо затянули тучи, ветер крепчал – налетит, размечет волосы, сорвет две-три шапки и будет таков. Буря не за горами, точнее, не за скалой, – вот-вот разразится.
Тычок заливался, будто ничего не происходило.
– …И вот говорит ему мать, жениться тебе пора, сынок. Уходят мои года, слаба стала по хозяйству.
Оттниры слушали-слушали, вертели головами, потом кто-то, знающий по-боянски, начал переводить для своих.
– Парень ей ответил, дескать, хорошее дело, но где бы такую жену взять, чтобы во всем оказалась хороша? Мать и спрашивает, во всем – это как? Сын и отвечает, чтобы домовитая была, да ела поменьше. А еще глаза мечтательно закатил и говорит, – дескать, лучше всего жениться на девке, которая воздухом питается.
Бояны уже улыбались. Оттниры, с некоторым опозданием – тоже.
– …И тут под окном проходила соседская молодица. Услыхала те речи, и саму в жар бросило. Прибежала домой и с порога матери бухнула, – дескать, замуж хочу. Та ей: ой, доченька, ой, милая, с твоим-то лицом – замуж? А девка хитро подмигивает, дескать, знаю, как дело обстряпать. Говорит матери, – пройди по деревне и пусти слух, будто твоя дочь вообще не ест, одним воздухом питается. Сказано – сделано. На следующий же день сватовство припожаловало. Сидит девка за столом, глазки в пол опустила, руки с колен не снимает, не ест, не пьет, на еду даже не глядит. Сваты спрашивают, – дескать, чего не ешь, девушка? Та им отвечает, не поднимая глазок с полу, – мол, вообще не ем, гости дорогие, одним воздухом и питаюсь. От воздуха, говорит, силушка диво как играет. Играючи со скотиной в хлеву управляюсь, и в избе, и на дворе. Говорит, иногда не знаю, что бы еще сделать. Воздух, говорит, у нас чудный. Вкусный, – не то, что в соседней деревне. У парня аж глаза загорелись, чище светочей заполыхали. Справили, стало быть, свадьбу. Тычок, хитро прищурившись, умолк, и нравоучительно воздел палец вверх. Бояны уже похохатывали, держась за животы, не отставали и оттниры.
– День прошел, второй минул, третий кончается, дело к ночи, а там и за полночь. Довольны оба. Умаялся парень за день и уснул. А среди ночи шасть рукой по ложнице, а жены-то и нет! Он, значится, по горнице поискал – нет ее, он в сени – нет ее, парень за порог – и тут нет! И вдруг слышит из подвала «: „Хрум-хрум-хрум-хрум“. Молодец прыг в холодную. А там…
Тычок закатил хитрющие глазки. Бояны ржали, чисто кони, оттниры грохотали, точно летний гром.
– …Стоит наша красавица в одной исподней рубахе, в левой руке кувшин молока, в правой держит копченого тетерева. Мудрено ли? Три дня крошки не нюхала, ни к чему не притронулась. Как увидала мужа, едва памяти не лишилась. Но ведь нельзя лишаться памяти! Не прожуешь – насмерть подавишься. Ну, она стоит и жует. Жить-то охота!..
Сраженные хохотом, упали наземь первые вои. Лежали на камне и держались за животы. – Парень оторопел, едва с лестницы не рухнул. Как же так, твердит, ты ж воздухом одним? В тебе ж силушка играет? А в хлеву играючи? А в избе? Баба ему в глаза глядит и жует, молоком запивает, дабы поскорее прожевать. Прожевала и говорит, – дескать, пока в девках бегала, и точно одним воздухом сыта была. Парень спрашивает, а что теперь сталось? Она ему – здрасти вам! Сам «распечатал», ровно кувшин, воздух теперь и не задерживается!
Стоящих просто не осталось. Первыми полегли бояны. И без того ноги еле держали, смех и вовсе колени растряс. Тот, что переводил для оттниров Тычкову байку, держался из последних сил, а когда, давясь хохотом, произнес последние слова, первым рухнул на камень. Тычок остался один, скреб затылок, озирался кругом и поглядывал вверх. Показалось, что кто-то наверху гогочет раскатистее всех. Густой голосище стекал со скалы, ровно патока по стенкам кувшина. – Оно ведь, как получается? Вышел я один против полуночной дружины – и всех укатал! – Тычок пожал плечами, погладил Гуська по голове, оглянулся вокруг, выглядывая Безрода. – Стар да млад одни стоят, – и затылки теребят! Вои отгремели, отхохотали, вытирая слезы, поднялись. От дела не убежишь. Как уговорились, так и будет. Буря поднимается. Надо спешить.
Бойцы обеих дружин встали со светочами кругом. Воеводы накручивали мальчишек перед сшибкой. – Говорил, что побьет тебя, немоща белобрысого, размечет косточки по всем сторонам, подарит Морскому Хозяину. Да, он тяжелее тебя, этого не отнять, но и ты стой, не падай. Три седмицы зуб на оттниров точил. Вот и кусай. Гусек согласно кивал. Он-то, конечно, знает, что кусаться в драках нельзя, воевода про «кусаться» иносказательно говорил, толечко однажды Голька всамделишно укусил за нос. Вот больно-то было! А чего это вои хохотали, аж по земле валялись? Что-то смешное дед Тычок рассказал? Бреуске поднял на Безрода глаза, – готовы ли. Сивый кивнул. Вои замолчали. Поединок дело серьезное, – даже когда дерутся дети. Наверное, столь тяжкий груз ответственности еще никогда не падал на детские плечи. Больше полусотни жизней. И взрослому вою стало бы не по себе, что уж про детей говорить? Маленькие поединщики вышли на середину, оба насупленные, глаза горят. Пошепчутся друг с другом и сцепятся. Гусек что-то сказал, Бреускевич ответил. Безрод взглянул на востроухого Ледка, услыхал, что шепчут? Ледок слышал, улыбнулся и наклонился к Безроду.
– Ты, говорит, болтал, что я малахольный? Думаешь, забоялся? Сейчас, говорит, сам получишь! Вздую так, даже папка не узнает!
– А оттнир?
– Говорит, сей же миг раскровавлю губешки! На ветру захлопают, будто паруса!
Мальчишки сцепились. Биться холодно, расчетливо еще не умели, мутузили друг друга размашисто, пригнув головы. Сразу разбили друг другу носы, и пыхтели, выбивая пыль. Из Бреускевича вырастет славный боец. Мальчишка будто не замечал разбитых губ и носа, шел вперед, ровно упрямый бычок. Гусек, видать, тоже побывал в драках, стоит не падает, но три лишних года свое все равно возьмут. И вдруг страшный хохот прилетел с вершины скалы, – густой, хриплый, зловещий. Вои задрали головы, стиснули рукояти мечей, напряглись, готовые махом обнажить клинки. И только маленькие поединщики ничего не слышали и не замечали кругом. На короткий миг ветрище разметал облачную шапку на вершине, и всем показалось, будто на скале стоит огромный человек и бросает вниз оглушительный смех. Дружинные похолодели, теснее сдвинулись, не разбирая – свой или чужой. Крепкое плечо – всегда крепкое плечо. Скальная макушка снова закрылась облачной шапкой, а из-за туманной пелены все падал вниз хриплый, зловещий смех. Вои опустили головы, глядели на поединок, но краем глаза косились наверх. Чудеса! Одно слово – Злобожья скала!
Повалил-таки оттнир Гуська. Три года – не шутка! Бреускевич прожил на белом свете на треть больше, чем соперник. Гусек пыхтел, пытался сбросить оттнира, да тщетно. Дружина Бреуске радостно завозилась, возгласы торжества взлетели в небо, оттниры подзуживали своего, подбадривали. Бояны мрачно стиснули рукояти мечей, кусали губы, поглядывали на Безрода, но Сивый не отрывал глаз от маленьких поединщиков и даже разу лишнего не вздохнул. Гуська не стало видно под оттниром, досталось обоим, но мальчишки держались, не плакали. И в рокоте зловещего смеха, что падал из-под облачной шапки, вдруг захлопали в воздухе крылья. Откуда-то сверху, со скалы, будто снег на голову в середине лета, в круг опустился большой серый гусь. Гусак, шипя, подскочил к мальчишкам и, для пущего устрашения расправив крылья, ущипнул оттнира в оттопыренный зад. Мальчишка взвизгнул, его снесло с Гуська ровно ураганом. Подскочил и Гусек, сам порядком потрепанный, и вдвоем они вынудили Бреускевича отступить за спину отцу. Гусек махал кулаками, гусь шипел и щипался, маленький оттнир не успевал на две стороны – и, в конце концов, спрятался за отца.
Бреуске побелел от злости, ухватился за рукоять меча, – дескать, откуда взялся этот гусь, но, поймав холодный взгляд Безрода, овладел собой. Оттниры поначалу опешили, а потом зло загудели, будто разъяренный пчелиный рой, мечи поползли из ножен, а секиры – из петель. Бреуске гневно прикрикнул на дружину, и оружие вернулось на место. Безрод выступил вперед, кивнул Воротку, и тот мигом подхватил на руки Гуська, полумертвого от усталости. Гусь кинулся на Безрода, и Сивый сам подставил руку, а когда гусак ухватил клювом жесткую ладонь, мигом поймал птицу за шею. Гусак захлопал крыльями, забился, но Безрод лишь крепче прижал серого к себе. Унд оттниров подошел к Безроду. Бреуске с трудом держал гнев в узде.
– Твоему сыну девять лет, моему мальчишке шесть, – Безрод, оценивая, покачал серого. – Гусю года три. Итого те же девять. Сверху упали три года для моего парня. Стало быть, уравняли боги мальчишек?
Бреуске мрачно кусал губу. Видать, сам Злобог послал сюда этого гуся, иначе откуда ему тут взяться, посреди моря, вдалеке от земли, среди моречников? Ведь все знают, что лебедь – птица Тнира, гусь – птица Злобога, как и сам он кривое отражение Тнира. Вот так уравняли боги девять лет его Оддалиса и шесть лет боянского мальчишки тремя годами здоровенного гусака. Не иначе, дети на самом деле чище взрослых и ближе к богам. Все случилось именно так, как сам предсказал. Услышали боги воззвание к справедливости. Громовой раскат зловещего хохота прилетел с небес, и Бреуске мрачно содрогнулся. Это хохочет Злобог. По богу и смех. Вои обеих дружин, насупившись, ждали.
– Скала остается тебе. Мы уходим. – Бреуске отдал землю боянам, ровно корку заплесневелой лепешки.
Ничто не дрогнуло в голосе унда. Оттнир не унизит своего слова ложью и страхом и не пройдет в жизнь по растоптанной чести. Его ундиры не схватятся за мечи в отчаянии от проигрыша, в надежде удержать жизнь любой ценой. Бреуске отвернулся, собрался было уходить, но унда остановил ровный голос Безрода.
– Оставил бы мальчишку. – Сивый кивнул на побитого, злого Бреускевича. – В Торжище Великое иду. Отдам вашим. Привезут домой. Что в море нынче станется? Не погубил бы сына.
Оттнир молча выслушал, развернулся назад и медленно подошел к Безроду. Долго глядел прямо в глаза.
– Страшная буря идет. – Безрод кивнул в черное небо. – Передам из рук в руки, кому скажешь.
Унд смотрел в серые глаза долго и пытливо, а хохот с вершины катился вниз, будто снежная лавина, грозя уничтожить. – Ты – человек, срубивший в поединке Брюнсдюра!? – Горюнд, сощурив глаза, играл желваками. – Немного найдется на свете людей, изукрашенных шрамами по лицу, ровно старики – морщинами. Я тебе верю, боян. Найдешь в Торжище Великом Раггеря-купца, его там всякий знает. Он мой брат. Отдашь сына ему. Выживу – заберу. Бреуске что-то строго наказал сыну, поднял на руки, обнял. Мальчишка крепился-крепился, но уж слишком много выпало маленькому поединщику этим вечером. Судьба целой дружины лежала на его плечах, а он не смог оставить их жить. И вот они уходят друг за другом, кричат в черное небо что-то дерзкое и веселое, громко смеются, перебивая зловещий смех, и прощаются с ним. Он не плачет, просто слезы сами бегут по чумазым щекам. И вовсе не трус, не побоится остаться один среди боянов. Так наказал отец. Оттниры по одному сходили в граппр. Второй оставят тут. Выгрести против шалого ветра на двух кораблях не получится. Глупое занятие тащить за собою бесполезный волок, тратить на жадность и без того скудные силы. Полуночники взялись за весла, грянули прощальную песню и, медленно выгребая в открытое море, развернулись и ушли в ночь. Вороток что-то втолковывал Гуську. Мальчишка хмурился, дулся, глядел исподлобья, мотал головой, прятал руки за спину. Вороток не сдавался, присел на корточки, горячо выговаривал маленькому воеводе гусей. Тот надул разбитые губы и щеки, глядел по-прежнему бычком, но головой мотать перестал. Наконец, тяжело вздохнул, кивнул Воротку и пошел вперед, – туда, где стоял покинутый Оддалис. Взял недавнего противника за рукав и потащил к воям. Бреускевич пятился спиной, не отрывая взгляда от моря, которое унесло во тьму отца и дружину. Слезы текли по щекам, размазывая грязь, мальчишка их даже не глотал. – По местам! – рявкнул Безрод. – За весла! Время не ждет! Гусек потащил Оддалиса в Улльгу. Вои мигом переправили мальчишек в ладью, – и сами по-одному неловко запрыгали на палубу. Разбились на две дружины, вторая дружина ушла на корабль видсдьяуров, к Моряю. На веслах отошли от скалы, подняли парус и забрали весла. Гюст поймал ветер, и Улльга медленно пошел прямиком в узкое каменное горло. Мимо уходил на разворот Моряй. Дадут боги, пройдут в расщелину без сучка, без задоринки. Гюст провел Улльгу в каменный пролом, оставив до гранитных стен по два шага с каждого боку. Граппр лениво ткнулся носом в тупик, а сзади вползал в спасительную щель Ювбеге, что вел Моряй. Гюст постоянно оглядывался назад и не сдерживал возгласов одобрения. Определенно, боянские боги вложили в парня душу погибшего граппра! Добрый вышел кормчий. Вои уже привязывали ладьи друг к другу и веревками распинали на береговых валунах. Не оборвал бы ветер крепеж. Затем все сошли на остров и в скальной пещере развели костры – с граппра, брошенного дружиной Бреуске, сняли несколько скамей. Быстро снесли на берег содержимое трюма, и отпустили граппр в море. Быстроногого морского коня провожали долгими взглядами, и у всех сердце кровью обливалось. Эх, такая ладья! Гюст не смотрел. Больно. Налетел ветер, да не ветер – ветрище! Обе ладьи разом вздрогнули. Между скалами завыло, засвистело и, будто вторя, с вершины холма грянул зловещий хохот. Вои поежились. – А гуся-то я узнал! – Рядяша подмигнул воеводе и вполголоса рассмеялся.
Безрод покосился в угол пещеры, где, укрытые верховками, без задних ног спали мальчишки.
– И яблоко гнилое тебе цена, если не узнал бы! – фыркнул Сивый.
Вои хотели было громогласно рассмеяться, но Безрод сердито цыкнул и приложил палец к губам. Не разбудить бы маленьких поединщиков.
– Рассказывай! – Сивый взглянул на хмурого Тяга. Воин поднял мрачные глаза и оглядел каждого.
– Пролез я с гусем на самый верх. Дабы не гоготал, клюв обмотал тряпкой. Вот ползу себе по скалам, ползу, ноги трясутся, сил просто нет. Думаю, сей же миг свалюсь. Ан нет, не свалился. Значит, подползаю к самой вершине, – и едва жизни не лишился. Хохот сверху упал, – ровно враг на спину. Едва с душой не простился! Откуда? Ни жив, ни мертв, поворачиваю голову и вижу – ветрище разорвал облачную шапку, а на скале стоит человек. Огромный, здоровенный, и смеется в голос. Сам смеется, а глаза пустые, ровно через силу хохочет. Стоит, глядит вниз и смеется, да только нет на лице веселья. А как на меня взглянул, показалось, будто в пропасть падаю, мурашки по спине разбежались. А вокруг него словно и небо чернее, и дышать тяжелее. Пополз я дальше, сбросил гуся вниз и чувствую меж лопаток взгляд, как если бы кто-то нож в спину всадил. На обратном пути аккурат на хозяина и наткнулся. Уж как он на моем пути возник – сам не понимаю, ровно из-под земли выскочил! Не было, – и на тебе! Я за меч, а он зубы скалит, – дескать, пустое. Гляжу и сам понимаю, что пустое. Жизнь положу, а не одолею. Вокруг него и воздух тяжелее, и тьма гуще, и такой мощью все кругом полнится – руки-ноги будто окаменели, сдвинуть не могу. Здрасте вам, говорю, как ваше ничего? Доброго здоровья, хозяевам! И тебе, отвечает, не хворать. И опять ржет. А у меня будто уши заложило, едва памяти не лишился. И давай оттуда ноги делать, – уполз, ровно ящерка.
Тяг умолк, а вои мрачно переглянулись. Не иначе, Злобожьи проделки столкнули у спасительной заводи нос к носу четыре ладьи. Молва говорит, что Злобог метит кровью свои забавы у этой скалы. – Может быть, и метит, да только не в этот раз! – усмехнулся Безрод. – Разве тягаться одному Злобогу с двумя хитрованами?
– Как так? – вертлявый, вездесущий Тычок протиснулся к огню.
– Ка ком кверху! – фыркнул Неслух и, легко оторвав старика от земли, поставил рядом с собой, дабы воеводу не застил.
– Думал унд, побьет его сын Гуська, на то и ставил. Обхитрил оттнир хозяина. – Сивый показал глазами наверх. – Не случилось большой крови. А и я схитрил. Пока Тычок валял оттниров по земле, Тяг наверх гуся тащил.
– Ловко!
– На всякого хитрована найдется…
– …Старик с байкой, да с неба гусь! – закончил Щелк и первым рассмеялся.
В каменной толще, под сводом пещеры, заметался оглушительный хохот. Безрод хотел было упредить, чтобы молчали, да рукой махнул. Все равно молчать не заставишь, – разгоготались, чисто жеребцы. Да и мальчишки спят, как убитые. Снаружи ревел ветер, свистел, врывался в пещеру, играл с огнем. Дружинные облегли костры и пытались уснуть. Огромные волны высотой с ладейную мачту, нагулявшие силу на свежем ветре, разбегались издалека и с ревом бились о камни. Скала тряслась от этих ударов, как детская песочная горка. В полночь Безрод вышел на свистящий ветер и, закрываясь от жестоких порывов, задрал голову. Облачную скальную шапку разорвало в клочья, и в отблеске молний Безрод углядел на самом верху очертания человека. Тот смеялся, да так громко, что перекрывал свист ветра. Сивый полез на скалу в том месте, где это сделал Тяг. Несколько раз едва не сорвался на скользких камнях, на пронизывающем ветру стыли руки. А когда подполз к самой вершине, буря стала утихать, дождь истончал и стал жалкой промозглой моросью. – Дополз!? – Голосище едва слуха не лишил.
Безрод встал на ноги, отряхнул руки.
– Дополз.
Хозяина не тревожили ни ветер, ни промозглый морской дождь, ни морозец, поднявшийся на ночь. Вокруг воя как будто вообще не было времени. Безрод перестал его чувствовать.
– Я думал, убоишься. Разное болтают.
– Так и боюсь. Слава богам, не дурак.
Воитель усмехнулся и кивнул. От его кивка земля под ногами ходуном заходила, Безрод едва не упал навзничь.
– Чего ж пришел?
Сивый бросил на исполина быстрый взгляд, и сделалось понятно, как ничто никогда не становилось понятно: этот может все. И мечом, и секирой, и руками. Холодные, злые глаза и впрямь не смеются, смех есть, а веселья нет.
– Невежливо хозяину челом не отбить, – Безрод, ухмыляясь, низко поклонился. – За гостеприимство, за хлеб-соль, за кров.
Хозяин рассмеялся, а рядом с Безродом точно гром громыхнул, – бросило на колени, мало не оглушило. – Да не жалко! – грохотал вой. Сивый с трудом встал на ноги. Пред глазами все плыло, в ушах гудело. Силищей так и веет, будто в воздухе разлита. – Заслужили!
– Жалеешь, что кровь наземь не пролилась?
– Не без того!
– Значит, это ты! – прошептал Безрод.
– Я! – Человек кивнул. – А это, стало быть, ты? Отца твоего знал… Знаю.
Безрод ровно вымерз.
– Тот же норов, тот же глаз. Да ты глазками не сверкай, больно сверклив.
Сивый хотел спросить об отце, но в горле что-то пережало. Ни слова не выдавил.
– Нет, не скажу! – усмехнулся хозяин. – Много будешь знать, скоро состаришься.
И рассмеялся. Безрода затрясло, еще немного – и кости ссыпались бы в сапоги. Воздух кругом замутило, закачало, точно знойным маревом подернуло.
Истинно злодей. Крови не напился, так покой себе забрал. И где же искать его, отца незнаемого?
– А мать знал?
– Знал. – Воитель, криво улыбаясь, кивнул. – Диво как была хороша. Сам зарился, да отец твой дорожку перешел. А ведь ты мог быть и моим сыном!
– Какая дура от тебя добровольно понесет?
– Ты кулаки разожми, вон косточки побелели. Зло держишь? Пустое! На меня зло держать – все равно, что в море воду лить.
Безрод мрачно, исподлобья буравил собеседника глазами. Усмехнулся.
– Так-то лучше. А то набычился, ровно двухлеток…
Сивый без размаха воткнул кулак хозяину в скулу, прямо под холодным глазом. Кого другого с места снесло бы, а этот лишь покачнулся и замотал головой. Рассмеялся. Смеясь, и ответил. Безрод расплескался о камень, точно морская волна, что бьется о скалу. Шатаясь, поднялся, улыбнулся разбитыми губами. Не абы с кем схватился! Воитель грохотал, надрывая живот со смеху. Безрод, качаясь на ходу, подшагнул на верный удар, – и выколотил пыль из рубахи противника, прямо с груди. Хозяина скалы отбросило назад, глаза налились непроглядной теменью, смех стал похож на утробное рычание. Сивый прошептал:
– Кто отец?
– Не скажу! – грохотал смешливый. И едва не захлебнулся смехом, – кулак Сивого пришелся в горло.
Безрода потрясали страшные удары, но и смех перешел в хрип. И вот один осел на камень, второй, шатаясь и хрипя, привалился к скале. Хозяин махнул рукой и сипло рассмеялся. Давно так холку не чесали, кровь не гоняли. Едва на ногах остался. Еще два-три удара, – лег бы рядком. Изболится тело поутру, синяками изойдет, станет не повернуться.
Безрод пополз прочь. Все тело ныло и кричало. Сивый поднимался на ноги, делал несколько шагов и опять падал. Скатился со скалы, чудом не разбился. Долго не мог встать на тряские ноги. Дурак дураком, кого бить взялся!? Одно радует, тридцать с хвостиком лет назад отец утер нос хохотуну. Жаль, смеяться нельзя – губы разбиты. Распухли, как мочала.
Стражу не ставили. Вся скала с ноготок, кого опасаться? Безрод ввалился в пещеру, рухнул у костра и застонал в себя. Как ни повернись, все бока отбиты, и так плохо, а так еще хуже. Только ступни целы, хоть поднимайся на ноги и спи стоя. Сам не заметил, как уснул. Даже не уснул, а провалился в забытье.
– Ну, чего уставились? – прошипел утром Безрод, едва разлепив губы.
Парни стояли вокруг воеводы и не знали, смеяться или хмуриться. Лицо – сплошь синь да краснота, под рубахой тоже не все ладно. Сивый, кряхтя сел, кряхтя поднялся. Весь островок сто шагов в любую сторону, – с кем схватился?
– Рты позакрывайте, – просипел Безрод. – Все равно не скажу.
– И не говори, – развел руками Щелк. – Сами как-нибудь. Все на виду.
Сивый только головой покачал и криво ухмыльнулся. Огляделись, перечлись. Вроде все налицо, и все на ногах. Свежих синяков нет, все старое, давно поросшее быльем, то есть бородами. Безрод усмехнулся.
– Нашли?
– Нет, не нашли, – бойцы почесали затылки.
Дрыхли, ровно медведи зимой, – не сберегли воеводу. А взглянуть на это дело по-другому, – от кого беречь? Все свои, чужих на острове нет. Разве что, сам виноват. Полез на скалу да свалился оттуда, кровавые сопли на камнях оставил.
У кого хватило умения расписать воеводу синяками, ровно глиняную свистульку? И вдруг Тяга осенило. Едва наземь не сел. Глаза выпучил, будто ежа проглотил, кадык на горле так и заходил. Едва Сивый увидел горящие Тяговы глаза, прошипел:
– Ни звука! Тяг мрачно кивнул. Он никому не скажет, но парни все равно догадаются рано или поздно. Уже догадались.
– Все наперечет. – Дружина мрачно обступила Безрода. – И чужих на острове нет. Зато есть хозяин скалы.
– Ну, есть и есть. Чего застыли, как столбы? Море поет, в дорожку зовет.
Губы едва слушались. Впрочем, парни и без того поняли, что нужно делать. Засновали туда-сюда, перетаскивая на ладьи пожитки. Сивый стоял в стороне от суеты, подперев плечом валун. Переправили мальчишек и раненых видсдьяуров на Улльгу, закидали добро. Все тело ныло, ровно камнями побили. А ведь так и выходит – камнями побили, только не камни кидали, а – его на камни. Безрод, едва не падая, взошел на Улльгу. Тяжело опустился на палубу, дал отмашку.
– Пош-ш-шли! – рявкнул Щелк.
Первым делом волоком, за веревки, потянули Ювбеге из горловины. Веслами не выйти. Тем же манером вывели Улльгу, чисто коня из стойла. На прощание из-за туманной пелены с вершины скалы прилетел зловещий смех. Все как вчера, только смех уже не такой звонкий. Хрипит, да сипит. Вои, как один, повернулись к Безроду, а тот и глазом не повел.
Глава 13 Снова один
Стали выгребать в открытое море. Ох, руки-ноги заныли, жилы-косточки заплакали! Вчерашняя гребля боком вышла. Безрод сидел на носу, привалясь к борту, и лишнего разу не шевелился. Только зыркал из-под бровей по сторонам. И вдруг… Чудеса, да и только! Из-за скалы выплыл граппр, отпущенный вчера на волю волн. Потрепан, однако цел. Словно всю ночь бродил вокруг да около, как бездомный пес, от людей уйти не захотел. Никто на него не позарился. Ни Морской Хозяин, ни ветер, ни скалы. Безрод только глазом повел. Бродягу тут же поймали и привязали к ладье Моряя. Не спешили. А чего спешить? Знай себе, иди под парусом, глядишь, и воевода оклемается, на берег сойдет, ровно огурчик. Тычок хитро повел глазками по сторонам, пристроился на корме около Гюста, достал из тряпицы каленых орешков и невозмутимо повел:
– А вот однажды…
– Молчи, вражина! – просипел Безрод.
Даже горло болит, словно орал давеча во весь голос. Если Тычок за свое взялся, как пить дать, придется смеяться. А как смеяться, если от простого чиха всего корежит, будто на куски рвет? До Тычка, конечно, не долетело, но вои передали по цепи, и последний, Рядяша рявкнул старику:
– Молчи, вражина! Сидеть тебе в трюме аж до самого Торжища Великого!
Старик махом забросил все орешки в рот, и стрельнул хитрыми глазками по сторонам. Дескать, молчу, люди добрые. Щеки раздулись, как у хомяка. Уж лучше бы рассказал что-нибудь, глядишь, смеху было бы меньше…
Уходили одной ладьей, в Торжище Великое пришли о трех. Знатно разжились. Ни одного человека на добро не сменяли. На дальних подступах к Перекрестню-острову стали попадаться ладейные дозоры. Две-три ладьи. Подходили, справлялись, что за люди. – Товару на мену везу, – угрюмничал Безрод.
Дозорные понимающе кивали и прятали ухмылки. Купец, значит? Так усердно торговал, что рожу вдвое разнесло! Сивый мрачно сверкал глазами и усмехался.
Перекрестень-остров встал на пути неожиданно. Не было, не было – и вдруг застила дальнокрай полоска земли. Ладей стало побольше, птицы засновали над мачтой.
Солнце падало. Как раз к ночи подошли. Поставить ладьи, занять постоялый двор с банькой, да закатить пир горой. И седмицу париться, отогреваться, отскабливаться, ни о чем не думая, кроме доброго меда да чистого ложа. С дозорной ладьи дали знак принять вправо. Торговые корабли с боевыми не мешали. Первым пристал Улльга. На берегу уже поджидал сборщик мыта, радостно потирал руки. – С боевой ладьи станового мыта в полраза больше против торговой, ладей три, стало быть… – Сборщик, закусив язык и закатив глаза, соображал.
– Ты, собака, ври да не завирайся, – над пройдохой горой навис Неслух. – Ишь, обсчитал, как будто нам последние мозги выбили! Кто же так считает? Тебе только отнимать добро – не складывать!
Сборщик раскинул по сторонам хитрыми глазками, – ну, чисто Тычок, – и хлопнул себя по лбу.
– Ну, я и говорю, не столько, а вот столько! Разве можно так пугать? Чуть с мысли не сбил!
– Тебя собьешь! Еще загодя Безрод пошарил по ладьям, нашел одежку поприличнее и нарядил Тычка. И теперь старик важно выступил вперед в расписной рубахе, доброй верховке, справных сапогах и лисьей шапке. Тычок предстал пред сборщиком мыта дружинным счетоводом и важно зазвенел деньгами в мешке. Только глазки остались прежними, хитрющими. Тут еще поглядеть, кто кого надует. Нашла коса на камень. Тычок отвел сборщика мыта в сторонку, о чем-то с ним пошептался, оба рассмеялись, и Тычок отсчитал мытнику деньги. Расстались довольными. – По одной ладье мыто снял, – важно сообщил Тычок. – Дружина-то одна. Остальные как лодки посчитали. Стражники привязали ладьи к черно-желтым полосатым столбам. Рядом колыхались на волнах урсбюннские граппры, чуть дальше – соловейские ладьи, еще дальше – былинейские, еще дальше – гойгские граппры. Весь подлунный мир сошелся на Перекрестне-острове. Темнело. С Тычком, Рядяшей и Щелком Сивый сошел на берег. Постоялые дворы собрались в целый конец. Так и шли друг за другом. Безроду и остальным приглянулся постоялый двор чуть поодаль от пристани. Летом обязательно утонет в яблоневом цвету. Сложенный из неохватных бревен, за высоким забором стоял уютный дом, похожий на дружинную избу. Безрод толкнул ворота.
– Эй, хозяин! Или спать улегся? – звонко крикнул Щелк.
– Никак не улегся! – Хозяин со светочем вышел на крыльцо. Как будто ждал.
– А коли так, зови гостей в избу!
– Если с добром пожаловали, так и несите добро в избу, гости дорогие!
По одному прошли внутрь. Хозяин усадил всех за один стол, выставил жаркое, медов, сел в голове, приготовился слушать.
– Пусто у тебя нынче?
– Только-только горюнды съехали. Море-то открылось, вот и ушли купцов охранять. Расходятся купцы по сторонам.
– Ну и ладно! Одни ушли, другие пришли! И захочешь один побыть – не получится! Не дадим!
– А мне и в радость! Стойте себе на здоровье! Долго простоите? – Седмицу. Доволен?
– Ноги путать не стану. Отпущу.
– Темно на улице, не разглядели, банька есть?
– А как же! Слышь, мальцы плещутся, все бы им играть! Лодочки в пруду пускают. Из бани как раз в пруд попадешь. Сам копал! Чиста водица, ровно слеза, а холодна – дух перехватит!
– Даже летом?
– Даже летом! В каждом постоялом дворе такие отрыты. Речушка под землей бежит, вот наверх и выпускаем.
– Умно!
– На том и стоим!
– Топи баньку, хозяин. И мы стоять будем!
Ударили по рукам. Вои ушли, а Тычок остался. Утрясут с хозяином денежные дела.
Безрод не произнес ни слова, – говорил Щелк. А хозяин, уж на что навидался в жизни, все косил краем глаза на воеводу пришлых, расписанного, точно летняя радуга. Тяжко, видать, пришлось воителю. Оставив на ладьях стражу, перешли на постоялый двор с красным яблоком на вывеске. А хозяину будто полегчало, – аж в улыбке расплылся. Видать, не привык к тишине, словно болел, пока двор пустовал. Мальчишки, дети хозяина, провожали боянов по хоромам. Слуги разводили огонь, били птицу, топили баню, парни весело перешучивались. Добрались! Все!
– Парку подбавь!
– Ох, Тычок, не жалей квасу!
– Что есть плещи, чтоб шипело в печи!
Парились и от удовольствия гоготали во все горло. Хлестались вениками, обдавались парком, бросались в пруд. Уже ничто не мешало Безроду париться с воями, видели всё, что прятал. Попеременно Моряй, Рядяша, Неслухи мяли воеводу, в горсти собирали, ровно кожемяка кожу. Синяки встали по всему телу, после скалы Безрод сделался пятнист, ровно пегая корова.
– Больно жесткий ты, воевода, – Неслух гонял кровь по телу Безрода огромными ручищами. – Чисто бревно мну.
– Полегче! То-то и оно, как бревно мнешь! Со скалы жив ушел, так неужели у тебя в ручищах помереть придется?
Неслух грянул хохотом, а Безрод поморщился. На скале едва слуха не лишился, – тут свои норовят оглушить. Здоровяк весело рокотал над самым ухом, чисто летний гром, от всей своей широченной души.
А вода в пруду и впрямь оказалась чиста, ровно слеза, и холодна, аж дух захватило. Неслухи, наверное, полпруда выплеснули, когда вдвоем прыгнули. Прыгнули – и ну давай друг друга топить, а там и Рядяша за Моряя принялся. Безрода так и заболтало на волнах, что подняли эти четверо. Как буря в лохани. Несколько раз Сивый уходил обратно париться, да так распарился, что в сумраке светиться начал. – Сей же миг зашипит, – прошептал Гюсту Ледок. – Только прыгнет в воду, и не станет пруда. Весь в пар уйдет!
– Не жаль, – кряхтел кормчий. – Новая набежит!
Шутки шутками, но вои в пруду на самом деле замолчали, обратившись в слух. Слушали. Может, и впрямь зашипит?
– Чего смолкли? – просипел Безрод, подходя к пруду. – Или языки распарились, на зубах свисли?
– Так ведь ждем! – Тычок назидательно воздел палец вверх. – Может, зашипишь в воде. Рожа-то будто солнце красна!
Сивый ухмыльнулся.
– Если я зашиплю, кто-то заблажит.
– Да? И кто же? – Тычок сделал непонимающее лицо, на всякий случай отплыл подальше и спрятался за Ледка.
– А вот мы глянем. – Безрод подмигнул Ледку.
Отплыть балагур не успел.
– Ведь помирал только что!.. – орал старик и булькал. – И нате вам, ожил!.. Да еще топить удумали!.. Я вот на землю встану!.. Оба у меня получите!..
Ледок выбросил Тычка из воды. Старый плут мигом убежал в баню греться и в дверях погрозил кулаком. Только дверь в баню за ним и хлопнула. Там и остальные полезли из воды. Холодна водица! Безрод раскатисто захохотал. И плевать, что внутри все содрогается и переворачивается, а губы разошлись трещинами.
Мальчишек Сивый поручил Воротку. Молодой соловей в осеннем нашествии оттниров лишился младшего брата и ходил за обоими точно за малолетними родичами. Загнал вместе с воями в баню, самолично парил-отогревал от морских сквозняков, веником ухлестывал. Мальчишки, гордые париться с воями, все делали как взрослые, вот только меды от них Вороток отодвинул. Бреускевич поначалу дичился, глядел исподлобья, да потом отогрелся, подобрел, и вдвоем так оходили вениками Воротка, что тот, будто ошпаренный, выскочил в пруд. Вои подначивали мальчишек:
– Нешто, Гусек, мало каши ел? А ну, вдарь ему, да чтобы все листья на заду остались!
– И ты, оттнир, не зевай, поддавай!
Мальчишки, задорно смеясь, на совесть отхлестали своего вожатого, а когда Вороток внезапно подскочил с лавки да сделал страшные глаза, с визгом бросились врассыпную. Да куда там! Вороток сгреб обоих, по одному в каждую руку, пинком раскрыл дверь и вынес мальчишек на улицу, только две чистые попки и сверкнули в темноте.
– Принимайте! – и швырнул в пруд сначала одного, потом другого.
– О-о-о-ой, холодно!
– А-а-а-ай, студено!
А вои, знай себе, окунали Гуська и Оддалиса с головой. Лишь здоровее будут. Мальчишки фыркали, пускали пузыри, а когда их стали подбрасывать вверх, восторженно завизжали. Неслух подбросил Гуська, а Рядяша Оддалиса. Будто волшебной силой пострелят вынесло из воды, аж дух захватило.
– У-у-у-ух!
– А-а-а-ах!
А Неслухи, Моряй и Рядяша разошлись по углам пруда и принялись бросать мальчишек друг другу. От восторга Гусек и Оддалис едва сами не летали.
– Ну, все, хватит! – Моряй вылез сам и унес ребят в парную отогреваться. Славно попарились!
Закутанных в теплое по самые глаза, вои перенесли мальчишек в избу. Оддалиса одели в чистое исподнее, что перед уходом выбросил на камни отец, Гуську Вороток отдал свою рубаху. Пусть хранит сорванца одежда с воинского плеча. Мальчишки собирались было подносить за столом, да сморило обоих. Их уложили на лавки около печки.
А потом, голодные, чисто медведи по весне, люди Безрода расселись за стол в трапезной. Пили меды и прочее пиво за то, что дошли, за то, что ни одного человека их воевода не отдал Костлявой. Не забыли стражу на ладьях, после полуночи Сивый отправил на корабли смену. Раненых видсдьяуров оставили на граппре, со сменой отнесли оттнирам поесть. Безрод сидел в голове стола и чувствовал себя донельзя странно. Никогда не сиживал на самом почетном месте. Всегда, всю жизнь рядом был кто-то постарше, поопытнее, а вот оглянулся – и нет никого. Не за кем встать. Наоборот, за самим стоят. Вот и выходит, что самый старый и самый опытный. Всю ночь постоялый двор стоял на ушах. И двух дней пустым не был. Через седмицу снова опустеет. А Безрод осиротеет. И ведь не хотел пускать их в душу, не хотел! Знал, что все равно придется с кровью рвать из нее тех, с кем стоял спина к спине, кто, смеясь, вверил свои жизни. Видать, уродился таким. Только обрети что-то дорогое, – злая доля отбирает. Не нужно больше вставать с зарей и грести до седьмого пота, можно давить изголовья аж до самого полудня. В полдень и солнце ярче, и девки краше. Только под утро разошлись вои спать, и всю избу заволокло перегаром и храпом, хоть топор вешай. А хозяин только рад. Девки-служанки уже обвыклись, но поначалу носы воротили. Все дружины, одинаковы. Приходят почему-то именно вечером, ныряют в баню, парятся до седьмых потов, потом до самой зари едят и пьют, и только под утро уходят спать. А на следующий день хоть на глаза не попадайся. «Ой, девица, ой красавица, дай наглядеться на тебя», «А где ты давеча была?». А как начнут щипать… Не сразу синяки сойдут. И не сказать, что неприятно, очень даже приятно. Только слишком быстро вои сходят с постоя, не успеешь и глазки состроить. А работы – выше крыши. И полюбезничать не всякий раз удается. За последнее время одна только Сеславка и вышла замуж. Взял за себя урсбюнн из дружины Кракле. А воевода давешних гуляк своими холодными глазами ка-а-ак обдаст! Хоть в подвал на месте и провались. Аж зябко делается. Так и полнится вокруг него силищей. Еще бы! Если с такими шрамами остался в живых, значит, до жизни охоч.
Вчера девушки-служанки, быстро пробегая трапезную, все косились краем глаза на пришлых. Их воевода, наверное, когда-то был хорош да пригож, но эти страшные шрамы, седина, битый-перебитый нос, эти холодные глаза, да разбитые губы… Б-р-р-р! Одна из девок, кухарка Заревайка, едва шею не свернула, унося грязную посуду из трапезной, – так засмотрелась на страшного воеводу. К полудню парни начали вставать. Спускались по одному в трапезную. Потребовали холодного мяса. Вчерашнего. Того, что не доели. И начало девкам казаться, что не просто не доели, а нарочно оставили на утро. Водилось такое за боянами, – наутро после пиршества жевать холодное.
Кому что, а этим подавай холодное мясо. Заревайка как-то пробовала, но ничего в холодном мясе не поняла, и никто из девок не понял, как можно долго сидеть и тянуть волоконца из куска оленины. Наверное, для этого нужно родиться бояном. Вои собрались в трапезной и молча подвинули к себе блюда с холодными олениной и гусятиной. Все слова давеча сказаны, а мясо осталось, и, слава богам, позволительно без неловкостей помолчать. Кругом все свои. А может быть, уже не просто свои, а братья, понимающие все без слов?
Девки разносили меды. Уносили пустые блюда, приносили полные. Бояны еще не щипают, еще не проснулись. Просто сидят с открытыми глазами. Подняться-то поднялись, да разбудить их забыли. А пойдет дело на вечернюю зорьку – оклемаются, оживут, еще и спросят, – а раньше почему не видел? С мечами не расстаются, даром что опечатаны. Еще на пристани мытник залепил восковицей каждый меч. А Тычок с хитрющей рожей пристроился в спину Моряю, и когда подошла его очередь, невинно отвернувшись, воздев честные глазки к небу, протянул мытнику для печати… секиру. Мытник, на восьмом десятке мечей совершенно ошалевший, едва не залепил древко. Уже потянулся было ставить печать, да оторопел. Примелькались мечи за целый день, от их форм и узоров уже рябило в глазах. С костяными рукоятями и деревянными, травленные и гладкие, прямые и гнутые… Потому и начал искать на секире ножны. Под громогласный гогот воев плюнул в сердцах под ноги, и сам рассмеялся, – так уморителен был старик.
– Неужели первому бойцу в дружине оружие не залепишь? – вопрошал Тычок, гневно потряхивая секирой. – Я, знаешь как, в гневе страшен? Бед натворю немеряно! Если выпью. Лепи восковицу, кому говорю!
Весь смех мытника как рукой сняло, когда воевода боянов, тот со шрамами на лице, мрачно подтвердил.
– Этот мо-о-о-ожет! Недавно дружину оттниров по камням раскатал, – еле поднялись. За животы все держались. А разойдется – так и нас в лежку укладывает.
Мытник недоверчиво глядел на Безрода и щурился. В сумерках плохо видно, смеется седой или нет. Хорошо бы смеялся. Только стариков, шутя укатывающих дружину воев, не хватало в Торжище Великом!
– Один укатал?
– Один.
– А сами чего? Не помогли?
– А зачем мешать?
Да что же это!? Один укатал всю дружину? Слыхал про таких. Жизни осталось на одну чару меду, а такое творят!.. Воевода говорит, за животы держались? Неужели в пузо бил?
– Наверное, у оттниров луков не было?
– Были и луки. Только и стрельцов достал. Никто не ушел.
– Я такой! – вращал глазами Тычок и тонко орал. – От меня спасу нет! Меня четверым держать только за руки…
– И четверым за язык, – усмехаясь, вполголоса добавил Безрод.
Мытник не знал, что делать, лепить на древко секиры восковицу или отправить «страшного воя» куда подальше. Слава богам, выручил седой. Выступил вперед и загородил собой Тычка.
– Мой человек. Сам пригляжу. И ответ держать тоже мне.
Мытник с облегчением выдохнул.
– Только держи его в узде. Нам тут чудеса не нужны. Да и куда мне лепить восковицу на секиру?
Так и сошел «страшный боец» на берег Перекрестня-острова.
– А знаешь ли ты, хозяин, Раггеря-купца? Где сидит, чем торгует? – спросил Безрод после трапезы.
– Что-то слыхал, – хозяин почесал затылок. – Купчина не велик, и не мал, не трус, не удал, не дальняя краи на, а самая середина. Сидит, кажется, в верхнем городе. А что за человек, не знаю. Вместе не застольничали, медов не пивали, в душу к нему не лез.
– Вороток! – позвал Сивый. – Снеси мальчишку вниз!
Соловей на руках снес Оддалиса вниз. Мальчишка только-только просыпался, а Гусек еще дрых в теплой горнице.
– Умой. – Безрод кивнул на двор. – Ишь разоспался, щеки пухнут.
Со двора прилетел звонкий ребячий голосок, и, вторя, загремел зычный хохот Воротка. Не иначе в пруд окунул по уши.
С влажными волосами, что понуро вылезали из-под шапки, насупленный, надутый, как пузырь, брел юный оттнир за воями. Ни Безрод, ни Вороток в Торжище Великом не бывали, потому все глаза проглядели, вертясь по сторонам. Вороток всякий раз в изумлении вскидывал брови, Безрод настороженно поблескивал исподлобья. Если бы в эту весеннюю пору уже летали мухи, жужжалки на лету залетали бы Оддалису в раскрытый рот. Мальчишка едва шею не свернул, глазея направо и налево. Пошли торговые ряды, которые образовали избы, рубленные особым образом – лицевая сторона двумя дощатыми створками распахивалась наружу. Купцы складно зазывали, наперебой приглашали попробовать, примерить, прицениться. Люд сновал по улице вверх-вниз, иногда захаживал в лавки, – и даже кое-что покупал.
Миновали рабское торжище, вернее, целый конец, что образовали рабские торговые загоны. Безрод, проходя рабский торговый конец, остро зыркал туда-сюда, замедлил шаг, и шедший позади Оддалис носом влетел Безроду в спину. Миновали нижний торговый город, вошли в средний – и все дивились, не уставая качать головой. Никогда не видели ничего подобного. Огромный городище, ставший одной большой лавкой, и гомонящее море людей, прибывших с востока, с запада, с полудня, с полуночи, одетых во все цвета радуги, мир поглядеть и себя показать. Красивые бабы на любой, даже самый капризный, взыск, осанистые купцы, вои, что поглядывали на эту суету несколько свысока. Безрод шел, не пряча лица, и когда ловил на себе любопытные взгляды, отвечал без стеснения, холодно улыбаясь. Люди разглядывали лицо, расписанное шрамами, отмеченное синяками, и не всегда успевали отвести взгляды. Сивый только посмеивался. Все шутил, обернувшись назад:
– В старости тут осяду. Стану лицо за деньги показывать. Тем и буду жив.
Вороток только посмеивался. Этот своей смертью не помрет и до такой старости уж точно не доживет.
– Не желают ли добры молодцы сластей заморских?..
– Ах, к лицу храбрецам шелка полуденные!..
– А сапоги сошью – сами в сечу побегут…
– Мне б наоборот, – ухмыльнулся Сивый. – Не торгуясь, взял бы.
Вот и верхний город. Тут и лавки побольше, и улицы шире. Без труда нашли Раггеря-купца. Кряжистый оттнир с соломенными волосами, смерил всех троих цепкими глазами, задержался на мальчишке, и рот, готовый хвалить-нахваливать добро, сам собой захлопнулся. Безрод ухмыльнулся. – Чем торг ведешь, хозяин?
Раггерь, не отводя глаз от мальчишки, тяжело сглотнул, щелкнул пальцами и шепнул несколько слов здоровенному парню, прибежавшему откуда-то с заднего двора. Тот кивнул и исчез.
– Чем богаты, тем и рады! – Настоящий купец мигом распознает, какого роду-племени покупатель. У дальновидного купца всегда найдется прибаутка, родная для покупателя. Боянская поговорка слетела с языка Раггеря легко, будто маслом мазанная. Безрод и Вороток прошли в лавку, держа Оддалиса меж собой. Мальчишка не узнал родного дядьку. Слишком много времени прошло с тех пор, как он видел родича последний раз. Зато Раггерь будто заглянул в лицо молодого Бреуске. Тот же нос, те же глаза. Купец выложил перед гостями все, что можно было вывалить и расстелить. И меха боянские, и шелка заморские, и литье западное, и резьбу по кости с полудня. Безрод, улыбаясь, нахваливал товар. Купец говорил без перерыва, не давал и слова вставить. Поднес лучших медов, угостил сластями мальчишку. Сивый принял чару из рук купца, поблагодарил, пожелал щедрому хозяину прибытка. Пили по одному. Пока Безрод пил, Вороток искоса оглядывался по сторонам. Непозволительно терять бдительность обоим сразу, – хоть один должен оставаться настороже. Безрод взял с прилавка расписную сулейку, ухмыляясь, покрутил, поднес к глазам, примерил к руке и согласно кивнул. – Возьму!
– А вот еще, гости дорогие…
– Остановись. Сколько с меня?
Купец почесал затылок.
– Не поверишь, сам к сулейке мехов придам, сколько обоим на шубу уйдет, да вина бочонок. Заморского. Мальчишка мне ваш приглянулся. Отдай?
– Мальчишка? – ухмыляясь, протянул Безрод и закатил глаза в потолок, ровно высчитывая барыш.
Раггерь знать не знал, как попал племянник в руки этого бояна, и предположил самое худшее – взят с боя. Вот и выкупал свою кровь. А если боян мальчишку не продаст, Несорук выследит и выкрадет. Ему подметки со стоящего спороть, – как наземь плюнуть.
– Мальчишку? – все повторял Безрод. – Да так бери. Отчего не удружить хорошему человеку? По рукам!
Раггерь всякого ожидал. Думал, бояны торговаться начнут, иные вои торгуются почище купцов. Но вопреки ожиданиям ничего этого не случилось. Сивый просто согласился и хитро подмигнул. – Рот прикрой. – усмехнулся Безрод. – Душа вылетит – не поймаешь!
Раггерь с лязгом сомкнул челюсти.
– Передаю с рук на руки. Как обещался.
– Брат где же?
Безрод равнодушно пожал плечами. Ходит где-то по морским просторам. Может быть. – …Миром разошлись. А мальчишку с нами оставил да наказал тебе передать. – закончил Безрод рассказ.
Раггерь помрачнел, – чисто грозовая туча. Тяжело осел на скамью, привлек мальчишку к себе, и Оддалис, почувствовав в этом незнакомом дядьке родное, тихо-тихо захлюпал носом.
Сивый, не говоря больше ни слова, положил на прилавок медный рублик за сулею, развернулся и вышел. Вороток замешкался, потрепал мальчишку по голове, взъерошил волосы и ушел следом.
– Погоди, – из лавки выбежал Раггерь. Хотел что-то сказать, а как ближе подбежал, – забыл, что. – Ты захаживай, боян. Гостем будешь.
– В жизни всякое бывает. – Сивый холодно взглянул на оттнира, и по спине купца пробежали мурашки. – Не порть мальчишку купечеством. Бойцом родился.
Раггерь остался перед лавкой один. Кругом гомонили люди, а все равно один-одинешенек, будто в пустыне. Только провожал взглядом уходящих боянов и думал о своем.
День проходил за днем. Видсдьяуров передали своим, благо соплеменники нашлись, как по волшебству, удачно. Просто так, без всякого выкупа. Близился день отплытия, но восвояси дружинные пойдут уже с новым воеводой. И все мрачнее становились парни. Уже вовсю загулял по душам холодный ветер, напрочь исчезли улыбки первых дней. Хорошо, уговорили воеводу третью ладью оставить себе. Продаст, наверное, да и ладно. Пусть хоть на щепки распустит. Его воля. А Безрод нежданно-негаданно повстречал в Торжище Великом… Дубиню. Купец метался перед своим складом на пристани, как разъяренный медведь, и поносил приказчика.
– Я вот тебе, хвост ослиный, холку-то начешу! – потрясал кулаками Дубиня – А ну выходи, сволота!
– Не выйду! – Безрод поморщился. Знакомый голос. – Опять бить начнешь, дядька Дубиня, а я ведь осерчаю! Больно сделаю! Пожалеешь!
– Что-о-о-о! – Дубиня махом вошел в краску, оскалился, подскочил к запертой двери и так дал по тесу кулаком, что весь склад загудел, а голос внутри тут же умолк. – Что-о-о-о! Соплями не подавись, зелень моченая!
Если Безрод издалека и сомневался, теперь, вблизи – уверился – точно Дубиня! Старик никому спуску не давал, и не даст. Встанет нужда, склад по щепочке раскатает, но нерадивого приказчика за уши оттаскает.
– Больно суров ты, Дубиня-купец, – прошелестел Безрод над ухом старика. – Круто заворачиваешь. Не развернешь.
– И не надо! – ревел Дубиня, не оборачиваясь. – Ишь, поветрие надуло по весне – хозяйское добро не запирать, – дескать, забыл. Я вот те, забуду! Забуду, что уже драл ремнем, и еще наддам! А тебе-то чего?
Старик спохватился, недоверчиво оглянулся и застыл с открытым ртом. Узнал. А в приоткрытую дверь склада выглянула наружу лукавая рожица. Безрод прищурился. На миг показалось, будто из ворот высунулся Тычок. Наверное, все хитрецы меж собой чем-то похожи.
– О боги! – прошептал Дубиня. – Никак ты!
– Я.
– Догнал?
– Догнал.
– Выжил?
– Выжил.
Много о чем хотелось узнать, а слова, мешая друг другу, путали язык. Дубиня только взволнованно мычал и тряс Безрода за плечи. Наконец прорвало.
– Слава, слава богам! Что же мы стоим? Пойдем ко мне! Ах да, склад! Эй, Ми-и-ил, бестолочь! Чтобы к завтрему все было сосчитано и заперто! К утру! Слыхал? – Старик замер. Склад молчал. – Слыхал или нет, бестолочь?
Наверное, Дубинин рев слышали даже сторожевые ладьи далеко в море, склад же обиженно молчал. Дубиня поискал под ногами, поднял увесистый камень, размахнулся и швырнул в ворота. Гулко стукнуло, и Безроду показалось, что внутри кто-то испуганно ойкнул. Сивый ухмыльнулся. Не только сосчитает, но даже пыль всю сдует.
– Все так же беспояс?
Безрод и Дубиня сидели друг против друга в светлой трапезной. Старик отстроил избу в Торжище Великом из неохватных бревен, в точности повторив свои хоромы в Сторожище. К чему привык, к тому и пришел.
– Беспояс.
Купец мерил гостя беззастенчивым взглядом, сощурив не по годам острые глаза. Не так много воев ходит по земле, чьи лица ножами расписаны почище резных игрушек из кости. Еще зимой отчаюги принесли вести в парусах из боянской стороны, – дескать, разбит Брюнсдюр-ангенн, войско рассеяно, а сам голову сложил. И еще говорили, будто перебил, перепел, переплясал все полуночное воинство странный боян с лицом страшнее, чем личина Злобога. Ну, положим, некрасавцев на свете и без того хватает, но чтобы лицо было ножом попорчено… Безрод, ухмыляясь, отвернулся. Разве перескажешь все в двух словах? А какими словами передать ту стужу, что вползала в грудь из холодного моря? Как рассказать о злом кураже перед выходом на плес? Какими цветами изукрасить спокойное отчаяние, когда встали на пути засадной дружины оттниров один-втрое? Дубиня глядел на Безрода трезвыми глазами и диву давался. Кто бы подумал, что так все обернется, хотя… Хотя еще тогда, на пристани, стоило посмотреть в синие глаза странного парня в красной рубахе, – сделалось понятно – этот не гнется и не ломается. Сидит напротив, ухмыляется, зубы скалит. – Вот назад ухожу. Товару – выше крыши. Дождусь, оказии – и уйду.
Сивый ухмыльнулся.
– На постоялом дворе «Красное яблоко» твоя оказия. Семьдесят пять мечей.
– Иди ты! – Дубиня аж подпрыгнул. Боевая ладья с дружиной – о чем еще купцу мечтать?
Безрод кивнул.
– Со мной пришли. А уйдут с тобой. Приходи завтра на пристань.
Утром Безрод многозначительно поглядывал на Дубиню, чем вызвал у того нешуточное беспокойство. Сивый хитро водил туда-сюда стылыми глазами и посмеивался.
– Ну, чего косишься, беспояс? – брюзжал старик, подозрительно косясь. – Небось, подвох готовишь, голь перекатная?
– Богат ли ладьями, торговый гость?
Дубиня прикрыл правый глаз, собрал бороду в кулак и глядел на Безрода левым, все гадая, смеется или нет.
– Недавно еще одной ладьей разжился. А тебе-то что, нищета дырявая?
Сивый рассмеялся. На этот смех обернулась вся пристань. Ровно гром бабахнул в отдалении.
Дубиня проследил взглядом за вытянутой рукой Безрода и раскрыл рот. Корабль. Боевой. Быстрый и хищный. Неужели тоже его? Вот тебе и голь перекатная, нищета дырявая! Купец подбежал к ладье. Давно о том подумывал, да, видно, только теперь время пришло. Собственная боевая ладья, чтобы охранять торговые! А, пожалуй, и до боярства недалеко?
– Отдам за три четверти, – хитро прищурившись, соблазнял Безрод. Дубиня только косился. Сивому бы купечеством заняться. Злобогу доброту продаст. Ровно в голове порылся, вызнал самое заветное желание. То-то щерится лукаво. Купец еще колебался, а Безрод уже протягивал десницу, – ударить с Дубиней по рукам. И ударили. Вместе с ладьей продал Дубине все добро, что нашлось в трюме. Та самая ладья, которая весь шторм плавала в окрестностях Злобожьей скалы. Дубиня самолично лазил в трюм. Перечли все до последней вещи. – Первый парень стал, – посмеивался Дубиня, вечером передавая Безроду увесистый мешок с золотом. – Любая девка за тебя пойдет!
– Пойдет, – ухмылялся Безрод. – Отвернется – и прочь пойдет.
Никогда еще столько золота в руках не держал, растерялся, будто мальчишка голопузый. Поди, на лице все написано. Конечно, написано, Дубиня аж прослезился. Ювбеге, граппр видсдьяуров, продали еще раньше. Золото за него разделили с дружиной поровну, но за корабль тьертов дружина заставила Безрода взять две трети вырученных денег. А еще золото за товар, что продал купцам из Сторожища…
А приказчик Мил действительно все пересчитал, на учет поставил, – и даже всю пыль с товара сдул. И замок на дверь повесил, да не замок – замочище. Кузнецы особо для Дубини постарались. Прибежал давеча взъерошенный приказный человек, сразу видать, из купеческих, и показал пальцем на самую большую замочную заготовку.
– Беру! Немедля!
Кузнецы только в затылке почесали. Что за спешка такая? Если что-то украли, чего теперь волосы рвать? А если добро еще цело, зачем заранее волосы рвать? Тяжело понять торговых людей, – суетные они.
Дубиня собирал воев на сторожевую ладью. Сам носился по всему городу. Кого-то знал лично, на кого-то просил Безрода взглянуть. Пожил старый, за долгую жизнь в глаза людям нагляделся по самое «надоело», но таких глаз, как у Сивого, не видывал. Ровно в душу глядят, в самое дно.
– Этому только разок посмотреть, – бормотал купец, косясь на Безрода. – Махом выведет чистую воду.
Двоих, с бегающими глазками, Безрод отмел сразу.
– Да и мне они что-то не глянулись. – Купец почесал седой загривок. – Глазками так и зыркают по сторонам. Больно хитры.
За двоих поручился Моряй. Купец быстро сошелся с людьми Безрода, многих из которых знал.
– Этих знаю, как облупленных. Добрые вои. Море любят. Не прогадаешь.
– Так и быть!
Троих знал Рядяша. Обнялись, точно старые друзья. Люди соловейского воеводы Добродела. Уцелели после нашествия оттниров, и вот куда судьбина забросила. Она же, злодейка, и домой ведет. Один поперек себя шире, под стать Рядяше, второй здоров и румян, будто только что вылез из-под кузнечного молота, третий сам похож на молот – телом сух, да головой тяжел. – Знаешь, чем врага бьет? – ломаясь в поясе от смеха, Рядяша показал пальцем на третьего. Безрод мотнул головой, откуда же знать!
– Головой! Убивает насмерть! С одного удара!
Головастый смешно приглаживал волосы на лбу и смущенно улыбался. Что есть, то есть. Даже если меч в руках, убить врага головой – милое дело.
– Бью ровно молотом, – буркнул вой. – Так и хожу с той поры Молотом. Привык уже. Вои долго отходили, отирали слезы, держались за животы. И совсем уж неожиданно встретил Безрод на пристани Торжища Великого… Болтуна, того самого пятьдесят четвертого человека с Чернолесской заставы. Без слов крепко обнялись, говорить просто не смогли, в горле пережало. Тогда Болтун прикинулся своим, в доспехе оттниров доплыл до ближайшей стоянки, там сошел на берег – и растворился в вечернем тумане. Теперь без лишних уговоров согласился влиться в дружину, уходящую в родную сторону.
С миру по нитке и набрал гребцов Дубиня. Выкатил для обеих дружин бочку вина и первым осушил чару.
– Вот мы и нашли друг друга, дети мои, – поучал купец. – Теперь я вам заместо отца, а отца надобно чтить. Чару подносить раньше всех, кусок подкладывать сочнее, а девку послаще. А буде пожар случится – выносить из огня первым…
Дубиня сам показывал город Безроду. Прохожие, кто еще помнил прошлогодние слухи, оглядывались на человека со шрамами по всему лицу. Очень похоже на ту байку, что загуляла в городе по зиме. Дескать, воитель со шрамами на лице, извел всех полуночных поединщиков и срубил самого ангенна оттниров.
Безрод лишь ухмылялся. К своему лицу привык, теперь пусть местные привыкают.
– Самый большой рабский торг там. – Дубиня показал рукой на приморский конец. – Там просто рабы, там вои для выкупа, там пленные для мены, там все…
Сивый кивал и запоминал. Пригодится.
День отхода выдался ненастным. Вои не плакали, – так небо прослезилось. Заныл хмурый, холодный дождик, заненастилось море, посерело, разлохматилось пеной. Люди Безрода в утренней заре по одному взошли на Улльгу. С ними Сивый простился еще вечером, дабы утром не травить душу ни себе, ни им. Горчил мед в вечерней заре, горчила снедь, не играли шумных песен, не хватали девок за крутые бока. Злые да мрачные, глотали мед и кусали усы. Сами себе показались одноногим калекой, у которого из рук выбили клюку. Парни чувствовали себя так, как если бы посреди битвы с плеч сорвали кольчугу и отобрали меч. Иному зябко глядеть Сивому в глаза, а им ничего, попривыкли. Зато холодные глаза вымораживают страхи, сомнения и рассудочную опаску. И вот все кончилось. Через миг-другой отдадут причальный конец. Вои мрачно оглядывали берег, но на глаза попадался лишь Тычок. Знали – Безрод стоит где-то в укромном месте и оттуда провожает взглядом. На открытое не выйдет. Ни к чему. Над людьми встал Щелк. Его оставил вместо себя Безрод, а вои приняли нового воеводу без возражений. Под Щелковым ножом пал черный баран, и Морской Хозяин благосклонно принял жертвенную кровь. Грянули веслами о воду. Прощаясь, Тычок отчаянно махал, но помахать в ответ молодцы не могли, руки были заняты веслами. Помахал Гюст с Улльги, помахал Моряй, правивший второй ладьей, помахал Дубиня, хлопнули приспущенные паруса, и торговый поезд повернул нос в родную сторону.
Сам себя считал одиночкой, не связанным братскими и ратными узами, а все выходит по-другому. Тяжело оказаться просто человеком, снова осиротевшим. Безрод стоял позади торговых складов, глядел из-за угла на уходящие ладьи и крепко сжимал зубы. Горько усмехнулся и запел: – Я, дружину славную по свету водя,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Видел, как рождается за морем заря,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя.
Стану в битве страшной сам себе судья,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя.
И умчит нас, павших, быстрая ладья,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя…
Вся пристань, опустив руки, заозиралась. Густой голосище, от которого мурашки разбежались по спине, играл откуда-то из складов. Песня уносилась в море, и оттуда, с только что ушедших ладей, на берег прилетел такой рев, что береговая стража схватилась за мечи. Неужели ладейный дозор проморгал захватчиков? Взбудораженный люд потянулся на голос – и за углом складов купца Поряски нашел невзрачного человека в овчинной верховке, который наливал воздух вокруг себя силой летнего грома. Сухой, седой, страшное лицо обратил к богам, – налетает ветер, срывает с уст еще теплые слова и уносит в море… Вечеряли вдвоем. Трапезная как-то вдруг опустела, стала тиха и неуютна. Тычок превратился в тень, ходил по избе тишок да молчок, как воробей, клевал что-то в углу стола и постоянно хлюпал носом. Девки, ровно мышки, шуршали туда-сюда, косясь на гостей. Безрод, не хмелея пил, не пия хмелел, мрачнел, хмурился и глядел прямо перед собой.
Тычок еще спал, когда Безрод вышел на улицу. Будить старика не стал. Незачем его за собой таскать. Пусть проспится. Добрый мед снес егозливого балагура с ног, как будто дубиной кто-то огрел.
Сивый ухмыльнулся. Город только-только просыпался. Мастеровой люд разводил огонь в печах, купцы отворяли ставни, оживали торжища. Шел знакомой дорогой. Не далее, как вчера этой же дорогой шел с Дубиней, – и захочешь, не заплутаешь. Вот и рабский торговый конец. Устроили около пристани, не тащить же рабов в самую середину города через все концы! Мужской торг устроили отдельно от женского, ближе к морю, женский расположили ближе к городу. На мужском торжище уже стояли хмурые вои. Заглядывали в лицо каждому, видимо, своих искали. Сивый, не глядя, миновал мужской рабский торг и ушел в женский. Ну, доля-долюшка, смейся в голос! Разом больше, разом меньше – не страшно. Не привыкать.
Безрод вошел в первый попавшийся загон. Хозяин равно презрительно косился и на рабынь, и на покупателей. Сивый усмехнулся, кто заставил его заниматься столь ненавистным делом? Даже зад не оторвал от скамьи. Только прищурился, глядя на входящего Безрода.
– Знал, куда идешь, – только и буркнул хозяин, высохший усач с усталыми глазами. – Выбирай!
Рабыни стояли в одних исподницах, искоса поглядывая на вошедшего, а когда Безрод повернулся к женщинам лицом, у многих дыхание перехватило. Только не этот! Боги, только не этот! Если суждено быть проданной, – только не этому! Человек со страшным лицом, видимо, людей живьем ест. В загоне было тепло и светло, хозяин не поскупился. Печь топил дровами, не жадничая. Летом торг вынесет на улицу, девки будут стоять на дворе, нынче же, весной, дело терпит. Рано еще.
Безрод оглядел рабынь. Кто откуда. Светловолосые, черноволосые, высокие и низкие, статные и кривые, молодые и не очень. В наложницы, на кухню, в поле, в мастерскую, а одну, здоровенную девку с глуповатым лицом, хоть сейчас в кузню молотобойцем, будь кузня бабьим делом. – Это все?
– Все, – буркнул хозяин. – Завтра будут еще. А пока все.
Первая в ряду. Откуда, из каких краев ее взяли, Сивый только догадывался. Дивные волосы, вороные кони позавидуют. А лицом не вышла. Неказиста, черный глаз так и сверкает злобой, второго из-за волос не видать. Говорили, будто на полудне живут черноволосые люди, – там и солнце жарче, и зима бесснежна. Несколько купцов оттуда даже до Сторожища добрались. Как и говорили, они оказались черноволосы и черноглазы! А еще болтали, что снега там на самом деле не бывает, не врали рассказчики. Но как же без снега? Исскучаешься. Только холодком потянет, нос по ветру тянешь, снежок вынюхиваешь. Тоска. – Из каких ты мест, красавица?
Черноволосая подняла голову, отбросила волосы с лица и черными глазами взглянула на Безрода. Думала, зло глядит, думала, поймет сивый покупатель, что люта душой, и откажется покупать. Да куда там. Самой холодно стало, зазнобило. Отвела глаза.
– Я из мест, где женщина умеет быть молчаливой и довольной малым, – грудным голосом произнесла черноволосая, а сама глазами так и сверкнула. Губы говорили одно, глаза другое. Валяться тебе, мой господин, с ножом в спине на заднем дворе, среди овец и свиней, в первое же полнолуние.
– Она из Труудстала. Хитра и бесчестна. Требует кнута. Зато потом седмицу не шипит. А злиться на нее нельзя. Дура.
Безрод усмехнулся. Нет. Не та. Следующая и ростом вышла, и лицом, только в глазах больше не осталось огня. Тусклы и безжизненны, глядели они с белого лица, и ничто в них не играло: – ни искры жизни, ни жажда вечного покоя. Ровно стоячее болото. Даже волос не заплела, соломенные космы рассыпались по плечам, прикрыть голову платком уже не осталось ни желания, ни сил. – Эта годна только в поле или по хозяйству. Умом тронулась, как ее родню вырезали, – усач– поморщился. – Да и самой досталось.
– Бывает, – пробормотал Безрод. – Всякое бывает.
Опять не та. Третья мала, четвертая коса, пятая горбата, шестая стара. Седьмая… Та самая румяная девка, которой прямая дорожка в кузню молотобойцем, будь кузнечное дело бабьим занятием. Стоит прямо и усмехается. – Где ж тебя взяли такую? – усмехнулся и Безрод. Рядом с молотобойшей – что цыпленок возле курицы.
– Где, где? – добродушно проворчала девка. – Батя с мамкой постарались.
– Видать, на совесть старались.
– Так и совесть велика.
– А в рабах чего же?
– Не скажу.
– Скажи.
– Не поверишь. Стыдно мне.
– А вдруг поверю?
– Ухо дай.
Девка что-то Безроду зашептала, и Сивый едва сдержал улыбку.
– Вот так! – тяжело вздохнула молодица и отпрянула.
Безрод вопросительно посмотрел на хозяина. Усач, ухмыляясь, кивнул.
– Правду говорит. Из отчего дома сбежала мир поглядеть, да прямиком в рабство и угодила. А бояться ей нечего. Двух хозяев мало насмерть не пришибла, вернули на следующий же день. Пришлось деньги отдавать. Дешевле новую купить, чем эту укрощать. Убить-то можно, да только и денежки пропадут. В общем, один убыток от нее.
– А жених-то был на отчизне?
– Да где они, женихи? Боялись. Боятся. А чего боятся, никак не пойму.
– Поймешь.
– Скорее бы.
– Если какую-нибудь возьмешь, – хозяин подмигнул. – Эту в придачу отдам. Жрет много. Боюсь, проест.
Безрод ухмыльнулся. Кто там из ребят по осени жениться удумал? Кажется, Рядяша? Разве найдет подругу себе под стать лучше этой? Кровь с молоком, статна, сильна, а что глуповатой показалась, так пустое. Ишь, глаза хитрецой так и сверкают. А бока, а грудь!.. – А я знаю, чего ты тут! – заявила молотобойша и так лукаво подмигнула, что Сивый едва в хохот не пустился.
– И чего же? – ухмыльнулся Безрод.
– Ухо дай, Сивый. Девка нашептывала, и ухмылка сходила с лица Безрода, ровно кто-то вытирал. Сивый медленно отпрянул, внимательно посмотрел на девку и покачал головой. Молотобойша отвела глаза. Не смогла. Не выдержала. Зазнобило что-то.
– Твоя правда.
– Дурость тоже моя, – сверкнула зубами. – Гарькой зовут. Меня здесь на всех торгах знают.
– Знают, знают, только не берут. – В разговор встряла рабыня справа. Ей было уже на все наплевать. Со шрамами на лице или без ноги, без руки или без глаза… блеклая и безвкусная, точно каша без соли, она вошла в те года, когда рушатся надежды, а грядущее мрачно и безысходно.
Невзрачная, белесая рабыня схватила Безрода за руку, прижалась всем телом и горячо зашептала:
– Купи меня, вой! Верой и правдой буду тебе служить! Холодными ночами согрею, и ребенка рожу без ропота. Только купи! Только купи! Купи!..
Сивый лишь взглянул в заплаканные глаза, и бледные пальцы судорожно сжались. То не просто пальцы сжались, то ее душа отдернулась, как будто по свежей ране огнем прошлись. Рабыня бессильно сползла наземь, как если бы в одночасье исчезло тело, и на пол опустилась лишь мятая сорочка. Гарька тут же вздернула на ноги соседку по загону. Безрод покосился на хозяина. – Так и скитается Гарька по рабским торжищам. – Усач улыбнулся. – Уже все знают, и никто к себе не перекупает. Только я, дурак, пою, кормлю, не теряю надежды сбыть с рук долой.
– А если бы снасильничать захотели?
– Пока, слава богам, обходилось, – Гарька сотворила обережное знамение.
Безрод усмехнулся, повернулся к хозяину.
– А сам чего душой маешься? Чего нелюбимым делом занят?
Усач поморщился.
– Не мое это! Не мое! Руки под меч заточены, не под весы. Когда батя помер, торг я и унаследовал. Но душе тесно. Задыхаюсь. Не могу. Думал, – что с меня, дурня, возьмешь, года не проторгую, разорюсь. Ан нет! Не разоряюсь! Богатею. И горла не деру, и гостей не привечаю, а ко мне все идут и идут! Небось, раньше всех ко мне зашел?
– Да.
– И девку у меня возьмешь. Не нынче, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Не ту, так другую. Эх…
Усач горько махнул рукой. Ровно крылья птице подрезали. Свалилось отцово дело, как снег на голову, по рукам-ногам опутало, лететь не дало. Сидит надутый, будто сыч, деньгами обзаводится. Как в болото затягивает.
– Когда отец помирал, слово с меня взял. Из горла вырвал. Разве родителю на смертном одре откажешь! И вот сижу. Богатею, так твою…
Глава 14 Она?
В другом загоне Безрод также не нашел того, что искал. И в третьем. И в четвертом, и в пятом. А чего искал, сам толком не знал. Увидеть бы, а там само собой станет ясно – она. Тычок заждался, испереживался, все углы в избе промерил. Безрода лишь отпусти одного, – полгорода против себя восстановит. Ходи, потом, замиряйся со всеми! А Сивый сам не заметил, как весь день в городе проторчал. Там остановится, сластей прикупит, здесь вина заморского попробует. Но стоило вручить Тычку кулечек сластей, – старик мигом подобрел. Заговорщицки подмигнул, – дескать, по девкам ходил, повеса? Сивый, ухмыляясь, кивнул. По девкам. Да только все впустую. – Хозяин принимает новых постояльцев, – шепнул балагур. – Еще не прознал, кто такие. Вот только сговорились. Будут весьма скоро.
– То его дело. Постоялый двор без постояльцев – что ножны без меча.
– Не принес бы Злобог сварливых да крутонравных.
– Всем на земле место найдется. После захода солнца пришли новые постояльцы. Сразу стало шумно, изба ожила, ожили девки, ожил хозяин. Безрод только усмехнулся. Когда к себе поднимался, краем глаза видел новых гостей. Пришли откуда-то издалека. Никогда не встречал такой росписи по рубахам. И шапки у них по-другому кроены, и сапоги непохоже сшиты. Разве что мечи такие же. Так новый меч придумать труднее, чем новый узор. Почитай, уже все придумали: прямые, гнутые, короткие, длинные, для одной руки, для двух, узкие и широкие. Даже топор изобрели. А узоры по рубахам до сих придумывают.
Наутро Безрод чуть свет спустился в трапезную, еще никого на ногах не было. Вновьприбывшие отсыпались после бани и видели десятые сны, Тычок тоже воевал с подушкой. Сивый положил кусок мяса на хлеб и, не задерживаясь, ушел на торжище. Давешний хозяин Грец Несчастный хмуро кивнул. Гарька встретила, как старого знакомого. Зашептала на ухо.
– Так не возьмешь меня? Я страсть как в любви истова!
Безрод усмехнулся и покачал головой.
– Боюсь, обнимешь и задавишь. Разве мне с тобою тягаться?
– Уж то верно! Как обниму, так держись за этот свет! А чего ищешь, нет. Сама для тебя выглядываю.
– Чего ж так?
– Понравился ты мне. Всем хорош, всем удался, да только…
– Только что?
– Трусоват маленько.
Сивый не сдержал хохота. Наверное, давно рабский загон не сотрясался чистым заливистым смехом. Все уши позажимали.
– Давеча тулуки пришли. Рабынь привезли. Грец купил десяток.
– И что?
– Ничего хорошего. Квелые все какие-то. Без слез не взглянешь. Вон, в углу стоят. Дичатся еще.
Безрод прошел в указанный Гарькой угол. Новые рабыни сбились в стайку и жались друг к другу, будто знались всю жизнь. Грец, как другие работорговцы, плетьми рабынь не охаживал и в колодки не загонял. Сбежит какая, ловить не станет, – скатертью дорога. Но бедняжкам стоило только кинуть взгляд на равнодушное лицо усача, как руки-ноги словно отнимались. Безучастное лицо с глазами, пустыми от тоски. Так же глядели кругом те, кто нападал на их деревни и жег дома. Этот усатый голову отрубит – и не задумается! Не те. Среди этих рабынь ее нет. Безрод каждой заглянул в глаза и ничего, кроме страха, не увидел.
– А вот Крайр сам в походы ходит, – Гарька показала рукой на восток. – Там его загон. Пустой стоит. За добычей ушел.
Безрод проходил вчера мимо пустого загона, в ста шагах от загона Греца, и дивился. Кругом полно живого товара, а тут пусто. И не просто пусто, а – ни единой души, кроме сторожа.
– Давно ушел?
– Да с месяц. А может, больше.
– Стало быть, скоро будет?
– Да уж всяко так выходит.
Подошел Грец.
– Не выбрал еще?
– Да все не то.
– А чего ищешь?
– Знать бы самому.
– Забирай Гарьку – и делу венец.
– Боязно.
– Тебе?
– А если захочу любви, да не ко времени? А вдруг осерчает, когда полезу?
Грец Несчастный в раздумьях почесал макушку.
– Ты прав, может покалечить.
– Любовь – страшная сила, – ухмыляясь, бросил Сивый и покосился на Гарьку. Та не слышала, но подмигнула.
В остальных загонах Безроду так же не повезло. Не те девки, не тот день. Все не то.
Вернулся на постоялый двор и, не задерживаясь, прошел к себе наверх. Город очень велик, и много в нем диковин. В нижнем городе скоморохи действо играли. Ходили на руках, смешно подрыгивая ногами с бубенцами на пятках, взбирались друг на друга, втрое вырастая над толпой, показывали чудеса. У одного в руке был рогалик, махнул, – и не стало. Уж дети все обыскали – не нашли, а шут в красном колпаке вынул рогалик у самого маленького из шапки. Ему и отдал. Дети аж завизжали от восторга. Безрод пока никак не привык к тому, что стал богат. На торгу купил платок, расписанный чудными птицами. Висел на шесте, колыхался под ветром, а птицы шевелились, будто живые, – вот расправят крылья и взлетят. Хоть и некому пока дарить, а все равно взял. Мог взять – и взял. Аж самому неловко стало. Бери, что хочешь, на все деньги есть. Будто не в свои одежки влез. Неловко, неуютно.
А в верхнем городе видел диво. Местный князь поставил драчную избу. Видать, умудрен годами человек. Чем запрещать драки, а потом со стражей по всему городу виноватых искать, князь поставил избу особо для драчунов. Дабы город не баламутили, а чесали друг другу холки в одном месте. И людям спокойно, и городу прибыток, ведь хочешь драться – звени деньгами. Пусть хоть поубиваются. Драчной пристав блюдет правила, а драчуны знают, на что идут. Потому и не требовали виры после честного боя. Бывало, что и насмерть дрались. Бывало, что оружные. Всякое бывало. Ни дня не пустовала драчная изба. Велика, просторна, хоть стенка на стенку сходись. Хоть десять на десять бейся, локтями толкаться не придется. Места хватит. Безрод помялся у входа, – да и вошел внутрь. Большая избища, хочешь – на лошади езди, кровля держится на столбах, по стенам идут помостки для любопытных. Сивый протолкался поближе, в нем признали неместного – и дружелюбно потеснились. – …Дурень, Леннец! Кровью рассопливится, глаза свету не взвидят, отделает его тулук, ровно чучело! – поймал Безрод обрывки разговора.
Говорили соседи, – невысокий гончар и кузнечный подмастерье. А внизу, жилистый тулук умело бил худющего паренька, и того под ударами качало, ровно ковыль под ветром. Парень закрывал голову, но жестокие удары потрясали даже через руки.
– Чего не поделили? – прошептал Безрод направо, гончару.
– Да, известно чего, – скривился маленький гончар. – Дорогу. Не успел парень убраться, толкнул. Сам толкнул, сам и упал. Нет бы тулуку все обратить в шутку, – ведь видел, что зазевался парнишка, так нет же! Оказалось, нельзя иначе! Дескать, воинскую честь оттоптал! Тьфу, позорище!
Гончар в сердцах плюнул себе под ноги, и Безрод молча с ним согласился. Не дело тулук удумал. А паренек смел. Не побоялся встать против бывалого бойца. Ему бы теперь и завтра встать. Просто встать. Леннец не сдается. Стоит из последних сил, шатается под ударами, живого места нет, но не падает и знака не дает. Тулук уже и сам не рад. Паренек не иначе падет мертвым, и к тулуку прилепится прозвище «поедатель детей». А что ему делать с этим обидным прозвищем? Отступить? Как тогда назовут? Куда ни кинь, всюду клин. Безрод молча глядел вниз. Парень прислонился к столбу и опустил руки. Тулук уже не бил, просто поднял противника на руки и бросил на пол. Чтобы больше не встал. Но Леннец завозился на полу и попытался подняться.
– Лежи, дурень! – заорал гончар.
– Не вставай, дурья голова! – кричали с помостков.
Но вряд ли парень слышал.
– Видел, что много сильней, – нет же, с мальцом связался! – Гончар не вынес мук, бросил вниз, тулуку. Тулук поднял голову, нашел глаза гончара и досадливо отмахнулся. Дескать, сам вижу, не трави душу. И так тошно. Тулук, выйдя живым из многих схваток, может быть, впервые в жизни растерялся. Что делать? Добить мальчишку и покрыть себя позорной славой убийцы детей, или…
Тулук с мольбой в глазах оглядел помостки. Но люди прятали глаза. Еще чего не хватало! Кричать отсюда, сверху, одно дело, а спуститься вниз, да встать заместо глупого паренька – совсем другое. А сам виноват! Нечего было ворон считать. Надо было под ноги глядеть. Не абы кого пихнул – воителя! Тулук с надеждой в глазах оглядывал помостки, но зеваки лишь прятались друг за друга. Безрод знал правило. Если хочешь выйти заместо одного из поединщиков – никто и слова против не скажет. И когда тулук нашел Безродовы глаза, Сивый коротко кивнул. Махом перескочил невысокие перильца и встал на бранное поле. Прислонил меч к столбу. Снял верховку, шапку, бросил все рядом с мечом и подошел к тулуку. Бранная изба замерла и даже дыхание затаила. Бритую голову тулука расчертил длинный шрам от макушки к шее, два клока волос, перетянутые цветной тесьмой, будто рога, торчали с обеих сторон над ушами и падали на плечи. Тулук будто и не дрался, даже не запыхался, глядел перед собою ровно и спокойно. Мускулистый, жилистый, не последний в битве, он молча ждал, ссутулив плечи. Безрод ударил. Без замаха. В полскорости. Но по тому, как дернулись глаза тулука, Сивый видел, что противник успевает… Но, почему-то не успел. Под шумные крики зевак, он повалился на пол, и последнее, что увидел Безрод в угасающих глазах, была благодарность.
Тут же, у крыльца драчной избы, Безрод поймал за руку какого-то зеваку. Старик распродал весь товар и наладился было обратно, да слыхал, что в городе есть странная изба, где просто так дерутся. Вот и завернул на телеге сюда. Хорошая изба. Нужная. Старику пришлась по нраву. И только уселся в телеге поудобней, кто-то поймал за рукав. Селянин обернулся, хотел обругать, – что за шутки такие? А это давешний седой, что заместо паренька встал. Ох, и страшен вблизи! Старик сотворил знамение богам, чтобы хранили-берегли. Куда уж тут ругаться, живым бы отпустил!
– А я тут это… восвояси еду.
– Пойдем со мной.
– Куда это? – засуетился старик, незаметно пряча деньги в доски. – Не пойду! Никуда не пойду!
– Подсобить нужно. Пойдем.
– Нет! Нет! Никуда не пойду!
Безрод нахмурился, а потом усмехнулся. Старик держался обеими руками за телегу, будто его собирались отдирать от досок и насильно куда-то тащить.
– А кончанский старшина знает?
– О чем?
– Про то самое.
– Что, то самое?
– А как ты ехал, ехал…
– Ехал, ехал?
– Да. Ехал, ехал, и… Но ты ведь не хотел? Просто так получилось. И свидетели имеются.
Глаза старого пройдохи округлились от ужаса.
– Я… не хотел. Лошадь сама полезла на мостовую. И проехал-то всего ничего. И шагом! Слышишь, шагом! И щепочки от мостовой не отколол!
Про мостовую Безрод не знал, но хитрому пахарю попасть в город и на чем-нибудь не схитрить – как в нужное время не вдохнуть. Что-нибудь да отыщется.
– Что же делать? – Безрод с трудом прятал ухмылку, а она лезла на губы и лезла.
– Что делать? – прошептал старик, прикидывая, сколько денег взыщет с него старшина.
– Отвезем кое-кого домой, и… так и быть, езжай восвояси. – Безрод принял милостивое решение и всепрощенчески махнул рукой.
– Куда? – выпалил старик.
– Куда надо. Ступай за мной.
Безрод провел старика в драчную избу, показал на паренька, а сам помог подняться тулуку.
– Неси в телегу.
Старик безропотно подхватил паренька на руки и отнес в телегу. – А теперь трогай. Да потише.
– Рыжуха не рвет. И надо будет – не допросишься. Ну, пош-шла, старушка!
Еще в избе Сивый узнал, кто откуда. Паренек из нижнего города, подмастерье ткача, тулук – тоже из нижнего города, с какого-то постоялого двора. Так и поехали по дуге, – сначала в нижний город к пареньку, потом на постоялый двор к тулуку. Пареньку хуже, с него, стало быть, и начинать.
– Поди сюда. – Безрод поманил мальчишку на одной из улиц ткацкого конца. – Знаешь его?
– Да это Леннец Худой. – Безрод поднял мальчишку над телегой. – Ух, ты! А он дрался? Вот с этим? А кто победил?
– Я. – Сивый поставил мальчишку наземь и шлепнул по заднице. – Где его дом?
– Там. – Мальчишка показал. – Они с дедом живут.
– А бабы в доме есть?
– Не-а. – Мальчишка покачал головой. – Нету.
Это плохо. Парню нужна женская рука, и лучше всего материнская. Да и отцова неплоха.
– А девка у него есть?
– Нету. Его девки стороной обходят. Говорят, неласковый, молчаливый.
А еще крепкий и стойкий. Смелый и упрямый.
– Беги домой. Поди, мамка ищет.
Мальчишка убежал, но недалеко. Тут же собрал вокруг себя приятелей, – таких же голозадых, беспортошных, и, размахивая руками, принялся что-то горячо рассказывать, то и дело показывая рукой на телегу.
Безрод ногой толкнул скрипучую дверь на дубовых петлях, поклонился притолоке и внес парня в избу. Старый дед, кряхтя, поднялся с лавки и, опираясь на клюку, с трудом встал в середине избы. Подслеповато сощурился.
– Не признаю, гости дорогие. Уж не обессудьте.
Сивый положил парнишку на лавку у стены.
– Пригляди за ним, старик. Жив твой парень. Жив. Бит сильно.
Хозяин помолчал, подошел к внуку, тяжело опустился рядом и положил древние пальцы на живчик.
– Сынок, света поднеси, – попросил старик.
Безрод снял со стола маслянку и осветил старику внука. Дед провел заскорузлыми пальцами по лицу, по ребрам, послушал дыхание, сердце, еле слышно облегченно выдохнул и тихо спросил:
– Как?
– В драчной избе. С воем схлестнулся.
– И стоял до последнего?
– До последнего.
– И не сдался?
– Нет.
Старик усмехнулся.
– Весь в меня. Я тоже отчаянный был. Отец его, мой сын, в море сгинул, мать родами скончалась. Так и живем, – старый да молодой.
– Старик, досталось ему крепко. Выходишь? У самого-то сил достанет?
– А куда деваться? Соседи помогут. Да и сам в ранах разумею. До земли бы тебе поклонился, добрый человек, да не могу.
– И ты будь здоров, старик.
– Да уж буду. – Вздохнул дед. – Должен быть.
– Теперь куда?
Безрод посмотрел на тулука. Тот порывался спрыгнуть с телеги и пойти пешком, да Сивый не дал. Голова может закружиться. Тулук прошептал:
– Давай прямо. Там покажу. Телега тронулась. Лошадь осторожно перебирала ногами, будто чуяла, что больного везет. Тулук застонал. Удар был сильный, а тулук совсем не закрылся. Просто не поднял рук и встретил кулак открытым лицом. Как будто почувствовал в Безроде того, кто может лишить памяти одним ударом.
Лошадь подошла к постоялому двору «Красное яблоко», и тулук велел остановить. Сивый еле заметно усмехнулся. Лучше не придумаешь! Спустил битого воя наземь, перебросил его руку через свою шею и повел в избу. Утро вечера мудренее.
На пороге тулук застонал. Вяло перебирая ногами, поднялся по ступенькам, мотнул головой и зашептал:
– Ну вот…
Сивый толкнул дверь, и они вошли. Трапезная оказалась полна, но в одно мгновение повисла мертвая тишина. Воевода тулуков изменился в лице и что-то зашептал. Несколько десятков двукосмых мореходов, как раз дружина боевой ладьи, перестали жевать и уставились на вошедших. – Агюр! – громогласно рявкнул кто-то, и трапезная мгновенно пришла в движение.
С шумом роняя скамьи на пол, тулуки выскочили из-за стола, и сразу несколько воев, подхватили Агюра на руки.
Безрода обступили новые соседи.
– Что стряслось?
– Кто?
– Где ты его нашел?
– Что все это значит?
Сивый исподлобья оглядывал воев и мрачнел. Врать не хотелось, а что поймешь из короткого: «Я бил. Так было нужно». Разве объяснить в двух словах? Безрод подобрался, выглянул из-под бровей.
– Я бил.
И усмехнулся. Ту густую зловещую тишину, что повисла в трапезной, можно было ножом резать, да на торге продавать. Заскрипело. Тулуки стиснули рукояти ножей и заскрежетали зубами. – Один на один? – тяжело процедил двукосмый воевода.
– Да.
– Пойдем, – коротко бросил предводитель, и с десяток тулуков вышли из избы следом за ним и Безродом…
– Зачем бил?
– Он просил.
– Агюр просил его ударить?
Безрод усмехнулся. Глупо звучит. Но что делать, если иногда правда бывает до смешного нелепа?
– Сколько вас было? – прошипел тулук.
– Я один.
– Агюр троих съест, не подавится!
– Я особенный. – Безрод лениво ухмылялся и вводил двукосмых в бешенство. Умел. Не отнять. А как объяснить, что их соратник сам подставился? А подставился потому, что чувствовал себя неправым. Не поверят тому, что сам подставился, и не поверят тому, что считал себя виноватым. В Торжище прижилось несколько зевак, что день и ночь торчали в драчной избе, находя в драках единственный интерес в постылой жизни. Знали, кто с кем подрался, когда, кого унесли, кто сам ушел. Многое видели, но такого!.. Когда вдесятером пришли одного бить…
– Расс! – воевода тулуков подозвал кого-то из своих и презрительно бросил Сивому, уходя на помостки. – Видали мы таких особенных!
Крепкий, молодой тулук встал против Безрода и скинул рубаху. Гладкий и сильный, меченый шрамами, ломавший о чужих свои кулаки и ломавший собою чужие. Сивый скинул верховку и шапку. Положил рядом меч и остался в старой штопаной-перештопаной рубахе. Поединщики помолились богам и повернулись друг к другу. Расс, точно стрела, стремительно сорвался с места, но еще раньше это сделал Безрод. Не успел тулук сделать и шагу, как все было кончено. Расс лег у ног Безрода без единого стона, только держался за грудь, слабо стонал и возился на полу, беззвучно разевая рот. – Один упал, один остался! – зычно рявкнул драчный пристав. – Все честно!
Безрод исподлобья оглядел горницу. Изба безмолвствовала. Тулуки наливались багровой злобой, которая шипением рвалась из-за сжатых губ. Могучий быкоподобный здоровяк прыгнул вниз через перильца. Драчный пристав вопросительно взглянул на Безрода. Сивый мгновение помедлил, ухмыльнулся и кивнул.
– Безрод против Тугака! – немедля объявил пристав.
– Дурень краснорубашечный! – крикнул кто-то из зевак. – Уходи! Убьет ведь!
Безрод, кусая губу, кивнул. Дурак. Да еще какой! А еще люди говорят, что только умные от скуки помирают, дураки – от приключений мрут.
Здоровяк рассыпался градом ударов, и воздух перед лицом Безрода весомо заколыхался и засвистел. Сивый скривился. Все решится за мгновения. Долго плести такое смертоносное кружево нельзя – сердце через горло выскочит, значит, последует нечто такое, что здоровяк прячет за тяжелыми ударами. Безрод, резко сложился в поясе и колобком прокатился в ноги тулуку. Тот на шаге споткнулся и перелетел через Безрода, – не успел подняться, как Сивый крепким локтевым захватом сдавил тулучье горло со спины. Тугак не смог оторвать руки Безрода от себя. Сивый аккуратно уложил здоровяка на пол, тот хрипел и жадно глотал воздух.
Еще никто толком не понял, что произошло, а Безрод взглянул на драчного пристава и ухмыльнулся.
– Согласен! – процедил Безрод, исподлобья оглядев избу.
Пристав покачал головой. Изба потрясенно молчала. Тулуки едва не лопались от злобы, раскраснелись, начали сопеть, ровно жеребцы. Среднего роста и среднего сложения мореход, словно кот, прыгнул на поле битвы. Сивый нахмурился. Кажется, шутки кончились.
Противник невелик. Что станет делать? Бить, рвать или ломать? А теперешний боец перемялся с ноги на ногу, – да и взмыл в воздух. На лету растянулся, будто лук, и ногой мощно ударил Безрода в голову. Сивый едва успел закрыться и отлетел в столб. Ногами невзрачный тулук управлялся, как иной руками. Толпа изумленно ахнула, наверное, у него есть крылья? Двукосмый порхал по горнице, точно бабочка, только вот жалил, как пчела. Безрод молча наблюдал и считал. Маленький подскок, прыжок и удар ногой на лету, раз-два. Левая половина тела идет вперед, затем следует удар ногой в голову с места, раз-два. Раз-два, пошел удар ногой с места, Сивый подсел, пропустил удар над собой, резко встал и через бедро швырнул тулука в столб. Тот стоял неустойчиво, на одной ноге, очень удобно для броска. Столб остановил полет двукосмой пчелы. Тулук без памяти рухнул наземь, а по столбу лениво поползла сукровица.
– Сто-о-о-ой! Стой, вражье племя!
Безрод прислонился к столбу. Кричавший боец тяжело дышал, раскраснелся и жадно хватал воздух. Бежал скорее ветра, и все равно не успел. Наклонился к своему воеводе и что-то зашептал. Безрод исподлобья поглядывал на гонца. Воевода тулуков изменился в лице, с неохотой отпускал злобу, лоб разгладился. Чужой оказался невиновен, только вышло так, что на невиновном осталась кровь невиновных.
– Вы скверно шутите, боги! – процедил сквозь зубы вождь тулуков, обращаясь только к одному из богов. К Злобогу.
– Агюр все рассказал, – гонец мало-мальски отдышался. – Все было честно. Просил благодарить.
Вот так. Все было честно. Из-за честности одного пострадали еще трое.
– Все? – буркнул Безрод, не глядя тулукам в глаза. Они, впрочем, тоже не глядели.
– Все! – глухо рыкнул воевода. Хотел самолично располовинить седого в красной рубахе, но сдержался.
Двукосмые поморщились, ровно от зубной боли, скривились. Зло взглянули на Безрода и склонились над своими битыми. Сивый пожал плечами. Подхватил свое, не оглядываясь, вышел и растаял в темноте сеней. Вот ведь странно судьба плетет! Сплела пути-дорожки Безрода и тулуков в одну нить, привела под один кров, да и выпачкала кровью. Кров и кровь, – звучит похоже, да разница огромная. Как теперь в глаза друг другу глядеть, встречаясь в трапезной? Как смыть с невиноватых рук кровь невиноватых? Хоть вовсе носа не кажи.
Сивый толкнул дверь и вошел. Тулуки уже все знают, но от этого мало радости. Хорошо, хоть глядят без злобы.
– Оклемался? – буркнул Безрод Агюру, что сидел на лавке за столом. С обоих боков его подпирали друзья.
Агюр только кивнул. Глаза еще мутны. А может быть, уже мутны, – ведь не только для красоты перед нам стоит добрая чара вина.
– Там, ваши едут. – Безрод нахмурился. – Лавки готовьте.
– Это еще зачем? – Тулуки начали мрачнеть. Брови насупили, аж глаз не видать.
– Порвал малость. – Безрод хмуро ухмыльнулся.
– С-с-сидеть! – рявкнул старый воин с седыми чубами на бритой голове, и молодые тулуки, уже было потянувшиеся вставать, опустились обратно на лавки. – С-с-сидеть, храбрецы! Наломали уже дров, хватит!
Через всю трапезную Безрод прошел к лестнице, что вела в их с Тычком каморку. Снаружи раздались лошадиное ржание и глухие мужские голоса. Тулуки махом снялись из-за стола и выбежали во двор. Безрод не оглядываясь, горько покачал головой. Привезли.
Еще солнце не встало, только-только бледнела серая предутренняя мгла, но в трапезной уже сидел человек и нехотя прикладывался к чаре с медом. Безрод, спускаясь по ступеням, щурился и не узнавал тулука со спины. Двукосмый не от бессонницы спасался чарой с медом, явно кого-то ждал в эту раннюю пору. Когда тулук услышал скрип ступеней, рука с чарой заходила медленнее. Безрод прошел за стол с другой стороны, опустился против тулука и негромко поздоровался. Двукосмый глядел мрачно, исподлобья, мгновение помедлил, но в ответ все же кивнул. Не молод, не стар, кто-то из того десятка, что сидел вчера в драчной избе и готовился к поединку.
Пили молча. Тулук, не стесняясь, изучал Безрода во все глаза и не отводил взгляда, будто напрашивался на резкий окрик. Сивый только посмеивался. Пусть глядит, если охота, – когда еще такое увидит? Молча поставил чару и вышел. Двукосмый жутким взглядом проводил Безрода в спину и снова уткнулся в чару.
Грец, увидев Безрода, махнул в сторону рабынь, – дескать, выбирай. Сивый как старой знакомой кивнул Гарьке, и девка, просиявшая, словно чищеный доспех, прошептала Безроду.
– Вчера Крайр с добычей вернулся. Удачен был поход.
Загон Крайра ожил против прежнего. Внутри хрипели мужские голоса, визжали женские, для острастки щелкали по доскам кнуты. Сивый толкнул дощатую дверь и вошел. Двое здоровяков только-только выстраивали живой товар для смотра. Рабыни отворачивались, жмурились, морщились.
– Чего надо? – низким, надорванным голосом прохрипела громадная тень из глубины сарая.
– А чем торг ведешь?
– Да бабами!
– Так показывай!
– А гляди! – тень вышла на середину загона, и неровный свет явил миру зверя в человечьем облике.
Глубоко запавшие глаза цвета линялого неба глядели зло и недоверчиво, морщинистое лицо, продубленное холодными морскими ветрами, кривилось в усмешке, тяжелая нижняя челюсть, укутанная грязно-серой бородой, лениво перемалывала пряный полуденный лук. Будто старый, рваный в драках медведь встал на задние лапы, научился растягивать губы, говорить слова и смеяться.
Безрод прошелся вдоль строя рабынь. Несчастные жались к стенам, ровно те могли прикрыть собою от цепкого взгляда страшного человека с безобразным лицом, скрыть, обезопасить.
– Эта из Уккаба, – мрачно гремел Крайр, показывая пальцем на кроткую, как олениха, большеглазую девку. – Эта из Гистайны, эта из Седд… Седд… тьфу, черный бог, язык сломаешь! Откуда ты? – рявкнул Крайр на невысокую кареглазку, затравленно глядящую кругом, совсем еще девчонку, на чьем веснушчатом лице расплылся лиловый синяк.
– Из Седдюрягстны. – Прошипела девчонка, метнув на Крайра взгляд, полный лютой злобы.
– Огонь, а не девка! – «медведь» щелкнул толстыми пальцами и довольный ощерился. – Бери! Не прогадаешь!
– Нет, – задумчиво бросил Сивый, качая головой и оглядывая девчонку с ног до головы. – Прогадаю.
Веснушчатая съежилась, когда по ее лицу прошлись два холодных синих ока, и огонь, до того полыхавший в карих глазах полновесным пламенем, усох до двух тлеющих искр.
– Неужели сам торг ведешь? – Безрод повернулся к хозяину. Крайр недобро прищурился. – Все сам, – и в поход, и на торг?
– А ты купеческую личину на меня не надевай! – громогласно рявкнул Крайр. Светочи как будто на самом деле робко моргнули, а рабыни затрепетали, ровно листья на ветру. – Я не купчина, ходящий в походы, я – вой, ведущий торг сам! Уразумел, боян?
Безрод, ухмыляясь, кивнул.
– За каждую кровью заплачено! Моей и моих парней! – бушевал Крайр, потрясая пальцем перед рабынями, а те вжимались в стену, как могли.
Безрод, слушая «медведя» вполуха, бродил вдоль строя рабынь и на каждой подолгу задерживал взгляд.
– Выбрал? – буркнул хозяин.
– Нет.
Теперь и сам был готов смеяться. Вот тебе и Торжище Великое! Безрод повернулся было уходить, уже дверь отворил, – и ровно почуял что-то. Обернулся. Крайр досадливо чесал пятерней загривок, заросший седой шерстью. Подручные зло пыхтели где-то в глубине загона, и там, куда не доставал свет, угадывалась непонятного толка возня. Кто-то стонал, слышались глухие удары и отборная брань. Безрод медленно опустил ногу, повернулся и покосился в темный угол загона. Прищурился и бросил на хозяина вопросительный взгляд.
– Эта? – недоумевающе воскликнул Крайр, вытянув ручищу в темноту. – Эта не продается.
– Почему?
– Да потому что не продашь! – Крайров гогот под низкой кровлей загона стал подобен грому. Так же заложило уши, рабыни что-то зашептали, творя обережные знамения.
Безрод молча ждал пояснений, и «медведь», отсмеявшись, мгновенно посерьезнел. Глядишь, и случится чудо, – может быть, удастся сбыть эту дикую кошку с рук.
– Ее с бою взял. Выжег поручейскую землю…
Далеко, задумчиво вспоминал Безрод. Это очень далеко.
– …Схлестнулся с заставной дружиной князя. Многих мы положили, кое-кого потеряли, а эта, – Крайр вытянул палец в темноту. – Не из последних была. Двоих парней как не бывало! Сам видал. То-то! Дралась, ровно кошка средь собак. Рвем, она встает, полосуем, – она шипит. Отделали так, что несколько дней без памяти валялась. А когда в сознание вернулась, попыталась удрать. В море собралась. То ли плыть, то ли тонуть. Отделали так, что и без памяти несколько дней выла. Кончать решил. Все равно в рабах не приживется. Или надумал что? – Крайр метнул исподлобья острый взгляд.
– Покажи.
Боец-купец щелкнул пальцами. Двое крайровичей под руки вынесли кого-то на середину избы. Понять, что это баба, можно было только по длинной сорочке до пят. Тело беспомощно висело на руках звероватых подручных, голова бессильно каталась по груди, вымазанные кровью русые волосы колыхались перед лицом. Она порывалась встать, но подкашивались ноги, подламывались руки. Худющую, тощую, ровно жердь, ее можно было обернуть сорочкой вдвое. Невольница роняла наземь капли крови и пыталась браниться, но даже язык строптивице отказал. Бранные слова вышли сырыми, как пирожки у нерадивой хозяйки в непротопленной печи.
– Пусть повыше поднимут.
Безрод подошел ближе. Крайровичи вздернули рабыню в рост, и полонянка глухо зашипела низким, сорванным голосом. Хозяин молча ждал, поглядывая туда-сюда. Пряди волос, когда-то цвета спелой пшеницы, а теперь пепельно-грязые и спутанные в колтуны, будто занавес прятали лицо. «Дикая кошка» качалась из стороны в сторону, ее трясло, по широкому подолу сорочки бегали волны, ровно по глади пруда в сильный ветер. Безрод присел, обеими руками ухватил ткань и, поднимаясь, задрал подол вверх, до самой груди. То ли стон, то ли вой вырвался из-за стиснутых зубов поручейки. Оторва затрясла головой и выпрямилась, насколько позволило истерзанное тело. Безрод и Крайр молча оценили то, каких трудов стоило ей, полуживой, не забиться в бесполезных метаниях. Хотела гордо вздернуть голову, да вот беда – шея не сдержала, голова безвольно замоталась по груди. Сивый ухмыльнулся и молча кивнул. Крайр, закусив губу, издал возглас удивления, похожий на громкий треск, с каким ломается мерзлое дерево.
Исхудала – кожа да кости, тоща, избита до ядовитой синевы. Ребра торчат, некогда широкие сильные бедра нынче острыми косточками распирают кожу, мелким царапинам нет счету, серьезных ран Безрод насчитал с пяток. Всю, с ног до головы пленницу покрывала кровяная с грязью корка. Сивый набросил сорочку ей на голову, чтобы освободить руки, присел и пядь за пядью принялся ощупывать кости, начиная с лодыжек. Полонянка стонала от боли, но как-то глухо, в нос, будто не хотела отпускать крик наружу. Голени, колени, бедра, живот. Уже не стон, а какой-то животный хрип клокотал в ее горле, ровно где-то внутри натянулась тетива долготерпения и вот-вот оборвется под жесткими пальцами. Еще немного – и обезумевшая гордость встанет на дыбы и понесет.
Безрод ощупал живот, ребра, грудь. На теле не осталось живого места, где не рана – там царапина, где не царапина – там синяк. Сивый опустил сорочку, усмехнулся и последним жестом развел в стороны грязные пряди, завесившие лицо. А не было лица. Сплошное кровавое месиво, и не поймешь, красива или нет, просто мила или безобразна. Губы распухли, ровно перины, подернулись засохшей кровью, носа просто нет. Сломан, и не единожды, глаза заплыли, от них остались только узкие щелочки. Все лицо будто синей краской вымазано – один большой синяк. Скулы разбиты, брови рассечены, выбит зуб, и даже не понять, куда глядит избитая строптивица. Но Безрод чувствовал, как царапают лицо ее глаза, – ровно острые коготки. Сивый ухмыльнулся, прикрыл один глаз, второй сощурил. Отчаюга взгляда не отвела, и будто два меча скрестились, – не хватало только искр и лязга.
– Отчего же ворожца не позвал?
– Не далась. Повязки срывает, снадобья разливает, кусается, – щерясь, уголком губ, бросил Крайр. – Думал, подлечу, – продам. Какое там!
Безрод еще раз ощупал ее всю. И особенно тщательно – живот, единственное место на теле, где кожа осталась белой, где синяков почти не было. Безрод щупал бедра, живот, грудь и долго глядел в узкие щелочки глаз, где угадывалось какое-то движение. Сделал знак отпустить полонянку. На собственных ногах она не продержалась и мгновения, рухнула на пол. Крайровичи, брезгливо глядя на жалкое существо, отошли. Сивый присел.
– Насильничали?
«Дикая кошка» долго не поднимала головы, потом все же собралась с силами и зло полыхнула глазами, – или только показалось, что полыхнула – зрачков почти не было видно, все заплыло. Слабо покачала головой.
– Нет, – беззвучно шевельнулись разбитые губы и тут же растрескались в кровь. – Забыли. Так били, что забыли.
Безрод не слышал ни звука, лишь угадывал слова по движению губ.
– Я сейчас. – Безрод встал, пошел к выходу. У порога обернулся. – Девку я беру.
От радости Крайр взревел так, что рабыни вздрогнули.
Сивый толкнул дверь рабского загона Несчастного Греца, сразу подошел к Гарьке и кивнул, приглашая следовать за собой. Бросил рубль хозяину. Грец не удивился, только кивнул, поджав губы. Пожал плечами. Дескать, говорил же я, что купишь. Показал глазами на дверь. Забирай и уходи.
– Иди за мной, – бросил Безрод «молотобойше». Та улыбнулась.
– Если у тебя не понравится – уйду, – сразу обусловила Гарька. – Накоплю деньги и откуплюсь.
– И скатертью дорожка, – буркнул Безрод и первым вышел за дверь.
Гарька ринулась было следом, да в дверях столкнулась с Безродом, входящим обратно.
– Да, вот еще что…
Изумленно обернулся Грец, изумленно вскинули головы рабыни.
– Ты. – Сивый пальцем показал на рабыню, что давеча умоляла купить и обещалась даже ребенка родить безропотно. – Тоже пойдешь со мной.
Изумленный Грец поймал деньги за вторую рабыню и лишь горько усмехнулся. Да что же это такое! Век ему в торгашах сидеть, что ли? Так и помереть – не с мечом в руке, а с деньгами? Тьфу, доля-шутница, что ни делай, так и липнет золото к рукам!
Безрод оставил вторую рабыню во дворе, а сам прошел с Гарькой в загон Крайра. – Я беру эту, – отсчитывая мелкое серебро, повторил Сивый и кивнул на избитую полонянку, лежащую посереди сарая. – Полцены. Так?
И не успел донельзя довольный Крайр кивнуть, как от двери прозвучал низкий голос, истекающий язвительной желчью:
– Я дам полную цену!
Безрод вскинул голову, прищурился и поджал губы. Утрешний тулук стоял в дверях, деловито расстегивал поясной мешок и кривил в усмешке губы. Крайр плотоядно сглотнул. Вот это удача! Не надеялся сбыть эту волчицу даже за самый завалящий рублик, а тут, глядишь, если повезет, так и полную цену можно взять! Тут уж кто кого. Оба с ума сошли, не иначе!
Безрод просветлел лицом. Растянул губы в ухмылке. Так вот отчего тулук встал еще затемно! Все покоя не дает давешнее побоище в драчной избе! Раненую гордость, будто солью присыпали, – видать, саднило всю ночь, спать не давало. Не спал, ворочался. Болит душа за поруганную тулучью честь.
Безрод ухмыльнулся и кивнул. Дескать, продолжай.
– Даю полную цену, – повторил тулук и повернулся к хозяину.
Крайр взглянул на Безрода. Сивый ухмылялся. Не стоит «дикая кошка» полной цены. Еле дышит, живого места нет. И не в ней дело. Так можно дойти до полной глупости. Баба встанет ценою в ладью. Не рабыня тулуку нужна. Он даже не взглянул на нее.
Все смотрели на Безрода. И, наконец, Сивый заговорил.
– Дам две цены, ты – три, я – четыре, ты – пять, а когда кончатся деньги, пойдем волосы друг другу рвать. Может быть, сразу волосы? – Безрод растянул губы в холодной усмешке.
Резко проступили шрамы вокруг носа и губ, убежали в короткую бороду, затерялись в волосах. Тулук согласно кивнул.
– Да. Сразу в драчную избу. – Двукосмый первым вышел из загона.
Безрод встал на пороге, оглянулся на полонянку. Та, изломавшись в поясе, лежала на полу, ровно подстреленная лебедь. Кто первым вернется, того и будет.
– Я с тобой, – заявила Безроду Гарька.
– Дура! Баба ведь!
– Волосы под шапку уберу. Порты надену. Верховку накину.
– А если не понравлюсь в избе?
– Что должна – отдам, и видел ты меня! – Гарькины соболиные брови сошлись на крупной переносице, глаза озорно блеснули.
– Непорота ты, – беззлобно ухмыльнулся Безрод.
– Непоротой жила, таковой и помру.
– Выпорю, – пообещал Сивый.
– Здоровья хватит – пори! – задорно согласилась Гарька, вытаскивая из своего мешка штаны.
– А надевать где станешь? – Сивый кивнул на штаны.
– Да во дворе и надену. За поленницей.
– Ну-ну! – усмехнулся Безрод и вышел вслед за тулуком.
Гарька спешно бросилась надевать порты. Не потерять бы сивого и тулука из виду. Потом, ищи эту драчную избу. Слыхать – слыхала, бывать не доводилось. Молотобойша забежала за поленницу, зыркнула туда-сюда и присела…
Горюнд и трявер еле на ногах стояли. Их подзуживали друзья и зеваки, требовали победы, но вои были пьяны и до предела измотаны. Бражная ночь осталась позади, теперь и сами забыли, что не поделили. А что помнили, – выбили друг из друга кулаками. Стояли, прислонясь к столбам, глаза заплыли, головы гудели. Горюнд первым оторвался от столба, на тряских ногах подошел к тряверу, ударил. Ударил и сам повалился следом. Последний удар свалил обоих.
– Победителя нет! – протяжно возвестил драчный пристав. – Ничья!
Друзья поединщиков увели драчунов, и на залитый кровью пол ступили Безрод и тулук. Завсегдатаи Безрода узнали. Зашумели, едва из штанов не выскочили, объясняли прочим зевакам, кто такой этот сивый, и что он давеча тут натворил. Кричали обидное тулуку, но тот и бровью не вел.
– Как? – подошел пристав. Безрод молча смотрел на тулука. – На ножах, – буркнул двукосмый. Сивый равнодушно кивнул. – На ножах! – громогласно объявил пристав. Изба замерла. Зрители обмерли. Решили биться до последнего, до смерти одного и крови другого. И ведь не скажешь, что враги! Глядятся равнодушно, не кипят, из глаз искры не мечут, не шипят, не грозятся. Один усмехается, второй ухмыляется. Тулук скинул верховку, положил на пол рядом с мечом, бросил наземь рогатую тулучью шапку, засучил рукава рубахи и вынул нож. Безрод неторопливо разоблачился – меч, верховка, шапка.
– Пояс потерял! – крикнул кто-то из толпы, и вся изба зашлась хохотом.
Вчерашние зеваки лишь криво улыбнулись. Беспояс беспоясу рознь! Вчера троих на руках унесли, мало не при смерти. Вот тебе и беспояс!
– Люди зовут Чуб, – низко бросил тулук.
Безрод гляделся в лицо двукосмого, как в зерцало. И бровь не дернется, глаза смотрят спокойно и холодно. С виду прост, будто неклейменое лезвие, и, наверное, так же опасен.
– Я – Безрод, – тихо прокатал в горле Сивый.
Чуб кивнул и отошел. Без суеты, спокойно и деловито, не рисуясь и не стращая. Быть нынче крови. Безрод поднял глаза на помостки, поискал. Вот она! В шапке до самых глаз, в овчинной верховке, стоит меж двумя щуплыми стариками, что щербато лыбятся и показывают пальцами вниз. Гарька еле заметно кивнула. Безрод ухмыльнулся. А если бы вместо нее на помостках находился Тычок? И его бы не дотащил, и сам сломался.
Безрод уже забыл, когда случалось выйти биться, да чтоб ничего и не болело. Так привык к постоянным болям, что на синяки, царапины и ушибы не обращал внимания. Только-только начал от Скалы отходить – вчера опять мало не убили. А сегодня, наверное, и шкуру попортят. Ухмыльнулся и вынул нож.
Кто-то огромный, расталкивая зевак, мостился поближе к перильцам. Безрод и Чуб краем глаза покосились на ожившие помостки. То Крайр здоровенными телесами потеснил завсегдатаев, и один занял два места. Хитро подмигнул обоим поединщикам и звучно хлопнул себя по ляжкам. Ровно бичом кто-то щелкнул. «Медведь» с первого взгляда угадал в обоих покупателях бойцов, да не из последних, и, оставив хозяйство на подручных, поспешил сюда.
Чуб и Сивый спрятали улыбки и сторожко подшагнули друг к другу…
Зеваки, привыкшие ко многому, тряскими руками зажимали рты. Заворожило. Потрясло. Дрались красиво, жестко, быстро. Очень быстро. И если про одних людей говорят «родился в рубахе», про тулука сказали бы «родился с ножом». Безрод нахмурился. Очень ловкий и умелый вой. Сделалось яснее ясного – победить его, не убив, невозможно. А еще мудрые люди говорили: «Не делай добра – не получишь зла», – ровно Злобог стоит на помостках и смеется. Самый воздух в избе потяжелел, сгустился, вот-вот прольется силой, будто дождь. В свете многочисленных светочей, лезвия блистали, будто сполохи, и по всей избе стоял звон. Для зевак происходящее оставалось загадкой, слишком быстро все случалось, и только два-три бывалых воя, вроде Крайра, понимали, что происходит. От восхищения «медведя» аж перекосило. Сивый колебался недолго и принял решение. Между ним и рабыней не должно быть чужой крови. И без того ее пролито достаточно. Хватит уж. Тулук останется жить. Безрод внезапно бросил нож, подставился и приготовился к резкой боли. Собственным боком поймал нож Чуба, вырвал клинок из его руки и мощным ударом головы разбил противнику лицо. Сивый проделал все настолько быстро, что для зевак размылся в неясное пятно. Не успели и глаза продрать, а тулук без памяти упал наземь.
Не оглядываясь, Безрод вышел в предбанник, верховку тащил по полу, меч зажал под мышкой. На студеном воздухе глубоко вздохнул, и… голова закружилась. Привалился к стене – что-то огоньки перед глазами расплясались – выстоял себя и медленно побрел вниз по улице. Сзади догнала ошеломленная Гарька, – хотела подпереть плечом, да вовремя осеклась.
– Падать стану, подопрешь, – ухмыляясь, прошептал Безрод.
Гарька кивнула, и на всякий случай встала поближе. Вынула верховку из пальцев Безрода, набросила ему на плечи. Меч забирать не стала.
Сивый медленно шел по улице, зажимая рукой бок. Хорошо, вскользь лезвие пошло, удачно рассчитал. Гарька шла слева, готовая немедленно подставить могучее плечико. Весенняя распутица подъела снег и развезла дорогу. По середине улицы еще тянулся чистый от грязи большак, но по краям под ногами чавкала жирная, черная талица. Гарька подумала-подумала и за руку потянула Безрода на большак. Грязи нет, идти, опять же, удобнее. Но Сивый только зашипел на девку, ровно змей.
– Куда тянешь, дурища!
– Да на большак же! А если споткнешься? Да в грязь лицом? Даже подпереть не дал!
– Чист большак, – буркнул Безрод. – Зачем кровищей пачкать? Оглянись.
Гарька оглянулась. На черной, жирной талице кровавых пятен почти не заметно. Упала кровь наземь, смешалась с грязью, расползлась по жиже. А на большак выйдешь, – кровавые пятна сами в глаза бросятся. Чего же народ будоражить?
– Где Чуб?
– Кто?
– Тот, второй, мой противник.
– Крайр хлопочет. Сам назад повез. Гоготал так, – думала, кровля обвалится.
Безрод кивнул. Хорошо. Серьезный противник, достойный враг. И даже не враг, а так… Вставая против тулука, знал, что без крови не обойдется. И не обошлось. С одного взгляда друг в друге железо учуяли. Сто ящего бойца можно по говору отличить, и как меч достает, и как спину держит, и как в глаза глядит.
– Пришли. – Гарька забежала вперед и отворила перед Безродом ворота Крайрова загона. Сивый аж усмехнулся. Надо же, хозяином стал, рабой обзавелся. Хорошо бы, та раба не убила в сердцах.
– Чего смеешься, Сивый?
– Хозяин я тебе или нет?
Гарька потупилась, затем подняла лунообразное лицо под мужской шапкой, утерла рукавом нос и задорно оскалилась.
– Пока останусь. По нраву ты мне. С тобой подамся.
– А бить не будешь?
– Не буду! – пообещала молотобойша, сторонясь. – Милости прошу!
– Ну, так я тебя выпорю, – усмехнулся Безрод.
Крайр будто следом шел. Влетел в загон, словно ветер. Уже обернулся туда и обратно. Доставил Чуба на постоялый двор. Долго ли на лошади?
– Силен! – заревел с порога Безроду. – Силен! Многое повидал, а такого видеть не доводилось! А все же зря ты подставился!
– Тулука сам, что ли, отвез? – прошептал Безрод. Ишь ты, углядел-таки. Наметан глаз у старого «медведя».
– А кому доверить? – Крайр махнул рукой. – Пока довезут, уморят!
Все тело запекло, будто в печь попал. Хоть в море бросайся. Безрод достал из мошны мелкое серебро, бросил Крайру, кивнул Гарьке на «дикую кошку».
– Забирай.
– Телегу дам, – громыхнул Крайр. – Эй, Дагут, запрягай Крупца! Повезешь!
Ехали тихо, шагом. Громадный Крупец, мерно перебирая мохнатыми ногами, неспешно влачил телегу, а на самом ее дне, едва прикрытом соломой, лежала купленная полонянка. Гарька скинула с себя верховку, набросила на рабыню, с облегчением сорвала с головы мужскую шапку и разметала косы по плечам. Повязала покров и хитро взглянула на Сивого. Та, что умоляла себя купить, сидела с Безродом спина к спине, подпирала и не давала упасть. Новоявленный хозяин улыбался весеннему солнцу, щурился и сам себе не верил. Купил трех рабынь, дрался насмерть – и все в один день. Неужели сошел с нехоженых лесных тропок на столбовую дорогу? Неужели из непролазных житейских глухоманей вышел на широкий, наезженный тракт? Неужели, неужели? Безрод покосился на верховку, под которой на соломке лежала избитая рабыня, подтянув ноги к груди. Все может быть. И так откуда-то шибануло в нос млечным духом, аж сердце зашлось.
– Останови, – прошептал Безрод Гарьке.
– Стой! – крикнула молотобойша.
Дасс оглянулся с вопросом в глазах.
– Подожди тут. А ты, – Сивый, прижимая руку к боку, сполз с телеги и повернулся к той, что умоляла себя купить. – Слезай.
Глава 15 У ворожеи
– Эй, хозяева! Есть кто дома?
Показалось – крикнул, на самом деле еле прошептал. Разве выкликают хозяев шепотом? Но кричать не осталось никаких сил. Кто-то лежал на лавке у стены, кто-то, покряхтывая, тяжело вставал с ложницы у печи.
Подслеповато щурясь, на середину избы вышел дед. Пригляделся, узнал. Обнял как родного. Зашевелился на своей лавке Леннец.
– В память не вернулся?
– Нет, сынок. Все жду вот.
Безрод отодвинулся от порожка, а из-за его спины огромными перепуганными глазищами на деда настороженно выглянула рабыня.
– Походит за парнем. – Безрод кивнул за спину.
Дед подслеповато глядел на неожиданную подмогу, и она никак не могла понять, куда старый смотрит. То ли прямо в глаза, то ли в сторону куда-то.
– Все от тебя зависит, – Безрод взглянул на рабыню и будто до самой души достал – передернуло всю. – Вон твоя судьба лежит, ворочается. Вы ходи, а там сама гляди. Баба все же.
Трайда, так ее звали, стягивая с себя плотную дерюжную верховку, прошла мимо деда к ложнице, оглянулась на Безрода и присела у больного. Положила руку парню на лоб, и Леннец, ровно что-то почуяв, зашептал сухими губами и потянулся навстречу прохладной ладони.
Морщась, держа руку на боку, Безрод подошел к старику и что-то прошептал на ухо. – Поживем, – увидим, – дед цепко следил за рабыней. – Дадут боги, окажешься прав.
Со стылого весеннего воздуха рука Трайды приятно холодила лоб, и Леннец весь извелся на лавке, мостясь под прохладу ладони.
Еще недавно, в загоне Греца, когда Сивый хмурил брови, а Трайда, валяясь в ногах, умоляла купить, все казалось, что она не умеет улыбаться. Как будто жизнь крепкой ладошкой навсегда стерла улыбку с ее губ. Но сейчас рабыня светло улыбалась, впервые за долгое время, а дед стоял и глазам своим не верил. Вчера Сивый дрался за внука, сегодня рабыню для ухода купил. Совершенно посторонний человек. Боги, да бывает ли такое?
Безрод повернулся и вышел, оставив после себя пятна крови на тесанном полу.
– Я уберу!? – Трайда было взвилась на ноги, но дед остановил.
– Не надо. Не тронь. В дерево войдет – в избе останется, и как знать, не с той ли кровью счастье в избе поселится?
Трайда покорно кивнула. Сколько дней жила, словно зажатая в кузнечные тиски, и вот теперь отпускало. Рабыня искоса осмотрелась. Добротная, хоть и старая, изба навевала ласковый уют, полонянка на мгновение будто дома оказалась. За старушкой сноровисто ухаживали молодые, крепкие руки и старые, опытные глаза. Трайда вгляделась в тощего парня, что ластился к прохладной ладони. Лоб так и пышет жаром. Совсем еще мальчишка, вот только губы сжаты крепко, по-мужски. Морщится, стонать хочет, но молчит. Упрямый…
– Трогай. – Теперь Безрода подперла собою Гарька, и Дасс легонько хлопнул жеребца по крупу.
Так и поехали вперед медленным лошадиным шагом. Рабыня, укрытая Гарькиной верховкой, и разу лишнего разу не шевельнулась на дне телеги. Да и дышала через раз.
Безрод закутался в овчинную верховку, в сенях выпрямился, как сумел, и толкнул дверь. Тулуки сидели за столом мрачные и будто ждали – как один, покосились на скрипнувшую дверь. Безрод оглядел трапезную, усмехнулся.
– Веди к Чубу. – Сивый остановил взгляд на коренастом седом вое не первой молодости и не последней глупости.
– Цыть, подранки! – тот раскинув руки, пресек ропот соратников. – Пощипал сокол кур, так те бегают быстрее. А ты, Сивый, уважь старого, подойди ближе.
Безрод выждал и подошел. Коренастый отвел Безрода к огню, отвернул полу верховки и взглянул на рану.
– Нож в бок схлопотал, а сам не ударил. – Тулук покачал головой. – И убить мог?
– Мог.
– Почему не убил?
– А зачем? – Безрод перестал ухмыляться, и глаза тулука отчего-то заслезились.
Старый боец передернул плечами, и сам себе немало удивился. Виданное ли дело – у огня зазнобило! Будто кто-то взял душу в ежовые рукавицы, и она, толстокожая, затрепетала, съежилась…
Белый, ровно снег, Чуб лежал в светлой горенке на скамье у самого огня и бездумно глядел в потолок. Рядом сидел воевода тулуков и мрачно смотрел на собрата. Губы что-то беззвучно шептали, на горле туда-сюда ходил кадык. Скрип двери Чуб услышал, – и тяжело, на самом пороге беспамятства скосил глаза. Ворожец тулуков, неулыбчивый здоровяк, востроглазо покосился на Сивого, пожевал губу и посторонился, давая подойти ближе.
На лбу Чуба набухла здоровенная шишка, глаза кровью залило, на месте носа влажно хлюпало. Безрод не проронил ни слова. Просто постоял около раненного бойца и вышел.
Гарька на руках внесла битую рабыню в горницу, и у Тычка округлились глаза. Подобно Безроду, старик наслаждался жизнью, гулял по городу, совал нос во все дыры, баловался сластями, а вечером уставший засыпал прямо на ходу. Вставал позже Безрода, в трапезной катал тулуков по полу, – так хохотали вои над Тычковыми байками, после наряжался, ровно первый парень на селе, и, важно выступая, уходил в город. Но без Сивого даже капли пива в рот не брал. Хитрые глазенки старика блестели почище, чем у мальчишек, когда те лезут в чужой сад за яблоками. Снова жить начал. И вот – на тебе! Безрод, кривясь, опустился на лавку, а Тычок испуганно уставился на двух девок, что несли одна другую на руках. Забегал, засуетился, побледнел. Так сильно запахло болью, что неопределимых годов мужичок осел наземь прямо в новых, нарядных штанах. Затараторил: – …А он и говорит, дескать, сдается мне, что моя разлюбезная женушка спит с соседом-плотником. Друг его и спрашивает, – мол, как узнал. Тот и говорит, как ни подойду, к ложнице, – повсюду стружка валяется. Друг отвечает, – дескать, ерунда! Вот мне кажется, будто моя жена спит с гончаром. Второй спрашивает, – как узнал? Да просто, говорит, подхожу вчера к ложнице, сдергиваю одеяло, – а там гончар!
Глядишь, рассмеются, забудут о болях, полегчает. Безрод улыбнулся, Гарька звонко рассмеялась, избитая полонянка слабо мотнула головой. Забыли на мгновение, что должны болеть, улыбнулись, и старику на самом деле полегчало. Тычок встал с пола, беспрестанно рассыпая байки, совлек с Безрода верховку, уложил на ложницу, достал чистую полотнину. Принялся пользовать, ровно ворожец. Безрод хотел смеяться, да не смел. Бок не давал. Плевался кровью, огнем полосовал. А старик за свою долгую жизнь чего только не выучился делать. Даже за ранами ходить.
– Не хочу больше на постоялом дворе жить. – Безрод осторожно встал с ложницы и потянулся вбок.
Лучше, но все равно болит. Если случится драться всерьез, с такой раной уже можно биться, и даже побеждать. Каждое утро Безрод гнал Тычка в город, – поглядеть, послушать, намотать на ус и принести в горницу. И старик уходил. Слушал, смотрел, приносил новости. Гарька ходила за обоими, за хозяином и подругой по судьбе – поила, приносила есть, вот только к своей ране Сивый не подпускал. Битая рабыня по ночам стонала, как будто невыносимые боли накатывали аккурат после захода солнца. Одно счастье – Тычок спал, и почти не чуял запаха боли, только беспокойно дрыгал руками и ногами. Несколько раз, когда битой становилось особенно худо, Сивый в полночной тишине шептал наговор, и той как будто становилось лучше. Как-то в вечерней заре в горницу ужом проскользнул довольный Тычок и хитро подмигнул Безроду. – Не схотел на постоялом дворе жить? – разлыбился несчитанных годов мужичок. – И не надо! Безрод ухмыльнулся. Как пить, дать нашел, то, что искали. С тем и легли спать, а утром Тычок растолкал чуть свет, зашипел: – Пошли! – Куда? – Куда надо, лежебок! Поднимайся на ноги, кому сказано! Безрод хотел сказать, что битый бок как раз и нужно вылежать, да разве отлежишься с таким шебутным? Тут и вездесущий старик, как напоминание о самом себе, вырос перед носом со свежей тряпицей, – дескать, перевяжемся и пойдем. Гарька открыла один глаз и приподнялась на своей ложнице. – Чего глазенки дерешь? А ну спи! – зашипел Тычок. – Ты, старый, перевязывай, а я погляжу, – Гарька не упускала случая подглядеть, как Тычок перетягивает раны. Пока балагур занимался Безродом, Гарька едва из сорочки не вылезла, – так шею тянула, чтобы не упустить чего-нибудь важного. Влепить по роже, да так, чтобы здоровенный мужик с ног упал, и сама умела, а вот обратное дело – здоровье вернуть – пока не могла. Да ничего, опыт дело наживное. День уходит – память оставляет. День за днем, кроха за крохой, так и полнится лукошко. Безрод задрал рубаху, и Тычок, вздохнув, принялся за дело.
Пока шли, Тычок ни слова не сказал, лишь хитро щурился и держал рот на замке, хотя у самого на языке так и свербело выложить все. Безрод посмеивался в бороду, но вопросов не задавал. Шли уже по самой окраине города, где домишки встали пониже, и дымок вился пожиже.
– Ишь ты, даже сюда залез, ровно шило у старика в заду! – усмехнулся Безрод под нос и огляделся. – Наверное, рот от любопытства раскрыл, а как тут оказался, и сам не вспомнит. – Пришли. – Тычок остановился и отчего-то зашептал, показывая пред собой пальцем. Пришли? Безрод для пущей верности еще раз взглянул на старика. – Сюда. – Заговорщик бочком пихнул калитку и мышкой скользнул в перекошенные ворота. Сюда, так сюда. Безрод прошел во двор следом за стариком. Воротца стояли, будто хмельные. Правый столбик кренился влево, левый – вправо, кособокий тесовый плетень, темный от времени и непогоды, щербатился частыми дырами. Тычок пересек дворик, поднялся на сгнившее крыльцо и толкнул дверь. Оглянулся на Безрода, приглашая следовать за собой. Сивый поднялся по ступенькам, – одна, вторая, – пригнулся, минуя подсевшую притолоку, и ступил в полутемную избу, где уже возился Тычок, распаляя светец. Безрод огляделся. Слабенький огонек высветил стены, пол и потолок, кое-где темные от гари, утвари в горнице не нашлось вовсе – ни лавки, ни скамьи. У самого окна на сундуке сидела древняя старуха, наверное, ровесница избе, и безо всякого интереса глядела пустыми глазами на гостей. По всему было видно, что огонь только чудом не спалил всю избу – лишь облизал изнутри – и едва не вылез по потолочным балкам на кровлю. Так и стояла изба: целая снаружи, – горелая внутри. – Иду, значит, себе, иду… – Ворон считаю, – подсказал Безрод. – Ну и считаю! – взъерепенился Тычок. – Уж если считаю, так ни одна несчитанной не уйдет! Значит, шел, шел – и набрел на эту избу. Бабка ворожея, одна живет. Гляжу через дырку в заборе, гарь во двор выносит. Со стен соскребает и выносит. Ну, думаю… Даже через дырку в заборе заглянул, живчик. И все разузнал. Остается удивляться, как он все Торжище Великое не надул, не обхитрил? Пора бы уж! – Обещался помочь. А она нас приютит. Изба вон какая здоровенная! Хоть и горелая, а все же не постоялый двор. И девку нашу оздоровит. Ворожея, как-никак. Безрод медленно подошел к оконцу. Старая ворожея оторвала бесконечно усталый взгляд от дальних далей и взглянула на Сивого. Как ни прячет шрамолицый нутро от постороннего глаза, воя никуда не денешь. – Поди, ноет бочок? – спросила бабка голосом, – скрипучим, будто ворота калитки, но при том бодрым и внятным. – Крепенько досталось? Безрод усмехнулся. Старой ворожее разок взглянуть – сама расскажет, – что, где, когда. – Досталось. – Безрод сел против бабки и незаметно поморщился. Тянет бок. – А чего же сама по хозяйству? За год, глядишь, и управилась бы. Разве помочь некому? – Боятся. Да только меня ли им бояться!? – пробубнила бабка себе под нос, и всю аж передернуло.
Глаза у Сивого – будто в бездну глядишь, голова идет кругом. Еще шаг – и пропадешь. Глядит, как в болото засасывает. Заглядишься, память потеряешь, себя позабудешь. Видела разок такие глаза, и не забыть тот разок до самой смерти. – Больно тихо говоришь, ворожея. Не слыхать. – И не надо. Золу со стен обдерете, справите новую утварь. Да, пожалуй, и будет с вас. Гляди, сам не надорвись. – Не надорвусь, – усмехнулся Безрод.
– Ты, сивый, видать, ухмыляться горазд, – бабка скрипела со своего сундука, ровно несмазанная петля. – Через то и морщины пошли по всему лицу.
На эти речи Безрод лишь ухмыльнулся. – После полудня жду. А теперь пошли вон, старый да молодой!
И вовсе нос у бабки не крючком, как молва гудит о ворожеях, и не велик, будто топором рубленый. Аккуратный, словно точеный. Суха, подтянута, иным кругленьким молодухам задел вперед даст. Ох, видать, красива была старуха в молодости, наверное, немало молодецких сердец присушила! Поди, и нынче старики оглядываются. Безрод, ухмыляясь, поглядел на Тычка. Через забор углядел, стало быть? Как бы еще женихаться не стал, неопределимых годов мужичок. Хорошо, хоть от страха не трясется и не пускает слюни. Заполдень у погорелого дома остановилась телега, и четверо прошли в косенькие воротца, вернее, прошли трое, – четвертую внесли. – Доброго здоровья хозяевам! Старуха все так же сидела у оконца и глядела вдаль. Покосилась на здоровенную девку в дверях, что держала кого-то на руках и кланялась в пояс. Следом вошел Тычок и втащил скамью. Первая утварь в дом. – В угол, – проскрипела ворожея. – Да хворого на ту скамью. Тычок поставил скамью в угол, и Гарька уложила битую рабыню на подстеленную верховку. Ворожея встала, и Безроду показалось, будто кости старухи на самом деле заскрипели. Все скрипит в этой избе, – ворота, кости, петли. – Скребцы в подполе. – Бабка показала длинным, костлявым пальцем вниз. Подошла к скамье наклонилась над девкой, поглядела, пощупала грудь, послушала, как дышит. Обернулась. – Чья?
У Безрода в горле пересохло. Так давно не говорил о бабе – «моя»! – Моя! Бабка не ответила, только покосилась. Соскребли гарь, пустили по стенам свежий тес. Безрод прикупил маслянок, и вечерами в избе стало светло, как днем. – …Ходить к нашей ворожее – ходят, а боятся, – сидя вечером на ступеньке крыльца, Тычок заедал хлеб луковицей. Безрод примостился рядом в одной рубахе, несмотря на прохладу. Наработался одной рукой, взопрел. – Туда-сюда косят, под ноги глядят, лишь бы глазами не встречаться, деньги, еду суют – в сторонку смотрят. – И это углядел! – Соколиный глаз! – балагур вытянул тощую шею, и важно воздел палец. – Пока некоторые спят да прохлаждаются, иные, будто пчелки, покоя не знают! За те несколько дней, что простояли у ворожеи, Тычок широко раскинул хитрющими глазками и углядел то, что пряталось в тени старухиной избы. Людские недомолвки и недоглядки, опущенные глаза и скованные языки, торопливые шаги и всепонимающую усмешку ведуньи. Боятся. Безрод ухмылялся, ловя на себе опасливые взгляды местных. Видать, на всех постояльцев ворожеи легла тень неприязни к старухе. Но все страхи придавила нужда в бабкином умении. Люди гнали страхи прочь, стискивали зубы – и шли. С болями и хворями, с дурными снами и недобрым чохом. Что-то страшное тянулось за бабкой из прошлого, выглядывало из-за спины, недобро щерилось, пугало. Какая-то странность выступала из минувшего бесплотным призраком, словно туман. Гарька натаскала воды, наколола дров, вымыла днем всю избу, а когда село солнце, исподлобья поглядела на бабку и куда-то умчалась. Ее не было долго, потом, взмыленная, прибежала, зыркнула туда-сюда хитрыми глазами, подхватила на руки старуху, которой полгорода сторонилось, и куда-то унесла.
– Дурищ-щ-ща! – зашипела было ворожея, но девка лишь отмахнулась толстенной косой. Безрод усмехнулся, а Тычок, пряча хитрые глазки в пол, сдвинул шапку на нос, почесал затылок и засобирался вставать.
– Я тут это… кажись, простыл. Аж кости ломит. Ой-ой-ой, так и крючит в колесо! К земле гнет! Ох, мне бы до баньки живым дойти, ох, дойти бы! Парку бы в кости, ох!
Согнувшись в три погибели, кряхтя и охая, приволакивая ноги, егозливый старик побрел к баньке. За углом избы огляделся, – не видит ли Безрод, – шустро выпрямился и, будто лис около курятника, резво засеменил в парную. Безрод, сидя на крыльце, ухмылялся и слушал. Даже вставать не нужно, слышно будет на всю округу. Визгливый голос Тычка ни с каким другим не спутать. Неопределимых годов мужичок приоткрыл дверь в баню и пролез внутрь, кривясь и корчась, будто от всамделишных болей. Быстро разоблачился, и, прикрываясь веничком, нырнул в пар. Старик будто ни о чем не догадывался, рожицу балагур состроил донельзя наивную. Безрод, сидя на крыльце, прислушался. Уже должно быть. Пора. Сначала хлопнула дверь, потом тишину разорвал истошный визг Тычка, потом и сам Тычок, пролетев предбанник, шлепнулся в мягкую, жирную грязь. Безрод не видел полета старика, зато все отлично представил себе в лицах. – Хозя-я-яи-и-н! – долетело низкое из-за угла. – Я старика малость помяла, но уж больно шустр, старый егоз! Едва не снасильничал обеих! После нас отмоется, а? – Хорошо! – усмехнулся Безрод. Из-за угла избы, держась за поясницу, вышел Тычок. Теперь он непритворно потирал бока, кряхтел и охал. На лукавой рожице сажными кляксами чернела весенняя грязь, балагур кутался в верховку и оглядывал перепачканные в грязи штаны, что Гарька выбросила следом. – Ох, купили мы погибель на свою голову! – запричитал старик, но Безрод не поверил притворной досаде. Уж больно ярко горели озорством хитрые глазки. Видать, все же углядел что-то в парной. – Откуда мне, убогонькому, было знать, что бабы устроили баньку? Безрод молча сунул Тычку недоеденные хлебец да луковицу. Пусть остынет. Не то весь дом запалит, искры из глаз так и сыплют. – Ворожея велела передать, чтобы ты принес хворую в баньку. Чтобы сам принес, на своих руках, да чтобы я не помогал. Ох, и зыркнула, старая, глазищами, – думал, насквозь прожжет! Ну и бабка!
Безрод нахмурился. Самому бы рядом не упасть, когда на руки возьмет. Но уж если падать – падать обоим прямиком под бабкину ворожбу.
Сивый встал, осторожно повел плечом. Болит бок, тянет. Шагнул в избу, прошел в угол, где на лавке лежала хворая рабыня, и молчаливой тенью навис над битой-перебитой девкой-воительницей. Даже имени ее пока не знал. Глядел в лицо и не мог понять, видит или нет, хотя чего тут гадать – конечно, видит. Смотрит настороженно, боится. Душа, что осталась не отбита, наверное, в пятки от страха уползла. Безрод развернул полы верховки, просунул руки под шею и колени, осторожно поднял рабыню с лавки. В бок словно раскаленный нож вонзили и с десяток раз провернули. Перед глазами побелело, открылась рана, заплакала кровью. Понес осторожно, шаг за шагом.
А не догадайся Гарька унести ворожею в баню, да не распарь старухины замкнутость и безразличие, сколько еще пролежала бы хворая на грани жизни и смерти? Промолчи бабка еще день-другой, не замечая ничего вокруг себя, плюнул бы на все и занялся битой сам. И пусть старуха призывает кары небесные на дерзкую голову, пусть. Ухмыльнулся бы, как всегда. И так не красавец, хуже не будет.
Дверь в баню догадливая Гарька приоткрыла. Безрод осторожно внес рабыню через сенцы в парную. Ворожея и Гарька, обе распаренные, с мокрыми распущенными волосами, в свежих исподницах ровно привидения изникли из пара, что укутал баню, как туман. У Безрода в печном жару да водяном пару перехватило дыхание, перед глазами заплясала радуга. Сивый мгновенно взмок, нутро запекло, будто по жилам растеклось железо, расплавленное в кузнечном горне. Плесни на лоб водой – зашипит.
– Ну, чего встал? Клади на лавку, – да иди вон! – буркнула старуха и повернулась к Гарьке. – И ты тоже, девка, иди. Иди. Сама уж!
Безрод осторожно, не упасть бы от слабости самому, положил рабыню на лавку, застеленную свежей полотниной. Едва не поскользнулся на мокром полу. Пошатываясь, двинулся к выходу. Следом, накинув на плечи верховку, пошла Гарька.
– Сам. – Безрод осадил Гарьку, хотевшую было подпереть плечом. – С баней-то как сообразила? – Да так и сообразила. Сама не знаю как. Будто под руки толкнуло. Ходят к бабке за тем, за этим, а в целом городе даже распарить ворожею некому! – глухо бубнила Гарька позади. Размягчела хозяйка, подобрела, оглянулась вокруг. Кругами ходила, на хворую не смотрела, а ведь уже который день под одной крышей. Почитай, свои уже. Посторонних лечила, своих не замечала, как будто приглядывалась. Ровно боялась чего-то. Пригляделась? Да кто ее разберет. Безрод прошел в избу и в сенях тяжело опустился на лавку. Дальше не пошел. Незачем пол кровью пачкать.
– Тут перетягивай. – Буркнул Тычку. Старик по обыкновению возник, будто из ниоткуда. Ровно из-под земли вынырнул. – Ну-кося, девка, в сторону сдай! – Щуплый Тычок уперся плечом Гарьке в бок, попытался отодвинуть. Не отодвинул, но Гарька, фыркнув, отошла сама. Впрочем, недалеко. Через плечо Тычку подглядывала. Неопределимых годов мужичок споро и ловко перетягивал рану. Не подглядеть лишний раз, – как саму себя обокрасть. Вот только балагур отчего-то скривился, перекосило всего, – того и гляди, молоко у ворожеи в горнице скиснет. Одна беда – видно из-за плеча плохо, ровно прячут оба что-то.
– Эк тебя, насильник, перекосило! – Гарька издевательски скривила губы. – Неужели кровь дурноту наводит? – Ох, и язву мы купили! – не отрываясь от раны, закачал головой Тычок. – Ох, за болячку отдали кровные деньги! – Мы? – Гарька уперла руки в боки. – Тебя, пострел, что поседеть успел, на торгу не видала! – А мне и не надо ходить! Я утречком, словами. Дескать, так и так, бери девку скромную, работящую, характером незлобивую. И вот на тебе! Кошку в мешке взял! Аж когти выпустила! Эх, надо было самому!
Безрод, усмехаясь, засыпа л под их перебранку, под легкими Тычковыми руками и Гарькиным низким бухтением.
А утром встал ни свет, ни заря. Еще сопел во сне Тычок, еще кряхтела на женской половине Гарька, а снаружи кто-то уже возился. Ворожея, наверное, больше некому. Вот ведь не спится. Пошатываясь, Безрод вышел на крыльцо. В глубине двора, в серой полутьме рождались мерные глухие удары, – наверное, топора по дровине, а может быть, долота по тесу. Безрод сошел с крыльца, ступил босиком на холодную землю, и, разбивая на лужицах молодой ледок, зашагал к дровнице.
– Чего подскочил? В тепле не спится?
– Дай топор, что ли. У меня всяко ловчее выйдет. – Безрод потянулся за топором. Ворожея усмехнулась и выпустила колун из рук.
– Гляди, перекосит работу на левую сторону. Ведь в левом боку рана?
– В левом, – поморщился Безрод. Давно хотел спросить, как звать хозяйку, да все недосуг было.
– Звать-то как? А то все «бабка», да «бабка».– Когда-то Ясной звали.
Показалось, или ворожея и впрямь улыбнулась? Тепло, без всякой задней мысли, просто оттого, что вспомнила многоцветное, вкусное, молочное детство.
– Сам-то кто?
– А никто, – усмехнулся Безрод. – Две руки, две ноги, хожу по свету. Живу, дышу…
– И баба твоя жить будет. – Ворожея кивнула на избу. – Где ж ее так, сердешную?
– В драку полезла. Порубили.
– А сам что? Не сберег? Все по драчным избам ножом машешь?
– Машу вот.
– Вижу. Дурень! Уже сединой виски подернуло, а ума все нет!
– Да где ж его взять, если мамка не дала? – Потихоньку, не напрягая бок, Безрод покалывал дрова. Благо береза тонкая пошла.
– У отца возьми.
– Дай отца, – возьму.
– Выходит, безрод?
Сивый усмехнулся. Ровно в воду бабка глядит. А может быть, и впрямь глядит. Ворожцам все прозрачно, все видно, – хоть небо, хоть вода.
– А ну, глянь-ка на меня! – Ясна отчего-то сощурилась, подошла близко, едва не под самый топор, и остро зыркнула исподлобья на Безрода.
Сивый остановил топор на замахе, над самой головой ворожеи, нахмурился и медленно убрал колун. Старуха шагнула под топор, даже глазом не моргнув, будто знала, что все обойдется.
– В глаза мне гляди, парень, в глаза! – Ясна будто искала что-то в Безроде. Смотрела пристально, не отводя взгляда, и вдруг подбородок хозяйки мелко-мелко задрожал, будто хотела что-то сказать, да горло пережало. Глядел Сивый спокойно, дышал ровнехонько, но чем дольше смотрела Ясна в синие глаза, тем сильнее расходилась душа. Как с цепи сорвалась, на дыбы поднялась. Зазнобило, словно упала в студеное море. Холодные, спокойные глаза…
…Холодные, спокойные глаза. Молода была, легкомысленна, вешним ароматным ветром голову сносило напрочь. А синие глаза, что смотрели прямо, не отворачивая, углядела в толпе, на весенних плясках, в березовой роще. Будто спиной тот взгляд почуяла. Оглянулась из середины хоровода и застыла, ровно ноги отнялись. Осанистый, кудрявый парень, по всему видать, вой, глядел на нее холодными, синими глазами и улыбался. Хорош был собою аж до коленной дрожи. Как рядом оказалась, сама потом не помнила. Проплясали рука об руку весь летний вечерок, и парни, что имели на нее виды, начали недобро коситься. Тогда, почитай, пол-округи в женихах у нее ходила, а вторая половина – дети и старики, – по домам сидела. Откуда взялся тот кудрявый, да плечистый, никто не знал. Гадали, да все без толку.
А потом, после плясок, когда девки, точно ласточки, стали разлетаться по домам, парни загородили чужаку дорогу. Воробей, самый сильный, закатал рукава рубахи. Не шутили женихи, крепко бить вздумали пришлого. Она, дуреха, выглядывала из-за спины синеглазого и от ужаса готова была кричать. Ноги растряслись. Только не так вышло, как парни удумали. Разметал их чужак, словно ветер осеннюю листву. Последних охаживал, когда в свалку ворвался встречный ветер – молодец как молодец, да только тоже незнакомый. Как и своего провожатого, она ни разу чужака не видела. Встали друг против друга, оба нахмурились, а как заглянула второму в глаза, вся содрогнулась. Ровно зима посереди лета упала, а она во всем летнем на звенящий мороз вышла. – Уйди, брат. Добром прошу! – бросил тогда ее провожатый. Второй лишь рассмеялся.
И впрямь похожи, точно братья. Глаза у обоих одни и те же, цвета синего неба, только не теплого, а холодного, студеного. И вот чудеса – когда синие глаза, а когда серые. Пока весело было, пока плясали, будто в небесную синь гляделась. А теперь посерели, ровно заволокло небо серыми тучами. Душа вымерзает, пробирает до самого дна. Стало невыносимо страшно, будто разбежалась во весь дух и чудом остановилась на краю пропасти. Нутро охолонуло, как если бы из горячей воды прыгнула в холодную.
–Нет! Не уйду! – Второй зловеще улыбался.
–Сдай в сторонку. – прошептал за спину ее провожатый.
Насмерть перепуганная, отошла подальше, встала за березкой. Слишком далеко зашли игры, слишком далеко. Думала просто погулять, ладному молодцу голову поморочить, местных парней позлить, – оно же вот как обернулось! Такая каша из-за нее, сопливой, заварилась! Должно быть, серьезные виды имел на первую девку округи кудрявый да плечистый. А тот, второй, громогласно рассмеялся, только недобрым получился его смех. Показалось, будто земля под ногами ходуном заходила, все косточки задребезжали, самый воздух затрепетал, и ни листочек не шелохнулся на березе. А когда отгремел громогласный смех, двое, что назывались братьями, ринулись друг на друга. У Ясны ум за разум зашел. Рот раскрыла, а дышать забыла.
В лесной глуши, на звериной тропе, разыгралась жестокая сшибка. Ясна никогда не видела, чтобы так бились. Не так дрались парни в их деревне, не так бились вои, что иногда бороды друг другу прореживали. Не так. Будто земля стонала, деревья гнулись от поединщиков прочь, а парни, побитые и разбросанные по сторонам, со стонами расползались кто куда. Воздух напитался чудовищной силищей, того и гляди загустеет, все равно, что холодец на морозе. Ясна присела у ствола, обняла ноги руками, сникла, зашептала обережный заговор. Думала – ослепнет, думала – оглохнет, думала – из памяти уйдет, громы грохотали, земля дрожала, деревья гнулись. А когда приоткрыла один глаз – бабье ведь никуда не спрячешь – да искоса посмотрела на поединщиков, у самой дыхание перехватило. Ее провожатый гнул брата в колесо, одолевал, ломал. По чуть-чуть, понемногу, но ломал. Тот, второй, не сдавался, сам давил, но нынче выходило не в его пользу. Нелегко далась победа, – даже подумала, что, схватись они в другой раз, все могло быть по-другому. Показалось, будто смешливому не хватило только везения…
Второй, пошатываясь, уходил в лес, а статный, да кудрявый, теперь снулый и растрепанный, прислонился к березе, и отчего-то дерево заскрипело. Сама не поняла, как подошла, сама не упомнила, как кивнула, едва он спросил: «Пойдешь за меня?» Той же ночью все и сладилось. Страшное потом случилось.
Парни поглядывали с опаской, обходили десятой дорогой. Еще не сошли синяки, еще не обсыпалась кровяная корка с губ. Подруги с завистью поглядывали. Не абы кому приглянулась, этот синеглазый – боец не из последних. Окрестные парни тому доказательством – не ходят, а горбятся, не говорят, а кривятся. Синеглазый ушел, но обещал вернуться. Просил ждать. И все бы ничего, – только взрослые вои, которым парни рассказали о сшибке на звериной тропе, мрачно качали головой. Дед Хмур, самый старый воитель в деревне, непонятно как доживший в ратном деле до глубоких седин, все пытал Воробья и остальных:
–А статью каков был?..– Разбросал по сторонам, ровно молодь неразумную?..– Говоришь, глаза холодные?..– К земле гнуло, значит?..
Потом долго молчал, положив руки на клюку. Велел кликнуть Ясну, а когда первая красавица встала на глаза, просто спросил:
–Как звать-то, сказал?
–Нет. – Ясна покачала головой. – Сказал – просто ратник! Просто ратник.
Дед хранил молчание, глядя на молодицу глазами, выцветшими от древности, и отчего-то покачал головой. Отправил девку восвояси, а парням наказал днем и ночью ходить за Ясной точно хвостики, след в след. Одну не оставлять, и чтобы никто чужой на перестрел не подошел. Парни тогда почесали затылки, спросили, – дескать, зачем все это надо. Хмур что-то недовольно буркнул, и добавил, чтобы не менее трех парней в шесть острых глаз приглядывали за молодицей, причем оружные. Охотники белке в глаз попадали, им добрый лук не в тягость. Спросили только, долго ли ходить за Ясной, ровно тень.
–Пока не скажу, будете ходить! – отрезал Хмур. А когда озадаченные парни ушли, дед помрачнел, нахмурился и все повторял в бороду: «Не может быть…».
И не подозревала, что ходят за нею, – когда трое, когда четверо. Легко ли заметить парней, что кабана обходили, не спугнув? А как-то пошла с подругами в лес по грибы, – и сама не поняла, как заблудилась. Заплутала. Тропка наврала, что ли? Глаза подняла, а подруг и нет. Страшно перепугалась тогда. Заозиралась, ища подмоги, и прямо напротив услышала хруст ветвей и шорох травы в чаще. Кто-то шел. Перепугалась. Нет бы обрадоваться живой душе, а вот взяла да перепугалась. Стояла и глядела в чащу, откуда шел треск. Сердце билось, ровно у загнанной. А когда из лесу вышел… глазам не поверила, назад попятилась, такой испуг взял. Да что там испуг – страх, страшище! Сердце в пятки ушло, показалось – бежит, сломя голову, хотя не сделала ни шагу. Все остальное видела, будто в тумане. Отовсюду изникли парни, – свои, деревенские. Четверо. Встали перед нею, отгородили от чужака, заслонили собой. Луки натянули. Не подходи! Чужак шел напролом, от стрел не уворачивался, только руками прикрывался. Стрелы впивались острыми жалами – которая куда, но пришлый сломал парней с ходу, молодцы только вскрикнули. Лишь Воробей продержался дольше всех, да и тот упал. А ведь все четверо были не из слабаков. Воробей на медведя в одиночку ходил, а Тресь прошлым летом секача без подмоги взял. Дальше от ужаса, боли и отвращения себя забыла. Кричала, билась, на помощь звала, задыхалась…
Вернулась затемно, платье порвано, волос растрепан. Как добралась, не помнила, – своими ногами, или на чужом горбу, не помнила. Все подернулось туманом. Дурнотою была полна по самое горло, только закашляйся – вывернет всю наизнанку. А еще казалось, будто кто-то нес на руках, да на ухо доброе нашептывал. Была уверена – это синеглазый вернулся, только поздно. Всего и осталось, что поднять с земли истерзанную, опоганенную, да отнести домой.
Ясна слегла. Сколько времени прошло, не считала, целыми днями лежала в избе, глядела в потолок. Опостылело все. Хмур приходил. Встал на пороге, долго глядел, ровно на полоумную, покачал седой головой и вышел.
Мать не знала, что еще сделать, как любимое дитя к жизни вернуть. Заставляла работать, да все из рук валилось. Веретено в слабых пальцах не держалось, ухват падал, словно брала неподъемный меч. Походит по дому – и валится с ног долой. Хмур пришел еще раз, через седмицу или две. Присел на краешек лавки, поглядел искоса и повел рассказ. Издалека начал. И пока старик рассказывал, Ясна рот раскрыла, от ужаса дышать забыла. Хмур враз объяснил громы и молнии при полном безветрии, холодные глаза обоих братьев – цвета студеного неба, – дрожь земли.
С тех пор стала ни жива, ни мертва, каждый день к себе прислушивалась и однажды поняла – тяжела. Не к матери побежала плакаться, обезумела, по всей деревне бегала растрепанная. Блажила, ровно умер кто, Хмура искала, нашла, бросилась деду в ноги и долго не могла уняться. Старый гладил ее по затылку узловатой ладонью и ничего не говорил. Молчал. Что тут присоветуешь, – сама должна решить. Хотя чего тут решать, все ясно как белый день. Нельзя зло в мир пускать, нельзя.
Бабка-ворожея помогла вытравить нежеланное дитя. Дождались урочного срока, и Ясна исторгла то ли зло неизбывное, то ли счастье неизмеримое. Разберись теперь. Потом долго болела. Замуж больше не пошла, да и не звали. Целыми днями пропадала у бабки-ворожеи, от людей отгородилась, переживала – и до конца пережить не могла. Навсегда запомнила спокойные серые глаза, которые с одного лица будоражили ожиданием чего-то неведомого, а с другого лица студили неописуемым страхом. Душа пряталась от дурных воспоминаний поглубже – и спрятаться не могла – цепкая память мешала забыть пережитое. Холодные, спокойные глаза каждую ночь, в каждом сне…
– Бабка Ясна, тебе худо? Голосом Сивого только песни играть, а теми песнями девок привораживать. Вывел из накатившего прошлого, как путеводная нить. Холодные, синие глаза глядели участливо, будто в душу заглядывали. Участливо, да все равно холодно. И как только умудрился совместить несовместимое? Ясна помотала головой, прогоняя призраки минувшего, но холодные глаза остались перед нею. Не может быть! Не может! Думала, больше не случится увидеть подобный студеный взгляд, и вот на старости лет довелось. – Да ничего, жить буду, Сивый! – И то ладно. – В Торжище Великое зачем приехал? И куда теперь отправишься? Безрод лишь плечами пожал. За чем приехал, то и взял, а в какую сторону света теперь смотреть, – и сам не знает. Взял следующее поленце, утвердил на колоде, занес топор и, морщась, опустил. – И матери, стало быть, не знаешь? – Не знаю, – буркнул Безрод. – А лет тебе, Сивый, сколько? – Сколько есть, все мои! – Не просто любопытствую. Думку имею. – Мне твои думки неведомы. – Безрод, щурясь, глядел на бабку. – Кажется, знаю я твоего отца. Ровно гром средь ясного неба громыхнул. Безрод выронил топор, прянул на шаг назад. Сначала Стюжень, теперь вот Ясна. Оба далеко смотрят, глубоко глядят. Ворожцы – особые люди, дальше прочих видят, и странное дело, Безрод верил обоим. – Ну? – только и бросил, кося исподлобья. А Ясна глядела на седого парня, неровно стриженного, расписанного ножом по лицу, и лишь крепче сжимала губы. А надо ли это, Сивый? Станешь ли счастливее, когда узнаешь своего родителя? Нет, не станешь. Все равно не обнимешь, не скажешь: «Вот и я, отец!». – Ничего я тебе не скажу! – глухо обронила старуха и махнула на дровницу. – Да и ты не зевай. Вся поленница на тебе. Сегодня же наколешь! Безрод остался один на один с дровницей неколотых чурбаков. Босой на холодной земле, подмерзшей за ночь. И такой же холодный внутри.
– Вынеси во двор подышать. – Ясна кивнула на хворую. – Звать-то ее как? Как звать? А боги ее знают! Не у кого было спросить. Крайр явно не знал, пленница же в беспамятстве пребывала. – Сам снеси. Этой вот не давай, – кивнула бабка на Гарьку и слегка улыбнулась. – Твоя баба, тебе и нести. Безрод прошел к лавке, которую занимала битая рабыня. Та как раз приоткрыла глаза, насколько позволяли синяки и отеки. Не разглядеть зрачка, не понять, со злобой глядит или с добром. Хотя какое тут добро! Понимает, что рабой куплена, уж не счастьем ли безмерным ей полыхать? Завернул в овчинную верховку, осторожно поднял на руки, вынес на крыльцо, усадил на широкую ступеньку, прислонил к перильцам, сам опустился рядом. Поплотнее укутал. Поглядел и так, и сяк, вернулся в избу, взял еще одну верховку, бросил в ноги. С такими ранами парням поздоровее пришлось бы несладко, – что же о девке говорить? – Звать-то как? Молчала. Глядела узкими щелками-глазами и медленно сползала по перильцам спиной. Трудно еще сидеть, прилечь бы. Безрод подхватил сползающее тело, аккуратно уложил на тес. – Ве рна зови, – прошептала едва слышно. А все равно сильнее стал голос. Теперь не нужно к самым губам пригибаться. Глядишь, и поправится. – А дальше что? – еле слышно спросила битая. Дальше что? А что нужно будет, то и случится. В свое время узнаешь, только поправляйся скорее. И никуда тебе не деться. Что-то еще порывается сказать, с силами собирается, воздуху набирает в разбитую грудь.
– Ты страшный. Как сама смерть, – сказала, как выдохнула, так же тихо.Безрод лениво усмехнулся.– И без сопливых скользко.
Надерзить, что ли, хотела? Характер показать? Надеялась, что осерчает – и жизни лишит? Дескать, рабой не была и не буду, дорогой хозяин! Лучше теперь узнай, что купил, чтобы потом в бешенство не входить. – Дерзка больно. Согласно кивнула. Да, дерзка, а такую постылую жизнь ни во что не ставлю. Хочешь лишить жизни, – лишай теперь же. На ноги встану, бита буду, а по-твоему не бывать. Головы не склоню, с рабством не свыкнусь. Дурой уродилась, дурой и помру. Покуда жива, дурость будет наружу лезть. – Ну и ладно, – махнул рукой Безрод. Там поглядим. Лишь бы на ноги встала. – Надышалась? Не морозит? Верна устало моргнула. Студено. Но диво как хорошо, будто с каждым вдохом жизни прибавляется, кровь быстрее по телу бежит.
– Надышишься – моргни.
Безрод глядел на нее и в мыслях убирал с лица синяки и царапины, заживлял кровяную корку на губах, возвращал в полное тело. Глаза станут шире, а лицо, наоборот, у же, появятся скулы. И все равно не получалось представить Верну такой, какой она была до плена. Как будто девка набросила на лицо страшную личину, и заглянуть под нее не получалось. Всякое выходило, – кроме того, что по-настоящему нравилось. То глаза не те, то лоб низковат, то подбородок слишком острый.
– Чего уставился? – прошептала Верна одними губами. Ослабела после «долгой» беседы, еле-еле сотрясла воздух у самых губ.
– Вот думаю. Сырой тебя есть, – или на огонь определить? – буркнул Безрод без тени ухмылки. – Отбивать уж не надо, на совесть отбита. Стала мягонька, на вкус нежна. Знай себе, разделывай, да в огонь суй!
– Подавишься!
Только по губам и угадал.
– И то верно! Дерзкие да сварливые жестче выходят. Пей потом снадобье от боли в пузе!
– Поперек горла… встану!
– Уже встала. Говорим всего ничего, а показалась хуже горькой редьки.
– Зачем… купил?
На сей раз губы едва разлепила. Скорее догадался, чем понял.
– Сам не красавец, хоть кто-то рядом еще страшнее… – покосился на Верну и еле заметно хмыкнул.
– В прежний облик войду… с досады лопнешь… образина!
Безрод усмехнулся, покачал головой.
– Нет, ждать не стану. Буду есть. Станешь вконец жесткая – и вовсе не разжуешь. А пока мягонька…
Подхватил дерзкую рабыню на руки и унес в избу.
Ежевечерне Гарька уносила Верну в баню, где ворожея поила хворую целебными отварами и всю, с ног до головы, утирала травяными кашами, и приносила под самую ночь, закутанную в свежее полотно, ровно младенец.
Понемногу, по шажку Верна отодвигалась от кромки, страшной всем живым, отползала в жизнь. Тяжелые раны толкали рабыню обратно в пропасть, долго не хотели заживать, но Ясна ворожскими наговорами и чудодейственными травами изгнала раны из тела, придушила до маленьких болячек. Одного ворожея не знала, кто поделился с битой силой, следы которой учуяла ворожачьим нюхом в первый же день. Учуяла, и такой страх бабку взял, что потом долго не смела к битой рабыне подойти. Из-за спины накатывало прошлое, ворожея мало не тряслась. Хотя, чего не знала… точно знала, кто поделился с Верной силищей, только думать об этом не хотела. Боялась.
Однажды, когда Верна стала спадать с лица, Ясна велела Безроду отнести девку в баню, да самому следом идти.
– И хмельного позабористей купи.
– Напоить удумала?
– Дурак! Нос подправлю. Выпрямлю. Бабе, хоть и рабе, без ладного носа никак нельзя. Сломали, набок своротили, изверги.
– Не с веретеном попалась – с мечом. По забавам и огребла. Свое получила. А мед зачем?
– Верно сказал, – напою. Больно ведь будет. Памяти может лишиться.
Безрод прикупил в корчме по соседству крепчайшего меду, самого крепкого, что нашлось у корчмаря, и отнес в баню заранее. Ворожея мед наговорит и силой напитает.
– А теперь нашу девоньку неси. Сам.
Девоньку нашу! Ишь ты! Как будто знает, для чего купил, – ровно в мыслях порылась.
– Ты, Сивый, девку неси, не ухмыляйся! А что знаю – то знаю. Сама вызнала, никто не рассказывал!
Безрод ухмыльнулся, искоса глянул на бабку.
– Ты меня, сокол ясный, взглядом не морозь! И без того мороженая! – Бабка гордо вздернула сухое лицо, почти нетронутое старческим тлением. Прямой нос, четкие, высохшие губы, тонкая шея с редкими, но глубокими морщинами ворожею отнюдь не уродовали. Из-под бровей, словно нарисованных, сверкали глубоко запавшие медовые глаза. – Знай себе, неси девку в баню, да под ноги гляди! Не споткнулся бы! Хватит с нее!
Ну, хватит, – и хватит. Безрод, усмехаясь, осторожно нес Верну в баню, и пока нес, глядел под ноги, как бабка и велела.
– Осторожно клади! А ты, оторва, вон пошла! – Ясна беззлобно прикрикнула на Гарьку, что сунула в парную любопытный нос. Та скривилась, но дверь прикрыла.
– Приподними… усади… держи руки и голову… – Ясна поднесла сулею с медом к губам Верны. Рабыня послушно глотнула, распробовала, заперхала, забилась, будто рыба на суше, замотала головой. Безрод стиснул в руках, обездвижил, словно туго спеленал.
– Глотай, краса-девица, глотай! – увещевала бабка, опрокидывая сулею в рот Верны и слегка сдавливая гортань. – До донца пей, больше не болей!
На шее Верны заходило горло, рабыня делала судорожные глотки, что-то пролилось мимо рта, но немного. И разом сникла, обмякла в руках Безрода, точно украли ее из этого мира.
– Клади. Держи руки, – ворожея сворачивала из полотна тугие шарики и заталкивала Верне в ноздри. – А теперь помолчи.
Старуха отвернулась, подняла голову в небеса, зашепталась. Безрод молчал, не шевелился, и даже дышал вполраза. Боец говорит с Ратником – баба не встревай, баба с Матерью-Землей шепчется – мужчина сдай в сторонку. Ясна сотворила знамение Матери –Земли, решительно повернулась и коротко бросила:
– Держи крепче.
Безрод лишь хмуро кивнул.
По восьми сторонам света в расщепах весело трещали светочи, кругом на скамьях стояли маслянки, и в парной стало светло, как днем. Бабка левой рукой прижала голову Верны к ложнице, правой осторожно взялась за нос, легко ощупала. Безрод смотрел на тонкие, длинные пальцы ворожеи, что легли на искореженный нос, и сомнение понемногу уходило. Может быть, сможет, авось получится!
Бабка Ясна что-то нашла, ухватила переносицу двумя пальцами, резко дернула. Верна слабо застонала и еле-еле вздрогнула.
– Дважды сломали, чтоб им пусто было! – зло шипела бабка. – Хорошо, хоть не убили! – буркнул Безрод. – До конца своих дней должна Ратника благодарить.
– Тебя, Сивый, не спросили! Крепче держи, дернется!
Ворожея прихватила пальцами у самой переносицы и потянула на себя. Верна рванулась из рук Безрода, но тщетно. Как будто придавило к лавке неподъемной силой. Битая-перебитая воительница только глухо застонала в хмельном сне. – Дадут боги – обойдется! Станет наша девонька первая красавица в округе!
– А по мне, уж лучше так, – буркнул Сивый.
– И нечего ухмыляться, страхолюд! Без ужаса в лицо не посмотришь! Бабе на сносях во сне привидишься – не случилось бы беды!
Безрод ухмыльнулся.
– Уж чем богат!
– Убрала бы шрамы, да не в силах!
– И не надо. Мое пусть при мне остается, – ухмыльнулся Безрод. – Все?
Тряпицы, что торчали в носу Верны, промокли насквозь. Потекла из носа кровь – темная, вязкая, тягучая.
– Уноси, образина! – бабка отмахнула в сторону двери. – Все!
– Кому образина, а кому и красавец писаный, – ухмыльнулся Безрод и покосился на синюшную Верну.
Осторожно поднял на руки, ногой отворил дверь и вынес. В избе Тычок и Гарька, не сговариваясь, нарочито зажали носы. Дескать, несет от девки перегаром, будто от грузчика на пристани.
– Обоих на улицу выгоню, там и дышите, – хмыкнул Безрод и кивнул Тычку. – Лавку помягче застилай, две верховки брось. Пить не хотела – напоили, боли не ждала – получила. Досталось ей.
Глава 16 Жена
Весна заматерела, вошла в силу. Задули теплые ветры. Ходить сама, без поддержки, Верна еще не могла – ноги не держали – но сидеть на крылечке, привалясь спиной к перильцам, уже сиживала. Теперь Безрод выносил Верну подышать, уже не кутая в верховку. Сажал на солнечное крылечко, прислонял к перильцам, сам сбоку пристраивался. – Чего глаза мозолишь? Привыкнуть к себе даешь? Чтобы не шарахалась? К ней вернулся голос, – звонкий, и лишь чуть надорванный. А Безрод, знай себе, ухмылялся. Если в бою орешь во все горло, как сохранить голос? Сам не заметишь, как хрипеть начнешь, если жив останешься. На хозяина волком глядела, могла бы броситься – бросилась. Отодвигалась, когда рядом присаживался. Несколько раз Безрод замечал внимательный, оценивающий взгляд, которым ласкала меч. Не иначе прилаживалась, прикидывала, по руке или нет. В одном Сивый не сомневался – она знает, с какого боку подступиться к мечу. А вот чего дальше ждать, – битая рабыня не знала. Безрод присел рядом на крылечке. Верна, по обыкновению, отодвинулась, как смогла, да так зыркнула, что будь во взгляде сила – снесло бы с крыльца прочь.
– Чего надо? Безрод протянул меч, тряпицу, точило. – Почисть, да оправь, – если Крайр не соврал, будто с мечом взяли. Мечтала примериться к мечу, вот и выпало. Взяла не сразу, чтобы новый хозяин не счел покорной, – долго глядела Сивому в глаза. Наконец взяла меч слабыми руками и едва не уронила. – Ну, чего уставился? Дыру проглядишь! – Уж и так вся в дырах. Одной больше, одной меньше, – не заметишь! Наверное, в прошлой жизни Верна звонко пела. Голос журчит, будто ручеек, а что хрипловат – слушать не помеха. Споет ли еще сама, по своей воле? Не озлобится, не замкнется в себя, как певчая птица, пойманная в силок? Верна осторожно вытащила меч из ножен, и, стараясь не касаться лезвия руками, расположила на коленях. Просыпала на дол немного прави льного песка и медленно развезла тряпицей по всему клинку. Краем глаза косила на Безрода, дремлющего на весеннем солнце, и отчего-то хмурила брови, морщила едва заживший нос. – Носом не крути. Пуще прежнего распухнет. – Дремлешь, – ну, и дремли себе! – зло прошипела Верна. – Да глаза по сторонам не разбрасывай, слепым останешься. И без того страшен! Безрод ухмыльнулся. Дерзка. А если бы на его месте оказался кто-то другой? Встал бы, разъяренный острым языком, ровно медведь дикими пчелами, да оходил ножнами до полусмерти? Ишь ты! Руки поднять не может, а глядит зло, будто дикая кошка! Крайр ее так и назвал – «дикая кошка». У старого медведя глаз приметливый. Безрод встал, и, проходя мимо Верны, бросил на воительницу насмешливый взгляд. Прошел так близко, что, будь в ее руках сила, мечом дотянулась бы аккурат до спины. Поди, чесались руки, но сдержалась. Закусила губу и сдержалась. Проводила взглядом, полным неприязни, стиснула зубы – и опять склонилась над клинком. Еще поглядеть, что острее, – меч или ее взгляд! Как еще спину взглядом не пронзила?
Верна примерилась к мечу. Великоват. Обе руки, не теснясь, легли на рукоять. А меч чудо как хорош! Не в пример своему хозяину, который одновременно страшен, угрюм и мрачен. Глазом холоден до ледяных мурашек по спине, а норовом, видать, зол, жесток и беспощаден. Неужели можно быть мягким и добрым с таким лицом, – даже не лицом, а личиной? Зачем купил? Ведь знает, что не годна в рабыни, уже дала понять. Убьет и убьет, туда непутевой и дорога. Все равно в невольниках долго не проходить. Одному из двоих жить осталось до первой серьезной сшибки. «Ох, где ты, Грюй, милый друг, на кого одну покинул? Наверное, глядишь нынче с небес на землю и места себе не находишь! Вместе бились, да разошлись пути-дорожки. Сколько мог, заслонял собою, и, в конце концов, пал порубленный, а сама осталась одна против многих. Чужаки были так злы, что не разглядели девку, повергли наземь и били, ровно мужчину. Ох, Грюй, милый друг, если бы ты знал, какому страшилищу в рабыни отдана! Если бы ты видел, что за чудовище пялится изо дня в день, слюни пускает! Но, – недолго осталось, скоро соединимся. Либо сама страшилище порешу, а потом до смерти забьют, либо он меня прикончит. Исхожу злобой, точно резаная свинья кровью. Вот только на ноги встану, да руки подниму… Наверное, буду нещадно бита, да плевать! Ненавижу!» Верна потянулась правым боком. Болит. Потянулась левым. Болит. Куда ни ткни, везде болит. Сама уже не девка, а сплошная, ноющая рана. Глаза болят, все еще больно смотреть на свет. Гляделась давеча в зерцало. Оторопела. Сама себя не узнала. Где та озорница, что пела звонче всех и одним духом переплясывала всех подружек? Где оторва, которая рубилась так, что даже отцовские дружинные восхищенно прицокивали? Кто вчера посмотрел из зерцала – вся синюшная, худющая, заморенная, бескосая? Кто косу срезал, как блудливой шалаве? Коса-то кому помешала? А чья тоненькая шейка тянулась из ворота непомерно большой рубахи? Чей нос, огромный и синий, точно свекла, навис над губами, разбитыми в лепешку? Где тот ровный и прямой нос, который так нравился Грюю? Настолько оторопела, глядя на саму себя, что дышать забыла. Только рот раскрыла. Где зеленые глаза, глядя в которые всякому грустящему становилось веселей? Вместо глаз выглянули из зерцала две узенькие щелочки в наплывах медленно сходящих синяков. Какого цвета стали глаза? Кроме красного не углядела ничего.
Сейчас уже нет, а две-три седмицы назад точно была страшнее хозяина, этого страхолюда. То-то Сивый ухмылялся и гнусно подшучивал, – дескать, купил лишь за тем, чтобы рядом был кто-то страшнее, чем он сам. А правду ли Гарька вчера болтала, будто за нее полуживую Сивый на ножах бился с тулуком? Дура девка, в рот хозяину заглядывает, каждое слово ловит, ровно преданная собака. Мало не на руках страхолюда носит. Рабская душа! И ведь не похожа девка на дуру. Да разве влезешь человеку в душу? Чужая душа потемки. Самой бы сохранить душевную твердость, встретить смерть с высоко поднятой головой! Не согнуться, не прельститься вожделенным успокоением, когда телу такие муки выпали! И ведь плачет тело, покоя просит! Провались пропадом этот Сивый!
Верна быстро ослабела, все скудные силы забрал меч. Руки налились неподъемной тяжестью, и бескосую потянуло в здоровый сон человека, скорым шагом идущего на поправку. Чувствуя, что проваливается в забытье, Верна крикнула:
– Гарька!Показалось, будто кричит, а с губ слетел всего-навсего громкий шепот.– Гарька!
Хорошо, деньки теплые пошли, бабка Ясна дверь приоткрыла. Дурында услыхала, выбежала на крыльцо, – суетливая, ровно квочка.
– Чего тебе, болезная?
– Внеси в избу. Не могу больше. Устала, – еле-еле прошептала Верна.
Еще никогда работа так не изматывала, даже самая тяжкая. Что тощее, исхудавшее тело для Гарьки, возле которой белым наливным яблокам с румянцем во весь бочок останется только увять со стыда? Подхватила вместе с мечом, будто пустую одежду, внесла в избу, положила на лавку. Уже проваливаясь в забытье, Верна мертвой хваткой вцепилась в меч, насколько позволяли слабые пальцы, и на за что не хотела отпускать. Будто из меча в избитое тело лились крепость и твердость. А может быть, к мечу привыкала, и к себе давала привыкнуть. Как еще жизнь повернется? Не пришлось бы осиротевший меч приютить. Доле не прикажешь, дорожку не укажешь…
– Вон ты, Сивый, как дело закрутил! Думала, шутишь, а ты всерьез! – Ясна покачала головой. – Да и, к слову сказать, пора бы уже. Даже не спросишь?
– Не за тем на рабском торгу брал, чтобы спрашивать, – усмехнулся Безрод. – Лишь слово поперек скажет – рот завяжу. Под платком и видно не будет.
– Экий ты безжалостный! – Бабка издевательски оскалилась. – А сладится ли? Верна зла на тебя, ох, зла! На весь свет волком глядит, в каждом прохожем врага видит, под каждым кустом яму ищет.
– Знаю.
– И не отступишься?
– Нет.
– Сказал – как топором отрубил! Ишь, ты!
– Дурак я. Что с меня взять?
– Да уж, не иначе! Проснешься однажды – и нет тебя! Весь вышел. Глянет душа сверху, из палат Ратника, а тело внизу лежит с ножом в спине! И весь сказ про счастливую долю!
Безрод не ответил, лишь поглядел вдаль и ухмыльнулся.
– Так и быть, помогу, – буркнула Ясна и отвернулась.
Бабка часто застывала средь бела дня, и, вперив пустые глаза в одно место, глядела то ли в себя, то ли вдаль. Глаза пустели и что видели, Безрод только догадывался. Сивый не знал, что скрыто в прошлом старухи, лишь подмечал, как ожесточается ее взгляд, едва он покажется ворожее на глаза. Потом Ясна будто спохватывается, сбрасывает чары, глядит мягче, но это лишь потом. Как будто досадил когда-то. Голову ломал, припоминал, – и не мог припомнить. Вроде не встречались.
Теперь Верна работала в меру своих сил целый день. Когда сидя, когда лежа. Шипела, метала на хозяина злобные взгляды, но блестело в них что-то еще, замечая что, Безрод хмурился. Сквозь огонь злобы проглядывало нечто холодное, расчетливое. Верна, как будто понимала, что работа и самой нужна. В кои-то веки перестала отнекиваться, глотала ругань, низводила глаза долу и трудила руки. Трудятся руки – возвращаются сила и сноровка. Верна часто не дорабатывала до конца, силы быстро покидали тело, и битая полонянка проваливалась в забытье. Из рук вываливались прялки, ножи, веретена, тряпицы. И тогда она долго спала и не слышала приглушенных разговоров Безрода, Тычка, Ясны и Гарьки.
Однажды Безрод подсел на лавку, легко ухватил Верну за подбородок, и, повернув к себе, заставил долго смотреть в глаза. Рабыня скривилась, показала зубы, глаза полыхнули злобой, отбивалась руками, да куда там! В горле так и забулькало. Хотела браниться, да от негодования гортань пережало. Недолго билась. Начала гаснуть и стихать, бросила руки, глаза закатились. Всю передернуло, по телу пробежала дрожь, битая строптивица покрылась гусиной кожей. Кто знает, чем бы все кончилось, не вмешайся ворожея. Выросла, будто из-под земли, и напустилась на Безрода.
– Что удумал, дурень? С ума девку свести? Разве ей, болезной, такое по плечу? Только посмотришь, и будто ножом человека по сердцу! Глаз у тебя дурной! Тяжелый! Не знал?
– Знал.
– То-то без жены до сих пор! Какая дура за тебя пойдет! Скажешь ей «люблю», а у бабы от твоей любви сердце встанет! Пусти девку, говорю!
Зеленые глаза будут, когда схлынет кровь. Ох, зеленые!
– Все беды от вас! Ни покоя, ни прибытку! Одни несчастья! Не дам девку! Не дам!
Вот и полезло прошлое из-за бабкиной спины. Полезло что-то жуткое, страшное, Ясна вся побелела и затряслась, как Верна мгновение назад. – Может быть, зло я тебе причинил? Сам что-то не припомню, – Безрод сощурился, и его зычный шепот заставил обеих вздрогнуть.
– Над вами беды вьются, как воронье над волками! Кто за тобою пойдет, жизнью разбросается в обе стороны, самому не останется! – Отца, говоришь, знала? Говори! – тихо пророкотал Безрод, и ворожею бросило в дрожь. Другие при ней тряслись – знала и видела, а чтобы сама… с тех забытых пор страха не ведала. – Не скажу! Хоть душу из меня вытряси! – прошипела старуха, ровно змея. – Не случилось бы беды, когда узнаешь!
Безрод ухмыльнулся, смерил старуху холодным взглядом и вышел из горницы, оставив полуживую Верну на руках ворожеи. Ясна обняла бледную, тряскую девку, гладила по волосам, приговаривала:
– Попала ты, девонька, лебедь белая, в когти моречнику. И как тебя вызволить, не знаю!
А Верна уже глубоко дышала, но даже в забытьи скалила зубы и что-то шептала.
– Вот что, – на вечерней заре ворожея окликнула Гарьку. – Ступай за мной.
– Зачем? – молотобойша отставила в сторону метлу, которой мела двор, и удивленно вытаращилась. – Язык твой длинный укорочу. Слишком длинный и быстрый. Поперек головы бежит. Ступай за мной, говорю. Гарька покосилась на кровлю, где Безрод и Тычок заканчивали перестилку. вздохнула и пошла за бабкой. – Бери. – Ясна показала на спящую Верну. – Неси в баню… Клади. – Я бы осталась? Интересно ведь. – Вон пошла, дурища! Дурно тебе станет, ворожить буду. В предбаннике жди. Испугала! Гарька фыркнула и вышла, плотно прикрыв за собой дверь. Жарко полыхала печь, бабка сама разоблачилась, разоблачила Верну, бросила в печь туман-травы, взяла в руки трещотку и мерно застучала, творя наговор: – Туман-трава, наговорные слова, унесите в сон, чтобы привиделся он, о себе говори, ничего не таи… И Верна заговорила, не открывая глаз, ровно во сне. – Ох, Грюй, милый друг, тяжко мне без тебя, одна осталась! Нет рядом твоего плеча, опереться не на кого, не спрятаться больше за твою широкую спину! Ноют раны, душа плачет! Не бывать по осени нашей свадьбе, не принесу тебе первенца! Продана в чужедальнюю сторону, отдана в рабыни! Жить не хочу, да смерть не идет! Видать, молодость берет свое. В тело входить не желаю, не ем почти ничего, да вхожу понемножку. Боюсь, мой нынешний хозяин похотью возгорится, снасильничает, пока слаба. Ненавижу! Как тебя любила, так Сивого ненавижу! Вспоминаю отца с матерью, сестер, как убили всех пришлые, и такое зло в душе поднимается, что, боюсь, начну глазами поджигать дрова. Почему за белый свет цепляюсь, помереть не могу, сама не знаю. Не о жизни думаю, не о доме – все помыслы о смерти. Смерти жажду! Для пришлых, что всю дружину вырезали, для Сивого, что купил меня, для всего мира, что косо на меня глядит, для себя, чтобы позорище по жизни не нести! Как только в силу войду, порешу Сивого его же мечом! И будь что будет! Рабыней не была – и не стану! Эх, не играть мне больше песен, не водить хороводов, не прятаться от батюшкина гнева на сеновале! Не бывать мне за тобою мужней женой, и всей жизни осталось – как на ноги встану. Разве о том должна девка мечтать, разве черны должны быть девичьи думки? Разве должна быть девка горяча внутри, да холодна снаружи, чтобы никто не углядел кровавого замысла, и Сивый в первую голову? Ох, матушка родная, как все болит!.. Курилась туман-трава, Ясна, мерно постукивая погремушкой, слушала, а спящая Верна говорила и говорила. Ворожея хмурилась. Ох, не проснуться однажды Сивому! Ох, отпустит Безрод душу, и сам не заметит как! Ох, купил кусок льда себе пламя! Как у них сложится? Ворожея мрачно качала головой и поджимала губы. Не случилось бы непоправимое! – …В сече двоих срубила, а все равно, милый, за тобой не успела. Батя первым пал, копьями закололи. Мечами не смогли. Не взяли. Потом матушку… Из закрытых глаз Верны потекли слезы, но в лице ничто не дрогнуло. – …И осталась я одна. О боги, как невыносимо мое бытие! Не этого Сивого, худого и страшного, хочу видеть каждое утро, а тебя, Грюй, статного да ладного, душой и телом складного! Батю, и чтобы непременно смеялся, мамочку, сестер… Безрод сидел на крыльце и бездумно смотрел вверх. Город от края до края залила тишина, ночь обволокла весь подлунный мир, и лишь кое-где брехали дворовые собаки, будто разговаривали. Звезды высыпали на небо, ровно кто-то просыпал горох на стол, застеленный черным полотном. Сзади тонко скрипнула половица. Безрод и глазом не повел. По шагам узнал.
– Ты, Сивый, на старую зла не держи, – ворожея присела рядом. – Не с умыслом каяла, вспомнилось не ко времени. – Ну и ладно. – Безрод не покосился на хозяйку даже вполглаза. Как глядел на Девичью звезду, подняв лицо вверх, так и остался глядеть. На ворожею зло тратить – врагам не останется. – Ненавидит она тебя. Точно знаю, ненавидит. – А за что ей меня любить? – усмехнулся Безрод. – Я самый плохой на всем белом свете, потому что купил ее. – Не случилось бы несчастья. – Что будет – то будет. Загадывать не стану. – Не отступишься? – Нет. – Стервец – вот ты кто! – Знаю.
Против Девичьей звезды заполночь вставала Звезда воев, и бежали они друг за другом по небосводу, и сблизиться не могли, сиреневая Девичья звездочка и багровая Звезда воев. А бабка как-то странно глядела на Безрода, и в углу глаза влажно поблескивало. Вот-вот слеза скатится, не удержится. – Была бы у тебя мамка, без благословения не оставила, – голос ворожеи дрогнул, слеза отяжелела, сорвалась, покатилась. Но Безрод этого не видел, просто не смотрел на бабку, целиком поглощенный разлученными звездами.
– Была бы мамка… – задумчиво повторил Сивый, не отрывая глаз от неба. – Была бы мамка… Ясна закусила губу, чтобы не разреветься в голос. Вот оно когда ударило! Когда постарела, поседела и высохла, когда воды стало некому подать, когда боятся, ровно прокаженную! Вошел в избу порванный жизнью сивый парень с холодными синими глазами, – тут оно и ударило! Будто ждало, когда постареет, замкнется, отгородится от людей ворожбой. Ох, боги, боженьки, отмотать бы жизнь на пятьдесят лет назад, да на седмицу снова стать молодкой!.. Ох, гляделась бы нынче в синие молодые глаза, бородатое лицо, не знала, с какого боку к ворожбе подступиться, шлепала бы внуков по мягким попкам. Чем больше времени проходило, тем больше становилась убеждена, что тяжела была от того, первого, что уплясал до звездочек перед глазами, до кровавых пузырей на белых ножках, с кем слюбилась теплой звездной ночью в сени березняка. Ох, боги, боженьки, на пятьдесят лет назад, да всего на седмицу молодкой… А Безрод глухо ронял слова, будто в ночную, бескрайнюю пустоту. – Знаю, что к мечу моему примеривается, осиротить его хочет. Знаю, что злобу в душе прячет, мне не показывает. Знаю, что зубы на меня точит, все знаю. Но от своего не отступлюсь. Что будет, то будет.
С самого утра Тычок, прихватив с собою добрый кувшин дорогущего заморского вина, шмыгнул за ворота. Гарька, засучив рукава, месила тесто, Безрод колол дрова. Бок побаливал, сукровицей плакался, но уже не так.
– Будто на собаке заживает, – бросила поутру Ясна.
– Собака и есть, – буркнул Сивый. – Бездомный, да ничейный.
Бабка промолчала.
– Тычок-то куда делся?
– По соседям ушел. Звать-зазывать.
Ворожея всплеснула руками.
– Ой, не пойдут! Испугаются!
– За Тычком пойдут. Трезвые или хмельные.
– Эй, хозяева! Звали? – В калитку заглядывал потрепанный мужичок, за ним топтались еще трое. – Плотничать звали?
Ясна рот раскрыла, повернулась к Безроду. В глазах ворожеи плескался немой вопрос.
– Звали, входи. – Безрод с усмешкой покосился на старуху. – Рот, старая, прикрой. Душа вылетит – не поймаешь!
Плотники с опаской вошли, заозирались, – видать, наслышаны были от соседей об ужасной ворожее, – и бочком-бочком подошли к Безроду.
– Делать-то что, хозяин? Сработаем споро, глазом не моргнешь!
Безрод что-то объяснял плотникам, показывал руками, чертил на земле и под самый конец вместе со старшим обмерил шагами весь Яснин двор. Старуха села на крыльцо и снова, как вчера, нечаянная слеза застила белый свет. Вот такого молодца и не хватало старому дому, чтобы усадил старуху на крылечко – издали глядеть, да ни во что не вмешиваться. Чтобы крышу подлатал, заборец поправил, дров наколол.
Мужички, почесывая затылки, загибали пальцы. Дескать, так и так, хозяин, с работой выйдет… э-э-э, столько. Безрод, усмехаясь, покачал головой. Не столько, а вот столько, и где тес такой дорогущий нашли? Старший развел руками, – дескать, потому и дорогой, что буковый, разве на такое дело сосновый пускать? Безрод усмехнулся. Золотым бук выходит. Не столько, а вот столько. Мужичок почесал затылок, оглянулся на товарищей, а как те кивнули, ударили по рукам.
Как водится, первыми во двор ворожеи после полудня заглянули мальчишки. Совсем еще сопливые. У этих смелости оказалось побольше, чем у старших. Соседский постреленок сунул в воротца мордаху, перепачканную малиной, показал страшной бабке язык и дал деру. Не обернула бы ворожея в лягушонка. Потом заглянули сразу трое. И чего это папка с мамкой стращали? И совсем у нее не боязно. Один даже оставил на бересточке у ворот пирожок. А потом и вовсе осмелевший малец, чья рубашонка мела землю, сосредоточенно ковыряя в носу, с трудом открыл воротца и прошел во двор. Ясна, раскрыв рот, озирала собственный двор, нынче полный людей. Никто ее не боится, соседи шумят, гомонят, кой-когда даже смеются. Малец подошел к самому крыльцу, сел на ступеньку пониже Ясны и заявил:
– А Жотьке все равно, тумака дам. Он, дурак, обзывается, дурачком кличет.
– Гарька! – сама не своя позвала Ясна дрогнувшим голосом. – Вынеси мальцу печенья.
Гарька, перепачканная мукой, вынесла две медовые рогульки, только что испеченные.
– Держи. Тебе и Жотьке твоему, – протянула бабка пострелу.
– Не-а. Жотьке не дам. – Малец тут же сунул в рот одну рогульку целиком и с набитым ртом прошепелявил. – Пушть не обжываешша.
Постреленок вольготно облокотился спиной о бабкину ногу, а старуха даже дышать забыла, – как бы не спугнуть. Еще один малец пролез на двор и от ворот долго глядел на жующего приятеля.
– Глянь, Жотька прибежал, – шепнул Ясне малец и во весь голосишко заорал, потряхивая над головой рогулькой. – Эй, Жотька, голопопка, гляди, а у меня чегой-то есть! Я теперь же с этим чегойтым на улицу выйду, а тебе не дам!
Жотька не стерпел и, глядя исподлобья на страшную хозяйку, подошел к приятелю.
– Гарька, еще неси!
Так и закончился этот шумный день, а с заходом солнца на двор ввалились хмельные мужики, и с ними Тычок. Не сказать, что одним махом протрезвели, углядев, куда вломились, но без особой боязни поклонились ворожее, как получилось.
– А правду ли старик говорит? – Сосед побойчее кивнул на Тычка.
– Правду.
– Чудеса, да и только! Сестрин сын отыскался через столь-то лет!
Сестрин сын? Что за придумка?! Ясна, недоуменно глядя на пьянющего Тычка, не сразу и кивнула.
– Сыскался.
– Непременно будем. Непременно. – Мужики, пятясь задом и бия неуклюжие поклоны, вышли на улицу. Посреди двора остался лишь сопящий Тычок. Балагур качался, будто былинка под ветром, и не мог сделать ни шагу.
– Ну что, сестрин сын, – ухмыляясь, бросила бабка за спину Безроду. – Забирай приглашальщика. Поди, сам-то идти не сможет, вон сколько дворов обошел!
Безрод хмыкнул, сошел по ступеням во двор, подхватил Тычка на руки и унес в избу. Тычок сопел и довольно похрапывал.
Утром плотники продолжили. Гарька опять засучила рукава и принялась за дела печны е-мучные. В полнейшем недоумении оставалась только Верна. Когда не работала, тогда спала.
– Пора. – Сам себе буркнул Безрод, прошел в покои Верны и легонько тронул за плечо.
– Чего надо? – злым шепотом даже после сладкого сна, огрызнулась рабыня.
Безрод, ни слова не говоря, подхватил на руки, вынес во двор и усадил на крылечко, застеленное верховкой. Верна прищурилась. На дворе, залитом солнцем, стучали молотками и топорами мужики, весело носилась ребятня, туда-сюда в приоткрытые ворота сновали бабы, – видимо, соседки, – и вносили накрытые тканью блюда. Мужики втащили во двор бычка-двухлетку, погнали в хлев, уже давно пустовавший.
– Что это? – Верна не узнала двора ворожеи.
Двор, еще недавно пустой и нелюдимый, еще вчера такой широкий, нынче усох будто вдвое. Тесен стал для гомонящих людей.
– Пиршество готовится.
– С чего бы? – Свадьба. Верну аж перекосило. О свадьбах ли говорить с той, чьей свадьбе больше не бывать? – Неужели не спросишь, чья? – Не спрошу! – Сам скажу. – Все равно. – Моя! – Ты и радуйся. Затем разбудил? – Да. Помоги Гарьке. – Помочь? – Тесто меси. Верна почти спа ла с лица, открылся один глаз, второй откроется со дня на день, сходили понемногу синяки под глазами, поджили губы.
– Тогда неси в избу.
Безрод поднял Верну на руки и унес в помощь Гарьке.
А утром Верна проснулась от чьего-то надсадного рыдания. С превеликими трудами разлепила один глаз, потом второй. Вчера тесто месила до седьмых потов, все представляла себе, что гнет-ломает Крайра и его дружину, а вместе с ними Безрода, пластает в лепешки, на куски рвет. Умаялась, воюя. Саму сон победил. Стоя в изголовье, рыдала какая-то незнакомая баба, за нею стояли еще и еще, и все плакали, будто потеряли кого-то из близких. Сон как рукой сняло. Да что стряслось, в конце концов? Что за сумасшедшие причитания? Кто-то умер? И лишь когда в горницу вошла бабка Ясна, Верна успокоилась. Сами поднялись ни свет, ни заря, других разбудили. Что за нужда? Ворожея присела рядом, обняла. – Бабка Ясна, да что стряслось, в конце концов? Что случилось? Враги напали? – Крепись, девонька. И по белую лебедушку нашелся сокол поднебесный. С лету ударил, в когти полонил. Утащит в лесную чащу, в гнездо на высоком дубе… – Да что стряслось-то? Не пойму. – Свадьбу нынче справляем. – Знаю, Сивый женится. Ну, а дальше что? – Так твоя это свадьба. Ты, девонька – та лебедь белая, а ясный сокол уже когти на тебя точит. Верна как вдохнула, так и замерла. Замуж идти? Нынче? Вот так, второпях, с красными глазами, с синяками по всему лицу, с разбитыми губами? – А кто муж? Бабка помолчала. Может, нездорова девка, со вчерашнего дня ничего не помнит? – Безрод. – Нет! Нет, нет, нет! – забилась в бессильной ярости Верна. – Не пойду! Лучше убейте! Ой, матушка родная! Я сама убью!.. Баб, готовых путать невесту по рукам, успокаивать, утешать, остановил холодный шелестящий голос: – Оставьте нас. Бабы переглянулись, покосились на Ясну. Ворожея кивнула и вышла первой. Безрод подошел к ложнице, с которой пыталась подняться Верна. Разъяренная рабыня полыхала холодно, – без шипенья и криков. После громкой вспышки ярости взяла себя в руки, загнала злобу внутрь и вставала молча, стиснув зубы. Безрод одним пальцем отбросил ее назад. – Лежи, не вставай. Верна упорно пыталась подняться. – Лежи, не вставай. – Безрод пальцем, жестким, ровно кол, пригвоздил невесту к ложнице. – Лежи и слушай. – Не пойду за тебя, чудовище. Лучше убей. Ненавижу. А сказала-то как! Холодно, сквозь зубы, без рисовки! – Надо будет – убью, не промедлю. – Безрод присел на ложницу. – А замуж возьму, тебя не спрошу! Верну распирала изнутри бешеная злоба, грудь так и заходила, ровно кузнечный мех. – Дыши ровнее, – раны разойдутся, – усмехнулся Безрод. – Не-на-ви-жу! – процедила Верна. – Выйдешь за меня – выйдешь из рабства. – Не буду ни рабой твоей, ни женой! – Все так же хочешь меня порешить? – Хочу! И все равно не пойду. – А что сделаешь? Верна перестала дышать, сузила глаза, сложила пальцы вместе и как смогла быстро выбросила Безроду в горло. Сивый и бровью не повел. С глухим стуком вылетели косточки двух пальцев, – Верну аж перекосило. Этот удар без остатка выпил все силы, новоиспеченная невеста бессильно откинулась на подушку и закусила губу. А Безрод только сглотнул. – Дура, – буркнул Сивый. – Дай сюда пальцы. Взял ее пальцы в руки, покатал в ладонях и резко дернул. Верна зашипела, но крик сдержала. – Побелела вся. – Я буду кричать за столом. – Кричала бы теперь, когда пальцы ломала. – Не пойду за тебя. Ненавижу! Безрод ухмыльнулся, рванул сорочку с ее плеч, ухватил двумя пальцами кожу на груди, – там, где заживало рабское клеймо, – и подтянул к себе. – Голосила раба, да сгинула сама. – Не-на-ви-жу! – морщась от боли, остервенело сипнула Верна. Безрод покачал головой. – Не то. Стремительно простер правую руку к шее Верны, большим и средним пальцами резко надавил под челюстью, дунул в лицо и уложил обмякшую страдалицу на ложе. Прошел к двери, отворил и кивнул бабам, ждущим в сенях. – Снаряжайте. И медом напоите.
Безрод на плече, будто мешок с ячменем, вынес нареченную во двор, где за буковыми столами уже сидел честной народ, и через весь умолкший двор пронес на невестино место. Осторожно опустил, сел рядом, подпер Верну плечом, чтобы не упала, и мрачно объявил гостям: – Невестушка в радости меры не узнала. Памяти лишилась, так меня любит. Потрясенный люд молчал. Ну и дела! Виданое ли дело, чтобы невеста перед свадьбой памяти лишалась? Гости чесали затылки, и сами себе отвечали: «Конечно, девка памяти лишилась! Часто ли рабу за себя берут, на волю отпускают? Укрытая с головы до пят белым полотном, Верна никла на Безродово плечо. Не ела, не пила, как будто спала. Сивый не улыбался, только изредка ухмылялся. Вот и встал на прямую дорожку к счастливой доле. На плече сопит-посапывает та, что, может быть, обустроит избу, наполнит ее молочным духом, домашним уютом. Может быть… А спроси кто-нибудь, как жену по себе выбрал, – не сразу найдется, что ответить. По глазам, что даже побитые глядели, не отворачивали. Просто нутро холодно подсказало: „Она“. Интересно, что ей нутро прокричало, когда Сивый и страшный встал перед нею? Безрод ухмыльнулся.
– …Песню пой! – толкнул под бок Тычок. – Всем раззвонил, как чудно песни играешь. То-то глазками зыркают! Ждут! Не верят! Ждут? Не верят? – Ой, ладья по морю синему летит, Ой, в сторонку чужедальнюю идет, Ох, в просторах песня бойкая звенит, Ох, отчаянный народец весла гнет… Безрод повел зычно, тягуче, никого не упреждая. Народ рты пораскрывал. Густой, звенящий голосище объял весь двор, точно порыв ветра, такой же внезапный и сильный. Среди гостей случился гусельник, еще трезвый. Тотчас ухватился за гусли, – и после слов «…весла гнет…», стал подыгрывать. – Ох, ты, доля беспощадная, не бей, Ох, сплеча голов сиротских не руби, Ой, дружинным лучше чарочку налей, Ой, без битвы в море синем не сгуби! Гостевой люд аж глаза закатил, – так ладно играли песню жених да гусельник. От Безродова голосища бросало в дрожь, самая душа, ровно гусельная струна, трепетала и исходила плачем. Кончанский старшина, боярин Листопад, восхищенно прицокивая, огладил усы и бороду. Соседские девки, до того лишь вполглаза косившие на страхолюдного жениха, теперь поедом ели глазами и ушами. Начинало красавицам казаться, что племяш бабки Ясны совсем даже ничего. А что рубцами испорчен – так бойца издалека видать. А как полоснет стылыми глазами, все внутри переворачивается и одним махом обрывается вниз! Уже по-другому взглянули на неподвижную невесту. Видать, все же с умом оказалась девка, не просто так пошла замуж. Присушил, как пить дать присушил. Будешь писаная красавица – и то не прогадаешь, выходя за Сивого.
Пиво лилось рекой, буковые столы скакали на ко злах, люд плясал едва не на столах. Еще никогда двор бабки Ясны не знал такого разгула. Старухе и самой удивительно сделалось. А когда стемнело, Безрод поднялся из-за стола, подхватил молодую на руки, поклонился гостям и исчез. Ясна осенила обоих знамением Матери-Земли, и в уголках глаз ворожеи влажно заблестело.
Безрод внес Верну в амбар, положил на сеновал, утвердил светоч в ведре с водой, зажег и отбросил с лица молодой покрывало. Бледна, осунулась вполовину против давешнего, брови страдальщицки сведены к переносице, едва заживший нос наморщен. – Проспала собственную свадьбу. Подрастут детки и – рассказать будет нечего. – Безрод ухмыльнулся, жестким пальцем разгладил морщинки на переносице жены и стал ждать. Напоенная крепким медом, Верна ожила только к ночи. Застонала, завозилась, замотала головой. И первым, что углядела молодая жена в этом жестоком мире, полном нутряной боли и тошноты, стали синие глаза, глядящие с холодным участием, и улыбка, очерченная толстыми белесыми шрамами. – Ой, мама, мамочка! – прошептала Верна и свернулась клубком, спрятав руки на животе и подтянув колени к груди. – Ой, плохо мне, матушка! Ее затрясло в тошнотных потугах, Верна мотала головой, прогоняя круженье, но земля раскачивалась лишь сильнее. – Плохо мне, – шептала Верна. – Мутит… Мутит… – Пей, да меру разумей, – усмехнулся Безрод. – Опоил, сволочь, – еле слышно прошипела Верна. – Когда только успел…
Ее настиг новый приступ мути, и деву-воительницу едва не вывернуло наизнанку:
– Своло… – Эк тебя завернуло! – Безрод нахмурился, одним махом вздернул молодую на «соломенные» ноги и жестко надавил под самой грудиной, почитай даже, слабо ударил.И тут ее, наконец, прорвало. Сивый опустил Верну на пол, и новоиспеченная благоверная извергла море крепкого меда, не пошедшего впрок. – Крепка на диво, – Безрод свадебным полотном отер Верне губы. – Но слаба на пиво. Молодая с запредельным усилием приподнялась на тряских руках, глаза устало царапали пол. Земля все еще качалась и роняла с некрепких рук обратно на сено. – Не пойду за тебя! – еле слышно выдохнула. – Не пойду! Ой, плохо мне, матушка родная! – А больше и не надо. – Безрод криво усмехнулся и, сунув соломинку в зубы, прокатал по губам. – Сходила уже. Верна оторопела. Вдохнула и забыла выдохнуть, как будто горло перехватили крепкие пальцы, – ни туда, ни сюда. Отчаянно толкая крик наружу, Верна поползла к двери амбара. – Погоди, – Безрод, усмехаясь, встал, перешагнул через тело жены, прошел к воротам и толкнул наружу. – Помогу. Она жаждала солнечного света, она жаждала теплого ветерка, несущего пряные запахи дня, она с мольбой в глазах глядела в синее небо… Но не было солнца – встала полная луна, свежий ветер принес ухарский гогот и гусельные переливы, с черного неба вниз печально глядели звезды. Мир перевернулся и закружился, закружился… Перед глазами поплыло, лицо опалило жаром, а внутрь будто ухнул кусок льда. – Мужняя жена… – сами собой сложили дрожащие губы. – Мужняя жена, – кивнул Безрод.
Милосердные боги, наверное, отняли сознание – все куда-то провалилось, уставшие глаза закрылись. Измученная Верна просто рухнула в забытье, и без удушливой мути стало так благостно. Так благостно…
Все во власти милосердных богов. И явь, и сон. Верна пришла в себя от пронзительной утренней свежести, которая обнимает и трясет почище рукастого здоровяка. Зубы стучали, вся покрылась гусиной кожей, думала зарыться поглубже в сено, да кто-то убрал весь стожок в самый угол.– Утро доброе, мужняя жена.
Глаза не открыть, веки налились неподъемным спудом, внутри будто печь распалили. Ладью в одиночку разгрузила, что ли? Ни сесть, ни встать, ни «ой» сказать. А этот тихий рокочущий голос льется в самую душу, будто пиво, и мутит от него сильнее давешнего.
Вот и все. Ой, мама, мамочка, а доброе ли утро? Теперь крепко связаны лебедь белая и черный сокол, что ухнул сверху и утащил с собою в дремучие леса. Внес в амбар невесту, а выйдет поутру молодая жена. И хоть лоб расшиби, помереть придется Безродовной. А если извести ненавистного мужа – люди скажут, дескать, сгубила мужа змеюка подколодная, даром, что свободной сделал. И уже не важно, что не…
– Трогал? – еле выдохнула.
Аж дурно стало, так ответа ждала. С того ли замужнюю жизнь начинать, хоть и не за любимым? Безрод молча жевал былинку и задумчиво глядел в потолок. Не ответил, лишь покатал соломинку по губам, покосился и отвернулся.
– Сильничал?
Ох, где ты, Грюй, милый друг, где плечо твое крепкое – опереться, где спина твоя широкая – заслониться? Не твоя рука срезала косу, не тебе и за волосы таскать, если что не так. Чужому отдана, и глядит тот чужой – со свету сживает. Лицом ужасен, глазом зол! И не поймешь, брал силой или нет, – Сивый молчит, да погано ухмыляется. Все тело болит, ноет, плачет. Столько телу досталось, – и мечом, и ножом… Как найти в тех болях чисто бабье?
Сивый не ответил, просто поднял благоверную на руки, подшагнул к выходу и толкнул ворота ногой.
– Солнца вчера хотела? – буркнул, криво щерясь. – Лазурного неба в белых облаках? Гляди!
Ой, матушка родная! Было солнышко девчачье, нынче – женино, было небо синее, теперь – «черное»! Верна повернула голову и посмотрела в глаза молодого мужа. Ровно в студеный ключ поднырнула – замутило, повело! Ой, матушка заступница, ой, боги-защитники, не отверну глаз, не убоюсь! В самой столько зла скопилось… будто хмеля в браге.
А с порога избы, зябко кутаясь в верховку, в сторону амбара глядела бабка Ясна. Вроде не свои, но переживала, как за кровных. Так давно ни с кем сердцем не делилась, что забыла, а есть ли оно вообще? Гости покрепче, еще сидели. Ведь кто-то должен встретить молодых наутро, поднять добрую чару за новую жизнь, и чтобы непременно с первыми лучами солнца. Позор тому мужу, что не поспеет к первым лучам, припозднится, не покажет молодую солнцу.
– Поспел, сволочь! – прошипела Верна и против собственной воли усмехнулась.
Совсем как Безрод. И, кажется, впервые взглянула на Сивого, позабыв про ненависть. Нет, злоба никуда не делась, но интересно – каково это, – постоянно усмехаться снаружи и скорбеть внутри? Человек с таким лицом не может не чувствовать себя одиночкой. Жуткие шрамы, холодный взгляд, бр-р-р-р! Каково это, – глядеть на солнце глазами, что никогда не смеются? Наверное, точит зубы на весь белый свет, а все равно усмехается. Таким сволочам тоже не сладко приходится. Ну и что! Пропади ты пропадом, ненавистный, нелюбимый муж! Молодожены с чувством глядели друг на друга, Верна ненавидяще ухмылялась, Безрод холодно щерился. – Хотела, чтобы не поспел к первым лучам? – Не провалился сквозь землю, так хоть осрамился бы! – Вместе бы осрамились. – От мечей не померла, – со срамом проживу. – Чего от жизни хочешь? – Тебя со свету изжить! – Дура. – Ненавижу! Ворожея молча посторонилась, и Безрод, замерев на пороге, пронес жену в избу. Верна пробовала брыкаться, но Сивый так сдавил в руках, что обездвиженная жена собственным боком почувствовала что-то теплое и горячее. Ну, дела! Верна покосилась на платье. На бедре расплывалось кровяное пятно. Не иначе открылась рана в мужнином боку. Как открылась, так пусть не закрывается, пока вся кровь не вытечет. Сволочь!
Минул второй свадебный день, за ним третий. Верна больше не сопротивлялась, на торжествах сидела подле Безрода смирно, – и даже дыханием не волновала белую накидку, скрывшую лицо. Боярин Листопад рассказал самому князю о чудном певце, который песни играет так, что сердце замирает. На такой посул к третьему свадебному дню пожаловал сам князь. До того на дворе было тесно, теперь и вовсе стало не протолкнуться. Каждый второй – дружинный. Все молодцы, как на подбор – румяны, высушены солнцем, прокалены ветрами. Верна под своим покрывалом ничего не понимала, – о чем это говорят кругом? Кто тот удивительный певец, в первый свадебный день заставивший гостей изумленно ахать? Жаль, сама не слыхала, была опоена, спала хмельным сном. А кому это князь поднес чару с вином, да попросил песню сыграть? Застольный гул будто рукой сняло, гости умолкли, муха пролетит – услышишь. Знать бы, кто этот запевала, хоть глазком на него взглянуть. И Верна украдкой выглянула из-под покрывала. Князь рядом стоит и улыбается, статный, седой, кряжистый, глядит прямо перед собой. Ждет. А по правую руку от него стоит и сушит чару… ненавистный, шрамолицый муж. Верна долго не могла понять, что он и есть тот дивный певец, – все сидела под покрывалом и лишь диву давалась, пока рядом не громыхнуло. Зычно, гулко, сочно, с хрипотцой слева полилось про красавицу молодую жену, которая невзлюбила мужа и под конец извела. – И не полюблю тебя никогда, ненавистный Сивый… – шептала Верна вслед за песней и лишь крепче сжимала зубы. – И не приголублю вовек… – И не согрею никогда… – И оказаться тебе однажды с ножом в спине… – И ненавижу, ненавижу, ненавижу!..
Отполыхала тремя теплыми днями свадьба. Верна эти дни не буянила, вела себя под покрывалом смирно, но лишь немногие знали, что за ураган сокрыт под белым полотном, какие ветры дремлют в озлобленном сердце. Бьется горячее, полыхает – да. Но не любовью. Ясна тревожно поглядывала, Тычок хитро косился, Гарька недоумевающе морщилась, Безрод равнодушно ухмылялся.
– Для чего за себя взял? Шел первый весенний дождь. Капли стучали по крыше уютно, – совсем как в родительской избе, по-домашнему. Безрод, не таясь от дождя, в одной рубахе, мокрый, будто в море плавал, вошел с улицы в амбар с четырьмя горящими светочами. Вогнал первый в расщеп у порога и, криво щерясь, улыбнулся. – А для чего баб за себя берут? Все пытала сама себя, что нашел в безобразной, избитой, еле живой рабыне – и ничего разумного придумать не могла. Ломала голову и так, и эдак, но все без толку. А Сивый только кривился да шутки шутил. – Свободные за меня не идут. – В свете пламени его мокрое лицо походило на ожившую личину и казалось багровым. – Знаю, не красавец. А с рабыни какой спрос? Сказал – пошла. – А рабыню полуживую взял, чтобы даже подневольная не сбежала? – съязвила, как могла. Жаль, не получилось ехидно улыбнуться – губа лопнула по зажившему. Улыбка вышла кривой и дурацкой, и не улыбка вовсе, – так, один намек. – Почему ненавидишь? Ой, мама-мамочка, ой, Грюй милый друг, Сивый спрашивает, почему его ненавидит! – Ты занял не свое место. Безрод ухмыльнулся, и в неровном свете огня ухмылка с тенями рубцов получилась просто жуткой. – Он добрее меня? Верна презрительно фыркнула. – Да! – Он родовитее меня? Молодая жена дерзко задрала подбородок. – Да! – Он… – Безрод опустил голову и усмехнулся. – Не так страшен, как я? Верна оглядела мужа с ног до головы, задержала взгляд на неровно подрезанных волосах и скривилась. – Ты просто чудовище! – А где он теперь? Верна замолчала надолго, но этот Сивый умел ждать, не отводя колючего взгляда. Думала отсидеться за прикрытыми веками, но и там достал колючий взгляд.
– У Ратника, – хрипло буркнула, отвернувшись. – Потому тебе досталась, не ему. Безрод усмехнулся, сунул в расщеп светец и ушел в дальний угол. – Отпусти, молю всеми богами, – прошептала Верна. – Не наживем добра, обойдет нас счастливая доля. Пойдем каждый своею дорогой, а, Сивый? Не твое страшное лицо мечтала видеть каждое утро, не в твои холодные глаза думала глядеться каждый закат, не тебе хотела детей рожать. Не тебе! Сама не дамся, возьмешь только силой. И всякий раз, как жены захочешь, будет тебе сражение. Либо ты меня порешишь, либо я тебя к Ратнику отправлю. Третьего не будет. Те двое, которых срубила на отцовском берегу, были куда здоровее тебя. Дай только в тело войду. Безрод промолчал. Вставил последний светец в расщеп, криво ухмыльнулся и повернулся к Верне. Бесноватая пляска языков пламени донельзя странно оживила каменное лицо Сивого. Черные полутени, страшные шрамы и кривая ухмылка – вот и вся красота молодого мужа. Стучал по кровле первый весенний дождь, оба лежали на сене по своим углам и гляделись в потолочный тес. Верна мрачно хмурилась, Безрод криво ухмылялся, молодая жена шептала: «Сама не дамся», – молодой муж – «Входи в тело поскорее»…
– Уйдем скоро. Безрод и Ясна, сидя на крыльце, нежились на весеннем солнышке. Бабка грустно улыбнулась, кивнула на Верну, хлопотавшую по хозяйству. – Поправляется. В тело входит, бабий волос отрастает. Синяки бледнеют, глаза синеют. – Зеленеют, – усмехнулся Безрод. – Станут зеленые, будто море на мелководье. – Слаба я стала на глаза. Зато ты остер вышел. Такую бабу под рубищем, да под синяками, разглядел. Ишь, старается, соками наливается! – Силы возвращает. – Так и не допускает к себе? – Нет. Порешить грозится. – Подумаешь, грозится! Безрод, ухмыляясь, покачал головой. – По-настоящему зла и отчаянна. Не шутит. – А сам-то что? Жена ведь! Нравится, не нравится, – терпи, моя красавица! – Пусть в тело да в силу войдет. Там видно будет. Глядишь, оттает. Бабка, хитро улыбаясь, поникла головой и спрятала лицо. – Думаешь, возьмет свое молодость? – Безрод, пригнув голову, заглянул ворожее в лицо. А бабка-то мало не смеется! – Думаю, возьмет. Ведь по живому бабью душу надвое рассекло. Одну половину потеряла с отцом-матерью, с сестрами, с милым другом, вторую ты в кулаке зажал. А разве поставить вас рядком? Его, красавца, да тебя – страшилище? Безрод, ухмыляясь, отвернулся. – Голову не вороти, самую правду говорю. Ей нынче ой, как муторно! За нелюбимого пошла, да не сама пошла, силком заставил. Враз отсекли прежнюю жизнь, а душа и тело еще кровью сочатся. Верна будто почувствовала, что о ней говорят. Отставила ведра в сторону, повернулась к избе, распрямила ноющую спину и с прищуром зеленеющих глаз посмотрела на крыльцо. – Хороша, ой, хороша! – Ворожея восхищенно прицокнула. – Да, хороша, – Сивый глаз не отрывал от жены, ухмыляясь, кусал ус. – И красива, и стройна, и глазаста. Верна, скрипя зубами, преодолела ломоту в спине, расправила плечи и грудь, подхватила ведра, полные на четверть, и понесла в дом. – Больно молодице, еще тянут раны, поясницу ломит, но голову больше не склонит и спину не ссутулит. Пред тобой, образина, особенно. А вечером, когда отполыхала вечерняя заря, и сумеречное небо оделось звездным покрывалом, Безрод прошел в амбар, где «ждала» мужняя жена. Сам подправил амбар, заделал свежим тесом, проконопатил, на совесть перестелил кровлю. Нигде не дуло, а в сенце, да под верховкой, спать и вовсе приятно. Подошел к Верне близко-близко, присел, закрыл маслянку ладонью, – и вгляделся в черты спящей жены.
Уже отрастают волосы – на лоб упала непослушная прядь – с лица почти сошли синяки, понемногу свое забирает румянец. Зажившие губы, будто подрисованные вишневым соком, Верна то и дело крепко сжимала. Брови изогнулись луками, ресницы пушисты, мила. Не сказать, что писаная красавица – сердце исступленно не забьется, к тому же нос, дважды свернутый на сторону, еще не стал прежним. Отек сходит медленно. Не оказалась бы, дерзкая, вообще курносой. А все равно брала чем-то. То ли статью, то ли глазами. Безрод, едва касаясь, одним пальцем убрал прядь с ее лба, легко сдул с щеки невесть откуда взявшееся перышко и подоткнул верховку поплотнее. – Уйдем через несколько дней, – прошептал, усмехаясь. – Сам не знаю куда. Наверное, туда, где будет дом.
ЧАСТЬ 4 ДОРОГА К ДОМУ
Глава 17 Сеча
Я затаила дыхание. Одним богам известно, чего мне, избитой бабе, силком взятой в жены, стоила личина преспокойно спящей дуры. Нацепила на лицо аккурат для «дражайшего» муженька. Когда Сивый присел подле меня и прикрыл маслянку ладонью, чтобы в глаза не било, думала, все мое естество провалилось куда-то в пятки. Даже нутро охолонуло. Когда начала вставать после ранений, пригрела на груди длинный скол серпа и никогда с ним дальше не расставалась. Никто о том и не узнал. Болтали, что железо холодное, равнодушное – враки все. Самой удивительно, но даже в студеную весеннюю пору, серпяной скол не холодил, а грел, будто внутри пожар занимался. От острого железа делалось тепло и спокойно…
Полагал, сплю. Не вижу. Но как только Безрод потянул руку к лицу, думала, выдаст сердце – так забилось, едва грудь не прорвало, та едва ходуном не заходила. Хорошо я успела глаза прикрыть. Сивый не видел, но под сеном изготовила в кулаке серпяной скол. Дурень! Если бы не рассчитал, коснулся меня хоть немного тверже своими дубовыми пальцами – упал бы наземь с зевом на шее. Разнесла бы глотку вдвое. Умею. И глазом бы не моргнул. Но что-то меня сдержало. То ли засомневалась, сил еще не всласть прибыло, то ли еще что-то – не знаю, гадать не буду. Знаю одно, корявый палец муженька коснулся волос легче легкого, убрал прядь со лба так бестрепетно, будто ветерок пронесся. Прошептал, дескать, скоро уйдем дом искать и отошел. Только тут у меня внутрях все разжалось, будто до того было скручено, чисто оленьи жилы в тетиву. И сама не заметила. Едва память от натуги не упустила. Куда мне битой-перебитой такое напряжение? Аж голова завертелась. Все-таки решил, дурень, искать со мной счастливой жизни! Не внял уговорам. Сколько просила, умоляла, все без толку! Наверное, думает себе, если слезами не исхожу, отошла от горя, оправилась. Дурак! Нутром плачу, душой рыдаю – тяжко! А слез моих горьких тебе не увидеть, муж постылый! Прежде кровью изойду, чем слезами. Дорого тебе встанет каждая моя слеза, может, и жизни не хватит сменять.
Лежала и уснуть не могла. На каждый шорох вострила ухо, не муженек ли за лаской встал? Сколько глядимся друг на друга, со двора Сивый ни ногой. Других баб в дом не водит, сам за порог не шастает, Гарьку, эту хитрую коровищу, не считаю. Дать ей волю, станет Безрода на руках носить. И без того в рот заглядывает, каждое слово ловит. А ведь не любит она его, или я чего-то не вижу, не понимаю? Тогда что? Не знаю, теряюсь в догадках. Столько времени постылый муженек ходит бабой необласкан – жду, когда у него кончится терпение, жду, что полезет брать силой и боюсь, что не совладаю. Много сплю, лишний раз руки не подниму, силы берегу. Тружу себя, дорогую, помаленьку, не в тягость. О боги, мне бы прежней стать, когда сильничать полезет!
Сама не приметила, как сморило. Уснула. Слава богам, этой ночью Безрод за лаской не полез. А утром первое, что увидела, едва раздернула веки – его синие холодные глаза. Будто ключевой водой окатили, махом проснулась. И помнится, даже застонала от досады. Мне снились Грюй, отец с мамой, сестры, казалось, вот вскочу с ложа и прыгну отцу на руки. А он закружит меня, кобылу здоровенную, ровно дитя-трехлетку. Кажется, смеяться во сне начала… Разбудила, дурища, Безрода! На самой заре постылый муженек навис надо мною, ровно каменный истукан, и спросонья никак не могла понять, как он смотрит: зло или с добром. Уже сколько времени гляжу в синие глаза и все не могу понять, что за человек – добр или зол, честен или пройдоха, смел или трус. Никак не могла понять, но вот открыла глаза, и будто кто-то свыше надоумил – страшный человек Сивый. Слюной не брызжет и глазами не вращает, но все равно страшный, будто ножевое лезвие. Такой же холодный и блеклый. Когда бросится? Сейчас? А что захочет меня – уверена. Писаной красавицы, ножами да мечами подпорченной, без переднего зуба, с опухшим носом, с подбитыми глазами как не захотеть? Аж самой делается смешно сквозь слезы.
Благоверный долго на меня глядел, насквозь простуживал студеными гляделками, но и меня батя не пальцем делал. Глаз не отвела, хотя и замерзла. Смотрел, смотрел и говорит:
– Встань.
Встала. Долго вставала, с ленцой. Хотела в бешенство ввести. Куда там!
– Дичиться еще долго будешь? Не хватит?
Хватит? Как же мне не дичиться, ведь вас даже рядом не поставишь! Как можно равнять Грюя, светлого, будто солнечный луч, да тебя холодного, точно зимний лед? Разве заменишь человеку блаженное тепло звенящим морозом? Ненавижу! Так и сказала.
– Ненавижу!
А Сивый лишь кивнул и ухмыльнулся, как будто этого и ждал. Не сказать, что Безрод великан, мы с ним почти в одном росте, ну, может быть, он перерос меня всего на пару пальцев. Думала даже, в рукопашной сойдемся – заломаю. А он, усмехаясь, обнял и поцеловал. Да так скоро, что и моргнуть не успела. Глазами не успела хлопнуть, а руки сами сделали, что было нужно. Как серпяной скол в ладони оказался, сама не поняла. Впрочем, это не удивительно – с ним засыпала, с ним вставала. Его-то и сунула Сивому в пузо, остервенело так, зло. Обломок длиной в ладонь с пальцами почти весь в брюхо и сунула.
Думала, рухнет Безрод. Не рухнул, сволочь, только губы поджал. Отпрянул, а глазах столько темноты разлилось… будто в небе перед грозой. И держался бы за бок, да стонал – нет же! Стоял прямо, белый, как некрашеное полотно, усмехался и тащил скол наружу. Пригляделась и обмерла от удачи. Помнится, Гарька болтала, будто Сивый на ножах бился за меня в драчной избе и получил нож в бок. Скол пришелся тютелька в тютельку в старую рану, как будто сами боги направили мой удар. Безрод стоял и тащил из себя острое железо. Зубья не пускали наружу, рвали тело по живому. Едва жилы на лезвие не намотал, пока тащил. Знаю, больно было, а все равно стоял и криво усмехался.
Рывком вытащил ржавый клин, аж прожилки выползли наружу за лезвием, отряхнул и заскрипел зубами. Думал, не услышу. Услышу даже стук капель крови о землю, да на каждую стану приговаривать: «Беги скорей, весь пол залей, беги-выбегай, жизнь вылетай!» Вот такая гадкая, ничуть не пожалела о содеянном. Сивый стоял и ухмылялся, а у меня кровь к лицу прилила. Думала, немедленно начнем драться, в мыслях уже садила кулаками, грызла зубами. Челюсть Безрода медленно заходила, и мне показалось, будто от гнева он обо всем позабудет. Позабудет о том, что я баба, о том, что хотел искать со мною счастливой доли. Уж я бы точно позабыла, едва кровь ударила в голову. Ага, как же! Биться станем! На меня дунь покрепче – с ног снесет, а все равно будто крылья за спиной выросли, море сделалось по колено. Сивый только усмехнулся и что-то сделал руками, жаль не увидела что. Перед глазами все померкло, а Безрод размылся в неясное пятно. Только зубы мои и клацнули. Так приложил, что вон из меня память. И когда успел?
В память вошла от удушья, лежа на сене. Кто-то тяжелый давил на грудь и не давал дышать. Не сказать, что испугалась, просто стало гадко и злостно – дернулась во всю мочь и смачно выругала постылого мужа. Говорить было очень больно, в затылке вдруг отдалось. Не иначе Сивый челюсть мне своротил. Глаза открыла, вижу – коленями придавил, пальцем пробует на остроту серпяной скол, кровища из раны так и хлещет, а сам с каждым вздохом белеет. Так вот как Сивый дело обернул! Думала сильничать станет, закроет рот и отомстит бабе по-мужски, так нет же! Порешить удумал! И что ему от меня несговорчивой ждать? Любви да ласки? Хороша ласка! Острым лезвием да в старую рану. Ай да я! Ай да дура! Не убила, только разозлила. Распорет мне грудь, вынет сердце, и съест на моих глазах, пока подыхать буду.
А Безрод подцепил пальцем рубаху у ворота и дернул вниз. Хлипкая ткань с треском разошлась, и явилась я Сивому вся, как родила меня мама на белый свет. Волны жара захлестнули лицо, наверное, стала пунцова, чисто зарница и шипела, как змея. Только плевал он на меня, полудохлую, что извивалась под коленями! Я тогда крикнула: «Трус! Баба! Нелюдь!»
А Сивый на мои крики и бровью не повел. Хотя нет, вру. Криво усмехнулся и положил руку на левую грудь. Закусила губу, удерживая крик внутри – не дождется – и отвернулась. Но Безрод мягко взял меня пальцами за подбородок и заставил повернуть голову обратно. Хотел, чтобы видела. Взмолилась тогда горячечным шепотом:
– О боги, Ратник, я больше твоя дочь, чем Матери Земли, так почему же мои глаза не мечут молнии? Сделай так, чтоб хоть разок я стала подобна тебе, дай моим глазам грозовую силу, не дай снести позора и остаться жить! Не дай!
Мой муж только усмехался. Я лежала на собственных руках, заведенных под крестец, голова мало не раскалывалась, а на животе сидел Безрод и стискивал ногами, как норовистую кобылицу. Помню, процедил сквозь зубы что-то обидное, я даже вспыхнула ровно костер.
– Думал, горяча, будто пламя, но оказалась холодна, как лягушка!
Себя от злости позабыла. Лицо заполыхало, будто сунули носом в колючий снег. Не сразу поняла, почему Сивый усмехается. А он просто ущепил пальцами, твердыми, будто камень, кожу над левой грудью, там, где второй месяц жглось рабское клеймо, и срезал одним махом, едва не с пальцами вместе.
Сначала не поняла, отчего так запекло в груди и стало горячо, ровно кипятком ошпарили, потом скосила глаза и… дыхание сперло. Память медленно утонула в потоках крови, что потекли из меня, как вода из дырявого меха. Не иначе Безрод задел сердце, и в нем отверзлась жуткая дыра.
Я металась в жару и сквозь это пылающее марево что-то видела, что-то слышала, и даже что-то говорила. Должно быть, несла полную чушь. А Сивый нес меня. И как мы оба не рухнули, тогда не поняла. Мерно покачивалась на его руках, ровно дитя в люльке, а жаром всю охватило – едва до углей не сгорела. Ни руку поднять, ни ногой брыкнуть. Помню еще бабкин глухой крик. Испугалась ворожея за меня. Думала, убил. А я мало на небо от счастья не взлетела. Больше на раба!
– Боги, боженьки, зарезал? – упавшим голосом глухо вопросила Ясна.
Не видела, но представляла, как ворожея схватилась за сердце.
– Да ну ее! – буркнул Сивый над самым ухом. – Надоело! Толку с нее, как с козла молока!
– Изверг! – прошептала хозяйка. – Истинно изверг! Была бы у тебя мать – отреклась от сына, был бы отец – выгнал из избы, был бы старый дед – от стыда помер!
– Куда класть? – оборвал Сивый ворожею. Эх, не успела Ясна бабкой попрекнуть моего муженька!
– Да в избу неси, бестолочь! Ох, кровищей молодица изойдет! – мне так и представилось, как старуха гневно потрясает кулаками перед лицом Безрода. – Чего не добил, если взялся? За что на муки обрек?
С нас обоих крови натекло – жуть! И еще поглядеть с кого больше. А ворожея всю кровь, что увидела, мне приписала. Безрод и словом про свою рану не обмолвился. Не захотел. Гордый, сволочь! Да только та гордость вместе с кровью выходит! Скоро уже ничего не останется! И скорее бы…
Я очнулась от легких прикосновений. Кто-то осторожно, не надавить бы сильно, отирал мокрой тряпицей мою рану. Открыла глаза. Гарька. Губы сурово сжаты, глядит на меня без приязни, будто мужа у нее увела.
– Чего косишься, зло таишь? – прошептала я.
Едва сил наскребла. Слаба стала – не передать.
– Дур давно не видала. Посмотреть интересно.
Были у нас девки поумнее меня, но и я в дурах никогда не ходила. Но тут даже за живое не взяло. Видать, мало во мне, горемычной, осталось живого. Не скажи Гарька, что плачу, сама никогда не догадалась бы. Может и впрямь стала круглая дура? От горестей, которые навалились со всех сторон, как бабе не поглупеть? Не всякий воин сохранил бы ум в здравии, что же про меня говорить?
– Слезы утри! И без того жизни осталось на один вдох, а тут сама отпускаешь со слезами! Жить надоело?
– Хочется жить, страсть, как хочется! – шепнула. – Только не стану женой твоему хозяину! Лучше сгинуть!
Как мне хотелось крикнуть это во весь голос, да чтобы Сивый услышал! Но я лишь прошептала заветные слова, хорошо хоть Гарька поняла, что бормочу.
– Стерпится – слюбится. Замужняя ты теперь.
– Порешу его!
Ой, мне! Обещала порешить, а саму едва слышно! Чуть памяти не лишилась после этих слов.
– Учила утица селезня летать! – усмехнулась Гарька. – Замужняя ты теперь, хоть из шкуры выпрыгни!
Я промолчала. Думала. Почему Сивый оставил жить, да к тому же из рабства вырвал? Ведь знал, что не уживемся. Знал, что буду зубы на него точить, а случиться в руках нож – то и нож. Знал, что быть меж нами большой крови. С почином тебя, Безрод!
Гарька ушла, а я осталась лежать и думала, думала, думала. Сивый оказался живуч, ох живуч! Я и раньше видела такие раны и не единожды. Бывало, умирали от них. Год назад на моих руках помер Сова с ножом в боку после битвы с пришлыми. Аккурат в том же боку, аккурат в том же месте, только угол чуть другой. Серпяной скол оказался длиной в ладонь с пальцами, почти на всю длину в рану и сунула. Безрод едва-едва пальцами ухватил, чтоб вытащить. А мог и не ухватить! Лезвие скользкое, корешок из раны торчит маленький, как же надо было исхитриться, чтобы ухватить злую железку? Наверное, зубец уцепил ногтем, иначе никак. По живому рвал, тащил наружу вместе с жилами, серпяной скол ощерился острыми зубьями против хода. А Сивый криво ухмылялся и тащил скол наружу. Ухмылка будто окаменела на его лице, сером от боли. На свою голову оставил меня жить.
Грудь подживала, и встала я скоро. А солнце уже припекало вовсю! Только пустой для меня вышла эта весна. Не водить больше хороводов, не стоять лицом к лицу с милым, не слышать от парней-соратников шуток, дескать, вой за воя замуж идет! На душе стало пусто, будто разверзлась посередине огромная пропасть, в которую ухнуло все, что любила. В эту трещину канули шутки, что сыпал для меня Тычок, там пропадали добрые слова, которые находила для меня ворожея. Мне было не жарко и не холодно от жизни, расцветавшей кругом день ото дня. Одиноко, пусто и тоскливо.
Я не видела Безрода последующие дни. Неужели все же помер? В груди что-то шевельнулось, и с удивлением обнаружила в себе досаду. Не сказать, что было жаль Сивого, просто так же горько становилось на душе, когда от твоей руки умирал достойный враг, прямой и честный. Теперь я понимала ребят-охотников, которые рассказывали странные истории – будто поедом себя ели, когда под их копьями да стрелами падал матерый волчище и до самого конца не прятал зубы и не отводит злых глаз. Душа словно раздвоилась. Ненависть и злость никуда не исчезли, но теперь к ним присоседилось смутное, глухое уважение, непослушное мне самой. Я знала, что такое боль, знала, что такое тащить из себя лезвие, когда зубья упрямятся и рвут по живому. Единственное, чего не знала, как при этом ухмыляться, оставаться в сознании и нести на руках еще кого-то. Часто представляла себе тот день по-другому – уж лучше бы Сивый вонзил скол мне в грудь, а я на последнем издыхании рванула бы его прочь и разорвала самое себя… Достойно ушла бы из жизни. Мечты, мечты… Меня выходили бабка Ясна, Сивый, Гарька и дед Тычок. И снова ругаться с Безродом, снова показывать ему зубы. Те, что остались целы. Тошно, ровно пепла наелась.
Мой постылый муж внутри как будто из булата остоял. Уже на третий день выполз из амбара на солнышко. По-моему, ворожея так и не узнала о ране, что я расковыряла. Только старый Тычок косился на меня и морщился, будто самого скрючили поясничные боли. Безрод по стенке амбара прошел несколько шагов, оглянулся туда-сюда, не видит ли кто, и просто рухнул на колоду. Прищурился на солнышке и заулыбался, ровно бездельник, что сладко выспался и от пуза наелся. Будто ничего и не случилось. Меня аж оторопь взяла. После таких ран, бывало, вовсе не вставали, где уж тут вид показывать, что все хорошо. Никто не видел, кроме меня – Сивый ковылял по двору, едва не падая, и если бы стену амбара вдруг убрали, как знать, удержался бы он на ногах…
Стояла за углом и во все глаза подглядывала за Безродом. Вот кого он мне напомнил – сытого и довольного котяру, что выполз погреться на весеннее солнышко. И только я знала, что кота порвала одна дикая кошка и порвала страшно. Мало кишки на коготок не намотала. Три дня я провалялась под руками ворожеи, и все три дня Сивый появлялся в избе только в трапезное время. Садился со всеми за стол, перешучивался с Гарькой и Тычком, а я во все глаза выглядывала в нем особую бледноту. Даже бабка Ясна ничего не прознала. Знали только я и Тычок. Сивый разве что морщился чаще чем обычно.
– Чего нахмурился, бестолочь? Слова не вытянешь! Или я весь волос повыдергала?
Так, выходит, бабка схватилась вовсе не за сердце, когда Безрод поднес меня к порожку! За меня горемычную ворожея оттаскала постылого муженька за сивые волосы! А ведь еще недавно Ясна была нелюдима, как старая бобылиха, и жила от соседей наособицу. Видно, крепко Сивый ей в душу запал, просто так за волосы не дерут. Воспитывала! Меня вот за волосы не потаскаешь. Только-только стали отрастать, еще не намотаешь косу на руку.
На исходе третьего дня, на самой заре меня посетила шальная думка – а кто Безрода полотном перетянул? Неужели сам? Отчего-то не верилось, что это старик и Гарька, скорее точно знала – не Тычок и не Гарька. Коровушка наша уж точно не выдержала бы и сказала мне пару ласковых. Оставить рану кровоточащей Безрод не мог, тогда, выходит, сам перетянулся? И перетянулся как ладно! Нигде под рубахой не топорщилось, не мешало. Неужели сам с раной возился, без бабки обошелся? Разве встал бы на ноги так быстро без заговорного слова? Такое лишь бойцы делают, причем самые дерзкие, которым за ворожбу по холке получить – что наземь плюнуть. И даже не всякому дерзкому и бывалому это по силам. Мой Грюй знал заговорное слово. После стычки с вредами не стал дожидаться ворожца, сам взялся за раненного Оглоблю. А если бы стал ждать, потерял парня. Ворожцу и самому тогда в сече досталось. Воевал бы теперь Оглобля в дружине Ратника.
Никогда не видела Безрода при поясе. Ни при воинском, ни при работном. Даже простого веревочного гашника не было. Красная рубаха свободно полоскалась на ветру, а Сивого это как будто не тревожило. Дескать, нет пояса и ладно. Я ничего не знала о своем муже. Ни-че-го! Ни повадками, ни разговором Безрод не давал понять, кто же он такой. Темная лошадка. И чем больше времени проходит, тем глубже меня засасывает житейское болото, когда ни мужняя жена, ни свободная баба, а так, стоячая вода с тоской зеленой пополам.
Ночью, когда все улеглись, а бабка напоила меня каким-то целебным, но противным на вкус отваром, я забралась в хлевок, под кровлю, где между балок устроила себе подвесную лежку, и предалась думам. Не всегда спала в люльке, но иногда, чаще все же на лавке. Снова переживала в памяти недавний день, когда Сивый с кровью вырвал из рабства. С глаз как будто туманная пелена сошла, и в ясном свете мне предстало то, чего просто не увидела тем «кровавым» утром. Потому и не увидела, что зла была. Тогда Безрод окинул меня холодным взглядом, что-то для себя решил и нежданно-негаданно поцеловал. А потом, когда сидел на моей груди и сам исходил кровищей, нахмурился и процедил сквозь зубы что-то настолько обидное, что я вспыхнула, будто костер. Теперь поняла почему. Где ему было взять в амбаре крепкого пива, чтобы мне голову «снесло», и я саму себя позабыла? Вот и обозвал тварью холодной. Знал, что вспыхну, как стог сена, знал, что кровь ударит в голову. Только поэтому боль не сразу достучалась до оскорбленной души. А Сивый усмехался, ледяные глаза как будто говорили – знаю, что горяча, ровно пламя, все знаю. Только ничего этого я не поняла. Зла была, света белого не взвидела. Зато стала свободна за одно мгновение! Острая боль унесла в прошлое мое рабство, и только грудь нынче тянет, рана тупо ноет под повязкой. Хорошо, что клеймо маленькое, с ноготь большого пальца. А клочок моей шкуры с рабским клеймом Сивый в тот же день по соседям пронес, да на кончанской площади прилюдно и сжег. И все-таки… почему Безрод меня и пальцем не тронул? Другой бы на его месте просто убил. Почему? Я уснула без ответа на свои вопросы.
Безрод поправлялся быстро. Никто так и не узнал правду про то кровавое утро. Мы оба молчали. И с каждым днем меня все больше тяготил хлеб, которым потчевал ненавистный муж. Я страсть как не хотела вязаться с ним хлебными узами. Невозможно за обе щеки трескать хлеб человека и при этом обещать его порешить! Гадко выходило, по-другому и не скажешь. Мужем не признаю, а хлеб исправно поедаю до единой крошки. Выждала момент и как-то подошла.
– Не люблю тебя. Ненавижу. Отпусти.
– Нет.
– Не подпущу к себе.
Сивый хмуро промолчал.
– Никто я тебе. Ни дальняя родня, ни свободная баба, а хлеб твой уписываю, как настоящая жена. Не хочу так. Или отпусти, или убей.
Безрод, мой дражайший муженек, только ухмыльнулся.
– Всякий лучшей доли ищет. Я ищу. И ты ищешь.
Пожала плечами. Ну и что?
– Лучшая доля у каждого своя.
Безрод поджал губы и коротко кивнул.
– Правду Крайр говорил, что в бою тебя взял?
Сказала, как было.
– Правду.
Сивый, видать, неловко дернулся, весь аж побелел. Так и застыла на губах ухмылка, будто приклеенная.
– Одним делом с тобой заняты. Лучшей доли ищем. Женой не хочешь, а соратником пойдешь?
Я не сдержала улыбки.
– Спину тебе прикрывать?
– Да не спину, ты бы мне перед прикрыла.
Зубоскал! Остряк! Передок ему прикрыть! Еще чего!
– По рукам! Бывает, человек за долей ходит, а бывает, доля человека находит. Что должно случиться, пусть случится. Боги знают, чего хочет каждый.
Сивый ухмыльнулся, кивнул, смерил меня цепким взглядом и ушел прямой, как обнаженный меч. Думала, пошутили и разошлись, но делать все равно что-то нужно. Хоть как-то отработать. Некрасиво мести языком, как помелом, а хлеб наворачивать, чтобы за ушами трещало. Как же мало я знала Безрода!
Утром, едва глаза продрала, седьмым бабьим чувством поняла, что нынешнее утро особое. Скосила глаза в сторону и на лавке подле себя углядела горку новья, что еще пахло свежевыделанной кожей и железом. Воинский пояс.
– Остальное оружейникам заказал. Скоро сделают.
Безрод сидел в уголке и пристально глядел на меня. Как долго сидел, не шевелясь? А ведь я, словно кошка, взвиваюсь на ноги от малейшего шороха.
– Чего уставился? – только и буркнула.
В бане натоплено, жарко. Во сне я могла раскрыться, разметать одеяло. Много успел увидеть? Хотя, чего он у меня не видел?
– Полно бока отлеживать. – Тихо пророкотал постылый муж. – Дел по горло. Нужно в тело входить и силу возвращать. Уговор помнишь?
Помню вчерашний разговор. Но я думала, Сивый шутки шутит, дурачится. А теперь вижу, что говорил всерьез. И на том спасибо, что признал во мне ровню. Дай только глаза продрать, ненавистный муженек!
А на вечерней зорьке подсела ко мне бабка Ясна.
– Гляжу на тебя, девонька, и не пойму. Иная за нелюбимого идет и ненавидит, как другого любит. Яро, с криками, с визгом, душу наизнанку рвет. А ты тишком да молчком, голос тих, глаза сощурены, холодна, расчетлива.
– Ведь ненавижу, а не люблю. – Усмехнулась я. – К чему душу рвать? И без того вся порвана.
– Так и сгинешь, ровно срубленная береза? И побегов не оставишь?
Ох, не трави, бабка, душу! Без тебя тошно! Как настала весна, да как стала я в тело входить, поднималось внутри по ночам бабье и бродило, как вино в бочке. От меня можно было светоч запалять, как еще постель не сожгла? Сгинуть пустой, ровно иссохший колодец, не хотелось. Погубить себя, полную бродящих соков, казалось мне равносильным тому, как зарыть в землю вкусные, сочные пироги, в чьи румяные бока не вгрызались крепкие, молодецкие зубы. Мне изменило собственное тело, и я не знала, как быть. Терялась и все больше погружалась в упрямство. Скорее тело иссохнет, чем душа оживет. Но сама себя порешить я не могла! В рубке помереть – милое дело, а руки на себя наложить – хуже не придумаешь. Все, решила! Не стану от меча прятаться! Лучше подохну, чем позволю к себе прикоснуться! В дороге за лучшей долей чего только не случится.
– Зачем душу треплешь, бабка Ясна? Зачем в нелюбимые руки толкаешь?
– Дура ты! – ворожея для пущего понимания даже костяшками пальцев по лбу мне постучала. – Дура! Не губи свою жизнь молодую, не губи! Сколько вас, дурочек, на моих руках перемерло! Нутро из себя рвали, травились вусмерть, все от нелюбимых бежали! Не люб этот – найди другого, но не смей долю от себя гнать! Годы пройдут, сама посмеешься, и детки животики надорвут!
Детки, животики… Все внутри перевернулось, к горлу ком подкатил. Только рукой махнула, встала и ушла. В груди застучало, в ране забило. Детки, животики…
Нагружала себя в меру сил. Свой хлеб надо отрабатывать. Одно то, что ем свое, а не чужое, веселило душу. Теперь мы соратники, а свой долг я отработаю в дороге. Грудь еще побаливала. Рана затянулась тоненькой кожицей, и страсть как чесалась! Безрод говорил, что уйдем в скором времени. На этой седмице не получилось, но все равно уйдем. Глядишь, и выйдет наша дорожка тернистой! Вдосталь наедимся в пути шипов, языки себе раздерем. Ни одного разбойника по пути не обойду, они не заметят – сама на рожон полезу.
Пока оружейники делали для меня воинское снаряжение, я наливалась крепостью и сноровкой. Ни свет, ни заря надевала мужские порты, рубаху попросторнее и шла на безлюдный берег моря. Ох, и тяжко себя прежнюю возвращать! В самом начале несколько взмахов меня едва не утопили, непослушные волны быстро высосали все силы. Открылась рана, и соленое море так остервенело укусило грудь, что я света белого не взвидела. Барахталась, пока волна не помогла, на берег не выбросила. Так и лежала, уткнувшись в гальку битым носом, пока силы не вернулись. А когда с морем наладилось, и я стала плавать, ровно дочь Морского Хозяина, помалу за дровишки взялась. Колола недолго, понемногу, но каждый день. Сивый молча обходил меня стороной, все посмеивался в бороду, но когда все ложились, уходила в темноту, брала палку и делала с воздухом все, что умела в недалеком прошлом. Резала, колола, била, только свист стоял. Гнулась в поясе, отжималась, приседала, бегала. Только теперь одна. Рядом больше не стояли отец и воевода, некому было наставить меня на путь истинный крепкой ладонью. Все что знала, что помнила, все приемы и ухватки пускала в ход. Выпросила у бабки пустой мешок, набила песком себе по силам, на плечах таскала, по земле валяла, представляя, что это враг. Одно плохо – не было у меня живого противника, не с кем было силу попробовать. Мешок безволен, бессловесен, бесхитростен. Не Гарьку же просить, или тем паче Безрода. Все самой.
А через седмицу, и вновь на заре – уму непостижимо, как Сивый неслышно входит – продрав глаза, я углядела на лавке, напротив нечто тускло блестящее. Кольчуга и меч. Проморгалась, глянула в угол. Сидит. Тих и недвижим.
– Твое. Для тебя делали.
Я долго молчала. Несколько дней назад, Безрод таскал меня в кузницу, где поила девицу-огневицу своей кровью. Вот и готов мой меч! Наверное, Безрод ждал, что вскочу, будто дитя несмышленое, и все на свете позабуду! И постылую свадьбу, и рабский торг. Долго ждать будет. Постареет, ожидая! А Сивый сидел как истукан, без движения. Лениво повернула голову.
– Уйди!
Молча поднялся и ушел. На пороге не встал, не обернулся. Я на правах выздоравливающей все еще оставалась в бане. Не пошла в амбар к Безроду, хотя должна была. Какой никакой, а мужний дом. Не захотела. Вот так! И едва стукнула за Сивым дверь, я взвилась на ноги, подскочила к лавке с обновками и жадно облапила рукоять меча. Серебряной струйкой с меча сползла наземь кольчуга. Меленькая, колечной вязки, двойная. А меч и впрямь по руке! Чист, ровно водная гладь, прям, как мой гонор. Вот чего мне не хватало с тех самых пор, как по чужой воле покинула отчий берег – крепкого меча, да железной рубахи. И ровно стихли беспокойные ветры в душе. Не унялись, а лишь притихли. Стало спокойнее, будто с добрыми друзьями повстречалась. Не стерпела, не сдержалась, подхватила новье и, улыбаясь, едва накинув порты и рубаху, вынеслась во двор.
Воздух вокруг меня так и засвистел. Позабыв обо всем на свете, гоняла его по сторонам. Разнесла надвое нетолстый березовый чурбачок, в углу двора нашла старое корыто, утвердила стоймя и рассадила пополам. Кровь во мне, что называется, закипела, и кажется, впервые после той печальной схватки на родном берегу, я смеялась. Знала, что Безрод стоит где-нибудь за углом и пожирает меня своими холодными гляделками. Плевать! Я была рада, просто рада, словно девчонка новой кукле.
К середине весны, когда люди попрятали тулупы и прочую теплую одежку, я окончательно встала на ноги и впервые за долгое время, как проснувшийся цветок, ощутила себя в былой силе. Не хотела глядеться в зерцало. Боялась. Однако бабье во мне пересилило. Заглянула краем глаза и потом долго оторваться не могла. Оторопела так, что рот раскрыла. Кто лепил это лицо с перебитым носом, порванной губой и шрамами под глазами и на скулах? Точно Злобог! Ну, положим, нос еще так себе, тот, кто меня раньше не знал, и не заметит разницы. Просто свернут маленько набок, а вот рубцы… Хоть и была готова к тому, что влечет за собой воинская доля, нутро все же охолонуло. Как же так, мамкину красавицу со всего маху рылом в уродство? Знала ведь, если встала на воинскую дорожку, однажды меня тоже догонит печальная доля. Вот и догнала. Сама усмехнулась. Надо же! Удумала девка смерти искать, на врагов зубы точу, собралась грудью поймать вражий меч, а все о красоте думаю. Дура!
Сама чувствовала, как от сытой жизни, постоянных занятий с оружием и мешком, от плаванья в море, на лицо возвращается цвет, расправляются плечи, а грудь, тьфу ты, поднимается, ровно опара на дрожжах. Налилась я соками, будто спелая вишня. Все мой постылый заметил, все углядел, но лишь усмехался, обходя стороной. Рук загребущих не тянул, за бедра исподтишка не щипал, силком в сено не волок, только холодно глазами посверкивал, да ухмылялся. Не знала, что у него на уме. Он сам сказал.
– Собирайся. На седмице уйдем.
Однажды такое уже слышала. Только не случилось нам тогда уйти. Моя рана помешала. И вот теперь, я мужняя жена, пойду за ним на край света. Уйдем вдвоем, только каждый за своим.
– Куда?
– Не знаю. Как боги положат.
Сивый не знал, в какую сторону уйдем. Для него самого оставалось загадкой, где станет искать дом, в котором предстояло мне затеплить первое тепло, а ему – полить пол собственной кровью. Безрод полагался на знаменье богов. Сивый не знал, зато я точно знала, что на всем белом свете нет такого уголка, где встанет наш общий дом. Не будет у нас дома. Моим домом станут пресветлые палаты Ратника, в которые уйду с точным ударом вражьего меча. Одного я не знала, чей меч отправит меня в дружину Ратника, но одного-двоих на небеса уж точно отправлю. А где встанет дом Сивого, и кто в нем расхозяйничается, мне было неизвестно. Да и знать не хотелось.
– Жребий бросишь?
– Да.
А он немногословен, красавец-муженек. Я усмехнулась. Вот и нашла в нем что-то хорошее. Не найти бы еще что-нибудь, ведь все начинается с малого. И ляпнула просто так, чтоб не воображал себе всякое, чтобы из черного тела не вылезал.
– Ненавижу. И твоей не стану.
Мой постылый в долгу не остался.
– Станешь.
А сказал-то как! Холодно, играючи, как будто ледышки друг о друга прозвенели. Поднялся и ушел, а я осталась на крыльце одна.
Под утро, когда заря только-только пятнала небо на востоке, Сивый за руку стащил меня с лавки. Сначала не поняла, что стряслось, и кошка во мне проснулась раньше, чем баба. Не открывая глаз, пару раз бросила кулак в темноту. Попала. Чей-то утробный стон разнесся по бане, и я раскрыла заспанные глаза.
– Вставай. – Глухо прошептал Сивый, помолчал и добавил. – Дура!
Что за спешка? Безрод мало не стонал. Видать, знатно урядила кулаком! Надела рубаху, мужские порты и выскочила за дверь. Сивый ждал меня на порожке, и хоть было темно, я все же углядела, что постылый муженек болезненно морщится. Засадила прямо в рану кулаком, интересно, пошла кровь или нет.
– Пойдем.
– Куда?
– На берег.
– Зачем?
– С богами говорить.
Сивый задумал просить у богов знамения. Нынче же. Я пожала плечами, знамение так знамение. Шли улицами спящего города. Тихо кругом, нелюдимо. И море тихо, волны лениво колышутся, пенятся у самого берега. Зябко. Воздух прохладен и свеж. Я внимательно смотрела на Сивого. Пришли. Ну а дальше-то что?
– Пальцем тронешь – убью!
От холодного морского воздуха и сама заговорила холодно, будто слова на языке мерзли. И захотела бы, лучше не сказала. Общение с богами не терпит одежды. Боги выпускают в мир обнаженными, и закрываться от них тканью не годится. Мне придется обнажаться, но не этого ли хотела? Поскорее ступить на дорожку, которая приведет в Ратниковы палаты, где я сяду за воинским столом рядом с Грюем. А вои-мужи не обидятся. Я не опозорила славное оружие, от врагов не бегала и спину никому не показала. На меня ли сердится храбрецам?
– Сама отвернись. В сторону гляди. Спина к спине встанем.
Что такое? Или мне послышалось? Выходит, не одна я сторонюсь чужого взгляда? А почему Сивый на глаза не хочет показаться, ровно стыдливая дурнушка? Обычно бойкие да ладные парни так и норовят перед девками покрасоваться статью, этот как будто стыдится чего-то. Хотела Безрода осадить, а постылый муж саму осадил, чисто горячую кобылку. Мы встанем спина к спине, прошепчем каждый свое, и сольем наземь немного крови – подарок богам. Пытая небеса о доле, что еще дарить, кроме себя? Надеюсь, боги не отмолчатся, дадут нам свое знаменье. Где оно появится, в ту сторонку нам и топать, судьбу искать.
Мы отвернулись друг от друга, хотя какой он мне друг? Я сняла порты, скинула рубаху, бросила все перед собой и повела плечами. Безрод не соврал и хитрить не стал – встали спина к спине, плечами подпирались.
– Озябнешь. Прижмись крепче. Не съем.
Думала и сам холоден, как глаза. Нет, теплый, даже горячий, ровно печь. Не стала губы надувать, прижалась к Безроду спиной. Иная поднялась бы на дыбки, дескать, ненавижу, и пальцем нелюбимого не коснусь. В краску бы вошла, сорвала голос. А я нет. Спокойна и холодна, расчетлива и стервозна. Ненавижу без криков, с гаденькой улыбочкой и только единожды закричу, когда стану покидать белый свет. От боли буду кричать, горла не пожалею. На что мне оно потом?
Мы шептали каждый свое. Я шептала богам, как остобрыдла эта жизнь, как разошлись душа с телом – душа стала холодна и печальна, а тело живо и налито бабьими соками, как тянут они в разные стороны, а мне по пути с душой – на небо, в Ратниковы палаты! Просила дорожки потернистее. Муж постылый говорил тихо, но я как будто спиной все слышала, в каждой косточке отдавалось. Безрод бормотал, как нашел он ту, что безотчетно искал все эти годы, как хочется ему дома, пахнущего молоком, как устал, как хочется покоя. Это меня он нашел? Это я должна привести его к дому, пахнущему молоком? Неужели все это обо мне? Не хочу! Не хочу на молодых годах поднимать для Сивого дом, пахнущий молоком, не хочу на своей косе тащить нелюбимого в счастье, не хочу! Не хочу! Я только отчаяннее запросила богов о тернистой дорожке, которая забрала бы меня всю, до единой капли, чтобы Сивому даже понюхать меня не пришлось. И тут он замолчал, ножом разрезал запястье, обронил несколько капель наземь и через плечо протянул нож. Я лишь головой мотнула. Вот еще! Кровь мешать с ненавистным мужем!
– Сама уж как-нибудь.
Достала старого знакомца – серпяной скол, которым едва не отправила Сивого на небо, и разрезала руку. Отдала кровь богам и замерла – не явится ли знаменье по сторонам света. Я не дышала, Сивый – тоже, все глаза проглядели, высматривая заветный знак. Не услышала – спиной почувствовала глубокий вздох Безрода. Неужели есть?
На дальнокрае, справа от меня разгорелось малиновое зарево, несколько раз полыхнуло и сошло. Повернув голову, я жадно пожирала глазами отблеск небесного пожарища. Получилось так, что мы с Безродом глядели в одну сторону, отвернувшись друг от друга. Значит, идти нам тоже в одну сторону, каждому за своим. Он за домом, я за печальной долей. И тут – сама не ожидала – Сивый песню запел. Меня заволновало, будто лодку на волнах, все внутри затрепетало. Через кожу проняло, косточки затряслись, зазвенели, думала хребет рассыплется. Звонким, сочным голосом Безрод потянул благодарность богам, так же полновесно грохочет гром по весне:
Мне, Сивому, много ль надо?
Мне, битому, много ль нужно?
Была б душа моя рада,
Да с глоткою грянула дружно…
Я боялась шевельнуться. Как будто попала в самую середину бури, кругом воет и свистит, а сердце колотится так, словно вот-вот через горло выскочит. Хоть и зябко было, но с меня градом катился пот. А когда Сивый перестал петь, вокруг повисла такая тишина, что в ушах зазвенело. И сама спеть не дура и толк в этом знала, но Сивый перепел всех, чьи песни я когда-либо слышала. Закрыла глаза, и меня словно выкрали из этого мира – за спиной стоял мужчина, чьего лица не видела, чье тепло чувствовала спиной, и чей голос перетряхнул все внутри. Горячее тело и дивный голосище. Ах, если бы не открывать глаза…
– Все. Одевайся. Озябнешь.
Тихий, рокочущий голос вернул меня из грез. Я открыла глаза. Бледнеющее небо, черное море, белая пена у самых ног. Моя жизнь и наша дорога на востоке. И, кажется, впервые у меня с мужем появилось что-то общее, одно на двоих. Молча оделась, молча пошла за Сивым. Ишь ты, холодные глаза, горячая кровь и зычный, песенный голосище! Смотрела ему в спину и не могла отделаться от наваждения… так же горяч был Грюй, так же замирало внутри от его голоса. Тряхнула головой, прогоняя пустые грезы. Впереди шел всего-навсего сухой человек со страшным лицом и неровно стрижеными волосами.
А заполдень ко мне подсел Тычок и озорно толкнул локтем. Я не питала к старику неприязни. Ну, дед как дед, озорной, балагур, шутейник. Все казалось – если бы окружающие понимали все правильно, этот старый пройдоха до сих пор подкрадывался к девкам сзади и смеха ради задирал подолы.
– Куда наши стопы лягут? В какую сторону?
– А Сивый не рассказал?
– Одно и то же двое всегда по-разному рассказывают. Давай, давай зеленоглазая, не молчи.
И приготовился слушать. Даже локти на колени положил, щеки подпер.
Я усмехнулась.
– А лягут наши стопы на восток. Дорожка будет усыпана шипами, и станем идти вперед, пока боги не ткнут носом – тут!
Старик молчал, молчал, а потом брякнул ни к селу, ни к городу.
– А славные детки у вас пойдут! Глазки синие с прозеленью, а от млечного духа мне старому аж нос прошибет!
Кому нос, а меня пот прошиб от наглости Тычка! Вдохнуть забыла.
– Да ты не робей, вон даже в краску вошла. Пустое. И станешь за Безродом, как за каменной стеной. Цветами изойдешь, ровно яблонька по весне.
– Твоими бы устами да мед пить. – Усмехнулась.
Ну что мне со старого балагура взять?
Прошло время, и я окончательно встала на ноги. Затянулась рана на груди, налезла новая кожа, розовая, нежная, маленько отросли волосы. Даже косичку кой-какую заплела. И все так же заботила себя воинским делом, возвращала силу и оттачивала сноровку. Как-то вечером Гарька-коровища вышла по нужде, увидела мои старания, усмехнулась и прошла мимо. Однажды я и сама приметила краем глаза, как внимательно Сивый наблюдал за мной, стоя в заугольной темени. Ничего не сказал, только ухмыльнулся.
Безрод и сам не знал, на какой земле встанет его дом, знал только, куда стопы класть. Да еще знал, что боги не позволят нам сбиться с пути, не дадут сгинуть в безвестности. Всю последнюю седмицу перед нашим уходом, ворожея не отпускала Безрода от себя, чему я была несказанно удивлена. Хоть и стучала его пальцем по лбу, хоть и выговаривала что-то, едва не крича, я видела в глазах старухи смертную тоску. Как будто не кто-то чужой уходил, а родного сына провожала. Не знаю, что видел Сивый, но мне виделось это ясно. Безрод больше отмалчивался, глядел под ноги и лишь раз поднял голову. Долго смотрел на меня, метущую двор и усмехался. Обо мне говорили. Что бабка Ясна ему втолковывала? Может быть, советовала оставить бесплодные мечты ввести меня в дом хозяйкой? Хорошо бы Сивый это понял. Однако стоило поймать его пристальный взгляд, сама тут же поняла – зря надеюсь. Не отступится Безрод от своего, не отвернется. Ровно дороже меня нет никого под солнцем и луною, будто я осталась единственная баба на всем белом свете.
Я продолжила мести, и пока бабка Ясна что-то горячо ему доказывала, Сивый глядел на меня, не отводя глаз. Чуть не заморозил всю. Потом с досады плюнула под ноги, развернулась и ушла. Дело сделать не дает! Прилип глазами, ровно банный лист!
Долго ли мне, обездоленной в дальнюю дорогу собираться? Из рогожки, что нашла в чулане, сшила себе мешок, бросила туда две рубахи, порты, немудреный девичий скарб, туго затянула под горлышко и поставила в самый угол избы. Пусть ждет урочного времени. Оно не за горами. Безрод стал подыскивать на пристани попутную ладью, приволок во двор жертвенного бычка. От соседей, некогда обходивших двор ворожеи стороной, стало и вовсе не протолкнуться. Тычка провожали, приходили прощаться. Взял их егозливый дед за самую душу своими байками. Помню, однажды вся улица до колик в животе ухохатывалась, когда подвыпивший Тычок встал посереди дороги и орал похабные байки про то, что частенько случается между бабами и мужиками. Соседки краснели, плевались, закрывали окна и двери, а их мужья, ехидно посмеиваясь в усы, все подливали старику меду, и шептали что-то на ухо. Я знала, что шептали, и сама смеялась. Просили рассказать байку позабористее, чтобы жены от стыда сгорели. Тычок усмехнулся, воздел палец кверху и выдал такое… До сих пор бабы при виде Тычка краснеют и заикаются. А если балагур начнет при них словами: «А вот еще, помню, было…», начинают шипеть и грозят вырезать под самый корень его гадостный язык. И вот уходит от них дед Тычок.
Безрод нашел попутную ладью. Краем уха слышала, будто не хотел купчина-хозяин брать с собою баб, да Сивый отбрехался. Дескать, какие же это бабы? Рабыня да вой. Купчина почесал репу, подумал и все же ударили по рукам. Бабка Ясна пригорюнилась, стала сама не своя, Безрода на шаг от себя не отпускала. И вот тут я крепко призадумалась. Разве проведешь на мякине бабку-ворожею, которая в душу человеку глядит, все нутро насквозь видит? Неужели стала бы ворожея плакать, будь душа Сивого черней черного? Чего по злодею убиваться? Но тут же успокоила сама себя – вот постарею, стану умудрена годами, как бабка Ясна, тогда и буду глядеть человеку в душу. А пока в глаза гляжу и ох, как холодно мне становится!
Сивый сам колол жертвенного бычка. Внимательно глядела за ним во все глаза. Ведь ничегошеньки пока не знала о своем муже. Уж на что Тычок дольше всех нас с Безродом, но и тот знал немногим больше. А, между прочим, то, как человек ведет жертвоприношение, глазастому о многом расскажет. Воем был или охотником, мастеровым или еще кем-то. Глядела за мужем во все глаза. Безрод с одного удара в сердце повалил бычка, а я не упустила ни единого движения, все подметила. Не иначе, мой постылый долгое время знался с охотой, хотя найди такого, кто не знался бы. Но у этого нож просто летал.
Безрод встал над жертвенным животным и долго что-то шептал. Люди замерли Всякий перед дальней дорогой говорит с богами, каждый о своем. Кто легкого пути просит, а я выпрашивала потернистее. Наверное, боги изумились моим неразумным просьбам, поди, никогда не слышали, чтоб путники просили дороги потяжелее.
За этот последний день в Торжище Великом так устала, что едва приклонила голову на изголовье, мигом провалилась в сон. Сивый остался на ногах. Когда разошлись соседи, бабка Ясна усадила Безрода рядом с собою на крыльцо, и сколь долго они просидели, не знаю. Уже спала.
Ни свет, ни заря меня, лежебоку, осторожно потрясли за плечо. Я вскочила, будто при пожаре. Положила себе, дурище, подняться на ноги раньше всех, да куда там! В бане горела маслянка, а муженек стоял рядом, его рука лежала на моем плече. Не хотела, чтобы именно он разбудил меня, да, видно, судьбе не закажешь. В избе Ясна готовила что-то в печи на дорогу. Гарька, наверное, сотый раз перебирала свои нехитрые пожитки, оставалась невозмутима и спокойна. Тычок, спросонья мятый-перемятый, скреб загривок и поеживался. Что нам всем четверым собраться? Все нажитое поместится на одном плече. Подобрались, как по волшебству. Одно слово – Безродовичи.
Бабка Ясна вытащила из печи хлеб, румяный, круглобокий, ароматный. Глаза у старухи были на мокром месте, того и гляди, прорвет ворожею, заплачет. Но старуха лишь тверже сжимала губы. Крепилась. Плакать станет, когда уйдем. Не одну тоскливую ночь проревет в подушку.
Все, в дорогу. Мы вышли на крыльцо. Безрод на пороге осушил путеводную чару, и неожиданно улыбнулся нашей терпеливой хозяйке. Полез в мешок, достал чудесный платок, расписанный дивными птицами, и укрыл ярким разноцветьем плечи ворожеи. Бабка Ясна не сдержалась, протекла слезами, стояла и молча хлюпала носом. У меня самой в душе что-то трепыхнулось. Я крепко обняла старую и вытерла ворожее слезы новым платком. Эх, могла бы хоть как-то отдать бабке то тепло, которым одинокая ведунья окружила меня хворую! Но у меня ничего не было, кроме горячих слов.
Не оглядывались. И так знали, что старуха будет провожать взглядом, пока не скроемся из виду. Вроде и сгорела моя изба, но сейчас как будто из дома уходила. Видать, где тепло человеку, там и дом. Я усмехнулась. Какой очаг для меня затеплит Сивый, какой дом собирается выстроить? Как будет ломать мое нежелание? Чуяла – каменеет душа, жестчает. Когда гляделась в зерцало, подмечала – глаза становятся злей. Нельзя иначе. Свои напасти я должна встретить не улыбкой, а мечом и ножом. Ласковый глаз теперь ни к чему. Некому больше глазки строить, глядеть ласково и весело. Того, кто отправит меня в палаты Ратника, я встречу криком и крепким ударом, это все о чем прошу богов. Сивый оглянулся, как будто услышал мои тайные мысли, ухмыльнулся в бороду и дальше зашагал. Я отдарила жгучим взглядом в спину.
Вот и пристань. Вот и ладья, что понесет нас по тернистой дороге. А вот купчина, который не хотел брать меня и Гарьку. Маленький, круглый, словно колобок. Его и звали похоже – Круглок.
– Эти что ли? – махнул на нас.
– Да.
Круглок подошел к Гарьке, и наша коровушка презрительно усмехнулась. Не иначе у Безрода переняла. Даже усмехалась как он, правым уголком губ. Верно говорят, с кем поведешься от того и наберешься. А купчина подле Гарьки – как лесная птаха перед моречником. Растопчет моречник и не заметит. Круглок скривился, будто вместо меда хлебнул соленой воды.
– Сходни не обвали! – мрачно кивнул на ладью. – До тебя служили, и после послужат!
– Птахой вознесусь! – ехидно пообещала Гарька, и купчина попятился.
Хоть мы деньги заплатили, все равно лежебок на ладье не ждали. Взяли с собой только потому, что мы уже ходили по морю и знаем, с какой стороны браться за меч. По-иному, купчина лучше бы сам нанял троих воев, чем разжился дурными деньгами. Вышло, что на ладью нас провели мечи. Ничего необычного, в разуме купцу не откажешь. Я как будто знала, что придется грести, и стала готовиться загодя. Нашла крепкую жердь, примерно с Гарькину руку толщиной, до середины закопала в землю, чтобы торчала наискось и ломала, будто весло, пока не сломала. Много сил жердь забрала, но еще больше назад вернула.
Поначалу нас тащил только свежий ветер, но в открытом море сели за весла.
– А ну братья, поможем ветру! – зычно гаркнул кормщик.
– И сестры. – Буркнула Гарька, косясь на меня.
Ну, грести, так грести! Гребцов наш купчина подобрал себе одного к одному, ровно груздей в лукошке, мордастых, рукастых, здоровенных. Только глянула на них – едва со смеху не свалилась. А рожи-то у всех хитрющие! Махом позанимали все скамьи подальше от кормы, поближе к носу, чтобы мы с Гарькой сели прямиком под их жгучие глаза, да ездили задами по скамье на веслах. Наша коровушка лишь выругалась вполголоса, окатив гребцов таким холодным взглядом, что будь я тот гребец, поежилась бы. Я же молча пошла на корму. Но дорогу мне неожиданно преградил Сивый.
– Пусти.
– Не садись за весло.
– Я смогу. Гребла раньше.
– Пуп развяжется. – Ухмыльнулся. – Только-только на ноги встала. Нагребешься еще.
Не могла не признать очевидного и нехотя отступила. Безрод сел на скамью вместо меня, взял весло в руки и весело переглянулся с Гарькой. Этой точно ладейное весло в тягость не станет.
– Раз, два, три! – кормщик отбил меру, и весла дружно нырнули в воду.
Я думала Сивый скоро устанет, сдастся, ведь не заметила его за тем, чтобы он после ранения силу себе возвращал. Не плавал, мешки с песком не таскал, с дубовым чурбаном не боролся. Но солнце вошло в полдень, а он все еще греб наравне с остальными. Все гребли, кроме купчины, меня, да Тычка. Я и раньше ходила на ладьях, правда не часто, и ничего диковинного для себя не нашла.
Середину дня шли под ветром, а к вечеру опять за весла взялись. Муж постылый и теперь не пустил меня к веслу, и опять я села на носу с Тычком. От нечего делать внимательно следила за гребцами. Неплохо гребли, но видала греблю и получше. Еще не спаялись в одно весло, видать, не слишком давно ходят вместе. Особенно старался здоровенный детина с рожей плоской, точно блин. Все норовил на меня оглянуться, да глазом облапить. Едва свою бычью шеяку не свернул. А все равно красивее остальных греб Сивый. Никогда бы не подумала.
До большой земли на востоке ходу нам было три полных дня, один день, почитай, уже долой. А на вечерней заре над нами пролетел здоровенный моречник, дал круг над ладьей и улетел дальше на восток, огромные крылья только хлопнули в воздухе. Безрод обернулся, нашел меня глазами и с потайным смыслом, известным только нам двоим, ухмыльнулся. Темнело. Сумерки затирали очертания предметов и людей, я плохо различала лица, но даже в скупом свете умирающей зари видела, как осунулся Безрод. За день щеки ввалились, глаза потухли, плечи обвисли. Его даже слегка перекосило, как раз на тот бок, который я разорвала серпяным сколом. Не удержалась от злорадной улыбки. Дорого обхожусь. Ласковой и милой была только для мамы, отца да сестер. И еще для Грюя. Нелюбимого мужа вон как из-за меня скривило.
На пути от Торжища Великого к большой земле боги рассыпали цепочку островов на расстоянии дневного перехода друг от друга. За день пути мы часто встречали другие ладьи, которые шли с больших земель на востоке в большие земли на западе. Едва впередсмотрящий замечал парус на дальнокрае, гребцы тут же хватали весла, если до того шли только под парусом. И со вздохом облегчения мы провожали такие же купеческие ладьи, как наша. Там тоже хватались за мечи и напряженно ждали у бортов, что станется? Один раз мы ушли, едва чужая ладья, завидев нас, тут же развернулась вослед. Боги оказались милостивы, и ввечеру целые и невредимые высадились на островок заночевать. Я ничего не делала целый день, но спать почему-то хотела сильнее остальных, тех, что гребли, не разгибая спины. Правду говорили – на ничегонеделанье все время уходит, устаешь, как будто работала, не покладая рук.
Все гребцы высадились на остров за исключением стражи – нескольких воев, которым купец по-настоящему доверял. Они остались на ладье стеречь добро. Парни обошли все островное побережье, не пристал ли еще кто, и со спокойной совестью повалились вокруг костров. Мы четверо встали особняком, и едва я коснулась головой мешка, провалилась в сон.
Сон видела странный, впрочем, сказать видела – половины не сказать. Больше слышала, чем видела. Будто разговаривали двое, разговаривали громко, один грубым, ревущим голосом, второй рокочущим, свистящим шепотком. Ругались в моем сне из-за какой-то девки. Грубый голос ревел, что девка ему понравилась, и, дескать, этого достаточно, шепот холодно рокотал, что никто и пальцем девки не коснется. Грубый голос промычал что-то нечленораздельное, и во сне началась безобразная свара. Драка постепенно удалялась и вскоре стихла.
Утром, проснувшись, еще слышала в голове обрывки разговора. Подумала тогда, приснится же такое. Оглянулась. Люди только-только просыпались, но Безрода на месте не оказалось. Вместе мы не спали, я вообще ни разу не видела его спящим. Вот и теперь, повертев головой, не увидела страхолюда на месте, с самого краю, возле Тычка. Он выходил из-за скалы и о чем-то говорил с нашим купчиной, а лицо торговца своей серостью и предгрозовой мрачностью походило на сизое рассветное небо. Не замечая нас, купчина прошел к своим людям и пинками растолкал всех.
– На ладью, братья, на ладью! – проревел Круглок зычным голосом.
Гребцы, ежась, поднимались, топали к морю и мало не c головой лезли в воду, дабы проснуться. Перехватив по куску мяса, разогретого на огне, поднимались на ладью. Все шли сами, а давешнего ражего здоровяка отчего-то поддерживали двое. Сам еле ноги переставлял. А лицо его стало как будто площе и краснее. Кто-то от всей души приложился ладошкой или того пуще кулаком. И как-то странно – единственным открытым глазом ражий с ненавистью смотрел в нашу сторону.
Сзади меня подтолкнула Гарька.
– Не ссадил бы наземь купчина. Лишь бы вожжа под хвост не попала.
Я не поняла ровным счетом ничего.
– Ты о чем?
Гарька глядела на меня, прищурив глаза, и вид у нее был донельзя хитрющий. Отчего-то она напомнила мне говорящую корову, необъятную в груди и крупе.
– Так и должна баба замуж ходить. Чтобы ни сном, ни духом. Чтобы миновали неприятности, да все о мужа разбивались.
Ой, что-то не понять нынче Гарьку. Говорит мудрено, глядит непонятно. И если бы только она одна! А тот непонятный, полный ненависти взгляд ражего детины с плоским лицом, который все косился на меня давеча? С ним-то что стряслось? Неужели перепил ввечеру, а потом земля поднялась и приголубила камнями прямо по лицу? Плюнула я под ноги, метнула на Гарьку раздраженный взгляд и зашагала на ладью. Меня всегда раздражение берет, когда чего-то не понимаю. И уже было вышла из-за скалы на открытое, как услышала чей-то гневный говор. Опустила ногу и в растерянности замерла.
– …прежде всего, она баба! – горячился кто-то, и в этом ком-то я узнала нашего купчину.
Ой, дура я! Пошла на ладью окружным путем, через скалы, думала свои бабьи дела справить, и вот справила.
– В то, что она умеет грести, парни на слово не поверят, полезут проверять! А вдруг получится?
Что получится? Что? Мне стало неловко – стою тут как заугольная тихушница – и, наливаясь краской праведного гнева, вышагнула из-за скалы.
Против купчины стоял Сивый и, наверное, ухмылялся. Я знала эту ухмылку. Холодную и многозначительную, упрямую и жесткую. Безрод не замечал, что они теперь не одни, благо вышла на открытое пространство за его спиной.
– Верна – мой человек. – Прошелестел Сивый, и меня окатило холодной испариной. Как раз эти слова я слышала в недавнем сне! И не этим ли свистящим шепотком они были произнесены?
– Да к тому же баба! – не унимался Круглок. Глядел на меня и едва не кривился от злости. Прости-прощай спокойный переход.
– Да к тому же мужняя жена. – Готова была тут же распроститься с жизнью, если Сивый не кривится правым уголком губ.
– Еще два дня! – проскрипел зубами купчина.
Ох, как не хотелось ему теперь держать нас на ладье, но еще менее хотелось возвращать дармовые деньги и уж тем более недосчитаться трех пар сильных рук из-за пустяка. Плюнул с досады под ноги и ушел на ладью. И тут Сивый, повернувшись, углядел меня.
– Что было ночью? – голос мой дрожал. О боги, кто же просил тебя, постылый муж, беречь меня? Кто?
Безрод долго молчал, отвернувшись к дальнокраю.
– Ласки захотелось одному дурню, тобою возгорелся.
– Без тебя управилась бы! – прошипела сквозь зубы.
Силой ражий меня не взял бы, но отчаянной злобой мог и убить. И пировала бы я нынче в Ратниковых палатах. Хотя и то вряд ли. Покалечить – покалечил бы, но убить…
Сивый только плечами пожал. Наверное, в одежду того ражего детины можно было запихнуть двоих Безродов, и еще место осталось бы. Кто же ты Сивый, кто? Ведь ничегошеньки о тебе не знаю! Пояса не носишь, значит, не вой, но если не вой, отчего при тебе меч? И еще. Чем больше гляжусь в синие глаза, тем сильнее кажется, будто уже с ними где-то встречалась. Не могла припомнить, где встречалась, но одно знала точно – мне не принесли радости эти глаза. И не принесут.
На ладье все выглядывала ражего дурака и нашла того сидящим на носу. Не удержалась от злорадной ухмылки. Нос детины был свернут набок, глаза заплыли, и я многое дала бы за то, чтобы подглядеть тот удар. Случайность, решила тогда, ведь сама слыхала, как парни, свободные от стражи, собирались побаловаться хмельком. А много ли сноровки требуется, чтобы совладать с хмельным? Дунь – рассыплется. А Сивый все так же греб, только сидел теперь на месте ражего. Я села за его весло, рядом с Гарькой. Не до прочего нынче стало. Нужно выгребать побыстрее. Не ровен час наткнемся на лихих людей. Гребла, а спину мне колол холодный мужнин взгляд.
Будто сглазила. Заполдень родило море на дальнокрае ладью под парусом. Купчина, едва углядел тот корабль, так и полыхнул на меня глазами, дескать, несчастье принесла. Я отдарила взглядом не слабее. Судьбу даже на хромой козе не объедешь, понял, толстопузый? Неужели на прочих ладьях, что спокон веку гибли под натиском полуночных граппров, всякий раз оказывалась баба? Не уйти нам от полуночников. Это понял даже ражий детина, глядящий на мир вприщурку, и потащил из ножен меч. Мы трудили плечи, не разгибая спины, однако небеса будто бросали в паруса оттниров ветерок посильнее. Как если бы конюх прикармливал любимца сенцом посытнее, оставляя остальным лошадям сено поплоше.
Синий парус с узкими, продольными, белыми полосами тащил полуночный граппр прямо за нами. Прямо на нас. Сивый признал в них окелюндов, и я против воли изумленно уставилась на постылого мужа. Надо же, какие познания!
Быть рубке! Я, наверное, была единственной, кто вознес богам благодарность за эту встречу. Правда, сквозь зубы. Не хотела бесславно кончить свои дни на морском дне, брошенная в волны разъяренными парнями за злорадство. Надеялась дожить до сечи и с криком ярости отдать Ратнику свою несчастную душу, отобрав при этом парочку чужих. Будем биться!
Круглок мрачно приказал сушить весла. Пусть ладью тащит ветер, а сила рук нам еще ой как понадобится! Вои вставали со скамей и мрачно разбирали мечи. Мы уже слышали звон окелюндских клинков, их боевой рев, видели оттниров на бортах граппра в рогатых шлемах. Они поприветствуют нас крючьями на веревках, и станет сеча. Я прошла на корму. Бывала разок в ладейной схватке. В первой же схватке меня зажали на носу, однако на том же носу я и выжила. С тех пор полагаю для себя нос ладьи обережным местом, но теперь беречься не буду. Обнажила меч. Сейчас швырнут крючья, сцепят ладьи и начнется. Здравствуй, Ратник!
Полетели крючья. Круглок рявкнул, чтоб не рубили веревки. Драки все равно не избежать, так уж поскорее бы. Я молча кивнула. А он не из трусливых, наш толстенький купчина. Из любых рук выскользнет, круглобокий, словно колобок.
Сорвала горло с первым же ударом, которым разнесла голову окелюнда вместе с рогатым шлемом. Сама не ожидала, что стала настолько быстра. Думала о себе гораздо хуже. Оттниры хлынули на нашу ладью, как муравьи, и перед глазами зарябило от мелькающих мечей и секир. Окелюнды показались мне очень сильными, злыми и голодными до воинских удач после зимы. Их воевода мгновение озирался в поисках достойного противника, и я сама не поняла почему, бросился на… Безрода. Что стало дальше, уже не видела. Не жалея тела, пласталась меж мечами, била, рубила, секла. Меня рубили, били, секли. Не береглась. Подставляла грудь под мечи, но… Костлявая обходила меня стороной, точно не замечала. Одного, худощавого, я просто снесла грудью наземь и на тесовых досках зарезала. Второй мало не рассек меня пополам, но отчего-то замешкался, и мне как раз хватило того мгновения. Рассекла, как и вставала на ноги – снизу вверх, от бедра до самой шеи. И долго терла глаза. Брызнувшая кровь мгновенно залила лицо. Я, почитай, ослепла. Злая кровь так скоро бежала по жилам оттнира, что выпущенная на волю, оказалась проворнее меня. И пока я отирала лицо, да ревела, будто резаная корова, вокруг только свист стоял, и люди падали. И когда все же продрала глаза, кроме моих поверженных кто-то навалил еще столько же. Кто стал для меня живым оберегом и берег пуще глаза? Но не время было оглядываться. Удача повернулась лицом в нашу сторону. Хоть превосходили оттниры числом, хоть и были злее, а побили их мы. Да и нас порубили безжалостно. Едва четверть на ногах осталась. И вдруг я осела наземь, прямо в лужу крови. Разом силы оставили. Все отдала, даже на ногах устоять не получилось. Поплыло перед глазами. Не иначе мечом достали. Достали…
Не достали. Ничего серьезного. Так, мелкие, случайные порезы. Крови много, а толку мало. Я лежала на носу вместе с другими раненными. Нас осталось меньше, чем представлялось. И четверти не насчитаешь от вчерашнего. Хоть и болела голова, а все же удивилась. Мы были обречены. На ладье не было никого, кто не знал бы этого до сечи. Одного только не знали, сень богов нас прикрыла, или чем-то удаче приглянулись? Как бы там ни вышло, покромсали дружину вдвое злее и на треть больше. Что хочешь, то и думай. Здоровые предали павших воде, перетянули раненных, добили оттниров и пристегнули граппр за собой. У всех боль в глазах перебивало удивление. Ровно тени бродили по палубе и натыкались друг на друга изумленными взглядами. И только Сивый ходил спокойный, холодный, по обыкновению ухмылялся. Струйка крови змеилась по его лицу, по виску мимо глаза в бороду.
Перевязать меня Безрод не дал никому. Чтобы не мешала, легонько придавил коленом и ловко совлек кольчугу, и хоть шипела я чисто змея, он и бровью не повел. Впрочем, одним шипением дело не обошлось, зубы у меня, ох, какие острые! А когда изловчилась и плотно прихватила клыками дубленую Безродову шкуру, он перестал ухмыляться и замер, будто окаменел. Как перепуганная гадюка, остервенело грызла живую плоть, а Сивый холодно смотрел на меня и наливался грозовой серостью. Я насквозь прокусила руку постылого и вдоволь напилась его крови. Еще не прошла моя злость, а тело порывалось рубить, сечь, рвать. Я и рвала. Знаю, было очень больно, Сивый даже не дышал, под левым глазом задергалась жилка и все же не отдернул руку, словно от кусачей собачонки. О боги, как я не хотела принимать от ненавистного мужа даже гнилой тряпки! Будто сведенная с ума недавним смертоубийственным побоищем, терзала руку, несшую облегчение и захлебывалась кровью. Безрод холодно смотрел сверху вниз, в серых глазах скупо блестели злые непрошеные слезы, а под левым глазом бешено стучал живчик.
– Уйди! – хрипела я и булькала.
Если бы меня вот так рвали, сама не знаю, что сделала. Наверное, вцепилась бы во вражье горло. А Сивый только наклонился и прошипел:
– Дура! Лишу памяти, а раны все равно перевяжу!
Памяти лишит? Я опешила. Бить меня до беспамятства, чтобы меня же перевязать? Никогда про такое не слыхала. Могла бы – заскрипела зубами. Но не могла. Разжала зубы и отпрянула. Если бы постылый муженек огрел по уху за кровавые шутки, я бы не удивилась. Самой полегчало бы.
– Дура! Кровищей перемазалась! – глухо буркнул Безрод и одним рывком распустил мою рубаху на две половины.
Не достали, кольчуга не пустила, просто ушибли. Сивый бережно перетянул плечо и грудь, по живому слатал на мне рубаху, прикрыл верховкой и напоил крепким медом. Я поплыла, перед глазами подернулось разноцветным маревом, и последнее что подумала, проваливаясь в сон: перемазалась кровью, ровно чумичка!
Глава 18 Преследователи
Я вспоминала Безрода в сече и не могла припомнить. Что делал? Как сражался и сражался ли вообще? Голову сломала, однако ничего не смогла вспомнить. Перед глазами стоял наш купчина, что рубился, будто цепной пес. Перед глазами стояли маленькие куски одной большой схватки, но куска с Сивым, хоть убей, не было. Я видела в бою Гарьку. Здорова, коровища! Умения мало, зато много силы и везения. Многих теперешних соратников видела в сече краем глаза, но даже тени Безрода не заметила. Для меня, полоумной от злобы, ясные и понятные вещи, словно туманом подернуло. Сама себя накручивала, дескать, в сече последний, зато перевязывать первый! Но почему-то парни, выжившие в схватке, слушались моего мужа беспрекословно, и даже порубленный Круглок и тот молчаливо кивал. Говорить не мог – задело шею.
Гарьке досталось не меньше моего, однако наша коровушка встала на день раньше меня. Еще бы! С такой-то телесной мощью… И только Тычку было худо непонятно отчего. Сначала грешила на раны, а потом поняла – не в них дело. Не от ран стало Тычку худо. Крови на старике не видала, но Безрод положил нашего балагура отдельно от остальных, как будто недомогание раненных могло перекинуться на старика, ровно заразная хворь.
Так и плыли до конца дня на одном ветре. Еще один встречный граппр, и нас можно брать тепленькими, голыми руками. Но я ждала этот граппр. Нашла бы в себе достаточно сил встать, зарубить одного оттнира и в ответ получить пяток мечей в бока. Но душа моя точно раздвоилась. Я не хотела смерти остальным и призывала ее только себе. Но как Безносая различит, кого брать, если начнет косить сплеча? Я не знала и ела себя поедом.
Ввечеру, когда пристали к острову, Сивый взял несколько ходячих и с ними обошел берег в обе стороны. Никого. Потом по сходням перенесли раненных на землю. Наше счастье, что остров оказался пуст, ни единой живой души. Распалили костры, Сивый добыл дичь, и скоро парни млели от тепла снаружи и внутри. А глубокой ночью от страшной раны в живот умер тот ражий детина с плоским лицом, который давеча разбил нос «о камни». Не смогли помочь. Сивый сам сложил погребальный костер и запалить его поднес на руках купчину. Плохо видела в темноте, но в отблесках погребального костра углядела две мокрые дорожки под глазами Круглока. Все в один миг навалилось – боль от ран, боль от утраты: ведь лишь для меня ражий детина запомнился как похотливый малый, а для купчины он остался товарищем и соратником. Наверное, не один раз вместе отбились от чужих ладей. Видала ражего в бою. Огонь! И вот нет его. Я уже попривыкла терять друзей и товарищей, с которыми еще вчера билась бок о бок. Уже не так саднило в душе, как в первый год, хотя долго ли сама воюю? А все же привыкла. И чего мамкину дочку понесло в отцовскую дружину? Об этом отдельный сказ, и все же… дура я! Не полезла бы в дружину, сидела бы дома, с детьми нянчилась… Хотя нет. Не нянчилась бы. Люди Крайра никого не пощадили. Даже к лучшему, что не вышла замуж. Сама себе обещала оставить меч после замужества. Ага, оставила!
Руки Безрода пришлись прямо на раны, Круглок даже губу закусил, чтобы не застонать. Дрожащей рукой запалил погребальный костер, а Сивый так и держал купчину на руках. Я тоже пыталась подняться на ноги, да не смогла. Рядом возилась и вздыхала Гарька. Наверное, тоже хотела встать.
В ночи, когда догорал погребальный огонь, ко мне подсел Сивый и без суеты, не пряча рук, распустил на груди рубаху, осторожно размотал старые повязки и наложил новые. Я не питала к нему теплых чувств, не видела его в бою, но мой постылый не присел с вечера, и не отдать ему должное было бы свинством. Помогла Сивому тем, что не сопротивлялась.
– Болит?
– Нет.
Не врала. Болело и впрямь не очень. Настолько не очень, что с легкой душой немного поспала бы. Сивый понял, что и слова из меня больше не вытянет, молча встал и ушел к Гарьке. Перевязал и ее, правда, наша коровушка, не в пример мне-колючке, с большей теплотой встретила руки, несшие облегчение. Попросила помочь встать, отвести до лесочка. Встали и пошли, и я удивилась тому, что Безрод не гнется в колесо, – ведь Гарька почти висела на нем.
К ночи я и сама встала. Еще вечером хотелось до лесочка, но не Безрода же просить! Я не Гарька, а он ей не постылый муж. Только перевалилась набок, глядь – а возле меня рогатка лежит, чтобы ковылять было сподручнее. Сивый позаботился, подложил под бочок. Усмехнулась и взяла палку в руки. Всячески старается облегчить мою долю. Ишь, ты, предусмотрительный!
Ковыляла до лесочка долго, сама не ожидала, как долго. И не в ранах дело. С моими царапками боец простоит еще такую же сечу, и даже две. Видать, силы отдавала не жалея, даже ходить не осталось. Уже почти доковыляла до места, как приметила свет костерка, бьющий из-за ветвей. Мигом подобралась и пошла вперед медленно, ступала осторожно, рогатку втыкала в землю бережно. Вот и заросли, а подо мною даже сучок не хрустнул, травинка не зазвенела. Горит костерок, перед ним человек. Вгляделась. Кто такой? Неужели чужих проморгали? И тут человек повернулся ко мне в пол-оборота, а я беззвучно ойкнула. Раскрыла рот и забыла закрыть. Перед костром сидел Безрод и сам себя перетягивал. Кровь проступала через ткань, но постылый муженек, не обращая внимания на такую мелочь, ловко перетянул раненый бок. Закончил, одернул рубаху, закрыл глаза и что-то зашептал. Я даже глаза прищурила, так не поверила тому, что видела. Неужели и Сивому в драке досталось? Но когда, и где? И неужели Безрод все же знает заговорное слово? Подозревала это, но теперь почти убедилась. По пальцам сосчитала бы воев, которым было ведомо заговорное слово, и то, пальцев одной руки стало бы много. Из них двое были ворожцы-бойцы.
На короткое мгновение Сивый как будто раздвоился перед моими глазами. Тот, которого знала, без следа уходил в туманную дымку забвения, становился бледнее и тоньше, а, второй, что остался, на глазах раздавался вверх, вширь, – и до боли делался похож на Грюя… Замотала головой, прогоняя видение, меня повело, я потеряла равновесие и сквозь еловые лапы провалилась на поляну к Сивому.
Постылый муж резко дернулся вбок, взвился на ноги, развернулся в мою сторону и выпростал руки вперед. Я только моргала, не говоря ни слова, и, наверное, моргала глупо. Сивый стоял лицом ко мне, слегка присев, пригнувшись и втянув голову в плечи. Ой, мамочка, эту боевую стойку я уже видела! Мне показал ее старый, пришлый боец, который жил у нас несколько лет назад. Из каких краев родом, откуда пришел – ничего этого мы не знали. Знали только, что всю жизнь сражался, а хорошо ли сражался – и говорить не стал. И так ясно было. До седых волос дожил, собственные морщины в зерцале увидал. Он не передавал мне и моим соратникам свое воинское уменье, отличное от нашего – говорил, дескать, в каком болоте кулик родился, ту водицу ему и хлебать. Но я все равно подглядела, как бьется пришелец. Вздумалось как-то старейшему вою отцовой дружины, такому же седому, кровь разогнать. Дурь в голову ударила, и пошли два седовласых сорванца на берег считать друг другу кости. Мальчишечье взыграло, – дескать, моя песочница, уходи, откуда пришел. Чужак недолго отнекивался. Обоим тогда перепало, но, по моему разумению, нашему досталось гораздо больше. И вот второй раз вижу такую стойку. Из дружинного воинский навык ничем не выбьешь, – сам не узнаешь, когда наружу вылезет. Любой мало-мальски глазастый угадает в человеке бойца. Это проще, чем репу распарить. Сивый узнал меня и устало опустился наземь.
– Чего надо? Не спится?
Даже теперь не спросил, почему караулю, будто вражину. А я глядела на Безрода, и все мне становилось ясно, кроме одного. Ну, хорошо, муж постылый, готова признать в тебе воя, хоть и бродишь беспояс. Признаю, что собой занялся в последнюю очередь, лишь после того, как помог остальным. Хорошо, что боевой навык так и прет наружу, но где ты был в сече, если я не видела?
– Давай перетяну, что ли? – знала, что скажет. Просто так спросила, от глупости.
– Сама на ногах не стоишь, – мрачно буркнул Сивый. Отчего-то ему было неловко. – Отойду подальше, делай, что хотела.
Безрод ушел куда-то вперед, а я, как дура, осталась лежать на еловых ветках. И чувствовала себя, будто непрошеный гость. Моя рогатина лежала рядом – протяни руку и хватай, но я отчего-то медлила. Спать захотелось. Так и осталась бы на мягких еловых лапах, так и дрыхла бы до утра, и вместе со мною как будто засыпали злость, ненависть и жажда Безродовой крови. Умиротворились в душе, ровно малые дети, аж сама улыбнулась. Но будет утро, будет новый день, и они проснутся. А пока пусть спят…
Назад Сивый не дал мне ступить и шагу. Молча подхватил на руки и понес. Знаю, тяжела я, когда в соку, знаю, тяжко ему было, глядела на Безрода и злорадно ухмылялась. Мой постылый равнодушно отвернулся, и я видела только неровно стриженый висок. Наверное, не хотел лишний раз лицо показывать. Зачем пугать меня еще больше? Поди, надеется на что-то. Не знает, сердешный, что ищу острого меча, ровно девки приворотную траву в самую короткую ночь лета.
Спала этой ночью хорошо, чего сама от себя, признаться, не ждала. За день умаялась, нарубилась, навоевалась по самое некуда. А когда проснулась на заре, первое, что увидала – синие холодные глаза, глядящие на меня вдумчиво, с интересом. Промелькнуло в них что-то еще, но Сивый не дал мне этого разглядеть. Отвернулся. Гарька-коровушка поднялась раньше меня и уже ковыляла вокруг костра. Такую не вдруг и свалишь.
Мы остались на острове. Сколь долго простоим – спрашивать у раненых. Иным стало значительно лучше, и не знаю, скольких еще мы не досчитались бы, не окажись рядом Безрода. Еще вчера, как сошли на землю, Сивый добыл косулю, велел запалить костры поярче и долго глядел оленихе в глаза. Уж чего искал – не знаю, может быть, хворь звериную, потом кивнул и распотрошил. Мясо на вертелы отдал, а сырыми оленьими жилами стал воев сшивать. Сшивал, да наговоры бормотал. Хоть и не было ветра в ту ночь, а все равно костер Безрода горел ярче и ровнее, будто и впрямь услышали его боги. А мои зашитые соратнички тихонько засыпали и больше не знали зла.
Уж не знаю, спал ли нелюбимый муж сам, а только каждому свое. Кто в бою берегся – тому подле раненных не спать. Безрода в бою не видела, а та рана в боку могла быть просто случайностью. Все справедливо. Так и буркнула себе под нос утром:
– Каждому свое!
Гарька взглянула на меня, ничего не поняла и отвернулась.
Больше никто не умер. Все дальше от кромки отодвигался наш порубленный люд. Я делала, что могла, перетягивала раны, поила, кормила, а тяжело раненых Сивый уносил в лес, подальше от наших глаз, и что там происходило, за еловыми лапами, никто не знал. А только приносил их оттуда Безрод чуть более румяных, чуть более живых. И сам возвращался. Чуть более худой, чуть более уставший, чуть более неживой.
Меня перетягивал сам, никому не доверял. Даже Гарьке. Как же! Такое сокровище! А вот выскользну из рук, да прямиком в Ратниковы палаты, и хоть стискивай пальцы – ускользающую жизнь в руке не удержишь. Утеку меж пальцев, будто вода.
Безрода хватило на три дня. Чтобы спать урывками, и даже не спать, а дремать, подлечивая раненых. На четвертый день мой муженек тихонько сник возле костра, да так тихо, что никто и не заметил. Вроде на мгновение присел отдохнуть, да так и повалился набок. За высоким пламенем костра не сразу углядела. И лишь когда пламя костра прогорело до костерка, усмотрела, что немилый свернулся на земле и подтянул колени к груди.
Так не спят, – уткнувшись головой в грудь и спрятав руки на животе. Так корчатся от сильных болей. Так сводит руки-ноги, когда усталость не отпускает даже во сне, и, кажется, будто все еще стоишь. Я оглянулась. Все спали, кроме меня и Гарьки. Только мы бодрствовали, остальные лежали в лежку. Нашла глазами коровушку, та под руку вела кого-то из порубленных в лесок, – по нужде ему приспичило. Так и вышло, что заниматься Безродом именно мне. Опустилась рядом с ним на колени. Поедом себя ела, накручивала, – дескать, что это такое, на колени падаю пред страхолюдом, вместо того, чтобы спиной повернуться да уйти. И не просто не отвернусь, а и голову на колени возьму. В мыслях просила у Грюя прощения. Никогда не думала, что еще чью-то голову, кроме милого, положу себе на колени. А вот кладу. Приподняла сивую голову с земли и отерла со лба холодный пот. Безрод лишь крепче губы поджал. Хотела было совлечь багровую рубаху да перетянуть рану, и даже подол ухватила. Но и только. Уж не знаю, какие силы выдернули Безрода из глубин беспробудного сна, откуда надломленным да смертельно усталым так просто не выбраться. Едва рубаха поползла вверх, Сивый открыл глаза. Глубоко вздохнул, уставился на меня бессмысленным взором и, стиснув зубы, прошептал:
– Что?
Так же стиснув зубы, тем же свистящим шепотом я ответила:
– Перетянуть хочу. Подохнуть не даю. Хотя, по мне, уж лучше бы…
Сивый ухватил подол рубахи и одернул вниз. Глаза едва держал открытыми, а ты гляди, как в рубаху вцепился!
– Не помру. Руки прочь от рубахи. Или дел других нет?
А говорил-то как! На каждое слово собирался, как на битву, только бы сознание не упустить. Я опешила. Боги, что происходит? Для чего Сивый взял меня в жены? Мне казалось, люди женятся для того, чтобы одно ложе делить на двоих. Мужья жаждут видеть жен без одежек, и сами рады вверить ласковым женским рукам свое тело. О нет, вовсе не сожалею, что все идет не по канону, но в кои веки кто-то переплюнул меня в неприступности. Раскрыв рот, не отводила от Безрода растерянного взгляда и, кажется, впервые взглянула на мужа ничего не понимающими глазами. До того казалось, будто все вижу насквозь, понимаю каждое движение черной души. Казалось бы, сама несу телу облегчение и ласку, а, – поди ж ты, не берет.
– Чего уставилась? – Безрод засыпал, глаза еле-еле держал открытыми, а все равно ухмылялся. – Дожил, наконец. Теперь сама с меня глаз не сводишь. Нравлюсь?
Все. Спал наглец, но подол рубахи зажал в руке намертво. И даже не спал, а забылся сном бессилия. Но даже в забытьи шептал:
– Рубаху не тронь! Не тронь!
Да почему не тронь? Неужели тело у Безрода красоты неописуемой, – боится, что полезу сильничать? Думает, на передок слаба, не удержусь? И даже если не удержусь, не для того ли боги поделили род людской на мужчин и женщин и послали в мир красоту, дабы находили жены мужей, а мужи красивейших жен? Не этого ли хотел Сивый, когда замуж брал? Тупо глядела на спящего, держала его голову на коленях, – и не узнавала себя. Моя израненная душа перестала плакать кровью, подняла голову и впервые после порабощения взглянула на этот мир с любопытством. Я сама себе призналась, что нутро немилого мужа для меня совершенно непроглядно. Как понимать слова Сивого? Я для него настолько нехороша, что и прикоснуться к себе не дает? Как ножом по сердцу резанули обида и злость. Мне Сивый не нужен, но неужели кто-то в здравой памяти отшатнулся бы от меня, как от болезной? Что прячет на теле Сивый, – может быть, какой-то родовой знак? Неужели печать самого Злобога?
Я осторожно убрала голову Безрода с колен, встала и ухаживала за ранеными до собственного изнеможения. Делала то, что делал Сивый. Вышло, что мы занимались одним делом, как это часто бывает у мужей и жен. Сама не поняла, как так получилось, однако получилось. Спала без снов, и пока спала, недоумение и злость не давали покоя. Почему? Как от прокаженной! Неужели побрезговал?
Оставались на острове две седмицы. Слава богам, к нашему берегу больше никто не пристал. Соратники отлежались, начали ходить, и все это время с мрачным выражением на исхудавшем лице от них не отходил Безрод. Ко мне подходили парни, вставшие на ноги, кланялись. Благодарили за мужа, отдавали мне должное – в бою видели. Я мрачно кивала. А Круглок, наш предводитель, странные слова сказал. Будто рад тому, что Сивый на ладье оказался. Мол, такой боец в любой дружине лишним не будет.
Да что, в конце концов, творится вокруг меня? Что такого видели все, и только я, дура, ни сном, ни духом? Как разъяренная волчица подлетела к спящему Безроду, хотела растолкать, взять за грудки да хорошенько расспросить. Мой постылый сам взвился на ноги, едва услыхал мой топот. Быстрее быстрого в руке сверкнул меч. Ну, откуда на острове взяться топоту да грохоту, если кругом все от немочи тихонько с рогатками ковыляют? Сивый не рассуждал, спросонья подумал, будто враг подкрался. А это я, дурища, оказалась. Всего несколько раз такое видела, когда спросонья – сразу за меч, да скорее молнии врага надвое. Безрод и проморгаться не успел бы, как быть мне, топотливой корове, разваленной надвое! Уж и не знаю, как догадался, что это я, а не чужаки.
– Чего носишься, точно угорелая? Лишних сил много?
Не кричал, слюной не брызгал, сунул меч в ножны и устало потер лицо. Я кривила губы, клацала зубами и надвигалась, ровно холм на мышь. Сивый глядел на меня исподлобья и ни шагу назад не сдал. Злая, как бешеная сука, подступила к благоверному, взяла за грудки и зашипела прямо в лицо.
– Что ты, мой ненаглядный муженек, в сече делал? Откуда рана на боку? Что знают все остальные, и только я, дура, не ведаю?
Безрод мгновение смотрел мне в глаза, потом резко пропустил голову под правой рукой и дернул шеей, словно отбросил чуб, лезущий на глаза. Меня неудержимо повело влево, ворот съехал Сивому на загривок, и, чтобы не распустить мужу рубаху, я разжала пальцы. Только мои пятки засверкали. Едва не падая, пробежала несколько шагов и быстро повернулась, готовая драться, кусать, грызть. Но Сивый уже уходил, плечами поправляя рубаху. Я опустила руки. Все поняла. Ни мне, ни кому-то еще Безрод не даст таскать себя за грудки. Никому. Не знала, что поднимает голову в душе, но стало так жарко, – думала, пар от меня валит. Щеки запылали, грудь заходила.
Глядела ему вослед и сама себе удивлялась. Мое равнодушие к жизни на чужбине без отца и матери, без сестер, без Грюя – таяло, как снег на солнце. Словно непрочную озерную дымку его рвало в клочья шалым ветром. Сначала была зла, потом изумлена, потом разъярена, а теперь мне стало необъяснимо жарко. Рванула ворот, подставилась ветру, и все равно не помогло. Хоть забеги Сивому поперек дороги и смотрись в холодные глаза, пока жар в душе не уляжется. Куда заведет меня злость, я не знала, и боялась. Всю последнюю седмицу Безрод как будто рос в моих глазах, и мне это очень не нравилось.
Я знала, что делать. Безответные вопросы не давали покоя и роились голове, словно болотная мошка. Пройдет еще немного времени, и Безрода не станет видно за этими вопросами. Да, я знала, что делать.
Муженька нашла вечером у Нелепы, сухонького воя, на вид невзрачного, но гораздого рубиться, как немногие на ладье. Не кто-то рассказывал, сама видела. Нелепа хитро мне подмигнул, как будто знались много лет, и смешно покосился на Безрода, склоненного над раной. Дескать, туго Сивый дело знает. Я лишь кисло усмехнулась. Уж так получается, что на этом острове солнце ходит вокруг моего постылого. Наверное, Сивый меня спиной почуял, или глаза на затылке завел – только он еще ни разу не ошибся, не назвал другим именем, когда подходила со спины.
– Стряслось что-то, ненаглядная моя? – лица Безрода мне видно не было, но все равно знала, что он ухмыляется. Как будто сама видела эту ухмылку. Улыбнулась в ответ.
– Разговор есть. У ладьи ждать буду.
Когда вечно прищуренные глазки Нелепа сально блеснули под густыми, седеющими бровями, я поверила, что воин близок к выздоровлению. Умирающему не может быть дела до того, что бывает между мужем и женой, а этот живее всех живых оказывается.
– Жди. Приду, – буркнул Сивый и даже глазом на меня не повел.
«Не обижусь, не растаю, а дождусь и допытаю», – вертелось в голове. Пела в детстве с подружками на отчем берегу. Вот дождусь, и допытаю. Все вопросы разом улетят, точно журавлиный клин. Только бы Сивый согласился.
Пришла раньше Безрода. Нужно все тщательно обдумать в тиши да плеске волн. Лишь бы согласился, а станет упрямиться – уговорю, уболтаю. Интересно, чем сама отдавать стану. Идет…
Мой страхолюд пришел на каменистый берег, покрутил головой, и я словно наяву услышала, как заскрипели на его переносице жесткие брови. Собрала волю в кулак, – и неслышно выступила из-за камня, сама ровно тень. Безрод медленно повернулся.
– Чего звала?
Я глубоко вдохнула. Всегда так ныряю.
– Обмена хочу. Сновидениями.
Безрод словно вымерз. Я повторила.
– Хочу вещего сна.
Если к тебе благоволят боги, проси. Проси вещего сна, чтобы взглянуть на мир глазами другого человека, но будь готов к тому, что отдать придется тем же. Тот, второй, посмотрит на мир твоими глазами, и его душу захлестнут твои чувства. Станешь для него весь как на ладони, без загадок и белых пятен. Я устала. Устала от того, что день за днем ходила бок о бок с человеком и не видела своими бабьими глазами его души, запахнутой от меня наглухо. Раньше белый свет был для меня прост: Сивый – враг, и кого-то из нас ждали палаты Ратника. Или я его порешу, или он меня. А теперь что получается? Безрод меня не преследует, силой не берет, ласки моей не требует. Я как будто пригладила колючки, и белый свет стал ох, как непрост! Затаив дыхание, ждала ответа. Сивый нахмурился и кивнул.
Он не станет спрашивать, зачем мне нужен вещий сон, да я и не скажу. Но и сама не узнаю, что боги откроют во мне для Сивого. И как подумала о чем-то, щеки зарделись, словно у малолетки. Даже думать не хотелось, что Безрод может попросить у богов, какое мгновение моей жизни захочет увидеть собственными глазами. Лишь прокляла в душе мужское сальное любопытство. Но самой себя я не стыдилась. Пусть скажет, что нехороша была в летних травяных росах с милым другом – боги узлом завяжут лживый язык. А я лишь посмеюсь. Пусть узнает, чем никогда не станет обладать, пусть узнает, какой никогда меня не увидит!
Мы глядели друг на друга и молчали. Кто-то должен был сделать первый шаг, и этот шаг сделал он. Но сделал совсем не то, чего ожидала я. Перво-наперво отбросил светец далеко в море, и наши лица друг для друга погасли. Теперь только ущербная луна скупо изливала на мир синеватый свет. Не говоря ни слова, Сивый обошел меня, сбросил рубаху и прошел к морю. Свою я бросила рядом. С ножами в руках мы зашли по пояс в море. Штаны на мне разом заполоскали игривые волны, грудь приятно холодил проказливый ветер. Еще бы, усмехнулась я, даже ветру не облапить такую девку – как день провести без пользы! Безрода видела как темное пятно, чуть более светлое, чем море. Сдержалась, когда крепкая, жесткая ладонь легла мне на грудь. «Ему нужно только мое сердце», – шептала я себе, и всю меня переворачивало от дрожи наизнанку. Ножом Сивый легонько разрезал кожу против сердца, я сделала то же самое. Будто камни, поросшие мхом, щупала, шаря по груди Безрода в поисках сердца. Может быть, чуть сильнее, чем надо, полоснула ножом, но Сивый не издал даже звука.
Мы стояли друг против друга, роняли в море кровь – и просили у богов каждый своего. Я не знала, что хочет увидеть моими глазами Сивый, но то, что хотелось увидеть мне, донес в эту ночь богам беззвучный шепот. Смотрела в глаза, которыми скоро увижу мир, и себя в этом мире, и не видела ничего, кроме холодного лунного блеска. А Сивый даже не сглотнул и на месте не переступил. Просто стоял, ровно изваяние. Лишнего мгновения не задержал руки на моей груди, а мне ли не знать, чего она стоит?
Я закончила шептать, а Безрод слегка пригнул голову, будто молча спрашивал, все или нет? Кивнула. Все. И только теперь его рука потянулась к моей груди, а я замерла, сжав пальцы в кулаки. Буду бить. Но Сивый просто остановил кровь тряпицей, которая взялась будто из ниоткуда. Перехватила тряпицу, кивком поблагодарила и пошла следом к берегу. И все равно не забывала рыскать взглядом по телу Безрода. Что же он прятал от меня? Но в скупом лунном свете, весь перемотанный тканью, Сивый шел впереди меня как черная тень с белесым на ней пятном. Ничего не видать.
– Глаза сломаешь, – усмехнулся он.
Затылком видит, что ли? О боги, как же так выходит, что лица Безрода не вижу, а все равно знаю, что он ухмыляется? Сколько времени жена с мужем живет, чтобы вот так с лету, с полувзгляда, со вздоха знать, чем он дышит, как смеется, как смотрит?
– Не сломаю. Под ноги гляди. Не споткнись.
А я колючка! Ни слова без ответа не оставлю. Мы разошлись каждый к себе, я – к дальнему костру, к Гарьке, он – к раненым воям. Глубоко в ночи уляжемся спать и станем видеть сны, если богам пришлись по нраву наши доводы.
Я долго не могла уснуть, все ворочалась, кряхтела, пыхтела. А потом – ровно выкрали меня из этого мира: была девка, – и не стало. Очнулась только к утру.
Все было в этом сне. Моя несчастливая жизнь, дальняя дорога с отчего берега в рабском ошейнике, позорная свадьба, но все это было видено моими глазами, просто вспоминала. А потом как будто земля и небо поменялись местами, и от изумления я перестала дышать. Просто дух перехватило. Все разом стало не моим – думы, душа, даже сердце по-другому забилось. И я увидела себя. Стояла на носу и готовилась к недавней рубке. Улыбалась. Ни на кого не глядела. А Сивый, чьей душой я теперь чувствовала мир, аж зубами заскрипел, когда на меня полез первый полуночник. Безрод молниеносно выхватил меч и осторожно, точно котяра, подкрался ко мне за спину. Шептал про себя: «Быстрее, дурища, кистью доворачивай, бей, что есть сил!» На самого тоже поперли, ровно приливная волна, да только разбилась та волна о постылого мужа, ровно о прибрежную скалу. Сивый бездушными трупами разбросал находников по сторонам. И странное дело – даже после нескольких схваток глаза все так же холодно глядели мне в спину, но внутри… Утром Гарька сказала, будто я рвала с себя рубаху и кричала, что жарко, нутро горит.
Когда рубилась со вторым, душа Безрода трепетала сообразно тому, как я махала мечом. Как ударю, или меня ударят – постылый кривился и скрипел зубами. Он молча продирался ко мне, но слишком много оттниров на него насело. Сам полуночный воевода встал против Безрода, но даже этот бывалый воин не устоял. Сивый только хрипел и сек полуночников быстро и страшно. Зарубил нескольких вусмерть. Я аккурат третьего свалила, когда меня обдало кровью, прямиком по глазам. И быть бы мне, дурище, порубленной на мясо острыми мечами, если бы не Безрод. Таки пробился ко мне, и, пока я терла глаза и орала как резаная, прикрывал спину. Оттниры падали вокруг, словно рожь под серпом, только свист меча стоял. Немилый шептал: «Держись, девка, быстрее вставай!» Ох, как горячо мне стало в Безродовом теле! Как будто по жилам вместо крови тек обжигающий мед. Скрипели кости и суставы, мой постылый себя не жалел. Я никогда не видела, чтобы так рубились, красиво и страшно, на грани жизни и смерти. Пару раз Безрод собственными боками ловил то, что несли мне, подставлялся под мечи. Вот он понял, что не успевает сделать для меня хоть что-нибудь, и утробно ревет. Вот Сивый подставляется под удар, который предназначался мне. А вот душа обмерла ожиданием острой и жгучей боли, а через мгновение перед глазами разлилось кровавое марево…
Во сне я отупела от боли. Всамделишная Верна от нестерпимого жара пала бы давным-давно, а вот Сивый стоял и рубился. А когда я, нескладеха, продрала залитые кровью глаза, Безрод облегченно выдохнул и отступил. Полуночный люд за мною падал, только успевай пальцы загибать. Готова повторять раз за разом – беспояс рубился жутко, страшно и красиво, даже не всегда понимала, что он делает. Мелькал клинок, и вокруг падали враги. Никогда такого не видела.
А я даже не глядела за спину. И не видела, кто свою жизнь за меня клал, кого стругали мечами, – лишь бы я жила. Ничего этого, опьяненная дракой и кровью, просто не замечала, а ненавистный муж на рожон не лез. Так и не вышел из-за спины. Просто радовался тому, что я жива, и ухмылялся. Даже песню в душе пел, и ничего складнее той песни, не слыхала. Жаль, не вспомнила утром слов. И лишь глаза, как и прежде, так же холодно глядели вовне.
Каким же странным сделался для меня мир, видимый чужими, холодными глазами! И не то, чтобы мрачнее, хотя и это тоже, но даже теперь, поздней весной, не покидало ощущение поздней осени. Поздней осени, с низкими, сизыми тучами и моросящим дождем… И песни Безрода звучали такие же, – когда без слов, когда со словами, – унылые, грустные, тоскливые.
Уж не знаю, какие отметины хранит на себе Безродова шкура, а что душе досталось крепче крепкого – теперь знаю точно. Думала, что я несчастна, что меня жизнь больнее остальных колотит. Может, и так, но когда на Безрода насели сразу пятеро, а он лишь крепче стиснул зубы, вся его жизнь молнией пронеслась перед глазами. Немногое видела, но и того, что углядела, хватит. У постылого мужа внутри непроходящая осень с промозглыми дождями и беспросветным небом. Ни ясного солнца, ни звонкой весны.
И на людей мы глядели по-разному, он – холодно и спокойно, я – настороженно и зло. Да и чего от меня ждать? Песен да плясок? Хороши пляски – на отчем берегу взяли в плен, до полусмерти избили, на рабском торжище продали да силком выдали замуж!
Я сидела перед костром и тупо глядела в огонь. Хороша, нечего сказать! Так рвалась погибнуть, так отчаянно сунулась в самое пекло, что и сама не заметила, как в раж вошла. Рубила, чтобы победить, а не погибнуть. Вот и победила! А Безрода потому в сече не видела, что не увидишь того, кто спину твою бережет. Конечно, если глаз на затылке нет. Знала, что за спиной стоял кого-то из своих, но что именно Сивый… Ни сном, ни духом… Сама себе сказала утром: «Ну что, дурища, хотела узнать, где муженек всю драчку отсиживался? Узнала? Пойти, что ли, в ножки поклониться? Дескать, прости меня, дубину стоеросовую, что плохо о тебе думала, а ты вон какой оказался! Чистое золото!» Аж самой противно стало. Плюнула под ноги, встала и пошла. Уж конечно не извиняться. Еще чего не хватало! Только и сама не знала, чего пошла. Пошла – и все тут!
Сивый не спал. Сидел на камне у самого берега и глядел в дальнюю даль. Я присела рядом. Тоже в даль уставилась. Что сказать, не знала. Наконец буркнула.
– Красиво рубишься. Видела.
Сивый усмехнулся.
– Для того в душу мне полезла?
Я отвернулась. Как сказать человеку, который жизни для тебя не жалел, что полезла в душу грязными руками, дабы выяснить, за чьей спиной от битвы прятался? Противно.
– Совсем тебя не знаю, – нашлась я. – Дай все же перетяну рану.
Безрод, ухмыляясь, покачал головой. Не даст. Все так же глядел куда-то в дальнокрай. Что видел моими глазами он? Сам скажет – или выспрашивать?
– Сама тоже неплоха. – Сивый таки повернулся ко мне. – И воевода у тебя стоящий был. Отец?
Так вот что видел Безрод моими глазами! Он приоткрыл завесу над моей жизнью в то печальное мгновение, когда я была распалена злобой и горстями бросала в мир силу и не жалела крови – ни своей, ни чужой, когда отчий берег стонал от огня! Мне вдруг показались до боли знакомы эти синие глаза, в которые теперь гляделась и ничегошеньки не понимала!
– Дыру проглядишь, – осадил меня Сивый, беззлобно ухмыляясь.
– Хоть нагляжусь на тебя, сокол поднебесный. – В ответ на холодную ухмылку мне страшно захотелось кривляться и паясничать. И я кривлялась и паясничала. – Все же не чужой. Муж, как никак!
Прятала за рожами собственную растерянность. Ну, дела! Крупно задолжала Сивому, чем расплатиться – не знала, а покидать этот мир, будучи в неоплатном долгу, – можно ли придумать что-то худшее? Чтобы в палатах Ратника мне икалось пиво, а кусок мяса застревал в горле?
– Чего же в дружину пошла? Как будто гнал кто-то.
Так я тебе и сказала! Хмыкнула и отвернулась. Он усмехнулся.
– В утренней заре уйдем. Кто выжил, теперь не помрет. Отлежались парни.
Сивый встал и, не оглядываясь на меня, ушел. Глядела ему вослед и ничего не понимала. Другой бы в грудь себя бил, слюной брызгал, рубаху на груди рвал, показывая раны, – дескать, обязана мне по самое некуда, а посему должна быть ласковее и добрее. Безрод ни словом о себе не обмолвился, и, не попади мне, кобыле-переялке, шлея под хвост, так и не узнала бы, кому жизнью обязана. Если все же внимут боги моим просьбам, и доведется покинуть белый свет – уйду из этого мира круглой дурой. Просто дурой, которая до самой смерти ничего в этой жизни не поняла, и самое главное – не захотела понимать. Сивый, конечно, мне ничего не скажет, ни словом не попрекнет, только усмехнется и молча вознесет на костер. А что обо мне люди подумают, Гарька, Тычок? Дескать, поглядите на нее – ушла из жизни неблагодарная, душу в кулаки зажала, не поделилась теплом с теми, кто в нем нуждался. Да и получится ли уйти в палаты Ратника? Уже попробовала разок. Сивый не дал. Всего-то раз видала постылого мужа в рубке, не получилось бы так, что уйду к Ратнику только после Безрода. Вот смеху будет – войдем в пресветлые палаты друг за другом. И, будто круглая дура, сяду за стол в палатах Ратника между двумя мужьями, – с любимым и нелюбимым. Посмешище! Впрочем, если Сивый напряжется, так и вовсе жить останусь, – даже в кольце врагов, даже один-вдесятеро.
Парни уже вставали, бродили с рогатинами по берегу, – тощие, ровно тени. И все так же ходил за ними Сивый, точно ворожец. Всякий раз немилый муж оставлял меня в дурах. Делал не то, чего ждала, говорил не то, что готовилась услышать. Безрод не давал моей душе спокойно тосковать и предаваться печальным мечтам, моя душенька скалила зубы и клацала, ровно злой пес на чужака… Жила, в общем.
Шли под парусом. О веслах пока и речи не было, но парни от свежего морского ветра разрумянились, – чисто девки перед смотринами. В глаза вернулся блеск. Глядели на моего страхолюда ровно на воеводу, и ни одного недовольного взгляда я не углядела. Круглок поправлялся медленнее всех, и стоило нам выйти в море, купчина, подозвав Сивого к себе, о чем-то долго с ним шептался. О чем шептались – не знаю, а только, встав с колен от изголовья хворого, мрачный Безрод велел кормщику править на восток, на осьмушку в полдень. Кормщик оглянулся на Круглока, и тот кивнул. Не часто такое видела, чтобы едва не первый встречный вставал в голову дружины. Да что там не часто, – вообще такого не припомню! И я, точно вредная младшая сестра, чья старшая уже повела девичий хоровод, пристально, в оба глаза следила за каждым шагом Сивого в голове дружины. А моего муженька ровно тяготило первенство. Он не ходил по палубе, задрав нос, голоса не повышал, на крыльях старшинства не летал. Говорил вполголоса, все так же ухмылялся, и отчего-то парни даже хохотали временами. Не иначе, о бабах зубоскалили. Но ни единого косого взгляда, как в начале похода, ни одного сального словца в свой адрес я больше не слыхала. Мы шли все дальше и дальше на восток.
Дошли до большой земли без приключений. Круглок зримо порозовел, глаза живо заблистали, правда, щеки оставались впалыми, и ходил пока едва-едва, с рогатиной. Опираясь на плечо Безрода, наш купчина спустился по шатким сходням на берег. Рядом, словно из-под земли, вырос какой-то шустрый человек, по виду приказчик, и с радостными воплями полез обниматься. Едва наземь не снес. Сивый усмехнулся, с рук на руки передал купца приказчику, – и хотел было исчезнуть, но Круглок, прихватив за рукав, остановил. Неловко подшагнул и обнял, что осталось сил. Благодарил за все. За то, что оказался на его ладье, а не на ладье оттниров, за то, что вообще родился на белый свет. Но в глазах моего мужа не дрогнула даже малая льдинка. Сивый просто опешил, усмехнулся и неловко обнял купца, – не растревожить бы раны неуклюжим объятием! У отважного купчины в глазах что-то подозрительно заблистало, и, думаю, не от боли прослезился наш храбрец. Круглок пристал тут не первый раз, знакомцы слетались, ровно мухи на мед – окружили, теребили, выспрашивали. Подняли на руки храброго купчишку, понесли в корчму бражничать, Круглок еще долго махал рукой, пока виден был. Мы тепло простились с недавними соратниками. Те звали с собой, просили не уходить, очень хотелось парням кувшин-другой вместе победить, но Сивый остался непреклонен. Путь-дорога звала вперед, и славные попутчики отпускали нас нехотя. Мы остались в доброй памяти, это приятно.
Боги явили знамение. Белый аист дал над нами круг и улетел на восток. Мы с Безродом переглянулись. Теперь наш путь лежал туда, где раскинулись непроходимые леса, болотные топи, крутые горы.
Не стали терять времени. Ноги соскучились по ходьбе, и, благо пристали мы ранним утром, чуть заполдень уже топали на восток. Теперь конные. Кони шли в поводу, потряхивая гривами, прядая ушами и поводя мордами. Два гнедых, буланый и каурый ловили наши запахи, привыкали и косили темными глазами.
Наконец, мы остались одни. Без случайных попутчиков, чья смерть легла бы невыносимым бременем на душу, – ведь я призвала на свою голову все мыслимые и немыслимые тяготы. Не будет невинных жертв, которых безжалостная доля неминуемо погребла бы рядом со мной. Нас осталось четверо, и помри мы в бою – каждый помер бы за что-то. Я – потому что жизнь стала не мила, Безрод – как человек, ставший знаменем моих несчастий, Гарька – за то, что привязалась к Сивому всей душой, и, наконец, Тычок – просто за то, что по-стариковски любил Безрода. Всем я безжалостно предрекла злую судьбину, но самой лишь беспокойнее становилось на душе. Ворочалась жизнь на самом ее донце, как будто ростки пускала. После долгого сна поднимало голову любопытство.
Шли лесом. Безрод звериным чутьем находил тропки в чащобе, что началась сразу за городскими полями, и ни разу не завел нас в непролазный бурелом. Хоть и светило солнце, но в лесу было все же темновато. Дышалось легко, – не как в море, совсем по-другому. Море пахло солью, мокрым железом и старым ладейным тесом, лес пах свежей хвоей, смолой, сыростью и древесными стволами. Вступая в лес, Безрод подарил Лесному Хозяину ягня. Остановился под кряжистым дубом, пошептался о чем-то с великаном, потер ладонью шершавый ствол и отпустил смешного черного барашка. Ягненок постоял-постоял, потом взблеял и потопал куда-то в лес, ровно позвал кто. Лесной Хозяин принял от нас жизнь. И вот шли мы целый день – и устали не знали, деревьев напрасно не губили, живности не пугали. Да и поведешь ли себя по-другому в чужом доме?
Все мои думы приковал к себе постылый муж. Странное дело, отрешенность и равнодушие отчего-то захромали, ровно лошадь, попавшая копытом в ямку. Сама не знаю, чем Безрод подманил к себе мое внимание, – ведь я совершенно не его знала и ломала голову над каждым словом. Любопытство, недоумение, неожиданность – вот стали те пряности, которыми Сивый сдобрил немилую мне жизнь. Каждый вечер на привале я подолгу изводила тело воинской премудростью, глушила голос плоти, но кровь лишь сильнее бежала по жилам. Безрод меня и пальцем не коснулся, – казалось, и вовсе не замечал, лишь изредка я ловила на себе взгляд вечно холодных глаз. Однажды на привале села против Сивого и долго глядела за тем, что и как он делает. Как разжигает огонь, как свежует тетерева, как насаживает тушку на вертел, как ловко делит мясо, самые сочные куски невозмутимо подкладывая мне. Все мой немилый делал споро, ладно, без суеты. Спать меня укладывал в самой середке, определяя в стражу первой. И через седмицу мы вышли к наезженной дороге.
Безрод не спешил выходить на открытое. Долго стоял в лесу, выглядывая сквозь деревья на просеку, высматривал что-то или кого-то. Наконец, вышел первым. Стало больше света, как будто прежде шли в сумерках. Я даже заулыбалась во весь рот, от уха до уха.
– Подле меня держись. – Выйдя на дорогу, мы оседлали лошадей, и Сивый на буланом подъехал ко мне стремя в стремя. – Беспокойно мне.
Сказал об опасности, будто воды попросил напиться, – сухо, ровно, голос и не дрогнул.
– Я ничего не приметила, – отрезала. А ведь тоже не слепая, и не глухая.
Сивый мрачно усмехнулся и ничем не ответил. Даже убеждать не стал. Но одно я знала точно – он станет держаться подле меня. И оказалась права. Временами Безрод замирал, словно прислушивался к чему-то, взгляд застывал, как у изваяния, ровно глядел перед собой – и ничего не видел. Несколько раз оглянулся через плечо. Теперь он спал днем, сидя в седле, ночью стерег наш сон. Я сначала встала на дыбы, но мой постылый, ухмыляясь, отбрехался.
– Тебе свет, – мне тьма. Днем стражу неси, а мне и сон не в ночь.
Сон ему, видите ли, не в ночь! Глядела в синие глаза, сквозь холод продиралась дальше, в самое нутро, в гнездовье непонятных мне мыслей, и не могла пробиться. Зябла. Днем все так же ехала подле Безрода, с левого боку, и сторожко глядела по сторонам. Готова была в любой момент отдать долг – выхватить меч и грудью заслонить Сивого от острого железа или каленой стрелы. Несколько раз мне померещился шум в лесу, слегка позади нас. Были бы у меня уши, как у Губчика, – так я прозвала своего жеребца, – прянула ими на тот шумок. А пока ехала рядом с постылым и близко-близко его рассматривала. Не велик и не мал, не толст и не тощ, просто сух, ровно волчара после голодной зимы. Ходил Сивый беспояс, в одной рубахе, верхом ехал так же – меч держал поперек седла обеими руками, неблаго привесить некуда. Повода не касался вовсе, и спал, склонив сивую голову на грудь. Неровно стриженые вихры падали на лицо, будто занавес, спина оставалась пряма, а случись лихо, – Сивый махом вынырнет из дремы и левой рукой сдернет ножны с меча. Знавала я таких. Правда, самой до того еще далековато, но кое-что могла и я. И не хотела, а к концу третьего дня все же прошептала еле слышно:
– Молодец, сволочь!
Сама себе не хотела признаваться, но в чем-то нравился мне Безрод – просто до коленной дрожи. Скупостью на слова и щедростью на взгляды, несгибаемым остовом и телесной крепостью, неторопливостью и каким-то мрачно-холодным равнодушием к жизни. Сивый начал мне нравиться, и ничего с этим поделать не могла. Взгляд холодных, синих глаз пронизывал всю, и я трепетала, ровно звончатые гусли. Синие глаза бережно щипали струны, и те отзывались протяжно и гулко.
Ввечеру Сивый стал мрачен, точно грозовая туча. Не отпустил Гарьку в лес на охоту.
– Сиди, сам добуду. Натаскайте валежин полегче. Далеко не ходить.
Тычок уже оправился от своей странной хвори. Я не раз подкатывала к старику, прося поведать о загадочной болячке, но хитрец только отшучивался. Да так отшучивался, что я краснела, а ведь я – не из стеснительных. Пройдоха первым наладился в лес за хворостом, что-то напевая себе под нос. Вот ведь заноза! Старик вполголоса пел такую похабщину, что, будь поблизости девки помоложе – сгорели бы со стыда. Чего в молодом не доставало, в старике с избытком плескалось. Это я о Сивом и Тычке. Уж всяко нам в походе бывало, а только не скучно. Я уже забыла, когда смеялась последний раз, но старый плут все же вырвал из меня смех. Сама испугалась, как звонко и чисто загремела. Нечасто видела, как Сивый улыбается, – почитай, так и не видела, однако на мой громогласный гогот Безрод улыбнулся. Не ухмыльнулся, а именно улыбнулся.
Что-то мрачен стал нынешним вечером Сивый. Легко, незаметно проверил снаряжение, и не уверена, что Тычок с Гарькой это углядели. Вот уже несколько дней Безрод все чаще отрешался, иной раз подолгу ехал с закрытыми глазами, и казалось – дремлет. Но не спал мой муженек. Готова была поставить на кон собственную голову, что не спал. Слушал.
Наш предводитель добыл птицу, парочку тетеревов. Распотрошил, разделал, зажарил. Перья вместе с жертвенными кусками отнес в чащу, – в подарок Лесному Хозяину, остальное сами употребили.
– Углядел чего?
Он как жевал неторопливо, так и продолжил. И даже головы в мою сторону не повернул. Только хрящи да мелкие косточки громче захрустели.
– В ночь ни на шаг! По нуждам – и спать.
Ох, как мне это не понравилось! Ох, как не понравилось! Неспроста голос Безрода стал ледянее льдистого, а каждое слово отяжелело, ровно придорожный валун! Я не стала выспрашивать, но про себя твердо решила: все, что скрывается в лесу непонятного – мое! Видать, напасти, выпрошенные у богов, по следу катятся, настигают. По мою душу несчастья пожаловали. Ничего так не хотела, как меча в грудь. Я боялась. Себя боялась, боялась души, которая больше не дрожала от ненависти, и даже наоборот…
Не спали только муженек мой да я. Лежала тихонько и ждала. Ну, не станет же он сиднем сидеть целую ночь! Живой, как никак, отойти приспичит. Сивый долго сидел на бревне спиной к огню, потом бесшумно встал, потянулся, ровно кот спросонья, и тенью скользнул в чащу. Вернулся, присел на свое бревно и замер. Склонил голову на грудь, а потом и вовсе повалился за бревно. Скоро я услышала громкий зевок, потом мерное сопение, затем и вовсе храп. Не иначе, облегчился, и телесной легкостью его просто-напросто сморило. А мне, хитроумной, только того и было нужно. Выскользнула из-под волчьих шкур, сшитых в большое одеяло, подхватила перевязь – и нырнула в чащу.
Я стояла в лесной темени, пока глаза не привыкли. Опоясалась, прислушалась – и тенью понеслась в ту сторону, откуда мы пришли. Что-то преследовало нас по пятам, кралось за деревьями, да на глаза не казалось. Не с добром, видать. Да и как можно добро столько времени скрывать, таскать по чащобам? Не растерять бы вовсе.
Во мне чудесным образом уживались воинское чутье и бабье, и теперь оба тащили меня сквозь чащу навстречу неведомой опасности. Я шла сторожко, чтобы и ветка под ногами не шорхнула, но разве что-нибудь углядишь в такой мгле? Только зверье с его нюхом скользит бесшумной тенью в ночном лесу. Сколь долго шла, сама не знала, и, наконец, меж деревьев блеснуло что-то, похожее на костерное пламя. Вся подобралась, прижалась к дереву и долго ловила звуки. Потом сделала шажок, другой, третий… И впрямь костер, у костра ватага не спит, мечей десять, – все напряженные, хмурые. Сна ни в одном глазу, несмотря на позднюю ночь. Время от времени кидают ожидающие взгляды в мою сторону, и… нет бы мне догадаться! Да куда там!
Выходит, не померещилось Безроду. Нутряным чутьем унюхал слежку, все оглядывался, прислушивался, на всякую тень подозрительно зыркал. Ох, недобро глаза ватажников глядят, и вся десятка как на подбор, – в бронях, сухи, поджары.
Не лихие люди, точно. Не бывает лихих людей, столь дружинных по виду. По всему видать, крепко спаяны, по-воински опрятны и молчаливы. Точно дружинные! Только что им делать тут, в лесной чащобе, удаляясь по нашим следам вглубь восточных земель? Я ничего не могла придумать. Вроде нечего делать, – а ведь делали!
Ох, матушка родная, загляделась! Едва голову любопытную не сломала. Не заметила, не услыхала, как сзади зашли. Ветка не хрустнула, травинка не зазвенела. Как обнимала я дерево, так и осталась обнимать. Мои руки свели вместе в обхват и просто распяли на ясене, как распоследнюю дуру. Уперлась щекой в шершавую кору, и думала, что вот-вот обойму толстенное дерево, – так руки мне вытянули. Не видела кто, лишь слышала. Сзади мерно, могуче дышал некто здоровенный, и, словно от зверюги, разило едким потом.
– Думал, тяжелее все будет. – Низкий, грубый голос ощекотал мне ухо. Славный ясень должен был немедленно воспламениться, – так запылали щеки со стыда. Ровно малолетку взяли. – А тут сама в руки прибежала. Чудно!
Чьи-то проворные руки распоясали меня, отобрали меч, отобрали нож, остался, правда, засапожный нож, да вряд ли оставят. Так и вышло. Нашел, сволочь, и отодвинулся. Как ясень огнем не занялся, не знаю. Как сама от крика удержалась, тоже не известно.
Все во мне рвалось и кричало, сил как будто вдесятеро прибыло, но я покорно обнимала ствол, и даже дышала вполраза. Слушала. На слух между нами легло всего два шага. Все равно далековато. Я зашептала какую-то ерунду, и лишь одно различимое слово вставила в середину. Понять, что сказала – не поймет, но интересно станет. Глядишь, и подойдет, а там посмотрим.
Он молчал. Слушал. Ничего не понял из моего бормотания. И лишь когда отчетливо произнесла «золото», замер. Глаз на затылке у меня не было, но отдала бы голову на отрез, что темные дружинные прищурились. Позади меня, как будто ночная тьма сгустилась, напряжение заквасилось просто запредельно. Мой пленитель все же сделал эти несколько шагов, и пахло от него в самом деле ровно от зверя – остро и едко. Чуть нюх не отбило. Встал прямо позади меня, за спиной, а я все носом водила, высчитывала, как далеко стоит. И хоть бы сучок под ногами хрустнул, подсказал! Итого двое – один руки держал, за толстым стволом его не было видно, один за спиной стоял. К тому же впереди, у костра, сидело еще с десяток ватажников. Их мои пленители пока не звали. И то хорошо.
– Больно тихо говоришь, не понять.
Я резко бросила голову назад, метя в лицо, и если совсем повезет – в нос. Попала! Что-то с противным хрустом смялось под моим затылком. Сломала вражий нос и выбила зубы. Наверное, давится собственными зубами, хочет скрипеть от злобы, а нечем! Кушай, не обляпайся! Что было сил, уперлась щекой в дерево, лягнула ногой назад, а руки потянула на себя. Сзади охнули, – видать, крепко заехала по мослам пяткой. Руки мало не оторвала, чуть жилы не вытянула, кости заскрипели. Однако, зря старалась – тот, что за руки держал, сам отпустил, решил бить. Едва он показался из-за ствола, ударила головой в лицо. Успел отвернуться, сволота! Впрочем, стоит ли удивляться? Не юнцы сопливые вторую седмицу по пятам идут, носа не кажут. Резко прянул в сторону и пристроил кулак мне под самый глаз. Отшвырнуло на несколько шагов, даже вдохнуть лишний раз не успела. Темно кругом, хоть глаз выколи, впрочем, не для меня – перед глазами так и плясали звездочки. Этот, второй, зашарил рукой впереди себя, хотел сграбастать и к своим отвести. Я оказалась ближе, чем он ожидал, мой следопыт споткнулся и повалился сверху. Не ожидал, засучил перед собой руками. Спихивая противника, на его поясе нащупала нож. Он что-то почувствовал, на мгновение замер и лишь коротко охнул, когда я всадила клинок в межреберье, как раз между ремнями кожаной брони. Закричать не смог, – от подобных ножей не кричат, уж сама не знаю, как на вдохе поймала, – повезло. Быстро откатила с себя мертвое тело, подобралась и рванула прочь.
И вот тут-то сзади завыли. Первый, что без зубов остался, голос обнаружил. Закричал так, – думала, небеса разверзнутся. Через мгновение тишина слетела напрочь от громких мужских голосов. Бежала, не разбирая дороги. Что-то стучало мне в ноги, но я неслась в чащу, ровно лосиха, не обращая внимания на досадную мелочь. Только треск по всему лесу стоял. Как не споткнулась, ума не приложу! А когда снова начала соображать, поняла, что едва не падаю от усталости. Понемногу перед глазами улеглось красное марево, я успокоилась, взяла себя в руки. Одно непонятно – что бежать мешает, в ноги бьется, шаг сбивает? Остановилась перевести дух, подняла руки к лицу, а это мой меч! Безродов подарок намотался на руку перевязью. Так на руке и болтался, пока сквозь чащобу неслась. Видать, пока валялась на земле, сгребла ремень пальцами, и сама не заметила. Намертво в кулаке зажала, даже пальцы онемели. Не захотел бросить меня мужнин дар, не покинул одну-одинешеньку лихим людям на съедение.
Вот и догнали меня напасти, которые так страстно вымаливала у богов! Впрочем, и сама хороша. Один уже отпустил дух, второй, останется жить, но в ненастье попомнит меня дурным словом, когда заноет поломанный нос. Помаленьку уходили растерянность и озноб, – на их место заступала жаркая злость. Я подхватила меч, обнажила лезвие и тенью скользнула назад, – туда, где по моим следам неслись ватажники в воинском снаряжении. Окрестила их темными дружинными. Для чего следом крались две седмицы? А вот и поглядим!
Бесшумно скользила назад, думала затеять бой и погибнуть в той сече смертью храбрых. Да-а-а… полезла курица на ястреба. Все мышкой-норышкой себя считала, однако нашелся на меня, мышку, кот, мягкие подушечки. Темный дружинный выскочил из-за ствола прямо на меня, да так беззвучно и неожиданно, что я хотела просто пройти сквозь него.
Глава 19 Ягода
Уж как успела, – не знаю, наверное, страх сил придал, а только в тот же миг ударила мечом, снизу вверх, слева направо. Что-то влажно хлюпнуло и с треском подалось, распадаясь под лезвием. Темный заорал на весь лес и последним усилием опустил на меня меч. Отскочила. В кромешной тьме ничего не видела, опасность почуяла нутром, и только ветерком обдало щеку, когда меч мимо просвистел. Темный упал и едва не вывернул мне кисть: ведь рукоять я не отпустила, а застрял меч в теле крепко. И справа, и слева раздались плотные мужские крики, темные дружинные завыли, ровно волки, обложившие лосиху. Рванула из бездыханного тела меч и, не разбирая дороги, понеслась на звуки, – вернее, туда, где их не было. Бежала в тишину, и меня догоняла жуткая дружина, изникшая по мою душу, как будто из самого Злого княжества. Нет, не ровня я им оказалась в эту ночь. Треск ветвей, надсадный хрип и глухой топот обходили меня и справа, и слева. Брали в кольцо. Еще немного, ноги опутают, бежать не дадут. Я пронеслась мимо тоненькой березы, свободной рукой облапила ствол и крутанулась в обратное. Так разогналась, что дерево заскрипело, накренившись. След в след за мной бежал самый резвый из темных, – его и встретила грудь в грудь. Куда мне убегать, ведь все равно догнали? Темный оказался полегче меня, посуше и куда как хладнокровней. Я, нескладеха, налетела на него, ровно ветер на былинку, снесла наземь и крест-накрест полоснула под ногами. Думала в ошметки изрубить. Да не моя взяла. Сволочь! Ужом порскнул из-под меча, выгнул спину и одним махом взвился на ноги. И вот мы уже рубимся на равных, хотя, какое там на равных! Я бьюсь, жизни не жалея, а темный только пыл мой сдерживает, – остальных, видать, дожидается. Решили живой взять, натешиться вдосталь, – поди, изголодались по бабам, шастая в чащобе. Не возьмут живой! Не дамся! Сами порешат. Секрет знаю. И когда меня стали брать в кольцо, когда затрещали вокруг полеглые ветви, я заорала не своим голосом, выпростала над головой руку с мечом, выгнулась назад и описала им круг. За одного поручусь, – они такого никак не ожидали. Кто-то пал наземь, а меня под темными видно не стало. Бросила меч, схватила нож, и даже зубами врагов рвала, чисто дикая кошка. Да, случалось, и рысей волки стаей рвали.
Открывала глаза тяжело. Думала, веки размежу, – и ослепит меня неземной свет, что льется отовсюду в палатах Ратника. Ожидала, что вокруг будет не лесная ночь, а погожий день. Представляла, в светлой горнице будет стоять длинный, бесконечный стол, а за ним станут восседать доблестные вои. Изредка, реже редкого за тем столом мелькнут девичьи лица, – ведь, наверное, не одна я променяла женскую долю на меч и нож. Но веки приподнимались очень тяжело, видать, опухли, налились кровью.
Жива. Связана, избита и жива. Даже глаза приоткрыла. Нет, не Ратниковы палаты стенами встали вокруг меня, и не яркий свет принес успокоение. Самая темная предрассветная пора объяла все кругом, и только неровный свет костерка на поляне отважно гнал темень прочь. Страшные бойцы, взявшие в плен, сидели вокруг огня и молча ели дичину. Ели и недобро косились на меня, а я косилась в дальний уголок поляны, где, едва обласканные скудным светом, угадывались лежащие на земле тела. То ли три, то ли четыре. Жуткое молчание, перемежаемое хрустом косточек на крепких зубах, и косые взгляды, полные лютой злобы, кого угодно бросили бы в дрожь. Они и бросили. Я только не понимала, почему не убивают. А когда в голове немного прояснилось, и в темечке перестало шуметь, все мое нутро вымерзло от ужаса. Знала, что будет дальше. Догадалась, почему не убили. Среди прочих темных нашелся старый и матерый вой, который остановил смертоубийство, не дал порешить меня второпях. Порешат. Но потом, вдоволь насладившись на холодную голову.
От костра встал и подошел один из воев, присел на корточки, ухватил покрепче волосы и рывком запрокинул мне голову. Умные, жестокие, но бесконечно пустые глаза, не отрываясь, глядели на меня, и, я поставила бы на кон остаток жизни, что именно этот не дал меня убить. Темный дружинный долго глядел прямо в глаза, скупо кивнул, – и сказал при том странные слова, которые тогда не поняла.
– Она того стоит. Он не ошибся.
Кто он? И чего именно я стою? Выходит, не ради забавы темная дружина несколько седмиц кралась по нашим следам? Неужели на меня охотились? А кому я понадобилась? Кому такой подарок нужен? Нос бит-перебит, на скулах шрамы, еще недавно были порваны губы, а если разденусь – не разбила бы дурака икота. Ровно попала под копыта целого табуна, – синяк на синяке. Но ведь понадобилась кому-то! От нечего делать на такое не идут. Вон, троих потеряли.
– И золото отнимем. – Кто-то у костра подхватил низким, надорванным хрипом. – Тот беспоясый, наверное, не шибко хорош с мечом. Поди, только для виду и носит.
– Какое золото? – усмехнулся второй. – У него на пояс денег нет, а тебе все золото мерещится!
– Правду говорит, – отозвался третий. – Сам видел мешок с золотом. Не знал, сивый дурень, что даже у леса глаза есть. Вынул золото глаз порадовать, а я тут как тут! Все видел!
Насчитала то ли десять воев, то ли одиннадцать, – в полумраке было не разглядеть. И три неподвижных тела у самой кромки леса. Те, кого я порешила.
– Кряк, Дровня, Расло, Глотка, – тот, что подошел ко мне, повернулся к своим. – Наведайтесь к сивому, и если золото не померещилось, к заре жду с добычей. Старого да беспоясого – порешить, вторую бабу сюда. Глядишь, и ей дело найдется.
Наверное, лесная живность со всех ног и со всех крыльев унеслась подальше от поляны, когда грянул хриплый заливистый гогот. Знаю, Лесной Хозяин осерчал, – ведь старик целый день ткал ночную тишину, которую враз порвали хмельные бойцы. Стало быть, Гарьке выпадет моя доля! Просила я, – а достанется другой, ведь нашу коровушку живой не возьмут, озлятся да прикончат. Она-то никому не нужна, ей и выпадет доля полегче. Никому никогда не завидовала, но Гарьке в тот миг позавидовала. О такой гибели мне оставалось только мечтать. И я глухо застонала. Темный по-своему истолковал мой утробный рев.
– Они не будут мучиться, – не улыбался и не шутил, смотрел мне прямо в глаза и ронял слова, точно булыжники в воду, каждое было по-каменному веско. – Кроме бабы. Такая уж ваша доля.
И опять – низкий гогот на весь лес. Такого глумления Лесной Хозяин не простит. Ой, не простит! Но моим спутникам не увидеть праведного гнева Лесовика. Им не выстоять против темных. Безрод, я уходила, аж храпел-похрапывал, Гарька спала без задних ног, – поди, до сих пор спит, десятый сон видит, Тычок, наверняка, тоже изголовье давит. Они обречены. Порешат сонными. Надо же было Безроду именно сегодня устать вусмерть! Ночь за ночью крепился, глаз не смыкал, – и вот на тебе! Именно этой ночью силы кончились!
Четверо злых дружинных быстро снарядились, и по тому, как снаряжались, я про себя распрощалась со своими попутчиками. Они не были моими родичами, не были боевыми товарищами (тут я вспомнила бой на ладье и только замотала головой, прогоняя навязчивое воспоминание), но мне не хотелось, чтобы Тычка, вихрастого, чисто мальчишка, прирезали сонным. Мне не хотелось, чтобы Гарьку настигла участь, которую мрачно предрек темный боец с жестокими глазами, не хотела даже того, чтобы Безрода пригвоздили ножами к стволу, возле которого он сейчас спит. Никто из них мне плохого не сделал, а со своим постылым сама разберусь, без посторонней помощи. Так ли терпелив станет тот, кому меня приведут? Время потекло мучительно медленно, остаток ночи растянулся, как медовый воск. Захотела бы придумать пытку, – страшнее не придумала.
Много ли времени прошло, не знала. Избитая, связанная по рукам-ногам, я провалилась в забытье. А когда на востоке зарозовело, наймиты стали все чаще поглядывать в сторону, куда ушли те четверо, и на их лицах тревога зримо перемежалась с жадностью.
– Тряс, Жерех, – коротко позвал воевода темных, которого те звали просто и страшно – Грязь. – Махом обернитесь туда и обратно. Гляньте. Наверное, деньги делят, поделить не могут. Не передрались бы…
Нет, родимый, говоришь не то, что думаешь. Не то. Я глядела на Грязь, и разбитые губы (уже который раз) сами растягивались в улыбку. Ты думаешь, не случилось ли чего похуже! Наверное, задумался о том, что не все так просто, как выглядит. Всякий ли беспояс меч только для виду носит? А может быть, это Лесной Хозяин заблудил тех четверых? Души моих спутников, должно быть, уже идут по небесным чертогам. Теперь ничем не помочь старику, здоровенной девке и сивому вою без пояса. И когда в той стороне зашуршали кусты и затрещали сучья, все темные облегченно выдохнули, а один даже встречать потопал. Золото помочь дотащить.
– Слава всем богам, объявились! – тот, что пошел встречать, углубился в заросли, его стало едва-едва слышно. – Уж думали, золото никак не дотащите, такую тяжесть раздобыли!
Того, что случилось потом, не ожидал никто. Ну, разве кроме Грязи, да и тот сначала остолбенел. Я опешила, онемела, замерла. Из зарослей обратно на поляну, ломая ветви, держась за безжалостно распоротый живот, вывалился встречальщик. Страшно прохрипел последнее в жизни ругательство, выгнулся дугой, забился в предсмертных корчах и отпустил дух. А на поляну – мрачный, спокойный и… живой неспешно вышел Безрод и, вытирая нож пучком травы, глухо бросил:
– Не про вас, грязных, золото мое светлое.
Сивый остановился у самого края поляны, не торопясь, убрал нож в сапог, вынул меч. Трое на поляне, не считая Грязи, взвились на ноги, и лишь воевода темных дружинных сначала меч обнажил – и только потом встал. Грязь не скалился, не ругался, не шипел сквозь зубы, подобно тем троим. Просто сощурил глаза. Сивый неторопко двинулся навстречу темным, проходя мимо меня, глухо процедил «дура», встал между нами и усмехнулся. В предрассветной дымке углядела на муженьке свежий порез, – прямо против сердца, и у самой от сердца отлегло. Раз поцарапали, значит, бился, а если бился, значит…
И тут разом смолкли все. Стихли шипения, угрозы, ругань, и даже громкое дыхание исчезло. Темные плавно, ровно всамделишные тени, поплыли по земле, обхватывая моего муженька в кольцо. Решили со всех сторон разом ударить, а я, раскрыв рот, сидела на земле, моргала и ждала, что будет дальше. Ничем помочь Сивому, связанная по рукам, не могла. А и не надо было. Без меня управился. Безрод просто рванул вперед скорее молнии, схлестнулся с кем-то из четверых, легко разорвал круг и вырвался на чистое. Не смогли запереть Сивого в кольцо, – да в том кольце мечами зарубить. Теперь Безрод встал спиной к лесу, лицом к темным, и что за тем происходило – про то рассказывать, да врать, не стесняясь, всяко большей небывальщины не придумать. Одного Сивый взял только на быстроте. Резко ударил, а сам и не подумал в сторону убраться. Знавала я такое. Опасная штука. После такого начала остальные на мгновение опешили и стали еще осторожнее. И тогда Сивый пошел на них сам. Нечасто видела, как одной рукой рубят, а второй ладонью отшлепывают клинок в дол. Упал еще один, схватился за горло, но самое удивительное – я не видела крови! Мечом его Безрод не касался! Тогда чем ударил? Неужели рукой разбил гортань? Еще одного Сивый рассек мечом от плеча до пояса (дурачье, кольчуги не надели, думали, беда далеко). И вот остались только Безрод и Грязь. Темный скривился, когда Сивый встал против него:
– Ну, и страшен же ты!
Безрод не ответил, только ухмыльнулся. Грязь оказался хладнокровен и силен, потому и продержался дольше всех. Рубил сильно и точно, был двурук, на ходу поменял правую на левую, потом обратно. Вдруг перехватил меч за рукоять, будто нож, только шишак из пальцев остался торчать, и пошел круги описывать, в левой руке кинжал изготовил. Никогда такого не видела. Думала, тяжко придется Безроду, но недолго Грязь воздух рвал. Сивый приноровился к его странной манере биться, и когда меч главаря темных стал уходить сверху вниз, пристроился за клинком. Едва вражий меч замер внизу в мертвой точке, левой рукой перехватил Грязев нож и десницей, с правого плеча, напрочь снес темному голову. Это просто говорю так: приноровился, дождался, а на самом деле пролетел только миг, и вот струя крови взмывает вверх, и от Безрода падает прочь бездыханное тело. Струя крови даже меня достала, а уж страхолюда моего так и вовсе выкрасила с ног до головы. Безрод постоял над бездыханным телом, постоял, потом медленно повернулся и пошел ко мне. Лица на Сивом не было, одна сплошная кровавая личина. Только синие глаза поблескивали холодом. Взмах ножом, и с меня посыпались куски веревки. Сама встать не смогла – руки-ноги затекли, так Безрод рывком на ноги вздернул.
– Идти сможешь?
– Смогу.
– Так иди.
А сам покосился на другой край поляны, где лежали трое, для которых все кончилось еще раньше. Усмехнулся. Я знала, чему он усмехается. Безрод оставит охотников за людьми там, где их нашла смерть. Не приберет, и на чистый костер не взнесет. Тутошнее зверье напируется вдосталь, а Лесной Хозяин размечет в прах остатние кости.
Безрод нес оба меча, – и свой, и мой, – шел впереди и не оглядывался. Сделала шаг, другой. Тяжко. Ровно кукла, набитая соломой, валилась вбок. И чувствовала себя так, словно это я была обляпана чужой кровью с ног до головы. Даже кожа начала свербеть, так хотелось нырнуть в озеро, смыть с себя липкую, засыхающую корку. И еще хотелось загнать Безрода по горло в воду и тереть речным песком, пока не покраснеет. Могу себе представить, как ему сейчас неуютно.
Я ни о чем не спрашивала. Захочет рассказать подробности, – расскажет, а главное и сама знала. Вовсе не спал Сивый этой ночью. Не спал, как и все остальные ночи. Наверное, глядел мне вослед, когда, дура, украдкой назад понеслась, да в бороду посмеивался. Не спал, когда те четверо нагрянули, а потом еще двое на огонек припожаловали. Думали, дурачье, спящими порешат, а не так вышло. Не по их замыслу! Поглядеть бы еще, как лежат. Угляжу, как лежат – соображу, как Сивый бил.
– Все ли живы-здоровы?
Безрод оглянулся, смерил меня с головы до ног, буркнул:
– Да уж поздоровее тебя.
И ухмыльнулся. Ох, мама-мамочка, как же спокойно мне стало от этой ухмылки, как будто вокруг меня выросла каменная стена! Ой, что же делается со мною? Мало того, что раньше была дура-дурой, как ругались вои постарше, а нынче и вовсе на глазах тупею. Аж самой тошно становится, себя не узнаю! Пока Сивый рубился на поляне, искусала губы, и без того разбитые, всю схватку просидела, будто на углях. Испереживалась. И сама себе боялась признаться, что нравится мне этот вой. Нравятся глаза синие, холодные, нравится голос, низкий, рокочущий, нравится, как поет. Те песни пробирают до глубины души, хребет потом трясется каждой косточкой, аж ноги подгибаются. А рубится Сивый красиво и страшно. И, не будь жутких шрамов на лице, не будь я упрямой козой, не будь моя память так памятлива, как знать…
Двое. Лежат на полпути от стана темных к нашему. Лежат, раскинув руки. Этим Безрод не дал даже мечи обнажить, – прирезал, ровно свиней. Проходя мимо, даже не оглянулся, а меня повело, точно соломенное пугало, и едва не швырнуло на трупы. О боги, как же мне хотелось искупаться! И как же отвратно было Сивому, обляпанному подсыхающей кровью с пяток до макушки!
Четверо. Лежат в сотне шагов от нашего стана. Честно сказать, и сама не знала, как далеко еще идти. Муженек подсказал, – дескать, шагов через сто дойдем. С этими тоже не рассусоливался. Трое лежат на тропе, а четвертый в стороне, под осиной, прислоненный к дереву спиной, не сказать вернее – пригвожденный ножом. Наверное, был еще жив, когда Безрод положил к стволу, что-то говорил перед смертью. И порешил его Сивый быстро, когда вызнал все, что хотел. А что вызнал-то?
– Что вызнал? Чего хотели?
Разве говорят с человеком, спасшим тебя от страшной гибели, таким голосом, что прорезался вдруг у меня? Такими голосами купцы друг с друга долги взыскивают. Безрод покосился на меня и ухмыльнулся:
– По твою душу пожаловали. Очень ты кому-то приглянулась. Не пожалел на тебя ни золота, ни людей.
– Кому? Зачем?
Сивый перестал ухмыляться, помрачнел, отпустил взгляд в дальние дали и отвернулся.
Глупость ляпнула. Ясно, зачем понадобилась. Уж конечно не сказки сказывать. Только вот кому? И ведь молчит Сивый, чисто каменный истукан. И так он мне кого-то напомнил, что перед глазами задвоилось. Вот-вот расплывутся очертания Безрода, и сквозь них проступит кто-то очень похожий. Эти глаза… Я уже где-то видела эти глаза, только не могу вспомнить, где именно. Вспоминаю, вспоминаю, а у самой в душе ужас поднимается. Знать, недоброй была наша встреча! Еще не вспомнила, но уже дрожь колотит.
Вот уж не знала, что в Гарьке с Тычком сокрыто столько тепла! Стоило выйти на поляну, как подскочили оба – коровушка едва с ног не снесла, уложила на волчью шкуру, а Тычок возле костерка завозился. От жареного перепела на весь лес пошел дивный запах, едва памяти не лишилась, – так пустой живот свело.
Безрод присел возле меня и, не мигая, уставился прямо в глаза. Не знала, что сказать, куда спрятаться, и брякнула первое, что на ум пришло.
– Помылся бы. Кровищей так и прет!
Сивый пропустил мимо ушей насчет крови.
– Броню и рубаху долой.
– Нет! – зло прокричала я.
– Броню и рубаху долой. – Безрод не шутил. Его голос резал слух, как холодное лезвие.
– Нет!
Сивый ухмыльнулся, потянулся к броне, дабы совлечь с меня через голову, но я, дура, изо всех сил врезала муженьку по зубам. Хорошо попала! Впрочем, он даже не подумал увернуться. Что ему, положившему одиннадцать человек как одного, бегать от меня, полуживой от усталости? Зубов не выбила, но губы раскровенила знатно! Постылый мог навалиться, да лишить памяти одним ударом, но не стал. Усмехнулся, встал с колен, развернулся и прочь зашагал. А я мало не завыла. Ну, что плохого сделал бы мне Сивый? Осмотрел бы всю, ранена или нет, и только! Лишь доброе от него знала, – ну, что же неймется мне? А просто сама себя боялась. Всего несколько месяцев назад потеряла милого друга, и разве я свиристелка легкодумная, которой время не время, и человек не в память? Разве мой Грюй не стоит памяти временем? Разве я сама буду стоить хоть самого распоследнего раба, когда даже собственные чувства мне не в ценность?
Ой, как же все по уму-разуму сделал беспояс! И свое взял, и меня не обидел. Долго бы я лежала без сна, вымотанная до последнего предела? Ясное дело, недолго! Провалилась в забытье почти сразу же. Сквозь глубокий сон чувствовала, как чьи-то руки осторожно снимают с меня кольчугу, задирают рубаху, ощупывают всю, и особенно придирчиво живот. Я знала, кто меня осматривает, хотела ударить по рукам, отпихнуть, но не смогла проснуться. Не хватило сил. Так благополучно целый день и проспала. И только к вечеру словно выпихнуло из дремы, как будто из воды поднялась на поверхность. Смеркалось. От костра так аппетитно тянуло жареным мясом, что я залязгала челюстями, ровно волчица после голодной зимы. А недалеко и впрямь, как будто волчий вой слышался, не иначе, вокруг трупов собрались. Я уже проснулась, лежала с закрытыми глазами, вдыхала запах мяса и слушала.
– …А хотели чего? – наверное, в сотый раз вопрошал Тычок.
Молчание. Только костер веселей затрещал. Дрова кто-то разворошил.
– Верне мужа хотели поменять. – Безрод мало не смеялся. Я это чувствовала.
– А ты?
– Подумал, жалко парня. Намается. И не отдал.
Гарька загоготала. Поди, волки в той стороне шарахнулись от такого гогота.
– Все шуточки тебе! А я серьезно спрашиваю. Кто такие, кто послал, и откуда?
Я затаила дыхание.
– Темные сами не знали. – Сивый неохотно начал говорить. И каждое слово Тычок выуживал, ровно клещами: – Ну? Ну?
– Золота отвалил, не чинясь. Показал Верну на пристани. Приказал живой доставить.
– Ну? А как сам прознал, что за нами идут?
Безрод усмехнулся.
– Седмицу назад потеряли осторожность. Зверье распугали.
– Ну?
– Таиться перестали. Подходили все ближе и ближе. Готовились напасть. И ко всему я вытащил золото на белый свет. Не могли не заметить.
– Ну?
– Нынче ночью хотели. – Сивый усмехнулся. – Да мы опередили.
Я как будто сквозь сомкнутые веки чувствовала колючий взгляд, полный холодной ухмылки.
Да, мы опередили. Так муха говорила волу: «Мы пахали!» Видел, что ухожу на верную погибель, а не остановил! Тычок словно мои мысли услыхал.
– Чего же одну отпустил? Поди, все ночью видел? Видел, что уходит?
– Видел. – Сивый поворошил угли. – Только не сделали бы ей худо. Живой нужна была.
– Тебе-то почем знать?
– Ужом в ночи к их стану прополз. Все выведал. Ни одна тварь и ухом не прянула. Уже седмицу слушаю, о чем говорят.
Кушай, дорогая, не обляпайся! Выходит, Безрод едва не лучше самих темных знал, что они собирались делать и когда? Знал и то, в живых и невредимых меня все равно оставят, как бы ни были злы? А когда темные совсем расслабились и обнаглели, стали шастать по лесу, ровно по наезженному тракту, и выглядывать под кустами чужое золото, взял да и порешил всех, что после меня остались. Мне казалось, будто я хоть немного понимаю в этой жизни. Не-а, ничего не понимала. Дура дурой.
Наверное, Безрод крался за мной по ночному лесу и посмеивался в бороду. Но мне не было за себя стыдно, – даже Ратнику не в чем упрекнуть. Положа руку на сердце – если бы хотели убить, я не выстояла бы, даже один на один, темные оказались очень сильны. И уж конечно, Сивый видел все: как распяли меня вокруг дерева, как бежала сквозь чащобу, не разбирая дороги. Но, как бы ни сверкали мои пятки, я облегчила муженьку ратные труды на три меча. Могла бы за многое попенять Сивому, однако за холодную кровь и ясную голову давешней ночью с моего языка не слетело бы ни звука. Будь я на месте Сивого, а на моем месте кто-то из близких, очертя голову ринулась бы в драку. А Безрод, невидимый во тьме, стоял за спиной и ждал. Сейчас встану и спрошу, чего ждал, почему плечо не подставил? Ведь едва от ужаса не померла! А, впрочем, не спрошу. Пусть не думает, будто за жизнь цепляюсь, как утопающий за соломинку.
Птица, запеченная в глине, пахла восхитительно. В животе так зычно бурчало, – думала, окрестное зверье разбежится.
– Просыпайся, Вернушка, вставай, ясная. – Тычок легко потеребил меня за плечо. – Полно бока отлеживать, время зубами работать.
Я «тяжко» поднималась, мычала, стонала, потягивалась. По-моему, так поднимается человек с большого устатку. И, едва разлепила веки, увидела престранную картину: старый балагур кланяется мне в пояс.
– Ты чего, не в себе? – буркнула, ничего не понимая.
– Низкий поклон тебе, заступа наша, – я Тычка мало-мальски уже знала – и все равно не могла понять, балагурит или нет. – Те трое, что пали от твоей руки, могли порешить нас, ровно спящих поросят. Низкий тебе поклон, дева-воительница!
Нет, наверное, не шутит старый. Серьезен, как будто перед жертвоприношением. А насчет тех троих… Безрода не порешили бы даже все четырнадцать разом. В чем, в чем, а в этом уверена. О Боги, до чего вкусна птица, запеченная в глине!
Сивый уже отмылся от крови. Сидел перед огнем, ухмылялся и щурил глаза, как будто синие ледышки могли растаять от яркого пламени. А красная рубаха (я как-то пробовала сосчитать, сколько раз она заштопана – сбилась со счету) сохла прямо на нем. Солнце зашло, но никто не собирался укладываться спать. Нести стражу вызвался даже Тычок. Он, кстати, первым и уснул. Как сидел старый балагур, так и уснул, привалясь к стволу молодой березки. Гарьку Безрод сам заставил улечься, правда, наша коровушка ни в какую не хотела, но и для нее мой постылый нашел нужные слова. Улеглась. Однако, на всякий случай под левую руку положила дубье. По моему разумению, под тем дубьем бычий хребет лишь крякнул бы жалобно. С другой стороны положила секиру, что добыла в битве на море. Я как представила, едва со смеху не померла – в одной руке увесистый дрын, в другой секира. От такого страшилища любой темный убежит, сверкая пятками.
Меня Безрод лечь не уговаривал. Все равно не уснула бы. Отоспалась на ночь вперед. Сидели вдвоем у костра и молчали. Сивый ни слова мне не сказал. Тогда первой заговорила я.
– А твой храп, который давеча из-под того деревца слышался? – показала рукой.
Безрод лениво повернулся ко мне, ухмыльнулся.
– В десяти шагах от того деревца прятались двое темных, – мое нутро съежилось от запоздалого ужаса: те двое, что поймали меня у дерева. – Хотел, чтобы думали, будто сплю.
– А когда я в лес улизнула?
– Они следом. Мне осталось только не потерять вас из виду.
Стало быть, злополучной ночью я кралась в голове, следом за мною, неслышные, как тень, стлались темные, и замыкал мой муженек, что летел по нашему следу, ровно ветерок бестелесный. Знала бы, что спину мне подпирает Сивый, холодный и безжалостный, ровно лезвие меча, так бы обреченно глядела на Грязь? Я знавала бойцов, которые бросались в глаза статью, где бы ни появились, были на слово охочи, да на язык остры. С таких ухарей девки глаз не сводили. Такие сверкали в битве, ровно молнии Ратника, блестящие и смертоносные. Мой Грюй был таким. А Сивый… Тускл, будто лед против чистого зерцала. Вот глянет солнце на обоих, зерцало весело засверкает в ответ, а лед матово улыбнется. Вокруг моего Грюя на бранном поле сеча бурлила, как водоворот на перекате, мечи пели звонче, вражья кровь рекой лилась. А Сивый… Так не сразу признаешь за боевое оружие неказистый, невзрачный меч, весь в коросте и пыли, который лезвием не блестит, рукоятью не блещет. Сверкающий меч – это мой Грюй, неказистый клинок, весь в коросте – Безрод. Трешь глаза – и никак не поверишь, будто там, под коростой и коркой времени, сокрыт безупречный, разящий клинок. Уже который день вместе идем, и все это время я понемногу очищаю меч от птичьего помета и пыли. Понемногу проступает острое лезвие, сизое, тусклое, холодное.
На заре тронулись в путь. Утром над станом пролетел белый журавль, описал круг, махнул крыльями и улетел на восток. Стало быть, и нам стопы класть на восток. Ночь прошла спокойно. На несколько дней пути окрест в лесу больше никого не было. Ну, и слава богам! А едва заблистало солнце в просветах ветвей, Безрод запел песню. Мы удивились, даже рты пораскрывали. Какой голосище! Какие переливы! Густой и зычный, пробирает до самого нутра. Бывает, и неказистое лезвие блещет в лучах солнца, чисто зерцало. Сивый пел да искоса на меня поглядывал, и если бы мог усмехаться, непременно усмехался.
Мы долго шли, – когда на лошадях, когда пешком, ведя коней в поводу. И кругом был только лес, шумливый и тихий, сонный и буйный, едва расшевелит листву шалый ветер. Ни единой деревеньки не встретилось нам на пути. Безрод, правда, насколько раз примолкал, щурил глаза и подозрительно вглядывался в молчаливую чащу. Видел там что-то, да нам не говорил. Я знала, в лесах тоже люди живут, сама не в степи выросла, только не чета мы лесным. Так спрячутся, – в шаге пройдешь – не заметишь. Один Сивый и косился на деревья, тревожно морща лоб. Синие глаза становились острее иглы и холоднее северных ветров. А когда невидимая опасность обходила стороной, Безрода отпускало, снова ухмылялся, даже песни изредка пел. А однажды Сивый так напрягся, как будто за деревьями притаилась целая дружина, нас, бедолаг, поджидала. Я даже меч из ножен потащила. Но уже в который раз постылый муж сделал совсем не то, чего ожидала – песню запел. Безродов голосище зазвенел на весь лес, – чисто бронзовый колоколец. Сивый пел о храбрецах, что идут сквозь дремучую чащобу, Лесного Хозяина чтут, птицу и зверье не разоряют, потому и позволяет Лесовик идти по своим владениям. Странно было слушать светлую песню, запетую голосом, звенящим от напруги. Безрод пел, – и удерживал мою руку на мече, дабы не сделала глупости. Сама не заметила. И, лишь когда отъехали от опасного места, я опомнилась и дернула рукой. Чтобы лапищу свою убрал. Беспояс без лишних слов убрал и даже не глянул в мою сторону. Не удержи меня Безрод, клянусь всеми богами, ринулась бы в чащу, – и нашла ту опасность, что в лесу таилась. Муженек промолчал, но мой дурацкий порыв, уверена, от его острого глаза не ускользнул.
Потеряла счет дням. С той злополучной дороги давно сошли, несколько дней ехали по лесу. Теперь не скажу на который день по счету перед нами расстелилась наезженная дорога, которая бежала с полуночи на полдень, а может, и наоборот. Сказать, что стало легче идти – ничего не сказать. Теперь вчетверо больше проходили за день, не больно-то наездишь верхом на лошади по буреломам с целым табуном в поводу. И однажды Безрод съехал с дороги направо, а мы следом.
– Деревня прямо, – махнул Сивый рукой. – Дух переведем.
Постоялого двора в деревне не было. Мала слишком. Но едва блеснуло на солнышке серебро, каждая изба захотела стать для нас постоялым двором. Безрод недолго выбирал. Кивнул вдовой бабе с тремя ребятишками и первым въехал в перекошенные воротца. Старшие мальчишки тут же увели лошадей в хлевок. Конюшни, как таковой, не было, – так вместе с коровами наши кони в хлеву и встали. Я подозрительно косилась. Больно неказист хлевок. Кособок, хлипок, не сложился бы в одночасье. Погребет хозяйских коровенок вместе с нашим табуном. Шутка ли, четырнадцать лошадей забрали после темных.
– Не ровен миг, рухнет кровля, – пихнула Безрода и кивнула на постройку.
– Вот уедем, и поправит баба хлев.
Трудно возразить. Серебро, случается, и чудеса творит. Однажды встанет ровненький и свежетесаный хлевок на месте зияющей провалами развалюхи. Чем не чудо?
Баба жила на краю деревни, у самого озера. Удачнее места для баньки не найти. Она и стояла на самом берегу, – кленовая тесаная дорожка над тонкими свайками убежала в озеро на пяток шагов. Первыми отведали хозяйской бани мы с Гарькой. Никогда раньше не видела нашу молодицу обнаженной. Ну, здорова бабища! Белотела и круглобока, как будто из валунов слеплена, что катаются под кожей, разве только не гремят. Эту живой, точно, не возьмешь! Может быть, уже пробовал кто-то: на Гарькиных боках я углядела два старых шрама и два совсем свежих – на спине и груди.
– Чего косишься, ровно медведь на мед? Жалеешь, что не родилась мужчиной?
Вот еще! Мне и в бабьей шкурке сладенько.
– Беспокойно мне.
– Чего ж?
– В озерцо плюхнешься, мне воды не достанется. Всю выгонишь из берегов.
Гарька зашлась от смеха, – думала, смешинкой подавится. И так меня веником оходила, я чуть не воспламенилась. Еле вытерпела. Никогда не устану благодарить богов за баню. Лучший подарок людям. Но и Гарьке от меня досталось! Даже сквозь облака пара было видно, что из белой Гарька стала малиновой. И как нас обеих узкий мосток донес до воды? Ума не приложу.
Все на свете забыла, когда тело, утомленное долгой дорогой, рваное железом, затопило блаженной истомой. Раз за разом возвращались в баню, пока сил оставалось. И тут гляжу, а Гарька сушит волосы, выходить собирается. Спрашиваю:
– Неужели спеклась? Думала, поздоровее ты сердцем.
– Мы не одни на этом свете. Кому-то банька еще нужней.
Вот так! Я обо всем позабыла, уела меня наша коровушка. Сколько времени прошло? Уже солнце село, а когда мы уходили в баню, еще высоко стояло над дальнокраем. Ничего нам Безрод не сказал, только с легким паром встретил. Даже не покосился в нашу сторону. Ну, хоть бы словом попрекнул! Нет. Лишь усмехнулся, шутливо зажмурил глаза, да руками закрылся, – дескать, отчего так светло стало? И Тычок балагур тут как тут. Этому не пустить острого словца по бабьему племени, – как дармового пива не выпить. Даже наша хозяйка, уж на что баба тремя детьми разжилась, и та в краску вошла. Сивый с Тычком ушли, и я заметила, как наша хозяюшка проводила Безрода странным взглядом. Долго в спину глядела, – и глубоко вздохнула. Полнотела, статна, пригожа, только лоб рассекли две заботные морщины, о детях, о безмужнем хозяйстве. В общем, ладная баба, только несчастливая.
Встрепенулась, подскочила с места чисто девушка, как будто что-то вспомнила, и унеслась в баню. Рубахи забрать, да простирнуть, пока мужчины парятся. И, по-моему, наша вдовица с превеликим удовольствием стирала красную рубаху Безрода, да самолично перед огнем сушила.
За столом хозяюшка все подкладывала и подливала, и Безроду пуще остальных. Угощала жареной дичью и ароматной выпечкой. Дичь в лесу добывал старший сын, корни, из которых пирогов напекла, выращивала на огороде во дворе. Слету угадала в Безроде нашего воеводу, и не сказать, что ошиблась. Глядела прямо, глаз не отводила, как только баба может на мужчину глядеть.
Вокруг нашей хозяюшки даже воздух в избе налился искрами, отяжелел. Еще чуть – и засверкает. Она не стеснялась и не лукавила. А чего свободной бабе, богатой тремя детьми, низводить глазки долу, точно малолетней девке? Свое отженихалась, теперь каждый счастливый день на вес золота. Я могла понять Гарьку, которая будто насквозь пронизывала глазами нашу хозяйку, Ягоду. Словно оценивала. Гарьке не все равно, под каким деревом Безрод в тени приляжет, не говоря про то, на чью грудь приклонит голову.
А вот себя понять не могла. Изнутри поднималось что-то горячее, сама не знала что, и жгло, ровно кострищное пламя. Аж перед глазами темнело. Безрод усмехался и глаз от Ягоды не прятал. А чего ему бегать от сочной бабы? Ее сожми в руках посильнее, вся соками истечет! Я даже зубами заскрипела. Так частенько бывает. Только соберешься выбрасывать ненужную вещь, на нее тут же находится охотник. И уже становится жаль отдавать. Я первая встала из-за стола после трапезы. Нутро так полыхало, что не знала, куда себя деть. На мгновение пожалела, что теперь не зима. Тогда просто упала бы в снег лицом и лежала, пока весь подо мной не стает. Но откуда взяться снегу в конце весны? И я просто унеслась на берег озера, сбросила одежду, нырнула и плыла, пока не вылезла на тот берег. И все равно сил осталось, как будто не плыла. Я не знала, что со мною… хотя нет, вру. Все знала. Потому и плыла. Отдавала воде злую силу, – лишь бы не думать, лишь бы сказать самой себе то, что было для меня подобно смерти.
Гарька все-таки нашла меня. Гляжу, берег заволновался, лунная дорожка пошла рябью, вода расплескалась о берег, я даже подобралась. Нож всегда со мной. Ножны к руке приладила, когда в воду полезла. Как не забыла еще?
– Вот ты где! Далеко забралась.
– Как нашла?
– По лунной дорожке поплыла. Чего бесишься? Силу некуда девать? Вроде в бане всю оставила.
Я ничего не ответила, только швырнула в воду камень со злости.
Гарька лучше меня самой знала, что грызет мне душу.
– Это я сказала хозяйке, что мы никто Безроду. Ни ты, ни я. На нее зла не держи. Да и тебе-то что?
Действительно, мне-то что? Идем вместе бок о бок, до первой смерти. Либо он, либо я. Хотя… Мне уже давно полагается пировать в Ратниковых палатах, да что-то не пускает.
– Кто-то.
Да, кто-то. Ой, что это я? Неужели вслух заговорила, и хитрющая Гарька меня поправляет?
– Полно. Спать пора. Берегом вернемся или вплавь?
– Вплавь.
Снилось, будто несла что-то в кулаке, а потом глядь – больше нет. Обронила где-то. Утекло сквозь пальцы. Перемешались для меня сон и явь. Утром так и не поняла, спала или нет. То ли выспалась, то ли сонная.
Всю ночь как на камнях пролежала и поутру встала, ровно избитая. Ягода разместила нас в избе – меня, Гарьку и Тычка. Старик со старшими мальчишками храпел в сенях, мы с младшеньким – в палате. А где хозяюшка ночным жаром полыхала, мне оставалось только догадываться. Не в пример кособокому хлеву, стоял во дворе аккуратный амбар, полный душистым сеном, – ведь ранние луговые травы уже поспели.
А Ягода уже была на ногах, наставляла среднего мальчишку. Чтобы вволю выпас коней, да на дальнем выгоне, там бережок положе и трава сочнее, да чтобы ноги коням не забыл стреножить, да на лес поглядывал. Солнце встало, впрочем, в наш угол могло и не заглядывать. Светом, которым лучилась хозяйка, могла бы обогреться каждая травинка в округе. По всему было видно, Ягода устала, спать хотела неимоверно, но улыбалась, как будто заново родилась. И такая сладкая истома лежала на ее лице, что во мне махом взыграло ретивое. Захотелось разбить красивое лицо вдрызг. Вовремя сдержалась. Подумаешь, баба подобрала то, что я выбросила! Эка невидаль! А если по совести, Ягода ничего у меня не украла. Да и как можно украсть у человека то, что своим не считает? Так чего я в бешенство вошла? Давно, еще на родине, дружинные в годах говорили, будто душа человека темна, как лес в полночь, а бабья душа вовсе потемки непролазные. Бабы постарше с ними соглашались. Тогда не понимала. Теперь поняла. Поняла, что сама себя не понимаю. Иной из прошлого в свое будущее галопом несется, вся жизнь на скаку. Я из прошлого вышла хроменькая и не бежала – устало ковыляла в будущее. Дойду ли?
До седьмого пота работала с мечом на дальнем берегу, на небольшой опушке. Ратное дело забывать не следует, вот только в рукопашной сойтись было не с кем. Гарька оставила меня саму с собой. И правильно сделала. Это лишь вид у нее глуповатый – как выкатит синие глаза, так и подумаешь: «дура». Нет, далеко не дура. Сколько еще у Ягоды простоим? Два дня, три, седмицу?
– Как долго еще простоим?
Сивый удивленно уставился на меня.
– Торопишься?
– Может, и тороплюсь. То моя забота. Так сколько?
– Не знаю.
Безрод с ног до головы смерил меня холодным взглядом, ухмыльнулся, повернулся спиной и молча ушел. Мне, скаковой кобыле, точно шлея под хвост попала! Гоню всех в дорогу, будто полоумная. Все рады пожить под крышей хоть несколько дней, похлебать на крылечке варево из дичи, – только мне неймется. Вижу, Гарька, по-домашнему соскучилась, но молча сопит в две дырочки, Тычок тоскливо на меня косится, Сивый молчит, как обычно. В скором времени я, наверное, стала бы копытом бить, как всамделишная дикая кобыла, если бы не маленький Ягодкин. Верно говорят, собаку и мальца не обманешь. Младший сынок Ягоды после трапезы влез ко мне на колени, обнял за шею и шепнул на ухо, чтоб никто не услыхал.
– А правду мамка сказала, что ты баба-вой?
А я, дурища перерослая, в толк не могла взять, отчего пострел второй день кругами ходит! А он, оказывается, с духом собирался! Хотел спросить. И непременно сам. Наверное, мальчишке я казалась очень страшной – здоровенная, бескосая, плечами вровень с Безродом, да и ростом под стать.
– Правда.
– И меч у тебя есть?
Ягодкин мяконькими губешками страсть как ухо мне расщекотал, но я лишь улыбалась, терпела, головы не убирала.
– Есть.
– И все равно ты не ходи на полночь. Там людишки лихие гнездо свили. Про ваших коней уже, как пить дать, прознали. Мамка говорит, Сорока с лихими знается. Он и доносит.
Сорока, Сорока… Уж не тот ли это низенький, вороватый мужичонка, что хотел давеча заглянуть в глубь двора, все шейку тощую тянул? Мы с Гарькой с озера возвращались, спугнули. Так и не узнали бы, кто у забора стоял, – хорошо, из темноты кто-то окликнул. Кажется, Сороку и звали. Маленький Ягодкин, Рыжиком звали, водил пальчиком по вышивке моей рубахи и, махом позабыв про лихих людей, вдумчиво бормотал:
– Лиска хитрая бежит по долам, волчище зубастый лесом крадется, кабан-секач землю роет, белка-погрызушка орешки грызет…
Рыжику года четыре, вечно взъерошен, чумаз, передних зубов нет, теперь сосредоточенно читает узор на вороте. Сама не знаю почему, но мне вдруг захотелось уложить непослушные волосы, утереть сопли и расщекотать Рыжика, чтоб малец рассмеялся на всю избу. И некому меня, дуру, сдержать! Ягодкин смеялся чисто и звонко, как смеются только дети, сам щекотал меня, тут и я, кобылица, заржала во все горло. Как Безрод умудрился в избу войти, что мы оба ни сном, ни духом? Стоял в дверях, сложив руки на груди, и глядел на нас, не дыша. Ровно спугнуть боялся.
Муженек молча глядел на нас, а я ждала, что усмехнется. И когда неловко переступила ногами, отчего Рыжик повалился мне на грудь и повис на шее, беспричинно засмущалась. Дурачок. Подумал, что мы играем в лошадку, а когда лошадка начинает взбрыкивать, нужно держаться в седле и хватать ее за шею. Он и схватил. Смеялся в самое ухо, и я отчего-то наливалась краской. А Рыжик с первого дня почему-то совсем не убоялся дядьки со страшными шрамами на лице. Его мать, впрочем, тоже не испугалась.
Безрод не ухмыльнулся, и я была за это благодарна. Сивый улыбнулся, совсем по-доброму, и я опешила. Только раз видела, как Безрод улыбается, холодная, равнодушная усмешка – совсем другое. А тут – при холодных глазах – вышла теплая улыбка. Я не понимала, отчего краснею и смущаюсь, злилась, краснела и смущалась еще больше. Ни разу не уступила своему страху, мне ли смущаться и краснеть? Безрод ушел, но я еще долго прятала пылающие щеки в разлохмаченные вихры Рыжика.
После трапезы ко мне на завалинку подсела Ягода. Уж не знаю зачем, а подсела. Мялась, мялась, ровно не знала, с чего начать.
– Чего ж ты не сказала? Сама не догадалась бы. Глядитесь друг на дружку, ровно кошка на собаку! Где уж понять, что вы муж да жена!
Опаньки! Неужели виниться пришла? Только найти бы эту самую вину. Я зло катала языком во рту маленький мосол, и тот звонко стучал о зубы. Что мне оставалось сказать?
– Совет да любовь.
Ягода опешила, отпрянула и долго глядела на меня, непутевую, с жалостью.
– Ой, глупая ты еще, глупая! Тебе еще жить да жить, и бабьего ума набираться!
– Ты зато, погляжу, уже набралась. – Глядя в землю, я беззлобно усмехнулась. Не хотелось говорить, но встать и уйти было просто лень.
– До того не была разлучницей, – Ягода глядела на меня, глаз не прятала, и вдруг ухмыльнулась. – И теперь не стала.
Трудно что-то возразить на такое. Я в сердцах зло выплюнула мосол и спросила:
– Ну, что ты в нем нашла? Объясни мне, вредоумненькой! Или глаз у меня нет? Может быть, чего-то не вижу? Или не понимаю в жизни?
– Глаза у тебя есть, и даже зеленые, как погляжу, а только человеческого нутра своими зелеными очами ты не видишь.
– А что я должна видеть? – пожала плечами.
Лицо Безрода такое… жуткое. И глаз холоден. Глядишь на беспояса, и словно ветерок дует жарким полднем. Только не замерзнуть бы с того ветерка. Не будь этих страшных шрамов… Я много раз пыталась пробиться сквозь завесу рубцов, разглядеть Безрода, каким тот стал бы без шрамов, но не получалось. Над Сивым как будто морок висел, шрамы не давали углядеть истинного лица. Не пускали, хоть мотай головой, хоть не мотай.
– Ты не видеть должна, а чувствовать. Чувствовать, будто стоишь за каменной стеной. Чувствовать, что тебя берегут два меча, один висит на поясе, второй на двух ногах стоит!
Ягода еще что-то говорила, но я уже не слушала. Ей только песни складывать. Такой дар пропадает, – ишь, залилась чище соловья. Пыталась представить рядом не человека, а стену, и зябко поежилась. Холодной вышла та стена. А насчет двух мечей, пожалуй, правда. Сивый и впрямь похож на меч. Пока не тронешь – молчаливый, жесткий и холодный, а тронешь – молчаливый, жесткий и холодный. Что так, что эдак. Я замотала головой. Заставила замолчать внутренний голос. Перебила, перекричала.
– А что, говорят, на полуночи лихие людишки пошаливают?
Ягода аж отпрянула. Понятное дело, отпрянула. Любой бы отпрянул. Ни с того, ни с сего разве орут?
– Лихие людишки? – Ягода переспросила. – Озоруют, сволочи. Много их. Полтора десятка, не меньше.
Сколько? Полтора десятка? Всего-то? Ты, свет-хозяюшка, расскажи про полтора десятка своему любовнику! Думаешь, испугается? Наверное, не знаешь, зазнобушка, откуда мы целый табун с собою привели? А все оттуда, спелая ты наша, одиннадцать коньков – добыча Безрода, три – моя, хотя, если по правде – все его! Еще недавно думала, что меч при Сивом, как седло при корове. Дура была. Безрод сам в драку не полезет, но и прочь не побежит. Чисто меч в ножнах! Пока в ножнах – не порежет, а выйдет на свет, – ого-го-го! Еще поглядим, чья возьмет. Одни вот поглядели. Догляделись. Эх, Сивый, меч под коростой! Не сверкаешь, но тускло блещешь, красотой рукояти в глаза не бросаешься, лишь неприметно сереешь крепостью кости. Боевой меч, а не праздная, богатая игрушка.
– Да-а-а! Полтора десятка – это сила! – не знаю, поняла ли Ягода, что едва не смеюсь, а только подозрительно на меня покосилась.
– Смех смехом, а полтора десятка насквозь проехать – не поле перейти!
– Во-во, – согласилась я. – Как мимо поедешь, каждый подарит дырку в шкуру, а если по мечу да в каждой руке… Издырявят, чисто решето. А если и вовсе вилы в бок…
– Ну вот, что, голуба, – Ягода, видать, поняла, что я раздражена. Встала. – От злобы себя в локоть кусаешь! Ничего у тебя не украла, а издеваться над воем не дам. Не дам! Ты будто собака на сене. Сама не «ам» – и другим не дам! А ему баба нужна, поняла? Теплая баба под жесткий бочок. Случается с мужчинами такое, – эка странность, правда? Если надумаешь, хоть посреди ночи уйду, а не надумаешь – твоя беда. Вот мой сказ!
Ягода повернулась и ушла. Вот так! А я осталась. Злая, уязвленная до глубины души. О боги, что со мною? Отчего глаза кровью налились, как у недоенной коровы? Сама себя боюсь!
Спать не смогла. Полночи проворочалась с боку на бок. Во сне перед глазами стояло Безродово лицо, а я сдирала с него шрамы, что Сивый за всю жизнь насобирал. Шрамы пристали намертво, не отставали, а я шипела и упиралась изо всех своих сил. Тщетно. Думала, вот-вот проступит под шрамами истинный облик, – хоть увижу, от чего бегу. Потом проснулась, тихонько встала, надела рубаху, порты – и вышла. Бегом спустилась к озеру, с разбегу ушла в воду и через какое-то время поднялась на тот берег. Горячая, ровно взмыленный конь, упала в предрассветные росы и сладко уснула. Мокрая, да в росах. Но даже ухом не повела. Бывает же такое!
Видать, Ягода оказалась страсть как горяча. У обоих утром встали под глазами темные круги. Легкая ухмылка оживила всегда плотно сжатые губы Безрода. Не много в жизни мужчине надо! Теплая баба под жесткий бочок, и в человеке что-то неуловимо меняется. Глаза еле заметно ласкают стройный Ягодин стан; красиво изогнутые губы в обрамлении усов и бороды, всегда плотно сомкнутые, вот-вот счастливо улыбнутся. Еще недавно их рвали боевыми рукавицами и били кулаками, и вот давешней ночью терзали жадные бабьи уста. Много сил отнял у Безрода этот роздых, – лучше бы мимо прошли. Глядишь, больше спал бы. Никогда не была в мужской шкуре, но бабы всегда говорили, что если жена ночью была горяча, муж поутру вставал какой-то не такой. Ровно за кромкой побывал. Вот уж точно не такой! Гляжу на Сивого – и будто подглядываю сквозь плетень в чужой двор. Все не для меня. И долгие взгляды не по мне скользят, и доброе слово не мое ухо гладит, не мой стан греет мозолистая ладонь. А не больно-то и хотелось!
В путь, скорее в путь! На полночь, прямиком по дороге, сквозь лихих людишек. Кому что, – одному бабу потеплее, другому меч похолоднее. День проходил за днем, а Безрод как будто вовсе не собирался в дорогу. Лицом потемнел, под глазами пролегли тени, только оба мало не светились от счастья. Тычок даже стал посмеиваться в бороду. И ладно бы только он. Все косились на меня, кобылицу непокрытую. А пусть косятся, ведь им невдомек, что видят меня, непутевую, до первого меча. И однажды я заметила, как Безрод исподлобья, как-то странно, оглядывает Ягодину избу, – ровно к себе примеряет. И так поглядит, и эдак. То задумается, то лицом просветлеет, то возьмет Рыжика на руки и глядит на мальца, будто хочет что-то разглядеть. Часто ловила на себе его мрачный, холодный взгляд.
А утром седьмого дня Ягода поймала меня во дворе и куда-то потащила за руку. Сама растрепана, волос выбился из-под платка, глаза горят, губы трясутся.
– Да что стряслось? Лица на тебе нет!
– Уезжайте, прошу, уезжайте! – Ягода сама не своя, а губы сквозь тряску улыбаются. – Ох, Вернушка, забирай мужа, да увози! Ой, горяч, ой, спалит меня всю! Сама любить начинаю и поделать ничего не могу! Погубит меня, душу себе заберет, а у меня трое, мал мала меньше! Ох, нутром горяч, да глазом холоден, телом палит, глазом леденит! То холодно мне, то жарко! И страшно! Страшно мне!
Ягода держала меня за руку и горячо шептала, едва ли, впрочем, меня замечая. Глядела мечтательно куда-то вдаль и ломала в муке красивые брови.
– …К избе моей примеряется, себя в ней видит. Пригрелся, а Рыжика так и вовсе с рук не отпускает. Думаю, остаться хочет. Не сегодня-завтра скажет.
– Ревешь-то чего? – я зло отдернула руку и ухмыльнулась. – Не того ли хотела?
– И хочу! – прошептала Ягода. – И хочу! Все бабье во мне криком кричит и ликует, да только разлучницей стать не хочу. Не хочу! И боюсь я его! Горяч, аж страшно становится. Петь буду!
Наверное, в самом деле полезла бы песня из счастливой бабы, да только я ей рот зажала. Да, пора в путь трогаться. Пора. Загостились.
Глава 20 Неверная жена
Безрод ехал мрачный, ни на кого не глядел. Хотя, пойми его, – мрачный или нет. Такой, как всегда, неулыбчивый и спокойный. Но мне все же казалось, будто мой муженек хмур и зол. А я и впрямь как та собака, что на сене лежит. Сама не «ам» – и другому не дам. К себе не подпускаю, от другой бабы едва не силком оторвала.
Тогда, после разговора с Ягодой, ни слова не говоря, ушла в хлевок, вывела своего гнедого, молча стала седлать. Одна, или не одна, уехала бы. Безрод, стоя на крыльце, долго на меня глядел и молчал. Брови насупил, руки на груди скрестил. И, лишь когда неспешно повела гнедого к воротам, отлепился от стены, рявкнул:
– Тычок, Гарька, уходим!
А мне, любопытной, все интересно, – уходила со двора, да за спину косилась. Как за ворота выйдет, как прощаться станет, как бросит коню под ноги мечты о собственном доме? Сивый уходил молча, сжав губы, не оглядываясь. Кроме наших, Безрод вывел из хлева только четырех лошадей из четырнадцати. Десять коньков оставил Ягоде – и седельные сумы со всем добром в придачу. Вот это подарок! Вскочил в седло, выпрямился и шагом выехал со двора, только ветер полоскал неподпоясанную рубаху. Даже не оглянулся. Я лишь головой закивала. Так должен воин уходить от разбитой мечты, только так. Одни разочарования Сивому от меня, – разбила мечту вдребезги и осколки по сторонам разметала. Он сделал свой выбор и никого не винил. Но куда увожу Сивого я? Зачем за собою тяну, в какие края? Зачем с места сорвала, в никуда, в безвестность? Ведь, даже голову в его сторону не ворочу. И он больше на меня не глядит. Даже искоса. Едет себе, задумчивый, горько ухмыляется, да назад не оборачивается. Мы не муж и жена, а соратники, – едем каждый за своим.
За весь день мрачный Безрод даже не покосился на меня. А чего ему на меня коситься? Я приветлива чисто придорожная береза, а тех берез по обеим сторонам дороги стоит целый лес. Одной больше, одной меньше – какая разница? Вечером, когда разбили стан в глубине леса, да отвечеряли, чем Лесной Хозяин послал, засобирались ко сну. Безрод и раньше по ночам не спал, днем в седле отсыпался, нынче и вовсе не уснет. Поди, холодно теперь одному? И откуда во мне это злорадство?
Почему-то мне тоже стало не до сна. Осторожно вылезла из-под шкур, ушла в лес, вроде как по нужде, зашуршала кустами. Безрод сидел спиной к огню и даже глазом на меня не повел. Сквозь ветки видела нашу поляну, костер, Сивого. Он держал что-то в руках и осторожно гладил пальцами. Только не видать, что именно, спиной к свету сидел. Поднял к лицу, вроде как принюхался, шумно потянул носом. И поник головой. А потом, гляжу, швырнул себе за спину, прямо в огонь. Не знала, что спалил, но едва не вскрикнула. Будто ножом полоснуло по сердцу. Не какую-то безделицу сжег, что-то дорогое. Спрятал лицо в колени и вроде как уснул. Но эта беспечность обманчива. Сивый не спит. Любой подозрительный шорох поднимет Безрода на ноги, и я шумела как можно уютнее, по-свойски. Проходя мимо костра, вроде как споткнулась, упала, быстренько сунула руку в костер и откатила в сторонку то, что Сивый бросил. Утром встану раньше всех, да погляжу. С тем и уснула. Одно слово уснула. Будто на камнях спала.
Встала раньше солнца, за спиной муженька быстро подползла к догорающему костру, нашарила полуобгорелую головешку, что не сгорела только благодаря мне, и быстро сграбастала. Сивый даже головы не повернул, сидел с открытыми глазами и глядел в лес. Темно еще было, плохо видно. Буду ждать восхода солнца. А когда рассвело, и я разглядела, что именно Сивый бросил за спину, как будто в невозвратное прошлое, все мое нутро перевернулось. Дура я, дура! Только себя живой считала, думала, только у меня болит. Другим напрочь отказала в чувствах, – Безроду, Гарьке, Тычку! Безрода едва с темными в один ряд не поставила! Наверное, мою рожу от удивления вдвое разнесло! Надо же, душа у человека обнаружилась! Мой дражайший соратничек спалил игрушку Рыжика, смешного деревянного зайца с огромными передними зубами. Видать, крепко запал малец в душу. Постылый муж не стал больше травиться несбыточными мечтами. Сжег прошлое бесповоротно. О боги, чего же я душу человеку травлю? Что плохого он мне сделал? Что?
Рявкнула на весь лес, подскочила к своему гнедому и махом взмыла в седло. Сивый только-только равнодушно поворачивался. Никто меня и словом не обидел, зла не причинил, а только издевательски швырнула зайца Безроду и расхохоталась. Где, Ягода говорила, лихие затаились? По дороге на полночь? Должно быть, где-то совсем близко.
Только ветер путался в волосах. Гнала Губчика во всю его лошадиную мочь. Подальше отсюда, от постылого муженька, от Гарьки, хитроглазой коровушки, от Тычка, острого на язык старичка. Гнала, куда глаза глядят. А глядели мои глаза аккурат на полночь. Серой лентой дорога змеилась под копытами Губчика, а по бокам взад неслись березы да елки. Вскакивая в седло, еще услыхала мощный рев Безрода:
– Оставайтесь на месте!
Это он крикнул Тычку и Гарьке. Даже на мгновение, сволочь, не замешкался! Махом взмыл на коня следом за мной, и за моей спиной рассыпался дробный стук копыт.
– Неси меня, Губчик, от постылого мужа, неси, горячий, далеко на полночь, по дороге, в стан лихих людишек! – шептала я в гриву.
Вот теперь можно! Теперь мы остались одни, не будет невинных жертв, и кому суждено помереть – тот помрет.
– Эге-гей! – заорала я во все горло. – А я богата, полон кошель злата! И горя не знаю, добро наживаю!
Если молва не врала, лихие не могли не услышать. Мой крик побежал далеко впереди меня, и даже Губчика обогнал. А я ревела, горла не жалела.
– Я бедовая, весела сама, доля вдовая, в золоте сума!
Лошадиный топот сзади становился все ближе и ближе. Оглянулась через плечо. Сидит в седле – спокоен, только плечом к ветру развернулся, чтоб в грудь не бил, скакать не мешал. Поводья не держит, болтаются свободно. Далеко мы от стана унеслись, пешим возвращаться – не скоро дойдешь. Только не возвращаться мне на этот раз. Ой, не возвращаться!
Дерево упало на дорогу перед самым носом Губчика, мой гнедой аж на дыбки поднялся и заржал. Уже который раз я сделала все быстрее, чем успела сообразить. Хотела в седле остаться, да стрелы подождать, только воинская выучка сама из меня поперла, не зря отец на меня столько лет потратил. И опомниться не успела, как взвилась на ноги и обнажила меч. Лихие высыпали из лесу, точно нечисть! Лишь на ком-то блистала воинская броня, остальные кутались в меха и дерюжную тканину. И началась рубка.
Сразу бросилась в гущу, чтобы стрелами не достали, и злость моя вырвалась наружу. Я не пряталась, не горбилась, под мечи не ныряла, словно была дочерью самого Ратника, которой все кругом безразлично. Странно, однако, сегодня все получалось лучше некуда. Там, где должна была помереть, получала пустяшную ссадину, где схлопотала бы рану, обходилось просто синяком. Один уже пал подо мной, а я ждала удара, что оборвет мое никчемное бытие.
Между Губчиком и Тенью Безрода пролегли считанные мгновения, а мне показалось, будто рубимся целую вечность. Меня Тенька, считай, только огладил, когда со всех четырех ног влетел в сечу и грудью разнес этих по правую сторону, тех – по левую. А на Тени сидел мрачный Безрод и двоих положил сразу же, крест-накрест. Сивый спрыгнул с коня, встал надо мною, чтобы, поднимаясь, оказалась аккурат за его спиной, и медленно, шаг за шагом, стал теснить к лесу. А когда я спиной уперлась в ствол, скосил на меня серые глаза и рявкнул:
– Лево бери!
Правшам, если случилось рубиться спиной к дереву, сподручнее лево держать. А себе Безрод взял правую сторону. Не удалось помереть быстро, – муженек помешал.
– Живьем брать! – проскрипел чей-то низкий, изрядно севший голос. – Нам золото нужно. И кони тоже. А порешим – не найдем!
Сначала порешите! Я и раньше видала, как дерутся, когда на кону стоит жизнь близких. Сивый стоял не за свою жизнь, а за мою, и лихих просто резал. О боги, до чего же красиво и остервенело рубился постылый муж! Вот ведь сволочь! Опустила бы руки и глядела, раскрыв рот, только нельзя. Я хотела умереть, а не просто дать себя зарезать. Лихие пятились, а Безрод оставлял перед собой только трупы. Три, пять, семь…
– Стрелять! – заорал тот низкий, подсевший голос. – К Злобогу всю добычу! Стрелять!
Поздно. Мечом Безрода не взяли, стрелами припозднились. Сивый отлепился от ствола и прошел лихих насквозь, ровно нож масло. Рвал, рубил, ломал…
А времени прошло – коня не расседлать. Много себе воображали, оборванцы лесные. Полагали, нет им в мече загадок, думали, все знают, все умеют. Кто-то был уверен, что просто сросся с мечом. А вот встал пред ними тот, кто на самом деле с мечом сросся, и знай только падают лихие под острым клинком, точно скошенная трава. Последнего, что кричал севшим голосом, Безрод убивал медленно и жестоко. Легонько рассек яремную вену на шее, отпрыгнул назад и ухмыльнулся. Предводитель разбойников бросил меч и все пытался руками пережать рану, да только кровь проскальзывала меж пальцев и все равно находила землю. Муженек стоял в шаге от лихого, орущего благим матом, и ухмылялся. Разбойник прекрасно понимал, что жизнь утекает сквозь пальцы, и не задержишь, и обратно не вольешь.
Я уже давно сидела на земле, под дубом, была измазана своей и чужой кровью и скалилась в лицо лихому, что как затравленная собака водил по нам глазами. Побелел, как будто внутрях больше не осталось крови, и дико завыл. Понял, что душу отдает, рухнул на колени и скривил рот. Наверное, жутко знать, что умираешь, и при этом быть в твердой памяти. Ему и больно не было, так, маленький разрез на шее. Не будь рассечена яремная вена, перетянул бы рану и дальше пошел. А кровь, словно упрямый ключ, била сквозь пальцы, и оставалось ее все меньше. Вот вам кони, вот вам золото!
Лихой рухнул наземь, лицом вниз, и отнял руки от шеи. Последний. Все разбойное воинство полегло как один. Ровно и не было.
Безрод, сидя, отирал от крови меч и холодно косился на меня. Я давно хотела его спросить: когда так быстро сражаешься, косточки не стонут? Мослы не скрипят? Сухожилия не рвутся? Сама не из медлительных, поживее многих буду, на том и жива до сих пор, но Сивый – просто молния. Мой постылый опять не дал мне умереть!
Безрод, заляпанный кровищей с ног до головы, оножив меч, перешагивая через трупы, медленно подошел. Меня качало, ровно тонкую рябину под крепким ветром, но я не убирала глаз. Как даст сейчас по морде, и будет прав! Впрочем, Безрод оставил все, как есть. И пальцем не коснулся. Добро, взятое с бою, оставил на земле. Того добра – секиры, плохие, гнутые мечи и ножи. Лошадей у лихих не было, да и зачем лошади в непролазном лесу? Награбленного добра, ясное дело, при себе не носят. Схоронили где-нибудь в укромном местечке.
Сивые волосы, мокрые от пота и крови, сосульками лежали на лбу, грязные потеки дорожками избороздили Безроду лицо, – подозреваю, что сама выглядела не лучше. Грязная, потная, окровавленная…
– Думал, мне кажется, – начал Безрод, а я, дура, никак понять не могла, куда клонит. – А теперь точно знаю. Зачем смерти ищешь?
– Не стану твоей! – выдохнула я.
– Станешь, – мрачно пообещал Безрод.
– Нет!
– Да!
– Пока меч при мне, не стану!
– Биться со мною хочешь?
– Хочу!
Я ждала. Что скажет? Отступится? Скажет: «Злобог с тобой!»
Сивый долго на меня глядел, потом сквозь зубы процедил:
– На мечах, так на мечах!
Опаньки! Ой, матушка моя родная! Он сделал то, чего я ждала и не ждала. Мы сойдемся на мечах – и даже годовалому дитятке стало бы ясно, что поставит на кон каждый из нас. Если победит он – стану ему самой настоящей женой, мой будет верх – даст мне развод, и пойду на все четыре стороны.
– Я готова.
Сивый покачал головой.
– Не теперь. Оклемаемся – тогда.
Пожалел, страхолюд, не стал топтать мою гордость. Не сказал: «ты оклемаешься», – хотя из нас двоих отдых был нужен мне, а не ему. Согласно кивнула. Оклемаюсь. А вот тогда… Встала и едва не упала Сивому на руки. Просто ноги подкосились. Меня зашатало, но муженек с места не двинулся. Кое-как выстояла себя, осталась на ногах. Хмурый Безрод подвел Губчика, махом взлетел в седло Тени и оттуда, свысока, холодно глядел, как я корячусь, вползая в седло. Еще не знала, сколько раз достали, но болело просто везде. Как будто с живой содрали шкуру и присыпали кровоточащую плоть острой пряницей. С грехом пополам влезла в седло и, вусмерть обессиленная, приникла к шее жеребца. Безрод подхватил мой повод, – и тихим шагом двинул Теньку назад. Следом плыла я на Губчике. Поглядим, что к чему.
Безрод отдал меня Тычку и Гарьке в заботливые руки. И пальцем ко мне не притронулся. Отошел подальше, и глядели мы друг на друга через всю поляну с тайным смыслом, известным только нам. Гарька и Тычок помогли разоблачиться, наша коровушка утерла кровь, по большинству чужую, а Тычок, не понимая, долго чесал затылок. А что тут перевязывать? Одни синяки. Тем временем Сивый куда-то наладился. Взял с собой только нож, вскочил на Тень и умчался, никому ничего не сказав. Ускакал в ту сторону, откуда мы только что привезли победу. Должно быть, остались там у Безрода какие-то дела. Уж конечно не погрести лихих мой муженек отправился. Этот еще сам волков на свежатину подманит, если серые замешкаются. Вернулся Безрод далеко за полдень. Спросил его Тычок:
– Или не дорезал кого? Решил дело доделать?
Думала, отшутится, а Сивый:
– Не дорезал. – и совсем не услыхала шутки в его голосе. Он даже не усмехнулся, по обыкновению.
Мы едва не попадали. Никто из нас не обвинил бы Безрода в милосердии, но вернуться и добивать раненных? По-моему, даже Гарька, до того глядевшая Безроду в рот, поморщилась. Тычок дрогнувшим голосом спросил:
– Кого же добил?
Безрод ничего не ответил, только отмахнулся. А меня отвращение замутило. Стало дурно и противно. Знаю, в запале боя иные добивают, дорезают врага. А этот успел остыть, покинул бранное поле, потом вернулся и хладнокровно добил. Противно! Сама себя поедом ела за то, что Сивый начал мне нравиться, – ой, начал! Теперь оставалось только ждать, торопить время и не выпускать меча из рук.
Я недолго бездельничала. Серьезных ран не оказалось вовсе, больше ушибы. Просто выложилась без остатка, ведь надеялась погибнуть. Через день уже ходила, через два вскочила в седло, а через три дня мы снова тронулись в путь вслед за соколом, что пролетел над нами ясным солнечным утром. Неужели Сивый до сих пор верит, что встанет на каком-то взгорочке наш общий дом, что стану там полноправной хозяйкой и к себе допущу? Нет! Знаю, Безрод мне не по зубам. Не сорока на хвосте сплетню принесла, – сама видела. Не одолеть мне его, хотя чего на свете не бывает… Я буду драться отчаянно, и, наверное, сожгу в той схватке самое себя.
Через три дня повстречали первый обоз. Обозники, едва углядели нас на дороге, мигом повернули в лес, да там и отсиделись, пока мы не проехали. Сидели тишком, да молчком и, думаю, глядели нам в спины жала стрел на лучных тетивах, готовые вот-вот сорваться и впиться в плоть. Сивый только в бороду посмеивался. Проехал мимо, как будто ничего не заметил. Через два дня повстречался еще один обоз, через день – два. Впереди лежал какой-то город, куда под смирными крестьянскими лошадками шли телеги, груженные тем, что щедро родила земля. А еще через день подъехали к месту, где сходились две дороги. Словно ручейки в полноводную реку, они впадали в широкий и наезженный тракт. С правого рукава к «устью» выехал большой купеческий обоз. Стража недобро на нас покосилась, когда с двух сторон все мы разом подошли к развилке. Охрану купца такое совпадение насторожило. Воевода обозной стражи, здоровенный полуночник, кажется, гойг, пустил своего вороного к нам и, не доезжая трех лошадиных длин, грозно так начал:
– Богатый гость Брюст, с Гойгских островов желает знать, кто такие?
– А чего ему с того знанья? – Безрод смотрел холодно, неулыбчиво. Отвечая гойгу, медленно жевал соломину.
Гойг все вертел головой, не знал, кто у нас главный. Был несказанно удивлен, когда поперек всех заговорил неподпоясанный сивый. На кого угодно подумал бы, только не на Безрода. Да хотя бы на того же Тычка! Как я полуночника понимала! Тогда каждый находил во мне понимание, кто глядел на постылого муженька непонимающими глазами, паче того со злостью или раздражением.
– Спокойно, гойг, спокойно! – шепотом осаживала воеводу купецкой стражи. – Не входи во злость, все едино переморозит.
Полуночник, видать, в жизни всякого нагляделся. Удивился, да не шибко. И ответил Сивому, я полагаю, достойно.
– Не открывается только тот, кому есть что таить! Нам таить нечего, а с нами всяко спокойнее будет. Если, конечно, меч не ради красоты держишь.
– Меч? – холодно усмехнулся Безрод. – Да ради красоты и держу. Нравится он мне. А дружина у меня своя.
И кивнул назад, где в рядок стояли я, Гарька, Тычок.
Полуночник усмехнулся, развернул коня и легкой рысью ушел назад. Брюст, богатый гость, сидя верхом на статном вороном, невозмутимо выслушал гойга и еле-еле шевельнул губами. Сказал что-то.
– Брюст, богатый гость, предлагает тебе, Сивый, и твой дружине, продолжить путь вместе. Если окажетесь лихими – порешим на месте. Даже знак своим не успеете дать.
Безрод пожал плечами.
– Хорошо. А куда едем?
Гойг не смог скрыть изумления на лице. Не знать, куда едешь? Да был ли в целом свете кто-то более подозрительный, нежели мы в тот миг? Откажи Брюст нам в попутстве, поняла бы. И лишнего разу не вздохнула. Но, видать, купчина пребывал в добром расположении духа, только смерил нас узкими щелками-глазками и кивнул.
Мы ехали в самой середке, в окружении суровых воев, смотревших за нами во все глаза. Случись что, утыкают стрелами на счет «раз». Все это Безрод понимал, но и бровью не вел. Не знаю, как ему, толстокожему, но я чувствовала себя неуютно в кольце кусачих стрел, готовых ужалить, если стрельцам попадет шлея под хвост.
Подле Безрода, стремя в стремя ехал самолично воевода охранной дружины. Глядел прямо в лицо и глаз не прятал. А Сивому хоть бы хны. Наплевать да растереть. Обозники боялись нас, будто лихих, даже ночью следили во все глаза. Думали, вот встанем, подадим своим тайный знак и начнем резать люд ратный и торговый. Мало было таких случаев, когда лихие втирались в доверие к обозникам и ночью кончали спящими? Вот и удумал премудрый купчина обнять нас так плотно, дабы и трепыхнуться не смогли. И уже никого не интересовало, что мы не хотели ехать в самый город. Не ослабляя крепкого, подозрительного объятия, нас довезут до города, а там отпустят на все четыре стороны. Но вот глядела на своего муженька, и начинало мне казаться, что Сивому все по плечу. Захочет съехать – съедет, никого не спросит, и счастье купеческое, что каждое утро знамение богов улетает в ту сторону, куда теперь ехал обоз.
Какой-то молодой боец из дружины гойга, смешливый, синеглазый, все время оказывался подле меня. Якобы конек под ним слишком резов, мол, так и прыгает вперед, и сладу с ним нет никакого. Уж так получалось, что «непослушный» конек подскакивал прямиком ко мне. Я против воли улыбнулась молодцу, – так хорошо парень играл досаду, а в глазах так и плескались радость и ухарство. Того и гляди, разольются вокруг. Знала, с чего молодец начнет, и заранее предвкушала словесные игрища.
– А меч твой чудо как хорош! – звонким голосом объявил он мне. И уже тише: – И сама хороша!
Только теперь поняла, как устала без нехитрого, беззаботного общения, которое ни к чему не обязывает и делает жизнь красочнее и волнительнее. Оно всегда связывает молодых парней да девок, у которых вся жизнь впереди. И еще поняла, что эти страшные полгода высосали из меня все силы. А сейчас будто домой вернулась. И за это теплое чувство я была очень благодарна молодому парню, дружинному Брюста.
– А сам, ровно медведь перед малинником, извертелся!
– Очень уж малинка краснобока! – он приятно улыбался.
В нем еще не было той внутренней ожесточенности, которая до самых мрачных глаз заполняла битых жизнью мужей, вроде моего Безрода. Улыбается чисто и светло, а при виде мало-мальски пригожей девки глаза так и разгорелись, чисто пожарище! Все правильно, так и должно быть. Ведь и сам молод и пригож. По-моему, я уже начала мыслить как пожитая старуха, а ведь этот смешливый парень вряд ли старше меня. Он смеется, я – нет. Боги, я хочу улыбаться!
И улыбнулась. Так со мною всегда. Когда по левую руку жаром жарит, по правую непременно холодом студит. По правую руку ехал молчаливый Безрод, по левую – довольный жизнью молодой дружинный. Сивый ехал без поводьев, по обыкновению молчал и, казалось, дремал. Но я готова была заложить собственную голову против того, что от холодных глаз моего муженька не укрылся ни единый перегляд. И сама не поняла, почему вдруг Сивый, легонько придав пятками Теньку, ушел вперед. Без злобы посмотрел на нас и усмехнулся. Гойг припустил следом.
Мы остались одни. О боги, как хорошо оказалось просто глядеть на веселого человека и слушать непоказной, заливистый смех! Будто к жизни возвращалась, и меня снова обхаживал добрый молодец. Глядела в спину Безрода, едущего далеко впереди, думала над тем, что значил его взгляд, и радостно отвечала веселому собеседнику. Уже стала забывать эту девичью премудрость ловко чесать языком и не лезть за словом в суму, а ведь не так давно я этим умением отменно владела. Теперь возвращала себе утраченный навык. Слово цеплялось за слово, мне снова было весело, и, кажется, впервые за эти полгода чисто и искренне смеялась. Сивый ни разу не слышал моего смеха, не знаю, услышит ли впредь, но вдруг стал понятен его загадочный взгляд. Как будто ветром сдернуло покров, за которым ничего не могла разглядеть. Он для того ушел вперед, чтобы мне, дурище, не мешать веселиться! Не захотел над душой стоять. Ишь ты, понятливый душегуб выискался!
Помнится, в детстве, мы с подружками частенько гадали до поздних сумерек на женихов (серьезные гадания на венках и крови негоже гадать по сто раз на дню). Всем представлялся красивый парень, конечно, вой, загадочный аж донельзя. Скучно нам было просто с веселыми, да открытыми. И вот ехала теперь в середине большого купеческого обоза, под настроение мне болталось без умолку, и, глядя в спину постылому, думала: «А есть ли в целом свете боец более загадочный, нежели мой муженек?» Если поглядеть серьезно и вдумчиво, все наши девичьи мечтания были списаны с Безрода. Сама когда-то мечтала о таком, чтобы загадочен был – аж дух захватило, и чтобы воем был. Вроде все на месте, только с красотой не получилось. Ну, и вот он, впереди едет. Но теперь мне больше нравился открытый и бесхитростный Вылег, словно неумолимое время поменяло что-то местами. Я знала, что поменяло время. Нас. Меня.
Вылег просто радовался каждому солнечному дню, радовался тому, что песня поется, а вино пьется. Три года назад в этих краях случилась большая сшибка, он тогда еле выжил. И тому радовался, что выжил, и тому радовался, что девки любят, и тому радовался, что сам девок любит, себя забывая. На меня глаз положил. И саму в жар бросило, дрогнуло внутрях, до сердца достучалось. Неужели живо еще сердечко? Так застучало, – чуть с коня не сбросило. Впервые за полгода напомнило о себе. Внизу живота потяжелело, в голове помутилось, перед глазами поплыло. Погнала от себя дерзкие мысли, а сердце лишь сильнее забило, пересиливая глупое упрямство. Я была полна соками, чисто переспелая вишня, и боялась, что всякий востроглаз приметит, как горят мои щеки, а тело требует своего. Но пуще всего себя боялась.
Тычок недовольно косился в мою сторону, Гарька жестко свела губы и отвернулась. Ну, эти понятно, за сивого подонка душу отдадут, – ишь, обиделись. Ну, и пусть косо глядят, если хочется! Я не шалая корчемная баба, с горячей кровью совладаю. Но слишком тяжело и горячо стало внизу живота, кровь как будто закипела, даже глаза жар телесный застил. В ушах зазвенело. Ох, боюсь…
На ночлег расположились в чистом поле. Как только стена леса проредилась, гойг зычным голосом велел бить на поле стан. Перед тем, как разъехаться в разные стороны, Вылег, почти касаясь моего лица льняными кудрями, горячо шепнул.
– Перед рассветом у леса буду ждать. Полюбилась ты мне! Жаркая ты!
Сама не заметила, как кивнула. Да что это со мною? Он не обещал за себя женой взять, пообещал только себя. Должно быть, сразу разглядел во мне битую бабу, а не девку сопливую. О боги, неужели жажда порвать в клочья душу человека может быть так сильна! Неужели на желание уязвить мужскую гордость, спишется все? Воистину баба сердцем живет! Не головой! Ведь не знаю, когда сшибемся с постылым мужем, а когда сшибемся, не знаю, чья возьмет. Могу и побежденной стать. Но даже если проиграю, все равно не мужа первым к себе допущу! Только не его!
– Буду. Жди.
Я не спала, вернее, спала, но как будто на камнях. Лежала, пребывала в каком-то забытьи и просила прощения у всех, кто знал меня, любил и глядел нынче из Ратниковых палат.
– Ох, Грюй, милый друг, закрой глаза! Закрой! – умоляла я в горячечной дреме.
Просила богов наливать Грюю полной мерой, в самой большой чаре, умоляла богов наслать на Грюя хмель покрепче. Не хотела, чтобы милый друг смотрел вниз, на меня, непутевую. А когда на востоке встала Зарь-звезда, я поднялась тише мышки-норышки. На этот раз оставила кольчугу на месте. Не от кого обороняться. Нынче сдамся без боя. Кому-то без боя сдамся, а кто-то и с бою не понюхает. Кроме стражи, бродящей вокруг стана, люд спал. Неслышнее тени выскользнула из-под Гарькиного бока, что свернулась рядом калачиком, и, не скрываясь, пошла к лесу. А чего скрываться? Хотела, чтоб весь обоз посмеялся утром над зазряшным душегубом, тыкал в него пальцем и строил над головой из пальцев ветвистые рога. Была еще одна причина – станешь красться, дозорные враз подстрелят, ровно лихого ползуна. Сторожевой меня увидел и только ухмыльнулся, показав головой в сторону леса. Буркнул:
– Там стоит. Только что прошел.
И смерил меня с ног до макушки сальным взглядом, как будто я доступная, корчемная шалава.
– Глазами не сверкай, – не смолчала. – И в очередь не вставай. Рылом не вышел.
Этот будет первым, кто муженьку намекнет. Ишь, так и полыхнул гляделками. Не любят мужчины неверных баб, особенно чужих, особенно если им не досталась. Друг за друга горой встанут. А Тычок, поди, еще днем всему обозу раззвонил, что я замужняя. Наверное, только слаще стала для Вылега.
Он ждал у березы. Ему, как и мне, в предутренних росах сделалось только жарко. В нас обоих кровь просто кипела, и без всяких глупых слов молодец впился в мои губы. Я ответила тем же. О боги, разве губы мужчины могут быть такими сладкими? Глаза мне заволокло жарким маревом, сердце забухало в груди, чисто кузнечный молот, и простая бабья охота полезла вовне, как сок из раздавленной ягоды. Вылег прижал меня спиной к стволу, обнял так, что вся заполыхала пуще прежнего, а из груди вырвался сладострастный стон, когда жадные пальцы легли мне на живот. Вылег поднял на руки, унес подальше в лес, у полеглой сосны осторожно поставил наземь и потянул с меня рубаху. Глаза молодого воя жадно пожирали мою грудь, аж дышать, бедный, забыл. Было от чего. Я знала, чего стою. Стянула с молодца рубаху, вышитую волками, и сама ровно обезумела. Рваными, искусанными губами припала к его устам, прильнула грудью к сильному телу и разрешила делать с собою все. Уже не думала. А мне казалось, будто не оправлюсь после гибели родных, что не оживу…
Жадные руки Вылега давили мамкину дочку, ровно ягоду под давилкой. Впрочем, не того ли хотят сами ягоды? Я млела. Весь мир перестал существовать, кроме молодого, ароматного воя и неутоленной бабьей жажды. И в целом свете я не знала силы, способной оторвать нас в те мгновения друг от друга. Ой, да много ли я тогда знала?
Закрыла глаза, ничегошеньки больше не видела и видеть не хотела. Только чувствовала и обоняла. Вдруг Вылег резко потянул на себя, я стала заваливаться вперед, и только было подумала, что самое время… как мой любовник отчего-то зарычал. Сильная рука отбросила меня прочь, я перестала что-либо понимать и в злой досаде открыла глаза. Между нами, лежащими в росяных травах, стоял кто-то третий и молчал. Темный, неподвижный, на кого-то из нас пристально глядящий. И, по-моему, как раз меня «ласкал» тяжелый взгляд. Кто?
Вылег не стал ничего спрашивать. Ему, взбешенному, стало просто все равно. Скорее молнии взвился на ноги и ринулся на третьего, который для нас двоих уж точно стал лишним. Мужчина в его состоянии может просто убить. В тот миг я тоже пожелала страшной смерти этому дураку, который изник пред нами, будто тень в солнечный денек. Все во мне кричало досадой и какой-то скотской злостью…
Если бы могла, сказала, будто они сшиблись с такой яростью, что не хватало только волчьего рычания, оскаленных клыков и клочьев шерсти, летящих кругом. Но не могла я так сказать. К своему ужасу, в темной, безликой тени узнала Безрода. И перепугалась до смерти. Не за себя. За Вылега. Все внутрях опустилось от страха. Вскочила кусать, бить, рвать, полосовать ногтями, только не дать растерзать того, кому хотела отдать свои тело и душу… но поздно. Держась за пах, теряя память от страшной боли, мой пылкий друг оседал в траву, а Сивый молча, не удостоив ни словом, ни взглядом, тихо уходил. Отчаянно заскрипела зубами, страшно выругалась, процедила ему в спину то, за что вои убивают на месте, и ринулась вдогонку с кулаками. Не оборачиваясь, муженек резко выбросил назад руку, и я расплескалась о ту растопыренную ладонь, ровно волна об утес. «Не надо, не подходи». Я сникла и оглянулась. На траве, свернувшись колечком, стонал Вылег, а меня ровно окатили ключевой водой. Ушла злость, ушла. Бросилась к славному парню, что так и не стал моим любовником, а Безрод растворился в предрассветной серости утренних сумерек.
Вылег не мог идти. Кое-как сунув его в одежду, одевшись сама, тащила бедолагу на себе, пока впереди в утренней дымке не стали проступать очертания стана. Тогда поставила Вылега на ноги и зашептала в самое ухо:
– Да, вой, больно. Знаю. Но в стан ты должен войти сам. За удальство и дух полюбила тебя. Люб ты мне.
От страшной боли молодец не мог стоять, ноги подкашивались в коленях, но упоминание о сильном духе и бабьей любви сделали чудо. Вылег пальцами прихватил бедра, как будто руками хотел укрепить ноги, зажмурился и прошептал:
– Утри мне глаза. Не вижу.
Он не смел отнять руки, а глаза заволокло едкими слезами, что текли и не спрашивали позволения течь. Я утерла глаза, еще давеча такие ясные и веселые, и поцеловала в напряженные губы.
– Ну же! Шаг!
И Вылег сделал этот шаг. Шажок. Еще там, в лесу, оглядела его пах, что стремительно наливался подкожной кровью, и мне стало жутко, невыносимо страшно.
– Ты встанешь, и мы с тобой еще спляшем! – шептала, будто заклинание. – Обязательно спляшем!
И вдруг мне все припомнилось. Холод в глазах муженька, его зазряшная безжалостная сила, ратный навык, то, каков Сивый в драке… Вылег мог никогда больше не полюбить бабу.
Мы ковыляли вперед потихоньку, по шажку. Все станет известно еще до восхода солнца. Безрода ждут неприятности. Он покалечил человека гойга, и полуночник спросит за своего дружинного не золотом.
– Помочь? – сторожевой, тот самый, что мерил меня сальным взглядом, ни о чем не расспрашивал. Сам обо всем догадался, когда мимо из лесу прошел мрачный Безрод.
– Помоги. Парней зови. Идти не может.
Быстро набежали остальные вои, подхватили на руки соратника и унесли, а я, проводив их мрачным взглядом, положила стопы к нашему концу. Знала, что Сивый не спит, но он не переставал удивлять. Не хуже меня знал, что его ждет, и мерно, спокойно правил меч. Я даже застыла. Многое хотелось ему сказать, но успела только начать.
– Подонок, мразь, ублю…
Закончить не дали, оборвали на полуслове. Нас мгновенно окружила толпа вооруженных людей во главе с гойгом.
– Ублюдок! – заревел полуночник. Волею судеб начал с того, что я так и не окончила. – Ты зачем парней мне калечишь?
Сивый и ухом не повел. Но мне ли не знать, что сейчас Безрод натянут, ровно гусельная струна, того и гляди оборвется. От криков проснулись Гарька с Тычком и сонными глазами оглядывали вокруг себя мрачное, насупленное воинство.
– Когда и где? – только и процедил сквозь зубы беспояс. Он, видимо, не собирался говорить об обстоятельствах недавней стычки в лесу. Да только все равно узнают.
– Теперь же! – вои расступились, и подле взбешенного гойга встал сам Брюст. – Только солнца дождемся.
Сивый лишь холодно кивнул. Вот ведь сволочь! Ничто в лице не дрогнуло, как будто согласился испить чару доброго вина на дружеской посиделке. Купчина сделал знак, и парни стали расходиться готовить место поединка. Дружинные Брюста уходили по-одному, бросая на Безрода страшные взгляды. А Сивый даже глаза не поднял. Ну, какая же сволочь, мой постылый! Я потянула ворот собственной рубахи. Душно, нутро будто полыхает, дышать нечем. Все смешалось в единое варево – ненависть и бабья охота… Ненавидела Безрода, и любовалась против собственной воли.
Тычок подскочил к Сивому и запричитал:
– Что же делается, Безродушка? Что же творится, родимый? Чего им надо?
Перестал править меч, отставил в сторону, поднял старика с колен, поставил перед собой.
– Тело мое павшее никому не отдавай. Сами на костер вознесите. Прах по ветру развейте. Вот видишь, наобещал тебе с три короба, а не вышло. Видать, не судьба. А Гарьку с Верной не бросай, и зла на Верну не держи. Гарька, подойди.
Мрачная Гарька подошла, как было велено. Говорить наша коровушка не могла, в горле пережало. Она еще ничего не понимала. Да и старик тоже.
– Самолично вознеси на костер. Деньги, что у меня есть, поделите на троих. В драку не ввязывайся. – Поглядел на нее, отчего-то покачал головой, помедлил и бросил: – Рубаху долой.
Гарька побелела. Поняла. Будто сама не своя, рванула с плеча рубаху и обнажила крупную белую грудь, как раз там, где багровело рабское клеймо. Сивый вынул нож, поглядел Гарьке в глаза, усмехнулся и одним движением срезал клок шкуры. Наша коровушка зашаталась, от резкой боли едва не упала, но Безрод придержал. Уложил и тут же бросил на рану тряпку. И, по-моему, заплакала девка, чьих слез, как я думала, никто никогда не увидит. Зарыдала в оба глаза, беззвучно глотая слезы. Больно телу, больно душе. Они еще ничего не понимали, кроме того, что нежданно-негаданно стряслось что-то страшное.
Пока Тычок суетился вокруг Гарьки, Сивый подошел ко мне. Бесстрастно глядел перед собой, и мне показалось, будто его взгляд стал невыносимо холоден. Гораздо холодней, чем раньше. Словно отдает стужей смерти, ровно предчувствует. Я знала, Безрод многое хочет сказать, о многом спросить, но он лишь коротко бросил:
– Порешить собиралась? Если не теперь – то никогда. Первой не становись – порву. И не второй. И даже не третьей.
Усмехнулся и отошел. Знал, что живым с этой поляны не уйдет. Падет один – встанут двое, падут двое – встанут десятеро. И пока он стоял против меня, все шрамы как будто исчезли, уползли, ровно змеи, растаяли, чисто масло над огнем. Что это? Как в наваждении проступило его истинное лицо, не траченное железом. Спокойные синие глаза чуть прищурены, нос прям и не поломан, волосы аккуратно подрезаны, веселый чуб лежит на лбу. Красная рубаха убегает под широкий воинский пояс, на плечах волчий плащ, и не студеный, а просто слегка насмешливый взгляд оценивает мир. Боги словно на короткое мгновение открыли мне тайну, которую давно хотела узнать. Голова закружилась, в глазах поплыло. Поплыло…
Стояла, тупо моргала и пытала себя. Ну, что он сделал мне плохого, что? Почему с тупостью бешеной коровы, я поднимаю на рога все, что нравится мне просто до слез в глазах, до коленной дрожи? Неужели, чтобы выжить, чтобы черпать где-то силы, мне нужно ненавидеть, а не любить? Неужели, действительно, так хочется умереть? А сейчас будто сердце вынули из груди, – стало там холодно и пусто. Холодно и пусто. Да, я победила. Не стану ему настоящей женой, не будет у нас общего дома, а постылый муж примет смерть от моей руки. Иногда от ненависти бешено заходилось в груди, а сквозь нее проступало нечто, чего я боялась пуще огня.
Сивый глядел в сторону, на розовеющий дальнокрай, куда улетел белый журавль. Нес белый тоску по дому, которого у Безрода теперь не будет. А ко мне в душу, еще не остывшую от ночного, снизошло превеликое облегчение, точно прорвало гнойную болячку. Словно хлипкую плотину снесло мощным потоком. Держала, держала, но хватило одного весеннего дождика. Всему есть предел. Можно сколь угодно долго бегать от себя, но однажды придется остановиться и без страха посмотреть в зерцало. Там увидишь себя, живую, красивую и полную жизни. Устала. Очень устала, перестала крепиться – и дала волю сердцу. А оно… О, боги, как же зовется тот огонь, что занялся во мне, что вышел из-под спуда глупости и упрямства? Неостановимо захотелось прохлады, и я знала, в чьи глаза нырнуть за той прохладой. Век бы не вылезала оттуда. И не Безрода ненавидела и боялась, а себя. Старая жизнь осталась на отчем берегу, ее больше нет, кончилась! Думала, родных предаю, себя предаю, если стану дальше жить. Думала, если не войду в новую жизнь, если не соглашусь с потерей, все вернется, ведь пока мы не смирились с поражением, жизнь продолжается, мы не побеждены, а близкие по-прежнему с нами. Дура! Близкие с нами, только если сама живешь. Ох, мама-мамочка, этот человек нравится мне до жаркого шума в голове! Голова закружилась, будто сунули в большущую бочку и пустили с пологой горки, все вокруг меняется с бешеной быстротой, небо-земля-небо-земля… Только что ненавидела, – и нате вам! Из огня да в полымя.
– Журавушка на восток полетел.
Мне не хотелось от Безрода уходить, ой, как не хотелось! Сама себя победила. Все сделалось ясно, как белый день, и встало на свои места, только муженек мой ни о чем таком и не догадывался. Эх, забежать бы ему в лицо и глаз не спускать, и чтобы ласкал зябким взглядом полыхающее нутро, и чтобы самому от моего огня теплее стало… Но даже с места не сдвинулась. Только брякнула что-то про журавля, и про восточную сторону. О боги, да кто из нас холоден? Разве он холоднее меня, дуры, не разглядевшей за студеными глазами горячего сердца? Поздно. Перед смертным боем нужно одному побыть, в себя заглянуть. Как поднимется солнце, и сама встану против. Никто за язык не тянул. Есть ли на всем белом свете такие дуры, как я? Теперь, когда отдала душу чувствам, что загуляли в ней, как шальные ветры, мне предстоит его убить? Какой по счету встану? Сколько ран к тому времени на себя примет?
Он только кивнул, услыхав про журавля. Ни слова назад не вернул. Преклонил колено земле, спрятал лицо в ладони и замер. Журавль закурлыкал, и я задрала голову в небо. То не журавль курлычет, это счастье мое улетает. Само пришло в руки, только не удержала. Хоть и лежит меж нами всего шаг, но как будто целая пропасть, – не перебраться, не докричаться. Тут еще ноги задрожали, холодный пот прошиб – до самых глубин дошло, что теряю Безрода. От горечи пред глазами задвоилось. Или то слезы запоздалые полились? Не дыша, глядела в спину, глотала непрошенные слезы и молила: «Оглянись, оглянись!» Но Сивый закрылся от меня наглухо. Да и поздно уже. Кровь пролита…
Ко мне шла мрачная Гарька. Наша коровушка уже все знала, и за жизнь Безрода, не колеблясь, отдала бы мою, никчемную. На ее плечах висел Тычок, блажил, хватал за шею, за руки, просил вернуться, но ее остановила бы только стрела. Или Безрод. Сивый выпростал руку и как по чудесному мановению остановил Гарьку, неудержимую, ровно дикий бык. Я только и подумала: какие же все мы скоты! Даже с богами поговорить спокойно не даем!
Тычок тихо сполз с Гарьки, она, шатаясь, вернулась обратно. Я исподлобья глядела на спину в красной рубахе, шитой-перешитой, и узнавала. Вот эти два пореза он получил в той сече на ладье. Этот длинный получен там же, этот – в драке с наемной дружиной в лесу, эти два – с недавними лихими. Их было много, очень много. Почему раньше их не замечала, ведь каждый из них – это боль и кровь… А сколько их ляжет с восходом солнца, и сколько из них станут моими? Захотелось уткнуться лбом в Безродову спину и не отнимать лица, так захотелось, что потянула носом… Вот когда меня настигло необоримое желание обрести свой дом, и чтобы непременно Сивый выстроил его для меня! Вот так сдается глупая ненависть, приходит что-то сильное, и берет тебя, дуру, одним махом. И ты уже сама не своя, сладкими корчами душит горло, но в спину студено дышит горечь потери. Будто воду держишь в ладонях. Вроде и держишь, а все равно – утечет сквозь пальцы, как ни хватай. Как все глупо! Все. Идут…
Гойг и остальные встали, разинув рты. Думали, ненавижу Безрода, думали, от невыносимой жизни с Вылегом слюбилась, возомнили себе, будто все им ясно, как белый день. А застали на коленях позади Безрода, – и рты поразевали. Что мне ваш Вылег, остолопы, что? Не стоят меж нами трудные дни и ночи, не он душу рвал, спасая меня от смерти! Просто хороший парень, но я не люблю его, не люблю! А все прочее не ваше дело! Не ваше!
– Солнце встает, боян. – Гойг первым захлопнул рот, как и полагается предводителю. – Пришло урочное время. Кровь к крови.
Воинство требует крови за своего. И только крови. Разбираться, кто прав, кто виноват, не станут. Может быть, и мне перемазаться в крови Безрода, когда он падет бездыханным? Не этого ли хотела? Не так давно к мечу примерялась, думала, хозяина ему поменять, ведь было дело?
– Я готов. – Сивый отнял от лица ладони, оглянулся на меня, усмехнулся. – Она тоже поединщиком будет. Пятым или шестым. Не раньше.
– Да ты дерзок, боян! – процедил гойг. – Одного меня за глаза хватит.
– Она встанет среди твоих воев! – Безрод упрямо гнул свое.
Каким-то тусклым и равнодушным стал его взгляд. Просто тусклым, невзрачным – и ко всему равнодушным. Глаза потухли. Мне ровно нож в сердце вонзили. Он не будет беречься. Я поняла это враз. Ушло из глаз то, что делало руки сильнее и скорее, а все тело – до жизни охочим. Ушло. Больше нет огонька, что возжигал глаза холодным блеском. Совсем другим стоял Безрод на ладье за моей спиной, не таким рубился с черными воями в лесу, не с таким лицом избивал за меня лихих. Он устал, просто устал. Поняла это ясно, как если бы Сивый сказал вслух.
– Хорошо. Она встанет среди поединщиков.
– Я готов.
Полуночник махнул рукой, приглашая следовать за собой, и первым пошел вперед. Там уже выпрашивали у богов справедливости ведуны и поединщики. Ишь ты, справедливости!
Знамения сотворяют, просят у Ратника благословения, их много, а Безрод стоит один, и нет за ним силы, кроме силы собственных рук. Ох, растряслись колени у мамкиной дочки! Где же были мои глаза, куда глядела, толстокожая? Разве для того меня всякий раз у Безносой отнимал, чтобы теперь сама его на смерть отдала? И отказаться от поединка уже не могла – наш договор скреплен кровью, боги видели и слышали все. По-моему, ненадолго я Безрода переживу. Едва он падет без дыхания под моим мечом (отчего-то знала, что падет аккурат под моим мечом), просто ринусь на Брюстовых воев, и пусть рядом на костер положат. Не вынесу такой тяжести на душе. Уже тяжко. Встать не могу с колен, бью поклоны Матери-Земле. Пока поединщики Брюста с богами говорили, Сивый подошел ко мне и тихо пророкотал:
– Свободу тебе даю от жениных уз. Как биться со мной станешь, пока жена? Не отмоешься потом. Дай перстень.
Боги, справедливые, боги милосердные! Он дает мне волю от брачных уз, чтобы не жена убила, а всего-навсего посторонняя баба! Глядела вперед и ничего не видела – все слезами заволокло. Просто стоит кто-то расплывчатый – и руку за перстнем тянет. Вот отдам перстень, освобожусь от брачных уз, и стану не мужняя жена, а посторонняя баба, которой человека убить – раз плюнуть. Сняла с пальца свадебный подарок и протянула вперед. Сивый забрал кольцо, знак неудачной женитьбы, и, не глядя, швырнул далеко в сторону. Не будет дома, не войду в него хозяйкой, ничего не будет. Просто оборвется достойная жизнь. Просто оборвется…
Затрубила труба, призвала поединщиков на бранное поле. Гойг, воевода Брюстовой дружины, приготовился войти в круг. Я поднялась на ноги, – и сама удивилась, как слаба стала в коленях. Шла к бранному полю и спотыкалась. Видела еле-еле, слез не утирала, пусть текут себе, глупые. Ну, и как себя назвать? Просто непутевая вертихвостка, подставившая мужа под чужой меч. Чью честь встану отстаивать с мечом в руке? Свою? Нет ее. Вылега? Не спьяну побили – поделом получил. Чью же?..
За людьми, окружившими бранное поле, было не протолкнуться. А я и не стала. Не хочу видеть, как чужие мечи станут рвать Безрода. Не хочу! Отдала колени земле и прикрыла глаза.
– В броне или без? – спросил чей-то надтреснутый голос.
– В рубахах, – спокойно ответил Сивый. Его право. – Просто в рубахах.
Воцарилось молчание. И вдруг, в кромешной тишине, которую не нарушала даже скотина, в этом мертвом безмолвии, кто-то запел. Вокруг зашушукались: ты гляди! Вот-вот, глядите, кособрюхие, глядите и слушайте. Как поет человек последнюю в жизни песню! Наверное, как Безрод, тяжело, с горечью в голосе, но чисто и без фальши. Он пел о жизни, что не удалась, о делах, что не доделал, о мечтах, что не сбылись, о надеждах, что лопнули…
– О непутевой жене спой, – шептала я. – Которая пожалела любви, ласки, да и просто доброго слова. А кому отдала? Первому встречному-поперечному. Что имеем – не храним, потерявши – плачем…
Весь обоз, как один человек, молча слушал песню и хмурился. Таких певцов по пальцам перечесть, такие рождаются раз в сто лет. Когда Сивый падет бездыханным, осиротеем не только я, Тычок и Гарька. Осиротеет Брюст на попутчика, каких днем с огнем искать, осиротеет земля на дивный голос. Безрод звонко рокотал о несчастливой доле, которая, словно верная жена, бредет рядом, не уходит и не предает. А я ровно глядела на мир его глазами. Он стоит на краю обрыва, впереди студеная пропасть, без дна и без краев, позади тяжкая дорога, и куда ни подайся – безвестность. Не все ли ему равно, куда теперь идти? Стоит ли драться за ту жизнь, если драться не что, и не за кого?
Он допел, и на поляне воцарилось молчание, распоротое шипением клинков, покидающих ножны.
Я стояла на коленях и ничего не видела. Потеряла счет времени, мне казалось, что прошла целая вечность, хотя кто-то рядом со мной успел досчитать лишь до двадцати. Удивленно протянул надтреснутым голосом:
– А не подарок Сивый!
Да, не подарок. Еще какой не подарок! Сколько воев уйдут в палаты Ратника перед Безродом? И все из-за меня, полоумной! На третьем десятке счета кто-то взревел, чисто дикий бык, а на четвертом – рухнул наземь. Я не знала, кто упал, слышала только глухой стук о землю. Люд безмолвствовал. Наконец тот же надтреснутый голос мрачно изрек:
– Приуддер славно бился, но боян бился лучше.
Гойг пал под мечом Сивого, и Брюст процедил сквозь зубы:
– Двое.
Я не знала, кто теперь выйдет против Безрода, меня просто засасывало тупое, ноющее оцепенение. Тот же надтреснутый голос веско обронил:
– С двумя ему не совладать. Тем паче с такими. С ними и Приуддер по-одному еле слаживал! А уж с обоими разом…
Боги, боженьки, когда это кончится? Уже пал воевода Брюстовой дружины, но я уверена, Сивый стоит прямо, сколько бы ран гойг ни подарил. Знавала я баб, которые болтали, будто красота в мужчине не главное. Дескать, главное, чтобы душой был красив. Никогда не считала себя умнее остальных, но муж с уродливым лицом никогда бы мне не приглянулся. А лицо Безрода, почему-то, очень нравилось!
По тому, как глухо зароптала толпа, стало понятно, что следующие двое, с которыми даже Приуддер еле справлялся, вошли в круг. И тот же скрипучий голос начал отсчет жизни Сивого, – один, два, три…
Я вся обратилась в слух. Каждый звон, с каким клинки встречали друг друга, оставлял глубокую рану в моей душе. С каждым ударом прибывало у меня седого волоса. Во всем этом многоцветном мире знала теперь только дыхание поединщиков, да звон мечей. Ничто иное больше не трогало, не волновало. Кое-что понимала в ратном деле и на слух могла многое распознать. Сивый бился равнодушно и спокойно, не торопился, аккурат на пределе, лишь бы, лишь бы… И когда счетовод неподалеку добрался до пятого десятка, кто-то в ратном кругу глухо застонал, а я перестала дышать. Померещилось, будто стонал Безрод, но через мгновение мечи вновь зазвенели, а от сердца так и не отлегло. Как сжалось в комок, так и осталось.
А люд кругом забыл дышать, на поле установилась мертвая тишина, и тот же поломанный, скрипучий голос, теперь донельзя изумленный, пробормотал:
– А ведь пал Рогр! Того и гляди, Слюдд падет!
Падет ваш Слюдд! Падет, как и Рогр, а до того Приуддер! Во всем обозе нет бойца, равного Безроду!
Вдруг звонкий говор мечей умолк, и на землю кто-то упал. Я, не дыша, ловила звуки толпы. Зайдется криком радости, или захлебнется скорбной тишиной?
Толпа молчала. Словно наяву представила себе раскрытые в изумлении рты, глаза, распахнутые широко, будто ставни. Думали, наверное, – Сивый просто обязан пасть, а вот не пал! Стоит. Еще не одного к Ратнику отправит! Дорого выйдет Брюсту скоропалительный суд!
– Силен, шельма! – с восхищением в голосе прошептал хрипатый счетовод. – Ох, силен!
Меня просто затрясло, как в лихоманке. Сивый все ближе и ближе подвигал миг, когда встать против него придется мне. Уверена – и четверых порубит, и любой ценой останется стоять хоть какой! На последнем издыхании, на последних каплях крови, но встанет и падет под моим мечом. А что потом делать мне, боги? Как жить?
– Четверо! – рявкнул Брюст.
А это уже серьезно. Не знала, сколько ран уносят кровь из моего Безрода, но счетовод все шептал восхищенно:
– Силен, шельма! Ох, силен!
Четверо встали в круг, и звуков боя сразу стало больше, как будто на поляне рубится небольшая дружина. Немного насчитал скрипучий голос, когда толпа взревела от восторга. Порубили Безрода. Не знаю, жив ли еще. Жив. Мечи зазвенели вновь, и почти сразу кто-то захрипел, да так жутко, что толпа в едином порыве взвыла. Повалилось тело, звякнул о камень меч, а хрипатый около меня прошептал:
– О боги, ужасная смерть!
А следом кто-то взревел, и какое-то время стоял невообразимый рев. Бойцы на бранном поле рычали все разом, и, по-моему, я узнала голос Безрода среди прочих. А затем в одно мгновение все стихло. Молчали все. Я жадно ловила хоть малейший звук, хоть стон, хоть хрип. Не знала, что и думать. Меня будто по голове ударили, в голове шумело, я «плыла»…
И услыхала то, что так жаждала услышать. Зычный крик, в котором все клокотало и хрипело. Его не смог перекрыть даже рев Брюста:
– Восемь!
Восемь! Не думала, что может быть хуже. Может. Не думала, что душа может быть так мала и тяжела. Может. Она сжалась в комок и неимоверно отяжелела, меня скрючило и пригнуло к земле, ровно несла в себе непомерную тяжесть. Уткнулась лбом в землю и тихонько завыла. Как волчица. По жилам разбежалось пламя, и весь мир показался мне огромным костром, от которого не спрятаться ровным счетом никуда.
Они еще рубились, криков, стонов, лязга мечей было столько, что я утонула в них, как в море. Сивый еще стоял, еще рубился, или… его дорубали, но все глуше и глуше становился голос боя, все меньше мечей звенело на поляне, и под конец их осталось всего два. Один из них – Безродов. Скрипучий голос подле меня что-то кричал, но я уже не разбирала слов. Слышала только один звук во всем мире.
– Ве-е-е-ерна! – разнеслось по округе. С ужасом узнала голос Безрода.
Настал мой черед. Ратник услышал горячие моленья. Так часто это повторяла, что Великий и Всемогущий Воитель смилостивился над дурой с мечом. Но теперь я не испытывала торжества. Мне придется открыть глаза и увидеть страшное. Чувствуя, что случая больше не представится, Сивый звал меня к себе. Скорее всего полноценного поединка не случится, и Безрод просто отдаст мне свою жизнь. Сколько парней он срубил? Одного, двоих, четверых, восьмерых… Опять полтора десятка?
Толпа расступалась, открывая для меня бранное поле. На том поле стоял единственный живой и, наверное, опирался о меч, чтобы не упасть. Поди, места живого на теле нет, но знала почти наверняка: Сивый усмехается, как всегда. С той усмешкой на костер вознесут.
– Встань, Верна! – холодный рокочущий голос заставил меня вздрогнуть.
Этот человек без колебаний ответил за мою глупость собственной кровью. Просто пришел – и взял свое. Свое – это пятнадцать рвущих и полосующих мечей и прямой взгляд, которого Безрод не прятал. Никто в толпе больше не оспаривал его правоты. Не ожидали, вислобрюхие?! Назначая правила поединка, какой-то умник вспомнил старый полузабытый уклад, когда на место одного вставали двое, и так до бесконечности. Это говорит лишь об одном – решили погубить, во что бы то ни стало. Но никто даже вообразить не смел, как один человек рубит пятнадцать! Знал бы Брюст, что полдружины потеряет, приказал бы стрелами расстрелять, и то дешевле обошлось. Хотя, не знаю, Сивому только скажи «руби»… Сейчас открою глаза и увижу этот прямой взгляд. Вот только открою глаза, и выпрямлюсь. Мое время. Пора…
До сих пор ничто в жизни не давалось так тяжко, как открыть глаза и повернуть шею на голос. А еще тяжелее вставала. Ровно преодолевала непомерную земную тягу, как будто все белосветские печали обрели пристанище в моей душе и раздирали ее изнутри. При всех назвала Безрода подонком и прилюдно обещала порешить. Стало быть, иди и кончай…
Кое-как выпрямилась. Все глядели на меня, а я глядела на бранное поле. Сивый еле стоял, опираясь на меч. Его шатало и трясло. Лица просто не было, только вымазанная кровищей личина смотрела в мою сторону, и с той личины сверкали холодом два серых ока. Рубаха висела клочьями, насквозь мокрая, липла к телу, а в прорехи вытекала кровь. Могу себе представить, как было больно, но Безрод стоял и усмехался. Ратник, он даже не сможет поднять меч! Если Сивый отнимет меч от земли, просто беспомощно рухнет! Будет стоять, ждать последнего удара, – и неизменно усмехаться. Холодно и равнодушно. Читала по серым глазам, как по свитку. «Я ошибся. Не тяни… Тяжело стоять… Вот-вот сам помру… Опоздаешь…»
– Ну же! – подталкивали в спину нетерпеливые голоса. – Ну же! Иди и прикончи его!
Всем не терпелось увидеть, как бывшая жена кончает жестокого мужа, который, наверное, жить бедняжке не давал. До того, сердешная, отчаялась, что предалась любви едва не прилюдно. Знать, не от хорошей жизни.
А кто-то просто стоял и, нахмурившись, хранил молчание. Дружинные постарше и поопытнее. Эти отдавали должное Безроду молча, склонив головы и зыркая на поле из-под насупленных бровей. Все правильно до жестокости, до отвращения. И вот иду я. Вершительница справедливости. От моего меча падет сивое чудовище, мучитель безвинной жены, жестокий зазряшный душегуб… Боги, противно!
Шла и не чувствовала ног. Как не падала – ума не приложу. О боги, разве этого хотела? Это и есть моя победа? Безроду хватит одного удара, примет его, глазом не моргнув, а про меня потом скажут – она победила!
Подходила все ближе и молила богов сделать эту дорожку нескончаемой. Чтобы шла, а конца дорожке все не было. Но все когда-нибудь кончается. Остановилась в шаге. На чем, на каком духе Сивый держался стоймя? Рана на ране, лицо разбито, горло, еще недавно рождавшее песню, рассечено. Я понесла какую-то чушь, – сама не помню, что слетало с языка, но тщетно. Он плохо слышал, плохо видел и уходил от меня за кромку. Чем удержать тебя на этом свете, чем ухватить твою душу и не дать ей вылететь из порубленного тела, чем?
– Да не мучь ты его! – крикнул кто-то из толпы гневным голосом. – Не мучь достойного бойца! Обещалась порешить – решай! А глумиться не смей!
Зло обернулась. Не видать, кто кричал, глаза слезами застило. Ничего я о Безроде не знала, – как недолгую жизнь прожил, кого любил, какие земли исходил, что видел. Даже в сторону его не глядела. Надо же, как белый свет несправедливо устроен! Была душа распахнута, – бери, сколько хочешь – не брала, теперь закрыта наглухо, а я всю хочу!
Но вот тебе игрища судьбы: ясны были глаза – не могла вспомнить, глядела в упор, а вспомнить не могла. А теперь слезами залиты, – и, ровно в зачарованном зерцале, махом разглядела то, чего раньше не видела. Вспомнила, где видела эти серые глаза, вспомнила! Отчий берег, дорубают нас пришлые, все в дыму и пожарищах, меня, полоумную от злобы и полумертвую от ран, загнали в глухой угол. Какой-то захватчик с холодными серыми глазами на перепачканном кровью и гарью лице, выбил меч из рук и едва не уволок на плече, ровно мешок с мукой. Ясно, куда волок, и зачем – тоже ясно. Да только не дали ему. Налетели Крайровичи, шум подняли, кричали что-то об общей добыче, о дележе. Я уже плохо соображала, но это помню отчетливо. Тот, с холодными глазами, ухмыляясь полнозубым оскалом, уступил. Сдал шаг назад, крестообразно стряхнул с меча кровь и воздел левую руку к небесам, – дескать, уклад помню и чту. Кивнул, а потом исчез за спинами…
Все это ярко мне припомнилось, и я потерялась в этой жизни. Бездумно занесла меч и остервенело повела вниз, на холодные, серые глаза…




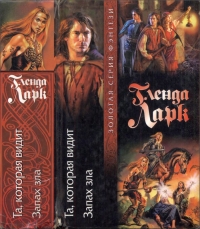
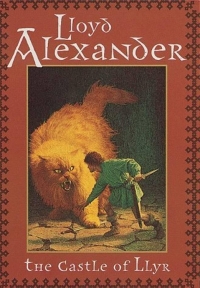
Комментарии к книге «Ледобой», Азамат Козаев
Всего 0 комментариев