Елена Хаецкая Гуляки старых времен
Этот текст имеет отношение к сказке «За Синей рекой» и представляет собой своего рода приквел всей истории. В частности, здесь действуют молодой Зимородок и молодая Мэгг Морриган. Часть текста написана Тарасом Витковским (вставные новеллы о Золотом звере и Контрабандисте и сиренах).
Все стихи в повести – мои. Одно нуждается в пояснении – это баллада, которую поет Молчун, – «Мальчик-поэт на войну пошел». У поэмы два источника. Во-первых, заглавная строчка взята из ирландской песни, которую поют какие-то переселенцы в космической опере «Стар Трек». Песня переведена плохо, за исключением этой строчки, и мне захотелось продолжить. Во-вторых, в 1996 году у меня сидели ролевики всю ночь перед стартом на игру (кажется, на один из московских «Кринов»). Это были мои соратники по Эшберну, Черная Гвардия, мы недавно вернулись с этой игры (ее устраивали под Питером). Бравые наемники расчувствовались и всю ночь пели. Один из них исполнил песню «Наемник вернулся домой». Он рассказал, что эту песню сочинил один парень, он ушел в армию служить, а когда вернулся, то обнаружил, что его песню украли: кто-то ее поет и выдает за свою. Мне спели эту песню и даже позволили ее записать, но с одним условием: я никому не дам переписывать. Я сдержала слово, запись есть только у меня, а историю украденной песни и приблизительное ее содержание (которое хорошо связалось с мальчиком-поэтом, ушедшим на войну) я использовала в «Пьяницах старых времен».
Эта повесть была написана специально для т.3 Антологии мировой фантастики – «Волшебная страна» (фэнтези), Москва, «Аванта+», 2003, по инициативе Дмитрия Володихина, составителя антологии. Толчком послужила странная моя встреча в одном из проходных дворов на Петроградской стороне. Там сидели какие-то ветхозаветные благовоспитанные алкоголики, очень вежливые, и благопристойно выпивали. Было лето, росли пыльные лопухи – казалось, не было ни перестройки, ни капитализма, а на дворе по-прежнему семидесятые… У меня в голове стало складываться стихотворение, которое приводится в тексте.
Первоначально повесть называлась «Пьяницы старых времен», но по просьбе Володихина название было изменено, поскольку основной читатель Антологии, как предполагалось, – дети, книга должна была поставляться в школьные библиотеки, и если какой-нибудь преподаватель откроет оглавление, а там, о ужас, пьяницы какие-то…
Предисловие, приведенное в этой папке, я написала для третьего тома Антологии.
* * *
Пьяницы старых, добрых времен, Где вы, пьяницы старых времен? Краснорожие, вислобрюхие, Пили пиво, стучали кружками, И икали, рыгали, хрюкали, И служанок звали подружками, – Пьяницы старых, добрых времен, Где вы, пьяницы старых времен? Пухлым задом, обтянутым юбкою, Кружевами по подолу вспененной, Семипудовою голубкою Опуститься бы на колени вам! Пьяницы старых, добрых времен, Где вы, пьяницы старых времен? Пирожки маслянистой горкою, Мясо с кровью, пива бочонок… Что потом? Ваше пенье, нестройное, громкое, Драки добрые, танцы с топотом… Пьяницы старых, добрых времен, Где вы, пьяницы старых времен?Когда Дофью Грас написал это стихотворение, то многих оно повергло в самое настоящее недоумение. Среди своих товарищей (о них речь впереди) Дофью был известен как сочинитель почтенных застольных баллад – таких, как «Горький пьяница рыжий Ганс», «Эй, привидение, сядем за стол» и бесконечная «Пивная кружка», которую исполняют обыкновенно под самый конец пиршества.
– Объясни, как это тебя угораздило представлять свою персону в виде «семипудовой голубки»! – сердито говорил Забияка Тиссен, самый суровый ценитель изящной словесности в округе.
Тиссен был лет восьмидесяти, тощ и чрезвычайно складчат; его нос и указательный палец, которым он тыкал в листок со стихами, скрючились, так сказать, в одной позе и выражали одинаковое неодобрение.
Дофью Грас, также очень немолодой господин, дородный, весьма румяный (при виде его на ум сама собою вскакивает яичница с ветчиной, пышная и брызжущая здоровьем, – до которой он был, кстати, большой охотник) вынул изо рта погасшую трубку, внимательно поковырял в ней мизинцем и с деланной рассеянностью принялся растолковывать:
– Поэт, минхер Тиссен, волен воображать себя кем угодно. Это называется – «лирический герой».
– Но почему «голубкой»? – не унимался Тиссен.
– Мне доводилось сочинять от лица старого рыцаря ван Хорста – ничего, всем понравилось. А припев в этой песне, между прочим, поется его лошадью – об этом я никому не говорил! – и ничего, все исполняли да нахваливали.
Забияка Тиссен побледнел под загаром.
– Лошадью? – переспросил он.
Дофью расхохотался.
– А «Кружка»? – сказал он потом. – Ведь эта баллада написана от имени кружки, которая перечисляет всех славных пьяниц, когда-либо наполнявших ее добрым пивом…
«Кружка», к слову сказать, была настоящим шедевром Дофью Граса. И дело даже не в том, что полностью она состояла из восемнадцати куплетов, по восьми строчек в каждом. Каждый куплет заключал в себе сжатое описание жизни, подвигов (а иногда и смерти) знаменитейших ценителей дивного хмельного напитка. Наилучшего в «Кружке» было то, что она неизменно вызывала в исполнителях дух здоровой соревновательности. Как только что упоминалось, к этой балладе приступали только после того, как все прочие бывали спеты, а большая часть бутылей и кувшинов опустевала. Требовалось не забыть ни одного куплета (что само по себе превращалось в вид спорта). Время от времени поющие замолкали, вглядываясь друг в друга блестящими от волнения глазами, а потом кто-нибудь вспоминал очередное прославленное имя и затягивал снова; прочие с облегчением и радостью дружно подхватывали. И все равно восемнадцатый куплет часто оставался неспетым. Замечательно, что автор «Кружки» помнил ее, кажется, хуже всех. Словом, «Кружка» составляла славу Дофью Граса как стихотворца.
И раз уж речь зашла об этой балладе, стоит обратиться к Анналам Общества и извлечь оттуда подходящую к делу историю. Так всегда поступают Старые Пьяницы, и мы не видим причины, почему нам следует действовать иным образом.
На последнем заседании Общества как раз зашла речь об одном из самых знаменитых персонажей «Кружки» – рыжем Гансе, том самом, которому посвящена, кроме того, отдельная большая баллада – также сочинение минхера Дофью.
Начал Густав Таверминне, весьма уважаемый член сообщества, и один из самых давних.
– Знаете ли вы, господа, что баллада «Горький пьяница, рыжий Ганс» основана на истинно бывшем событии? – так заговорил он, когда «Кружка» была допета до конца, но расходиться еще не хотелось.
Тут все загалдели, поскольку любой уважающий себя выпивоха знал множество событий из жизни рыжего Ганса – и все они были совершенно истинными. Однако не так-то просто оказалось смутить Густава Таверминне, недаром он держал галантерейную лавку, где желающий мог приобрести что угодно, от вышивальной иглы до портянок гномского покроя.
– Да, милостивые мои государи, на истинном – да не так, как это принято думать, а с вывертом и, если можно так сказать, с подковыркою, – продолжал Таверминне. – И хоть баллада от этого не утрачивает ни малой толики своей благоуханной поэтичности, а все же не все в ней трактуется под правильным углом зрения.
И, говоря все это, он чуть склонил набок маленькую сухую старческую голову, как бы демонстрируя надлежащий угол зрения. Голова у Густава Таверминне была примечательна сплюснутостью. По правде сказать, она была почти совершенно плоской, как коробочка с липкими разноцветными леденцами, столь популярными среди детворы.
Рассказ о горьком Гансе
Горький Ганс – под таким именем вошел в местные предания этот знаменитый выпивоха былых времен – жил приблизительно за сто лет до описываемой достопамятной беседы. Был это тогда совсем молодой человек, мало чем примечательный – разве что волосами цвета свежеоструганной морковки; трудился он – не слишком, впрочем, усердно – на огороде своей матушки, пока та не умерла и не оставила бедного Ганса совершенно без призора.
Здесь требуется заметить, что восемнадцатилетние молодые люди, даже и с морковными волосами, недолго бывают без женского пригляда. Ганс, разумеется, не стал исключением из этого правила. Огород его очень быстро зарос замечательнейшим бурьяном – как раз кстати, чтобы целоваться с одной застенчивой девицей по имени Дагмар.
Об этой Дагмар старые люди помнили, что она была крепкая, как яблоко, и такая же румяная; косы у нее были толстые и жесткие, так и топорщились на голове, завязанные лентами с модными тогда бархатными фигурками кошек и мышек. Фигурки свисали с кос на ниточках и вели в волосах Дагмар бесконечную охоту.
Избранница Ганса совершенно ему подходила, поскольку, кроме привлекательной наружности, обладала полезной для счастливого брака особенностью: нравом она совершенно была подобна будущему супругу, то есть склонялась более всего к лени, мечтательности и тягучим беседам ни о чем. Ясным летним деньком, когда чуть за полдень, и по небу начинают неспешно перемещаться облачка, – вот тут самое время, улегшись среди распаренных бурьянов и глядя в небо, гадать, какие фигуры этими облаками представляются. И всякий раз, когда Ганс и Дагмар думали об облаках одинаково, их охватывало ни с чем не сравнимое блаженство, и они тут же, не сходя с места, целовались.
Подобному времяпрепровождению мешало только одно обстоятельство: и Ганс, и Дагмар были очень бедны. Поэтому они мечтали также и о том, чтобы как-нибудь разбогатеть, только ничего у них не получалось.
В разговорах да поцелуях провели они все лето, а ближе к осени Ганса вдруг обуял хозяйственный дух, и он повадился ходить в лес – собирать на зиму грибы и ягоды. Принес он ровнехонько две корзины, где грибы и ягоды лежали вперемешку, да еще с шишками и сухой берестой. Дагмар взялась было разбирать, но ягоды как-то сами собою незаметно съелись, а грибы, высушенные на палочках, почти совсем исчезли – такие черные и сморщенные они сделались.
На третий раз Ганс решил набрать всего побольше – чтобы и Дагмар полакомилась, и на долгую зиму хватило – и для того забрел очень далеко.
Медленно надвигался вечер; вдруг поднялся из земли густой туман, и вскоре Ганс погрузился как бы в молоко; а затем к привычному лесному запаху подмешалась горечь. Поначалу Ганс не вполне понимал, что это такое, но вот ноги вынесли его на обширную поляну, где хватило места, чтобы ветер разогнался и поприжимал туман к лесной стене. И вот там, на краю леса, увидел Ганс белые клочья, и черные стволы, и выползающих из земли извивающихся оранжевых змей. Они обвивали стволы и уползали под корни, а потом снова приподнимались, как будто танцевали. Горечь сделалась совсем невыносимой – из глаз Ганса потекли кусачие слезы, а в горле поселился толстый колючий шар. Поглядел-поглядел Ганс на черные стволы и желтых змей, а потом вздохнул и упал на землю. Корзина укатилась куда-то, неодолимый сон сморил Ганса.
А пробудился он – ничего вокруг себя не узнал. Стоял день – парчовый осенний день. В ледяном, совершенно прозрачном воздухе так хорошо видно каждый лист на дереве, каждого сонного жучка в траве. Повернув голову, приметил Ганс женские босые ножки. Это были очень белые хорошенькие ножки, которые шевелили пальцами, словно бы гримасничая. Чуть выше пальцев обнаружился подол бледно-желтого платья, расшитый стеклянными бусинами. Затем что-то негромко затрещало – тр-р! тр-р! – и подол вместе с ножками медленно взмыл вверх.
Тут уж Ганс приподнялся на локте – чтобы получше рассмотреть происходящее.
– А! – закричали сверху. – Очнулся, очнулся!
И, шурша широкими бархатно-коричневыми крыльями, рядом с Гансом опустилась фея. С крыльев на Ганса строго взирали круглые желтые немигающие глаза. Ганс так и замер в холодной траве, но тут на него упала копна душистых, пахнущих листвой, волос. Сверху эти волосы были покрыты сверкающими паутинками – каждая тонкая нить ловила солнце и отвечала переливами радуги или чистейшим серебром. Затем показалась рука, и из-под волос вынырнуло женское лицо, молочно-белое, с пухлыми губами. Такими губами хорошо пить березовый сок прямо из ствола, а еще – слизывать с них капельки меда. Длинные волоски бровей были украшены крошечными заколочками в форме бабочек – не менее десятка на каждой брови.
– Ох! – только и вымолвил Ганс и снова без сил повалился на траву.
Фея пощекотала ему нос длинной травинкой.
– А ну-ка, – велела она, – рассказывай мне что-нибудь интересное.
– Э-э… – замычал Ганс в некоторой тревоге. – А кто ты?
Крылья шумно развернулись. Теперь глазки смотрели еще строже. Ганс разглядел синий зрачок.
– Меня зовут Изабур, – сказала фея.
– Меня – Ганс, – представился Ганс и тотчас поспешно добавил: – А мою невесту – Дагмар.
– Как интересно, – проговорила фея, укладываясь на траву рядом с Гансом. Ее крылья, наполовину сложенные, непрерывно двигались, то открываясь пошире, то почти смыкаясь. Волосы феи рассыпались по земле. В вырезе платья, за тонкими стеклянными бусами, видна была маленькая грудь, и это сильно смущало Ганса.
– У меня была подруга по имени Дагмар, – сказала фея задумчиво.
– А что с ней стало? – испугался Ганс.
– Полюбила одного человека и улетела к нему. А ты что подумал?
– Не знаю, – пробормотал Ганс. – Я всегда пугаюсь, когда говорят: «У меня была». Вот у меня была добрая матушка – она умерла.
Фея на мгновение полностью раскрыла крылья, а потом сжала их.
– Как тебя угораздило попасть в пожар? – спросила она.
– Это был пожар? – удивился Ганс.
Фея чуть повернула голову и с любопытством посмотрела на него.
– А ты что подумал?
– Я не подумал… – Ганс покраснел. – Мне показалось, что это красиво…
– Ты чуть не сгорел, – упрекнула его Изабур.
– Ужас. – Ганс закрыл лицо руками. – Ты спасла меня!
– Да. – Изабур вытянула вперед руки, взяла в каждую горсть по пучку травы и сладко потянулась, выгнув спину.
Ганс восхищенно смотрел на нее.
– Скажи мне, Ганс, что бы ты хотел больше всего на свете? – спросила Изабур сонно.
И так как этот разговор был таким же медленным и тягучим, как его беседы с Дагмар, и мысли точно так же с одинаковой важностью плавали вокруг самых серьезных на свете вещей и вокруг самых больших пустяков, то Ганс ощутил себя, так сказать, в знакомых водах и ответил фее Изабур так, как ответил бы своей любезной Дагмар:
– Я бы хотел жить в достатке, не работая, и чтобы со мной была моя любимая, а людям от меня была бы радость; мне же от них – уважение, хотя бы маленькое.
– Это можно устроить, – сказала Изабур, поразмыслив немного над услышанным. Она подвинулась чуть ближе, и вдруг ее ослепительное лицо с диковатыми глазами и бабочками на бровях оказалось совсем близко. – Поцелуй меня, – проговорили медовые губы.
Ганс вернулся домой из леса на третий день после того, как расстался с Дагмар. Был он страшно голоден, весь в копоти, одежда оборвалась, корзина потерялась, сам еле жив. Вся деревня вышла на это поглядеть. Тут уж и Дагмар не стала больше таиться – скатилась по ступеням и бросилась ему навстречу, роняя башмаки и заранее раскидывая для объятий руки. Ганс сперва остановился, а потом качнулся, как надломленный, и тоже побежал. Так они посреди дороги и обнялись, а спустя два дня поженились и перебрались жить в маленький гансов домик.
Поначалу они – что никого не удивляло – перебивались с хлеба на квас; но затем Ганс открыл пивную торговлю. В подробности он не входил, так что совет местных сплетников всю историю нежданного обогащения рыжего парня сочинил, можно сказать, за него: мол, помер какой-то родственник и оставил деньги… или даже целую пивоварню. Называли разные города и поселки, где эта пивоварня якобы находится. На самом деле никто ничего толком не знал.
А пиво Ганс продавал знатное. И не в том было дело, что оно густое или легкое, сладкое или с горчинкой; а в том, что оно всегда оказывалось по погоде, по времени года и даже по настроению, и уж если взял у Ганса кувшин-другой, то можно не сомневаться: этим пивом не поперхнешься, в горле оно комом не застрянет, голова от него не разболится, а настроение только улучшится.
Торговала по преимуществу Дагмар, в белом крахмальном чепце с множеством торчащих во все стороны острых углов, вся в бантах и искусственных цветах. От брака с Гансом стала Дагмар еще румяней; ее щеки блестели, словно отполированные масляной тряпочкой, и выглядели они крепче каменных шариков; глаза весело смотрели навстречу любому приходящему, а в ее косах теперь играли не самодельные кошки и мышки, но купленные в городе леопарды и зебры из самого настоящего плюша.
С тех пор, кстати, начали примечать различные странности, то и дело происходившие тем, где появлялся Ганс. Так, однажды стадо коров полегло на лугу, как мертвое. Это было замечено девицей, которая отправилась на реку полоскать белье. Сперва слова девицы на веру не приняли, поскольку от нее разило пивом; что до белья в ее корзине, то оно выглядело так, словно его окунали в бочку с этим хмельным напитком. Однако насчет коров решили все-таки проверить и действительно обнаружили их лежащими. Издалека они казались большими валунами, выпавшими из великаньей корзины, – рыжими, белыми, черными и пятнистыми.
Пастуха разбудили, когда веревка была уже прилажена к прочной ветке старого дуба. Напрасно бедный парень орал и брыкался – его успокоили ударом кулака в висок, после чего отнесли на место и просунули в петлю. И тут одна из коров зашевелилась, подняла морду и испустила протяжное мычание. Пастуха из петли вынули и бросили под деревом приходить в себя, а сами побежали к стаду.
И что же? Все коровы источали пивной перегар и плохо соображали, что происходит; молоко пришлось сдоить и вылить подальше от дома, поскольку то, чем доились в тот день коровы, не пришлось бы по вкусу даже хмельной лесане, что спит под грибницей пьяных грибов.
Случай этот заставил Ганса крепко призадуматься – и с тех пор он никогда больше не купался там, куда водят на водопой местное стадо.
Избегал он и целовать Дагмар в губы, когда она носила или кормила детей, – а детей у Ганса и Дагмар родилось великое множество. Любая жидкость, к которой прикасался Ганс, превращалась в пиво – таков был подарок милой феи Изабур. Пивное это процветание длилось долго-долго и, говорят, старший сын Горького Ганса унаследовал это чудесное свойство.
– А почему, в таком случае, Ганса называли горьким? – осведомился Забияка Тиссен. – Вас послушать, минхер Таверминне, так все в жизни этого Ганса обстояло просто замечательно!
– Именно так, – подтвердил Густав Таверминне. – «Горький Ганс» – это сорт пива, который начал продавать его сын, тот самый – наследник. А самого Ганса его супруга Дагмар называла Сладким…
Разумеется, многие усомнились в правдивости этой истории и всяк пожелал рассказать собственную версию; однако сейчас совершенно нет времени передавать их все.
Можно добавить также, что пиво «Горький Ганс» принадлежало к числу напитков, наиболее уважаемых нынешним Председателем Общества Старых Пьяниц.
Другими его достоинствами были: умение с закрытыми глазами распознавать любой из местных сортов пива и чрезвычайно плохая память, так что одной и той же шуткой можно было смешить Дофью Граса до десятка раз – и только в одиннадцатый он принимался мелко моргать глазами, недоуменно прислушиваясь к своим ощущениям, прежде чем сказать: «Кажется, я слышал что-то такое… «А она его уполовником», да?».
Занимался Дофью Грас промыслом пушного зверя, а жительствовал в трех домах от таверны «Придорожный Кит», владельцу которой приходился троюродным братом (а его дочери – крестным отцом; ведь известно, что и феи, и эльфы могут становиться крестными; отчего же не быть стихотворцу и пьянице?).
Таков был Дофью Грас – Председатель великого тайного Общества пьяниц древлего благочестия, избранный на этот пост после кончины Кристофера Тиссена. Забияке Тиссену этот Кристофер приходился дядей, и Забияка сильно надеялся на то, что уважение к покойному Председателю обратит сердца сотоварищей в сторону родственного тому кандидата; но этого не случилось. Однако же Забияка считал себя, пусть неофициально, хранителем традиций и, так сказать, их цензором и потому придирчиво исследовал всякое новшество, допускаемое беспечным Дофью.
Беседа их проходила в «Придорожном Ките» в поистине хрустальный час: было раннее утро – это что касается времени суток; что же до времени года, то осень только-только поставила на порог свою полную ножку в пестрой атласной туфельке. В далеких лесах, где никто не бывал, феи собирались стайками, готовясь к перелету в более теплые края, а из непроходимых чащоб и душегубных болот выбирались к людскому жилью странные существа, принося с собою для обмена мед, дичину, бочонки мятой гонобобели с пряностями, мешки древесной капусты и резаный кусковой кисель с Молочного ручья, где никогда не ступала нога человека.
В «Ките» было тихо и почти безлюдно. Говоря «почти» мы имеем в виду одно небольшое исключение. Оно представляло собою молодого человека – такого, по правде сказать, молодого и тощего, что его здесь, можно считать, и не было. Он самым невинным образом спал на полу возле каминной решетки, где ненастным вечером будут исходить паром многочисленные плащи и сапоги, а сегодня торчал забытый кем-то одинокий башмак, совершенно рыжий и с одного боку обгрызанный собакою. Длинное, сходное с тростью тело молодого человека было плотно обернуто плащом. С одного края этого рулета высовывались босые ступни, а с другого – преимущественно нос и клок светлых волос.
– Кто этот франт? – кивнул в его сторону Забияка Тиссен.
– В первый раз вижу, – отозвался Дофью. Он чуть пошевелил бровями, пробуя: получится ли в этот раз сдвинуть их, нахмурясь. Но этому намерению, как и всегда, помешала толстая складка на мясистом лбу. Дофью вздохнул. До пробуждения Алисы – так звали его крестницу – оставалось еще по меньшей мере полчаса, ибо эта достойная девушка поднималась вместе с солнцем, а солнце осенью встает несколько позднее, нежели делает это летом. Поэтому собеседникам предстояло томиться голодом не менее пятидесяти минут, пока, наконец, Алиса подаст им первую яичницу с беконом.
Разговоры, впрочем, заняли их достаточно, чтобы они почти позабыли о голоде. Речь шла о предстоящей сессии общества, к которому оба принадлежали вот уже пятнадцать лет, а может быть, и поболее.
Это общество было засекречено и окружено тайнами – и все ради того, чтобы исключить даже самую вероятность появления среди его членов всех недостойных разновидностей пьяниц. Тех, например, кто топит в вине неудачи, горе или собственную никчемность (известно, что никчемность, будучи опущена в вино, растворяется в нем, а затем, поглощенная вместе с выпивкой, принимает новые, зачастую опасные формы). Или таких, кто пьет от скуки. Злых драчунов, которые с помощью стакана желают укрепить свою злость, набраться храбрости и сокрушить пару мебелей, а то и чью-нибудь голову. Нудных резонеров, кои после второго стаканчика открывают общеобязательный университет под вывеской «Искусство жить как я это понимаю». Нет среди таковых тонких знатоков пива и душевной, поучительной беседы, и потому следует всеми мерами таить от них место и время встречи всех истинных ревнителей доброй выпивки.
Почти семь лет таким местом служил охотничий домик барона Модеста фон Эреншельда. Барон Модест был, наверное, самым беспечным из всех людей, со времен Авессалома когда-либо обладавших охотничьими домиками. Он и понятия не имел об этих сборищах, а если б даже и имел, то не слишком бы этим озаботился, поскольку проводил беспечальные дни своей жизни в развлекательных и поучительных путешествиях. По самым точным сведениям, он пускался в дорогу не иначе, как в сопровождении своры собак, большого количества лошадей, парикмахеров для всех двуногих и четвероногих, шести лекарей разнообразных профилей и квалификаций, десятка ученых мужей, занятиям которых барон покровительствовал, и самых различных прислужников, из коих наиболее оплачиваемой была должность штатного развлекателя. Немало таковых, повешенных на придорожных платанах, видели там, где пролегал путь Эреншельда. К одежде их всегда были заботливо подколоты листки с копией контракта найма на работу, где нарочно оговаривались все сопряженные с нею риски, так что никто никогда не считал барона Модеста тираном или, хуже того, преступником; напротив того, он слыл добродушным малым, меценатом и фантазером.
Однако годы шли, и в описываемую нами благословенную осеннюю пору старый Эреншельд внезапно умер, оставив после себя титул, значительное наследство, некоторое количество безутешных преданных слуг и никем не учтенных побочных отпрысков, часть из которых получала где-то образование, а часть – влачила вполне крестьянскую жизнь и лишь в минуты особой экзальтации намекала окружающим на некую тайну своего происхождения. Тучных тельцов эта тайна, впрочем, не приносила.
Единственным наследником Эреншельда сделался его племянник, сын сестры, по слухам – чрезвычайно ухватистый и реалистический человек, который не только любил деньги, но и умел это делать.
Сейчас он надвигался из столицы со сворой своих землемеров, управляющих, учетчиков, крючкотворов и советников. Охотничьему домику, а вкупе с ним и обществу старых пьяниц, грозила таким образом большая опасность.
И вот эту-то опасность и обсуждали Председатель этого почтенного Общества и многоумный Забияка, выискивая разные ходы и выходы из приближающейся ситуации. Они разговаривали вполголоса; но молодой человек, лежавший у очага, как оказалось, превосходно их слышал, потому что совершенно неожиданно он произнес:
– А почему бы вам не принять его в почетные члены? Аристократам льстит внимание.
Оба старика так и подскочили и в ужасе поглядели на незнакомца, столь внезапно подавшего признаки жизни.
Забияка спросил:
– Ты давно не спишь?
Молодой человек выпутался из плаща, сел и признался:
– Да уж порядком…
– Ну так иди к нам, – предложил Дофью Грас. – Ты, братец мой, вообще-то неприлично молод, чтобы давать нам советы.
Молодой человек вытащил из-за пазухи сверточек, развернул его и извлек из мягкой тряпицы трубку. Делал он это как бы между делом, мало интересуясь в этот момент окружающими; на самом же деле в этом заключался определенный умысел, поскольку мало кто из бывалых людей не узнал бы работу лучшего в здешних краях трубочника Янника Мохнатая Плешь.
Как известно, нет ничего слаще, чем вволю посплетничать; поэтому и наше повествование то и дело перебивается различными, в сущности бесполезными, сведениями. Взять, к примеру, этого самого Янника. Плешь у него действительно была мохнатой, то есть поросшей бледным зеленоватым мохом – иные отчаянные женщины уверяли (шепотом), что на ощупь эта плешь совсем как старая плюшевая игрушка.
Янник произошел от союза болотного тролля и беспечной ягодницы Катрины. Об этом рассказывают вполне достоверно и даже показывают украдкой Катрину – почтенную, очень старую женщину, окруженную множеством вполне человечьих правнуков.
Случилось так, что болотный тролль загрустил, поскольку непременно желал завести детей. Красть в деревне не хотелось – желательно, чтобы бедокурила в доме родная плоть и кровь. И вот забрела на болота беспечная ягодница Катрина. Тут-то и похитил ее тролль.
Для начала он напугал ее так, что она потеряла сознание а затем напоил одурманивающими травами. В полусне прожила она на болоте чуть менее года; когда же ребенок наконец родился, тролль снабдил Катрину богатым приданым и вынес на дорогу, ведущую в город, а сам преспокойно ушел.
Случившееся Катрина помнила очень плохо и никогда не горевала о тролленке, зато приданым распорядилась весьма здраво. Янник же вырос сущим уродом как по людским меркам, так и по тролльским и оттого предпочитал уединение.
Лишь очень немногим удавалось снискать его дружбу и доверие, а уж заполучить трубку янниковой работы – это, господа мои, говорило о человеке очень и очень многое! Поэтому Дофью Грас, ни слова не произнеся, вынул из кармана собственную трубку – старшую сестру той, что продемонстрировал незнакомый парень, – и положил ее на стол.
Юноша не спеша достал мешочек с табачком, и Грасу предложено было угоститься.
Ах-ах, знатным оказался табачок, и вскоре кольца дыма, сплетаясь восьмерками и как бы кривляясь на легком сквознячке, поплыли над столом и макушкой Тиссена, исчезая в конце концов возле арочного проема, за которым располагался вход в таверну.
Дофью Грас думал о том, что незнакомый юноша отменно учтив и умеет себя держать; а также и о том, что солнечный луч уже ощупывает ставни, проникая в щели и норовя взломать преграду, а стало быть и Алиса уже поднялась и повязывает фартук, и ветчина, извлеченная из погреба, истекает напрасными слезами.
Вскоре Алиса действительно спустилась по ступеням, приветливо махнула обоим старикам и молодому человеку и скрылась в кухне. С утра ее чепец и одна щека были несколько примяты, но когда она выступила из кухни с огнедышащей яичницей, как бы пронзенной множеством длинных тонких розовых ломтиков, то и щеки, и чепец, и фартук хозяйки чудесным образом разгладились и радовали глаз: первые – румянцем, вторые – белизной, разве чуть-чуть сдобренной веселыми золотыми брызгами масла. Словом, все вокруг в этот час сверкало, шкворчало и бурчало.
Алиса поцеловала Дофью в мясистый лоб, Тиссена в запавший висок, а незнакомого парня – прямо в губы, назвав при этом Зимородком, после чего ушла опять в кухню – варить кофе.
– Зимородок? – переспросил Тиссен, с подозрением щурясь. – Это тебя так зовут?
Молодой человек усердно покивал, не переставая поглощать свой кус яичницы.
– Хо-хо! – молвил Дофью Грас. – Знатно готовит наша Алиса.
– Смотри, чтоб она не пронюхала как-нибудь про «семипудовую голубку», – предупредил Забияка Тиссен.
Грас изумился:
– А при чем тут Алиса?
– Женщины, – жуя, ответил Тиссен, – мнительны.
– Это точно, – подтвердил и Зимородок.
Яичница закончилась, по обыкновению всех представительниц своего коварного желтого племени, очень быстро, и трое сотрапезников погрузились в волнительное ожидание вчерашнего пирога с кофе.
И вот, слово за слово, стала сплетаться у них беседа; каждый извлек из закромов то, чем был богат; и когда уж и кофе, и разогретый пирог с корочкой отошли в область преданий, готов был отменный план, как сбить молодого Эреншельда с истинного пути, чтобы никогда не найти ему охотничьего домика в своих лесных угодьях. А коли заговор вполне созрел, то и нам больше нечего делать в таверне «Придорожный Кит», поскольку ничего любопытного там больше в тот день не происходило.
А вот недели две спустя заглянуть туда не мешало. Давно уже не видели здешние края такого наплыва темного сукна, удушливых воротничков и серых физиономий с пуговичными глазами, совершенно плоскими. Такие глаза хорошо приспособлены к разглядыванию денег, счетов, лицензий, схем застройки, завещаний и иных предметов, не обладающих профилем; что до захолустных уголков, подобных тому, где царил «Кит», то там преобладали предметы округлые и выпуклые, и оттого трудно даже предположить, какими предстали в то утро молодому Эреншельду достойная хозяйка Алиса, ее пухлые пироги и пузатые пивные кружки. Во всяком случае, покинув экипаж и ступив на дорожку, ведущую к таверне, Эреншельд прищурился и молвил: «Гм».
Молодой Эреншельд был лет сорока, с острым аккуратным носиком и странно отвисшими щечками на худом лице. Они свисали с костлявой челюсти как два пустых мешочка, жаждущих наполнения, что придавало их обладателю – невзирая на хорошо пошитую одежду из качественного сукна, с восемью жемчужными пуговицами на каждом манжете – вид если не голодный, то, во всяком случае, алчущий.
Он поднялся по трем ступенькам, сморщившись, как от кислого, когда они заскрипели, занял кресло возле камина и поднял в воздух длинный палец, призывая хозяйкино внимание. Алиса тотчас приблизилась и не без изумления получила заказ на рагу из тушеной капусты брокколи и каменной маркрови.
– Брокколи? – переспросила она, хмурясь, отчего ее милое личико, которое так славно выглядывает поверх горки румяных пирожков, сделалось старообразным. – Это такие маленькие зеленые катышки?
Эреншельд медленно и важно опустил голову, что обозначало утвердительный кивок. Алиса, таким образом, была сразу и озадачена, и поставлена на надлежащее место.
Свита нового барона закусывала, чем придется, – со всеми этими землемерами хозяйка решила не церемониться и вывалила им на блюдо черствых булочек (иные оказались даже понадкусаны), холодной говядины с жилками и ноздреватым жиром и слипшейся фасоли. Все это они ковыряли ножами и вилками, тоскуя, пока Эреншельд величаво дожидался своего овощного рагу.
Из других посетителей в «Ките» имелся только Зимородок. Он весело поглощал пирог с капустой, обильно запивая его темным осенним пивом, а до приезжих господ ему и дела не было. И до чего же бывалый вид был у Зимородка этим утром! Одни только сапоги из мягкой оленьей кожи чего стоили! Они вздымались выше колена, обладали шнуровкой – что там корсаж жеманницы Анны-Сванны из модного романа «Ухищрения Анны-Сванны»! – и страшными разбойничьими раструбами. А куртка, вышитая по подолу и вокруг ворота специальным болотным узором, где в переплетении нитей виднеются бородатые рожи с выпученными глазами, и лоси, что сшиблись и перепутались рогами, и рыбы, у которых из жабер вырастают длинные ветвистые растения с шипами и кусачими листьями! А волчий клык на сыромятном ремешке, что болтается на шее вкупе с пучком переливающихся перьев и хвостиком пушного зверька! Словом, каждый квадратный дюйм Зимородка оповещал нечаянного зрителя о том, что перед ним – искуснейший следопыт, какого только возможно встретить на окраинах цивилизованного мира.
И потому нечего удивляться тому, что Эреншельд, расправившись с брокколи и каменной маркровкой, поглядел в сторону Зимородка и поднял палец. Зимородок в ответ поднял брови и приложился к своей кружке. Эреншельд продолжил безмолвный диалог и чуть согнул палец, подтверждая свое намерение видеть Зимородка подле себя. Следопыт как бы нехотя поднялся, забрав с собою пиво в кувшине, и перешел к камину.
– Приятное утро, – молвил Зимородок.
Это замечание поставило Эреншельда в тупик. Он поморгал несколько раз, а затем неподвижным взором уставился в стену – как раз туда, где копоть от факела оставила пятно, напоминающее голую женщину.
– Я к тому, что погодка дивная, – пояснил Зимородок.
– Э… – выговорил Эреншельд. – Вы, сударь мой, должно быть, из местных?
– Я-то? – переспросил Зимородок и поковырял в ухе мизинцем. – Я из разных мест. А что?
– И почем вы берете? – поинтересовался Эреншельд.
– Смотря по работе, – ответил Зимородок. – Скажем, извести тролля-детоеда – одна цена, а набить мяса бегепотама – совершенно другая. Смотря по степени риска, затратам времени – понимаете?
Эреншельд поморщился, как будто все эти речи доставляли ему неудобство.
– Мне требуется консультант, – выговорил он наконец, немного неуверенно, как будто и сам не до конца понимал, что именно ему нужно.
– Ну… – протянул Зимородок. – За консультации я беру по три гульдена в день.
Эреншельд так и подскочил, тряхнув щечками-мешочками.
– Что это за расценки! – вскричал он. – Да вы сами, как я погляжу, людоед!
– Объясню, – произнес Зимородок невозмутимо. – Консультация занимает у меня почти все время. Ни тебе пива попить, ни поразмыслить о важных вещах. Никакого досуга. Только консультируй да консультируй. Да и работа умственная, а за умственность цена выше.
– Справедливо, – нехотя согласился Эреншельд.
– Но уж зато я полностью ваш, – добавил Зимородок и повернулся чуть боком, чтобы Эреншельду лучше были видны волчий коготь и вышивка с рожами, оленями и так далее.
– Вы приняты, – решил Эреншельд.
Зимородок набил трубочку и склонил голову набок, показывая, что слушает. От Эреншельда он узнал, естественно, только то, что и без того было ему хорошо известно: о наследстве, необходимости учета новых богатств и дальшейшего их использования (Эреншельд предполагал построить фабрику – в зависимости от обнаруженных ресурсов). Наследник барона Модеста был неприятно удивлен тем обстоятельством, что обжитые земли заканчиваются, собственно, «Придорожным Китом» и дорога, дотоле ровная и наезженная, здесь обрывается, а далее простираются леса и болота, населенные зверьем и всякой нечистью.
Впрочем, Зимородок уверял, что при наличии толкового и опытного консультанта вполне возможно обследовать значительный участок лесного массива без всякой опасности для себя.
Договор скрепили рукопожатием, после чего Эреншельд удалился отдавать распоряжение свите и собирать дорожный нессесер, куда были сложены желудочные пилюли, счетные приспособления, тетрадь учета и носовые платки. Зимородок запасся у доброй Алисы связкой вяленой говядины и фляжкой яблочного сидра. Алиса позволила поцеловать себя в румяную щеку, покрытую легоньким белым пушком, и тут появился Эреншельд, кислый, но вполне готовый к путешествию.
Выступили немедленно и почти сразу погрузились в лесную чащу.
Осень в ту пору наливалась красками. Листья как будто потяжелели, взяв на себя бремя яркого цвета, и держались на ветках уже не столь уверенно, но все же пока не поддавались. Мох под ногами пружинил, а по кочкам расстелились сети, затканные зеленобокой клюквой.
Эреншельд, надо отдать ему должное, шагал легко, не отставал и не жаловался. Время от времени промокал каплю, возникавшую на острие носа, да зорко оглядывал плоскими глазами кочки, словно подсчитывал количество имеющихся в наличии клюквин. В разговоры он пока что не вступал и видно было, что странные красоты окружающего производят на него невеликое впечатление. Несколько раз чуть в стороне от тропинки в болоте вздувался пузырь, и в мутноватом полупрозрачном куполе показывалась недовольная физиономия тутошки – в реденькой розоватой шерсти, с выпученными белесыми глазами. Тонкие ручки липли к внутренней стороне пузыря, а когда он вертелся, то сзади хорошо были видны мокрые, смятые мушиные крылья. Эреншельд только раз глянул в ту сторону, но ни о чем не спросил.
Зимородок поводил его по лесу до вечера и устроил привал на Грибной кочке – сравнительно сухой поляне, которая несколько возвышалась над общим уровнем болота. Говорили, будто на самом деле никакая это не кочка, а спина (иные поправляли – мягкие части) старой лесани, которая в свое время так напилась пива, что упала носом в болото и в таком положении крепко заснула. Звали лесаню не то Таита, не то Саливата, а может, одновременно обоими именами; из всей ее внешности наиболее примечательным считался нос. Собственно, нос-то и подвел: пока она спала, он пророс и сделался корнем большой грибницы. Грибы Саливаты, напоенные пивными парами, служили для приготовления особого хмельного напитка. Кроме того, пьяными испарениями полны были пузыри, что вздувались в топях окрест Грибной кочки, так что тутошки вылетали из них совершенно нетрезвые и выделывали в воздухе различные фортеля, отчего нередко падали обратно в топь – и, случалось, погибали.
Обо всем этом Зимородок собрался было рассказать Эреншельду, но тот опередил следопыта. Пока Зимородок разводил костер и водружал над огнем котелок, новый барон вынул из своего несессера счетное приспособление, хитро перевязал на нем несколько узелков, отметив их белым шариком, надетым на ту же нитку; после чего молвил:
– Ну что ж, можно считать, что первый день ревизии прошел успешно. Я доволен. Богатый торф. Возможно, залежи железной руды.
Зимородок задумчиво глядел в огонь, а мысли так и скакали в его голове, иные ощутимо бились о крышку черепа. По-своему Эреншельд был достоин уважения: он явно обладал бесстрашием и в точности знал, что именно ему требуется. Сбить такого человека с пути будет труднее, чем представлялось вначале.
Перед тем, как улечься спать на лапнике, который настелил заботливый Зимородок, барон объявил, что решительно всем доволен, и выдал своему консультанту три гульдена.
Ночью было холодно; продрог даже Зимородок, хоть и просидел у костра в тяжких раздумьях. Что до Эреншельда, то утром он имел измятый вид и, едва открыл глаза, как принялся отчаянно чихать и кашлять.
– Да вы простужены, барон! – воскликнул Зимородок. По правде сказать, следопыта глодала совесть: вчера Эреншельд так уважительно отнесся к познаниям специалиста в области, неведомой ему самому, что заслуживал лучшего, нежели хождение кругами по одному и тому же болоту в поисках какой-нибудь нечисти, способной запугать горожанина.
– Пустяки, – сипло объявил барон. – Я готов выступить немедленно.
– Ни в коем случае, – сказал Зимородок. – Как ваш консультант я настаиваю на возвращении в «Кит». Вы нуждаетесь в хорошем уходе.
Слабенький ход – но сделать его стоило.
– А я как ваш наниматель приказываю продолжать, – возразил Эреншельд свистящим шепотом и сорвался в кашель. Он поспешно рванул к себе нессесер и выхватил оттуда целую пачку платков.
– По крайней мере, позвольте напоить вас горячим перед тем, как мы пустимся в путь, – сдался Зимородок.
Эреншельд кивнул, уткнув лицо в платки.
Зимородок собирал ветки, чтобы согреть воды, и тут ему повезло: на склоне кочки он обнаружил гриб. То был последний отпрыск некогда славного и многочисленного рода хмельных грибов нынешнего года. Как и полагается младшим сыновьям разорившихся фамилий, он нес на себе все признаки вырождения, но отличался стойкостью и гордым нравом. Ножка его была длинна и тонка, шляпку объели улитки – да она и без того выросла кривобокой. Иней, покрывший шляпку ночью, растаял, и по грибу стекала кристальная вода. Зимородок лизнул – сладкий винный вкус мгновенно согрел язык и небо. Гриб был сорван и подложен в чай.
Барон проглотил питье, заметив при этом, что совершенно согрелся и взбодрился и готов идти дальше. Глаза у него заблестели и сделались как будто менее плоскими. Теперь он замечал вокруг разные разности, а не только акры пригодного для разработки торфа. Он даже остановился, когда мимо по воздуху медленно проплыла паутина с сидящей в центре эльсе-аллой. Обернутое сверкающей нитью тельце красиво изгибалось, на маленьком личике играла веселая улыбка. Десятки белых косичек, уложенных на голове самыми причудливыми петлями, переливались на солнце. Эльсе-алла ловко управляла полетом, вытягивая то одну, то другую нить, и, озорничая, сделала круг над головой барона, после чего улетела, подхваченная попутным ветром.
– Кто это? – спросил Эреншельд.
Зимородок сделал удивленное лицо:
– О ком вы, барон? Здесь никого нет, кроме нас с вами.
– Странно, – пробурчал Эреншельд, с подозрением поглядывая на Зимородка.
К вечеру, едва только между кочками начали появляться подушечки тумана, барону стало совсем худо. При этом барон, казалось, не вполне понимал, что это с ним такое происходит. От жара, волнами ходившего в теле, окружающий мир воспринимался им совершенно в новом свете. По деревьям пробегали разноцветные блики, время от времени в поле зрения попадал какой-нибудь яркий лист с резными краями. Он производил на барона особенно сильное впечатление и долго потом не покидал его мыслей. Лес был полон красок и звуков. Красота внезапно напала на Эреншельда со всех сторон, изумила его и окончательно лишила сил.
Зимородок водил его по болоту, стараясь не забредать в чащобу, где жесткие ветки сгрызли бы барона до костей, а сам все думал: где бы им остановиться на ночлег. Безумием было спать под открытым небом сейчас, осенью. Эреншельд поражал следопыта все больше и больше: не жаловался, ни в чем не обвинял, не давал советов. В конце дня опять вручил три гульдена.
– Скажите, – обратился барон к Зимородку, пока тот укладывал деньги в кошель, – много ли в здешних лесах браконьеров и опасны ли они?
– Как и везде, – уклончиво отозвался тот.
– Я к тому, что вон там, кажется, какие-то огни, – пояснил барон.
Зимородок вскинул голову, охваченный сильным мгновенным предчувствием. Впереди действительно горел огонек. Но это было не пламя костра – горело слишком ровно.
– Окно, – пробормотал Зимородок. – Там какой-то дом.
Он стоял, расставив длинные ноги в замшевых сапогах со шнуровкой, – лихой следопыт, знаток непроходимых болот, – и недоуменно оглядывался по сторонам. Нет, не мог он сбиться с дороги настолько, чтобы вывести нового барона к потаенному охотничьему домику – логову Старых Пьяниц. Это, братцы мои, совсем в другой стороне.
И однако же домик между деревьями стоял, окошко в нем светилось – и вдобавок ветер донес ни с чем не сравнимый дух печного дыма.
– Иллюзии так не пахнут, – сказал Зимородок сам себе.
Барон был болен и даже не догадывался, насколько серьезно. Даже если в избушке засели злые браконьеры, лучше уж сдаться на их милость, чем провести вторую ночь на холодной земле. И Зимородок, приняв такое решение, зашагал прямо на огонек.
Избушка словно обрадовалась приближению неожиданных гостей и почти сразу проступила между стволами. Можно было подумать, что она двинулась навстречу путникам, желая поскорее распахнуть перед ними двери.
Зимородок остановился. Домик был теперь очень хорошо виден. Отродясь не имелось в здешних краях такого домика. И тем не менее он стоят – и именно тут – и, более того, выглядел очень старым, на треть вросшим в землю. Большие бревна, из которых он был сложен, почернели; крупные щели между ними недавно заткнуты белыми космами свежего мха. Мох свисал повсюду длинными прядями; иные были заплетены в косицы и украшены бантом из травы, другие разлохмачены, а по одному важно разгуливала маленькая длинноклювая птичка.
Из окошка изливался гостеприимный желтый свет, а за низенькой дверью угадывались тепло и запах печи и овчины. Устоять перед таким искушением Зимородок, естественно, не смог. Он постучал и вошел, а барон Эреншельд, не раздумывая, двинулся вслед за ним – и оба замерли на границе темных длинных сеней и большой комнаты, перегороженной в двух местах низкими черными балками.
В комнате жарко пылала печь, возле которой имелась целая поленница дров, предназначенных на убой. Смолистые поленья точили липкие слезы, а огонь клацал с веселой кровожадностью и все шире разевал свою оранжевую пасть. На большом столе стоял огромный, чуть меньше бочонка, чайник, покрытый толстым жирным слоем копоти. Его носик горделиво изгибался, как лебединая шея с разинутым клювом, а ручка была, для удобства, обмотана лоскутом ткани, тоже в пятнах сажи.
За столом, среди чашек, огрызков печенья, рыбных костей, хлебных корок, сморщенных моченых яблок и щепоток сфагнума в кисло-сладком рассоле сидели трое троллей и играли в карты.
Зимородок сразу понял, что это тролли, потому что водил знакомство с Мохнатой Плешью и знавал даже его отца; что до барона, то он поначалу ничего не понял, потом удивился, но после краткого раздумья принял благоразумное решение ничему не удивляться – и тотчас последовал ему.
Тролли были очень носаты, обладали значительным количеством бородавок (что у некоторых племен считается признаком красоты) и огромными заостренными ушами. Их одежда, расшитая бусинами и косточками различных животных, отороченная мехом и бахромой, источала острый хорьковый дух. Вообще же все трое пребывали в очень хорошем настроении, несмотря на то, что у одного имелся под глазом свежий фонарь, а у второго левое ухо совсем недавно сделалось ощутимо крупнее правого и тихо мерцало трагическим багрянцем; но все это лишь потому, что они плохо мухлевали в карты.
Тут задергал носом один из них и сказал:
– Люди!
Все трое побросали карты и развернулись носами к Зимородку и его подопечному. Зимородок вежливо поклонился и молвил так:
– Мир этому месту и благоволение болота его обитателям. Да пребудет с вами благорастворение его пузырей!
Носы одобрительно покачались в воздухе, потом старший из троих ответил:
– Порог ногам, балка макушке, котелок для пасти, скамья – для задницы. Входи, брат! Кто это при тебе?
– Мягкого тебе сфагнума, – еще вежливее отозвался Зимородок, – а братьям твоим сладкой гонобобели! Это барон Эреншельд, новый владелец здешнего торфа.
– Хо! Хо! – взревел другой тролль. Его темно-рыжие волосы топорщились из-под платка, повязанного узлом назад, а на шее висела связка куничьих хвостов и лапок. – Слыхали! Слышь, брат Сниккен, барон пожаловал!
– Добрый вечер, – невнятно выговорил барон.
– Бокам лежанка, брюху буханка, спине – овчинка, балде – мякинка! – закричал тролль, которого называли брат Сниккен. – – Барон, да ты весь горишь! Лечь тебе надо, лечь!
– Это правда, – сказал Зимородок, делая шаг вперед. – Как бы не уморить нам барона до смерти, господа мои и братья, ведь он нешуточно простудился минувшей ночью.
– Я совершенно здоров! – неожиданно твердым голосом проговорил Эреншельд и склонил голову в четком поклоне. Перед глазами у него то плыло, то вдруг замирало. Разум время от времени вообще переставал воспринимать происходящее, оставляя своего обладателя наедине со странными образами.
– Оно и видно! – завопил брат Сниккен, подпрыгивая на лавке. – А иди-ка сюда, барон, откушай малость, да полезай на печку!
– Меня тошнит, господа! – еще более твердо произнес барон.
– Видали? – развел руками Зимородок.
И вот уже барона поят крепким чаем с дымком и запахом шишек, а после препровождают на лежанку и закутывают в лохматое, заплатанное одеяло, которое время от времени оживает и принимается углом, как лапой, чесать одну из заплат. Тем временем Зимородок (теперь уже брат Зимородок) сидит с троллями за столом, проигрывает им в карты баронские гульдены и ведет поучительные беседы.
– А скажи вот, брат Хильян, – спросил он у того, что был с подбитым глазом, – как это вышло, что ваш распрекрасный дом оказался в наших краях? Отродясь я не видывал такого превосходнейшего дома!
Брат Хильян снисходительно рассмеялся. Глядя на него, и остальные засмеялись тоже.
– Ты, брат Зимородок, многого еще на болотах не видел. Это Гулячая Избушка. Слыхал про такую?
– Гулящая? – переспросил Зимородок.
Брат Хильян оскорбился.
– Это сестра твоя – гулящая, – сказал он, – а наша избушка – Гулячая. Потому что гуляет где ей вздумается. Ее называли еще Бродящая, но нам не нравится. Гулячая – как-то нежно. Как «гули-гули».
И Зимородок узнал, как в начале времен та самая Мировая Курица, что снесла первое в мире Яйцо, была поймана и разрублена на части Грунтором-Мясожором, Отцом всех Великанов, и этот Грунтор извлек из ее утробы множество маленьких недоразвитых яичек.
– И знаешь, что он с ними сделал? – спросил брат Сниккен.
Зимородок не знал.
Грунтор-Мясожор отнес их в Первозданный Лес и оставил там на Солнечном Пригорке. И когда Первородное Солнце озарило их лучами, то они быстренько покрылись скорлупой и оттуда по прошествии времени вылупились…
– Цыплята? – сказал Зимородок.
На него замахали руками, а брат Хильян презрительно высморкался.
Потому что вылупились вот такие гулячие избушки. Их было около десятка, но несколько сожрал Грунтор, еще три разбрелись по свету, а одну сумел заарканить храбрец-удалец Грантэр-Костолом, Отец всех Троллей, и она стала троллиным наследством.
– Переходит из поколения в поколение, понял, брат Зимородок?
Брат Зимородок сдал карты и увидел, что дело его совсем плохо – обчистят его тролли, как бы без сапог не остаться.
Брат Сниккен взял щипцами из очага пару красных угольков и бросил их в чайник, а после налил себе и остальным освеженного таким образом чая. Разговор за игрой (шлеп – шлеп) перешел на нового владельца здешних акров торфа.
– Стало быть, старый Модест помер, – сказал брат Сниккен задумчиво.
– Сменил болото, – кивнул брат Хильян.
– Перекинулся в пузырь, – вздохнул брат Уве по прозвищу Молчун.
– Именно, – подтвердил Зимородок.
– А новый из себя каков? – поинтересовался Сниккен.
– Говорят, он городской, – вставил брат Хильян.
– Деньги любит, – добавил брат Уве.
– Жадный, – сказал брат Сниккен.
– Ни таракана в нашей жизни не смыслит, – объявил брат Сниккен.
– Дурак дураком, – сказал брат Хильян.
– Да вон он, на печке лежит, – показал Зимородок.
Все посмотрели на печку. Одеяло тотчас перестало чесаться, встряхнулось и свернулось у барона на ногах. Барон не то спал, не то грезил; глаза его под полузакрытыми веками двигались.
– Этот? – протянул брат Сниккен. – А говорили, будто он хочет все тут переворотить.
– Это правда, – признал Зимородок, – хочет.
– Ты для чего в болота его завел? – напрямую спросил брат Хильян. – Не для того разве, чтобы утопить?
Зимородок отвел глаза.
– А, угадал, угадал! – завопил брат Хильян и в восторге затопал под столом ногами.
– Штрассе, – молвил Молчун и посмотрел на Зимородка.
Сниккен стремительно протянул через стол длинную руку и начал быстро шарить у Молчуна за пазухой и под мышками, но ничего не нашел.
– Нет, это честная штрассе, – сказал Молчун.
Брат Сниккен плюнул и полез за деньгами.
– Топить барона не будем, – решительно произнес Зимородок.
– Тебе что, его жалко? – удивился брат Сниккен. – Странный ты какой-то, брат Зимородок, вот что я тебе скажу!
– Утопим – земли отойдут городскому магистрату Кухенбруннера, – объяснил Зимородок. – Я уже интересовался. Вам что, нужны тут все эти бюргеры?
Тролли дружно посерели.
– А мы их тоже уто… – начал было брат Хильян, но остальные уставились на него, и он замолчал.
– Барон не так плох, как показался поначалу, – заговорил Зимородок.
Изба чуть накренилась. Брат Сниккен хватил кулаком по стене:
– Цыц! Стоять!
Изба замерла. Две чашки – те, что не успели прилипнуть к столу, – съехали и приникли к чайнику.
Молчун сказал:
– Подумать надо бы.
Они стали думать и перебрали множество вариантов.
Барон Эреншельд пробудился в странном месте от странного ощущения: впервые за долгие годы у него нигде ничего не болело. Не свербило, не ныло, не мозжило. От стояния за конторскими столами у него развились разные болезни костей. Он уже свыкся с ними и даже привык считать себя стоиком во всех смыслах этого слова – и вот, удивительное дело, в поясницу больше не вступает, колено больше не выворачивает и так далее. Барону сделалось легко.
Удивляясь этому ощущению, он передвинулся на лежанке и высунул лицо наружу. Одеяло, гревшее его, потянулось и перевернулось поперек. Барон машинально поскреб ногтем красную заплатку на шкуре, потом еще пестренькую.
В комнату просачивался серенький утренний свет. Четыре фигуры за столом дули чай и негромко беседовали. На фоне оконного переплета выделялся носатый профиль брата Сниккена. Уве Молчун, чьи огненные кудри подернуло золой предрассветной мглы, задумчиво трогал маленькую арфу.
– Тихо!!! – гаркнул вдруг брат Сниккен так оглушительно, что остатки сна панически покинули барона. – Молчун будет петь!
– Это еще не обязательно, – возразил брат Хильян.
– Обязательно! – отрезал брат Сниккен.
Молчун еще немного побулькал арфой, а потом затянул воинственно и вместе с тем уныло:
Мальчик-поэт на войну пошел, Взял арфу и меч с собою, Оставил свой дом и лохматого пса И девушку с русой косою. В атаку ходил он и кровь проливал, И видал короля он однажды, Он ранен был, он арфу сломал И раз чуть не умер от жажды. Один его друг от стрелы погиб, А другой без вести пропал, А третьего он после битвы сам В чужой земле закопал. Мальчик-поэт вернулся домой, Он долго был болен войною, Но подруга осталась ему верна И стала его женою. Мальчик-поэт ей песни пел Про звезды, закат и луну, Про собак, про ветер – про все что угодно, Но только не пел про войну, Никогда не пел про войну!Арфа брякнула еще несколько раз и затихла. Уве Молчун намотал на палец рыжую прядь и задумчиво выглянул в окно. Капельки, покрывшие маленькие стекла, вдруг вспыхнули разноцветными огоньками.
– Они прекрасны, как бородавки, – заметил брат Уве, отрешенно созерцая их.
– Проклятье! – взревел брат Сниккен. – Я всегда плачу, когда он это поет! Всегда плачу, как проклятая жаба-ревун!
Четверо сидевших за столом были так увлечены чаепитием и песней, что даже не заметили, как барон пробудился ото сна. Смысл и содержание их застольной беседы настолько поучительно, что имеет смысл передать их здесь, хотя бы вкратце.
Вот о чем они говорили.
Рассказ о кочующем кладе
Во времена короля Брунехильда Толстопузого жил-был один злодей именем Госелин ван Мандер. Говорили, что в молодости он был солдатом и выгодно сумел устроить свою жизнь, обыграв в карты одного долговязого, носатого, в полосатых красно-белых штанах. Другие считали, что он нажил богатство, занимаясь грабежами и даже обирая тела своих погибших товарищей.
Но какой бы ни была молодость Госелина ван Мандера, с годами он превратился в гаденького старикашку, сварливого и неряшливого, который жил в страшной нищете и проводил дни, таскаясь по тавернам. Когда ни зайдешь, бывало, в «Кита» – выпить сидра и поболтать с соседями – а Госелин уже сидит там, брызжет слюной да рассказывает, какой он был удалец-молодец, скольким за жизнь вспорол брюхо и выпустил кишки – можно подумать, что это великое достижение! А под конец непременно затягивал эту самую песню – «Мальчик-поэт на войну пошел»…
Уверял, будто это его сочинение; только пел он ее так фальшиво, что никто в такое не поверил бы, даже если бы захотел. И хоть ни один человек не мог знать наверняка, как получилось, что Госелин ван Мандер поет эту песню, но само собою сделалось известно, как украл он ее у погибшего солдата вместе с тощим его кошельком, локоном любимой в золотом медальоне и узелком свежих сухариков.
Но больше всего любил Госелин – уже перед самым своим уходом – намекнуть окружающим на несметные сокровища, которые сумел скопить неправедными трудами. И хранятся, мол, эти сокровища так, что ни одна каналья не сумеет до них добраться, ни при жизни Госелина, ни после его смерти. Потому как клад этот, будучи кладом наемника, не знавшего родины, также не признает оседлого образа бытия и кочует, где ему вздумается, так что и сам Госелин подчас понятия не имеет о местонахождении своего сокровища.
Таким вот образом Госелин куролесил по всем окрестным тавернам, а потом однажды его нашли у перекрестка трех дорог, припорошенного снегом и окоченевшего, как коряга, – с растопыренными руками и сильно торчащим твердым носом.
С той поры никогда не переводились охотники отыскать кочующий клад Госелина ван Мандера. И многие сгинули на этом пути; однако нашлись и такие, которые преуспели, в том числе – профессор Вашен-Вашенского университета Ульрих фон Какой-То-Там, написавший несколько научных работ на эту тему, например: «Архетип кладоискателя в свете мифопоэтики Кочующих Кладов», «Нематериальные сокровища, их преемственность и недостижимость», «Заклички, заклинания и ловля клада за хвост как образ жизни» – и многие другие.
Уже на памяти Зимородка одна отчаянная девчонка, трактирная служанка по имени Мэгг Морриган, выследила клад ван Мандера, проведя на болотах не менее месяца. Неизвестно уж, что она хотела оттуда забрать, только в последний момент клад обернулся полосатым камышовым котом с медными усами. Мэгг повисла у него на хвосте, и почти целую ночь, до самого рассвета, камышовый кот таскал ее по болотам, а с рассветом хвост оторвался и рассыпался жемчугом, который весь потонул в трясине. Мэгг Морриган после этого случая долго ходила молчаливая и только спустя год снова начала разговаривать как все люди.
Братья-тролли – те устроили на клад настоящую облаву, окружили его кострами синего пламени и в конце концов поймали, бьющимся и мокрым, под поверхностью болота, на глубине двух саженей. Клад метался, рычал даже и бил всеми шестью когтистыми лапами, а когда вытащили его и пригвоздили особым оленьим рогом, обточенным нарочно для этого случая, вдруг обернулся той самой песней, которую украл когда-то ван Мандер.
Рассказывали еще об одном удачливом портняжке, который женился на девушке с рыбьей кровью. Кровь нашептала жене, а жена сказала мужу – и вот уже они вдвоем идут на болота, а там, дожидаясь их, цветет трава папур, яснее ясного показывая, где сидит клад старого Госелина. Они, не будь дураки, набросали вокруг рыбьей чешуи от шести разных пород рыб и начали копать. Поднялся тут страшный вой и выскочила наружу перемазанная тиной девчонка, голая и скользкая. Попробовала выскочить и удрать, но наколола о чешую босые ноги, а тут-то ее и сцапали за зеленые косы. Девчонка присмирела и обернулась сундучком с хорошими золотыми дукатами.
На эти дукаты портяжка построил дом, накупил тканей, ниток и иголок и нанял пятерых толковых работников, из которых трое умели шить, а остальные два тоже приносили пользу.
Но такое везение случалось редко; а сколько людей погибло навек, только тем и занимаясь, что гоняясь за Кочующим Кладом! Иному, например, во сне видятся монеты, либо красавица с ног до головы осыпанная самоцветами, а то и библиотека драгоценных книг и нот… все, пропал человек!
И вот, пока велись все эти беседы, в голове барона Эреншельда сам собою начала складываться картинка:
Возьмут они с Зимородком хлеба и насыплют на болоте крошек повсюду, а потом сядут в засаду и будут ждать, терпеливо и очень тихо. И придет олень или какое-нибудь другое сказочное животное и начнет эти крошки мягкими губами подбирать. Тут-то надо выскочить и оленя напугать. Олени, если их застать за едой с человеческого стола, превращаются в деревья.
Это оленье дерево и будет кладом ван Мандера.
Так думал бедный Эреншельд и ведать не ведал, что клад проклятого Госелина кочует не только по болотам, но и по рассудкам самых разных людей, непрерывно при том изменяясь. По правде сказать, ведь и сам Госелин впал под старость в такое ничтожество из-за этого самого клада, потому что в один прекрасный день клад ухитрился удрать от собственного владельца.
Ах, давно-давно ускакали, мелькая белыми панталонами и сапогами с нечистым, рваным голенищем те годы-денечки, когда по всему миру вольготно разгуливали войны, а Госелин ван Мандер был молод, пригож и нужен повсюду. Даже и не верится в такое, и тем не менее это правда, как правда и то, что в те годы носили дурацкие полосатые штаны и рукава с десятком буфов, а уж бантики пришивали повсюду, куда только простиралось воображение портного.
Госелин ван Мандер, золотоволосый удалец, таскал, положив на шею, длинный меч в ножнах, и повсюду, куда ни приходил, нанимался за хорошую плату служить то одному, то другому графу и таким образом везде успел оставить по себе злую беду. Ибо, если все эти графы дрались между собою как любители, то Госелин ван Мандер был настоящим профессионалом. Это делало его одиноким.
И не то, чтобы Госелину ван Мандеру так уж требовались друзья или там родственные души, но иной раз не с кем было даже в карты сыграть.
И вот как-то раз шел себе Госелин из одного графства в другое – и споткнулся о чьи-то непомерно длинные ноги, протянутые поперек дороги. Что за леший! Только что никаких ног тут и в помине не было – и вот нате: как шлагбаум, полосатые и тощие и такие же твердые. Госелин растянулся в пыли, чуть сам себе голову не отрубил, а незнакомец громко расхохотался, подскакивая на месте и стукаясь костлявым задом о камень, на котором сидел.
Так вот и подружились. Звали долговязого Дитер Пфеффернусс – рот до ушей, нос – впору грибы нанизывать и над огнем сушить, волосы белые, и весь он ломается и кривляется, что бы ни делал.
Вместе прошли по всем окрестным графствам, и всюду, куда бы они ни приходили, тотчас начиналась война и требовался ван Мандер; а ван Мандер – вот он, готов служить, и кошель его жадно разинутым хлебалом глотает деньги совершенно без всяких ограничений и различий. А Дитер Пфеффернусс, неизменно находясь рядом, довольствуется тем, что обирает мертвых.
В конце концов Госелину это надоело, и он так и сказал:
– Вечно ты таскаешься за мной, Дитер Пфеффернусс, и воруешь у меня самым беспардонным образом! Ведь это я лишаю жизни всех этих людей! А если уж мне удалось отнять у них самое драгоценное их достояние, то будет только справедливо, если я заберу и все остальное – их кольца, ожерелья, денежки из кошелька, одежду и сапоги, съестные припасы и все, чем они дорожили!
– Это ты ловко рассудил! – согласился Дитер Пфеффернусс. – Однако, боюсь, все равно ты никогда не сумеешь ограбить мертвеца так ловко, как это делаю я. Ведь я забираю себе не только их деньги и одежду – эдак всякий дурак сможет! – но и то, чего не видно глазом: стихи, музыку, забавные истории из детства, замыслы технических диковин, даже воспоминания о любви. А это, согласись, наивысший класс для мародера, и тебе, при всех твоих умениях, никогда не достичь такого.
Тут ван Мандер, понятное дело, раззавидовался, надулся, целый день ходил хмурый – придумывал, как бы ему приятеля обойти, и в конце концов вечером обыграл того в карты. Дитер Пфеффернусс поглядел-поглядел на четыре туза, которые выложил перед ним ван Мандер, и решил не показывать свои (разумеется, плутовали оба одинаково хорошо; однако Дитер Пфеффернусс умел просчитывать не только карты, но и кое-что еще).
Дитер Пфеффернусс сказал так:
– Клянусь перченым орешком, из которого появился я на свет! Вот не повезло – так не повезло. Хорошо, Госелин ван Мандер, твоя взяла – отныне ты самый лучший в мире мародер. Нет такого сокровища, видимого или невидимого, которым ты не сможешь завладеть после смерти истинного его обладателя. Складывай все награбленное в ларец, – тут в длинных пальцах Дитера Пфеффернусса сам собою появился большой, окованный железом ларец, – и храни под замком, да не на лавке, а в той самой земле, на которой живешь сейчас. Настанет тебе пора перебираться на другое место – тотчас выкапывай ларец и перевози с собою, а там, смотри, опять тотчас же зарывай его – да поглубже.
– А вдруг его украдут? – засомневался Госелин ван Мандер.
Дитер на это только расхохотался, дергаясь всем телом, и помотал головой. Госелин ему сразу поверил и спросил еще о другом:
– А как все богатства в этом ларце не поместятся?
– Поместятся! – сказал Дитер и снова затрясся от смеха.
Острый кончик его носа, прыгая, зачертил в воздухе огненные линии, но Госелин ван Мандер, охваченный алчностью, этого не заметил.
– Ты будешь очень богат, Госелин ван Мандер, неописуемо богат! – выкрикивал Дитер Пфеффернусс. – Только запомни вот что: в тот день, когда ты украдешь сам у себя, твой клад сбежит от тебя, и остаток дней ты проведешь гоняясь за ним.
– Украду сам у себя? – тут и Госелин ван Мандер принялся смеяться, да так сильно, что слезы сами собою потекли из его глаз, и он протер их кулаками, а когда отнял от лица руки, то увидел, что Дитер Пфеффернусс исчез, и только на столе лежат его карты – четыре туза и король. У Госелина пятой картой была дама, чему он ни тогда, ни впоследствии не придал значения.
– И что же, обокрал он сам себя? – спросил Зимородок у брата Сниккена, который рассказывал всю эту историю под дружные кивки двух других троллей.
Брат Сниккен выдул из уголка рта большой зеленый пузырь. Пузырь оторвался от губ тролля, пролетел на середину комнаты и там лопнул, наполнив воздух тучей пушистых бледно-зеленых пылинок. Солнечный луч вошел в самую их гущу, и они запрыгали вокруг него, то и дело ныряя в золотое сияние.
– Обокрал ли ван Мандер самого себя? – важно переспросил брат Сниккен. – Еще как! Злейший враг не смог бы обчистить его ловчее. Все дело было в девушке.
В красивой девушке, которая стояла на стене осажденного замка и смотрела, как среди рваных палаток и осадных орудий расхаживает ладный красавец Госелин ван Мандер – меч в полтора Госелина длиною, штаны – в шесть Госелинов шириною, волосы цвета октябрьской липовой листвы, очень грязные и длинные.
– Влюбилась! – ахнул брат Уве Молчун.
– Именно, – кивнул брат Сниккен и насторожился. – Ты-то чего ахаешь? Слыхал эту историю раз уж двести! Эка новость – влюбилась!
Брат Уве смутился.
– Всякий раз хочется, чтоб повернулось иначе, – пояснил он.
– Иначе не бывает, – отрезал брат Сниккен. – Она уже случилась, эта история, и тут уж ничего не изменишь.
Девушка влюбилась. А Госелин, когда захватил замок, украл то, что и без всякой кражи принадлежало ему…
После, разграбив замок до основания, направился он прямиком в рощу, где зарыл свой ларец, и…
– Пусто! – выкрикнул брат Хильян и захохотал. – Пусто!
Сперва Госелин ван Мандер не поверил собственным глазам. Дважды перекопал землю, перетряс все палатки, зарубил своим геройским мечом какого-то пса, который невовремя пробегал мимо с плутоватой мордой, – все напрасно. Ларца как не бывало.
Пал Госелин носом в разрытую землю и зарыдал крупными ядовитыми слезами. Слезы эти проросли и спустя несколько месяцев из них вылупились гаденькие махонькие швайгеры, те самые, которые мнят себя непревзойденными ландскнехтами и бродят из дома в дом пьяными ордами, рубя кротам лапки, мышам – хвостики, котам (только спящим) – уши, кроша сыр в кладовых, протыкая на грядках сладкие ягоды – чтоб гнили, словом, чиня всяческие непотребства, как и подобает вольным мечам столь крошечного роста.
Слушает все это, лежа на печке, новый барон Эреншельд, а у самого в голове вырисовывается, как бы совершенно без участия разума: положим, удастся выгнать из земли клад и остановить его, превратив в дерево, – не то ли это будет дерево, на котором растут говорящие веточки?
– То, то самое, – нашептывало в уши Эреншельду, – именно что то самое…
А что делать с этими веточками – это барон превосходно знал, потому что лучшая в мире коллекция говорящих веточек (знатоки называют их «жезлами») находится совсем неподалеку отсюда, в городе Гольденкрак, у известного золотопромышленника ван Пупса. Обложенные тончайшим узорным листовым золотом – на каждом сообразный рисунок – они хранятся в шкафу, за цветным стеклом, и разговаривают между собою на самые разные, в том числе и ученые, темы. Минхер ван Пупс – обладатель веточек, говорящих на самых разных языках и наречиях; однако та, которую непременно добудет Эреншельд, окажется из всех редчайшей.
Эреншельд на лежанке под одеялом задумался: каким же языком будет владеть эта веточка? Возможно, троллиным. Только не лингва-трольсден, а каким-нибудь малораспространенным диалектом. Ван Пупс отвалит за такую вещь целую гору золота. Даже голова кружится. Несметные сокровища в двух шагах, и достать их – легче легкого, а он до сих пор еще не в пути!
Рыжий Уве глянул мельком в сторону печи, на барона, и молвил между делом:
– По-моему, он готов. Хоть сейчас – под чесночный соус и на стол.
– В таком случае, братья, – сказал Зимородок, – вынужден попросить о завтраке, а после и о прощании.
Брат Сниккен свистнул. Одеяло спрыгнуло с Эреншельда и полезло куда-то в щель между печкой и бочкой с квашеными листьями. Хильян поднял руку, сунул ее под балку, нащупал там веревку и потянул. С другого конца комнаты важно приплыла большая корзина. Там оказались черствые булочки, которые, вместе с остатками вчерашней тушеной медвежатины, составили довольно сытный и уж точно вкусный завтрак.
Барон кушал рассеянно; ни компании троллей, ни странному месту больше не удивлялся – крепко засел в его мыслях Кочующий Клад. Зимородку страсть как хотелось узнать, в какой облик отлилось сокровище ван Мандера, когда оказалось в баронской голове; но спрашивать напрямик он не решился – велика была опасность спугнуть барона.
Простились тепло. Братья-тролли даже обняли своих гостей и снабдили их мешочком лекарственной пакости – лечить господина Эреншельда.
Не успели путники сделать и десяти шагов, как Гулячая Избушка скрылась между деревьями. И то диво, что целую ночь на месте простояла, подумал Зимородок.
Шли по болотам, по мху, по толстому лиственному ковру, иной раз выбираясь на более сухое место, к осинам, – а те почти перестали кричать на ветру, стояли голые и трясли тонкими безмолвными веточками; но чаще ничего вокруг двух путешественников теперь не было, кроме редких, погубленных болотом деревец. То гать под ногами – черная, скользкая; то бледный мох.
Барон после ночлега у троллей переменился совершенно. Хворь телесная из него ушла и заместилась странным душевным недугом, более всего приметным по блеску в глазах и лихорадочной поспешности движений. Сам себе он казался теперь человеком, который определенно знает, чего хочет; Зимородок же видел, что Кочующий Клад перекочевал в бедную баронскую голову и вовсю лязгает там крышкой сундука. А ему, Зимородку, только одно и остается: за свои три гульдена в день научить господина барона разводить огонь на болоте, на снегу и в любой сырости; устраиваться на ночлег таким образом, чтобы к утру проснуться и к тому же не умирающим; различать звериные следы и отыскивать себе пропитание, когда закончатся сухари. Самое позднее в начале зимы Эреншельд возомнит себя настоящим следопытом, истинным лесовиком, – и тогда барона можно будет предоставить самому себе и при том не считаться убийцей. Кочующий Клад довершит дело; одичавший Эреншельд долго будет еще бродить по здешней глухомани, ведомый призраком. А теперь временем Общество Старых Пьяниц будет без помех собираться в охотничьем домике, отдавая дань сидру и пиву и приправляя братские трапезы поучительной беседой и нестройным хоровым пением.
Так что Зимородок шагал весело и на все вопросы Эреншельда отвечал весьма охотно. Рассказывал ему о всякой тропке – куда ведет и откуда выводит; о любой встреченной мелкой лесной твари и о разных опасностях, которые могут таиться на пути.
Эреншельд моргал, кивал, двигал бровями. Зимородок ожидал, что после первой же недели бродяжной жизни господин барон начнет опускаться, станет неряшливым, небрежным, перестанет беречь одежду и мыться, полагая, как и большинство мягкотелых горожан, что в этом-то и состоит признак опытного в лесной жизни человека. Однако – ничуть не бывало! Эреншельд продолжал оставаться опрятным, исправно умывался по меньшей мере два раза в день и до сих пор не потерял ни одной пуговицы. Это наводило Зимородка на определенные размышления, от которых сомнения то и дело тихонечко царапали его сердце – так, самую малость, не сильнее едва прозревшего котенка.
Во-первых, если барон – крепче, чем представлялся поначалу, – не значит ли это, что он может не одичать и даже одолеть очарование Кочующего Клада? Когда их совместное путешествие подобралось ко второй недели, Зимородок не был уже ни в чем уверен.
Во-вторых, если барон – достойный человек, следует ли вообще губить его жизнь, отдав ее во власть морока?
Однако «в-третьих» освобождало от первых двух, поскольку оставляло уверенность, по крайней мере, в том, что Эреншельд при любых обстоятельствах не пропадет. Успокоенный этим третьим доводом, Зимородок засыпал у костра.
А Эреншельд таинственными лесными вечерами подолгу размышлял над услышанным и увиденным за день. Жизнь, которая открывалась ему – день за днем, час за часом – поражала его и захватывала. Напрасно Зимородок говорил – кстати, довольно вяло – о монотонности лесных будней. Кого он хотел запугать однообразием – человека, проводившего доселе время за конторской стойкой?
На исходе дня – это было в середине третьей недели их бесконечного путешествия по кругу – Эреншельд отсчитал Зимородку очередных три гульдена и улегся возле огня, радуясь теплу, горячему питью из коры и остатков чайного запаса, шепоту капель, которые где-то далеко, в глубине леса, падали на лиственный покров.
– В этом году ранний листопад, – сказал Зимородок лениво. Из чащи на следопыта посматривали, наверное, звери, но он давно привык к этому.
Эреншельд вдруг заговорил. Рассказал об олене, который превратится – непременно превратится, если застать его врасплох! – в дерево с говорящими веточками. Об коллекционере, золотопромышленнике ван Пупсе, который отвалит за эти веточки целое состояние. Нужно только отыскать то самое место… Эреншельд говорил и говорил, а Зимородок старался не слушать, но все-таки перед его глазами нарисовалась эта картина: шевелится, вспучиваясь, земля, разрастается с глухим гулом большой горб, листья и хвоя осыпаются с него, обнажая голую землю, – и вдруг этот горб лопается, как пузырь, взрывается, разбрасывая во все стороны комья земли, и из разоренной сердцевины поднимается олень, гладкий, словно бы облитый серебром…
О, нет! Зимородок затряс головой. А барон, словно не замечая, говорил и шептал, бормотал и даже напевал, а потом вдруг всхлипнул и принялся быстро хлебать из своей кружки. Зимородок смотрел на него – как думалось самому следопыту, холодно и оценивающе – а в действительности с сочувствием и даже испугом. Котенок в его душе, как выяснилось, за эту неделю подрос и цапнул довольно сильно… Тогда Зимородок стал думать о братьях-троллях и их Гулячей Избушке. Как бредут они сквозь холодную ночь, в темноте, по хрусткой чащобе – неведомо куда тащит их взбалмошное жилище; а там, внутри, в полумраке, гудит и пылает печь, и эльсе-аллы построили себе гнезда, наподобие ласточкиных, под их потолком, чтобы в тепле пересидеть неласковую зиму…
…Серебристый олень, качнув тяжелой от рогов головой, взметнулся вверх и застыл прямо в прыжке, как будто воздух вдруг затвердел и охватил со всех сторон сильное звериное тело, – а затем, медленно вытягиваясь превратился в дерево, и только оленья морда с дико блестящими темными глазами угадывается среди густых ветвей…
«Это все будет моим, – подумал Зимородок, вздрагивая от восторга, – скоро я на самом деле увижу все это, это станет моим воспоминанием – навсегда…»
Он сделал еще одну попытку избавиться от наваждения. Начал – не без усилий – вспоминать «Придорожного Кита», и Алису – милую хозяйскую дочь, и Дофью Граса – такого чудного старика, стихотворца, который курит трубку работы самого Янника Мохнатой Плеши… Но тут мысли скакнули от трактира к трактирной служанке по имени Мэгг Морриган – а ведь ей удалось схватить Кочующий Клад, пусть даже за кончик хвоста! – и тотчас вернулось видение стройного дерева, ветви которого негромко переговаривались между собою на красивом непонятном языке, где было много придыханий.
– Только одну веточку, – бормотал Эреншельд, круглые слезы катились по его щекам, подпрыгивая, словно бы в нетерпении, и падали в чай и барону на колени. – Одну-единственную… А потом все исчезнет…
Лопнет с тихим звоном, наполнив напоследок воздух сиянием… множеством мерцающих бабочек… листьев… может быть, паутинок? капель?..
– Брыз-ги пи-ва! – строго промолвил в голове Зимородка голос Дофью Граса. – О чем ты только думаешь?
И Зимородок проснулся. Было уже утро. Он так и не понял, когда заснул и что из случившегося вечером возле костра ему попросту пригрезилось. Но после этого случая Зимородок начал остерегаться таких разговоров и беседовал с бароном только о самом простом и необходимом.
В начале четвертой недели их путешествия неожиданно к полудню выпал первый снег. Он лежал, вроде бы, не вполне уверенный в том, что имеет право здесь находиться, – однако с неба валились все новые и новые хлопья взамен тех, что имели глупость растаять, и в лесу сделалось сыро. От тяжести налипшего снега обрывались листья и ломались тонкие веточки. Между мокрыми стволами летели, в обнимку и порознь, белые, желтые, красные комья. Ярко-зеленая трава на болоте сделалась ломкой.
Барон сказал Зимородку:
– У меня закончились деньги. Я хотел попросить вас – как своего консультанта – поверить мне в долг, пока мы не вернемся в город. Там я полностью с вами рассчитаюсь.
– Хорошо, – ляпнул Зимородок, не подумав. Он хотел даже добавить, что теперь все это неважно, но спохватился и промолчал. Снег все падал и падал. Глядя на это бесконечное падение, Зимородок лихорадочно пытался сообразить, что же ему делать дальше. Заманить барона в город, чтобы переждать зиму там? Сослаться на деньги – мол, нет платы, нет и консультаций… а там отказаться выходить в лес до весны. Но ведь Зимородок уже брякнул, что согласен работать в долг… Кроме того, с барона станется – кладоискатель может остаться на зимних болотах и один. Вполне в его духе.
Нет уж.
Теперь – другой вопрос. Где бы сегодня заночевать? Зимородок быстро прикинул в уме. Поблизости – в дне ходьбы – только два дома. Один, чуть поближе, – на западе; обиталище Янника Мохнатой Плеши. Другой, подальше, – на северо-западе. И как раз туда идти не следует ни при каких обстоятельствах, потому что этот второй дом – охотничий домик старого Модеста, штаб-квартира Общества Старых Пьяниц.
Мохнатая Плешь, вероятно, взбесится, если Зимородок явится к нему без дела, да еще притащит с собой незнакомого человека. «Поглазеть?! – разорется Янник, не стесняясь присутствием гостя. – Вам тут не балаган! Глазеть – это на голых баб, пожалуйста!» Зимородку даже страшно было вообразить, что еще может наговорить в припадке ярости полутролль Янник. В гневе отпрыск беспечной ягодницы Катрины безобразен и жалок, и Зимородок заранее ненавидел себя за то, что собирается подвергнуть Мохнатую Плешь такому испытанию. Но он потом все ему объяснит. Но он потом ему даже отдаст все баронские деньги. Искупит, загладит. Все что угодно. Мохнатая Плешь поорет-поорет, но поймет. Возможно.
Приняв наконец решение, Зимородок, втайне млея от ужаса, бодренько захрустел по снегу. Барон пошел следом, шаг в шаг, как уже привык. От хлопьев и листьев в глазах то и дело начинало мельтешить. Безопасную тропинку, ведущую через болото к дому Янника, занесло, но из-под снега торчали знакомые Зимородку приметные вешки: надломленный ствол осинки, перевязанный в косу орешник – и так далее.
Спустя два часа даже зимородковы сапоги промокли, и следопыт еще более утвердился в намерении заночевать у Мохнатой Плеши. Хоть в сарае!
Он обернулся к барону. Тот имел вид мечтательный и вместе с тем унылый. Над головой и плечами Эреншельда жиденько клубился парок, хлопья дерзко лежали на его одежде и волосах. Эреншельд, как и следовало ожидать, промок насквозь. «Только не останавливаться, – подумал Зимородок. – Пока идем – не замерзнем». Понадеявшись на долгую осень, следопыт не взял зимних плащей – чем опытнее лесной странник, тем меньше барахла он тащит с собой – и теперь в полной мере пожинал плоды собственной бывалости.
– Нам идти до сумерек, – сообщил он барону.
Барон молча кивнул.
Зимородок отвернулся и зашагал снова.
У Мохнатой Плеши странный характер. Иногда он радуется неожиданному гостю, тащит его поскорее в дом, топит в глубоком мягком кресле, поит чем-нибудь вкусным собственного изготовления – особенным пьяным киселем, например, или сладкой и густой гонобобелевой компотокашей. И при этом болтает, болтает без умолку. Призывает благословение на головы болотного духа, который пожалел бедного полутролля и прислал ему доброго собеседника. В такие дни Мохнатую Плешь распирают идеи, одна интереснее другой; он охотно делится соображениями по самым неожиданным вопросам и любит рассказывать забавные истории о своем детстве.
Но случается – и это бывает, надо признать, куда чаще – что полутролль впадает в угрюмство. Тогда он расставляет вокруг своего жилища капканы, а на тропинку, ведущую к двери, приманивает какую-нибудь плотоядную пакость, раздразнив ее запахом тухлой рыбы или еще чем-нибудь, что возбуждает ее аппетит. Никому не известно, чем занимается в такие дни Мохнатая Плешь. Может, трудится над своими знаменитыми трубками, способными угадывать настроение владельца. Или втайне от всех пишет поэму «Тролль-Изгнанник, или Три косматых души» (ходили такие слухи). Или готовит пивную окрошку – свое любимое блюдо, которым никогда никого не угощает.
Неизвестно.
И никогда заранее не угадаешь, какая сейчас полоса настала в жизни Янника Мохнатой Плеши.
…Крр-р-рак!..
Под сапогом Зимородка что-то хрустом раздавилось и лопнуло. Он остановился на мгновение, а затем шарахнулся назад, сбив Эреншельда с ног. Барон ухнул в рыхлый сугроб, под которым сразу обнаружилась лужа, и оттуда с запозданием глухо крякнул.
Прямо перед Зимородком из растоптанного белого пузыря вылетели мириады крошечных пылинок, часть которых тотчас осела на его одежде, лице и руках, а часть сгинула в снегу. Зимородок тихо застонал сквозь зубы. Барон барахтался среди развороченного сугроба, путаясь в листьях и прутьях. Зимородок отбежал в сторону, зачерпнул снега и принялся яростно тереть лицо. Но он знал, что это уже бесполезно. И еще он знал, какое сегодня настроение у Янника Мохнатой Плеши.
Отвратительное.
Далеко от этого места, в «Придорожном Ките», смотрела на ранний снегопад славная Алиса, и мятежно было у нее на душе. Что-то поделывают сейчас Зимородок с баронским наследником? Ушли налегке – и до сих пор ни слуху от них ни духу. Алиса готовила пудинг из молока и хлебных корок и попутно раздумывала, сладким его сделать или соленым. А еще в ее мыслях то и дело всплывал дядюшка Дофью Грас и – совсем уж краешком – мелькал там некий пригожий молодец по имени Витеус, у которого на левой щеке ямочка, а на правой таинственным образом ничего подобного нет. Тепло в трактире, а за окнами сыро и снежно, и по стеклу ползет сквозь пар капля, оставляя улиточный след.
Ах, Алиса… Рыдает, не стыдясь, Зимородок, воет в голос – хорошо, что ты этого не слышишь.
Барон – весь в налипших листьях – метнулся было подбежать, но Зимородок, растягивая рот плаксивым уродливым овалом, заорал:
– Стой! Нет!
И Эреншельд замер где стоял.
Зимородок заговорил с ним, торопясь. У него уже распухал язык, начинали неметь губы, и каждое следующее слово выходило менее внятным, чем предыдущее.
– Тебя как звать, барон? – первое, что спросил он.
Барон подумал немного и ответил:
– Мориц-Мария.
Зимородок быстро закивал.
– Ладно. Слушай, Мориц-Мария, эта дрянь, которую я раздавил, – это людожорка, гриб – понимаешь? – Он криво помахал в воздухе кистью левой руки, правой держась за щеку. – Споры, понимаешь? Вылетают споры. Они везде. Маленькие такие. Прорастают на человеке, на звере любом, на птицах. Им лучше, если кожа гладкая. Я сдохну, понимаешь?
Эреншельд смятенно проговорил:
– Понимаю.
– Не подходи, – хрипел Зимородок. – Зацепишь… и все. Мориц! Мария! Там – Янник, на болотах. Скажешь – мой друг. Ему скажи, что друг. Понимаешь? Мой. Этот Янник… он не виноват. Он тролль. Наполовину. Ты понимаешь меня? Понимаешь? Я сдохну!
– Хорошо, Зимородок, – с поразительным и даже, как показалось Зимородку, гнусным спокойствием отозвался Эреншельд. – Я тебя понимаю. Янник – тролль.
Захлебываясь слюной, Зимородок опять заворочал во рту непослушным поленом, которое прежде было его языком.
– Он вылечит… Янник… или подохну.
– Заладил! – вдруг рассердился Эреншельд. – Жди здесь. Только никуда не уходи. Я вернусь. Ты меня слышишь?
– Ма… рия… – попытался сказать Зимородок и улыбнулся. Отнял руку от щеки – там уже появилось безобразное бурое пятно. Оно чуть выдавалось над поверхностью кожи и, если присмотреться, видно было, как оно шевелится.
Барон чуть раздул ноздри, поджал губы и отвернулся. Браво зашагал по тропинке, размахивая руками и то и дело проваливаясь в ямы под сугробами. Зимородок смотрел ему в спину, чувствуя, как прыгает у него угол рта. В голове воспаленно бродило: «презирает… конечно… противно ему…»
Следопыт обнаружил поблизости бревно, сел, свесил между колен руки. Жар ходил по телу, но не согревал; ноги по-прежнему мерзли в мокрых сапогах. Зимородку казалось, что он ощущает, как его едят заживо. Неисчислимое множество крошечных челюстей отгрызают от него каждое мгновение по малюсенькому кусочку. Плохо, очень плохо, что этих мгновений так много.
Снова повалил снег. Иногда пушистые хлопья попадали на больную щеку и приятно студили ее, но она скоро утратила чувствительность. Зимородок мычал – разговаривал с белыми хлопьями, но потому него заболело горло, и он замолчал. Сидел, водя головой из стороны в сторону; а после начал раскачиваться всем телом, пока не повалился набок в снег.
Одним глазом он увидел, как из сугроба поблизости выбирается, отряхиваясь и гневно фыркая, олень, весь в инее. Запах звериной крови накатил и опьянил, у Зимородка защипало в глазах. Ему казалось теперь, что голова у него опухла, стала бесформенным комом, но ощупать ее и определить, так ли это на самом деле, сил не было. А может быть, это и вовсе не приходило Зимородку на ум. Бессильно наблюдал он, как олень водит мордой по снегу, что-то разрывает и шумно вынюхивает, – а потом вдруг поворачивается и, подбросив зад, одним прыжком исчезает в пустоте.
Воздух вокруг заволокло розоватой мутью. Она подрагивала от жара и попахивала тухлым. Зимородок думал о том, что в действительности он сам превращается в эту муть, посреди которой еще плавает, мигая, его сознание. Ему показалось правильным найти в студенистом море хотя бы один твердый островок и высадить туда свое сознание, которое без этого захлебнется и утонет. Огромным усилием воли он отыскал в памяти образ Алисы – есть ли что-нибудь более незыблемое, чем трактирная хозяйка! – когда она, такая милая, домашняя, утром, в «Ките», спускается по лестнице на кухню… И тут к нему пришло Великое Знание: на самом деле он – протухший пудинг.
– Нет, – захрипел Зимородок. – Не тухлый… свежий…
Муть внезапно разорвалась и разошлась, как занавеска, и очень далеко, словно бы в освещенном окне, он увидел кухню и там девушку в фартуке с горошками; у нее были сильные, быстрые руки с ямочками, руки, от которых пахло ванилью. Она взбивала молоко и рассеянно улыбалась. Зимородок забарахтался в луже – снег под ним растаял – но встать не смог. И тут сверху на него упала тяжесть, источающая сладковатую вонь – гнилые грибы? – и Зимородок под нею исчез.
А тем временем в охотничьем домике уже вовсю разливали по кружкам пиво, и Дофью Грас, отрадно-красномордый, провозглашал первый тост. Каменную кладку стен пиршественного зала украшали оленьи рога, оскаленные медвежьи головы, лапы дракоморда, срубленные по локтевой сустав, скрещенное оружие, портреты Эреншельдов в охотничьих костюмах и картины со сценами былых пиров. Подумать страшно, сколько яств ушло в небытие из стен этого скромного на вид зданьица! Произведения живописные – так сказать, полновесные, в красках, – слегка разжижались скромными гравюрами, изображавшими некоторые выдающиеся события из жизни Старых Пьяниц, а также два памятных портрета: основателя Общества, Кристофера Тиссена – в сбитой на ухо шляпе, цветком в углу рта и выпученными водянистыми глазами, и одной замечательной рыженькой собачки по имени Аста, большой подруги Дофью Граса.
Почтенный Председатель предложил первую здравицу в честь юного Зимородка, который сейчас, на холодных, бесприютных болотах, морочит голову наследнику старого Модеста.
– Благодаря этому превосходному юноше мы с вами, господа, смогли по традиции собраться в нашем излюбленном пристанище, – разливался Грас, а сам уже прикидывал, в какое время ловчее будет огласить перед достойными сотоварищами новое стихотворение, то самое, что вызвало столько возражений со стороны Забияки Тиссена.
Пока что все складывалось наилучшим образом. Первый бочонок исчез так быстро, что никто толком не успел заметить, как же это случилось. Принесли жареную оленину с мочеными яблоками, клюквой и чесночным соусом в огромной серебряной супнице. Стало еще веселее. С загроможденного стола, по давней традиции, ничего не убирали, чтобы всякий мог кусочничать, когда захочет. Правилами Общества дозволялось посещать соусницу своей ложкой или ломтем хлеба и даже хлебать его через край, как кисель.
После третьего бочонка некоторые закурили трубки, и тогда-то и потекла более связная беседа, нежели в первые часы, когда томимые голодом и жаждой Старые Пьяницы изъяснялись весьма отрывисто.
Начал Тиссен. Отмахиваясь клетчатым красно-синим платком от колец дыма, пускаемых Дофью нарочно в его сторону, он принялся сетовать на теперешнее грустное положение дел. «Не доверяю я этому Зимородку, что бы там ни говорил о нем Грас, – заявил Тиссен и потряс перед носом маленьким жилистым кулачком. – И надеяться нечего. Нагрянут клерки – и все, прощай охотничий домик… Нынешние – они ни на что не способны. Вот мое мнение, если оно кого-нибудь интересует».
Разумеется, немедленно нашлись желающие возразить – и так, словно за слово, разговор перешел на проблемы благородных и отважных поступков (известно – и из легенд, и опытным путем – что благородные поступки порождают проблемы, иной раз даже немалые). Столь важная тема требовала серьезного подтверждения, и один из Старых Пьяниц в конце концов взял на себя труд сообщить собравшимся одну захватывающую и поучительную историю, добавив между прочим (не без намека), что она вполне годится для того, чтобы какой-нибудь стихоплет претворил ее в длинную, исторгающую слезы балладу.
Звали повествователя Сметсе Ночной Колпак, а история, рассказанная им, была занесена в Анналы Общества, и оттого мы приводим ее здесь – более или менее в том виде, в котором она прозвучала впервые.
Рассказ о контрабандисте и сиренах
Черепушка – так назывался остров, на котором размещалась тюрьма. Остров был идеально кругл и лыс, желтовато-белого цвета и, казалось, покачивался в черных волнах, как самый настоящий череп, притопленный по надбровные дуги.
На самую макушку острова арестантской четырехугольной шапочкой было нахлобучено здание тюрьмы – слегка набекрень, крыша и северная стена примяты.
Авантюрист Пер Ковпак успел отсидеть три года. Начальник тюрьмы, Цезарь Мрожка, человек с желтым лицом и болью в печени, подошел к нему и сказал:
– Ну-с, если до сих пор к нам не пришел казенный пакет с веревкой для вашей виселицы, стало быть, вас помилуют. Вопрос только – когда? – И добавил: – Вам хорошо. Вас вешают или милуют, а я здесь уже двадцать лет.
Начальник ушел, пошатываясь. Ковпак, трудившийся над барельефом, изображающим голую красавицу, уронил черенок ложки – свое орудие, упал на топчан и закрыл лицо руками.
Тюрьма на Черепушке была наихудшим местом на свете. Арестантов там редко скапливалось более десятка. Поэтому еда была сносной и обильной – тюрьму по старой памяти снабжали на «двадцать рыл». Единственный надсмотрщик, хромой идиот Мавпа, боялся своих подопечных и заискивал перед ними. Повар, он же врач, он же палач, сам был из каторжных и регулярно «входил в положение» по части выпивки. И все же тюрьма на Черепушке медленно убивала Пера. Его сводил с ума ветер. Весной и летом он звенел в ушах высоко и тонко, почти пищал. Осенью и зимой ветер ревел – гулко, хрипло, сердито. Полгода он дул в одну сторону, полгода – в другую.
– От этого ветра в голове заводятся черви, – сообщил повар, когда Пер чистил батат на кухне.
– Правда? – спросил Пер Ковпак.
– Погляди на Мавпу, – ответил повар и хрюкнул в передник рваным носом.
– А почему у Мрожки не завелись?
– Мрожка ходит заспиртованный, – сказал повар. – Для того и пьет.
– А у тебя?
– А я слово волшебное знаю.
– Что за слово?
Повар скосил глаза и расцвел гнилой улыбкой. Глядя на его пухлые руки, покрытые ямочками и мерзкой говяжьей кровью, Ковпак крепче стиснул кухонный нож.
На четвертый год, весною, когда Ковпак закончил барельеф и отучался разговаривать сам с собою, Цезарь Мрожка позвал его к себе в кабинет, угостил хлебной водкой и сказал:
– Через три дня наш карбас приведут в порядок. Нужно сходить на континент и обратно, забрать провизию. Я болен, целую неделю меня рвет желчью. Даже мысль о качке выбивает пол у меня из-под ног. Мавпа один не справится. Я знаю, вы когда-то занимались контрабандой и пиратством. Пообещайте, что не удерете – и я отпущу вас вместе с Мавпой. Впрочем, попав в Совиную гавань, вы расхотите бежать…
Пер Ковпак, оглушенный и раздавленный, на следующий день уже руководил покраской и конопаченьем косопузой посудины. Всю зиму она валялась на берегу килем вверх – пять месяцев в году море в этих широтах непригодно для плаванья. В октябре карбас делает восемь рейсов туда и обратно – привозит зимние припасы. После чего в апреле его снова ставят на воду.
«Мавпу – за борт, – соображал Пер Ковпак. – На обратном пути, чтобы с припасами… Пройти вдоль берега до Смертельной Расчески, забрать к северу… что же дальше?»
Дальше он не помнил. Ему не приходилось бедокурить в этих краях. Прежде он предпочитал теплые страны, чтобы море было зеленым, а не черным, чтобы небо отливало яркой синевой…
Арестанты конопатили лодку так же скучно и неумело, как делали любую другую работу. Особенно неприятно копошился опустившийся тихий старик, у которого борода и шевелюра соединялись в один свалявшийся комковатый шар сизого цвета. Старика все называли Вонючий Дед. Теперь он перемазался смолой и все ронял на песок клочья пеньки. Пер не выдержал и отвесил Вонючему Деду пинка.
В день отплытия звук ветра усилился. Это было особенно заметно на пристани. В монотонном завывании Пер различил отдельные голоса – они заползали в уши подобно щупальцам и щекотали мозг. Ковпак вспомнил, как первые месяцы заключения это сводило его с ума – он колотил себя по голове кулаками и рычал. Есть он тогда не мог. Вонючий Дед подбирался бочком к его миске и запускал в нее пальцы, хныча и обжигаясь.
Убрали сходни. Мавпа, приседая, сворачивал швартовые концы. Волна шваркнула лодкой о причал, следующая подхватила кораблик. Баркас зачерпнул кливером воздушную струю. Цезарь Мрожка, скрючившийся на пристани, сделался меньше ростом. Грот, твердый от стирки в соленой воде, размотался, как свиток коры.
– Шевелись, макака! – кричал Пер Ковпак. Мавпа, волнуясь, колдовал над рифовым узлом.
От киля до клотика разболтанный кораблик скрипел, вихлялся и подрагивал. Румпель, закрепленный в нужном положении, вдруг сорвался и ударил Пера в поясницу. Мавпа заметил это и побелел – забоялся, что ему влетит. Но Пер Ковпак только сплюнул за борт. Он боролся с приступами дурноты.
Мавпа, облокотившийся о борт, вынул из-за пазухи ноздреватый, зеленеющий сухарь и принялся, чавкая и пуская слюни, точить его деснами. Отламывая большие куски, он сплевывал их в тяжелые волны и приговаривал при этом: «Гули-гули-гули!».
– Что ты делаешь? – удивился Пер. Мавпа с ужасом глянул на него, съежился и пробормотал: «Ничего».
– Врешь. Ты подкармливаешь рыб?
– Сухарик больно черств, – ответил Мавпа и жалко улыбнулся.
«Чего я, в самом деле, привязался к идиоту?» – подумал Ковпак про себя. А потом вспомнил, что этого идиота ему, Перу, придется вываливать в черную холодную воду и слушать его крики. Ковпаку стало мерзко.
– Говори, что ты делаешь, иначе я покрошу рыбам тебя! – крикнул он и надвинулся на надзирателя.
– Я кормлю сирен. Сирен. Ничего плохого… – запричитал Мавпа, закрываясь руками.
– Сирен? – Ковпак рассмеялся. – Что ты мелешь?
– Тут, в волнах… – Мавпа понял, что бить его не будут, ожил и завертелся, тыча пальцем в воду. – Они живут. И поют. Всегда поют. Никто не слышит, только я и еще трое. Один, правда, умер. Не выдержал. Кровь пошла у него из ушей и вся вышла. И остальные тоже умрут. Все, кто слышит, умрут. Только я не умру, нет, нет…
Пер тряхнул Мавпу за ворот, потому что глаза у Мавпы закатились, ноги связались узлом, а подбородок его задергался из стороны в сторону. Встряхиванье не сильно помогло, и тогда Пер, со стоном брезгливости, ударил Мавпу по колючему мокрому лицу. Надсмотрщик ожил, заулыбался и продолжил:
– Да, сегодня особенно громко. Голова раскалывается. Сначала. От этого умирают медленно. Года четыре… Последний год ЭТО слышно все громче и чешутся глаза, а во рту – вкус моря. Кровь начинает сочиться из носа и ушей. А потом – хлынет и конец. Крышка. Вся до капельки. Я знаю.
Ковпак отпустил Мавпу, и тот аккуратно упал на почерневшие палубные доски.
Через шесть часов показались рыжие холмы, меж которыми пряталась Совиная гавань. «Тоска», – сказал Пер, завидев убогие строения и обглоданные временем скелетики рыбачих лодок на отмелях. От занозистого причала пахло древесной гнилью. Поселок был тих. Даже собаки за дырявыми заборами перелаивались шепотом. Ветер волочил по земле чью-то рванину и соленые ледяные крупинки. Сточная канава ничем не воняла, потому что желтый лед на ней еще не растаял. Никого кругом не было. До почты встретился им только мальчик лет четырнадцати с землистым лицом. Он курил, сидя на пустой бочке, и методически бросал камнями в стену сарая. На здании почты было написано «Почта». На доме шерифа – «шериф». На почте пахло мышами и сургучом. Мавпа старательно поморгал в сумерки за конторкой, но ничего из этого не вышло. В тишине было слышно, как хлопает дверью сквозняк. Мавпа молчаливо довершил бессмысленный ритуал и вышел. Пер Ковпак двинулся за ним.
У причала уже стояла фура, и двое личностей, белоглазых и беловолосых, сносили в карбас ящики, коробки и тюки. В них была мука, вяленое мясо, крупа и табак, крепкий и вонючий, как ругательство. аВ одном бочонке плескало – он подтекал можжевеловым самогоном.
– Идем, – сказал Мавпа, возбужденно подрагивая ноздрями. – Здесь таверна. Я угощаю.
Ковпак так удивился, что и сам не заметил, как они вошли в закопченное зальце. Надсмотрщик долго трезвонил в колокольчик, подвешенный у стойки. Наконец в волнах чада заколыхался хозяин, белоглазый и серолицый, с нехорошей улыбкой. Он смерил глазами Пера и не отрывая от него взгляда нацедил два стакана маслянистой мути. Мавпа лизал пойло языком, цокал и заводил глаза. Ковпак выпил свой стакан одним глотком. Ему по-прежнему слышались сирены.
Он поверил надсмотрщику.
Люди, способные слышать сирен, рождаются теперь редко. Еще реже, чем сирены, которые, как известно, выводятся из яиц, отложенных на каменистых и сумрачных берегах острова Ту-Тао, раз в сто лет поднимающегося из черных волн Полуночного моря. Пер Ковпак ведать не ведал, что он – один из таких людей.
«Непременно надо бежать», – подвел Пер итоги своим размышлениям. Хотя бежать ему теперь действительно не очень хотелось, как и предсказывал Цезарь Мрожка. Окружающий мир, свободный и тихий, представлялся Перу холодным, полным белоглазых грязных людей, и люди эти клейко улыбались, липко поглядывали и хмыкали, словно собирались затеять ссору. У каждого за пазухой угадывался кривой рыбацкий нож, воняющий чешуей. Такие ножи удобнее всего втыкать в спину.
Тошнота, вызванная пойлом, улеглась, и в эту же минуту дверь с улицы распахнулась, неохотно впуская свежий холодный воздух. На пороге оказалась молодая, довольно привлекательная особа с усталым, обветренным лицом, но не с землистым, не с серым, а вполне людским. От таких лиц отвык Пер Ковпак.
Женщина вошла в гнездилище вони совершенно бесстрашно. Хозяин нагло и изумленно уставился на нее, заклокотав горлом. Женщина устремилась к Ковпаку, поклонилась ему сдержанно и, глядя жестко и прямо, спросила:
– Вы – офицер тюремной охраны?
Хозяин таверны закашлялся смехом и стукнул вялой ладонью по стойке. Мавпа втиснулся между Пером и незнакомкой, по-птичьи задвигал головой и пробормотал:
– Это я, госпожа, я старший надзиратель… это я.
Не обращая на него внимания, женщина оглядела Пера внимательно и, как ему показалось, презрительно.
– На острове отбывает срок заключенный Ангел Ракоша. Я – его дочь. Ему вышла амнистия… Курьер с комиссией приедет только через месяц, и я сама…
– С заключенным не можно разговаривать, – сказал Мавпа.
– Вы давно ждете нас здесь? – спросил Ковпак.
– День и одну ночь, – женщина потупилась.
– В этой таверне?
– Нет, в рыбацком сарае. Трактирщик требует особой уплаты с постоялиц. Денег ему не надо, однако он украл мой багаж.
Хозяин таверны снова прыснул. Пер поглядел на него пристально. Трактирщик подмигнул ему и повел локтем. Дескать – смотри, какая фифа, из городских. Ковпак перевел взгляд на женщину. Руки она держала сложенными на груди. Руки были в нитяных перчатках – митенках. Голые пальцы посинели от холода.
– Вы передадите пакет начальнику тюрьмы? – спросила дочь заключенного.
– Я передам… я надзиратель, я передам. – Мавпа все кивал и кивал головой.
Пер наклонился над стойкой в раздумье. Трактирщик сказал ему:
– Действуй, парень. Мне не обломилось, а ты можешь уговорить эту цацу. Не упускай случая. Я вам комнатку дам на полчаса. Чур, расскажешь потом, с продробностями…
Пер неожиданно ухватил трактирщика за загривок и крепко стукнул его лбом о стойку. Тот повалился и около минуты копошился где-то внизу, приглушенно рыдая.
– Дашь ей комнату, почище. Вещи вернешь. Понял меня?
– У, каторжный! – рыдал хозяин. – Развелось вас… я жаловаться буду!
– А я сожгу твой притон, – спокойно заявил Ковпак. – Скажи ему, Мавпа, я ведь могу.
– Могёт, могёт, – подтвердил Мавпа. – Он могёт, а я надзиратель при нем… Давайте ваш пакет, госпожа. Он могёт…
– Я привезу ее отца через неделю, – сказал Ковпак. – Если у госпожи Ракоша будет хоть одна жалоба, я истреблю всю вашу деревню. Это здорово очистит воздух на побережьи.
Женщина наблюдала за происходящим без особого ужаса и брезгливости, вполне терпеливо. Когда Пер произнес свою тираду, она передала Мавпе конверт с гербовой печатью.
– Что ж, неделю я подожду.
– За неделю с вас двадцать гульденов, – крикнул из-под стойки хозяин. – Деньги вперед.
Ковпак вышел прочь.
На карбасе, среди пения сирен и бесчеловечного холодного ветра Пер Ковпак предпринял последнюю попытку к бегству. От ящика с луком отскочила тяжелая медная скоба. Эту скобу Пер взвешивал на ладони – она идеально ложилась в руку. Один загнутый конец был слегка приплюснут и заострен. Ковпак подошел к Мавпе и примерился для удара. Одного-единственного в висок было бы достаточно. Но, как нарочно, Мавпа повернулся и заморгал гноящимися глазками.
– Не бойся меня, – сказал Ковпак и выбросил скобу в море. – Скажи лучше, кто такой этот Ангел Ракоша?
Мавпа неловко попытался скрыть улыбку и ответил смущенно:
– Ты знаешь его. Это Вонючий Дед.
Известие об амнистии слегка оживило тюремную холодную духоту. Вонючего Деда загнали в подвал, где умельцы сымпровизировали по такому случаю внеочередную баню. В три дня на Деде свели насекомых. На четвертый день мытья от него уже не воняло. Повар, зажав голову Деда между коленей, остриг сизый войлок и даже подравнял бороду. Старик орал, из глаз его, воспаленных от мыльной воды, текли черные слезы.
– Я отвезу его один, – сказал Ковпак Мрожке.
– Нет, – ответил начальник тюрьмы.
– Я справлюсь.
– О да. В этом я уверен.
– Вы не доверяете мне?
– Нет.
Потом Мрожка скрючился, обмок холодным потом и добавил:
– Если вас увидят без конвоя, меня отдадут под суд.
Ковпак оставил его в покое. Сирены пели прямо у него в голове.
В воскресный день карбас швыряло волнами. Мавпа плевал в буруны жеваным сухарем. Преображенный Дед в чистой одежде – ни дать ни взять отец семейства – держался за борт и скулил.
Ковпак довольно ловко галсировал. У входа в бухту ветер боролся с течением, но карбас удачно повернул и шел ровно, хоть и медленно.
На причале стояла дочь арестанта. Пер издали заметил ее. Деда он пустил по сходням впереди себя. Ракоша смотрел не в лицо дочери, а себе под ноги. Иногда он с тоской оборачивался в сторону залива, пытаясь углядеть Черепушку.
Ковпак и Мавпа оставили их вдвоем. Скоропортящийся груз – подтухающие яйца и мороженое мясо – требовал забот.
Поселок был охвачен оттепелью, что не шибко его украсило. Прямо за досками пристаней темнела обширная лужа. В ней плавали удивленные рыбьи головы и луковая шелуха.
Не хватало двух бочек солонины.
– Ничего не знаю, – сплевывал на доски грязнолицый бригадир грузчиков. – Груза не частные, груза казенные. Подписуй. – И тыкал испуганному Мавпе в лицо захватанным свитком.
Ковпак взял парнягу за ворот и макнул в лужу. Грузчики тупо и равнодушно глядели на него.
Госпожа Ракоша подошла к Перу. Выглядела она очень устало.
– Я должна вас поблагодарить, – сказала она. – Хотите денег?
Ковпак покачал головой.
– Может, передать кому письмо?
– Здесь есть почта, – ответил Пер.
– Экой вы… – Женщина поглядела исподлобья.
Мавпа на корме карбаса потрясал тесаком в сторону грузчиков.
– Пора, – сказал Ковпак. – Еще выйдет буза из-за солонины.
– Прощайте, – сказала женщина.
Ковпак отцепил швартов и перемахнул на зыбкую палубу. Карбас отваливал боком, пока поднятый парус не захлопал в воздухе. Мавпа переложил руль. Ковпак стоял и смотрел, как госпожа Ракоша провожала его взглядом. Серый ее дорожный плащ развевался. Женщина приложила ладонь козырьком ко лбу. Вонючий Дед Ангел Ракоша в чистенькой одежде бессмысленно топтался сзади нее.
– Хороший ветер, – сказал Мавпа, когда Совиная гавань утонула в дымке.
– Пошел ты! – крикнул Ковпак, привалился к борту и зарыдал. Невидимые сирены торжествовали.
Три дня он провалялся в беспамятстве. Повар осмотрел его и сказал: «Это горячка».
– Тиф? – спросил Мрожка.
– Просто горячка.
Перу пустили кровь, приложили уксус к вискам, а после напоили хинной настойкой.
Он выжил, но долго был слаб.
– Вы саботажник, – сказал ему Цезарь Мрожка. Теперь начальник сам вынужден был ходить на карбасе и с отвычки едва не утопил посудину, заблудившись в тумане. Мавпа ухитрился разглядеть в опасной близи зубья Смертельной Расчески, спас карбас и ходил гоголем по этому случаю. Однажды повар напоил его до бесчувствия. Мавпа выполз из здания тюрьмы, подошел к краю берега, оскользнулся и погиб в черных волнах. Арестанты шептались, что он увидел поющую сирену прямо у берега и решил посчитаться с нею. Повар говорил, что черви в голове у Мавпы взбунтовались супротив пьяных паров и Мавпа кончил с собой, спасаясь от страшной боли.
Мрожка до осени героически ходил на карбасе один. За сутки он начинал пить для куража, пьянел мертвенно, а после как бы приходил в себя, существуя в тумане. Взгляд его горел очень нехорошо, а лицо, обыкновенно желтое, бледнело и опухало.
– Скапучусь в море, а вы тут подыхайте с голоду, – кричал он арестантам, стоящим на берегу. – Еще сами друг дружку лопать будете, черти!
При этом Мрожка зычно смеялся.
Но ничего, не скапутился.
Пер проболел всю осень. Сирены пели.
«Это конец,» – решил он, когда кровь капнула у него из носа во время умывания. Но ничего не произошло.
Навигация приближалась к концу. Мрожка перевез много припасов. Рапорт о смерти Мавпы он написал, а потом сжег в печке, чтобы не сократилось довольствие. Потом он сказал: «Какая разница!» и напился. В полночь ему стало дурно. Мрожка изошел желчью. Утром было ясно, что выйти в море он не сможет.
– Кто пойдет? – спросил он слабо.
Староста арестантов вышел вперед и сказал, что добровольно никто не хочет идти. Море злое.
– Угля не подвезли раньше, – сказал Мрожка, – Баржа с углем ждет в Совиной. Без угля нам карачун. До весны не доживем.
– Доживем, – сказал староста. – Будем топить шкафчиками.
– Без угля я не смогу готовить еду, – заявил повар. – Вы будете жрать сырые клубни и мерзлые коровьи сердца. У нас не будет хлеба. Вы налопаетесь муки и подохнете, когда у вас склеятся кишки.
– Ты начальник, я дурак, – отвечал староста. – Но добровольно никто не пойдет.
– Я пойду, – сказал Пер. – Только, боюсь, вас отдадут под суд. У меня не будет конвоира.
Мрожка рассмеялся и харкнул чем-то черным.
– Оденете перевязь Мавпы и его кожаную шапку. Будете сами себе конвоир.
Ковпак вышел в море через час. Северо-западный ветер обдирал лицо.
«Обратно выйдет хуже, – прикидывал Ковпак, изучая капризы течения. – А ведь придется волочить за собою плоскодонную баржу».
Между волн уже скакали льдины. Редкие солнечные лучи, продравшиеся сквозь низкое, вязкое небо, поблескивали на ледяных корочках.
Пер старался не думать о сиренах. Черная глубина уже не страшила – манила. И это было плохо. Но на счастье сорвался шкот, и обледеневшая веревка рассекла лицо Ковпаку. Холод обжег рану, крови почти не было. Ковпак отвлекся. Рыча от боли и плюясь проклятиями, он добрался в Совиную. Там было спокойнее. Вода вяло шевелилась, словно покрытая пленкой прогорклого масла.
В трактире он влил в себя два стакана джина, пахнущего дымом. Третий стакан плеснул себе в лицо. Рана оттаяла, и кровь потекла.
– Обождите шквал, – сказал ему рыбак, карауливший баржу.
Пер махнул рукой и спросил еще стаканчик. Пока он пил его, раскрылась входная дверь и в чаду стало темнее. В смерче холодного пара укутанная и мокрая фигура оглядывала комнату.
– Вы узнаете меня? – спросила госпожа Ракоша. Она сняла капюшон. Ковпак не ответил. – Помните, я сказала, что хочу вас отблагодарить?
Она улыбалась.
– Вот ваша свобода. Я знаю ваше имя и кто вы. Вас помиловали, давным-давно. Больше года. Но бумаги ваши затерялись.
Она из-за пазухи извлекла конверт со знакомой уже печатью.
– Это удача, что вы здесь. Мне сказали, что за углем придут из тюрьмы обязательно. Но теперь вам можно не возвращаться.
– Нельзя, – подал голос Пер.
– Вот как?
– Я один вышел в море.
– Ох! – сказала женщина.
Помолчали немного.
– Хорошо! – Она тряхнула головой. – Я подожду вас до завтра. Вы вернетесь, вас перевезут.
– Не перевезут, – сказал Ковпак. – Некому.
– Глупости, – встрял старый рыбак. – Начинается тура, ветер-убийца. Всякий, кто попадет в волны, погибнет.
Госпожа Ракоша топнула ногой.
– Это какая-то недобрая выдумка, – заявила она.
– Послушайте, уезжайте отсюда, – сказал Ковпак. – Вам нечего делать здесь. Спасибо за помилование, извините, что придется ему подождать полгодика.
Женщина разозлилась.
– Да кто вы такой, чтобы мне указывать? Я найду, чем себя занять. Сколько вас не будет? Два месяца? Три?
– Пять, – сказал рыбак. – Пять месяцев.
– Я подожду.
Она присела на скамью и положила руки в митенках на колени, словно так и собиралась ждать все пять месяцев.
Пер Ковпак рассмеялся.
– Зачем вам это все? – спросил он.
– Незачем, – госпожа Ракоша пожала плечами. – Я одна. Отец умер… – Она снова рассердилась. – У вас сегодня скверное настроение?
Пер коснулся кровоточащей щеки и кивнул.
В трактир впал высокий костистый парень, совершенно ошалевший и пьяный.
– О, каторга! – закричал он. – Ты тут? Эт-то напрасно. Шторм. Тура идет! Ветер усиливается. Катись поздорову, а то через час совсем не выйдешь. Потопнешь еще в бухте. Уматывай! Если останешься, тебя забьют деревенские.
Сказав, парень притопнул весело и убрался наверх, гремя заиндевевшей одеждой.
– До весны, – молвил Пер.
Женщина смолчала. В ее глазах отражались огоньки свечей.
Когда карбас соскакивал с волны и летел вниз, хуже всего было, что баржа, влекомая буксирным тросом, падала следом и почти сокрушала корму. Ветер орал. Кожаная шапка улетела за борт.
– Тура! – кричал Ковпак. – По мою душу? Кто меня слопает раньше, ты или сирены?
Сирены пели испуганно и злобно. Пер боролся с рулем. Плоскодонную баржу бросало волной то влево, то вправо. Буксир натягивался и гудел, карбас разворачивало, и он получал другой волной, как кулаком по скуле.
«Меня снесло с курса, – отметил Пер. – Теперь надо держать право, на юго-запад».
Он пил прямо из горла и не пьянел, только злился.
– Ну, гадина, – орал он на волну, – только тронь меня! А-ах!
И карбас снова получал по скуле.
Румпель неистово дергало. Только Пер ложился на него, чтобы не пустить в одну сторону, как он летел в другую, и Ковпак падал на соленые мокрые доски.
Черепушка маячила уже близко. Ее сигнальные огни выскакивали то слева, то сзади, то справа, но почти не отдалялись. Это радовало.
– Ну и крутит, ну и вертит! – пел Ковпак.
И тут сзади, над кормой, возникла змеистая волна и замерла. Ковпак побледнел и обхватил руками голову.
Сирена лежала на самом гребне. Зеленовато-черная, в пятнах, нагая женская фигура, отлитая из переливчатого металла, венчалась страшной и бессмысленной харей глубинной рыбы. Во рту, распахнутом хищно, торчали спицеобразные зубы. Выпученные глаза, красные, неживые, остановились на Ковпаке. Сирена исторгла пронзительную ноту и провалилась в воду, когда Ковпак бросил в нее бутылку. Пошатываясь, Пер переложил парус, уперся о румпель спиной и обвязал себя веревкой. Второй конец он примотал к трюмовой решетке. Он терял силы и боялся, что ветер утащит его за борт.
– Это глупо, – сказал он себе. – Согласиться на пять месяцев ада… Как глупо…
Он принялся думать о госпоже Ракоша.
– Чудачка! Приехала… такая чудачка… Неужели дождется? Кого? Меня?
Ему стало смешно.
Он не заметил, как сирена выбралась на борт карбаса. Из холодной тьмы выпрыгнула рыбья пасть. Пера обдало вонью. Ему были видны глаза ее и ниточки слизи, висящие на зубах.
Сирена передвигалась по палубе, как гусеница. Сдвоенный черный хвост был ободран и сочился белым. Вероятно, ураган настиг ее неожиданно и унес из гнезда, и теперь она пыталась спастись. Инстинкт загнал ее на этот странный плавучий остров, инстинкт велел ей теперь избавиться от человека.
Чешуя на ее загривке приподнялась и зашуршала. Пер закричал на нее и топнул ногой.
Она ударила его головой в грудь, и Пер вылетел за борт. От холодной воды он оцепенел, но, ухватившись за веревку, стал выползать, прилипая к мокрому борту.
Сирена почуяла его и кинулась сразу, едва он перевалился внутрь. Длинный зуб пропорол ему левую руку. Помимо пения сирена издавала еще и шипение, от которого все чесалось внутри.
«Все, – решил Ковпак. – Судьба».
Когда сирена бросилась опять, Пер схватил баковый фонарь и ударил ее по морде. Ворвань с шипением растеклась по мокрому телу чудовища. Огонек погас. Теперь только два глаза горели во тьме. Пер шагнул назад, запутался в собственной веревке и упал на спину, ударившись затылком о борт. Сирена шипела где-то рядом. Потом карбас подбросило на волне. Ковпак увидел сзади и сбоку баржу, которая обрушивалась на карбас. Он закрыл глаза.
Послышался треск. Что-то ударилось о палубу, громко и тяжко. Пер приподнялся, но ничего не смог разобрать.
Их несло прямо на Черепушку, мимо отмелей. Ковпак отчетливо слышал звяканье тусклых колоколов на бакенах.
– Эй! Эй! – кричали с Черепушки.
– Я здесь! – закричал Пер в ответ.
На четвереньках он пополз к румпелю.
Встав у руля, он понял наконец, что случилось. Упала мачта и размозжила сирене голову. Она трепыхалась еще и шипела, но пение прекратилось. Вообще. Перу даже показалось, что он оглох.
– Она была здесь одна, – сказал Пер. – Только одна. Собратья ее ушли в другие места или издохли, а эта упрямо жила именно здесь и сводила меня с ума… Она одна пела здесь на разные голоса, одна в черной воде между белых камней. Слушала собственное эхо… Она пела, чтобы родственная душа услышала ее наконец и пришла к ней. Она пела и пела…
Карбас взломал пристань, но его пришвартовали намертво, подтянули баржу и сразу же принялись сгружать уголь.
– Унесет еще, – бормотал Мрожка. – Ну и дела.
– Я свободен, – сказал Ковпак. – И в апреле уйду.
– Да, – ответил начальник тюрьмы. – Что делать с сиреной?
– Она моя, – сказал Ковпак, потирая разбитый затылок.
– Что ты будешь с ней делать?
– Выброшу ее в море. В море…
– Да, – промолвил Дофью Грас, незаметно вытирая вместе с пивной пеной тайно пущенную слезу, – это стоило услышать, Сметсе! Благодарим тебя от всего сердца – и пьем за твое здоровье!
– Здоровье Сметсе! Здоровье Ночного Колпака! – грянул недружный, но воодушевленный хор, и оглушительно застучали кружки.
– Превосходно; только какое отношение имеет ко всему вышеуслышанному этот ваш Зимородок? – осведомился Забияка Тиссен, демонстративно вздыхая и отставляя пустую кружку. – Ох, Дофью, Дофью Грас! Ох, старина Дофью! Кому только ты вверил нашу судьбу?
– Я в него верю, – объявил Дофью Грас и с вызовом прикусил зубами трубку. – А если он достойно справится, я лично предложу принять его в наше сообщество.
– Ты еще женщин начни принимать, – не без яда заметил минхер Тиссен, сам не ведая, на какой опасной близости к истине он находится.
Причина, по которой Мохнатая Плешь заминировал подступы к своему жилищу, заключалась в том, что он принимал у себя гостя и не хотел, чтобы им помешали. Гостем этим была та самая Мэгг Морриган, о которой уже упоминалось раз или два в связи с Кочующим Кладом. После того случая она бросила прежнюю работу трактирной служанки и сделалась лесной маркитанткой.
Имелся, видать, у нее особый талант, у этой Мэгг Морриган, потому что не нашлось бы такого заказа, за который она бы не взялась и не выполнила. Зная об этом, Янник Мохнатая Плешь зазвал как-то раз ее к себе, угостил особым суфле собственного изобретения (ингридиенты сохранялись им в строгой тайне), был страшно, почти неестественно любезен – и таким образом вошел к ней в полное доверие.
Зачем-то (этого он и сам не понимал) Янник очень старался понравиться ей. Расстались они в наилучших отношениях, сговорившись напоследок видеться как можно чаще. Янник так ей и сказал при прощании: «Заходите ко мне, милая Мэггенн, как можно чаще». Наутро он вспомнил об этом и помертвел от ужаса. Как представил себе, что она и впрямь к нему зачастит… Бегал по комнатам, стеная, выскакивал из дома – катался по хвое, занозил палец на левой руке… Проклинал себя полутролль страшным проклятием: кто за язык тянул? зачем только поддался минутному порыву? суфле это дурацкое…
К счастью, Мэгг Морриган оказалась умнее, приглашение Мохнатой Плеши всерьез не приняла и в следующий раз явилась только через полгода, когда шок от приступа внезапного гостеприимства у Янника уже прошел.
С этого и началась их настоящая дружба. Мэггенн, натура одинокая и мечтательная, хорошо понимала полутролля. Приходила к нему нечасто и всегда по делу – с каким-нибудь товаром или известием. Это Янник чрезвычайно ценил.
В те скорбные часы, когда Зимородок погибал на болотах, Мохнатая Плешь и лесная маркитантка распивали медовый чай с хрусткими жабьими пряниками и вели неторопливую беседу. Мэгг Морриган доставила в этот раз очень редкую вещь – щепоть пыльцы с крыла молодой бабочковой феи. Такие феи в здешние края, как правило, не заглядывают; большинство из тех, что прилетают, принадлежат к стрекозиному роду. Но Мэггенн недаром обладала даром отыскивать что угодно. Нынешним летом она ушла в верховья Черной реки – как чуяла! – и провела там почти месяц в становище мушиных фей. Дни те ушли, мушиные феи давно снялись с лесной поляны и перебрались в теплые страны, едва лишь потянуло первыми холодами, а Мэгг, взвалив за спину корзину с товаром, направилась в деревню – и вот теперь гостит у Янника.
Ну и сами посудите – хотелось ли Мохнатой Плеши, чтобы кто-нибудь из шастающих по лесу бездельников, да хоть бы тот же Зимородок, притащился сейчас в дом и превратил серьезный, неторопливый, содержательный разговор в беспредметную болтовню, которая у иных болванов призвана служить «поддержанию отношений»!
Мэгг Морриган солидно отхлебывала чай, училась курить трубку, нахваливала пряники и особенно их начинку – нарезанное до тонкости бумаги и прожаренное в масле с сахаром мяско молодой жабы; а между делом – рассказывала.
Табор мушиных фей прилетел в эти края впервые. Обычно они бродят южнее, но тут их согнали с прежних мест куробычки, вот они и перебрались к Черной реке. Другие феи не слишком-то жалуют мушиных – те, всегда чумазые, смешливые, в каждое мгновение готовые оскорбиться и наговорить гадостей, – летают с громким жужжанием и горланят песни на своем гортанном наречии. Кто понимает – те переводить отказываются.
Мушиные феи боятся кукушку, знают прошлое любой вещи и неохотно вступают в общение с чужими – разве что щипнут исподтишка.
А Мэгг Морриган спала на поляне и вдруг проснулась от жужжания мушиных крыльев и приглушенного хрипловатого смеха. Увидела рядом с собой загорелые почти до черноты лица, глазищи в полтора раза больше человеческих, острые длинные носы и маленькие губки, вытянутые трубочкой, как для поцелуя. В зеленовато-черных волосах было понатыкано цветов – частью уже увядших. Феи разглядывали спящую девушку и пересмеивались.
– Мы-то сперва решили, ты из наших, – объяснила одна из них лесной маркитантке. – Люди, бывало, ловили нас и отрывали нам крылья, за это мы страсть не любим людей…
– Да нет, у меня никогда не было крыльев, – призналась Мэгг Морриган.
– Все равно, ты на нас похожа! – закричали мушиные феи и запрыгали рядом, тряся многослойными, лохматыми своими одеждами.
Мэгг села, похлопала по своей корзине.
– Здесь у меня много доброго товара! – сказала она. – Ленты, платки, зеркальца… Вам понравится.
– У, у! – загалдели мушиные феи и потащили ее в становище.
Целый месяц Мэгг Морриган сладко бездельничала там – кормилась за разноцветные ленточки, а пыльцовым вином ее поили за просто так. Слушала песни, сама научилась одной или двум.
Там-то и встретила она бабочковую феечку – совсем юную. Крылья у нее – как у простой капустницы, беленькие с черной сеткой. И лицо милое. Влюбилась в смуглого глазастого красавца и с ним сбежала, бросив родных, – пошла за любовью, как поступают все феи. Она была всегда немного грустная. Мэгг Морриган подружилась с нею, насколько обыкновенная женщина вообще может дружить с феей.
Янник слушал с неослабным вниманием. Сердечные тайны фей его, правда, занимали мало, зато все остальное… Правда ли, что мушиные умеют отводить человеку глаза? Правда ли, что они всегда видят, едва взглянут, каким будет человек или вещь перед смертью и оттого никогда ничего не рисуют и себя рисовать не позволяют? Правда ли, что они отрезают своим деткам, едва те родятся, мизинчик на левой ноге, потому что верят, будто этим мизинчиком живое существо уже стоит на краю могилы? Кстати, действительно ли мушиные живут благодаря этой операции вечно? И если да, то нельзя ли отрезать мизинец уже в зрелом возрасте – или придется жертвовать целой ногой?
Уже и последний пряник был съеден, и пыльца пересыпана в особый сосудик, и лучина запылала в клюве у медного горбатого журавля, стоящего на одной ноге в тазу с водой, и по этой воде заходили красные круги от огня, – а беседа старых друзей все тянулась, такая неспешная, такая подробная, сущее наслаждение.
За окнами таинственно синел снег и чуть шевелилась тяжелая еловая лапа. На ней выделялись шишки, похожие на огурцы, – как будто их нарочно там повесили.
В самый спокойный час, когда день уже отдал все свои долги и в тишине доживал отпущенные ему минуты, за этим волшебным окном вдруг раздался отчаянный воющий крик. Мэгг Морриган заметно вздрогнула. Янник пожал плечами.
– Наверное, какой-нибудь болван на арбалетную стрелу нарвался, – заметил он неохотно. – Сиди спокойно, Мэгг. К утру околеет – сходим, посмотрим.
Мэгг Морриган решительно накрыла его ладонь своей.
– Нет, Янник, друг мой, так не годится, – сказала она, стараясь говорить спокойно и ласково. – Что ты, в самом деле! Ведь это живое существо. Оно страдает.
– Невелика потеря, кто бы ни был, – заворчал Янник и с досадой стукнул по столу ладонью. – Эх, вот гады! Передавил бы всех!.. Вечно им надо припереться и все испортить.
– Да ладно тебе, – примирительно улыбнулась Мэгг Морриган. – Пойдем лучше, глянем, кто это попался. Вдруг что-нибудь интересное.
Едва только она это сказала, как – словно бы в подтверждение ее слов – к окну из темноты приклеилась растопыренная пятерня, а затем, снизу, поднялось белое лицо с выпученными глазами.
– Впустим? – просительным тоном произнесла Мэгг Морриган.
– Я был о тебе лучшего мнения, – хмуро сказала Янник и отвернулся.
Мэгг Морриган поднялась со своего места и скользнула к двери мимо насупившегося хозяина. «Припадочная», – проговорил он сквозь зубы.
Мэггенн приоткрыла дверь, и сразу в дом ворвались, разрушая теплое очарование очага, чайного запаха, беседы – морозный воздух и звериный дух чужого страдания. Лесная маркитантка едва не упала, когда человек с тонким древком в плече повалился прямо на нее. Он разевал рот неестественно широко и как-то криво и тоненько завывал.
Янник вскочил и забегал по комнате, колотя себя кулаками по плеши.
– Жаба! Пузырь! Бегепотам! – восклицал он.
Не обращая на это внимания, Мэгг Морриган втащила в дом незнакомца, ногой прихлопнула дверь, а после припечатала крепкую длань к его щеке и таким образом разом привела его в чувство. Он поморгал и взглянул осмысленно.
– Янник? – спросил он у Мэгг Морриган.
– Почему? – удивилась Мэгг Морриган.
Едва не своротив журавля, к ним подскочил полутролль и завопил:
– Я, я – Янник! Не видишь, что ли? Глазеть явился? Глазеть? Глазей!
– Я сяду, – молвил Эреншельд и тихо опустился на стул.
Янник опять начал метаться из угла в угол. Некоторое время все трое молчали: Мэгг Морриган – разглядывая пришельца, Янник – избывая тоску от вторжения, а Эреншельд – превозмогая боль и острую обиду.
Затем Эреншельд сказал:
– Я лучше лягу.
Одним прыжком Мохнатая Плешь оказался подле него, нагнулся над гостем и заорал:
– Нет!
– Ну, хватит, – оборвала Мэгг Морриган. – Приготовь ему лежанку. Сам виноват. Наставил кругом арбалетов.
– Лучше б ему в лоб попало, – сказал Янник. – Мы бы и не узнали. Спокойно допили бы себе чай и легли спать. И нечего вокруг моего дома шастать.
– Зимородок, – сказал Эреншельд. – Друг Янника.
– Ты убил его? – осведомился Янник и поджал губы.
– Наступил на гриб… – продолжал Эреншельд. – Он послал меня сюда. Он сказал, что Янник – его друг.
– Зимородок наступил на гриб? – переспросил Мохнатая Плешь, явно не веря собственным ушам. – И все? И ради этого ты притащился сюда? Сообщить мне о том, что Зимородок наступил на гриб? – Затем он на мгновение замер, и тут на его физиономии начал проступать ужас. – Зимородок… наступил на гриб? – повторил он в третий раз совершенно другим тоном.
Мэгг Морриган тем временем рылась в своей корзине. Там, на дне, приглушенно и зловеще звякали завернутые в тряпицу инструменты – щипцы, тонкий нож. Эреншельд следил за ней, кося глазами.
– Брось его! – заорал неожиданно Янник. – Подождет! Подай мне это, дай мне то, сними с полки, вынеси из подпола!
Он размахивал руками, указывая сразу в десятках направлений, так что казалось, будто число конечностей у полутролля увеличилось в несколько раз; а основной парой рук он перетирал в яшмовой ступке подаваемые ему интгридиенты. Пестик стучал и бился о стенки сосуда, а иногда, при особенно тщательном нажиме, вдруг производил скрежет, и тогда на губах Янника вырастала зверская ухмылка.
– Эй, была не была! – ухарски крикнул Янник и отправил в зелье драгоценную щепотку пыльцы, привезенную лесной маркитанткой. – Для друга ничего не жаль!
Мэгг Морриган села, сложив на коленях руки. Склонила голову набок. Янник уже умчался в сени и там грохотал лыжами.
– Пересыпь в мешочек! – вопил он ей из темноты. – И принеси мне сюда лампу!
– Где у тебя лампа? – спросила Мэгг Морриган.
Из сеней на мгновение высунулся Янник. Короткие волоски на его плеши стояли дыбом, глаза вращались, из широко раздутых ноздрей заметно шел пар.
– Дура! – проскрежетал он и скрылся.
– Ты же сам посадил там гриб! – сказала Мэгг Морриган.
– Но я ведь не знал, что это будет Зимородок! – ревел полутролль, сражаясь с лыжами и санями, которые норовили упасть ему на голову с полки в темных сенях. Снова послышался грохот. – Кроме того, я посадил его летом! С тех пор я о нем и думать забыл!
– Это все из-за раннего снегопада, – вдруг проговорил Эреншельд. – Никто ведь не знал, что выпадет снег.
Мэгг Морриган подошла к окну и выглянула. В ярком лунном свете на тропинке перед домом стоял Янник – на лыжах, мрачный. Мэгг Морриган постучала пальцем по стеклу. Полутролль обернулся. Лесная маркитантка выбежала из дома и вручила ему мешочек с порошком.
– Отменная, кстати, штуковина, – заметил Янник, препровождая мешочек себе за пазуху. – Убивает все живое, если оно гриб.
– Он, наверное, там замерз, – сказала Мэгг Морриган.
– Не учи ученого! – огрызнулся Янник, и тут оказалось, что фляги со спиртным он действительно с собою не взял. Мэгг Морриган еще раз сбегала в дом и принесла мушиного самогона из своих припасов.
Янник быстро заскользил прочь и скоро скрылся из виду.
Рассказ о том, как полутролль Янник, лесная маркитантка и барон Мориц-Мария Эреншельд спасали незадачливого следопыта впоследствии вошел в Анналы Общества Старых Пьяниц; одновременно с этой историей всегда рассказывалась и другая, где также участвуют лыжи, фляга со спиртным, стрелы для арбалета и лука, полуопытный юнец и чудесное животное.
Рассказ о ловле золотого зверя
– Все пьют кофе с перцем или не все? – переспросил Жан Морщина. Как и в прошлый раз, ему не ответили. Морщина пожал плечами и вытряхнул в котелок остатки черного горошка из мешка.
Не застегивая дохи, Гисс вышел из сруба, утопая ногами в тяжелом мокром снегу.
Заснеженный лес, раскинувшийся на многие переходы вокруг, дышал тяжело и сердито. Снегопад почти прекратился, и далеко на востоке небо очистилось от туч. Звезды блистали ослепительно. Утром ударит мороз.
Гисс вернулся в избушку, где тишина сменилась громким разговором. Трубки, тихо посапывавшие несколько минут назад, теперь трещали прогорающим табаком.
Говорил Прак:
– Я не понимаю, для чего нужно было собираться. Мужское соглашение, твердите вы. Соглашение в чем? Кто первый добудет зверя, тот и прав, и дело с концом.
Морщина ухмыльнулся и ударил себя кулаком по колену. Ванява, угрюмый бородач, стукнул кружкой о столешницу и крякнул.
– Не разорять чужих ловушек. Не подъедать чужих припасов. Не стрелять друг другу в спину – вот о чем испокон веку было наше мужское соглашение. Закон лесных джентльментов. Он был нерушим, пока в наши края не наползло всякой сволочи с востока.
Прак пошел пятнами.
– Что касается сволочи… Ты что, намекаешь, будто я собираю по чужим силкам?
– В прошлом году кто-то убил Скотта и унес всю его добычу. У меня нет доказательств, но сдается мне, что в Троллиной пади, кроме него, охотился еще и ты, – сказал Ванява.
– Брось. Любой мог это сделать, – заявил Гисс. Он подумал, что Прак кинется на Ваняву, и тогда Ванява его убьет.
– Я – не мог! – сказал Морщина. – Я лежал у себя со сломанной ногой.
– Ну разве что, – Гисс спокойно снял запотевшие очки и вытер их углом байкового шейного платка.
– Мне плевать, что обо мне думает Ванява, да и все вы заодно. Я такой же охотник, как и большинство из вас, – произнес Прак. – Я белый мужчина, живу здесь пятнадцать лет и добываю мех и золото. Никто из вас не ловил меня за руку. Теперь меня заманивают сюда, я трачу время и – мало того! – должен ночевать под одной крышей с синемордым ублюдком. Эй, тунгулук! Не смей здесь сидеть! Пошел в предбанник!
Все обернулись на угол за печку, где на корточках сидел тунгулук Хуба-Мозес. Хуба остался неподвижным и с окаменевшим лицом смотрел поверх голов.
– Не ори на него. И вообще – не ори. Катись к себе на восток и там ори, – сказал Мак Спешный. Он перематывал узким кожаным ремешком рукоять огромного ножа.
– Любитель тунгулуков, да? Поцелуй его в синюю задницу!
– Дед Хубы был рабом моего деда, – рассудительно проговорил Мак. – Его отец сеял кукурузу для моего отца. Я это к тому, что нам хотя бы известно его происхождение. Чего нельзя сказать о твоей родословной. Мать Хубы плела циновки, корзины и толкла камнерепу. А чем занималась твоя? Неизвестно.
Прак выхватил из рукава метательный нож и замахнулся, но ловкий Морщина плеснул ему в лицо кофейной гущей. Нож с дребезгом вошел в притолоку высоко над головой Спешного. Все засмеялись. Прак шипел и тер глаза.
– Кофе-то с перцем, – сказал Жан Морщина.
Опять посмеялись.
– Будет, – молвил Ванява, огладив бороду. – К делу.
Ванява умел говорить весомо и значительно. Окружающие боялись в нем неторопливой и прочной уверенности. Глядючи на этот могучий остов, подпертый короткими, мощными ногами, снабженный руками невероятной силы, многим думалось: опасно с ним ссориться.
– Завтра в рассвет – начинаем, – продолжал Ванява. – Расходимся в разные стороны, но леса промеж собою не делим. Лес общий.
– Понятно, что каждый пойдет к своим ловушкам, – вставил Спешный, ухмыляясь.
– Если бы зверя можно было добыть ловушкой, я давно бы его добыл, – добавил Морщина. – Но ведь это напрасный труд. Зверь хитер и силен.
– Зря мы стараемся в одиночку, – сказал Гисс. – Зверь еще и опасен. Вышли бы парами. Награда за него велика, можно и поделиться с компаньоном.
– Я ни с кем не собираюсь делиться, – снова завелся присмиревший было Прак. Он с яростью поглядывал на Мака и бросал злые взоры на насупившегося Ваняву. – Ни с кем из здесь присутствующих.
Спешный осклабился, показал Гиссу на Прака большим пальцем и кивнул головой.
Ванява засопел и наморщил приплюснутый нос.
– После случившегося со Скоттом я также не доверяю никому. Извини, Гисс. Извините и вы, джентльмены. Зверь – вопрос мастерства. Златошерстный приз. Добыча его – чрезвычайно опасное мероприятие. Именно поэтому мы должны действовать в одиночку.
Он встал, подбоченился и заговорил уже во весь свой страшный голос:
– Прежде считалось, что лес обдирает с человека все дрянное, что лес воспитывает мужчину – смельчака, товарища, воина. Когда-то так и было. Но среди нас завелась гниль. Не дергайся, Прак, я говорю даже не о тебе. Гниль в воздухе, в воде, она оседает в наших печенках. Пора встряхнуться, джентльмены. Лес – лучший судия. Зверь – воплощение судьбы. Если такая вонючка, как Прак, сумеет добыть зверя или, тем паче, отбить его у меня – значит, так тому и быть. Но мне лучше не видеть этого, мне лучше околеть в лесу.
– Согласен, – сказал Прак, сверкая глазом.
– Согласен, – сказал Мак Спешный и вонзил свой нож в доску стола перед собой.
– Согласен, – сказал Морщина.
– Согласен, – эхом отозвался Гисс.
– Ху-ху! – выдохнул Хуба-Мозес, не изменив выражения лица.
После этого выпили спирту и улеглись, забравшись в мохнатые спальные мешки. В печке прогорали поленья.
Утром Гисс проснулся от густого запаха, распространяемого Хубой-Мозесом. Гисс никогда не испытывал к тунгулукам брезгливого отвращения, но к их запаху тяжело было привыкнуть. Хуба заметил сморщенный нос Гисса, сказал «Двойные Глаза, доброе солнце» и открыл крошечное окошко. Тяжелый, сухой, морозный воздух обжег лицо. Гисс поднялся, нащупал очки и принялся завязывать ремешки меховых сапог. Больше никого в срубе не было.
– Что же ты, Мозес, не ушел? – спросил Гисс.
– Хуба знает, когда ему выходить, – отвечал тунгулук. Он стоял прямо перед окошком и дышал морозом, как рыба – свежей водой. Изо рта его не шел/выходил пар.
Гисс выскочил за надобностью, обежал после два раза кругом избушки, у порога зачерпнул рассыпчатого, чистого снега и обтер лицо, спрятав очки в карман. Хуба тем временем разгорел чифирь и настрогал мороженой рыбы.
Подкрепившись, Гисс проверил арбалет, убедился, что хороших «дельных» стрел, которые сгодились бы на зверя, у него всего три. Он не верил, что добудет или хотя бы увидит зверя, но в лесу и кроме него встречаются опасные твари. Шатун-буркатун, огнегривая росомаха, мечеклык. Свой брат, лесной джентльмен, проплутавший пять дней в лесу, трясущийся, пустоглазый, способный убить из-за пачки чайных листьев и недокуренной трубки… «Ванява говорит, что раньше такого не было,» – подумал Гисс и усмехнулся.
Гисс приехал в эти края пять лет назад. Стрелял он неплохо, из-за чего местные довольно скоро перестали насмехаться над его очками. Иные считали даже, что «оккуляры» суть волшебное приспособление, прибавляющее меткости владельцу. В остальном Гисс был неумеха и белоручка, хотя и брался за любую работу. Он гонял плоты на реке Потёме, мыл золото с полукаторжными субъектами, собирал для чародеев гриб-девятисон, рыбачил и охотился. Вернуться домой он уже не мог. А приехал он, надо сказать, с тем, чтобы наняться в учители в какую-нибудь богатую семью.
За пять лет он не прочел ни одной книги. Рука его не коснулась пера или грифеля.
Лабазник Дмитро, тороватый и злой, из пьяного куражу выписал столичные клавикорды для своей рябой дочери Барбы. Всем поселком ходили потешаться над «вздорным струментом». Среди прочих зашел и Гисс. Он открыл под общий смех лакированную крышку, зажмурился и, надавив пальцами, исторг из «струмента» нескладный, глупый аккорд. Сам усмехнулся, отошел прочь и более не пытался никогда.
За пять лет Гисс стал крепче, шире в плечах, избавился от привычки сутулиться. Но среди коренных жителей по-прежнему смотрелся плюгавцем. Даже борода росла у него несолидная, драненькая. Он сбривал ее, чтобы не срамиться перед обладателями густых, окладистых, черных бород, курчавых и твердых. За бритье его иногда дразнили «белым тунгулуком» – у тунгулуков, как известно, борода не растет.
В настоящую минуту Гисс перекладывает свой наплечный мешок, проверяет состояние ножа и густо мажет широкие лыжи вонючим жиром ледовой саламандры. Сейчас конец декабря – пушные звери в самом меху. Пусть остальные гоняются за златошерстным призом. Он, Гисс, просто обойдет свои ловушки и соберет добычу. Он нашел хорошие места. Даже в случае сугубого невезения ему достанется десяток «алмазных» соболей и штук тридцать белок. Вырученных денег хватит до весны. А весной он подработает на плотине и купит себе подержанную лодку, на которой уйдет далеко вниз по Потеме, до самого озера Андалай. Каждая третья песчинка на берегу этого озера – золотая, а на дне, говорят, лежат тяжелые самородки, круглые, как голыши. Ходит в прозрачных водах радужный омуль, рыба-чечун с длинным, жирным хвостом, хрюкающий угорь и рыба-солнце с красной короной на голове. А в лесах вокруг – ягоды, земляника с кулак, голубика, грибы по полпуда весом. Нагулявшийся кабан полощет рыло в опавших желудях. Глухарь и тетерев спорят – кто вкуснее. А по вечерам, разгоняя крыльями теплый туманец, ступает босыми ножками по колкой хвое черноглазая, черноволосая фея озера Андалай. Ищет себе полюбовника среди рыбаков и охотников. Кого выберет – оглянет царским взором, величаво руку подаст и уведет прямо в туман. После отпустит и одарит золотом сообразно мужской стати и камнями громовыми, черными – без счета. Камни эти у городских колдунов в страшной цене. Черны они, как глаза самой Андалай. Если камни эти между собой потереть, отскакивает от них кусачая молния и раздается гром – от того и название. Вот такие чудеса, и совсем рядом. Нужно только достать лодку.
Гисс не понимал лесных джентльменов, порешивших добыть зверя во что бы то ни стало. Он подумал с минуту и вспомнил его научное название – куница кистеухая исполинская. Синелицые, холодные тунгулуки, исконные обитатели этих мест, называют его аблай. А пришлые белые зовут его просто зверь. Называть его как-нибудь еще – скверная примета.
Зверь велик – побольше годовалого теляти, и ловок, и бесстрашен. Его боятся и снежные львы, и огнеклык, и росомаха. Глупые волки, нападая на его след, бегают от дерева к дереву, а он, где по ветвям, где по низу, косой пробежкой, уводит их в непролазную чащу. Падает тенью сверху, без звука, без запаха – и скрадывает по одиночке всю стаю. Если он спешит, движения его неуловимы людскому глазу – вроде золотистой ряби проплывет в воздухе – и все. Иногда он режет скот, особенно погибелен для овец. Опьянившись кровью и покорностью стада, зверь уничтожает всех, от старого барана до ягненка.
Зверь редок и дорог. За одну лишь шкуру его (в хорошем состоянии) дают: теплый большой дом, огород под камнерепу, впридачу – лабаз, три пары лыж, полтыщи хороших стрел, муки, табаку, выделанной замши, ткацкий станок, спирт и, если повезет, хорошего злого щенка. Но есть еще и струя из желез. Она меряется на золотники и лечит от жидкокровия, слепоты и страшной болезни, при которой человек лишается волос, зубов, ногтей и умирает от зуда. Есть еще когти зверя – любая тунгулукская колдовка отдаст белому в наложницы свою дочь за связку когтей с одной только лапы. Есть еще зубы зверя. За один только клык целый род синелицых уйдет в рабство. Есть сердце зверя – врачует от ста недуг. Есть печень зверя, в которой желчь, заживляющая раны.
Лыжи у Гисса, благополучно пережившие уже трех владельцев, обладали нравом строптивым. Они убегали от нынешнего хозяина – скользили прочь даже на ровной поверхности, причем в разные стороны. И теперь Гисс покорил их не с первой попытки. К тому же крепление на левой лыже сломалось. Следовало вернуться в сруб, отыскать на полу достаточно длинный кусок упругой толстой проволоки, особым образом согнуть его и произвести еще целый ряд неприятных манипуляций, располагая из инструментов лишь тупой стороной ножа и оселком. Но Гиссу хотелось скорее уйти подальше от духа суровых мужских разговоров – ими пропитался сруб и поляна вокруг него. Хотелось на волю, где спокойно можно говорить с самим собой и беззвучно посмеиваться. Да еще Хуба-Мозес, скрестив руки на безволосой груди, глядел ему в спину. Хуба знал, что белые не выносят его взгляда, особенно в спину. Гисс вздрагивал всем телом.
Запасная лямка от мешка – вот что поможет ему. Он не будет чинить крепления, ставить новую скобу – просто примотает стопу к планке. Ненадежно и небезопасно. Если он упадет, то может подвернуть ногу. А то и сломать. Зато быстро. Раз-два и готово.
Хуба неодобрительно покачал головой, но осуждающе поцокать языком не снизошел.
Гисс не выдержал.
– Знаешь, Мозес, почему тунгулуки чулков не носят? – спросил он.
Хуба отрицательно нахмурился.
– Потому что чулки на лыжи не налезают.
И, дивясь собственной глупости, Гисс поднял капюшон и двинулся прочь.
Утренний мороз зол, но весел. Он кусает и бодрит, делает нервы чуткими, нос – восприимчивым. Воздух прозрачен. Розоватый снег пушист, скрипуч. Совсем не страшно утром в лесу, даже новичку. Ели и сосны – как в детской книжке с картинками. Иная ветка, оттянутая снегом до земли, вдруг разогнется, взмахнет в воздухе – и из бело-розовой сделается зеленой, а на солнце мерцает, колеблется алмазная, серебристая, изумрудная – снежная пыль. Береза, отлитая из инея, вздрогнет всем своим телом, хрустнет и снова заснет.
Днем розоватое превращается в белое и голубое. Тени отчетливее, солнце слепит, запахи – шалят, обманывают чутье. Белки и соболя теряют осторожность. Тут – не зевай. Смотри по верхам, поглядывай и вниз. А мороз уже не весел. Рука без рукавицы за несколько минут костенеет и перестают слушаться пальцы.
Гисс до темноты обошел свои ловушки. Результат был более чем удовлетворительный. Но предчувствие неприятного свойства мешало обрадоваться по-настоящему. Тяжесть перекатывалась в груди. К тому же краешком левого глаза Гисс иногда видел кое-что. И не на долю мгновения, а на несколько мгновений видение задерживалось перед ним, когда он оборачивался. Так показался ему стоящий на снегу черный, закопченный котел, булькающий зеленым зельем. А спустя час он увидел нагую рослую женщину с грустным лицом, заросшим сплошь длинным мягким пухом. Пух шевелился, как на ветру, хотя никакого ветра не было и в помине. Женщина зашла за дерево и исчезла.
Гисс с чувством отхлебнул из фляги. В тавернах любят повествовать о таких наваждениях. Обычно одинокие, бывалые охотники сталкиваются с лесными миражами за несколько часов до гибели. Гисс потешался над этими россказнями. Если погибший был один и найден уже мертвым, кто мог рассказать о том, что он видел? Тунгулукский шаман?
Гисс твердо решил держать себя в руках и выпил еще. Тепло разбежалось по всему тело, и противная дрожь унялась. Гисс привесил к мешку мертвых зверьков, чьи тельца были странно-тверды под мехом.
Верхушки елей уже окунуло в кобальд, тени стали густыми. Скоро выйдет мертвенная луна. Холодный пронзительный свет проникнет в потаенные уголки зимнего леса, достигнет глубин непролазной чащи – куда солнечный луч не заглядывает никогда; потревожит норы, щели в древесной коре. Оживит существа, большие и малые, о которых человек, конечно, догадывается, но никогда не знает наверняка.
Гисс незаметно для себя перешел на очень скорый шаг и быстро оказался на знакомой тропе. Вдоль нее две лыжные колеи убегали в синий сумрак. Мак Спешный прошел здесь несколько часов назад. Гисс узнал его манеру слегка подворачивать правую ногу. Спешный двигался торопливыми длинными шагами, почти бежал.
На тропе Гисс посмелел. Ему стало любопытно. Что, в самом деле, старина Мак тут забыл? Его любимые места начинались по другую сторону болота. Гисс направился по следу.
Сквозь обширный перелесок след вывел на опушку. Ее поперек перечеркивал другой след, отчетливый в синем снегу, – узкие беговые лыжи Прака.
Спешный вышел ему наперерез, но опоздал и бросился догонять.
«Он убьет его, – подумал Гисс. – Он не простил метательного ножа. Уже, наверное, убил. Зачем я иду туда?»
Вопрос остался без ответа, но Гисс все равно шел по следам, охваченный любопытством.
Лыжные полосы разбежались за болотом. Оба – Прак и Спешный – отчаянно петляли между сугробами, словно в прятки играли. За искривленной елкой Мак Спешный стоял довольно долго – ушел в снег по пояс. Что он там сторожил? Осматривая взрыхленный снег, Гисс внезапно ощутил дурноту и тяжелый мутный страх. Он обернулся и успел увидеть золотистую рябь, мелькнувшую в синем столбе лунного света. На этот раз – не мираж. Осторожно Гисс проделал несколько шагов. Так и есть – следы. Совсем не похожие на следы куницы. Крупные, но неглубокие, словно животное невесомо. Гисс коснула следа рукавицей и понюхал ее. Сладоватый, терпкий запах.
Это он.
Дурнота то усиливалась, то вдруг отпускала. Особенно неприятным было покалывание в шее сзади, там, куда зверь запустит при случае острый длинный клык.
Гисс снял капюшон. Жалко уши, но ничего не поделаешь – ему нужен обзор. Медленно взвел он арбалет и положил «дельную» стрелу. Если попасть правильно… если б попасть!
Дурнота отступила совсем. Сразу заболели уши.
Зверь по-прежнему недалеко. Просто человек надоел ему, и он ушел глубже в лес. Гисс понял, зачем сюда стремился Спешный. Он следил за Праком, чтобы тот вывел его к зверю. Зверь по нескольку дней кружит в одном месте, таковы его повадки.
Странный получался поединок. Двое охотников и зверь. Все против всех. Тут Гиссу пришло на ум, что и он теперь участвует в этом поединке. И Прак, и Спешный, увидев его, захотят убрать ненужного конкурента. Прак пустит стрелу холодно, Спешный – вздохнет, но все равно ведь выстрелит. Оба давно не промахивались.
– А ну вас, ребята, в бучило, – сказал Гисс. – Буду-ка я выбираться от греха.
В двух часах пути скорым шагом находился его лабазик, где – печка, спиртовая лампа, пушистое одеяло, чайник… До утра славно там можно отдохнуть. Нужно только, высматривая в лунных лучах, найти свои метки. Здесь можно срезать – по дну оврага и сразу на полночь, миновать прошлогоднее пожарище и все, рукой подать.
Гисс снова ощутил волну страха, но волна эта не задержалась, прокатилась и миновала. Он сказал: «уф!» – и тут дыхание его перехватило. Давешняя женщина с пуховым лицом смотрела на него из-за ствола сосны. Ее тело отливало холодной синевой. Гисс снял очки и через секунду снова надел. Женщины не было.
– Скорей, скорей, скорей… – шептал Гисс. – Бегом, бегом, бегом…
Снег скрипел под лыжами. Вот уже и овраг.
– Скорей, скорей, скорей…
Когда его лыжи уперлись на ходу во что-то твердое, Гисс досадливо и испуганно вскрикнул.
Поперег оврага лежал Спешный – лицом вниз, раскинув руки. Капюшон его дохи был пригвожден к затылку стрелой.
– Какого лешего? – удивился Гисс. Стрела принадлежала не Праку. Это вообще была не арбалетная стрела. Такими стреляют из луков. Из больших костяных луков с варварской резьбой, с пучками засаленных ленточек.
– «Его дед был рабом моего деда», – вспомнил Гисс. – Ай да Хуба-Мозес, ай да ловкач!
Спешный был холоден и тверд. Час он тут лежит? Три часа? Наверняка только его убийца мог это знать. А с ним совершенно не хотелось встречаться Гиссу.
Он обошел тело и тронулся дальше. Снег все так же поскрипывал и похрустывал. Гисс замер, задержав дыхание. Невдалеке под чьими-то лыжами взвизгнуло и хрустнуло дважды. Кто-то сделал два шага и остановился.
– Эй! – крикнул Гисс. – Это я, Гисс! Я ухожу. Пропадите вы с вашим зверем! Мне он не нужен. Дайте мне уйти.
В это мгновение снег перед кончиками его лыж взорвался, взметнулся вверх. Что-то темное, большое, суматошно хлопая крыльями, повисло в воздухе. Гисс дернул руками и подался назад.
Стрела ударила в цель, как в плотную сырую подушку, и отбросила ее назад, далеко. Гисс даже успел увидеть кружащее перо. Но он не сохранил равновесия и упал в сугроб.
От боли в ноге у него остановилось дыхание. Он копошился в снежном мешке и выл. Снег набился в уши. Очки сгинули в сугробе. Левая нога у щиколотки сгибалась вбок, словно обрела новый сустав. Слезы заледенели на щеках Гисса и кололи уголки глаз. Он продолжать завывать, стиснув зубы. Попытался ослабить петлю, которой сам привязал ногу к лыжной планке. Тут же боль усилилась. Но от лыжи нужно было избавиться. Плача и ругаясь, Гисс ножом перепилил затвердевшую лямку. Опустил искалеченную ногу на снег, выронил нож.
– Очки, – пробормотал он, всхлипнув, и принялся шарить вокруг себя. Сквозь рукавицы ничего не почувствовав, он сбросил их и зарылся пальцами поглубже. Пушистый сверху, внутри снег оказался жестким, царапал обмерзшую кожу. Попадались какие-то веточки, черенки от листьев, почерневшая хвоя… Наконец дужка зацепилась за пальцы.
Увы – барахтаясь в сугробе, Гисс сам раздавил свои очки. С проклятием он отбросил бессмысленную оправу.
– Запасные в мешке, – сказал он сам себе. Подышал на пальцы. Снял со спины мешок, зубами развязал шнур и запустил внутрь обе руки. Потом, выругавшись, расширил горловину и вывалил содержимое перед собой.
Очков запасных не было. Гисс по одному перебирал предметы и метал их далеко, через спину – не то! Улетели и трубка, и мешочек с чаем, и брикет вяленого мяса, за ними – трутница, складная бритва, оселок, осколок зеркальца, кисет…
– А без очков-то каюк, – сказал Гисс.
Свернутая – или сломанная – нога горела от стопы до колена, но при этом была как чужая, ватная и тяжелая. От долгого сидения в снегу онемело седалище. Опираясь на лыжу, как на костыль, Гисс попробовал подняться. Он не будет собирать пожитки, шарить близорукими обмерзшими ладонями в скрипучем снегу. Он попробует добраться к себе.
Но идти невыносимо тяжело. Снег глубок. Здоровая нога вязнет, больная упирается коленом, волочится. Гисс пополз на четвереньках. Ему показалось, что так проще.
В пяти саженях убитых глухарь уже застыл. Пр-роклятая птица! Глупая птица… Издохла непонятно про что. И Спешный… Посмейся теперь, пошути, охотничек. Объест тебя огнегривая росомаха. Вороны выдолбят мозг. Узнают тебя весной по бисерному амулету – если найдут.
– Ползу-ползу-ползу, – шепчет Гисс. Он слишком часто падает лицом в снег. Лицо щиплет, кончик носа раньше болел, а теперь уже не болит. Гисс трет нос колючей от снега рукавицей, плачет и ползет, ползет…
С четверенек все выглядит по-другому. Вот кончился овраг, вот метка – зарубка. Все то, да не то. Деревья-то какие высокие, мамочка… Запрокидывай сколь угодно голову – не видно верхушек, залитых лунным мерцанием. Верхушки расплываются в черноте. А голова кружится от боли, от страха, от холода – и пляшут бесконечные стволы, маячат тени на снегу. Вот тень страшная, как снежный лев, вставший на дыбы. Елка. Тьфу! Ползу-ползу-ползу… Вперед-вперед-вперед…
Хорошо, что такая светлая луна. Очень хорошо. Гисс переворачивается на спину, чтобы передохнуть. Выдыхает струи пара, глядит на звезды. Без очков – расплывающиеся горящие пятнышки на мутном фоне. Луна – пятно сильно побольше, поярче. Если ее закроет туча, Гисс ослепнет вообще.
Он вытягивается, замирает, услышав визжание снега, мерное, приближающееся.
– Эй! Помоги! – кричит Гисс. – Я здесь!
Шум утих на мгновение, голос невнятно выбранился и чьи-то лыжи заторопились, чиркая по снегу.
– Сюда! – кричит Гисс.
Жан Морщина склоняется над ним.
– Угораздило, братец, – произносит он с сожалением.
– Да уж! – отвечает Гисс. – Перелом, кажется.
– Не повезло, – вздыхает Морщина и добавляет с деловитым любопытством: – Ты встречал кого-нибудь?
– Старину Мака встретил, – говорит Гисс.
– Там, в овраге?
– В овраге…
– Плохо, братец. Такое время, смотреть надо в оба.
– Послушай, – не выдерживает Гисс, – старина Мак, сидел с нами вчера… и мертвый лежит в овраге. Со стрелой в башке! Пил с нами вчера – и со стрелой в башке…
– Ну и делов, – Морщина сопит и хмурится.
– Поверить не могу!
– Э! Да что там… Тебе, братец, хуже. Больно?
– Уже нет.
– Это хорошо.
Неприятное предчувствие укалывает Гисса под сердце. Он не может осознать до конца, что происходит – и произойдет прямо сейчас.
– Ну, – тянет он, – помоги же мне. Доведи хоть до лабаза. Здесь недалеко…
Словно не услышав его, Жан Морщина произносит задумчиво:
– Зверь-то поблизости, знаешь?
– Да, я видел его.
– Видел?
– Он смотрел на меня.
– Да, братец, – опять говорит Морщина. Ему очень неловко.
– Помоги же мне! – Гисс теряет терпение.
– Выпить хочешь? – Морщина откупоривает флягу. – Не хочешь? Зря. – Он делает глоток и шумно дышит несколько секунд. – Понимаешь… – бормочет он изменившимся голосом. – Я хочу уехать отсюда. В город. В Кандай или Пнинск. Хочу жить в каменном доме, чтобы внизу была лавка, в которой все есть – и свечи, и мыло, и хлеб… Там ведь есть такие лавки. И улицы мостят. Такое дело, братец, – всю жизнь коплю, а не накапливаю. Карманы худые. А тут – зверь. Я, братец, в сторонку отойду и влезу на дерево. Зверь-то к тебе подойдет… Как он твоей крови напьется, так задуреет. А я его возьму.
– Чепуха, – шепчет Гисс. – Жан, Жан, что ты говоришь? Помоги мне, Жан… У меня немного денег, но я продам кое-что… Жан!
– Не унижайся, Гисс, – говорит Морщина. – Жизнь, какую мы ведем в этих проклятых местах, не стоит унижений.
– Идиот! Я ведь околею скоро! Зверь падали не ест.
– Часа два-три протянешь, – спокойно отвечает Жан Морщина.
Гисс щурится из последних сил – ему кажется, что Морщина опирается на странный изогнутый предмет. Но что это, он разглядеть не может.
– Я удивился, что ты не знаешь простого фокуса – как передвигаться со сломанной ногой. Я прошлой зимой сломал правую, но ничего, добрался, – повествует Морщина и пьет из фляги. – На коленях. Встаешь коленями на лыжи и привязываешь двумя ремнями каждую ногу. Один – под коленом, другой – под икрой. И руками знай толкайся. Я много тогда прошел таким образом. Так и не рассказал никому – а знаешь, хотелось… похвастаться. Я ведь хитрый.
– Ты Скотта убил? – понял Гисс. – Быть не может!
– Почему, братец? Может.
– Там, у тебя, что? Не лук? – Гисс закашлялся, догадываясь обо всем.
– Лук. Хороший, тунгулукский. Замечательная вещь, дорогая, но этот себя уже окупил…
– А остальные?
– Что – остальные? Ванява в болоте завяз, в полынье, я его вешки еще третьего дня переставил. Прак заколот собственным метательным ножом. Последние версты я шел в его лыжах. Старина Мак клюнул и попал в ловушку. Такие времена, братец…
– Ты гад, Морщина…
– Ну уж и гад! Скажешь иногда… Думаешь, я хищник? А ты, братец, какого лешего сюда поперся? Ягоды собирать, вроде, не сезон. Я тебе лыжу испортил, чтобы ты, дурья башка, провозился, ее починяя. Я тебя, щенка, пожалел. Ан нет, гляжу – тащится. Ну, соображаю, судьба. Понимаешь, братец, судьба. Не поборешься с ней.
– Я буду дальше ползти, – хрипел Гисс. – Слышишь, сволочь? Буду ползти!
– А я тебя свяжу.
Жан Морщина незаметным, единым движением освободился от лыж и вдруг прыгнул, наваливаясь на Гисса. Он ловко наступил на искалеченную Гиссову ногу. В ноге что-то громко хрустнуло, и от боли Гисс вскрикнул почти по-женски. Тут же Морщина ударил его в подбородок. Гисс выдохнул и обмяк.
Морщина приподнял его за плечи, зашел за спину и принялся спутывать отведенные назад руки Гисса кожаным ремешком. Гисс бессознательно мотал головой, но в последний миг страх и ярость распрямили его, как пружину. Он откинул голову назад, и глаза противника, удивленные, желтые от ужаса, оказались прямо перед его глазами. И никакой преграды, ни малейшей – стекол очков не было.
Гисс зарычал и вцепился зубами в холодный хрящеватый нос Морщины. Кровь обожгла небо. Морщина боялся дергать – он орал и бил Гисса по голове. Гисс захлебнулся кровью, закашлялся и разжал зубы. Жан Морщина немедленно схватил его за горло. Гисс механически сделал то же самое. Вкус крови удесятерил его силы. Искаженное лицо врага расплывалось перед Гиссом. «Как долго человек может обходиться без дыхания», – подумал он, не особенно удивляясь. Его пальцы стали уставать. Морщина почувствовал это и с отвратительным хрипением подался вперед. Правая рука Гисса разжалась и тут же нащупала за плечом Морщины бороздки оперения. Морщина носил стрелы в колчанчике на спине. Пальцы Гисса обхватили стрелу сами, без участия воли.
«Не успею», – подумалось Гиссу. Жан Морщина, видимо, решил, что уже победил. Он ослабил хватку и встряхнул Гисса. Гисс, булькая горлом, вздохнул. А потом выдернул стрелу из колчанчика, стремительно размахнулся и вонзил ее глубоко, прямо в вытаращенный желтый глаз.
Подождав, когда Морщина перестанет сучить ногами по вспаханному, заляпанному снегу, Гисс поднимается на четвереньки.
– Становишься коленями на лыжи и привязываешь каждую лыжину… под коленом… и под икрой…
У него есть теперь лыжи, нож Морщины, длинный кожаный ремень. А вот фляга Морщины. Один глоток – смыть вкус крови. Хорошо! Очень хорошо. орошо также, что край неба розовеет и лес словно вздыхает – это приближается утро. Морозно, очень морозно. Но фляга еще полна…
Ворона, вещая птица, приплясывает на ветке и хрипло смеется, глядя на чудного короткого человека, который скользит на лыжах, отталкиваясь не по росту длинными руками. Ворона знает, что другой, оставшийся лежать, никуда не денется.
Через несколько часов, когда Гисс уже сидит у печки, приматывая обломок лыжи к ноге, в лесу теплеет. Небо мгновенно заволокло розовой пеленой, и густой-густой снег валит безудержно и щедро. Все погибшие этой ночью обзавелись могилами до весны, белыми, очень нарядными… Гисс оставляет заслонки открытыми, чтобы не угореть, допивает содержимое фляги, валится на пол и засыпает. Во сне он видит, как зверь – златошерстный приз – танцует под снегопадом. Розовые отсветы утра переливаются на его спине, он прыгает и кувыркается в воздухе, катится по снегу золотой рябью, скачет бочком, выгнувшись, как кошка.
Зверь танцует, а женщина с лицом, поросшим пухом, нагая, поет, стоя под заснеженной сосной. Песня ее без слов, без мыслей, и Гиссу одновременно и страшно и очень хорошо слышать эту песню. Он вглядывается в карие, звериные глаза женщины, видит, как пух на ее лице, весь в снежинках, шевелится от ветра. Гисс бормочет во сне, всхлипывает и замолкает. Зверь танцует, женщина поет…
Каждый, слышавший этот рассказ, без сомнения, согласится, что нет ничего лучше, чем жить в местах, где случаются такие вещи. Или, во всяком случае, гостевать там – иногда. У добрых знакомых. Или – что, возможно, еще лучше – слышать о них рассказы со всеми возможными подробностями. Для того, кстати, и существуют Анналы.
Зимородка, еле живого, густо облепленного целебным порошком, разведенным на слюне полутролля (троллиная слюна, как доказано многолетними исследованиями Вашен-Вашенского университета, обладает бактерицидным действием) доставили под утро. Укрытый семью одеялами из шерсти семи разных животных, очень тощий и твердый, с белым носом, он то бормотал, то всхлипывал, а то вдруг принимался грозно храпеть.
– Мария… – молвила Мэгг Морриган, прислушавшись к его бреду. – Зовет какую-то Марию… – Она подняла бровь. – Хотела бы я знать, кто это.
– Это я, – подал голос Эреншельд и густо покраснел.
Несколько секунд Мэгг Морриган рассматривала его в упор. Даже самое пылкое воображение не позволяло заподозрить в бароне переодетую женщину.
– Мориц-Мария Эреншельд – так меня зовут, – пояснил барон.
Мэгг Морриган захохотала, а барон обиженно отвернулся к стене.
Янника в доме не было – отлучился по делам сразу после того, как водворил на печи Зимородка. Ожидая вскорости хозяина домой, Мэгг Морриган поставила согреваться воду и развела муку, чтобы испечь лепешки.
Мохнатая Плешь действительно вернулся довольно быстро – но не один; с ним пришли все члены Общества Старых Пьяниц – точь-в-точь такие, какими воспел их Дофью Грас: с красными щеками, блестящими глазками, распространяющие в морозном воздухе густой пивной запах.
– Барон! Эй, барон! – загалдели веселые голоса.
Эреншельд, которому Мэгг Морриган помогла добраться до окна, смотрел на них широко раскрытыми глазами.
– Я и не подозревал, что в этих безлюдных диких лесах обитает столько народу, – признался он.
Из толпы выступил вперед Дофью Грас. Расставил ноги пошире, выпятил брюхо, взмахнул огромной пивной кружкой и заорал во всю глотку:
– Любезный барон Эреншельд! Мы пришли просить вас оказать нам честь и сделаться, как и мы, Старым Пьяницей!
Барон забился у окна, как мотылек.
– Что говорит этот человек? – страдая, спросил он у Мэгг Морриган. – Я ничего не понимаю! Почему я должен стать старым пьяницей? Я вовсе не так стар и совсем не…
Но было уже поздно – все собравшиеся громогласно и крайне нестройно распевали бесконечную «Пивную Кружку».


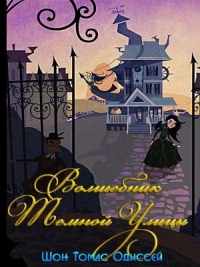
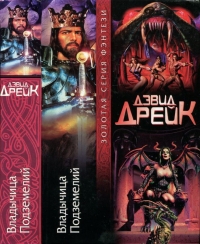

Комментарии к книге «Гуляки старых времен», Елена Владимировна Хаецкая
Всего 0 комментариев