Александр Зорич Люби и властвуй
ПРОЛОГ
В центре большого сада, разбитого на манер алустральских «озер и тропок», над бассейном для игры в лам стояли двое. Смеркалось, но было еще достаточно светло, чтобы различать и фигуры, и разноцветные поля, искусно выложенные мозаикой.
– Но почему, почему, почтенный Альвар, вы не можете указать время точнее? ― с легким раздражением спросил высокий пожилой человек с едва заметной лысиной. Он ловко подбил щелчком большого пальца фигуру, именуемую «золотым спрутом», и та, задержавшись на мгновение на поверхности, наискосок спланировала сквозь водную толщу в центр поля «Лазурь небес».
«Почтенный Альвар», которому с виду было не больше сорока, швырнул своего «золотого спрута» на поверхность воды в бассейне. Бросок был выполнен совершенно наугад, и все же «золотой спрут» Альвара, став на ребро, прошил воду и лег там же, где и фигура его противника ― в центре поля «Лазурь небес». Удовлетворенно щелкнув языком, Альвар ответил:
– Потому что Дотанагела куда как умнее собственных смехотворных идей об извращенном служении князю и истине. Потому что ради сохранения тайны Дотанагела готов съесть собственный язык. Мой человек узнал: «между четырнадцатым и двадцать четвертым днем сего месяца», а больше он ничего не вытащил бы из Дотанагелы даже раскаленными клещами. Но я еще раз повторяю: когда именно Дотанагела подымет мятеж ― совершенно не важно. Важно, что это произойдет совсем скоро. Важно, что гнорр не сможет оставить мятеж без внимания. И, самое важное, мы с вами уже сейчас готовы пожать плоды этого безумного предприятия Дотанагелы.
– И что же гнорр ― по сей день действительно ни о чем не подозревает? В конце концов, есть ведь Опора Единства…
– Нет, не подозревает. И Опора Единства здесь ни при чем, ― отрезал Альвар. ― Сейчас у гнорра все заботы связаны с поисками одного старого врага, которого он чует внутри Свода Равновесия. А кто этот враг ― он не знает.
– А вы?
В это мгновение Альвар вздрогнул всем телом и, резко наклонив голову вперед, сделал несколько быстрых смахивающих движений, проводя правой ладонью по волосам. На землю упали несколько оброненных фигур лама, а в воду полетел средних размеров и выше средней омерзительности паук.
– Ненавижу этих тварей, ― прошипел Альвар, не без труда сохраняя самообладание.
Его собеседник добродушно ухмыльнулся.
– Тарантулы не живут на деревьях. Еще в детстве отец мне говорил: «Не бойся гада, который падает из ветвей; бойся того, который вылезает из паутинной норы в камнях».
– Я не боюсь ни тех ни других, ― сказал Альвар, опасливо озирая тяжелую ветвь тутового дерева, шелестящую у них над головами. ― Я их просто ненавижу. Здесь есть разница. Впрочем, мы отвлеклись, ― поспешно добавил Альвар, опережая своего собеседника, который уже открыл было рот, чтобы сообщить, что тарантулов и скорпионов глупо ненавидеть, но вполне уместно бояться. ― Вы, кажется, спрашивали у меня что-то?
– Да, спрашивал. Вы говорили, что у гнорра есть внутри Свода «один старый враг», но он не знает, кто это такой. А я спросил, знаете ли его вы.
– Нет. Я тоже не знаю, ― спокойно Пожал плечами Альвар, и очередная фигура лама с филигранной точностью опустилась на дно бассейна. Пожилой почувствовал, что больше не услышит от Альвара ничего интересного, равно как и не сможет выиграть у него и на этот раз.
Альвар лгал. Ему были ведомы и имя врага, и единственно верный путь к нему. Но зачем его собеседнику знать об этом?
Сумерки сгущались. Пожилому было не столько жаль проигранных денег, сколько того, что в Варане существует человек, способный одолеть в ламе его, непобедимую Золотую Руку. А деньги… Что деньги? Авры и аврики… Позавчера вот, например, он выиграл у залетного «лосося» такие шикарные серьги, что даже его неласковая племянница буквально расцвела от восхищения.
– Ну что ― отложим партию?
– Ах, Золотая Рука, Золотая Рука! ― неожиданно рассмеялся Альвар. ― Вы все не оставляете надежды обыграть меня. Меня! ― Он резко оборвал смех. ― Обыгрывайте весь Варан ― на здоровье, ― но никогда не пытайтесь обыграть меня. Очень много желающих сделать это зарыты по всему Кругу Земель ― от Западного моря до Цинора.
Отвратительный холодок пробежал по спине пожилого. Чтобы как-то избавиться от неприятного ощущения, которое нет-нет да и возникало у него за время сомнительной дружбы с Альваром, он улыбнулся и сказал:
– Я не столь самонадеян, как некоторые думают. Кстати, я давно собирался вам предложить, Альвар, познакомиться с моей племянницей. Посидим, поужинаем…
– А, помню-помню, вы что-то говорили, ― махнул рукой Альвар. ― Знаете, я верю в очарование вашей племянницы, но советую вам до времени охладить свой любовный пыл. Вот станете Сиятельным князем ― тогда вам будет позволено все, что угодно.
– Ну уж конечно, при таком вольнолюбивом гнор-ре, как вы! ― угодливо рассмеялся пожилой.
Альвар осклабился. Не так уж сильно ему жажда-лось стать гнорром, но в этой паршивой стране, куда занесли его холодные ветры пустоты, гнорр был единственным человеком, имеющим достаточно власти. Меньше, конечно, чем хотелось бы, но на первое время годится и это.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПОХИЩЕНИЕ
Глава первая Дуэль
Если один снесет другому голову слишком быстро, все останутся недовольны. Если они помирятся, принеся друг другу извинения, и поединок не состоится, зрители будут просто в бешенстве. Если противники станут драться жестоко и долго, если этот плечистый «лосось» нарежет кожу писаки из Иноземного Дома ленточками и сделает это с толком и с расстановкой, так, чтобы все могли видеть, вот тогда каждый уйдет с площади Восстановленного Имени довольным. Мол, не зря потратился ― такое зрелище действительно стоит трех медных авров. А может, и всех четырех. Думать так всегда приятно.
– Довольно. Не таким, как ты, рассуждать о чести. Защищайся! ― без особого воодушевления вскричал Ард оке Лайн, офицер Отдельного морского отряда «Голубой Лосось». Вслед за чем извлек свой клинок из ножен, отделанных акульей кожей.
– Моей руке послушен, меч. Ему я дам изведать крови, ― достаточно медленно, твердо и громко ― так, чтобы все зеваки слышали, ― ответил чиновник Иноземного Дома Атен оке Гонаут.
Атен был высоким и худощавым мужчиной, которому на вид никак нельзя было дать больше тридцати. В действительности ему и было двадцать семь. Так или иначе, заподозрить в нем отчаянного рубаку и мастера фехтования было совершенно невозможно, ибо каждый знает, какие увальни служат в Иноземном Доме.
«Моей руке послушен меч. Ему я дам изведать крови» ― это значило, что вызов принят полностью. И нет больше места для извинений и переговоров. Это значило, что дипломатия осталась далеко-далеко позади. А впереди только поединок и смерть того, кому назначено судьбой быть убитым.
Толпа радостно и с облегчением вздохнула ― а то ведь бывает, что за весь день никто ни с кем так и не сцепится. Только приходят на площадь Восстановленного Имени и перебрасываются отборными оскорблениями, держась за рукояти мечей, так и не осмеливаясь произнести «формулу первой крови», которая только что слетела с уст чиновника Иноземного Дома. Затем же, всласть почесав языками, расходятся, помирившись. Нет, в этот раз все будет иначе!
– Разойдись! ― рявкнул «лосось» и очертил круг поединка.
Похоже, он был немного удивлен горячности своего русоволосого противника. Куда это тот так торопится? В том, что судьба решит поединок в его пользу, Ард оке Лайн не сомневался. Почти не сомневался.
Толпа понимающе ухнула, и люди расступились, освободив площадку, вполне достаточную для дуэлянтов.
Держа меч все еще острием к земле, «лосось» испытующе поглядел на своего соперника. В принципе этикет давал им обоим право на пару-тройку не обязательных, но желательных фраз. Что-то вроде жалости мелькнуло в душе офицера. Дать бы дурачку-писаке хоть поболтать перед смертью… Но тут Ард вспомнил о жестоком оскорблении, нанесенном ему никем иным, как вот этим писакой, И вся его жалость мгновенно превратилась в тягучее и мутное боевое ожесточение.
– Хог! ― гаркнул Ард и сделал три шага к противнику. Блеснул меч.
– А с чего это они завелись? ― спросил провинциального вида юноша из тех, что топтались позади.
Ответ на этот вопрос знали почти все, но лишь приблизительно. Каждый представлял себе сцену оскорбления по-своему. Но все без исключения, кто собрался в тот день на излюбленной площади столичных дуэлянтов, были уверены: чиновник Иноземного Дома Атен оке Гонаут оскорбил офицера «Голубого Лосося» Арда оке Лайна. А не наоборот.
Кое-кому из присутствующих повезло видеть начало поединка. Тем, кто был вчера днем в театре.
Вчерашняя пьеса «Эллат и Эстарта» успела навязнуть на зубах всем столичным любителям зрелищ. А потому большинство мест занимали приезжие, их повзрослевшие дети, чужеземцы и совершенно случайные люди, зашедшие в театр скоротать пару часов. Одним из таких, похоже, был и Атен оке Гонаут, вдобавок ко всему еще и опоздавший.
«По рожденью я грют, но отец мой, стремясь Показать командиру итаны, где он Возглавлял вспомогательный конный отряд, Что забыты им древние битвы в степях, Где его праотцы стали жертвой мечей Праотцов командира итаны, не стал Размышлять слишком долго. И назвал меня Эгин…»
– гнусил актер с накладной бородой из конского волоса, заламывая руки. Завязка уже почти отгремела, а все самое интересное еще не было сказано. Потому писака из Иноземного Дома, которого каждый легко мог опознать по его костюму и знакам отличия, пробираясь на свое место, наступая на ноги и заслоняя сцену, волочил за собой шлейф всеобщего недовольного шиканья и раздраженной ругани.
«И назвал меня Эгин» ― на этих словах Атен оке Гонаут вздернул правую бровь и впервые посмотрел на сцену. Если бы кому-нибудь было не лень следить за выражением его лица, он бы, пожалуй, смог уличить Атена в странном удивлении, если не в замешательстве. Впрочем, никому не было до него никакого дела.
Офицер «Голубого Лосося» Ард оке Лайн смотрел на сцену словно зачарованный ― он стеснялся признаться своей даме в том, что видит эту пьесу впервые, а потому чувствовал себя несколько скованно. Когда какой-то чиновник, опоздавший на представление, пробираясь на свое место, зацепил его гладко выбритый благородный подбородок своими топорщившимися из-под плаща ножнами, да еще и остановился перед ним спиной к нему и к его даме на несколько мгновений дольше, чем то было необходимо и допустимо, Ард позволил себе замечание.
– Проходи-проходи, чего стал! ― громко прошептал он.
Но, к удивлению Арда, замечания оказалось недостаточно. Чиновник продолжал вести себя по-хамски. Он медленно повернулся и, смерив офицера взглядом, не говоря ни слова, высморкался. Нарочито громко.
– Ты что, спятил? ― в ярости зашептал Ард. ― Ты что, из лесу вышел, невежа?
– Ничуть, ― с презрительным спокойствием ответил тот и, к вящему удивлению и раздражению офицера, уселся по правую руку от него. Во время этого несложного маневра, проведенного русоволосым чиновником, его ножны уже во второй раз чиркнули Арда по лицу.
– Ну это слишком! ― забыв о приличиях и пьесе, гаркнул Ард и вскочил, в бешенстве отрывая от своего рукава цепкие коготки перепуганной спутницы. ― Ты что, меня не понял, писака?
Атен оке Гонаут медленно перевел взгляд со сцены на своего соседа и придирчиво оглядел его с ног до головы, с особенным издевательским тщанием осматривая его камзол, у самого воротника которого лоснилось жирное пятно, которое сам Ард заметил только у входа в театр.
– Мне незачем понимать вояк, на лицах которых застыла печать Крайнего Обращения. Вы, милостивый гиазир, невежественны, как сама мать-природа! ― отчеканил Атен оке Гонаут, вставая во весь рост.
Что бы там ни происходило на сцене ― в тот момент все взоры были устремлены в зал, где ссорились двое благородных. Такое, в отличие от «Эллата и Эс-тарты», можно увидеть в театре не каждый день.
– Хог! ― высокомерно, словно бы милостыню бросил Атен оке Гонаут, и его темно-синий плащ упал на землю.
Все. Началось. И болтать больше не будут.
Первый выпад «лосося» был встречен толпой одобрительным шепотом. Эффектно, сильно, решительно.
Первая защита писаки ― как ни странно, тоже. И в самом деле, такой прыти за чиновниками Иноземного Дома вроде бы раньше не водилось. Атен оке Гонаут присел на одну ногу, и его меч ― клинок отличной северной закалки ― встретился с клинком «лосося» в весьма необычном месте, лишив удар офицера той мощи, которая пришлась по душе зевакам минутой раньше.
Если бы у Арда оке Лайна было время на недоумение, он, пожалуй, недоумевал бы. Он не ожидал, что его обидчик, который, по всему видно, младше его лет на десять, сможет осадить его столь легко, причем в первом же выпаде.
– Хог! ― сказал писака, и его меч, ведомый аккуратным размахом правой руки, понесся на Арда, описав в воздухе весьма необычную траекторию. Едва ли кто-нибудь из зрителей знал, что маневр этот зовется в Синем Алустрале «серьш младшим бражником». Ард тоже этого не знал. Озабоченно крякнув, он скованно и судорожно отбил удар. Неудачно, хотя и не так неудачно, как рассчитывал писака, ― клинок Арда сошелся с клинком противника почти плашмя, издав позорный гул. «Дурная рука фехтовальщика обижает даже бездушную сталь», ― говаривали авторы трактатов по искусству убивать в поединках. Арду стало немного стыдно, ведь даже безусые пацаны знают, что удары следует отбивать лезвием, только лезвием.
Но не успел Ард ретироваться, как обозначился новый удар. Похоже, писака не был сторонником долгих матримоний и торопил… что он торопил? Но теперь Арду уже не казалось, что его противник торопит свою смерть. Нет, этот чиновник не сумасшедший выскочка, ищущий себе на голову приключений по театрам и площадям. Он…
Ард не успел додумать. Неожиданный удар с левого бока. Лезвие клинка оке Лайна судорожно несется влево. Замах ― высокий, нахальный, уверенный, ― и писака бьет сверху. «Лосось» с трудом уходит. Зрители, сохраняя неподвижность, следят за сражающимися в полном молчании. Время как будто застыло. Теперь каждое движение имеет значение. Каждый жест, каждый вздох, каждый ложный выпад значителен. Да, сейчас сражаются отнюдь не равные противники. Это было понятно и до начала поединка. Но только ведет отнюдь не «Голубой Лосось». А, Хуммер его раздери, этот немного тщедушный на вид, бледный и русоволосый писака из Иноземного Дома. «Всем год буду рассказывать потом, что видел, как чиновник зарубил офицера, и не просто офицера, а „лосося“!» ― промелькнуло в голове простодушного провинциального юноши из последних рядов.
Напоследок писака порадовал зрителей великолепным выпадом, который в Варане скромно именовали «отвод с ударом». Острие клинка описало правильный полукруг над клинком противника сверху и слева направо, а затем последовал удар" отбивающий клинок противника книзу. Ард оке Лайн выронил меч ― впервые за последние девять лет. Что теперь? Молить о милосердии?
Ард бросил на своего противника взгляд, исполненный ненависти и горечи. Это в самом деле обидно, умереть от руки оскорбившего тебя человека. Но во взгляде писаки не было ни ненависти, ни милосердия. Ничего, к чему имело бы смысл взывать.
«По рожденью я грют… Эгин».
Отчего-то вспомнилось Арду оке Лайну за секунду перед тем, как его голова, отсеченная от тела, покатилась по булыжникам площади под ноги охнувшим и расступившимся зевакам. Теперь у нее, этой головы, были мысли поважнее дурной и скучной пьесы о вражде двух стародавних войсководителей. Тем более что те двое, как и сам Ард, были уже мертвы.
Глава вторая ИЗУМРУДНЫЙ ТРЕПЕТ
Пристань для кораблей Отдельного морского отряда «Голубой Лосось» найти проще, чем собственное отражение в зеркале. Потому что над ней, видная из любого конца порта, возвышается двадцатилоктевая колонна, обвитая по спирали выразительным барельефом. А на вершине колонны можно видеть герб отряда ― собственно «Голубого Лосося», взлетающего к Солнцу Предвечному на пенном гребне Счастливой Волны.
Что есть лосось на гербе отряда? Лосось есть знак неистового упорства, ибо воистину неистово упорство этой рыбы, что подымается к верховьям рек во имя продолжения рода. Так же и «Голубой Лосось» неистов и упорен в своем служении князю и истине.
Отчего лосось на гербе отряда носит голубой цвет? Голубой цвет есть знак непорочной чистоты в жизни так же, как белый цвет есть знак непорочной чистоты в смерти.
Сегодня у каменной пристани находилось пять из восьми кораблей «Голубого Лосося». Все они были ощутимо чище, статнее и изящнее, чем двухъярусные галеры Флота Охраны Побережья и пузатые трехмачтовые громадины Флота Бурного Моря. Но Эгин был холоден к корабельным красотам. Ему незачем было любоваться алыми и золочеными носовыми фигурами-охранительницами, чтобы найти то, что он искал. Потому что Эгин совершенно точно знал, где найти корабль, на котором служил до сегодняшнего утра Ард оке Лайн, любитель столичных театров. Корабль Арда был пятым по счету в ряду похожих между собой как две капли воды узкобедрых двухмачтовых красавцев и носил имя «Зерцало Огня».
– День добрый, ― Эгин с непроницаемым видом протянул стоящему на вахте матросу документ, удостоверяющий его, Эгина, липовую личность.
– Торман оке Нон, сего податель, есть представитель Морского Дома, уполномоченный в… ― медленно, по слогам прочел матрос, и только потом, насладившись приятной шероховатостью гербовой бумаги Морского Дома и удостоверившись на зуб в подлинности печатей, добавил: ― Тогда добрый вечер.
Эгин не был любителем мрачных лиц и потому ответил матросу сдержанной улыбкой.
– А по какому делу, милостивый гиазир Торман? ― поинтересовался матрос, сворачивая документ. ― Небось за вещичками Арда оке Лайна? Так ведь?
– Так, ― кивнул Эгин. ― Мне сообщили, он погиб сегодня утром. А тебе, кстати, неизвестно, как? —
– Известно, ― хмуро отозвался матрос. ― Его какой-то писака из Иноземного Дома… того… ― настроение у матроса портилось прямо на глазах. ― Говорят, этот недоносок из Иноземного Дома его нечестно подколол. Случайность, наверное. Когда такое было, чтобы офицера…
– И то верно. Жаль, конечно, вашего Арда оке Лайна. Жаль, ― довольно холодно отозвался Эгин и, спрятав удостоверяющие бумаги в сарнод, двинулся вверх по сходням.
Не очень-то приятно, когда вахтенные величают тебя недоноском и упрекают в нечестности. Впрочем, на такие мелочи Эгину было плевать. Да и матрос не виноват. По сути, сам того не ведая, он сделал Эгину изысканный комплимент.
Матрос на вахте был молод и неискушен. Похоже, он действительно поверил, что Эгин является офицером Морского Дома, пришедшим за вещами случайно погибшего от руки некоего «недоноска» Арда оке Лайна. «Лососей» постарше такими простыми трюками не проведешь. Когда Эгин поднялся на верхнюю палубу, десять пар глаз, угрюмых и настороженных, воззрились на него в немом вопросе.
Но в тот день вопросы задавал Эгин.
– Не подскажете ли, милостивые гиазиры, как мне найти каюту покойного Арда оке Лайна?
Получив скупое и хмурое, но все-таки объяснение, Эгин, неловко пригнувшись, чтобы не удариться головой о верхнюю притолоку люка, ступил на лестницу, уводящую вниз, на вторую палубу. Его проводили враждебные взгляды и тихий шепоток. Да, эти матерые «лососи» прекрасно понимают, что Ард был не в ладах со Сводом Равновесия. И не сомневаются в том, что убит он не просто так, а с ведома и по указанию Свода. Да, они знают, что Эгин ― оттуда. Хотя скорее всего и не подозревают, что это он, Эгин, еще сегодня утром забавлял зевак на площади Восстановленного Имени «малыми серыми бражниками» и прочими фехтовальными изысками. А если бы и подозревали? Молчали бы все равно. Потому что в таких случаях это самое лучшее.
В тот момент, когда он наступил на последнюю ступеньку лестницы, ремень на его левой сандалии лопнул, пряжка отскочила, Эгин, влекомый вперед инерцией движения, споткнулся и едва не упал. Нет, он не упал, схватившись за поручень. Но неловкость положения усугублялась еще и тем, что левая его сандалия порвалась окончательно. Подошва отдельно ― ремешки отдельно.
– Сыть Хуммерова! ― в сердцах выругался Эгин и, взяв сандалию в руку, а с ней и ее напарницу, стал сходить по лестнице.
Конечно, он не обернулся. И без того было понятно, что офицеры, на цыпочках прокравшиеся к люку, видели все. Кто-то из них прыснул со смеху, кто-то шепотом пошутил по поводу босоногости гостя из Свода Равновесия, и настроение остальных наверняка улучшилось. «Что ж, пусть утешатся хоть этим», ― вздохнул Эгин, хлопнув сандалией о сандалию как в ладоши.
Переступая порог каюты Арда, Эгин злился на себя и на весь мир.
Во-первых, слишком долго он сегодня возился с этим Ардом. Мог, между прочим, получить промеж глаз холодной сталью. Надо будет уговорить Иланафа на День Безветрия выбраться на Руины и там попотеть как следует. И под правую руку, и под левую, и, пожалуй, даже под кавалерийские приемы. Вот придется в следующий раз работать против человека из Медноко-пытных ― можно и костей не собрать.
А во-вторых, уж очень глупой вышла сцена с этой треклятой обувью. Все, конечно, понятно, сам виноват, человек из Опоры Вещей должен следить за своим маскарадом денно и нощно. И все-таки ― слишком подло и неуместно отлетела застежка, слишком глупо лопнула подошва, слишком беспомощно выглядел он, едва не свалившись с лестницы.
В каюте было темно. Эгин знал эти корабли как свои пять пальцев и быстро отыскал на ощупь ставни оконца, которое служило единственным источником света в этой крысоловке. Кромешный мрак превратился в полумрак. Ну да, ведь вечер. Эгин осмотрелся.
Как обычно. Койка, навесной шкафчик над койкой (небось по колокольному бою тревоги Ард не раз и не два набивал себе шишки, а шкафчик не снимал). Небольшая тумба слева, два откидных сиденья напротив койки, а под койкой… Ну да, сундучок и пара сандалий. Пара сандалий!
Эгин самодовольно ухмыльнулся. Летом все варанские морские офицеры обуты одинаково. Он, Торман оке Нон, чиновник Морского Дома, и Ард оке Лайн, офицер «Голубого Лосося», носят совершенно одинаковую обувь, которую в огромных количествах поставляют фактории поставщика Его Светлости (а заодно и тестя) Хорта оке Тамая. Обувь ― дерьмо, живет хорошо если один сезон, но легка и удобна, в этом ей не откажешь.
Эгин достал сандалии из-под койки и осмотрел их придирчивым взглядом столичной модницы. Почти не ношеные. Размер ― его. Эгин шевельнул ноздрями. И чужими ногами не воняют.
"Итак, судьба отобрала у меня превосходные сандалии и их вновь придется выписывать через шестерых пожирателей бумаги и выпивателей чернил в Арсенале Свода Равновесия.
И судьба подарила мне сандалии, которые созданы для меня. Обычные хорошие сандалии, и если Норо будет продолжать разработку по «Голубому Лососю», то они придутся как нельзя кстати".
Вскоре Эгин запихнул под койку свои порванные сандалии и выпрямился в полный рост, ощущая на ногах упоительную легкость свежей, чужой, дармовой обуви. Вот теперь можно заняться делами.
В каюте Арда витал какой-то подозрительный дух, не вполне сочетающийся с представлениями о ментальной чистоте офицера «Голубого Лосося».
С внутренней стороны двери висела картина на шелке, изображающая обнаженную девушку, склоненную над водой. Ракурс, в котором безвестный растлитель нестойких душ подал не менее безвестную натурщицу, настораживал, ибо наводил на мысли о Задней Беседе. А Задняя Беседа промеж мужчиной и женщиной даже в отсутствие Крайнего Обращения ― дело гибельное, милостивые гиазиры. Конечно, конечно ― в самой картинке не было ничего крамольного, ибо в ней отсутствовал первейший знак Обращения ― собственно обнаженная персона или надлежащая часть персоны обратного пола. И все же Эгин, непроизвольно поежившись, извлек из своего чиновничьего сарно-да с гербом Морского Дома хищные клещи и, осторожно вытащив четыре гвоздя, содрал шелк с двери. Тайника там, разумеется, не было и не могло быть. Но так или иначе его работа началась. Пять вещей преступника были налицо ― четыре гвоздя и шелковый лоскут.
Эгин сел на койку и, запустив руку в святая святых своего сарнода ― обособленный медный цилиндр, ― извлек Зрак Истины. Стеклянный шар размером с два кулака. Никаких швов, никаких следов выдувки, никакой горловины. Просто прекрасный шар из толстого, но очень чистого стекла, полностью заполненный водой. Ни одного пузырька воздуха. А в воде ― словно бы подвешены в полной неподвижности, в загадочной дреме три полупрозрачных существа, каждое размером с мизинец. Тонкие многоколенчатые лапки, длиннющие усы, бусины-глаза. Креветки-светляки, выкормыши естествоиспытателей (или, как их называет Иланаф, «естествомучителей») из Опоры Безгла-сых Тварей. Креветки-призраки, которым ведомо неведомое.
Ну что же, начнем. Эгин вздохнул ― дело предстояло скучное ― и, скомкав содранную шелковую красавицу, посмотрел на нее сквозь Зрак Истины. Ничего. Как и следовало ожидать. Эгин разложил на койке шелк рисунком вниз (чтоб не смущал мысли) и один за другим изучил сквозь Зрак Истины все четыре гвоздя. И снова ничего. И снова ― ничего удивительного.
Тогда Эгин на всякий случай осмотрел всю каюту. Пол, потолок, стены, койку, тумбу, откидные стулья. Подобного рода поверхностные осмотры обычно не приносят никаких результатов, потому что даже обычная ткань, не говоря уже о дереве или металле, представляет для такого простого Зрака Истины непроницаемую преграду. Но если бы вдруг в щели между бортовыми досками находилось семя огненной травы (что почти невероятно) или более расхожий жук-мерт-витель, то… Эгин выругался. Если бы здесь находился жук-мертвитель, то он, Эгин, был бы уже мертв. Все-таки сильно его сбили с толку эти проклятые сандалии. Он, Эгин, должен был бы осмотреть каюту через Зрак Истины незамедлительно. Хвала Шилолу, что этот Ард был сравнительно мелкой сошкой.
Эгин относился к тем людям, которые сперва съедают тушеную морковь, а уж потом ― кусок жареного мяса, хотя морковь у них вызывает умеренное отвращение, а мясо ― вожделенное слюноотделение. Эгин догадывался, где следует искать самое интересное, и все-таки продолжал разбираться с разной безобидной ерундой, тешась предвкушением досмотра навесного шкафа над койкой и сундучка под койкой.
Лучшее из личного оружия Арда осталось при трупе и сейчас вкупе с его одеждой досматривается какими-то другими поддельными чиновниками Морского До-ма"в городском Чертоге Усопших.
В угрюмой утробе тумбы, где водился средних размеров и большой мерзости паук (его что, этот Ард нарочно лелеял?), обнаружилась пара чуть заржавленных абордажных топориков. Больше оружия в каюте не было. Немного для «лосося», но в принципе понять можно ― остальное они получают перед выходом в море из своих арсеналов. Включая и тяжелые доспехи.
Эгин ковырнул ногтем ржавчину на топоре. Засохшая кровь. Действительно, с чего бы ржаветь хорошей оружейной стали? Любой офицер любит свое оружие. Эгин вот, например, очень любил. Он никогда не забывал стереть кровь. А Ард забыл. Или не захотел. Топоры, проигнорированные Зраком Истины, отправились к гвоздям. Раздавленный при попытке к бегству паук ― к праотцам.
В тумбочке еще сыскался светильник, и Эгин, немного поколебавшись, зажег его и выставил на тумбочку. Масла в светильнике было мало, но на ближайший час хватало с лихвой. А Эгину больше и не нужно было.
«Ладно. Хватит. Морковкой я сыт. Хочу мяса», ― подумал Эгин, которому действительно очень захотелось запустить зубы в сочную плоть убиенного тельца. Ел он давно.
Эгин подошел к навесйому шкафу и, откинув два крючка, рывком распахнул его створки. Около сорока корешков разномастных книжек.
«Ого!» ― присвистнул Эгин. За всю свою жизнь он едва ли прочел столько. Да что там прочел! Может, и в руках столько не передержал. Ну что же, недаром первый, скорее, забавный, нежели содержательный донос на Арда поступил из публичного книгохранилища. Он, видите ли, испросил «что-нибудь о раннем, „героическом“ периоде истории Орина». А когда ему ответили, что могут предложить только «Грютские войны» медо-воустого Карациттагона, обласканного по обоим берегам Ориса и по обеим сторонам Хелтанских гор, Ард изволил наморщить свой породистый нос и удалился, бормоча «хамы»…
Вспоминая этот дурацкий донос, прочитанный месяц назад в кабинете Норо, Эгин направил Зрак Истины на книги Арда.
О да! Дерево створок действительно надежно хранило их до поры, но теперь, обнаженные, они явили свою сущность. И если верхний ряд и правая половина нижнего были непорочны, то при осмотре левых корешков креветки наконец-то ожили. Под их эфемерными панцирями пробежали цепочки малиновых огоньков. Самая крупная встала в шаре вертикально, опустив голову вниз, а две другие составили с ней подобие двухсторонней виселицы.
Эгин выбрал наугад третью по счету слева книгу ― самую тощую и невзрачную ― и посмотрел на нее отдельно. Цвет огоньков, которыми истекала плоть креветок, изменился на нежно-салатовый. Потом он насытился густой зеленью. Эгин помнил предписания. Эгин знал, что он должен сделать в этом случае. И все-таки продолжал смотреть, ибо никогда еще ему не приходилось встречать Изумрудный Трепет. И только когда старшая из креветок, став сплошь зеленой и совершенно непрозрачной, неожиданно упала на дно, словно бы отяжелела свинцовой тяжестью, Эгин наконец очнулся от наваждения и поспешно отвел взор.
Плохо. Зрак придется менять, потому что вслед за первой очень скоро умрут и две остальные. Придется объясняться перед начальством. Вообще-то подобный отход от предписаний сам по себе еще не преступление, а всего лишь служебный проступок. Но и это немало.
«Ну ладно, ― мысленно махнул рукой Эгин. Раз уж я загубил Зрак и раз уж я видел Изумрудный Трепет, то можно, пожалуй, еще раз отойти от предписаний и узнать, что же в этой дрянной книжонке вызвало Изумрудный Трепет. Об этом-то уж точно никто не узнает».
Эгин отложил Зрак и наугад открыл книгу, которая ― в общем-то и книгой не была. Просто две тонкие деревянные дощечки с отверстиями, стянутые бечевкой, между которыми находились листов тридцать-сорок плотной бумаги, исписанные нетвердым, развинченным почерком Арда. «…в то время как второй доставляет деве удовольствие изучить свой жезл посредством губ и языка…» Сердце в груди забилось ощутимо быстрее, и Эгин поспешно захлопнул книгу.
М-да. «Второй». Значит, есть и «первый». «Двойные Знакомства с Первым Сочетанием Устами» и чем-то там еще, исходящим от непрочитанного «первого». За составление подобного трактата (и даже за его переписывание) Арда можно было публично казнить через повешение на гнилой веревке, изгнать из благородных и, пожалуй, сослать на галеры. Это, конечно, верно. Однако креветкам-призракам до этого дела нет. И неоткуда здесь взяться Изумрудному Трепету. «Разве только в чьих-то невоздержанных чреслах», ― ухмыльнулся Эгин. Значит, книга сложнее, чем хочет казаться.
Стараясь не зачитываться крамолой, Эгин по возможности быстро проверил все страницы. На предпоследней цвет чернил сменился с черного на красный. И вместо всяких там «Грютских Скачек» Эгин увидел замкнутую линию, очерчивающую яйцеобразный контур. На линию были нанизаны восемь картинок. Что-то вроде кольца… Рогатое кольцо… Еще одно рогатое кольцо…
Дверь за спиной Эгина распахнулась. Прежде, чем его рассудок осознал это, руки уже бесшумно закрыли книгу и швырнули ее на койку, вслед за чем он обернулся, одновременно извлекая из ножен короткий меч.
– Спа-акойно, а-аф-фицер! ― с издевательской растяжкой сказал высокий мужчина с черными щегольскими усиками, переступивший порог каюты. В двух ладонях от его груди застыло лезвие меча Эгина, который, как всегда, не был Эгином, а, как мог судить всякий по браслету на правом запястье и по застежке плаща, представлял из себя плоскозадого и ленивого волокитчика из Морского Дома.
Незваный гость был одет точно так же, как и Эгин. И его браслет был выполнен в той же незатейливой форме гребенчатой волны с теми же четырьмя слезами янтаря. Вот только его сарнод был побольше, имел позолоченные оковки на углах и был сделан из редкой и дорогой кожи тернаунской акулы.
Эгин с трудом подавил облегченный смешок, но внешне он остался совершенно бесстрастен и, не изменившись в лице, вернул меч ножнам.
– Чем могу быть полезен, офицер? ― спросил Эгин, чуть склонив голову набок.
– Ничем, ― сухо ответил тот, раскрывая сарнод.
– Как мне вас понимать? ― Эгин неожиданно разозлился на этого сухопарого хлыща, который, конечно, наверняка какой-нибудь ушлый рах-саванн из Опоры Писаний, и все же это еще не дает ему права так разговаривать с эрм-саванном из Опоры Вещей.
– Так и понимайте, офицер, ― сказал обладатель щегольских усиков, протягивая ему извлеченную из сар-нода прямоугольную пластинку из оружейной стали.
Гравировка на пластине изображала двухлезвийную варанскую секиру. На обоих лезвиях были выгравированы глаза. На левом глаз был закрыт. На правом ― открыт. «Свод Равновесия» ― гласила надпись, полукружием обнимающая секиру сверху. «Гастрог, аррум Опоры Писаний» ― было подписано под секирой снизу. «Дырчатая печать» Свода Равновесия вроде бы небрежно пробивала пластину слева внизу. Да, все правильно. Подделать можно что угодно, но только не «дырчатую печать», официально именуемую Сорок Отметин Огня. Крохотные отверстия в пластине все как одно имели звездообразно оплавленные края с многоцветной синей окалиной и вместе составляли схематичное изображение той же секиры, которая любовно была нанесена граверами на пластину.
Когда Гастрог принимал свой жетон обратно, в отверстиях «дырчатой печати» вспыхнули синие искорки. Иначе и быть не могло. Если бы кто-то, убив или обокрав офицера Свода, завладел бы его жетоном, тот остался бы в руках убийцы или похитителя безмолвен. Сорок Отметин Огня отвечают синими искорками только своему истинному владельцу. Эгин даже не мог помыслить тогда, что в Круге Земель есть магии не менее действенные, чем магия кузниц Свода Равновесия. Даже не мог помыслить.
Эгин, которому хотелось выть волком, достал и протянул Гастрогу свой жетон.
– Ну что же, эрм-саванн, ― сказал Гастрог по-прежнему насмешливо, но уже несколько более дружелюбно. ― Как старший на две ступени и как офицер старшей Опоры, прошу вас немедленно покинуть каюту покойного Арда оке… ― Гастрог запнулся, напрягая свою память, и Эгин злорадно подумал, что нечего было лезть вам, офицер, не в свое дело.
– В общем, неважно, ― махнул рукой Гастрог. ― Так или иначе, вы свободны, эрм-саванн.
– Прошу прощения, аррум, ― сказал Эгин, пытаясь вложить в свои слова ровно столько нажима, сколько нужно, чтобы не превысить полномочия и при этом все-таки произвести на Гастрога впечатление человека с независимой волей. ― Я нахожусь здесь по долгу службы и еще не закончил этот долг исполнять.
– Да? ― спросил Гастрог, и его брови сошлись на переносице подобием грютского лука. ― И вы осмелитесь утверждать, эрм-саванн, что ваш долг заключался в том, чтобы привести в негодность свой Зрак Истины?
«Какая наблюдательная тварь!» ― мысленно возопил Эгин.
– Аррум, ― Эгин с усилием сглотнул ком, подступивший к горлу, ― Зрак Истины пришел в негодность самопроизвольно, когда я осматривал книги Арда оке Лайна на предмет наличия в них жуков-мертвителей.
– Вот как? ― поинтересовался Гастрог, и его подвижные брови взмыли ввысь знаком неподдельного изумления. ― И там, наверное, сыскались целые орды жуков-мергвителей?
– Нет, аррум, ― Эгин из последних сил сохранял полную невозмутимость. ― Виной всему сами книги.
Гастрог не ответил. Он брезгливо поднял с койки отброшенный Эгином трактат и, быстро пролистав его, уперся в то же место, что и Эгин десятью минутами ранее, ― в предпоследнюю страницу с рисунком красными чернилами.
– Вы открывали ее? ― отрывисто осведомился Га-строг, стремительно захлопывая книгу.
– Нет, аррум. Лишь пристально посмотрел на нее через Зрак Истины. Зрак молниеносно взялся Изумрудным Трепетом ― я не успел отвести глаза.
Эгин знал, что его очень легко уличить во лжи. Гастрогу было достаточно поглядеть на книгу через свой Зрак Истины. Эгин с тревогой ожидал, когда аррум ио-тянется за своим Зраком Истины. И тот потянулся. Эгин обмер.
– Ну вот что, ― сказал наконец аррум нарочито тихо и невнятно. ― Вот вам мой Зрак Истины ― он такой же, как и ваш. Ваш, испорченный, , я оставляю себе. Вы немедленно уходите отсюда, забрав недосмотренные вещи с собой. Своему начальнику ― Норо, если не ошибаюсь, ― Эгину показалось, что при этих словах в голос Гастрога вкрались скрежещущие нотки угрозы, ― вы можете сказать, что вас прогнал из каюты аррум Опоры Писаний. И это чистейшая правда. Вы можете назвать ему мое имя ― Гастрог, ― иначе он не поверит, что вы согласились уйти, не проверив мой жетон. Это тоже правда. Все.
– Про вот это, ― Гастрог легонько постучал пальцами по книге, ― вы должны забыть до скончания времен, и если даже шестьсот кутахов будут медленно крошить вас в оринский салат, вы не должны хоть словом обмолвиться о происшествии с вашим Зраком Истины. А поскольку Норо отнюдь не кутах, вам тем более нет резона рассказывать ему об Изумрудном Трепете. Вы меня поняли, эрм-саванн? ― Гастрог впился взглядом в лицо Эгина.
– Да, аррум, ― Эгин понимал, что, быть может, сама его жизнь сейчас зависит от той степени искренности и глупости, которую выразят его глаза.
– Поняли, ― чуть заметно кивнул Гастрог. ― И еще. Я бы мог убить вас, но не сделал этого потому, что мы оба офицеры Свода и работаем ради общей священной цели. Сегодня вы совершили служебный проступок, тяжесть которого не в состоянии осознать. Я прощаю вас, но имейте в виду, что я помню ― ваше имя Эгин, вы эрм-саванн Опоры Вещей и живете вы в Доме Голой Обезьяны по Желтому Кольцу. Ваша любовница ― Вербелина исс Аран, ваш начальник ― аррум Норо оке Шин, вам двадцать семь лет, и сегодня вас скорее всего произведут в рах-саванны за отличную службу. Не стоит портить себе карьеру и жизнь, рах-са-ванн.
Слишком много ударов ниже пояса.
– Что, прямо так и сказал?
– Да. Так и сказал.
Человек, одетый по самой что ни на есть щегольской моде ― в ярко-зеленые, флюоресцирующие штаны, которые в столичном высшем свете именовались «литыми ножками», в рубаху с отложным воротом и очень короткую приталенную кожаную жакетку, замолчал. Его пальцы с холеными ногтями прикоснулись к подбородку. Лицо изобразило серьезность, граничащую едва ли не со скорбью. Это была одна из самых расхожих гримас Норо оке Шина. Человек, не знающий его, мог бы подумать, что следующими словами Норо станет что-нибудь вроде: «Увы, все, решительно все пошло коту под хвост». Но Эгин служил под началом Норо шесть лет и не стал удивляться его скупой улыбке, за которой последовали слова:
– Ну что же, ты все сделал правильно. Если старший по званию просит тебя удалиться, надо удаляться. Таков устав. Так ты, значит, с собой забрал все-все его вещи?
– Да, аррум, ― тихо ответил Эгин.
Норо оке Шин, как и Эгин, был здесь инкогнито и именно поэтому в его костюм были включены «литые ножки». В остальное время Норо предпочитал грубые штаны из оленьей кожи, причем предпочтениям своим изменял очень редко.
Эгин не побоялся произнести вслух его истинное звание, поскольку слышать их никто не мог.
Они стояли у каменного парапета, отделявшего рукотворную стихию огромной варанской столицы от вполне нерукотворной стихии моря на западном краю порта. Здесь уже не было пристаней, серели громады вспомогательных арсеналов Морского Дома, и людей совсем не было. Только законченные зануды могли бы прийти сюда, в неприютную пустоту, где нет ни вина, ни женщин, ни увеселений. Вот они двое ― чиновник Иноземного Дома Атен оке Гонаут и праздношатающийся богач из горной глуши с неблагородным именем Альвар ― и были, надо полагать, этими самыми занудами. Впрочем, оставалось не совсем понятным, зачем чиновнику помимо битком набитого кожаного сарнода потребовался еще и заплечный мешок, который во время их разговора скромно покоился рядом с сарнодом. Он что ― свою бумажную работу на дом тащит? ― мог бы подумать наблюдательный зевака. И был бы отчасти прав.
– М-да, вид у тебя, эрм-саванн, ― ухмыльнулся Норо. ― Ну да ладно. В конце концов, это даже к лучшему.
Эгин молча развел руками и тоже изобразил нечто, похожее на улыбку. Он не совсем понимал, что лучшего может быть в его тяжеленной поклаже, которую придется сейчас нести домой и там ковыряться в ней никак не менее часа.
Норо неожиданно склонил голову набок и посмотрел на Эгина с таким странным выражением, будто бы видел его первый раз в жизни.
– Слушай, эрм-саванн, а ты случайно, чисто случайно, конечно, не забыл какую-нибудь мелочь? Может, Гастрог этот еще что-то говорил?
Эгин ожидал чего-то подобного и все равно был неподдельно напуган. Его спасало лишь то, что он, как и всякий мало-мальски опытный офицер Свода Равновесия, владел своим лицом и телом лучше, чем несравненный Астез, исполняющий все ведущие роли (Эс-тарты, Эррихпы, Леворго и иных могучих мужей прошлого) в Алом Театре. Ни один лишний мускул не дрогнул в лице Эгина. Ни один лишний ― но все необхолимые для того, чтобы изобразить смесь поддельной обиды и неподдельного трепета, пришли в движение, и Эгин сказал чуть дрожащим голосом:
– Аррум, мне никогда раньше не приходилось жаловаться на память. И никто никогда не уличал меня во лжи или преступлениях против князя и истины.
Это была довольно смелая игра. Но Эгин чувствовал, что простого «Нет, аррум» оказалось бы недостаточно.
– Ну нет так нет, ― пожал плечами Норо. И, будто бы речь шла о чем-то совершенно тривиальном наподобие вчерашнего дождичка или завтрашнего снежка, сказал:
– В таком случае благодарю за службу, рах-саванн.
– Простите, аррум… ― Эгину показалось, что почва уходит у него из-под ног и он взлетает прямо к Зер-гведу.
– Да, именно рах-саванн. Хватит тебе ходить в эрм-саваннах. Конечно, твое новое звание нужно еще по всем правилам провести через нашего пар-арценца, но я уверен в том, что после моего доклада у него не возникнет никаких возражений.
Эгин знал, что не возникнет. Про Норо Эгин знал разное ― хорошее и плохое, правду и вымысел. Но один факт, связанный с Норо, носил характер совершенно нерушимого закона ― все, кого Норо когда-либо представлял к званиям или наградам, получали и звания, и награды. Потому что Норо никогда никого не представлял зря.
– Благодарю вас, аррум, ― ретиво и вполне искренне кивнул Эгин. ― Рад служить князю и истине!
– Ну-ну, ты еще на колено упади. Мы все-таки в городе, хотя, если хочешь знать, весь этот маскарад… ― Норо сокрушенно махнул рукой. ― Ну да ладно, рах-саванн. Уже поздно. Пора расходиться, я вот тут только подумал об одном нюансе: зачем ты будешь возиться со всей этой рухлядью? ― Норо слегка пнул Эгинов мешок с вещами казненного Арда. ― Я, пожалуй, этим мог бы заняться сам.
«Да они что сегодня ― всем Сводом Равновесия с ума сошли?» ― пронеслось в голове у Эгина.
Тут был один нюанс. Дело Арда было его личным, Эгина, делом. Когда дело ведется одним человеком, оно имеет особый статус и называется «закрытым». , Офицер-исполнитель из соответствующей Опоры ведет разработку «закрытого» дела от начала до конца. Он подбирает улики, демонстрирует их своему непосредственному начальнику, и если тот признает их доказательными, человеку выносится приговор. Если приговор смертный и если по каким-либо причинам публичная казнь представляется противоречащей государственным интересам, все тот же офицер приводит приговор в исполнение. После исполнения приговора (проще говоря ― убийства осужденного) офицер Свода инкогнито посещает места, в которых казненный мог хранить крамольные или откровенно опасные предметы и писания.
В этом деле было важно вот что: Эгин как эрм-са-ванн Опоры Вещей отвечал именно за вещи Арда. И именно Эгин ― никто другой! ― должен был провести их полный осмотр при помощи Зрака Истины, всю крамолу отнести в Арсенал Свода Равновесия, а всякую ерунду наподобие зубочисток, абордажных топоров и вилок сдать в пользу государства или, иными словами, в казначейство все того же Свода. Гастрог, который сегодня выгнал Эгина из каюты, вообще говоря, имел на это право, потому что, будучи аррумом Опоры Писаний, должен был по своему прямому служебному долгу заниматься книгами Арда. Другое дело Норо. Он, конечно, аррум, он его начальник, но осмотр вещей Арда ― его, Эгина, дело. И ничье больше.
Но сегодняшний день был слишком глуп и длинен. Дуэль, Изумрудный Трепет и короткий, но резкий разговор с Гастрогом вымотали из Эгина половину души.
В конце концов, если Норо хочет возиться со всякой Ардовой ерундой ― пусть возится.
– Хорошо, аррум, ― кивнул Эгин. ― Можете забирать все.
– Вот и ладно, ― удовлетворенно ухмыльнулся Норо. ― Ты умный человек, рах-саванн, и тебе не нужно напоминать, что этого эпизода с вещами Арда на самом деле не было и быть не могло.
– Какого эпизода? ― непонимающе улыбнулся Эгин.
Норо расхохотался.
Теперь Эгин двигался налегке. При нем остался лишь сарнод со Зраком Истины, столь любезно подаренным ему Гастрогом. Пока легкий двухколесный возок, влекомый по вечерним улицам Пиннарина дюжим грютским бегуном, споро приближался к его дому, Эгин лихорадочно обдумывал странное сплетение событий прошедшего дня.
«Лосось» Ард оке Лайн был разработан Эгином очень быстро и ловко. После первого дурацкого доноса из книгохранилища на Арда поступил куда более содержательный и витиеватый материал от одной вполне благородной девицы (разумеется, брошенной любовницы). «Склонял к Двойному Сочетанию Устами… Я свято блюла закон, но он продолжал свои домогательства… Обещал доставить мне…» Потом ― интереснее. «К исходу второй недели Ард сказал, что никого не любил так, как меня, и может предложить мне всю свою любовь, бессмертие и неслыханную власть над существом природы…»
Конечно, когда мужчина хочет получить от женщины что-нибудь, выходящее за рамки дозволенного Уложением Жезла и Браслета, он может говорить вещи и похлеще. И все-таки донос бдительной курвы (которая, кстати, наверняка опасалась встречного доноса со стороны Арда) в сочетании с первым сообщением из книгохранилища был признан в Своде Равновесия достаточным основанием для расследования. С другой стороны, Ард мог оказаться чист, как сам гнорр, а вкупе с его должностью в «Голубом Лососе» все это давало основания именно для «закрытого» расследования.
Размышляя, с чего бы начать дело, Эгин решил так: плох тот офицер флота, который не боится, во-первых, утонуть, а во-вторых ― быть убитым в схватке с каким-нибудь цинорским бандюгой. Поэтому он, Эгин, на месте Арда, впадая в мрачную пучину Изменений и Обращений, обязательно первым делом постарался бы заговориться от морской стихии и враждебной стали. Эгин следил за Ардом неделю, «знакомясь с клиентом». Потом «Зерцало Огня» ― корабль, на котором служил покойничек, ― ушел в море охранять Перевернутую Лилию.
Это было как нельзя кстати. Коллеги из Урталарги-са по требованию Норо, которого Эгин уговорил на Испытание Боем, запустили сметам на Цинор ложное сообщение. Из сообщения вытекало, что «Зерцало Огня» представляет сейчас легкую добычу, ибо лишено своего основного тайного оружия, без которого флагман Отдельного морского отряда ― не более чем обычный быстроходный парусник, какие есть в любом флоте Круга Земель.
В одну из ночей на «Зерцало Огня» напали цинор-ские фелюги. «Зерцало Огня» не было предупреждено о нападении. Таким образом, Свод Равновесия и Морской Дом получали возможность проверить боеготовность воинов «Голубого Лосося». Операция удалась на славу. Экипаж и абордажная партия «Зерцала Огня» (кстати, Ард был именно из нее) показали себя с самой лучшей стороны. После боя на палубе насчитали тела двадцати восьми цинорских ублюдков. Еще девять были взяты в плен. Расчеты Свода Равновесия и Эгина оправдались ― в этом бою Ард дрался в самой гуще схватки. Его нагрудник получил несколько глубоких царапин от цинорских мечей и, главное, ― две вмятины от шестопера. Сам Ард отделался синяками благодаря надежной войлочно-веревочной поддевке.
Этого только Эгин и ждал. В тот же день, когда «Зерцало Огня» вернулось в Пйннарин под звуки флейт и победных барабанов, на его борт поднялась представительная комиссия Морского Дома, в которой, как и положено по регламенту, имел место казначей по имени Тарон оке Мар. Ему предстояло досмотреть корабль и имущество воинов на предмет повреждений и определить размеры ущерба. Под именем Тарона оке Мара скрывался, конечно, Иланаф, эрм-саванн Опоры Вещей. Прийти лично Эгин не мог, чтобы не засветиться раньше времени перед Ардом оке Лайном. В принципе такая практика ― посылать в ходе дознания своего коллегу ― не всегда приветствовалась начальством, но и не запрещалась уставом.
Итак, Иланаф какое-то время поковырялся в сломанном правом фальшборте, занося в свои бумажки какую-то липу (в то время как комиссия, делая безмерно умные лица, выспрашивала подробности боя у команды), а потом перешел к главному. К амуниции. Нагрудник Арда, получивший в бою повреждения, тоже, разумеется, подлежал описи. И вот тут Иланаф с азартным удивлением обнаружил, что вмятины, оставленные шестопером, не имеют ничего общего с обычными повреждениями, которые наносит это оружие бронзе. Обе вмятины располагались рядом в левой верхней четверти нагрудника, служившей защитой ключицам. Иланаф прекрасно знал смертоубийственные свойства ударного оружия и, соответственно, защитные свойства любых доспехов ― от магдорнских сложнонаборных кольчуг до варварских кож, обшитых любым бесполезным металлоломом. Иланаф мог поклясться, что ни бронза самого нагрудника, ни войлочный подбой не могли спасти ключицу Арда от перелома. Однако офицер «Голубого Лосося» нервно прохаживался в нескольких шагах от него, преспокойно размахивая обеими руками. Вывод был однозначный ― , на нагруднике лежало одно из заклятий Изменения. Разумеется, казначей, которого разыгрывал Иланаф, лишь отметил в своих бумагах «семь авров пятьдесят два аврика» и буркнул: «Следующий».
Оставалось проверить это предположение. Нагрудник был изъят под предлогом передачи в мастерские Арсенала. Ну а там уж Эгин без всякой легенды, простым предъявлением жетона, добился прямого осмотра нагрудника. Зрак Истины всегда чуял магивд и в тот раз разгорелся нежным малиновым пламенем. Все. Конец дела. «Владение, злоупотребление, создание, передача, продажа, злонамеренный поиск и любые иные доказанные соприкосновения с Обращенными, Измененными и Не-Бытующими Вещами в отсутствие отягчающих обстоятельств караются простым прямым умерщвлением виновного».
Все это Эгин знал и помнил, вся история промелькнула в его голове за считанные мгновения. Он видел дело целиком, словно вазу из желтого хрусталя или обнаженное женское тело. Но вот дальше по вазе побежали трещины, а в теле появились отвратительные изъяны.
Во-первых, Гастрог. Допустим, делом Арда параллельно занималась Опора Писаний. Такое случается редко, но все же случается. Но что они делали, чтобы со своей стороны выйти на Арда? Они имеют своих людей в экипаже «Зерцала Огня»? Или, еще лучше, в Опоре Вещей среди подчиненных Норо, то есть его, Эгина, друзей? Или они вообще ничего не делали до того самого момента, пока он не привел приговор в исполнение и не явился на досмотр личных вещей Арда? Допустим, так. Но откуда Гаетрог имел о нем такие полные сведения? В особенности о его производстве в рах-саванны?
«Остановись, ― приказал себе Эгин, как учил его некогда однорукий Вальх, наставник по логике и Освобожденному Пути, ― остановись и начни сначала. Не ищи сложного там, где его нет. Ищи простоту».
Хорошо, будем искать простоту. Да, Гастрог имеет своего человека на борту «Зерцала Огня». Да, этот Га-строг имеет своего осведомителя и в Опоре Вещей. Вообще могущество аррума из Опоры Писаний даже трудно себе вообразить. Там небось этих аррумов всего пять-шесть. Выше их только пар-арценц Опоры Писаний, гнорр Свода Равновесия и, в некотором смысле, аррумы Опоры Единства. Но об этих вспоминать просто нельзя, ибо слишком страшно.
В глубине сознания Эгина вспыхнул и был волевым усилием погашен образ виденного один раз в жизни Жерла Серебряной Чистоты. Эгин против своей воли поежился.
Итак, Гастрог весьма могуществен и знал его, Эгина, послужной список. Поэтому насчет рах-саванна мог брякнуть просто наобум ― ведь ясно же, что в ближайший год его действительно так или иначе произвели бы в рах-саванны. Но у Эшна просто не укладывалось в голове, что аррумы Опоры Писаний способны «брякать наобум».
"Дальше еще хуже. Похотливые писания Арда (вполне обычные) и вдруг ― непонятный рисунок на последней странице (совершенно необычный). Изумрудный Трепет, испорченный Зрак. И ― странное требование Гастрога умолчать об этом перед Норо. Свой Зрак даже отдал, лишь бы Норо ничего не узнал. Добрый дядя? Едва ли. Наверняка если бы действительно видел возможность и необходимость убить ― убил бы. Даром что мы оба из Свода Равновесия и «работаем во имя общей священной цели».
Ну хорошо, допустим, аррумам Опоры Писаний можно и не такое. Но Норо каков! Проигнорировал рассказ о Гастроге, произвел меня в рах-саванны, отобрал недосмотренные вещи Арца и был таков. И опять же ― молчи, молчи, молчи.
Ну и молчу, ну и Шилол на вас на всех!" Эгин расплатился с возницей. Он стоял перед Домом Голой Обезьяны по Желтому Кольцу, перед своим родным домом, и был совершенно спокоен. Если не можешь понять жизнь ― отрешись от непонимания и стань счастлив. Эгин, рах-саванн Опоры Вещей, двадцати семи лет от роду, обладатель зеленых глаз и обаятельной улыбки, был счастлив.
Глава третья ВЕРБЕЛИНА ИСС АРАН
– …то была аспадская гадюка. Я тогда не знал, конечно. Но боль, Тэн, какая это была боль! Я думал, у меня глаза лопнут. Но потом я подумал ― какого ляда мне подыхать в этом нужнике. Пусть лучше гадюка подыхает…
Тэн промычал что-то, что сошло за вполне сносный ответ или выражение заинтересованности. По крайней мере, Амма продолжал:
– …короче, я ей отрезал голову и бросил в дырку. Но вот рука стала напухать просто на глазах. И что мне с того, что змея сдохла? Тут бы самому не сдохнуть. Ну я тогда вспомнил, как меня дядька учил, ― вылез, ну вот так, прямо на карачках вылез, даже портков не успел натянуть, и в кусты. А смеркается ― ничего не видно. Ну, в общем, когда у меня уже желчь ртом начала идти, я поймал-таки жабу. И, как учили, приложил ее к ранке. Она тут же околела. А у меня уже перед глазами круги пошли всякие, как радуга. Но тут еще одна жаба. Я ее тоже так ― к ранке. Тоже сдохла. В общем, сам не помню, что дальше было, ― очнулся на следующий вечер в канаве, а вокруг жаб ― ну точно, дюжина. Или даже больше…
Тэн стал мычать и жестикулировать с жаром балаганного шута. Он взял в рот указательный палец и стал сосать его с усердием годовалого малыша.
– А-а, это! ― уразумел наконец Амма, и выражение озабоченности сменилось на его лице снисходительной улыбкой. ― Не-е. Отсасывать яд было ни в коем случае нельзя. Ты хоть видел когда аспадскую гадюку?
Тэн отрицательно замотал головой.
– Если хоть каплю проглотишь случайно, или если там во рту какая царапина, то уж точно сдохнешь, что твоя собака… ― заключил Амма и настороженно посмотрел на дверь людской, где, собственно, и происходил этот разговор.
Эгин усмехнулся. Во-первых, потому, что у глухонемого Тэна отродясь не было никакой собаки, на которую так обаятельно сослался Амма. А во-вторых, наблюдательности своего болтливого слуги. Да, Амму не проведешь. Всех, кто имеет хоть какое-то касательство к Своду Равновесия, очень тяжело обмануть. Да и Тэн наверняка услышал шаги Эгина, своего господина, еще когда тот был на лестнице, хоть и был глухонемым. Искусством Тэна, своего конюха и отчасти прачки, Эгин восхищался с самого первого дня его службы. Разумеется, тот все прекрасно слышал и наверняка отлично объяснялся ― когда, например, рассказывал о причудах хозяина, гиазира Атена, своему начальнику из Опоры Единства. Но отличить его от глухонемого, заподозрить в обмане было практически невозможно.
Хотя Эгин расколол Тэна на третий день службы, он не подал виду. Пусть наблюдают. Пусть устраивают глухонемой балаган. Лишь бы слугами были хорошими. А на это Эгину, или, если угодно, чиновнику Иноземного Дома Атену оке Гонауту, грех было жаловаться. Он решительно распахнул дверь в комнату, где застыли в настороженном безмолвии слуги.
– Ваша лошадь, милостивый гиазир, уже готова! ― вскочил Амма.
– М-м… ― промычал Тэн, партию которого исполнил только что его товарищ, и в его глазах блеснули искорки поддельного раболепия.
– Я отлучусь на денек в горы. Или на два денька… ― небрежно бросил Эгин, дескать, пусть теперь ломают головы, что же это такое он собирается делать в этих самых горах и отчего это в последнее время гиазир Атен оке Гонаут вошел во вкус одиноких конных прогулок. Такая у них работа, Хуммер их раздери.
Наверное, было бы куда умнее просто лечь спать. Но умнее не значит лучше. Прошедший день был настолько богат событиями и впечатлениями, что Эгин был уверен ― ему не заснуть до рассвета. Не заснуть, если придется провести ночь в постели одному. А это значило, что навестить госпожу Вербелину исс Аран просто необходимо.
Он спустился в конюшню ― для «горной прогулки» Тэн приготовил Луз, серую в яблоках кобылу. Эгин вывел ее под уздцы на улицу и лихо вскочил в седло, легонько тронул бока лошади пятками и был готов пуститься вскачь по Желтому Кольцу, как вдруг перед самым носом лошади возникла фигура мальчишки-по-сыльного, которых в варанской столице величали не иначе как «шмелями». Желто-оранжевый колпак, черный кафтан, штаны «фонариком» и рукава «фонариком» с желто-коричневыми вставками, из которых торчат две тоненькие мальчишеские ножки и такие же хилые ручки. Словно лапки шмеля.
– Милостивый гиазир Атен? ― бойко прокричал храбрый «шмель», одной рукой похлопывая Луз по морде, а другой извлекая из-за пазухи письмо.
– Все верно, ― кивнул Эгин, нашаривая в сарноде мелкую монету. Такому «шмелю» стыдно не дать на сладкую тянучку пару лишних авриков.
– Это вам, ― мальчик подпрыгнул, держа в протянутой руке письмо.
– Будь здоров! ― улыбнулся Эгин, с восхищением наблюдая за тем, как скороход, прикарманив два медяка, тут же растворился в сумерках.
«Будь здоров, любезный Атен оке Гонаут. Надеюсь видеть тебя своим гостем завтра ввечеру» ― вот ради чего мальчишка-"шмель" несся сломя голову по столичным улицам. Две корявые строчки, нацарапанные рукой Иланафа. Конечно же, Иланафа. Кто еще, кроме него, вместо подписи рисует чашку для вина с карикатурно исходящими из нее винными испарениями, приобретшими волею художественного гения Иланафа вид червей или, скорее, глистов.
«Ну что ж, значит, я вернусь завтра днем», ― подумал Эгин, заранее потешаясь над вытянувшимися рожами Тэна и Аммы, которые наверняка отложат всю работу по дому на завтрашний вечер, а день, благословенный отсутствием хозяина, посвятят игре в кости.
Иланаф, или, как принято было звать в бумагах и в миру, смотритель публичных мест Цертин оке Ларва, собирается устроить дружескую пирушку. Что же, тем, на кого опирается Опора Вещей Свода Равновесия, тоже не чужды простые человеческие радости. Добрая выпивка, например.
И Вербелина… И Вербелина ― таким вот своеобразным эхом отдавался в ушах Эгина цокот лошадиных копыт по мощеной северной дороге, змейкой уходившей вверх.
Собачий лай. Возня. Когти скребут о дерево. Резкий запах псины.
– Ждите, ― процедил привратник через смотровое окошко в высокой стене поместья «Сапфир и Изумруд».
В первый раз такое сдержанное отношение к собственному приходу несколько разозлило Эгина. Что это за отношение к благородным мужчинам? «Ждите». Но со временем Эгин привык к этому церемониалу и даже стал считать его вполне разумным. В самом деле, одинокая молодая вдова, живущая в уединенном поместье к северу от столицы, должна ревностно оберегать свой покой. В частности, не пускать за ворота кого попало.
– Госпожа Вербелина изволит отдыхать, ― процедил тот же привратник, ― но она велела передать вам, что рада вашему приходу и выйдет к вам спустя некоторое время.
Эгин спешился. Конечно, он приехал без предупреждения. Без уговора. Его здесь, конечно же, не ждали. Вербелина спит. Одна? Или с кем? Могли бы, конечно, впустить его внутрь, а не заставлять перетаптываться с ноги на ногу у ворот. Впрочем, он и сам не слишком рвался входить. Перетаптываться по ту сторону ворот в обществе милых «песиков» госпожи Вер-белины ему хотелось еще меньше.
Луз испуганно фыркала. Для нее каждый визит Эгина в «Сапфир и Изумруд» был тяжелым испытанием. Видимо, она тоже не слишком симпатизировала собачкам любовницы своего хозяина.
– Здравствуй, милый! ― На Вербелине был кружевной капот и соболья накидка, под которую охотно скользнули пальцы заждавшегося у ворот Эгина. ― Проходи.
Слуга взял под уздцы недовольную и напуганную Луз, а Эгин подхватил под руку Вербелину.
Зная об антипатиях Эгина, Вербелина велела псарям загнать собак в псарню. Но, следуя по укутанным тьмой дорожкам поместья к неосвещенному дому, Эгин никак не мог отделаться от мысли, что оттуда, из темноты, за ним наблюдает множество враждебных глаз, чей взгляд не обещает ничего хорошего.
Нет, он не боялся собак. Но питомцы его подруги были какими-то не такими собаками. Или не собаками вовсе. Эгин поцеловал Вербелину в лебединую шею ― белоснежную, статную, надушенную. Нужно было как-то развеять неуместную гадливость, каждый раз накатывавшую на него, когда ворота поместья захлопывались за его спиной со зловещим металлическим лязгом. Как будто бы дверца мьшюловки.
– Я уже велела нести ужинать. Все в порядке, Атен? ― с обаятельным смущением в голосе, которое временами настойчиво казалось Эгину наигранным, прощебетала Вербелина.
– У-гу, ― отвечал тот, при свете масляной лампы разглядывая аккуратную головку любовницы. Черные как смоль пряди были аккуратно завиты и уложены прихотливыми кольцами. Драгоценные заколки и инкрустированные костяные гребни тускло поблескивали, отражая и искажая пламя. Волосок к волоску.
«Волосок к волоску, ― подумалось Эгину. ― Она же вроде бы спала? Неужели успела причесаться снова, когда обо мне доложил привратник? А если не спала, то…»
– Не будь таким мрачньш, милый, ― шепнула ему Вербелина, когда слуга внес поднос с вином и фруктами.
Эгин приехал к Вербелине с одной-единственной целью. Он знал, что это за цель. Знала и Вербелина. Он не любил ее, но любил думать, что она любит его. Он, конечно же, ошибался.
– Твоя красота заставляет меня трепетать, как мальчишку, Вербелина, ― тяжеловесность комплимента Эгин решил уравновесить легкомысленной улыбкой.
Он поднял чашу с вином и, послав Вербелине воздушный поцелуй, пригубил вино первым.
Вербелина засмеялась и тоже прильнула к чаше. Когда Она смеялась, Эгину всегда становилось немного не по себе. А в особенности, когда она смеялась над тем, над чем сам Эгин смеяться бы не стал. Смех ее был гортанным, низким и с легкой хрипотцой. В то время как ее голос был высок и чист, а интонации речи казались многим ― как поначалу и Эгину ― простодушными. Но вот когда она смеялась, от этого мнимого простодушия не оставалось и следа. Смех Вер-белины был смехом умудренной жизненным опытом, циничной и жестокой придворной дамы. «А что, собственно, тут странного, ― осадил себя Эгин, ― ей уже двадцать девять, она сменила двух мужей, не родила ни одного ребенка и коротает дни в компании омерзительных псов. Это ― правда о ней, сколь бы ни была она нелепа, когда любуешься ее длинными густыми ресницами или наслаждаешься прелестью ее тела».
Мало-помалу разговор стал угасать, а вина в кувшине становилось все меньше и меньше. Эгин рассказывал Вербелине какие-то байки из репертуара Илана-фа, а Вербелина принужденно ахала. Чувствовалось, что она не верит ни единому слову Эгина, хотя вроде бы смеется от души. «Это в обычае у умных женщин», ― сокрушенно вздохнул Эгин, украдкой заглядывая в не слишком целомудренный вырез ночного платья госпожи Вербелины исс Аран.
– Хочешь, я станцую? ― спросила Вербелина.
– Ты же знаешь, я всегда хочу, ― бросил ей в ответ Эгин, отметив про себя скабрезную двусмысленность этого признания.
Эгин считал себя человеком, равнодушным к искусствам и зрелищам. Но когда Вербелина исс Аран танцевала, Эгину начинало казаться, что он ошибается.
Она была гибка, словно змея. Подвижна, словно ласка. Благородна, словно лебедь. Эгин подозревал, что Вербелина, вопреки стараниям выглядеть как аристократка, происходит из безродной и малосостоятельной семьи, несмотря на то что теперь зовется через «исс». Но когда она танцевала, он был готов поверить и в обратное.
Музыки, разумеется, не было ― она танцевала в тишине. Но Эгину чудились отголоски невидимых флейт и глухой ритм незримых барабанов, а иногда и треньканье малой лютни. Конечно, это был плод фантазии, но иногда этот плод казался настолько спелым и материальным, что искушение протянуть руку и сорвать его перевешивало в Эгине доводы рассудка.
Вербелина медленно кружилась на месте, и плавные движения ее рук напоминали Эгину о тех ласках, какими могла бы осыпать его эта черноволосая женщина. Могла бы, если бы не одно «но». Если бы не Уложение Жезла и Браслета, тяжким молотом довлеющее над ласками всяких благородных и неблагородных любовников Варана. Но танцевать, к счастью, этот закон не запрещал. И фантазировать тоже.
Теперь Вербелина обнажила свои стройные ноги и, словно крадущаяся кошка, подошла к блаженствующему Эгину. На ее лице играла соблазнительная улыбка. Еще пара изящных движений, и кружевной капот вместе с ночным платьем осели на пол складчатой кучей шелков. Эгин закрыл глаза. Танец еще не кончился, конечно.
Но там, по ту сторону век, он не увидел обнаженной танцующей Вербелины, на тонких запястьях и щиколотках которой нежно позвякивали золотые браслеты. Там было нечто совсем другое. Танец его подруги пробудил в одурманенном хмельным аютским вином сознании Эгина недавнее воспоминание.
Кажется, это было, когда он навестил «Сапфир и Изумруд» во второй раз. Тогда псы рвались с цепей яростно и настойчиво. Выли, лаяли и как-то очень по-человечески постанывали, прильнув мордами к дощатым стенам сараев. Они с Вербелиной проходили по саду мимо псарни. Почуяв приближение хозяйки, псы стали усердствовать во все глотки, а почувствовав Эги-на, утроили тщание. Тогда Вербелина, извинившись перед Эгином, опрометью бросилась в псарню, объяснив, что должна, ну просто обязана успокоить своих питомцев. Она пробыла там довольно долго. В конце концов Эгин не выдержал и, поборов неприязнь, направился в псарню собственной персоной. Кажется, его появление было большой неожиданностью для всех. И для Вербелины. Нет, он не подкрадывался и не скрывался. Но, видимо, привычка ходить без лишнего шума сделала свое дело. Три десятка огромных тупо-мордых псов с палевой шерстью окружили Вербелину кольцом. Платье на Вербелине было распахнуто, и ее маленькая, но такая прелестная грудь с медальоном межцу ключиц была выставлена на обозрение скалящихся гадин. «Я станцую вам вечером, я обещаю, обязательно станцую» ― вот что говорила она. Впрочем, Эгин не мог ручаться, что она говорила именно это. От дверей до того места, где стояла тогда она, было довольно далеко. Он мог расслышать сказанное неправильно.
И все-таки это странная привычка обещать что-то собакам. Он, конечно, тоже иногда болтает с Луз. Но ведь, во-первых, он совершенно уверен в том, что кобыла его не понимает, а во-вторых… ― вот о чем успел подумать Эгин, прежде чем снова открыл глаза.
– Тебе нехорошо? ― елейный голосок Вербелины над его правым ухом.
– Мне хорошо, ты прекрасно танцуешь, ― шепнул ей в ответ Эгин, и его руки обхватили тонкую талию Вербелины кольцом страсти ― оно, кажется, еще не запрещено. А его жадные губы поцеловали ее правильный впалый пупок.
Словно бы по волшебству масляная лампа стала чадить, тускнеть и спустя минуту погасла.
Теперь уже никто не верил, что когда-то в Варане ничего не запрещалось и самих слов «Крайнее Обращение», «Малое Обращение» или, например, «Обращение Мужей или Жен» просто не существовало. «Такого не может быть», ― думал Эгин, хотя и знал, что так было. Было, Хуммер его раздери! Ведь и теперь существует же, например. Синий Алустрал, где мужчина имеет право наслаждаться своей женщиной так, как ему заблагорассудится. А правители и законы предоставляют им это право, стыдливо отводя глаза, ― мол, это дело личное…
Было или не было ― теперь не важно. Важно, что сейчас, когда он поцеловал Вербелину в губы, поднял ее изящное и слегка пахнущее потом и сандаловыми благовониями тело на руки, он должен помнить лишь о том, что есть. Как эрм-саванн Свода Равновесия, и как Атен оксТонаут, и как Эгин. И Вербелина должна помнить об этом и лежать, не шевелясь. В конце согласно правилам ей будет позволен один тихий вздох. И все. Никаких ног, скрещиваемых на спине Эгина. Никаких «итских поцелуев» и прочих вольностей. Только лежать тихо и стараться. Стараться получить удовольствие. Или не получить неудовольствия. В такие тонкости Эгин не был намерен вникать.
Постель Вербелины носила следы недавнего пребывания своей хозяйки. Рядом на специальной подставке покоилось богатое платье госпожи, которое она, видимо, намеревалась надеть завтрашним утром. Туда же поверх него полетела и одежда Эгина. Его меч Вербелина, сверкнув белоснежными ягодицами, водрузила в когтистые лапы подставки, стилизованной под раскинувшего крылья нетопыря.
Эгин, сидя на постели, со всевозрастающим интересом наблюдал за последними приготовлениями. В тот момент более всего на свете ему хотелось оказаться невинным и невежественным человеком, рожденным с той стороны Хелтанских гор, которому неведомы пагубные свойства «сочетания устами» и неизвестно, какое наказание полагается каждому, кто дерзнет сочетаться таким, а не благопристойным способом со своей подругой. О да, он, выкормыш Свода Равновесия, недаром штудировал фолианты, набитые законами, ― он прекрасно представлял себе, что это такое, благодаря гравированным вставкам и иллюстрированным атласам прегрешений из Особого Хранилища Грехов. Пускался ли он, Эгин, в «грютский галоп» хоть раз в жизни? Нет, увы, нет, милостивые гиазиры.
Похоже, Вербелина была не прочь ужинать в собственной постели. Крошки, наподобие тех, что остаются от сухих сладких хлебцев, смешно покалывали бок Эгину, пока его рука ласкала девичью грудь Вербе-лины.
– Поцелуй меня, ― прошептала она, и Эгин не нашел в себе сил для морализаторства. В конце концов, он вовсе не давал обета аскезы напополам с безбрачием, и такие вещи, как поцелуи, не могут быть предосудительными.
Разумеется, он исполнил просьбу своей госпожи. И госпожа, похоже, была ему весьма и весьма благодарна. Эгин не сомневался в том, что Вербелина без ума от него, ибо в противном случае не было ничего, во имя чего стоило бы принимать его ухаживания. Он был небогат, незнатен и не слишком внимателен. Он не обещал жениться на ней. Он не мог позволить себе дорогих подарков и пышных выездов во славу своего обожания. Он, в конце концов, терпеть не мог ее псин, которых она звала не иначе как «мои сладенькие». А потому единственным оправданием их связи была взаимная приязнь.
Во что бы вылилась она, не будь Уложения Жезла и Браслета, неведомо никому, но в ту ночь ни один из них не преступил закона. Эгин вошел в нее медленно и настойчиво. Она была терпелива и сдержанна. Он целовал ее плечо и медальон, который был ей весьма к лицу. Она, вооруженная многолетним опытом практического целомудрия, гладила его заросшие белесыми волосками ягодицы пальцами правой руки. В этом не было ничего запрещенного. И Эгин, который был уверен в том, что, по крайней мере, двое из пяти слуг в поместье «Сапфир и Изумруд» являются мелкими доносчиками Свода Равновесия и, по меньшей мере, один из них сейчас подглядывает за развлечениями своей госпожи через специальный «глазок» (который он знает где у нее в спальне притаился), был совершенно спокоен. Они не нарушили ничего. Ни-че-го.
Откровенно говоря, Эгин не ожидал, что Вербелина заснет так быстро. Она прикорнула на его плече сразу после того, как прозвучали финальные аккорды этого диковинного и полузапретного действа. Эгин намотал на палец черную прядь ее волос ― пахнет целебными травами и духами.
Дыхание Вербелины было ровным ― похоже, она действительно провалилась в сон, даже не пожелав своему мужчине спокойной ночи. Глядя на спокойное лицо любовницы с по-детски припухшими губками, Эгин быль вынужден с сожалением признать, что ее красота не оставляет его равнодушным даже сразу после танца любви. Он отвернулся.
Под окнами завыл пес. Ему ответил другой. «Их на ночь отпускают, что ли?» ― подумалось Эгину. Но, с другой стороны, не затыкать же уши. Скрип половиц за дверью. Тот, кто подглядывает, делает это не слишком профессионально. «Гнать таких надо взашей из Свода Равновесия», ― брюзжал Эгин сам себе. Этот кто-то ― Эгин подозревал, что это тот самый седобородый привратник, который принял у него Луз, ― вел себя довольно беззастенчиво. Ходил туда-сюда мимо двери. Громко дышал, склонялся перед дверью и, похоже, пытался разглядеть что-то сквозь дверную щель. Принюхивался, что ли?
«Да сколько можно. Сыть Хуммерова!» ― в сердцах выругался Эгин. Бесшумно и быстро он встал с ложа, переместив головку Вербелины со своего плеча на атласную подушку. Встал. Принял свой меч из когтистых лап чугунного нетопыря и медленно пошел к двери. Половицы были к нему милосердны ― ни одна из них не скрипнула, словно бы даже дерево втайне болело за торжество справедливости, воплощенной в гиазире Эгине.
Но, несмотря на это, наблюдатель все-таки почувствовал приближение опасности или, скорее, позора, ибо Эгин, конечно, не стал бы убивать слугу своей госпожи, даже запятнавшего себя таким проступком, как распознанный шпионаж. Почувствовал и стал медленно удаляться от двери, по-прежнему немилосердно скрипя половицами. «Странное дело, ходить бесшумно не умеет, а мое приближение почуял», ― пожал плечами Эгин.
«Теперь у слуги нет сомнений в том, что он замечен, вот и дает деру. И все же кто это?» ― вот что теперь было важно Эгину, коль скоро эффектного розыгрыша не получилось. Жаль, можно было бы расска ― зать завтра Онни, Иланафу и остальным. «Представьте себе сцену, милостивые гиазиры! Я открываю дверь, а там этот недоделанный стоит рачмя и подглядывает в замочную скважину, высунув язык от любопытства». И дальше в таком вот духе. Только позабористей и с массой выдуманных, но очень пикантных подробностей. «Кто это?» ― искоркой загорелось в мозгу Эгина. Его обнаружили, а значит, таиться бессмысленно. В три прыжка Эгин преодолел расстояние, отделяющее его от двери. Резким ударом ноги распахнул ее и выскочил в неосвещенный коридор.
Соглядатай тоже теперь не таился ― он бежал к лестнице, соединяющей помещения госпожи с людской и выводящей во двор. Но то был не привратник. И не коротышка-псарь. И не повариха. И вообще ни одним из тех, кого Эгину приходилось видеть в поместье «Сапфир и Изумруд», он не являлся. Высоченный рост. Длинные, непропорциональные конечности. На голове что-то вроде ночного колпака, какие, по слухам, надевают престарелые дамы из харренских сектанток. И еще что-то сзади. Ну не хвост же? Эгин напряг зрение ― еще секунда, и соглядатай скроется на лестнице, и бежать за ним неловко и бессмысленно. Эгин был наг, словно бронзовая статуя в примерочной портновской сиятельного князя Мидана оке Саггора. Соглядатай передвигался очень быстро. И в высшей степени неловко. Странные движения. Как будто медведь-шатун. Нет, не медведь. Пес, ставший на задние ноги. Пес? Комок подступил к горлу Эгина. Пес?
«Да нет, никакой не пес. Походка, конечно, ненормальная. Но, может, это как раз был один из тех, кто пережил ту самую пытку, когда в коленные суставы вбивают крохотные гвоздики… Вот у него теперь и похожа такая»…
Это был как раз тот редкий случай, когда в голове у Эгина плескалась теплая бесформенная каша. Он вернулся в комнату. Запер дверь на щеколду. Водворил меч на подставку. Жутковатая рожа чугунного нетопыря, казалось, расплылась в издевательской улыбке.
«Самое лучшее, что я могу сделать, ― заснуть, наплевав на весь этот бред», ― сказал себе Эгин и вернулся в постель, где спала и казалась вполне безмятежной госпожа Вербелина.
Но только казалась. Когда Эгин нырнул под балдахин и, припечатав успокоительный поцелуй к обнаженному плечу, отвалился на подушки, стараясь унять легкую дрожь, он понял, что ошибся.
– Что там случилось? ― самым тихим из тихих шепотов поинтересовалась Вербелина, а ее влажная ручка стала ласкать живот Эгина в недвусмысленной близости от непозволительного.
Случилось то, чего Эгин не предусмотрел. Он разбудил ее. Неважно когда ― когда только выскользнул из постели или когда вышибал ногой дверь.
– Пустяки, кто-то мешал мне спать, ― стараясь казаться сонным, отвечал Эгин.
Вербелина проигнорировала намек, содержащийся в выражении «мешал мне спать». Ее ручка продолжала нахально разгуливать по животу Эгина, а губы Вербе-лины осыпали поцелуями грудь Эгина. Ее дыхание было частым и порывистым. Ее ресницы щекотали кожу Эгина, а ее ноги обвили ноги Эгина, словно плющ ― стены Староорд осокой крепости.
Эгин неловко отстранился. Все его мысли ― как ни прискорбно было в том признаваться даже самому себе ― были заняты загадочным соглядатаем, колени которого выгибались в другую сторону, а торс странно напоминал… напоминал… Да собачий, собачий торс, поставленный на задние ноги, он напоминал. И хвост. Такой же обрубленный, как и у остальных питомцев госпожи Вербелины, которая вот сейчас пытается склонить его к одному из Обращений.
– Мы никогда не пробовали с тобой ничего такого, ― шептали губы Вербелины, сочась нектаром сладострастия.
– Разве ты не знаешь, чем это чревато, милая? ― натужно улыбнулся Эгин, беря в плен блудливую руку своей подруги.
– Сейчас ― ничем. Сейчас ― ровным счетом ничем, ― очень тихо ворковала она.
Эгин, не чуждый, в общем-то, ни любви, ни постельным нежностям в пределах дозволенного, погладил Вербелину по волосам. Нет, заниматься любовью сейчас у него, похоже, не было никакого желания.
И Вербелина, несмотря на все свои, в общем-то, незаурядные старания, должна уяснить это. Какие у нее все-таки жесткие волосы.
Впрочем, отказываться вот так, с ходу, от запретного лакомства, которое предлагает ему его любовница… Нет, Эгин был мужчиной, в первую очередь мужчиной, а уж потом ― эрм-саванном Свода Равновесия. Умом он уже согласился на одно, совсем небольшое отступление от Уложений Жезла и Браслета. На одно, и очень небольшое. Но только умом.
И все же ласки Вербелины оставляли его тело равнодушным. С другой стороны, это лишь раззадоривало его подругу.
– Атен, Атен, ― шептала Вербелина, соблазнительно извиваясь, и ее губы, почуяв странную, беспричинную вседозволенность, гуляли по всему телу Эгина. ― Мне нравится твое имя, милый, ― улыбнулась она, вынырнув наконец из-под покрывала.
«И назвал меня Эгин», ― некстати, совсем некстати пронеслось в голове у Этана.
– Хм… Я рад… ― на более неуместную глупость Эгин не сподобился ни разу в жизни. Даже теряя девственность в веселом доме на окраине Пиннарина в возрасте шестнадцати лет, когда его первая женщина, будучи старше его вдвое, объясняла ему суть какого-то кулинарного рецепта, он не говорил ничего столь же глупого. Тогда ему, по крайней мере, хватало ума не поддакивать.
За окнами спальни госпожи Вербелины занимался рассвет. Чернота уступала место серости дня, который обещал быть пасмурным. Эгин бросил на свою подругу испытующий взгляд.
О да, она хороша. О да, она старательна. О да, она предлагает ему Обращение.
Но, увы, он не может воспользоваться ни первым, ни вторым, ни третьим.
– Ты не любишь меня больше? ― Вербелина ложится поверх него на мужской манер. Эгин чувствует неловкость.
– Я ― люблю. Но дело не в этом, ― отвечает Эгин, припечатывая уста своей подруги поцелуем.
– Я люблю ездить верхом, ― продолжает бесстыдная Вербелина.
Эгин улыбается. То, что было еще сослагательно возможным ночью, становится все более и более невозможным в промозглой серости утра.
– Это хорошо, это очень хорошо, ― говорит Эгин, оставляя намек без внимания, но и не отвергая его.
Может, все еще переменится? Становится все светлее и светлее. Он никогда не занимался с ней любовью днем. Она никогда не танцевала днем. Они вообще редко встречались днем. Все больше вечером. Эгин старательно ищет в себе силы полюбоваться совершенными формами своей подруги. Обнаженная красавица в серой дымке утра. На теле ни жиринки. Ни одного лишнего волоска. Гладкая, ухоженная кожа. Нет ни одной морщинки. Ни на шее, ни на лице. И волосы. Хуммер ее раздери! По-прежнему волосок к волоску. Даже гребни, шпильки и заколки с сапфировыми глазками на тех же местах! Как это им удается сохранять прическу в такой неприкосновенности даже после ночи любви?
Но Эгину лень думать об этом. Он уже почти чувствует, как стараниями Вербелины в его чреслах медленно, но неумолимо расцветает прихотливый тюльпан желания. Еще немного, и он согласится на все что угодно. На все, что предложит ему Вербелина. Еще немного, и ему будет наплевать на подозрения, которые мучали его все два месяца связи с Вербелиной. Еще немного, и он простит ей все ― и ее омерзительных огромных псов, и ее привратников, и соглядатаев, таких странных соглядатаев поместья «Сапфир и Изумруд».
Вот его губы уже шепчут: «Я люблю тебя, моя девочка», а взгляд становится грустным и ничуть не снисходительным. Вот уже его руки треплют ее кудри. Такие богатые, цвета воронова крыла кудри, уложенные в соблазнительную прическу дамы из высшего сословия. Она сделала ее ради него. Но она отстраняется. Зачем? Наверное, чтобы раззадорить его еще больше.
– Так, значит, грютская скачка? ― не то вопрошая, не то утверждая, шепчет Вербелина, и в ее шепоте больше страсти, чем в песне Птицы Любви.
Эгин кивает. Грютская скачка? Да хоть грабеж со взломом. Да хоть Крайнее Обращение. Теперь он согласен почти на что угодно.
Его рука обхватывает лебединую шею торжествующей Вербелины. Волосы пахнут горными травами. Чабрецом или арникой. Неважно. Ему нравится этот запах. Ему нравится то, что делает Вербелина. Почему они ни разу не решились на это раньше?
Но тут его указательный палец находит на затылке подруги небольшое уплотнение. Что-то вроде шрама. Осторожно, чтобы не возбудить подозрения, он проводит двумя пальцами вдоль шрама. Улыбка медленно сползает с его лица, обнажая маску растерянности и гадливости. Нет, это не шрам. Это нижний шов парика, милостивые гиазиры.
«Волосок к волоску!» ― стиснув зубы, произносит про себя Эгин.
– Что случилось, милый? ― испуганно спросила Вербелина, когда Эгин встал с ложа и решительно направился к своему платью, брошенному поверх богатого платья его подруги.
– Я что-то сделала не так? ― глаза Вербелины, чье обнаженное тело сливочно-бело на фоне голубого атласа постели, наполнились фальшивыми слезами.
– Атен, ты что же, вот так и бросишь меня? ― спросила Вербелина, а ее правая ручка воровато шмыгнула на затылок, как бы невзначай, как будто бы поправить гребень.
Эгин следит за ней искоса, поправляя пояс и ножны. Да, конечно. Он был слеп, глух и глуп. Непростительно для человека из Свода Равновесия. Наивен, даже слишком для чиновника Иноземного Дома.
Разумеется, его хотят подставить. Эта девочка носит черный парик. Сначала волосы выдергивают у трупа в мертвецкой, затем из него делают такой вот замечательный парик, какой сейчас на Вербелине. Кто занимается тем, что выдергивает волосы у трупов? Его коллеги из Свода Равновесия. Своду Равновесия нужно много разных качественных париков. Гораздо больше, чем всем модницам Пиннарина. По каковому случаю парики в Пиннарине вообще запрещены. Она носит черный парик. Это значит, что сама она отнюдь не черноволоса. Так значит, волосы Вербелины цвета меди. Или цвета спелой ржи. Забавно, очень забавно.
У нее любознательные и понятливые собачки. О да такие понятливые, что они даже расхаживают по ночам на двух ногах и подсматривают в дверные щели, с ночными колпаками на головах и масками на мордах. Она говорит с ними, а они ее понимают. Ему, Эгину, это кажется странным. А вот Норо оке Шину, его непосредственному начальнику, ― нет. «Разберемся, разберемся, ― сказал по этому поводу Норо оке Шин. ― Коллеги из Опоры Безгласых Тварей разберутся». Тогда Норо был весел и спокоен, это Эгин помнит. А почему Норо был спокоен? Да потому, что он прекрасно осведомлен о том, чем занимается Вербелина. Чем бы она тут ни занималась со своими псами, Норо об этом известно. Может быть, даже это услуга за услугу. Свод Равновесия делает услугу Вербелине, а Вербелина ― Своду Равновесия. Дескать, мы не трогаем твоих псов, а ты проверяешь наших людей на вшивость. И не только наших людей. Может быть, всех, кого скажут. А то куда же еще подевались двое мужей этой славной черноволосой госпожи. Один из них оставил ей вожделенное «исс», которым она украсила свое низкородное имя, и исчез. Другой ― оставил ей поместья, слуг и доход. А потом тоже исчез. А куда подевались любовники этой госпожи? Он, Эгин, вовсе не идиот, чтобы полагать, что он у нее первый. И почему у этой замечательной моложавой красотки нет детей? А если есть, то где же они?
Это очень приятно ― полюбить женщину. А еще приятней в один прекрасный день, а точнее, в одну паршивую ночь в той ее части, где она сливается с рассветом, узнать в этой женщине свою коллегу из Свода Равновесия. Коллегу, работающую против него. Даже в постели.
Эгин тихо затворил дверь, даже не обернувшись в сторону всхлипывающей Вербелины. Во-первых, потому, что был уверен в том, что этим всхлипываниям ― грош цена. А во-вторых, потому, что привычка хлопать дверями в Своде Равновесия не приветствуется.
Он сам оседлал Луз. Сам открыл ворота. И, пришпорив сонную кобылу, понесся по дороге, не оглядываясь. Не ровен час столкнешься взглядом с умной двуногой собакой, следящей за тобой из кустов боярышника и попивающей молодое аютское из серебряной фляжки. Не смешно.
Сомнений нет ― она хотела склонить его к Обращению, а затем порадовать милостивых гиазиров из Опоры Благочестия. Или даже лучше. Бдительный ар-рум Гастрог лично дал ей указание поступить так, дабы подвергнуть его испытанию, которое, конечно же, окажется не в его пользу, и получить предлог, чтобы уничтожить его по всем правилам….
Впрочем, в последнее Эгину мало верилось. Он прекрасно знал, что если Свод Равновесия желает уничтожить своего человека, он не нуждается в предлогах.
Итак, она интриговала против него.
«Впрочем, ― заметил Эгин, когда дорога вышла из лесу, внизу замаячили окраины Пиннарина и на душе стало легче, ― я не могу быть сердит на нее, ведь я сам донес на нее Норо, когда застал ее, полуобнаженную, за увещеваниями в псарне. Все мы подличаем, когда это касается служебного долга».
Глава четвертая ВЕЧЕРИНКА
– Мракобесие чистейшей воды! Но, если хотите, я считаю все эти штуки наподобие «летающих когтей» и «рогатых секир» таким же мракобесием! Махровым мракобесием! ― довольно агрессивно разглагольствовал Онни, самый молодой из присутствующих ― все были офицерами Опоры Вещей.
Отчего-то при каждом новом повторении слова «мракобесие», не иначе как приклеившегося к его языку крепчайшим клеем, он отставлял свою чашку с вином и прикладывал указательные пальцы ко лбу наподобие рогов. Со стороны это выглядело комично, чем не мог не воспользоваться Иланаф.
– Рогатым мракобесием, правильно, Онни? ― иронично и одновременно заискивающе подсказал он товарищу.
Ирония ускользнула от изрядно захмелевшего Онни, а потому он, не чувствуя подвоха, взглянул на Иланафа помутневшим взглядом и подтвердил:
– Именно это я как раз и хотел сказать. Все прыснули со смеху. Эгин, разумеется, тоже смеялся. Но никто из его товарищей не подозревал, каких трудов ему это стоило. Он проспал как убитый весь прошедший день, что было для него внове. Проспал две ночные нормы сна. Теперь, прихлебывая со-. гретое белое вино, Эгин чувствовал себя жертвой изысканной пытки, которую уже давно не практиковали в подвалах Свода Равновесия в силу ее малой эффективности, а точнее, не той эффективности, которая была нужна, , но о которой любили вспоминать на таких вечеринках, как эта. Когда несчастного опаивали снотворным зельем изо дня в день, разрешая ему бодрствовать не более часа ежедневно и то только для того, чтобы перекусить, запив еду снотворным зельем. Обычно жертва сходила с ума раньше, чем успевала сообразить, что это такое с ней происходит, В какой-то момент Эгину, чей мозг был затоплен многочисленными и беспорядочными обрывками последних суток, тоже начинало казаться, что мир как-то странно подмигивает ему со всех сторон. А потому даже очень смешное вызывало у него самое большее сдержанную улыбку.
– А потому я и говорю, что ты хоть с тесаком, хоть с «волчьим зубом», хоть с ножом-бабочкой против меня иди. Если я с мечом ― капец тебе, ни много и ни мало. Капец потому, что это мра-ко-бе-сие.
– Ну не скажи, не скажи, ― нарочно возражал Иланаф. ― А если он тебе раньше все лицо своими «летучими лотосами» изуродует?
Разговор велся, как обыкновенно бывает под конец таких пьянок, о сравнительных достоинствах различных видов холодного оружия. И хотя мнения всех присутствующих были известны остальным и, что самое любопытное, совпадали по большинству вопросов, на остроте споров это никогда не сказывалось. Сейчас Онни играл партию «простака», поливая отборной руганью алустральские диковины. Такие, например, как ножи с выскакивающими лезвиями или, что даже лучше, летающие секиры, выполненные в форме двух пересекающихся молодых лун. А Иланаф упивался ролью зрелого аналитика, взвешивающего все «за» и «против», прежде чем высказаться. Эгин понимал, что с таким же успехом Иланаф мог ругать все, кроме меча, а Онни упрекать его в скудоумии и узости взглядов. Таковы уж у них, в Своде Равновесия ритуалы.
– Я вижу, любезный Эгин повесил нос, ― встрепенулся Онни, когда разговор в очередной раз зашел в тупик. ― Хуммер меня раздери, если я, получив рах-саванна, буду так же похож на гнилую тыкву, как и он!
В душе Эгина как будто оборвалась струна. Каждый раз, когда его называли так, а не Атеном оке Гонаутом, в его душе обрывались струны, а на сердце скребли кошки. И хотя умом он прекрасно понимал, что его сослуживцы Иланаф, Онни и Канн ― это люди, которым он может доверять как самому себе и что кому как не им звать его Эгином, а не Атеном, но… он не мог привыкнуть к этому, как ни старался. «Наверное, Иланафу тоже не по себе, когда я зову его Иланафом, а не Цер-вбм оке Ларвой». Эгин, снова ставший центром всеобщего внимания, встал и улыбнулся друзьям. Он прекрасно понимал, что товарищей не проведешь, ведь каждый из них читал по лицам еще лучше, но считал улыбку долгом вежливости по отношению к ним и этой дружеской пирушке.
– Я предлагаю выпить за то, чтобы повышение, которое получил я, не обошло стороной ни тебя, любезный Иланаф, ни Онни, ни Канна, ― Эгин был совершенно искренен в этом тосте, и все с удовольствием выпили.
Крепкий гортело прочертил огненную дорожку от горла до самого желудка. Онни и Канн засияли. И в самом деле, они на славу служат Своду, и отчего бы не повысить и их? Впрочем, для этого нужно отличиться и преуспеть в каком-нибудь очень специальном деле наподобие того, какое на днях пришлось на долю Эгина. Об этом слегка заплетающимся языком и поведал товарищам Онни.
– Не знаю про Эгина, ― махнул рукой Иланаф, тотчас же помрачнев, ― а я получил повышение совсем по другой причине. Нет; мои успехи тут ни при чем.
– Да не дури, Иланаф, ― недоверчиво бросил Канн.
Никто из присутствующих не сомневался в том, что звания в Своде Равновесия не раздают кому попало и за что попало. По крайней мере, раньше такие прецеденты не наблюдались.
– Ни при чем, ― твердо и зло повторил Иланаф. ― Мой успех ― всего лишь следствие чужого провала, милостивые гиазиры. Кто-то должен был занять место гиазира Неназванного, потому что должен же его кто-то занимать.
Ему никто не отвечал. Не возражал. С ним не спорили. Обсуждать провалы Свода Равновесия на пирушках было не принято. От такого ― ровно один шаг до крамолы. Если он вообще еще не сделан.
– Ну да все равно выпьем, ― истерически расхохотался Иланаф.
Все уткнулись в тарелки, чтобы не смотреть на гримасу отвращения и злобы, какой было искажено лицо Иланафа. Таким Эгин не видел своего товарища никогда. Безусловно, Иланаф был пьян, как и все присутствующие. Но не только. Он был обижен, унижен, уязвлен. Он негодовал, и в его груди клокотал такой же странный вулкан, какой не давал покоя самому Эгину. «Странно, что я не заметил этого раньше», ― подумалось ему с укоризной.
– На посошок, и по домам! ― мягко сказал Эгин, чтобы как-то разрядить обстановку.
«На посошок… на посошок», ― эхом повторили остальные, ухватившись за кувшины, словно за спасительные соломинки.
И в самом деле, когда начинают вслух говориться такие вещи, о каких только что откровенничал Ила-наф, весельчак, балагур и жизнелюб, это первый признак того, что чашка аютского на посошок будет очень и очень к месту.
– Понимаешь, Эгин, Свод Равновесия простоит долго. Но мы все ― покойники, ― Онни, похоже, передался нервический пессимизм Иланафа. ― Я тебе объясню, если хочешь…
– Хочу, ― охотно откликнулся Эгин. Не идти же в самом деле в тишине.
– Вспомни, как наставлял нас Занно, когда учил фехтовать. Ты только вспомни! Он говорил так: чтобы победить, нужно навсегда расстаться с желанием победить. И не только с ним, а еще с желанием пощеголять перед противником техническими трюками и показать ему все, что знаешь. А еще нужно отказаться от мысли держать врага в страхе… А еще…
– Помню-помню, ― улыбнулся Эгин. Он знал эти наставления так же хорошо, как то, что он ― чиновник Иноземного Дома Атен оке Гонаут. ― А еще, и это самое главное, нужно избавиться от желания побороть те недостатки, которые ты только что перечислял, Онни.
– Все верно, Эгин, ― покачал головой Онни, опираясь о руку Эгина.
Похоже, его ноги работали гораздо хуже, чем язык.
– И что с того?
– Да вот что: если ты не выполняешь этих требований, когда фехтуешь, то тебя убивают. Рано или поздно. Мы все ― и ты, и я, и Иланаф ― вроде бы научились оставаться целыми в поединках. Это хорошо.
Плохо другое. То, чему учил нас Занно, верно не только по отношению к искусству владения мечом. Оно верно всегда. Плохо то, что в жизни мы совсем не такие. Когда мы возвращаем мечи ножнам, начинаем совсем другую жизнь. Мы снова наполняемся желанием победить и прочими пороками, от каких Занно отвадить нас так и не сумел…
– Может, ты и прав, Онни, ― примиряюще откликнулся Эгин. ― Но это вовсе не значит, что все мы покойники. По крайней мере, покойники раньше отведенного срока.
– Значит, значит, ― сказал Онни с недоброй усмешкой. ― То, что мы четверо собираемся вот так у Иланафа уже четвертый год, ― это, в общем-то, чудо. Я чувствую ― будет что-то неладное. Уж больно все идет гладко… Кто знает, соберемся ли мы еще хоть раз? Разве ты не чувствуешь чего-то похожего?
Эгин отрицательно замотал головой. Конечно, последние дни выдались тяжелыми, муторными, суматошными, но он ничего такого не чувствует! Нет! «Наверное, во мне говорит сейчас детское желание противоречить и спорить с тем, с чем уже давно согласился». Но он прогнал эту мысль прочь. Прогнал взашей.
Эгин никогда не замечал за Онни тяги к сентиментальности и рассуждениям о бренности мира. Тем страннее было идти вот так по Серому Кольцу Пинна-рина и вести беседы, которые офицерам Свода Равновесия вести не пристало.
«Философия не к лицу вам, мальчики», ― говаривал, по другому, правда, поводу, Норо оке Шин. И даже нарушая этот шутейно-серьезный завет, Эгин и Онни чувствовали некую неловкость, неуместность того, что происходит.
Быть может, поэтому оставшуюся часть пути Онни и Эгин проделали в тягостном молчании, пока наконец-то не показался спасительный перекресток. Эги ― ну, который жил на Желтом Кольце, ― направо. Онни, который жил у Южных ворот, ― налево.
– Увидимся! ― сказал на прощание Онни.
– Увидимся, ― повторил Эгин. ― Я очень надеюсь, что ты ошибаешься, дружок. Очень надеюсь.
Но Онни уже не слышал его последних слов. Решительным, но очень нетвердым шагом молодого подвыпившего офицера он удалялся в ночь, до отказа набитую трелями цикад и смрадом преющих лошадиных куч.
Глава пятая ВНУТРЕННЯЯ СЕКИРА
«Нужно было проводить Онни до дома, не то, споткнувшись, упадет в какую-нибудь лужу и проспит там до утра в собственной блевотине», ― подумал Эгин, глядя на то, как тот, зацепившись за крыльцо какого-то строения, едва удержал равновесие. Но тут же устыдился этой мысли. С каких это пор офицеры Свода Равновесия, к числу которых относились и он, и Онни, стали сомневаться в способностях друг друга добраться домой после двух кувшинов белого вина? С каких это пор Онни стал нуждаться в провожатых?
Нет, провожать Онни не стоило. Но и идти домой Эгину тоже не хотелось. В самом деле, что он там забыл? Спать он все равно не станет, читать ― от одной мысли об этом ему становилось противно. Не выпивать же в одиночку, в самом деле. Для начала он решил пройтись по Желтому Кольцу, а потом, быть может, до моря в надежде, что занятие сыщется само собой или на ум придет какая-нибудь успокоительная идея.
Он ускорил шаг и пошел в направлении, противоположном собственному дому, носившему нелепое название Дом Голой Обезьяны. Впрочем, некоторые шутники любили называть его Домом Четырех Повешенных, чему тоже было правдивое историческое обоснование. Рано или поздно, даже идя от него, он все равно придет к тому же знакомому портику, к полуголому уроду, названному невежами обезьяной. Ибо Желтое Кольцо ― на то и Кольцо, чтобы обессмысливать направление движения.
Было тихо. Собак в домах для знатных особ и чиновников, а только такие и окружали Желтое Кольцо, держать запрещалось специальным указом. Кое-какие матроны, как обычно, плевать хотели на эти указы и пестовали-таки своих патлатых любимцев. К счастью, гавкать им было заказано, ибо те же матроны лишали их голоса, перерезая голосовые связки. Эгин не любил собак.
Город спал, дома пялились на одинокого путника своими пустыми глазницами. Пока они выпивали, прошел небольшой дождик, и было весьма свежо. Эгин шел вперед, не глядя под ноги.
– Сыть Хуммерова, ― неожиданно громко выругался он, когда его правая сандалия погрузилась в лужу, притаившуюся возле крыльца обшарпанного дома, на котором крупными буквами было выведено: «Сдается». На варанском, харренском и грютском языках.
– Что вы сказали? ― спросила девушка, осторожно высунувшаяся из-за двери, приоткрывшейся чуть-чуть, но заскрипевшей на всю улицу.
Ситуация была из числа идиотских. Или полуидиотских. Эгин спешно нацепил на лицо маску чиновника Иноземного Дома Атена оке Гонаута. Любезника, женского угодника, вежливого и обходительного в обращении, начинающего дипломата и самозабвенного писаки. Он обернулся к девушке, чья перепуганная мордашка была еще бледнее, чем бледный огрызок луны на небе, и, поклонившись, отвечал:
– Прошу меня простить, госпожа.
– Но вы же ничего еще не сделали, за что же мне прощать? ― понизив голос, спросила та, выглянув на улицу.
– И в самом деле ничего, ― усмехнулся Эгин. Не станет же он ей объяснять, что только что выругался, вступив в лужу, и тем увеличивать всеобщий конфуз.
Повисла странная пауза ― Эгин не совсем понимал, чего девушка хочет от него. На уличную девку она была вовсе не похожа. С другой стороны, приличные девушки ― жены и дочери тех, кто селится на Желтом Кольце, ― не заговаривают вот так с мужчинами. Служанка? Может, в доме что-то стряслось?
– Вы не могли бы зайти сюда, милостивый гиа-зир? ― попросила Эгина девушка, смущенно улыбаясь. ― Мне нужно кое-что спросить, а на улицу мне неловко выходить. Пожалуйста, дело срочное!
Эгин пожал плечами и, поглядев в обе стороны, неспешно взошел на крыльцо.
– Да вы не думайте, я совсем не та, что вы думаете, ― уже почти шепотом сказала девушка, давая ему проход.
«Она бы еще „не бойтесь, пожалуйста!“ сказала», ― мысленно усмехнулся Эгин.
Дверь со скрипом затворилась. Эгин и его новая знакомая оказались в кромешной темноте затхлого коридора. Вопреки едва оформившимся опасениям Эгина, дом был совершенно пуст. Ни сутенера, ни молодцов, сподобившихся на грабеж. Даже как-то скучно.
– Снизойдите, милостивый гиазир, я попала в ужасную историю! Я совсем не знаю города, а мне нужно добраться хотя бы до Северных ворот, чтобы там нанять кого-нибудь себе в спутники. Но я совершенно не знаю, как туда идти, ― начала свои сбивчивые объяснения девушка с коротко остриженными черными волосами.
– Я с удовольствием провожу вас, ― развел руками Эгин, ― если вы не будете возражать.
– Пожалуйста, тише, ― взмолилась девушка, оттаскивая Эгина от двери.
– Это ваш дом? ― перейдя на глухой заговорщический шепот, поинтересовался Эгин, оглядывая своды и лестницы, имевшие очень неухоженный вид.
– Конечно, нет! ― возмутилась его собеседница. ― То есть, к счастью, нет. Но поймите меня верно, я не воровка…
– Мне трудно понимать вас верно, ― заговорил в Эгине рах-саванн Свода Равновесия. ― Потому, что вы еще не сказали мне, что вы тут делаете и почему мы говорим шепотом. А ведь это очень интересно, ― добавил он, смягчаясь.
Пока звучала эта тирада, девушка слушала, стоически сжав губы и вздрагивая при каждом шорохе одежд Эгина. Но когда Эгин закончил, она не нашла ничего лучшего, как закрыть лицо подолом платья, надо сказать, довольно богатого, и разреветься, всхлипывая, вздрагивая и не утирая слез. Эгин непроизвольно стиснул рукоять меча. Для самоуспокоения?
Нет, он не стал ее утешать, ибо знал по опыту, что обыкновенно это приводит к противоположным результатам. И не только у женщин. У мужчин тоже. Прислонившись спиной к стене, он тихо сполз вниз с безучастным видом. Ждать, пока она закончит реветь, придется долго. А ждать на корточках гораздо легче. Особенно после двух кувшинов белого вина.
– Извините! ― спустя довольно короткое время сказала девушка, хлюпнув носом напоследок. ― Мне трудно держать себя в руках.
Эгин буркнул что-то наподобие «ничего страшного», отмечая про себя, что его ночной собеседнице наверняка не больше семнадцати-восемнадцати. Он заключил это по той старательности, с которой та разыгрывала умудренную опытом даму. Эгин испытующе воззрился на нее снизу вверх, требуя обещанных объяснений.
– Все довольно просто. Я сбежала от людей, с которыми бы не хотела больше встречаться. Разумеется, мое отсутствие уже замечено. И меня наверняка уже начали преследовать. Я думаю, очень скоро найдут, если вы мне не поможете покинуть город. В этом доме я спряталась, потому что не знаю толком, куда идти. Он пуст, потому что сдается. Где-то там на верхних этажах должен быть сторож, поэтому мы и говорим шепотом.
– Это, разумеется, очень плохие и злые люди? ― с беззлобной иронией спросил Эгин, никогда не баловавший своим вниманием авантюрные романы и презиравший их всей душой.
– Это неважно, ― ответила та с серьезностью укротительницы алустральских каракатиц. ― Я не воровка, не гулящая, я, как вы, наверное, заметили, далеко не служанка и не рабыня. Я не сделала ничего плохого и не имею мужа, который мог бы настаивать на своих правах. Я думаю, этого достаточно для того, чтобы вы помогли мне, если у вас есть на то желание.
– Разумеется, есть, ― отвечал Эгин, переваривая услышанное.
Да, она не первое, не второе и не третье. Главное это то, что она скорее всего не клиентка Свода Равновесия. Хотя бы уж потому, что даже самые бездарные парни из тех, что подчиняются Уложениям Свода, никогда бы не дали сбежать восемнадцатилетней девчушке у себя из-под носа, сколь бы малый проступок та ни совершила. А если она, предположим, неверная жена, так его, Эгина, это не касается. Пусть с этим разбирается Внутренняя Служба.
– Тогда пойдемте, ― взмолилась девушка, опасливо озираясь.
– Пойдемте, ― откликнулся Эгин, вскакивая на ноги.
В голове его уже вырисовывалась кратчайшая дорога к Северным воротам, куда так страстно стремится его спутница. Теперь оставалось ее пройти. И вдруг чиновник Иноземного Дома Атен оке Гонаут возопил внутри Эгина укоризненно:
– Простите, госпожа, я забыл представиться. Атен оке Гонаут, чиновник Иноземного Дома.
– Очень приятно, ― смутилась и, наверное, покраснела черноволосая девчушка. ― Я ― Овель исс Тамай.
Вот этого Эгин не ожидал. Овель исс Тамай. Стало быть, родственница Сиятельного князя, а точнее, его жены. Иногда на ночных улицах Пиннарина можно встретить простоволосыми и заплаканными таких женщин, аудиенции у которых в иное время в ином месте ты мог бы безуспешно добиваться месяцами.
Хм… оке Тамай. Эгин был порядком удивлен. И даже ― немного оробел. Так значит. Хорт оке Тамай, владелец «Дикой Утки», тоже, должно быть, ее родственник?
– Простите, госпожа, невольный вопрос.
Да-да? ― испуганно откликнулась девушка, прильнув ухом к двери.
– Вам, должно быть, приходится родственником Хорт оке Тамай?
Девушка словно бы окаменела. На секунду, не больше. Но пока эта секунда длилась, ее лицо было лицом каменной женщины с траурного барельефа в тлетворной глубине какого-то фамильного склепа. Склепа рода Тамаев, к примеру.
– Приходится дядей, ― отвечала она, взяв себя в руки.
– Жаль, что ваш дядя не может позаботиться сейчас о вашей безопасности, ― с искренним сожалением проговорил Эгин.
– В самом деле жаль, ― ледяным шепотом отвечала Овель исс Тамай.
Тактичность не была самой сильной чертой характера Эгина, но даже ее было достаточно для того, чтобы прекратить расспросы. Тем более что на улице, по-видимому, назревало нечто более интересное, чем болтовня с хорошенькой девушкой.
Эгин не ослышался. То был собачий лай. Но откуда, милостивые гаазиры? Откуда? А как же указы? Как же городские уложения? Причем собак было, по меньшей мере, две, и, судя по лаю, это мощные, здоровые псы, наподобие тех, что были в фаворе у Вербелины. Да только что они делают на Желтом Кольце?
– Это за мной! ― вздрогнула Овель. ― Они шли по следу, они сейчас будут здесь.
Как ни странно, на этот раз с самообладанием у нее было все в порядке. Никаких слез и истерик. Впрочем, многовато будет истерик для одного раза.
Эгин понял, что самое время взять ситуацию в свои руки. Он отстранил Овель, рванувшуюся к двери, закрыл предательски заскрипевшую дверь на внутренний засов и, стиснув запястье девушки мертвой хваткой, вовсе не напоминающей слюнявое прикосновение чиновников из Иноземного Дома, решительно потащил ее в глубь дома.
Все дома в Желтом Кольце были устроены на один и тот же манер. И этот пустующий дом был похож на Дом Голой Обезьяны если не как брат-близнец, то, по крайней мере, как кузен. Жилые помещения ― на втором, третьем этажах. На первом ― людская, кухня, конюшни и отхожие места. Коль скоро дом сдается, а значит, пока пустует, должен быть пуст и первый этаж.
Сторож, конечно, не дурак и предпочитает дрыхнуть в самом роскошном из господских покоев. Вдобавок он наверняка мертвецки пьян ― надо же, даже запамятовал запереть двери на ночь (днем двери домов, отведенных под съем, никогда не запирались, чтобы всяк желающий мог зайти внутрь и примериться к роли нового хозяина апартаментов). Это означало, что существовала вероятность того, что черный ход, который выводит во внутреннее Желтое Кольцо, где вьется сточная канавка, в которую впадают речки, начинающиеся в отхожих местах, остался, как и парадный, открытым. На него-то и рассчитывал Эгин.
Внезапно у самого черного хода Овель встала как вкопанная и, воззрившись на Эгина своими бездонными карими глазами, сказала:
– Я боюсь, что у вас будут неприятности, милостивый гиазир Атен оке… оке… Неважно. Лучше бы вам, наверное, уйти.
– Так вы передумали идти к Северным воротам? ― переводя дух, поинтересовался Эгин не без некоторой издевки.
– Можно сказать, что да, ― сказала Овель, и ее глаза налились слезами.
Эгин зло сплюнул на пол. От этого белого аютского во рту всегда горько. Мерзавцы добавляют что-то к винограду, чтобы он быстрее бродил. Цепкие пальцы Эгина несколько ослабили хватку. Затем он окинул Овель исс Тамай недоуменным взглядом. Растрепанные волосы, даже не причесалась, дурочка. Очень богатые серьги. Ценой в целую конюшню из пяти голов. Наспех зашнурованное на груди платье с какими-то благородными вензелями. Оке Тамаев, надо полагать. Белая нижняя юбка выглядывает снизу трогательно и очень по-детски. Она порвана и чем-то испачкана. И босые ноги тоже, разумеется, грязные.
Ресницы Овель дрожали. Уголки губ поползли вниз. Эгин стиснул зубы. Он сызмальства терпеть не мог плачущих женщин. К числу несомненных добродетелей Вербелины исс Аран можно отнести то, что она ни разу не плакала при Эгине. Ни с корыстными целями, ни с бескорыстными. Впрочем, о Вербелине исс Аран Эгин в тот момент даже не вспоминал.
– А я не передумал, девочка. А мне самый раз прогуляться к Северным воротам, ― медленно и внятно процедил Эгин и стал возиться с засовами на двери черного хода.
«Зачем? Что я делаю? Что происходит?» ― Ни тогда, ни после Эгин так и не смог дать полного и исчерпывающего ответа на эти простые вопросы. В тот момент он понимал только одно: эту странную девицу, родственницу Сиятельного князя, ни в коем случае нельзя оставить на поживу людей, без всякого страха разгуливавших по Желтому Кольцу со своими четвероногими волкодавами.
– Это еще что такое? ― раздался хриплый голос откуда-то сверху.
Сторож. Ясное дело, это он. Странно, как еще раньше не проснулся. Овель схватилась за локоть Эги-на. «Ага, все-таки не хочешь оставаться!» ― хмыкнул Эгин, не отрываясь от своей возни.
– Я спрашиваю, что вы, двое блудников, тут делаете, парша вас возьми! ― сторож спускался вниз. В руках у него был допотопный масляный светильник. ― Вы что же тут, спаривались не по правилам? В честном доме господина Малла? Пользуетесь тем, что старый человек прилег на часок отдохнуть? И откуда такие только берутся! С виду благородные, а по чужим домам шастают…
Каждый новый риторический всплеск сторожа сопровождался отчаянным скрипом ступеней лестницы. Старый человек прилег отдохнуть! Надо же! Эгин бросил оценивающий взгляд на сторожа, благо лампа отлично освещала его заросшее щетиной, обрюзгшее лицо. Да ему наверняка не больше сорока! Как, собственно, и Норо оке Шину. А как представляется возможность побрюзжать, так такие тут же примазываются к убеленным сединами старикам!
Наконец-то дверь поддалась и распахнулась в сырую бесприютность Внутреннего Кольца. Эгин обернулся ― сторож был уже совсем рядом. Этот пьяный хрыч, разумеется, не опасен. Он безоружен. А если бы даже и был он вооружен, что такое сторож против офицера Свода Равновесия? Самое подлое и с какой-то точки зрения правильное, что он может сделать, это начать бить в пожарный колокол. Дескать, «Грабят! Горим! Прелюбодеи!». Колокол. Шум… Эти люди с собаками, пожалуй, будут обрадованы и пожалуют сторожу, упростившему их маневры, пару медных авров. А что пожалует ему сам Эгин?
– Эй вы! ― нарочито развязно начал сторож, стоя на почтительном отдалении. ― Я знаю, что вы тут делали, и сейчас же об этом узнает вся округа. Но я знаю способ. Мне он нравится.
– Сколько? ― спросил Эгин, заслоняя своей спиной Овель, совершенно ошалевшую от неожиданности и стыда.
«Бедняжку небось не учили, что оскорбления нужно глотать с тем же равнодушием, с каким больной глотает микстуры. Вдобавок она небось ожидает, что за прозвучавшее обвинение мне как чиновнику Иноземного Дома придется ни много ни мало, а вызвать этого пьяного мудака на поединок. На поединок!» ― Эгином овладела какая-то беспричинная веселость.
Сторож, почесав пятерней затьшок, тупо шевелил губами и загибал пальцы на правой руке. Масляную лампу, чтоб не мешала, он поставил на пол. Что-то складывал, вымерял или просто бормотал под нос что-нибудь вроде: «Только б не продешевить, только б не продешевить!»
– Быстрее, а то не получишь ничего! ― с нажимом сказал Эгин.
Он не то чтобы нервничал: Но он знал, что люди с собаками отыщут их укрытие очень быстро. То есть в запасе не более пяти-десяти минут. Потом они станут стучать в дверь. Потом выломают ее. Потом… Но нет, потом они с Овель будут уже мчаться к Северным воротам. Эгин ― на Луз. А Овель ― на гнедом грютском Вакире. А может, даже не так ― он оставит Овель у себя до утра. А утром, когда народу на улицах будет не протолкнуться, тогда они и поедут. Или еще лучше. Он оставит Овель у себя и они вообще никуда, никуда не поедут… Если бы у Эгина было время дивиться собственному ходу мыслей, он, пожалуй, удивился бы.
– Ладно, шесть, нет, семь золотых… И никто ничего не узнает.
– Четыре, и ни одним больше, ― отвечал Эгин. ― Если не нравится, придется мне вышибить мозги из твоей пьяной башки.
Тактика общения Эгина со смердами никогда не отходила от золотого правила «кнута и пряника».
– Твоя правда, четырех хватит. Давай сюда!
Эгин подошел поближе к свету. Извлек из сарнода четыре монеты ― золотые не золотые, ему без разницы ― и, приблизившись на два шага, подал их сторожу на открытой ладони. Словно корм ручному зверю.
Сторож, алчность которого тут же затмила все прочие чувства, взял лампу и сделал два шага навстречу Эгину.
– С-сука, ― вот что успел прохрипеть сторож, когда нога Эгина, обутая в сандалию Арда оке Лайна, достала его пах в беззастенчивом ударе, а ребро ладони Атена оке Гонаута опустилось на его затылок. Преклонив колени перед Эгином, сторож медленно осел на пол. Эгин обернулся к Овель ― к счастью, она не в обмороке. А значит, еще один удар носком будет кстати.
– Все, ― заключил Эгин, направляясь к черному ходу.
«Хотя нет, не все». Он остановился и бросил на пол перед сторожем четыре монеты. Быть может, среди них отыщется и одна золотая.
Прошедший дождик казался Эгину пустяковым, когда он шел по внешней стороне Желтого Кольца, вымощенной желтым песчаником. Лужи бьши мелкими, ручейков не было и в помине. Внутренняя часть Желтого Кольца выглядела конюшней после потопа. Канализационные канавки вышли из берегов, и нечистоты разлились по всей ширине улочки.
Овель подняла юбку и зажала ноздри. Эгин, не страдающий брезгливостью, пожалел о том, что не надел сапоги. Каждый их шаг сопровождался хлюпаньем нечистот и частым дыханием Овель. Эгин с надеждой смотрел вперед. Он очень редко удостаивал посещением эти места, оставляя эту привилегию слугам, рабам и иностранцам, а потому ориентировался здесь довольно посредственно. Впрочем, его чувство пространства и расстояния подсказывало ему, что до дома Голой Обезьяны оставалось не менее двадцати минут хода. С такой-то скоростью. Он сам мог идти, по меньшей мере, втрое быстрей, но вот Овель! Пока Эгин предавался этим мыслям, Овель, трогательно ойкнув, умудрилась поскользнуться и упасть на колени и упереться загодя выставленными ладонями прямо в скользкое дно канавы. Вот так. Руки благородной госпожи по локоть в вонючей маслянистой жиже, источающей запах перестоявшей мочи и крысиного ― почему-то крысиного ― кала.
– Послушайте, госпожа, будет лучше, если я понесу вас. Разве нет?
– Нет, ― с подростковым упрямством буркнула Овель, поднимаясь и отирая руки о подол.
«Зажимать нос рукой теперь довольно глупо», ― отметил про себя Эгин. На периферии его сознания отпечатался обрывок собачьего лая. Или показалось?
– Может, и нет, а я все-таки понесу, ― твердо сказал Эгин.
Не давая Овель опомниться, он подхватил ее худенькое тело на руки и двинулся вперед. К счастью, Овель была легка, словно барашек.
Тем временем становилось все мельче и мельче, а значит, нести Овель становилось все легче и легче. Да и к запаху Эгин уже успел притерпеться. Овель, безропотно обхватив Эгина за шею своей тонкой ручкой, была безмолвна. Ее грустные глаза блуждали по глухим, без окон стенам домов. Что она пыталась там увидеть?
Эгин остановился. Дом Голой Обезьяны должен быть теперь в пяти, ну максимум десяти минутах ходьбы. Только бы слуги не спали. А то придется барабанить в дверь битых полчаса. Только бы Амма не спал. Тэн, тот, конечно, услышит первым, но так как он глухонемой, ему придется делать вид, что не слышит. Да и плевать ему на стук в дверь черного хода! Хозяин-то ведь не имеет дурной привычки являться домой через черный ход, а остальные его вообще не интересуют, как и всякого нормального соглядатая Свода Равновесия. Если кто-то из чужих слуг услышит его, Эгина, стук ― еще хуже. И сплетни, и кривотолки, а там кто-то донос сподобится написать в Свод Равновесия! Ха-ха.
И тут он снова услышал лай. Не издалека, как ему показалось в первый раз. А изнутри. Из дома, что ли? Овель вскрикнула. Кажется, она что-то заметила. Всадник всегда замечает точку на горизонте быстрее лошади.
– Эй ты, парень, поставь девочку на крыльцо, а сам вали отсюда!
Да, это был непростительный промах. Коллеги из Свода подняли бы его на смех. Из-за хлюпанья воды не расслышать, как к тебе подкрался противник? Да такое даже салаги себе не позволяют. И то, что он, Эгин, все-таки слегка пьян, и то, что в голове у него ― костюмированный бал еще со вчерашнего вечера, все это, в общем-то, не оправдания.
Овель дрожала всем телом. Эгин аккуратно поставил ее на ноги. На крыльцо ― не дождетесь, а вот на ноги ― пожалуйста. Меч выпорхнул из ножен Атена оке Гонаута. Овель закусила нижнюю губу и, кажется, приготовилась реветь опять. Но Эгину было не до этого.
Два пса. При псах ― трое: Это явно те, которые шли за Овель по внешнему, мощенному камнем Желтому Кольцу. Собачки привели их куда следует. Они наверняка ворвались в дом, обнаружили валяющегося скрюченного пьяницу сторожа и распахнутую настежь дверь черного хода. А может, он уже оклемался и успел сообщить им, что беглянка не одна. Разумеется, они решили, что догнать Овель будет легче, если идти по мостовой, а не плыть сквозь нечистоты. Они узнали направление движения, обогнали их, а теперь ― не важно уж как ― прошли сквозь дом. Может, слуг перебили, а может, он тоже, Хуммер его раздери, «сдается».
– Я не стану разговаривать с вами иначе как на языке стали, пока вы не представитесь, милостивые гиазиры, ― бесстрастно отвечал Эгин, приглядывая пути возможного отступления.
– Милостивые гиазиры! Видал, как загибает! ― заржал один из трех, самый представительный и рослый. ― А не пошел бы ты в пень, такой благородный!
Эгин молчал. Когда против тебя трое, лезть на рожон не рекомендуется. Пусть сначала кто-то из троих допустит промах.
– Я же вам говорила, Атен оке… Атен оке… Я же вас просила, Аген, то есть предупреждала, ― зашептала Овель, складывая руки замком. ― Они выиграли. И я им буду как бы приз. А вы ― уходите.
Точеный носик Овель покраснел, и это было заметно даже в темноте. А глаза ― о да, милостивые гиази-ры, то были глаза жертвенного ягненка. Эгин заложил черную прядь Овель за ее изящное ушко. Улыбнулся ей и, к собственному глубочайшему, хотя и неосознанному в тот момент удивлению, ответил:
– Еще не ясно, кто выиграл, Овель. Может быть, приз достанется мне?
Сказал и подивился собственной наглости. Сыпать двусмысленностями с незамужней родней Сиятельного князя? Норо оке Шин, пожалуй, лишь пожал бы плечами, узнай он об этом.
– Ну чо, нашептались? ― рослый детина в высоких сапогах решительно шагнул в грязь, обнажая меч.
Что ж, первый шаг был сделан. Эгин мягко оттолкнул Овель к стене, ограждавшей кольцо сзади, и вдохнул полной грудью. Трое и две собаки. Это плохо. Но не безнадежно.
– А вы чего стали, сюда! ― скомандовал рослый, обернувшись к своим товарищам.
Те последовали за ним. Похоже, о честном поединке речь вообще не идет. Впрочем, странно, если бы было иначе. Псы безропотно последовали за хозяевами. «Воспитанные», ― в сердцах выругался Эгин.
– Ты чего, благородный? Давно не получал, что ли? ― голос зачинщика был низким, с легкой хрипотцой. ― Захотелось прадедушку проведать на том свете? ― продолжал он, пока его ребята подтягивались к Эгину с боков.
Было видно, что решимость Эгина защищать Овель кажется всем троим странной.
«Он из Иноземного Дома», ― спустившись на полтона ниже, сообщил рослому тот, его товарищ, в охотничьей шапке.
– Да хоть из свиты Сиятельной Сайлы! ― заржал рослый.
«Интересное дело, ― подумал Эгин. ― Эти ребята одеты, как штатские, а хамят, словно гвардейцы Сиятельного князя. Разгуливают по Пиннарину с псами, словно высшие чины Внутренней Службы, и оскорбляют чиновника Иноземного Дома. По виду ― наемники из северян, по речи ― из Урталаргиса».
– Разве вам не известно, какие влиятельные родственники у этой девочки, которую вы сейчас пытаетесь прибрать к рукам? ― не оставляя надежды уладить дело миром, поинтересовался Эгин.
– Знаем, знаем! У нее о-очень влиятельные родственники, ― снова заржал тот, что был за главного.
– Особенно дядя! ― вклинился стоявший поодаль, тот, что придерживал псов.
– Они-то нас и послали, господин хороший, так что дела твои швах, ― авторитетно добавил третий, обнажая свой короткий и широкий меч.
Случилось то, чего Эгин давно ожидал, ― Овель разревелась. Видимо, упоминание о родственниках действовало ей на нервы похлеще любых сколопендр, ползающих по спине, и гадюк, обнимающих шею холодным чешуйчатым воротником.
– Короче… ― но рослый не успел договорить, потому что Эгин, метнувшись, словно молния, в глубоком выпаде, всадил меч ему прямо в живот, который, к счастью, не был защищен даже дрянной кольчугой. Всадил на половину длины лезвия. И тут же начал обратное движение. Трюк опасный, но иногда крайне эффективный.
Остатки хмеля слетели с Эгина в тот же миг. Ают-ское, истерика Иланафа, философствования Онни и даже милые влажные губки Овель ― все это уже не существовало для него. Оставались только двое вооруженных мужчин и два свирепых пса, воспитанность которых может обратиться нападением в любой момент.
Так же стремительно Эгин извлек меч из раны и отскочил на два шага назад. К стене. К Овель. От неожиданности она даже перестала всхлипывать столь отчаянно. Рослый заскулил, скрючился, ухватился за рану и упал на спину, в помои. Наконец-то он осознал, что с ним произошло. Осознал, когда повалился спиной в нечистоты, покрывшие его с головой. И ослиная моча вкупе с кухонными отбросами, грязь вперемешку с теплыми каплями ночного дождя были ему саваном. Если такие, как он, вообще заслуживают савана.
Внезапность ― половина победы. Все это верно. Но всякий знает, что, взяв врасплох одного врага, ты вынуждаешь оставшихся на удвоенную осторожность и жестокость.
– Спускай, Ракку, ― бросил товарищу второй, тот, что разглагольствовал о дяде Овель, отступая. Похоже, таланты писаки вершить суд жизни и смерти не подлежали теперь сомнению, и он просто струсил. Меч, однако же, прятать не спешил.
Псарь что-то шепнул своим питомцам, и те, не издав ни единого звука, бросились на Эгина под одобрительное улюлюканье обоих провожатых. Обе твари были кобелями. Черными, с обрезанными ушами и хвостами. Поджарыми, мускулистыми, сильными, откормленными. Эгин не очень хорошо разбирался в псах, потому что терпеть их не мог, но даже его знаний было достаточно для того, чтобы понять ― они обучены держаться до последнего, нападать на вооруженного человека, останавливать бегущих и ударом лап вышибать из седла всадника.
При Эгине был только меч. Причем так называемый «салонный меч». Кто бы мог подумать, что вечеринка у Иланафа будет иметь столь неожиданное продолжение? Как и всякий салонный меч, клинок Эгина был тонок, слегка искривлен и имел очень длинную рукоять с избыточно декорированной гардой. Для того чтобы давать отпор псам, хорошо бы располагать чем-то более длинным и более увесистым.
Самое лучшее отступать к стене, когда обе собаки присели для прыжка, предварительно изучив характер обороны Эгина. Одна из них обязательно погибнет. Но зато другая обязательно достанет Эгина, Меч которого будет все еще вонзен в тело первой.
Он всегда ненавидел собак. Иногда стеснялся этого. Особенно с Вербелиной. Но в тот момент, глядя на их пасти с желтыми зубами, на пасти людоедов, а отнюдь не вегетарианцев (от Вербелины Эгин слышал, что в отдельных состоятельных дворах этих тварей кормят человечиной кровожадные самодуры вроде того же Хорта оке Тамая, но он тогда не поверил), он поклялся, что никогда и ни за что не потреплет за ухом ни одну псину, будь она хоть с голубя величиной.
Под бодрое улюлюканье псаря собаки прыгнули в сторону резко отступившего на четыре шага по диагонали Эгина. «В этот раз не попадут, но в следующий!» ― Эгин не успел закончить свою мысль, ибо истошный крик Овель тут же свел на нет его планы.
– Сэм-ми-са! ― истошно завизжала она. ― Сэм-ми-са!
Эгин обернулся. С Овель было все в полном порядке. Она была жива, невредима и разъярена, словно тигрица. Конечно же, испугана. Но, по крайней мере, больше не плакала. Но самое любопытное ― это то, что она обращалась отнюдь не к Эгину. И не к своим преследователям. Она обращалась к псам. И псы, похоже, прекрасно слышали ее.
Они оба, словно бы получив обухом по голове, смиренно сидели теперь в пяти локтях от Эгина. Да, они были недовольны, что та неукротимая жажда крови, что блестела в их глазах, осталась невостребованной, а голод ― неудовлетворенным. Но они слушались ее. Слушались эту глупую девчонку!
Тут уже и псарь понял, что произошло. "Теперь ясно, как эта дрянь смылась из «Дикой Утки», ― бросил один преследователь другому.
– Командуй, давай-давай, ― второй вместо ответа ткнул его в бок локтем.
– Саа! Саа! ― закричал псарь. Для шепота расстояние было слишком велико.
Это словцо знал даже Эгин. Благодаря Вербелине. «В принципе, ― объясняла увядающему от скуки и отвращения возлюбленному Вербелина, ― каждый, кто держит собак, может тренировать их на свои собственные слова. Но да только обычно все пользуются известными, когда речь идет о простых вещах. Но, представь себе, есть любители играть со своими собаками в Свод Равновесия. Такие недоумки, милый, имеют специальные пароли для общения с собаками». «А ты?» ― вот что нехотя спросил тогда Эгин, просто чтобы как-то поддержать разговор. «А у меня есть только один шутейный пароль, ― Вербелина расцвела в улыбке. ― Когда я говорю „энно“, самые сообразительные из них делают обратное сальто через голову».
Тогда Эгин не придал этому разговору никакого значения, хотя и не забыл. Тем, кто страдает провалами в памяти, в Своде Равновесия не выжить. Он запомнил весь тот разговор до мельчайшей детали. И не пожалел об этом. Когда Овель заорала «сэм-ми-са» в очередной раз и собаки снова стали как вкопанные, Эгин понял две вещи.
Во-первых, что Овель каким-то образом был известен пароль, запрещающий обыкновенное «са» этим псам. Да и псов она, похоже, тоже знала, судя по тому, что по отношению к ней они не проявляли ни злобы, ни агрессивности. Самое большее ― служебный интерес. Во-вторых, что настала пора действовать, и действовать незамедлительно, потому что это довольно глупо заставлять Овель орать каждый раз, когда псарь посылает своих питомцев в атаку. Не дожидаясь очередного «са», Эгин в три прыжка достиг ближайшей твари и снес ей голову косым поперечным ударом. А затем, изо всех сил пнув вторую тварь, в тот момент слишком поглощенную дилеммой двоевластия, проделал ту же операцию и с ней.
«Даже четвероногих иногда подводит излишняя воспитанность», ― вот каким трюизмом сопроводил воспоминание об этом Эгин двумя днями позже.
«Что ж, судьба раздает мне авансы» ― вот что подумал Эгин, надвигаясь на двух оставшихся преследователей Овель, которая оказалась совсем не такой бесполезной в этой ночной драке, какими обыкновенно оказываются прекрасные спутницы чиновников Иноземного Дома.
Псы лежали обезглавленные на мелководье в канаве нечистот. Неподалеку от них намечался труп первого хама ― главаря преследователей. «Даже если рана не смертельная, после такой дозы дерьма его кишки едва ли заработают вновь», ― бесстрастно и безо всякого злорадства заключил Эгин. Овель с искаженным яростью лицом вжалась всем телом в серую спину дома. Все это значило, что конец кровавой пьесы, разыгравшейся на Внутреннем Кольце, весьма близок. Мечи преследователей блеснули в неярком свете молодой луны.
Чиновник, собирающийся на дружескую пирушку, не берет с собой оружия под левую руку. Не взял его и Эгин. А потому драться с двумя придурками одновременно, у каждого из которых, в отличие от него, было в левой руке по кинжалу, было очень несподручно.
Приходилось следить за огромным количеством вещей, за которыми гораздо легче следить днем. Несмотря на то, что каждый из его противников был не чета Эгину в фехтовальном искусстве, реализовать свое преимущество оказалось весьма не просто. В первую очередь потому, что Эгин дорожил своей жизнью, а вот эти двое, кажется, не слишком. «Они что, смертнички оба?» ― подумал Эгин, утирая пот со лба во время очередной краткой передышки. За минуту до этого псарь попытался подставиться под удар меча Эгина с тем, чтобы дать своему напарнику возможность нанести предательский удар. «Или нет, скорее другое. Кто-то сказал им, чтобы без девки не возвращались. Вот они и стараются, фанатики», ― с презрением подумал Эгин, как-то позабывший о Правиле Двух Игроков, известном всякому офицеру Свода Равновесия и сводившемся приблизительно к тому же самому. Один пес прыгает и устраняет опасность своим телом, а другой завершает его дело.
Эгин принял выжидательную тактику и именно поэтому поединок затягивался. Оба его противника тяжело дышали. Каждый из них втихаря гадал о двух вещах ― кто умрет первым и кто первым даст деру. Оба эти исхода, впрочем, не исключали один другой.
Эгин ждал того, что в фехтовальном классе учителя Занно называли «гороховый верняк». Так молодые питомцы Свода Равновесия называли непростительный промах противника, который приводит к тому, что его становится так же легко поднять на пику, как мешок, набитый горохом, что использовался во время тренировок. И он, разумеется, дождался.
Ослабевший от непривычно долгого поединка псарь занес руку с мечом слишком далеко. Замах вышел нелепым, корявым и гибельным. Эгин не замедлил воспользоваться этим промахом ― минуту спустя псарь глотнул отбросов, судорожно пытаясь удержать жизнь, стремительно покидавшую его сквозь порванный шейный сосуд.
«Ну что Ж, теперь поединок можно назвать честным. Один на один», ― с удовлетворением подумал Эгин, отгоняя Прочь усталость. Как вдруг раздался испуганный голос Овель:
– Атен! Атен! Там еще, посмотри!
Отойдя на безопасное расстояние от своего последнего врага, чьи волосы были настолькомокры от пота, будто он только что покинул купальню, Эгин обернулся.
С другой стороны, со спины к ним приближались еще трое. С двумя такими же черными псами, у которых вместо ушей ― едва заметные лоскутки, а с языков капает липкая обильная слюна. Они неспешно шлепали по воде, стремясь поспеть к развязке действа. Словно бы в охоте на утку.
– Ха! А вот и Овель! Цела и невредима! ― с наигранным удивлением всплеснул руками очередной командир.
– Это ты, что ли, наших поперебил? ― спросил псарь, с интересом оглядывая Эгина, знаков отличия которого уже было не разглядеть ― так он измазался дерьмом и грязью.
– А ты что, последний боец? ― заржал третий, обращаясь, правда, не к Эгину, а к его противнику, молившему всех известных ему богов о спасении несколькими минутами раньше, а теперь возносившему всем богам по очереди благодарственные и хвалебные молитвы.
Эгин быстро оценил обстановку, которая, к сожалению, теперь была очень И очень не в его пользу. Он обессилен. Он слегка ранен. Их трое, они свежи, а также свежи их замечательные псины. Кто знает, пройдет ли у Овель тот же номер, что прошел в прошлый раз? Это означало, что в нем должен вновь воскреснуть дипломат, лицедей, наглец и… и… офицер Свода Равновесия, наконец.
– Я, милостивые гиазиры, ― подтвердил Эгин. ― Эта девущка ― преступница, которой давно интересуется Свод Равновесия. Ее судьба поручена мне. Если у вас хватит наглости пойти против Свода и сразиться со мной, знайте. Мне не составит большого труда одержать победу. Но даже если судьба будет на вашей стороне, никто из вас не проживет дольше завтрашнего вечера. Ибо в моем лице каждый из вас будет сражаться со всеми моими коллегами.
Эгин замолчал. Гости начали переговоры друг с другом, явно удивленные таким оборотом дела. Эгин даже не взглянул на Овель ― он и так был уверен, что глаза у девушки сейчас больше, чем блюдца, на которых в благородных домах подают холодный десерт. Для нее это тоже сюрприз ― вдруг оказаться персоной, которой интересуется, пусть и на словах, офицер Свода Равновесия. Пусть ломают головы! Эгин набрал в легкие воздуха и прислонился к стене. Вот о чем он в тот момент не думал, так это о жуткой вони, которой, казалось, было напоено все вокруг, включая луну и безразличные к происходящему звезды.
Свод Равновесия ― это государство в государстве. Свод подчиняется гнорру. Гнорр ― Сиятельному князю. И более никому. Любой варанец впитывал эти нехитрые истины с молоком матери. И эти молодцы с псами тоже, конечно, впитали, Хуммер их раздери.
Разумеется, решившись на такую чудовищную ложь, Эгин совершал должностное преступление. Ни много ни мало. Во-первых, он открылся людям, о которых толком не знает ни кто они такие, ни зачем им эта девочка. Во-вторых, он сделал это ради особы женского пола, случайно встреченной им после дружеской попойки, стало быть, будучи нетрезвым. Ради нее он солгал, объявив ее преступницей, а себя ― следователем. А в-третьих, а также и в-четвертых, и в-пятых, сейчас ему придется совершить еще более тяжкое преступление ― представить этим ублюдкам доказательства, если они не поверят ему на слово. Причем в отсутствие удостоверяющего жетона ― Внешней Секиры, которой он щеголял давеча перед Гастрогом и которая сейчас преспокойно полеживает у его ложа на ореховом столике о трех ножках, в отсутствие этого вот самого жетона, факт предъявления самого веского "из возможных доказательств ― Внутренней Секиры ― не может остаться незамеченным начальством. А именно ― Норо оке Шином.
Они, конечно же, не поверили.
– А чем докажешь, офицер? ― соединив в этой фразе наглость и опасливый подхалимаж, спросил, как ни странно, его последний, уцелевший таки противник.
Разумеется, все это время его мучил вопрос, почему этот странный псевдочиновник Иноземного Дома не воспользовался своей подавляющей и наводящей страх привилегией сразу, пока его товарищи и псы еще были целы и невредимы. Да и что тут странного ― откуда этим уголовникам знать, что и как в Своде Равновесия.
– Вот именно! Кто его знает, может, ты гониво гонишь, а, дружок? ― подтвердил псарь, почесывая псину за ухом.
Что ж, это не было для Эгина неожиданностью. На изумленных глазах наблюдателей Эгин отер меч о платье. Затем, слегка наклонившись к своему правому плечу, аккуратно взрезал рукав платья. Затем очистил от смердящего тряпья кожу ― рукав полетел под ноги, и Эгин стал выглядеть отчасти балаганным шутом. А затем произошло нечто совсем странное и никем из присутствующих ― в том числе и самим Эгином ― доселе невиданное.
Эгин, не изменившись в лице, взрезал сначала кожу, затем мышцу. Затем все тем же острием клинка раздвинул кровоточащие ткани в обе стороны. Все это заняло не более трех минут. Можно было бы даже предположить, что в технике обнажения перед всякими безродными идиотами Внутренней Секиры Свода Эгин тренировался, по меньшей мере, месяц кряду. Кровь стекала к локтю ― бросив на Овель беглый взгляд, Эгин обнаружил, что та зажмурилась. И вот Внутренняя Секира показалась на свет, источая некое бледное, но все же весьма заметное в ночи сияние.
– Оба-на! ― не выдержал один из зрителей. Овель открыла глаза ― пожалуй, ей было приятно узнать, что человек, случайно вступивший в лужу перед крыльцом дома, в котором ей посчастливилось укрыться, оказался ни много ни мало, а офицером Свода. И теперь в этом не было сомнений.
– А можно поближе? ― с невесть откуда взявшимся почтением спросил один из преследователей.
Эгин не ответил, но тот воспринял его молчание как знак согласия, что, впрочем, было в обычае в тех землях, и сделал три скромных шажка, по-гусиному вытягивая шею. Остальные не двигались.
– Мужики, там, Хуммер меня разбери на этом самом месте, ― залопотал любопытный, ― там это, два глаза. Один мне только что подмигнул. Как есть подмигнул, мужики!
Как выглядела Внутренняя Секира, знал каждый ― такая же точно венчала купол Свода Равновесия. Никто не отваживался подступиться ближе. Эгин затворил рану пальцами и выжидающе посмотрел на остальных.
– Ну, кто-то еще претендует на эту девочку? ― зло и недвусмысленно процедил он.
Ответа не последовало. «Лучше пусть нас хозяин повесит, чем к этим в подвал попасть», ― сказал остальным тот, что подходил полюбоваться на пугающее чудо Внутренней Секиры. Эгин услышал, хотя и сказано это было в некотором удалении. Очень скоро четыре человеческих и два собачьих силуэта скрылись за дверью черного хода так и неопознанного Эгином дома.
Эгин улыбнулся Овель, которая, несмотря на удачный исход всей этой затянувшейся сцены, была мрачнее тучи.
– Так как же мне вас теперь называть, милостивый гиазир? ― робко спросила она, краем уха слышавшая расхожую присказку о том, что у тех, кто работает в Своде, столько же имен, сколько блох на неухоженном лошадином крупе.
– Зови как хочешь, ― примиряюще сказал Эгин, пытаясь перевязать руку поверх раны витым шелковым шнуром, на котором раньше болтался поясной сарнод.
– Давайте я, Атен, ― с вымученной улыбкой отвечала девушка, ради которой Эгин и влип во всю эту историю.
Вопреки опасениям Эгина, слуги не спали, а дверь черного хода оказалась не заперта ― наверное, кто-то из чужих слуг втайне от спящих соседей Эгина по дому отправился на поиски приключений и оставил ее открытой. Таким образом, ни стучать, ни объясняться не пришлось.
– …И вот представь себе, Тэн, молния ему прямо в голову ударила. А могла бы и в меня! Мы ведь рядом стояли. Ну, думаю, сдохнет как есть! Но тут еще один мужик, он сотником сейчас служит, он тут подбежал и орет мне, как оглашенный ― рой землю, рой землю быстро! ― в людской, как обычно, разглагольствовал Амма. А Тэн, как водится, ― мычал и жестикулировал.
«Хоть и глухой, а не дурак послушать», ― промелькнуло в голове у Эгина по поводу всего этого бреда. Впрочем, у самого Тэна по поводу этого имелось готовое объяснение ― он, мол, отлично читает по губам.
– Ну я начал рыть, что твой крот. Земля мокрая, я быстро вырыл яму. И тогда мы того бедолагу закопали в сырую землю, как мертвяка. Только нос оставили. Я, конечно, не поверил, что это помогает. Но сотник знай твердит ― поможет, поможет. И правда помогло, Тэн. Помогло! Я-то думал, он сдох ― шутка ли, молния ударила. А он возьми да и оклемайся через часок-другой….
Но Тэн вместо обычного во время таких россказней товарища одобрительного мычания вздрогнул и указал Амме на дверь. Шаги с черного хода. Двое. Хозяин? А если не хозяин?
Амма бросился к печи и схватил кочергу, Тэн мигом достал свой мясницкий нож с широченным кривым лезвием. Дверь распахнулась.
– Хозяин? ― недоуменно и растерянно спросил Амма. ― А отчего не с парадного?
Но у Эгина не было ни сил, ни желания держать перед слугами отчет.
– Постелите этой девушке в моей спальне. А мне ― в фехтовальном зале, на сундуке.
– Будет сделано, ― ответствовал оторопевший Амма. А Тэн полностью погрузился в размышления о том, каким образом будет отстирывать платье хозяина завтра поутру. Может, лучше сразу выкинуть?
Овель прятала глаза. Все-таки это очень необычно ― являться за полночь в дом к офицеру Свода Равновесия, которого ты видишь первый раз в жизни. Впрочем, выбора у нее не было.
«Придет? Не придет?» ― вот какая мысль вертится в голове у каждой столичной содержанки, когда она лежит в своей постели и глядит в потолок сквозь кисею балдахина. По мнению Онни, по крайней мере.
В ту ночь строй мыслей Эгина, лежащего на сундуке, набитом мечами, алебардами, деревянным тренировочным оружием, защитными масками, поножами и метательными кинжалами, был не слишком далек от строя мыслей продажных, но честных девушек.
Он лежал с открытыми глазами и следил за безвкусными ветвлениями лепного винограда, покрывающими потолок фехтовального зала. Дверь он нарочно оставил незапертой. После купальни он был чист, словно паж супруги Сиятельного князя Сайлы исс Тамай. На удивление бодр. Рана, которую Аима, претендовавший на сведущесть в вопросах излечения и отравления, залил какой-то пакостью и перевязал, совершенно не докучала ему. Но Овель все не шла.
«Да с чего я, собственно, взял, что она вообще должна прийти? Я бы на ее месте и не подумал о таком развлечении, как ночная болтовня с офицером Свода Равновесия». ― Эгин сел на своей импровизированной постели. Он не узнавал себя. Не узнавал. С каких это пор его стало волновать, явится ли пожелать ему доброй ночи девушка или не явится?
Но не успел он сказать голосом Вальха очередное и последнее «успокойся!» самому себе, как дверь распахнулась, и Овель, босая, одетая лишь в одну батистовую рубаху с плеча самого Эгина, показалась на пороге фехтовального зала.
– Ого! ― грустно сказала она, оглядывая совершенно пустую и оттого кажущуюся необъятной комнату. ― Я вижу, вам тоже не спится! ― добавила она, как бы извиняясь за вторжение.
Сердце Эгина бешено колотилась. Кровь стучала в ушах, а язык, казалось, на время перестал выполнять даже простейшие приказания своего владельца. Так всегда бывает, когда чего-то ждешь очень долго и вдруг это желанное «что-то» появляется и застает тебя врао-плох. Застает взволнованным и нелепым.
– Я… мм… очень рад видеть вас, госпожа Овель. Мне тоже, знаете ли, не спится.
Эгин не солгал ни в первом, ни во втором. Быть может, он даже слишком рад ее видеть. Она даже еще не успела приблизиться к нему на расстояние кинжального броска, а любовный зуд, ударивший в чресла, уже казался ему почти нестерпимым. «Я заслужил ее, заслужил», ― носилось где-то среди непрошеных мыслей об Обращениях и Изменениях.
– Я так и думала, Атен, иначе бы не пришла, ― смутилась Овель. ― Я просто хотела объяснить вам, что там на самом деле происходило. А то дико как-то получается. Вы рисковали своей жизнью и тащили меня по этой грязи, вы ранены" и вдобавок у вас с плечом… А вы даже не знаете, ради чего все это!
Эгин намотал простыню на чресла и, отодвигаясь на самый край сундука (чтобы случайно не спугнуть наверняка чрезвычайно щепетильную молодую госпожу исс Тамай), по-мальчишески поджав ноги, предложил Овель место поодаль от себя. К счастью, она воспользовалась его приглашением. Впрочем, сесть больше было некуда. Разве что на пол, застеленный кое-где матами.
– Как вы себя чувствуете, госпожа? ― куртуазно поинтересовался Эгин, больше всего радея о том, чтобы легкая дрожь в голосе не выдала его волнения.
– Да мне-то что, Атен. Я только стояла поодаль и сидела у вас на руках.
Повисла пауза, какая обычно возникает вслед за правдивыми ответами на вежливые вопросы.
– Вы очень хорошо сидели, Овель, ― улыбнулся Эгин.
Пожалуй, в тот момент он был полностью уверен, что готов сидеть на этом сундуке хоть до завтрашнего вечера, лишь бы Овель продолжала говорить. Говорить любые глупости. Лишь бы звучал хрусталь ее голоса и доносились до него легкие флюиды благовоний, утонченный запах которых источало совершенное тело его ночной гостьи.
– Это были люди моего дяди. Хорта оке Тамая. Вот почему они были такими Наглыми. Я знаю в лицо кое-кого из них. И собак, разумеется, тоже знаю, ― запинаясь и бледнея, начала Овель. ― Я их видела в поместье «Дикая Утка». Вы наверняка знаете, о чем я…
– О да, конечно, маленький Варан посреди большого Варана, как говаривал по поводу «Дикой Утки» один из моих приятелей, ― откликнулся Эгин.
– Их послал за мной дядя, потому что мне повезло сбежать два раза. Один раз я сбежала из «Дикой Утки» в возке одной знатной дамы, приезжавшей погостить. Она сжалилась надо мной, И я спряталась у нее в ногах, свернувшись клубочком, а она накрыла меня пышным подолом своей юбки. К счастью, я вешу немного, а поэтому двое даллагов, что тащили возок, ничего не заметили. Так, в ногах у этой дамы я и проделала весь путь до столицы… Потом едва разогнула спину, как будто это я возок тащила, ― хохотнула она, забыв о том, какой грустный, безо всяких там циничных кавычек, рассказ собиралась преподнести Эгину.
Эгин улыбнулся. Представить себе Овель, впряженную в возок, было так же забавно, как представить гнорра зазывалой в портовый трактир, где вши величиной с форель.
– Насколько я понимаю, это было вчера? ― осведомился Эгин.
– О нет, не вчера, а три дня тому назад, ― поправила Овель, снова погрустнев. ― Моя благодетельница сказала, что из страха перед дядей не может скрывать меня у себя. А потому она, пойдя на хитрость перед возчиками, выпустила меня где-то у Северных ворот, отдав все свои наличные деньги и даже два перстня.
– А потом, что было потом?
– Потом было плохо и совсем не интересно. Я пыталась уплыть морем, но, когда я добралась до порта, я обнаружила, что о моем бегстве уже известно в «Дикой Утке» и люди с собаками обыскивают корабли именем Сиятельного князя. В общем, я решила придумать что-нибудь получше, путая следы. Я даже намазала свои туфли специальным снадобьем, которое, по уверениям бабки, продавшей его, отбивает след, когда на тебя охотятся с собаками. Но этим собакам, видно, все нипочем. Или снадобье оказалось липовым, ― вздохнула Овель.
– Скорее собаки оказались настоящими, ― зло сказал Эгин. ― Не знаю, что там было за снадобье, но то, что эти псы взяли наш след, когда мы шли по сточной канаве, говорит о том, что…
– Что? ― в нетерпении спросила Овель.
– Что это не совсем обычные псы… ― начал Эгин, и вдруг его взяло такое зло на всех ― на Вербелину, на Хорта оке Тамая, на Гастрога, ― что он поспешил сменить навязчивую собачью тему на любую другую. ― Неважно. Так что было дальше?
– Они меня поймали. Выследили и поймали. Меня поймал дозор из трех человек и двух, ну этих…. Собственно, это были те, которым посчастливилось уйти от вас живыми. Они заперли меня в гостинице, в которой я остановилась, и позвали за своими. Это было полдня тому назад. Прошлым вечером…
– Но вам снова удалось бежать! ― с неподдельным восхищением воскликнул Эган.
– Угу. Я вылезла через окошко под потолком, ― скромно ответила Овель. ― Я ведь не очень толстая… Но, к сожалению, мне опять не повезло. Меня поймали!
И тут случилось то, чего никак не учел Эгин, слишком увлекшийся подробностями этого дознания. Овель снова заревела, уронив голову на руки. «Ну и плакса эта госпожа!» ― вздохнул Эгин, поглаживая Овель кончиками трепещущих пальцев по блестящим черным, а быть может, каштановым ― в сумерках не очень-то разберешь ― волосам. В первый раз в жизни ему выпало сыграть роль утешителя столь прекрасной, столь плаксивой девушки.
Никогда не определишь тот момент, когда невинные поглаживания становятся предвестниками страстной ласки. Да Эгин и не собирался этого делать. Рах-саванн умер в нем вместе с пробуждением чувства, столь мощного, что оно, пожалуй, смогло бы умертвить и осознание того, что отец «…назвал его Эгин».
Он шептал ей слова утешения, покрывая робкими поцелуями ее волосы, а она не протестовала. Он обнял ее и поцеловал в батистовое плечо ― правда, она стала реветь еще более прочувствованно, но, по крайней мере, не сопротивлялась и не отстранялась. Затем он освободил от прядей ее мраморную, белую шею и поцеловал ее со всей нежностью, на которую вообще был способен, а она лишь благодарно хлюпнула носиком. Он вытирал ее слезы, а она лила их вновь и вновь. Соленые капельки стекали по ее лицу и падали на пол, на сундук, набитый воинственным барахлом, на горячие ладони Эгина. Он ловил эти слезы, как дети ловят капли долгожданного дождя. И он благословлял их, как земледельцы благословляют грозу, нагрянувшую после долгой засухи.
– Ты мне нравишься, Овель. Ты мне нравишься, девочка, ― шептал Эгин, в упоении лаская ее тело. Но она не отвечала ему. А может, и отвечала, но разве разберешь что-нибудь, когда слезы шумят, словно дождик, а длинные влажные ресницы щекочут твою щеку.
Эгин посадил Овель себе на колени. Простыня, разумеется, уже давно была не у дел. Она валялась на полу, напоминая о затянувшейся прелюдии. Туда же отправилась и батистовая рубаха Эгина, скрывавшая скульптурную наготу Овель исс Тамай. Казалось, Овель не была смущена, а лишь прятала лицо среди прядей, чтобы не показаться распущенной. Ее ручки, маленькие белые ручки обвили шею Эгина с трогательной, доверительной нежностью, а ее губы уже отвечали поцелуем на поцелуй. Ее огромная серьга в виде клешни какого-то гада, усыпанной сапфирами, покалывала Эгина в щеку, не принося ему боли, но лишь остроту изысканной пряности. Он провел языком внутри ушной раковины своей красавицы. Пусть эта сладкая боль, боль комариного укуса повторится еще и еще.
Эгин сделал большой глоток воздуха, прежде чем набраться храбрости сделать решительный шаг, после которого возврата к стыдливым поцелуям уже нет и быть не может.
«Вербелина, пожалуй, не пожалела бы ни денег, ни жизни, чтобы только навести на эту девочку порчу, узнай она о том, какая пропасть лежит между тем успокоением, которое дарит мне ночь с ней, и блаженством, которое приносит мне один жасминовый запах белоснежной шеи Овель исс Тамай», ― подумалось Эгину, когда тесное объятие слило их тела воедино. «Так и навеки», ― говорили молодые офицеры в конце клятвы быть верными Своду Равновесия. «Так и навеки», ― пронеслось в голове у Эгина совсем по другому поводу.
Эгин толком не знал, сколь много времени прошло. Быть может, час. Быть может, сутки, и на дворе уже рассвет следующего дня.
Их тела, слившись в сладком, усталом объятии, лежали теперь под кисейным балдахином его собственной спальни. Глаза Овель были грустны, а ее трогательные губки с крохотной родинкой в излучине улыбки были сложены в чуть плаксивый бутон. Но она больше не плакала. Прильнув к Эгину, она молчала, время от времени роняя трогательные вздохи. «Я хочу тебе что-то сказать на ушко», ― зардевшись, прошептала Овель минуту, а может быть, вечность назад. «Я слушаю тебя, милая», ― улыбнулся Эгин, заранее потворствуя любому ее желанию. «Я люблю вас, офицер», ― сказала она и спрятала лицо в подушках. Эгин поцеловал ее в плечо.
Он молчал, ибо понимал, что на такие слова он, рах-саванн, с которого, быть может, завтра заживо сдерут шкуру, не имеет права. Он, Эгин, даже не из захудалых дворянчиков. Даже не из купцов. Он, Эгин, ― никто, милостью Свода и гнорра ставший кем-то, Ате-ном оке Гонаутом, например. Он не имеет права произносить слова «страстная любовь» и всех подобных слов. Как не имеет права сочетаться браком. Даже если бы родственники Овель отдали ее за него. Поцелуй. Вот единственный ответ, который заслужило трогательное признание Овель. Понимает ли она, в чем причина такой сдержанности Эгина?
Но все, что осталось невысказанным, договорило тело. Эгин не мог больше сдерживать себя. Не мог более думать об Уложении Жезла и Браслета. А не плевать ли ему на Сочетания и Обращения? А не плевать ли ему на Тэна, на Амму, которые, не исключено, наблюдают за их играми через Зрак Добронравия? Плевать! Язык Эгина прохаживался по белоснежному боку Овель с такой жадностью, как будто ее кожа была спрыснута сладчайшим нектаром беспечной богини любви. Его руки, которые ничто и никто не мог теперь удержать от святотатства, раздвинули ее худенькие бедра, и поцелуй, сбросив маскарадные одежки разре-шенности, стал запретным, безнадежным и непостижимым. То есть таким, каково Второе Сочетание Устами. В тот миг Эгин думал лишь о том, чтобы доставить Овель удовольствие, никак не оплаченное ее телом. Ее трудом. Ее слезами, жалостью и благодарностью. Он хотел сделать ей такой же смелый подарок, какой сделала она, признавшись в любви ничтожному офицеру.
О да, эту фразу Эгин слышал много раз. От шлюх. Чужих и собственных любовниц, более всего заботящихся о том, чтобы мимоходом не нарушить какое-нибудь из Уложения Жезла и Браслета. Но только слетев с уст Овель, она приобрела смысл, который не уместить в узеньком ящичке удачно проведенной ночи. Только в устах ласковой и трогательной Овель эта салонная банальщина прозвучала признанием. Овель металась на постели, уносимая ураганом запретного наслаждения, а Эгин, прильнув к ее плоскому шелковому животу, зажмурился. «Нет, рассвет нужно отложить, по меньшей мере, до завтрашнего вечера».
Несмотря на усталость, ни ей, ни ему не спалось. До суеты утра было еще далеко, и Эгин умолял Овель отдохнуть перед дорогой, которая обещала быть долгой и утомительной. Но тщетно. Умиротворение так и не воцарилось в их душах. Шестикрылый призрак неутолимой страсти не желал покидать спальный покой чиновника Иноземного Дома Атена оке Гонаута.
Овель, крепко обняв Эгина, печально смотрела в пустоту. Эгин смотрел на нее, в сотый раз скользя восхищенным взглядом по ее груди, по ее сладким бедрам и упоительному животу, по ее покатым плечам и лебединой шее, по ее лицу, покрытому смешными веснушками, по ее точеному носику и перепутавшимся каштановым, о да, каштановым волосам. И по ее ушам, отягощенным массивными клешнеобразными серьгами, которые оставались единственным предметом женского туалета, которым не пренебрегли они в своем не объяснимом никакими рациональными доводами порыве обнажить друг перед другом не только тела, но и души.
Лежа вот так, Эгин впервые в жизни осознал, что такое Крайнее Обращение. О да, магия, будь она неладна, рождается именно так. Именно в такие минуты Тонкий Мир отверзает свои ворота, и потусторонние силы ― добрые или злые ― вливаются мощным всесокрушающим потоком. Так рождается магия, за чьими жалкими отзвуками охотится он, Эгин, и все его коллеги из Свода Равновесия. Так рождается крамола. Но ему не было дела до нее, пока свежее дыхание Овель омывало его щеку.
– Но ты так и не сказала мне, почему сбежала от дяди, моя милая, ― неизвестно зачем спросил Эгин, борясь с подступившим таки сном.
– Он спал со мной так же, как это только что делал ты, Атен, ― сказала Овель с горькой усмешкой. ― Ему это нравилось, а мне ― нет.
Эгин закрыл глаза. Столько новостей сразу не выдерживал даже его привычный ко многому рассудок. Он не нашел ничего более правильного, как закрыть уста Овель поцелуем. У них будет предостаточно времени для того, чтобы все тайное стало явным, а все недомолвки ― подробностями.
«Будь что будет» ― вот последнее, о чем подумал Эгин, проваливаясь в пучину сна.
Глава шестая Свод равновесия
Когда Эгин проснулся, первое, что он ощутил, был вкус Овель на его губах и языке. «Второе Сочетание Устами!» ― прогремел страшный голос невидимого и неведомого судьи, который живет внутри каждого офицера Свода Равновесия.
Вторым, не менее острым, но куда менее приятным ощущением Эгина стала боль в левом плече. «Спасение через Внутреннюю Секиру!» ― тот же голос.
Эгин не сдержался и выпустил сквозь зубы слабый стон, пытаясь справиться с нахлынувшим на него раскаленной лавой потоком воспоминаний о событиях минувшей ночи и предшествовавшего ей вечера.
Он ― преступник. Он, рах-саванн Опоры Вещей, ― преступник. В мозгу Эгина лихорадочно перестукивали сотни счетных костяшек. Он хочет сохранить свою жизнь и свое положение. Значит, надо лгать. Лгать, по крайней мере, о том, что произошло ночью между ним и Овель.
Овель! Только теперь Эгин решился открыть глаза. Постель рядом с ним была пуста. И в комнате тоже никого не было.
Он вскочил и ворвался в столовую. Никого. Потом он заглянул в третью комнату, оборудованную под зал для упражнений. Голые стены и большой длинный сундук в углу. Едва ли чиновнику Иноземного Дома следует афишировать свою необъяснимую любовь к хорошему и разному оружию. Чувствуя себя круглым идиотом, Эгин сбегал в спальню за ключами и, вернувшись в зал, открыл сундук. Ну еще бы! Расчлененного тела Овель не было и здесь. Да оно и не нашло бы себе места среди шестов, алебард, деревянных мечей, огромного пучка стрел и заклейменного Онни метательного оружия.
Эгин высунулся из окна во внутренний двор и, адресуясь к окнам, которые были этажом ниже, позвал прислугу. Про дивную веревочку, протянутую раньше через весь двор с чудным колокольцем на конце, он поначалу забыл. Не докричавшись снятого раза, Эгин наконец вспомнил о ней и тут наконец заметил, что веревочки больше нет. Точнее, она есть. Она свисала по стене дома, перерезанная чьей-то доброй рукой.
Эгин покрылся холодным потом. Утро было уже отнюдь не раннее. Жара и духотища. Типичное летнее утро в столице Варана. Но посреди варанского лета рах-саванну Эгину стало холодно. Холодно, словно бы он необратимо погружался в бездонную могилу ― на самое ледяное дно мироздания.
Пройдя по коридору и спустившись на деревенеющих от страха ногах в комнату прислуги, Эгин обнаружил самое худшее.
Дверь была не заперта, а лишь прикрыта. Оба его слуги находились в своих постелях. Они спали. Спали глубоким и ровным вечным сном.
Несмотря на то, что виски начало ломить от неумолимо приближающегося похмелья, Эгин не мог себе позволить выпить ни капли. Он сидел на полу фехтовального зала, на мате, набитом конским волосом, и с пустым взором вертел в пальцах легкий метательный нож хищного алустральского профиля.
Овель исс Тамай бесследно исчезла. Беглый опрос соседей по дому и чужих слуг, который Эгин постарался провести в самой что ни на есть небрежной манере, не дал ничего. Трупы его слуг пока оставались неубранными. При осмотре Эгин довольно быстро обнаружил на их шеях крохотные красные пятнышки, и причина их смерти стала ясна для него, как день. После этого судьба двух соглядатаев, работающих под началом какого-нибудь эрм-саванна, его совершенно перестала интересовать. Они начнут пахнуть часов через девять, а к этому моменту сюда уж подоспеют ряженные могильщиками люди из Опоры Единства.
Сейчас важно другое. Овель исс Тамай, родственница первых лиц государства и его новая любовница (Эгин с грустной улыбкой поймал себя на мысли, что Вербелина как-то сама собой успела приобрести в его глазах статус «старой»), бесследно исчезла. Бесследно исчезнуть из постели рах-саванна ― дело само по себе непростое. А тем более восемнадцатилетней девчонке.
Впрочем, из когтей всесильного дяди Хорта, старого греховодника, тоже ведь вырваться было непросто. «Если она, конечно, не лгала насчет побега», ― заметил Эгин справедливости ради. Эгин сам не понимал почему, но он верил каждому слову этой прекрасной и необузданной жрицы любви. «Впрочем, ― не к месту хихикнул над его мыслями славной памяти однорукий Вальх, ― влюбленный мужчина всегда слушает наречие иных уст».
Овель могла уйти сама. «Куда? Зачем?» Овель могла быть похищена людьми своего дяди. «Как нашли? Как успели? Здесь живет Атен оке Гонаут, дипломат из Иноземного Дома, а не Эгин, рах-саванн из Свода Равновесия». И, наконец, Овель могла быть похищена другой силой, не имеющей отношения к Хорту оке Тамаю. «Какой силой?» Эгину оставалось только мысленно развести руками.
Резкий взрыв боли в левом плече подбросил Эгина на ноги. Да. Да. Да, Сыть Хуммерова! У него не было другого выхода. Он не мог даже и помыслить о попытке к бегству. Если он не придет в Свод Равновесия, его ждет мрачная смерть от пробужденной Внутренней Секиры.
Значит, он должен идти на доклад к Норо. Рассказать все. Кроме бурной ночи с Овель. А потом ― будь что будет.
Страшной силы бросок Эгина вогнал метательный нож в грубую мишень, предназначенную для топоров, на ладонь.
Главная цитадель варанской тайной службы охраны князя и истины, именуемой Сводом Равновесия, находилась в самом центре Пиннарина, на площади Шета оке Лагина, напротив княжеского дворца. Огромное трехступенчатое здание занимало всю южную сторону площади. Северную занимал дворец. Площадь Шета оке Лагина, по уверению придворных пиитов, была самой большой площадью в Круге Земель. И мало кто знал, что Элаево Поле в Орине и Плац Лана в Реме Великолепном все-таки больше. Эгин, например, не знал, потому что никогда не задавался праздными вопросами.
Третья ступень венчалась огромным голубым куполом, Над которым пламенел червленым золотом герб тайной службы ― двуострая глазастая секира. Такая же, как та, которая отвратила его ночных обидчиков с псами. Такая же ― но в сорок раз большая.
Никто, кроме Сиятельного князя и гнорра, не знал точно обо всем, что кроется за фасадом Свода, сложенным из ослепительно белого греоверда. Этот огромный лабиринт, имеющий девять надземных, три (или четыре ― Эгин точно не знал) купольных и, по меньшей мере, четыре (или пять? или семь? ― Эгин не знал и подавно) подземных яруса, этот спрут, распустивший подо всей центральной частью Пиннарина сложную сеть туннелей и потайных ходов, этот рукотворный утес, противостоящий злу вот уже сто девятнадцать лет, был воистину непостижим, как непостижимы луна и звезды на небесных хрусталях. По крайней мере, так внушали офицерам Свода их наставники.
Площадь Шета оке Лагина была окружена Красным Кольцом ― самой престижной улицей Пиннарина, застроенной роскошными четырехэтажными особняками с фонтанами, башнями, оранжереями и прочей дорогой роскошью, которая местами уже успела изрядно обветшать. Все дома на Красном Кольце так или иначе находились под наблюдением Опоры Единства. Среди этих домов были как личные особняки всяких высокопоставленных вельмож из Совета Шестидесяти, крупных военных чинов и корабельных магнатов, так и обычные доходные дома наподобие того, в котором снимал квартиру Эгин. Ну и, конечно, на Красном Кольце располагались самые разные Дома. Внутренний, Морской, Иноземный, Почтовый, Недр и Угодий… И все они, все без исключения, были связаны со зданием Свода Равновесия подземными ходами разного качества и назначения.
Эгину, а точнее, Атену оке Гонауту, нужен был, разумеется, именно Иноземный Дом.
Подземные ходы охранялись офицерами Опоры Единства. Каждый офицер ― обычно эрм-саванн ― знал в лицо всех, допущенных к проходу через данный туннель. Эти офицеры были либо сумасшедшими добровольцами, либо карьеристами (год службы под землей шел за два на поверхности), либо совершившими служебный проступок. Последних было большинство. Эгин точно не знал, но ходили слухи, что они уже никогда не возвращаются в большой мир. Хотя их и кормят соответствующими обещаниями аррумы Опоры Единства.
– Стой! Назови себя! ― таков был гулкий запрос через переговорную трубу.
По ту сторону хитрой двери, литой из полупрозрачного стеклоподобного материала (Эгин не знал, что в древности он назывался лунным, или Хуммеровым стеклом), внутри которого для надежности был частый железный скелет, расплывался и колебался силуэт человека с мечом наголо. Помимо того, что Хуммерово стекло было прочно, как сталь, оно имело удивительную одностороннюю прозрачность. Эгин не мог толком разглядеть собеседника, а тот видел Эгина прекрасно.
Туннель, через который обычно проникал в Свод Равновесия Эгин, охранялся как раз добровольцем. Он прекрасно знал всех, допущенных к этому туннелю, в лицо (это входило в круг его обязанностей) и все-таки никогда не отступал от формальной процедуры.
В общем-то, правильно делал ― ведь Эгин мог и донести.
– Эгин, эрм… рах-саванн Опоры Вещей.
– Рах-саванн? ― в голосе офицера-охранника послышалось легкое недоверие.
– Я получил повышение только позавчера. Возможно, вам еще не успели обновить списки, ― пожал плечами Эгин.
Что-то зашуршало.
– Нет, успели, ― голос офицера чуть подобрел. ― Поздравляю, рах-саванн. Проходите.
Дверь повернулась вокруг своей оси, открывая два совершенно одинаковых с виду прохода. Тут крылась простая, но очень жестокая ловушка. Только правый, только правый проход! Если сегодня четный день месяца, значит, проход ― правый. Если нечетный ― значит, левый! Это вдалбливали каждому офицеру, допущенному к туннелю, по сто раз. Того, кто забывал об этом и в четный день месяца проходил через левый проход, ждал любой сюрприз. Иногда ― просто ведро помоев на голову. Иногда ― молниеносный удар меча офицера-охранника. Иногда ― понижение в звании. Это уже зависело от указаний, измысленных на эту неделю гнорром. Потому что офицер Свода должен быть предельно внимателен всегда и везде. Даже в собственной вотчине. Так говорили наставники.
Несмотря на это, Эгин никогда не мог понять, какой смысл в такой абсурдной и жестокой игре. Несколько раз они с Иланафом пытались придумать сколько-нибудь убедительное оправдание ей, но всякий раз заключали, что никакого смысла нет. И они были правы.
Внутренние помещения Свода Равновесия весьма запутанно делились по принадлежности к Опорам. Туннель Эгина открывался в участок второго подземного яруса, принадлежащий Опоре Вещей. Его кабинет, равно как и кабинет Норо, находился на третьем надземном ярусе. Эгин дошел до конца гулкого коридора с вечно запертыми дверьми (что находится за ними, ему было даже страшно помыслить) и ступил в клеть подъемника. Эгин достал ключ, за утерю которого ему грозила смертная казнь, открыл дверку, под которой покоилась полированная металлическая пластина, и вывел на ней пальцем свое имя. Мелодично звякнули колокольцы, и вознесение Эгина неспешно началось. Эгин не знал, как работает подъемник и, в особенности, как эта Проклятая машина по его имени, начертанном на обычной с виду железяке, распознает необходимый ярус. Но раз уж так происходит ― значит, так надо. В конце концов, подумаешь ― искусно измененное железо!
Подъемник прополз мимо коридоров чужих ярусов, завешенных черными портьерами или перекрытых дверями разной толщины и надежности. Сходить здесь Эгину строжайше воспрещалось. Да он и не хотел. Не собирался.
Плечо болело невыносимо. Все тело Эгина рвалось в не очень-то добрые, но целительные руки Знахаря. Но к тому не попасть, не отчитавшись перед Норо и не получив от него соответствующего разового пропуска.
– Рах-саванн Эгин прибыл из отпуска в ваше распоряжение, аррум! ― по возможности браво отрапортовал Эгин.
– Рад видеть тебя, рах-саванн, ― улыбнулся Норо. ― Но, похоже, отпуск не пошел тебе на пользу. Ты очень, очень бледен.
От внимания Эгина не ускользнул свежий ледок, притаившийся в глубине черных глаз Норо, но делать было нечего. Оставалось игнорировать настроение своего начальника и пускаться с места в карьер.
– Да, аррум. Отпуск не тюшел мне на пользу, ― твердо кивнул Эгин. ― И в свете этого я имею к вам дело безотлагательной срочности.
Зная, что этого все равно не избежать, Эгин стал расстегивать рубаху, продолжая говорить.
– Вчера, возвращаясь с дружеской вечеринки у Иланафа, я встретил девушку, которая отрекомендовалась как Овель исс Тамай и попросила сопроводить ее к Северным воротам. Трое, о которых мне известно, что они являются наемниками Хорта оке Тамая, совершили на нас нападение посредством клинков и псов. В результате под угрозой смертельной опасности я был вынужден вскрыть и продемонстрировать Внутреннюю Секиру, поскольку Внешнею я, согласно предписаниям, оставил дома как находящийся в отпуске. После чего Овель исс Тамай осталась у меня ночевать. Проснувшись сегодня утром, я обнаружил, что Овель исчезла. Своих слуг я обнаружил мертвыми. Они были убиты при помощи «иглохвоста». Вкратце все.
Эгин снял рубаху, развязал повязку и продемонстрировал Норо рану, края которой уже заметно пожелтели.
– Можешь одеваться, ― махнул рукой Норо. ― А теперь сядь и расскажи все не вкратце.
– И ты с ней, конечно же, не вступил в любовную связь? ― таков был первый вопрос Норо после того, как Эгин очень обстоятельно и в целом правдиво поведал свою историю, изнывая от боли в левом плече, где, казалось, неведомые и злобные уста раздували пригоршню раскаленных углей.
– Нет, аррум, ― отрицательно мотнул головой Эгин. В этом вопросе он решил стоять на своем до конца. Если потребуется ― до самого конца. Потому что мужчина, соблазнивший (или соблазненный ― какая разница?) родственницу Хорта оке Тамая и Сиятельной Сайлы, становился костью в горле слишком могущественным людям, чтобы иметь возможность рассчитывать на сохранность своей бесценной жизни.
– Не всту-пил, ― задумчиво протянул по слогам Норо. Он поднялся со своего жесткого кресла с высокой спинкой и подошел к окну, выходящему в один из внутренних дворов-колодцев Свода. Эгин был вынужден вскочить на ноги вслед за своим начальником.
– Ты вообще понимаешь, рах-саванн, в какое дерьмо ты вляпался вчерашним вечером? ― голос Норо шелестел, как осенние листья, которые холодный ветер лениво ворочает в затхлой подворотне. ― Ты понимаешь, кто такой Хорт оке Тамай? Ты знаешь, каким влиянием он обладает на Сиятельного князя?
– Да, аррум. Я понимаю, ― вздох Эгина был неподдельным.
Получалось, что он не прав с любой стороны. Вечером он отбил Овель у людей Хорта. Ну хорошо. Потом, по крайней мере, мог бы всегда солгать, что не поверил ни одному слову нападавших и собирался просто передать Овель ее возлюбленному дядюшке из рук в руки. Но утром-то она исчезла! И, следовательно, с точки зрения Хорта, он, Эгин, потерял его сокровище. О Шестьсот Ликов Ужаса! О Шилол!
– Умный, ― бросил Норо через плечо без всякой насмешки. ― В таком случае, рах-саванн, ты должен понимать, что я сейчас разговариваю с покойником.
Эгин понимал и это. И именно поэтому ― покойникам-то терять нечего ― решительно сказал:
– Да, аррум. И я им стану совсем скоро, если вы меня не отпустите к Знахарю. Норо резко обернулся.
– К Знахарю? Да, конечно, рах-саванн, конечно.
Но у нас есть еще один разговор, помимо Овель исс Тамай.
– Да, аррум, ― сквозь плотно сжатые зубы выда-вил Эгин. Он чувствовал, что силы покидают его с пугающей быстротой. ― Могу ли я сесть, аррум?
– Нет, ― жестко отрезал Норо, возвращаясь в свое кресло. ― Стой и слушай. Многое изменилось за время твоего отпуска, рах-саванн. Я досмотрел вещи Арда. И я не нашел в них то, что искал. А это очень плохо, рах-саванн. Очень плохо. Ты слышишь меня, рах-саванн?
Эгина качало. Две жестокие пиявки присосались к вискам и тянули из них добрую кровь. Ступни леденели. На лбу проступил отвратительный липкий пот.
– Я… слышу… вас… аррум, ― Эгину пришлось совершить над собой неимоверное усилие, чтобы выда-вить эти ничего не значащие слова.
Он не понимал, что происходит. Обнажение Внутренней Секиры ― вещь действительно очень опасная, но их учили, что, по меньшей мере, двое суток даже не самый сильный офицер должен протянуть. Ну, пусть он потерял много сил во вчерашних схватках ― смертоубийственной с отребьем Хорта и любовной с Овель. Но, по меньшей мере, на сутки он еще мог рассчитывать. Выходило ― не мог.
– Если ты меня слышишь, ― слова Норо грохотали в его ушах кузнечными молотами, ― то отвечай мне, пока еще не издох, что ты утаил от меня при осмотре каюты Арда?
Перед глазами Эгина проплыли призрачные сполохи Изумрудного Трепета. Он чувствовал, что его уста одеревенели, язык налился свинцовой тяжестью, но все его существо наполнилось непостижимой, новой, искрящейся силой. Говорил не он. Говорила эта новая сила, вводящая в его слова тяжелую, уверенную и наглую ложь:
– Я офицер Опоры Вещей. Я служу князю и истине. Я не лгал никогда ранее и не лгу сейчас. Я досмотрел каюту Арда в соответствии с предписаниями, не отступив от них ни на шаг.
Его тело падало, падало в бездонный омут тягучих струй боли и никак не могло достичь недвижного покоя на плитах сандалового дерева, которыми был выстлан пол кабинета.
Знахарь был один, и его знал каждый, в чьем левом плече была зашита металлическая пластина с глазастой секирой Свода Равновесия. Знахарь был один, и все же значительно более, чем один, ― понять это было невозможно. Иначе он, Знахарь, никогда не смог бы обслуживать сотни офицеров Свода ― лечить их, вшивать им Внутренние Секиры, отвечать на вопросы людей из Опоры Безгласых Тварей. И при этом не забывать о своем ученике, который после смерти Знахаря займет его место, примет имя Знахарь и прозвище Многоликий.
Эгин никогда не мог понять, в каком именно месте Свода Равновесия находятся обширные, по-своему светлые и при этом непередаваемо мрачные хоромы Знахаря. Было ясно одно ― они находятся где-то на подземном ярусе, неподалеку от кузниц Свода. Но где находятся кузницы Свода, Эгин тоже не знал.
Когда офицера направляли к Знахарю, для него вызывались трое сопровождающих из Опоры Единства, старший из которых имел звание рах-саванна. Пациенту Знахаря еще в клети подъемника надевали на голову глухой шлем, который не только лишал возможности видеть, но и слышать тоже, поскольку имел плотные войлочные наушники. Офицеры Опоры Единства спускались вместе с пациентом вниз на подъемнике, а потом вели его извилистыми коридорами со множеством поворотов. Шлем с пациента снимали только после того, как за спинами офицеров закрывалась последняя из трех дверей.
Эгин прекрасно помнил свое первое посещение Знахаря. Он, только что произведенный в эрм-саванны и тем самым зачисленный в «предвечные, неколебимые и бессмертные» ряды офицеров Свода Равновесия, восторженный и взволнованный (ах, как громко билось тогда в груди сердце! громче, чем все барабаны «Зерцала Огня»!), явился пред очи Знахаря, чтобы сдать кровь на Секиры ― Внутреннюю и Внешнюю. Знахарь показался ему тогда черепахой, с которой содрали панцирь. Старый, согбенный, безмерно ленивый, он сидел в огромном чану с горячей водой, от которой разило мочой, к великому сожалению, тогда еще брезгливого эрм-саванна. Из хрустальных шаров под потолком струился неровный многоцветный свет, в стенах Эгин, к своему удивлению, увидел множество зеркал. Круглых, квадратных, ромбовидных, шестиугольных, овальных… Стеклянных и бронзовых, золотых и греовердовых… И эти зеркала показались Эгину самым странным, что он видел в своей жизни.
В тот раз Знахарь просто полоснул по пальцу Эгина крохотным, но острым, как мысль, ножичком и, нацедив в две склянки по наперстку Эгиновой крови, проскрипел: «Убирайтесь!»
Великомудрый Вальх когда-то объяснял Эгину, что синие искорки внутри Сорока Отметин Огня отвечают своему владельцу не просто так. Металл жетона каким-то образом «чувствует» кровь своего хозяина. И чтобы он мог «помнить» о ней, все пластины изготовляются совершенно индивидуально. Кузнецы Свода Равновесия подмешивают в расплавленное железо кровь, взятую от того офицера, для которого изготавливаются жетоны. Внутреннюю Секиру офицер носит в себе до самой смерти, а Внешняя переделывается всякий раз после очередного повышения. Дорого и сложно? Вольный город Орин, да и Великое княжество Варан, уже когда-то экономили на безопасности государства, и каждый школяр знает, что из этого вышло.
В следующий раз Эгина приводили к Знахарю через неделю, чтобы зашить в него готовую Внутреннюю Секиру. Эгину показалось, что сопровождающие его офицеры Опоры Единства немного нервничают. «Впрочем, ― подумал тогда Эгин, ― они, наверное, нервничали и в прошлый раз, но я тогда был слишком взволнован сам, чтобы заметить их волнение». Знахарь принял его, будучи одет в длинный прожженный во многих местах халат, расшитый одним и тем же сюжетом: огромная косматая звезда изумрудно-зеленого цвета с женским ликом, перекошенным яростью, пожирает желтую звезду ― Солнце Предвечное.
Жуткий был халат у Знахаря, и сам Знахарь был хоть куда ― невысокий, невесомый старик с походкой змеи (да, если бы змея имела ноги, у нее была бы именно такая походка! ― воскликнул тогда Эгин мысленно). На голове Знахаря был надет странный шлем серебристого цвета, подражающий птичьей голове. Опущенное забрало было выполнено в форме загнутого книзу и, судя по всему, действительно острого клюва. В прорезях светились ― не злобой, не неистовством, нет! ― совершенным, ледяным спокойствием глаза Знахаря.
Знахарь бесцветным голосом приказал Эгину лечь на простой деревянный стол, усыпанный сухими пахучими травами, из которых Эгин не знал и половины. Единственным отличием этого стола от своих бытовых собратьев были ножки, которые выходили вверх над столешницей на локоть, и на каждой из них была укреплена медная чаша. Еще до того как лечь на стол, Эгин догадался, каково предназначение этих чаш. И он не ошибся.
Эгин лежал на столе, пытаясь расслабиться и понимая, что это не так-то просто в этом страннейшем из закутов Свода Равновесия под пристальным взором страннейшего из лекарей, о которых ему когда-либо приходилось слышать. Потом Знахарь заиграл на двойной флейте. И вместе с причудливой мелодией, повествующей, казалось, о самой предвечности бытия, из медных чаш над столом поплыли клубы ароматного, сладостно-удушливого дыма, в котором сознание Эги-на растворилось, словно бы и не существовало отдельно от Гулкой Пустоты никогда.
Когда сознание Эгина вновь вернуло способность воспринимать происходящее, он первым делом посмотрел на свое левое предплечье. Там, едва заметные среди волос и здоровой кожи, белели шрамы, образующие разомкнутый прямоугольник.
– Сколько времени прошло? ― собственный голос показался Эгину слаще музыки Знахаря. Так относишься к возвращению всего хорошего, о чем думал, что потерял его безвозвратно.
– Около часа, ― бросил Знахарь, с неожиданно тяжелым, по-человечески тяжелым вздохом снимая шлем с клювообразным забралом. Эгин успел заметить, что железный клюв красен от крови до самого основания. Чья же кровь? Эгин подумал, что его ― едва ли в том могли быть сомнения.
– Так мало? ― удивился Эгин.
– Разговаривать запрещено, ― чересчур вяло для своей должности напомнил рах-саванн Опоры Единства.
Знахарь бросил на него тяжелый взгляд. Эгин подумал, что от таких взглядов несложно и собственный черен позабыть, не то что какие-то предписания гнор-ра по Распорядку Свода.
– Он прав, эрм-саванн.
Эгин уже застегивал ворот рубахи, рах-саванн уже готовил для него глухой шлем, когда до слуха Эгина донеслись слова Знахаря, брошенные ему в спину:
– Успехов тебе, эрм-саванн. Люби и властвуй. Прежде, чем шлем наглухо запечатал его глаза и уши, в сознании Эгина мелькнула мысль, что он нигде не заметил третьего офицера Опоры Единства. Чья же, кровь?..
Когда Эгин очнулся, он осмотрел левое предплечье. Там, как и в тот раз, едва заметные среди волос и здоровой кожи, белели шрамы, образующие замкнутый прямоугольник.
Очень болела голова, но Эгин чувствовал, что это боль облегчения.
– Ф-фух, еле спас тебя, придурка!
Голос ― молодой, усталый, но все еще сохранивший искорки жизнелюбия ― прозвучал из-под серебристого шлема с клювообразным забралом, сплошь перемазанного кровавым гноем.
– Кто ты? ― Эгин уже достаточно пришел в себя, чтобы не задавать идиотских вопросов вроде: «Кто я?», «Где я?», «Четный ли сегодня день месяца?» и тому подобных. Память ему тоже не отшибло, и он помнил, что Знахарь обладает совсем не таким голосом, как тот, который осмелился назвать рах-саванна Свода Равновесия «придурком».
– Я-то? ― его собеседник хохотнул. Он поднял вверх забрало, обнажая совсем молодое безусое лицо с костистым длинным носом и подвижными голубыми глазами. ― Я ― Знахарь, и если ты сомневаешься в этом, можешь считать, что твоя душа вот уже полтора часа как на пути к Зергведу. Я спас тебя от неистовства Внутренней Секиры, очень необычного неистовства.
Только теперь Эгин заметил, с каким пристальным, ищущим любопытством глаза Знахаря шарят по его лицу, словно бы на нем калеными иглами начертана некая тайная истина.
Эгин ожидал окрика: «Разговоры запрещены!», но его не последовало. Он приподнялся на локте и огляделся. Да, это было то же самое помещение, в котором несколько лет назад предыдущий Знахарь вживлял ему Внутреннюю Секиру. Но где же офицеры Опоры Единства?
Эгин хотел спросить, куда подевались его сопровождающие. Но неожиданно он понял, что это ему совершенно не интересно, да и смысла никакого не имеет.
– Да? ― с вызовом спросил Эгин. ― И что же ты думаешь по этому поводу?
– У тебя редкие глаза, эрм-саванн, ― сказал Знахарь. ― И, возможно, именно поэтому я тебе отвечу. Я думаю, что аррум Опоры Вещей Норо оке Шин подверг тебя два часа назад молниеносному, но очень жестокому допросу. Он незаметно влиял ― а к этому есть много способов, уж поверь мне, ― на твою Внутреннюю Секиру, и она терзала тебя в десятки раз сильней, чем терзала бы без стараний аррума. Я думаю, что ты должен был выть от боли и рассказывать ему все в мельчайших подробностях, начиная с родовых схваток своей матушки и заканчивая самой жгучей тайной типа приязни к десятилетним златокудрым девочкам или козочкам-однолеткам ― тут уж я не знаю. И еще я думаю, что раз уж ты оказался здесь, значит, аррум Норо оке Шин не услышал от тебя ничего из того, что хотел услышать. Я этого не понимаю и в твоих глазах вижу то же самое непонимание. Кто-то или что-то помогло тебе. Ты знаешь, что?
Последние дни принесли Эгину столько загадок, что он почти полностью утратил способность удивляться. Он спокойно покачал головой.
– Нет, не знаю.
– Я так и думал, рах-саванн. Возвращайся к своему арруму и помни, что мы еще увидимся. И когда это произойдет, нам найдется что порассказать друг другу.
– Спасибо, ― искренне поблагодарил Знахаря Эгин. ― Но как же я вернусь…
Он осекся. Одно из полноростных зеркал (таких в покоях Знахаря было три) отъехало в сторону, и из-за него вышли офицеры Опоры Единства. Те самые, которые привели его сюда. Или, по крайней мере, похожие на тех как две капли воды.
– Разговоры запрещены, ― сказал рах-саванн таким голосом, словно бы это была ключевая фраза из скабрезного анекдота. Но никто не засмеялся. И только Знахарь, улыбнувшись краешком губ, слегка подтолкнул Эгина к ним. Иди, мол, рах-саванн, и ничего не бойся. Люби и властвуй!
– Ну, как тебе новый Знахарь?
Казалось, в кабинете Норо ничего не изменилось с того момента, как Эгин потерял сознание от борьбы между болью и отводящим ее наваждением. Мозг все еще был затянут каким-то отупляющим туманом, и Эгин не сразу сообразил, о чем его спрашивает Норо. А когда сообразил, понял, что в свете, мягко говоря, странного разговора со Знахарем лучше уклониться от какой бы то ни было болтовни на эту опасную тему.
– Простите, аррум? ― переспросил Эгин, хмурясь, словно бы пересиливая неимоверную внутреннюю боль.
– Ладно, ладно… ― раздраженно махнул рукой Норо. ― Твое мнение по этому вопросу сейчас не играет никакой роли.
«Он, похоже, в неплохом настроении, ― подумал Эгин мельком. ― И это само по себе настораживает».
– Не стану врать, рах-саванн, ― взгляд Норо полоснул Эгина по глазам, ― я подверг тебя сегодня очень тяжелому испытанию. Ты должен был либо признаться мне во всем, либо умереть. Ты не признался и ты не умер. Следовательно, ты действительно чист перед князем и истиной.
«О, Шилол Изменчиворукий! ― мысленно простонал Эгин. ― Ведь проклятый Знахарь-мальчишка был прав!»
– И я горжусь тобой, ― слова Норо вливались в мысли Эгина, как расплавленный свинец в студеную воду, ― горжусь тем, что ты смог оправдать свое новое звание рах-саванна. Ты не лгал мне, мой мальчик. И поэтому тебе будет оказана мною большая честь. Честь знать истину. Садись.
О, это была великая честь! Два часа назад Норо пригласил Эгина сесть, чтобы тот рассказал ему историю с Овель исс Тамай во всех мыслимых подробностях. Теперь предложил ему свой неуютный жесткий стул, чтобы тот обратился слушателем некоей «истины» (о которой Эгин наперед совершенно определенно знал, что в лучшем случае она будет лишь причудливым сплетением правды и лжи, а в худшем ― просто ложью без всяких особых прикрас).
– Благодарю вас, аррум! ― рьяно кивнул головой Эгин.
Перед глазами неожиданно вспыхнули и погасли темные круги. Сильно его допекла-таки Внутренняя Секира!
Эгин сидел, а Норо, прохаживаясь взад-вперед по кабинету и часто заходя ему за спину, вещал:
– Ты, конечно, помнишь того аррума из Опоры Писаний по имени Гастрог, который вытурил тебя из каюты Арда оке Лайна, пользуясь своим двойным должностным превосходством. Он погиб в тот же день.
Норо сделал паузу. Видимо, в надежде насладиться бурной реакцией Эгина. Но тот хранил молчание. Да, он действительно был потрясен. Гастрог не вызвал у него решительно никаких симпатий, но когда начинают гибнуть аррумы Опоры Писаний ― значит, что-то неладно в Своде Равновесия, а значит, и во всем мире. Очень и очень неладно. Эгин прекрасно понимал, что узнавать какие-либо подробности у Норо бессмысленно, ― все, что тот найдет нужным ему сообщить, он сообщит. Остальное он, Эгин, скорее всего не узнает уже никогда. Поэтому Эгин молчал, и когда молчание стало походить на бесконечное падение в Бездну Края Мира, Норо наконец-то продолжил.
– Да, Гастрог, аррум Опоры Писаний, погиб от руки эрм-саванна Опоры Единства в туннеле Морского Дома по трагическому недоразумению. Было, как ты помнишь, шестое, четный день, а он прошел через левый проход. Согласно предписанию гнорра на эту неделю, он должен был быть понижен в звании на одну ступень и переведен в Опору Вещей. Но ты же сам знаешь, рах-саванн, ― Норо чуть понизил голос, мастерски демонстрируя доверительность, ― какие псы иногда стоят там, в туннеле. Короче говоря, тот эрм-саванн зарубил Гастрога, потом отшвырнул меч, потом завыл, потом, извини, нагадил на тело убитого, а потом на его вой подбежали двое наших рах-саван-нов из Опоры Вещей, которые, по счастливой случайности, возвращались из Урталаргиса. Это, кстати, те самые люди, если хочешь знать, которые по делу Арда оке Лайна работали с Цинором, подбрасывая туда фальшивку о слабости «Зерцала Огня».
У Эгина голова шла кругом. Даже если все сказанное его начальником ― ложь, это была самая откровенная и многословная ложь, какую ему только приходилось слышать из уст Норо за все время службы.
– Я весь внимание, аррум, ― Эгин неподдельно увлекся рассказом Норо.
– Еще бы, ― подмигнул ему Норо. ― И это только начало. Наши убили сумасшедшего ублюдка и, не растерявшись, быстро вызвали меня. Ну а я как раз только успел вернуться после встречи с тобой, и имя Гастрог, которое рах-саванны прочли на его жетоне, не могло оставить меня равнодушным. В общем, в моих руках ненадолго оказался сарнод Гастрога. А с ним ― книги Арда оке Лайна и испорченный Зрак Истины. Ты, кстати, видел Зрак Истины Гастрога?
– Нет, ― в последнее время Эгин научился лгать, как дышать.
– Его Зрак Истины был уничтожен Изумрудным Трепетом, ― жестко сказал Норо. ― Креветки стали похожи на обглоданных пламенем сколопендр. Я просмотрел книги Арда. Я понял, откуда взялся Изумрудный Трепет. И я понял, что у Арда просто обязана была найтись одна вещь. Очень опасная вещь. Назовем ее Пятым сочленением. Но сочленения не было среди тех предметов, которые ты передал мне в порту. И его не было в сарноде у Гастрога.
Помимо благоприобретенной добродетели ― лживости ― Эгин обладал еще и врожденной бесшабашной наглостью, которая проявлялась в нем крайне редко, но, проявляясь, не раз и не два возвышала его в глазах как врагов князя, так и его верных слуг. Эгин тонко улыбнулся и подхватил мысль Норо:
– И вы, аррум, уверились в том, что я присвоил себе это самое, м-м-м… членение?
Норо посмотрел на Эгина, как на говорящую собаку. Прикусил нижнюю губу. В его глазах не было ничего, кроме бешеной, всепоглощающей ярости.
– Да, ― отрезал Норо своим жутким шелестящим голосом. ― Да, рах-саванн. Я в этом уверился. И я очень, очень расстроился. Потому что Пятое сочленение, ― он нарочито отчетливо выговорил эти слова, ― даже само по себе относится к измененной материи и обладает рядом свойств, любое из которых делает его желанным гостем Жерла Серебряной Чистоты. Но если Пятое сочленение включить в состав прочих четырех, а равно и…
Норо осекся. Эгину почудилось, что по коротко остриженным волосам Норо с еле слышным пришепетыванием прошла волна изумрудного света. «Этого не может быть», ― запротестовала внутри Эгина его скептическая половина. «Но ты это видел. Следовательно, это есть», ― ответило его природное начало голосом наставника Вальха.
– Это неважно! ― меч Норо блеснул оскалистой молнией, вгрызаясь в темную поверхность его рабочего стола. Брызнула деревянная щепа. Что-то с протяжным деревянным стоном упало в его непостижимых недрах. Потом оттуда донесся мелодичный хрустальный звон, и на мгновение наступила тишина. «Ого», ― подумал Эгин.
– Это неважно, рах-саванн, ― повторил Норо, оборачиваясь к Эгину, ― да и знать этого тебе просто не положено по долгу службы.
Норо не сразу возвратил меч ножнам. Чуть розоватая, всегда сильно впечатлявшая Эгина этим своим немыслимым оттенком сталь его меча жила в руках Норо собственной жизнью. На полмгновения на зеркали-стой поверхности неожиданно возник абрис женского лица («О Шилол!» ― Эгин похолодел), потом ― отблески жестокого алого пламени, потом ― …
– А знать ты должен вот что.
В этот момент Норо спохватился, вполне степенно спрятал меч обратно и продолжал как ни в чем не бывало.
– Пятое сочленение надо разыскать и уничтожить. Единственная нить к нему ― Гастрог. Мы так толком и не поняли, встречался ли он с кем-то между портом и Морским Домом. Скорее да, чем нет. Проверь это. Найди сочленение. И тогда, рах-саванн, я сделаю так ― а я могу это сделать, не сомневайся, ― что вся история с этой Овель исс Тамай будет забыта. Ты ведь хочешь этого, рах-саванн?
Эгин оставил за спиной парадный подъезд Иноземного Дома. На Красное Кольцо вышел, как обычно, уже не рах-саванн Опоры Вещей, а второй делопроизводитель Северного Потока Атен оке Гонаут.
Эгин остановился на несколько мгновений, привыкая к яркому послеполуденному солнцу. Покачался с носков на пятки. Жизнь была отвратительна.
С трудом превозмогая желание упасть на равнодушные плиты красного греоверда и уснуть прямо здесь, посреди улицы, навеки, Эгин поднял правую руку. Коренастый возница, одетый по случаю жары в одну лишь набедренную повязку и легкие наплечники, чтобы плечи не слишком обгорали, остановился напротив Эгина.
– В порт, ― бросил Эгин, безудержно сквернословя в адрес всего мироздания.
«М-м-да, ― сказал себе под нос Эгин, когда здание Морского Дома скрылось из виду, а затхлый дух туннеля был развеян юго-восточным ветром. ― А что, собственно, м-м-да?».
Норо оке Шин.
Знахарь.
Овель исс Тамай.
Вербелина исс Аран.
Ард оке Лайн.
Гастрог, будь он неладен.
Зачем он произносит все эти имена, каждое из которых не приносит ему ничего, кроме ощущения легкой неловкости напополам с гадливостью? Кроме имени Овель. Но тут другое… Сейчас не время и не место рассуждать о том, какое оно это другое. Стоп! Эгин остановился посредине портовой площади.
Стоит, быть может, зайти домой и поразмыслить над заданием, полученным от Норо. Хотя правильнее было бы называть это задание намеком на прощение всех мыслимых и немыслимых промахов. Хотя что там размышлять! В первой своей части оно настолько пустяковое, что по плечу любому зеленому новичку. Подумаешь, узнать, с кем встречался Гастрог по выходе из порта! Если это вообще можно узнать, он это узнает. Сначала поговорит с матросом, стоящим на вахте. Если Гастрог брал возок, поговорит с даллагом, который этот возок тащил. У них весь город поделен между собой. Одни и те же возчики работают в одних и тех же местах. Чтобы знать это, вовсе не нужно быть офицером. Уж будьте покойны, милостивые гиазиры, первая часть не представляет трудностей, и размышлять о ней нечего.
А вот вторая часть задания… Касательно этого распроклятого «пятого члена» настолько невыполнимая, что не по силам и самому Норо. Иначе он бы разгрыз этот орешек сам, а после купался бы в милостях гнор-ра. А не предлагал сломать об него зубы ему, Эгину, и без того плававшему по уши в дерьме. Причем отнюдь не в таком безобидном дерьме, в каком еще вчера вечером он стоял по щиколотки, любуясь, так сказать, задницей Желтого Кольца.
Это значило лишь то, что о второй части задания следует временно забыть. И Эгин решительным шагом направился ко входу в ту часть порта, где швартуются корабли «Голубого Лосося». Но не успел он сделать и десяти шагов, как за его спиной послышался задорный мальчишеский голос:
– Милостивый гиазир Атен оке Гонаут?
– Все верно, ― бездумно, по привычке ответил Эгин и обернулся.
Это был шмель. Один из трех сотен «шмелей», которые снуют по столице за жалкие гроши, а кто и за прокорм. На голове коричнево-оранжевый колпак, в заплечном сарноде…
– Тогда извольте, ― мальчик передал Эгину пакет, или, скорее, легкую коробочку, завернутую в промасленную бумагу и запечатанную вишневым клеем.
Обычный пакет. «Верно, Иланаф снова шуточки Шутит», ― промелькнуло в голове у Этна, в то время как его рука машинально нашарила мелочь и вложила ее в скромно простертую ладошку посыльного.
Эгин взглянул на пакет. «Чиновнику Иноземного Дома…» Нет, это не Иланаф. Аккуратный, казенный почерк, чернила ― зеленые, печати ― тоже как бы печати, но перстнем владельца не припечатанные. Ни о чем не говорящие…
– Постой, малец, а кто?.. ― спохватился Эгин и поднял глаза на «шмеля», но мальца уже и след простыл. Скороходы, раздери их Хуммер!
«Наверное, по ошибке я дал ему золотой, и он смылся, чтобы в случае, если я обнаружу оплошность…» И тут Эгину впервые бросилась в глаза неловкость его положения. Он стоит в поэтической растерянности в аккурат на середине Портовой площади. Его кожаный сарнод, словно корзина с овощами, стоит в двух шагах на пыльных булыжниках. Взгляд его блуждает, пальцы слегка трясутся. В общем, выглядит он как деревенщина, а вовсе не как чиновник Иноземного Дома, в былые дни принимавший по десять «шмелей» за одно утро… И ладно бы некому было посмеяться. Но ведь Эгин был уверен в том, что не одна пара глаз из Опоры Единства следит сейчас за ним. С каких это пор офицерам Свода нужно останавливаться для того, чтобы обдумать положение? Кобылы, и те останавливаются посреди Портовой площади только затем, чтобы справить малую нужду, а думают походя.
Эгин взял сарнод, но пакет не спрятал. Он вскроет его на ходу. Хватит смешить бдительных коллег ― один, кажется, вон тот хлыщ с кружевным воротником, а другой ― судя по всему, вон тот умник возле скобяной лавки. Делают вид, что считают птичек в небесах. Он вскроет его походя, как это, не исключено, сделала бы кобыла.
Печати оказались хлипкими. Первый слой промасленной бумаги был снят, но под ним, словно издевательство, оказался другой, из очень тонкой бумаги. А под ним коробочка ― обычная, обитая ситцем. Дешевая. В таких посылают… Ну уж не официальные бумаги, это точно! Несколько более нервно, чем хотелось бы ему самому, Эгин вскрыл коробочку, что не составило большого труда. Не в силах унять волнение, он распахнул ее, едва не столкнувшись лоб в лоб со слепым у самого входа в порт.
Некий неназвавшийся гиазир или некая госпожа посылали ему дорогую вещицу, а точнее, пару весьма дорогих вещиц, ценой в конюшню из пяти голов. Эгину не составило труда вспомнить, где и при каких обстоятельствах он уже видел эти драгоценности. То были серьги. Пара огромных, массивных серег в форме клешней какого-то гада. Не то рака, не то краба, не то скорпиона. Сколь уродливы, столь страшны и массивны.
То были серьги Овель. Нет, Эгин не спутал бы их ни с какими другими. Во-первых, потому, что никогда более странного и уродливого украшения не видел ни на одной из своих соотечественниц. Даже мятущиеся в угаре изменчивой моды куртизанки не станут отягощать уши такой чудовищной вещью. А во-вторых, потому, что ночь, проведенную с Овель, он помнил почти до секунды. Он целовал те сладкие ушки, изящные мочки которых отвисали под тяжестью золота и огромных, брошенных звездной россыпью сапфиров. И эта вот самая клешня колола ему щеку…
Эгин захлопнул коробочку и, скорчив самую недовольную, самую скучную мину из тех, на какие был способен, с нарочитой небрежностью бросил распотрошенный сверток в сарнод. Он разберется с ним на досуге. Первым делом он пойдет в рассылочную, где «шмели» кормятся и получают жалованье. Затем он найдет этого мальчика ― он помнит его в лицо. Если нужно ― воспользуется жетоном. Внешней Секирой. Он узнает, кто послал ему серьги. Он узнает, кто заплатил «шмелю». Он узнает, кто…
Но что-то подсказывало ему, что это была не Овель.
И, не оборачиваясь, Эгин вошел в порт ― вон он, «Голубой Лосось» с претенциозным именем «Зерцало Огня». Как бы ни хотелось ему прямо сейчас отправиться в рассылочную, а придется заняться матросиками.
Сегодня под колонной с «Голубым Лососем» на вершине стояли всего лишь три корабля ― «Вергрин», «Сумеречный Призрак» и «Зерцало Огня».
Эгину было совсем необязательно по долгу своей службы это знать, и все-таки он знал из обрывков случайно подслушанных позавчера разговоров между матросами «Зерцала Огня», что «Звезда Глубин» и «Гребень Удачи» дежурят возле Перевернутой Лилии, а «Ордос» и «Лазурь Небес» ушли вчера на восток, чтобы подменить их на сторожевой службе.
«Ты должен сделать все быстро. Осторожность от тебя не требуется».
Он будет делать все быстро, ага. И осторожности от него не потребуется, ага.
– Простите, вам сюда нельзя, милостивый гиазир.
Перед его грудью сомкнулись крест-накрест алебарды с хищными ударными частями. Это что-то новое. Эгин, который быстро мерял пристань шагами, глядя исключительно себе под ноги, поднял глаза. Двое матросов, в парадном облачении, в шлемах с плюмажами, на которых было выгравировано: «Зерцало Огня», охраняли вход на пристань «Голубого Лосося». И как он их только раньше не заметил?
– Мне ― можно, ― раздраженно бросил Эгин и полез в свой сарнод за Внешней Секирой. Ему было недосуг изображать из себя очередного чинушу Морского Дома.
Левый матрос бросил на его жетон неожиданно небрежный взгляд и пожал плечами.
– Простите, гиазир эрм-саванн. На борту «Зерцала Огня» сейчас находится инспекция как раз из вашего ведомства. Вам туда нельзя.
– Какая инспекция, будь ты неладен? И что значит «нельзя»?! ― больше всего Эгину сейчас хотелось разогнать матросиков зуботычинами. ― Да ты знаешь, что я могу вас обоих сейчас нарубить в капусту и буду совершенно прав?
– Не гневайтесь, гиазир эрм-саванн. Мы ― люди служилые. Никого впускать не ведено, ― подал голос правый матрос. ― Но если вы настаиваете, я могу доложить о вас.
– Доложи, братец, ― махнул рукой Эгин, немного смягчаясь. В конце концов, эти-то уж точно не имеют никакого отношения к прихотям загадочной «инспекции».
Пока второй «братец» удалялся по направлению к сходням «Зерцала Огня», а после мелькал на его палубе, Эгин, немного расслабившись и войдя во вполне рабочее настроение, стал выпытывать у охранника новости трехдневной давности.
– Слушай, произошла очень крупная неприятность, о которой тебе знать не положено, ― сказал Эгин, не очень затрудняя себя подбором слов. ― И это может кончиться тем, что всю вашу команду начнут мытарить по подвалам Свода Равновесия люди из Опоры Единства.
У Эгина от собственных слов по спине пробежали мурашки. Даже офицеры Свода не очень-то любили вспоминать о методах, которые применяются тайными хранителями князя и истины по отношению к простолюдинам, а при крайней необходимости ― и к дворянам. Особенно же не любили об этом вспоминать чистоплюи из Опор Вещей и Писаний, белая кость Свода.
– Не исключено, ― продолжал Эгин, ― что от твоих ответов…
Матросик слушал его, нахмурившись. Но дослушать ему не привелось, потому что с палубы «Зерцала Огня» вдруг донесся вполне спокойный и все-таки на удивление истошный вопль:
– Про-пу-ус-ка-ай! Бы-ыстро!
Это кричал второй матрос. «Точно. Точно. Все с ума посходили», ― подумал Эгин, который на своем веку не помнил, по меньшей мере, двух вещей из числа только что случившихся. Во-первых ― удивительной строгости каких-то засранных матросов по отношению к офицеру Свода Равновесия. И во-вторых ― удивительной быстроты, с которой эта строгость вдруг сменилась на, гхм, радушное приглашение.
На палубе «Зерцала» Эгин не заметил никаких признаков «инспекции». Зато было полно матросов и офицеров «Голубого Лосося», которые споро и заботливо расправлялись с уложенными парусами и канатами. Похоже, «Зерцало» готовилось к отплытию. Вот те на. На Эгина демонстративно не обращали внимания. "Раз так ― значит, будем ломать комедию «Злой начальник над глупыми крысами», ― заключил Эгин, хватая за локоть первого встречного офицера с нагрудной бляхой палубного исчислителя. На бляхе по традиции был изображен натянутый лук, хотя «Зерцало Огня» еще при постройке было вооружено отнюдь не стрелометами. Впрочем, это была тайна. Да и само знание Эгина об истинном вооружении «Зерцала Огня» тоже являлось тайной.
– Где капитан?! ― проорал он в ухо исчислителю. Лицо офицера ― вытянутое, изможденное, местами испещренное крохотными ранками сродни оспинам ― приняло одновременно испуганное и недовольное выражение, вытянувшись еще больше.
– С кем имею…
– Ма-алчать! ― рявкнул Эгин. ― Ма-алчать перед лицом рах-саванна Опоры Вещей! Где капитан корабля?!
Офицер, к полной неожиданности Эгина, улыбнулся. Улыбнулся с какой-то непривычной, мягкой издевкой.
– А-а, рах-саванн… Да будь ты хоть пар-арценцом, а орать у нас на палубе не надо.
От таких штучек у Эгина совершенно по-солдафонски перехватило дух. Никто, нигде и никогда не смел так разговаривать с офицером Свода. Безнаказанно ― никто, нигде и никогда.
Эгин выхватил меч.
– Что здесь происходит?! ― голос за спиной был твердым и властным. Так говорят аррумы и капитаны «Голубого Лосося». Эгину хватило сдержанности понять это и обернуться.
Черные, как смоль, усы, заплетенные вместе с редкой бородой в две тонкие косицы. Длинные, распущенные по плечами волосы ― тоже черные, угольно-черные. Плечи, про которые у грютов говорят «держат небо». Бычья шея, удивительно бледное, красивое лицо, в котором был тем не менее какой-то неуловимый изъян, делавший капитана похожим на первого исчислителя, обидчика Эгина. Ко всему, капитан был гол по пояс («В общем, жарко, конечно», ― почему-то мысленно согласился с его видом Эгин), но на нем была кожаная юбка с длинными железными пластинами и поножи из инкрустированной серебряными насечками меди. И ― неизбывные сандалии производства факторий Хорта оке Тамая.
Перед таким Эгин счел необходимым проявить умеренную вежливость.
– Прошу простить, милостивый гиазир. С кем имею честь говорить? ― вопрос был излишен, но, пока существовал хоть один шанс из ста ошибиться в должности этого мужика, Эгин решил проявить деликатную осторожность.
– С капитаном «Зерцала Огня». Меня зовут Самел-лан, и я прошу вас спрятать меч в ножны.
От этого человека с варварской прической исходили спокойствие и сила. Но Эгину сейчас было плевать на выдающиеся качества этого «лосося». Он сейчас спасал свою карьеру и, судя по всему, ― шкуру.
– Эгин, рах-саванн Опоры Вещей. Этот человек, ― пряча меч, Эгин небрежно мотнул головой через плечо, указывая на палубного исчислителя, ― только что позволил себе вопиющее неуважение к моей должности.
– Хорошо, рах-саванн. Он будет наказан. Я приглашаю вас продолжить разговор в моей каюте.
Эгин помедлил мгновение. Сговорчивость Самел-лана показалась ему подозрительной. С другой стороны…
– И не только об этом, ― с неявной угрозой произнес Эгин. ― Я согласен. Ведите, капитан.
Самеллан молча кивнул и пошел к тому самому люку, в который Эгину уже приходилось спускаться, направляясь на досмотр каюты Арда оке Лайна. Широкая спина Самеллана вольготно раскачивалась в такт шагам. Эгин молча шел за ним. Потом начался спуск. «Странно, ― подумал Эгин. ― Кажется, на этих кораблях капитанские апартаменты находятся где-то на корме». Но спорить с Самелланом ему не хотелось. Да и не боялся Эгин в этот момент никого. В конце концов, уж кто-кто, а капитан «Зерцала Огня» должен лучше многих понимать, что означает «рах-саванн Опоры Вещей». Это означает то же самое, что и «неприкосновенный».
Они сделали по сумрачному тесному коридору не более шести шагов, когда дверь одной из кают за спиной Эгина стремительно отворилась.
Сознание Эгина зафиксировало это событие, но отреагировать он не успел. Потому что в следующее мгновение ему на затылок, очень профессионально, в единственно верную точку, опустился очень тяжелый, смягченный несколькими слоями ткани предмет.
Последнее, что успел услышать Эгин, прежде чем сознание окончательно угасло, был удивительно знакомый голос, прокричавший:
– Назад, идиот! Этот ― свой!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ МЯТЕЖНИКИ
Глава седьмая «ЗЕРЦАЛО ОГНЯ»
«Живой!» ― вот первое, о чем подумал Эгин, когда понял, что сидит на ковре, его ноги подперты чем-то мягким, а спина покоится на тугих подушках. Что его тело существует. Что его легкие дышат. Глаз он, однако, не открыл.
Судя по голосам и по разговорам, он находился в компании. Не слишком веселых, но достаточно просвещенных людей. Голоса некоторых показались Эгину знакомыми, или только показались?
– …и когда я увидел у своего ложа жука-мертвителя, когда его тлетворный запах ударил мне в ноздри, а сияние его глаз поведало мне о том, сколь близок я от последней черты, о том, сколь я бессилен даже против такой ерунды, я, тогда еще тринадцатилетний мальчишка, понял, что нам не уничтожить магию. Не уничтожить, хотя бы уж потому, что ее не уничтожить никому. Свод Равновесия лишь разыгрывает бурную деятельность по истреблению, магического. Это театр. В действительности же все, что происходит под началом гнорра, ― это мародерство. Мы не уничтожаем. Мы лишь крадем под благовидным предлогом. Со времен Инна оке Лагина, похоже, не осталось людей, у которых хватит твердости духа на то, чтобы уничтожить Диорх, Хват Тегерменда или что-то сродни этому. Я осознал это в тот миг, когда мне стало очевидно, что даже против жука-мертвителя моих сил недостаточно…
Сказать, что Эгин был удивлен слышать такие речения, значило бы не сказать ничего. Не будь головная боль столь мучительной, а положение столь двусмысленным и непонятным, он непременно открыл бы глаза, чтобы рассмотреть этого любителя резать правду-матку. Но он даже не пошевелился.
Рассказчик не умолкал. Голос его был скрипуч и тих, но его интонации выдавали в говорившем человека, не обделенного ни умом, ни волей. Очень скоро Эгин уверился в мысли, что находится в обществе коллег. По крайней мере, одного .коллеги. Самой разумной тактикой, на которую очень рассчитывал Эгин, было продолжение тактики, уже невольно им принятой. А именно сидеть тихо и не рыпаться. Тактика опоссумов, насекомых и оставшихся лежать на поле брани побежденных.
Может, разве что осторожно приоткрыть глаза. Впрочем, в зале, который был довольно просторным и скорее всего являлся стандартным «капитанским залом» где-то на корме, находилось не менее четырех человек, судя по уважительным покашливаниям и шороху одежд. О, каков был соблазн взглянуть на них сквозь частокол ресниц! Однако же Эгин сдержался.
Но Эгину не случилось дослушать рассказ до конца.
– Прошу прощения, милостивый гиазир, ― прервал рассказчика молодой тенор, ― кажется, наш гость уже в сознании. Хватит придуриваться, взгляните на нас своими ясными голубыми глазами, рах-саванн!
«Это, кажется, мне», ― чуть позднее, чем следовало, сообразил Эгин, полностью поглощенный совсем другим вопросом: где же совсем недавно слышал этот мальчишеский голос?
Играть в спящего дальше действительно было глупо. Ибо играть всегда имеет смысл до тех пор, пока никто не подозревает о твоей игре. Иначе она (а с ней и ты) превращается в посмешище. В жизни совсем не то, что в театре.
«Но ведь я не в театре!» ― сказал себе Эгин, и его веки, тяжелые, словно бы к ним были подвешены свинцовые гирьки, поехали вверх. Его левая рука, будто бы сонно, будто бы случайно проползла по левому боку, зацепив ножны. Они, разумеется, были пусты.
О да, голос был знаком Эгину не зря. Тот, кто вежливо, но как-то по-мальчишески посоветовал Эгину «не придуриваться», был не кем иным, как новым Знахарем Свода Равновесия, который пользовал самого Эгина не далее, как утром этого дня. Безусым пятнадцатилетним мальчишкой. «Разумеется, он тоже запомнил меня, обладателя голубых глаз», ― подумал Эгин.
Но это был не единственный сюрприз, который выпал на долю Эгина, , больше всего походившего в тот момент на слепого кутенка в день своего вступления в мир зримого.
– Позвольте представить вам, милостивые гиази-ры, моего коллегу и, главное, друга, Эгина, рах-саван-на Опоры Вещей!
Это был Иланаф. Он, и никто другой.
Эгин устроился на подушках и превратился в слух и зрение. Его глаза быстро привыкли к яркому свету масляных ламп, которых капитан ― сидевший во главе трапезы ― не пожалел для этого сборища, и теперь Эгин имел возможность все видеть.
Большая половина присутствующих в «капитанском зале» (в этом вопросе Эгин, к счастью, не ошибся) была ему знакома. Кто очень хорошо, кто едва-едва, а кое-кто настолько близко, насколько могут быть знакомы мужчина и женщина.
Во главе низкого столика, сервированного довольно небрежно, восседал, облокотившись на подушки, гладко выбритый и совершенно седой мужчина неопределенных лет. Сухопарый, костистый, похожий на какого-то древнего северного героя. Именно его крамольные и противоречивые разглагольствования о магии, Своде Равновесия и жуках-мертвителях пришлось только что слышать Эгину. Рядом с ним ― улыбчивая черноволосая дама с богатой прической. Любительница четвероногих гадин, бывшая любовница Эгина госпожа Вербелина исс Аран. Сама скромность с виду, Вербелина холила в своих когтистых лапках руку седовласого рассказчика. Сомнений в том, что они любовники, у Эгина, разумеется, не возникло; Впрочем, и ревности тоже.
Подле Иланафа сидела миловидная, но чудовищно бледная молодая особа с пикантными родинками (или мушками? ― на таком расстоянии разобрать Эгину не удавалось) над верхней губкой. Ее русые волосы были заплетены в четыре косы, а ее взгляд был стыдливо опущен. Где-то он ее уже видел, эту скромницу. Одна из подруг Иланафа? Одна из его соседок по Желтому Кольцу? Нет. Служанка Вербелины? Но в тот момент, когда Иланаф стал подниматься со своего места, для того, вероятно, чтобы похлопать по плечу оклемавшегося «друга и коллегу» Эгина, девушка с четырьмя косами как-то очень по-детски стала удерживать Иланафа за рукав, стремясь предотвратить действие, смысла и значения которого она, русоволосая, не понимала. Удерживать за рукав. «О Шилол!» ― мысленно возопил Эгин, который уже видел это или почти это однажды. В Алом Театре. Когда малахольные Эллат и Эс-тарта сводили счеты перед финальным поединком на жестяных мечах. Только на месте Иланафа был Ард оке Лайн, убитый им, Эгином, днем позже. Это была она.
«Общество, приятное во всех отношениях». ― Эгин потер виски, как будто это в принципе могло помочь. Итак, он знал всех, кроме любовника Вербелины. Да и о самом существовании такового он до сегодняшнего дня тоже не подозревал.
– Милостивые гиазиры, ― начал Эгин, когда Иланаф уселся на подушки рядом с ним и все взоры снова обратились на Эгина. ― Мой друг Иланаф представил меня вам, но я по-прежнему нахожусь в неведении относительно ваших имен и титулов. Не сочтите за наглость, но…
– Ты прав, ты прав, ― осклабился Знахарь, вставая.
Затем он, обогнув стол, направился прямиком к Эгину.
– Меня зовут Шотор. Я… это, типа Знахарь Свода. Стало быть ― коллега. А сейчас, ― Знахарь положил свою белую длиннопалую руку на темя недоумевающему Эгину, ― я сделаю так, что ты перестанешь втыкать тут прямо за столом.
Насколько мог заметить Эгин, слово «втыкать», кстати сказать, совершенно не вязавшееся со званием того, кто его произнес, вызвало некое оживление среди трапезничавших. Вербелина мило хохотнула, седой прыснул в усы, а Иланаф расплылся в улыбке. Эгин знал эту улыбочку за Иланафом. Она свидетельствовала о том, что его товарищ осушил не меньше половины пузатого кувшина с молодым аютским. Стало быть, и остальные тоже навеселе. Однако же Знахарь был Знахарем, и липкая тяжесть вмиг оставила голову Эгина.
– Спасибо, ― сказал Эгин и снова прикусил язык. В его положении не стоит болтать.
Знахарь уселся рядом с Эгином, и заговорил седоволосый и сухопарый друг Вербелины.
– Я, милостивый гиазир, Дотанагела. Пар-арценц Опоры Писаний. Дотанагела ― мое настоящее имя. Так же, как Эгин ― ваше. Мы должны доверять друг другу, иначе все, что здесь происходит, становится совершеннейшей бессмыслицей.
У Эгина перехватило дух. Пар-арценц! О Шилол! Да когда такое было, чтобы рах-саванн сидел за одним столом с пар-арценцем! Это так же нелепо, как князю играть в кости со своими сокольничими. Но виду он, разумеется, не подал, а только вежливо промямлил что-то об огромной чести, которую Дотанагела оказал ему своим доверием… Да, Вербелина совсем не та дурочка, которой хочет иногда казаться! Спать с пар-ар-ценцами Свода Равновесия сладостно и почетно, даже если титул последних отягощен мужским слабосилием. Но на этом Эгин осекся. Не ровен час Дотанагела способен читать мысли.
Оставался открытым еще один принципиальнейший вопрос. Знает ли пар-арценц о том, что его подруга Вербелина до вчерашнего утра состояла в связи с ним, Эгином? Впрочем, этот вопрос лучше отложить.
Странные все-таки вещи этот пар-арценц ― а это был, несомненно, он ― говорил про магию и жуков-мертвителей. Скольких простаков он обрек на смерть за подобные славословия?
Дотанагела, разумеется, улыбался. Ну да много ли стоит эта дружественная улыбка на лице такого человека, как Дотанагела?
– А со мной вы уже знакомы, ― на правильном, но отягощенном каким-то необычным акцентом варан-ском языке сказал капитан. ― На всякий случай напомню, что меня зовут Самеллан.
– Я помню, ― совершенно честно сказал Эгин. Не запомнить такое странное лицо и такое необычное имя было просто немыслимо. Особенно для офицера на задании.
Когда все мужчины представились, настала очередь женщин.
– Я ― Вербелина исс Аран, ― защебетала Вербелина с целомудренной улыбкой. По всему было видно, что открывать пар-арценцу подробности и даже сам факт знакомства с Эгином она не намерена.
Эта игра показалась Эгину самоубийственной. Водить за нос пар-арценца! О Шилол! Но отступать было поздно. И говорить: «А разве вы меня не помните, госпожа Вербелина?» ― тоже. Либо Вербелина сама толком не понимает, кого морочит и кому наставляет рога, как не понимает, чем это чревато, либо… Но размышления об этом были неуместны. Ой как неуместны! Хорошо хоть она и впрямь Вербелина, а не какая-нибудь Гаэт. Еще не хватало, чтобы и она оказалась его коллегой из какой-нибудь Опоры Безгласых Тварей. А может, она и есть коллега, только…
– Меня зовут Авор, ― тихо отрекомендовалась девушка с четырьмя косами. ― Я вас помню. Мы как-то виделись в театре…
Если бы привычки краснеть, бледнеть, зеленеть, попав в неловкое положение, не вышиб у шестилетнего Эгина наставник вместе с мыслями о радостях семейной жизни, он скорее всего покраснел бы. Но вовсе не от осознания того, что мужчине этой русоволосой тихони он собственноручно отрубил голову на глазах у двух сотен зевак. А от воспоминания о сцене в Алом Театре. Таким дерзким хамом, каким тогда выглядел Эгин перед не посторонней, но и не виновной в преступном магическом баловстве Арда девушкой, он никогда не представал перед женщинами.
– Ну ладно, милостивые гиазиры, ― Знахарь опорожнил свой кувшин и наполнил чашку, тем самым подавая пример остальным. ― У нас есть дела поважнее, чем церемониальные расшаркивания. А это значит ― надо выпить.
Все молча согласились. Эгин тоже кивнул, одновременно с этим сознаваясь себе, что по-прежнему ни-чегошеньки не понимает. Неужто «Зерцало Огня» превратилось в прогулочный парусник для пар-арценцев и офицеров Свода и их миловидных подруг? Неужто все эти славные люди собрались здесь, чтобы попировать и пощекотать нервы крамолой? «Хорошо хоть голова не болит», ― сказал он себе, протягивая руку за кувшином.
– Интриговать вас далее, Эгин, не имеет смысла. Либо вы становитесь нашим единомышленником и беспрекословно подчиняетесь моим приказам, либо вы покойник, ― начал Дотанагела, опустив чашку на столик.
Эгин кивнул. В покойники он не торопился.
– Иланаф спас вам жизнь тремя часами раньше. Но теперь таких полномочий у Иланафа нет. Так что решать будете вы, Эгин, ― Дотанагела откинулся на подушки и добавил: ― И я, разумеется, тоже.
Эгин снова кивнул. Что еще он мог сделать?
– Итак, как вы, наверное, уже догадались, вы на борту корабля, команда и пассажиры которого предали князя и истину, ― продолжал невозмутимый пар-ар-ценц Опоры Писаний. ― Сегодня вечером мы покинули Пиннарин, чтобы больше не возвращаться в него никогда. Князь, гнорр Свода, все варанские уложения не имеют здесь никакой власти, Эгин. Если хотите, мы изменники, предатели, перебежчики. Эти слова тоже не значат здесь ничего. И я как пар-арценц Опоры Писаний подтверждаю это. «Зерцало Огня» следует в Хар-рену, ибо харренский сотинальм обещал мне, и нам всем, свою защиту и покровительство. Ваше положение, Эгин, таково, что вы можете либо отправиться в Тардер вместе с нами, либо умереть. Причем совершить этот выбор вы должны тотчас же и не колеблясь.
– Разумеется, я выбираю жизнь, ― после недолгого раздумья отвечал Эгин.
Дотанагела улыбнулся и развел руками.
– К счастью, вы не такой фанатик, каким показались мне в первые минуты.
– Осмелюсь спросить, из чего вы заключили, что это так? ― вздернул бровь Эгин, которому отчего-то стало обидно. Неужели то, что он не фанатик, написано у него на лбу? И если да, то эту вредную запись нужно стереть поскорее. На всякий случай.
– Да из того, хотя бы, что вы, Эгин, сказали «разумеется, я выбираю жизнь». Если бы не это ваше «разумеется»… ― вкрадчиво, но вполне дружественно сказал Дотанагела. ― Разве, заступая на службу в офицеры Свода, вы не давали клятву, что предпочтете смерть предательству?
– Как, собственно, и вы, пар-арценц.
– Все верно, Эгин. И я давал эту клятву, ― холодно сказал Дотанагела. ― Но помните, Эгин, что не стоит пытаться предавать нас так же, как предали Свод!
– Я ручаюсь за него, ― примиряюще сказал Иланаф.
– Так значит, бунт? ― задумчиво произнес Эгин.
– А ты что думал, мы на всех парусах мчим осматривать окрестности? ― это был задорный голос Знахаря.
– Признаться, нет, ― бросил Эгин и отпил из чашки. ― Мне лестно оказаться в обществе коллег, отправившихся в столь увлекательное путешествие на всех парусах, ― ни с того ни с сего провозгласил Эгин.
И, к собственному величайшему удивлению, он был совершенно искренен. Все вздохнули с облегчением, а Вербелина привычным движением поправила прическу. Ах нет, не прическу, Хуммер ее раздери! А свой славный парик. Подарок Дотанагелы?
– А теперь, Эгин, ― это уже был Иланаф, ― со всей честностью, на которую способен варанский офицер, поведай нам, что ты по этому поводу думаешь.
Вопрос Иланафа застал Эгина врасплох. Но игнорировать его не стоило. На провокацию нельзя отвечать провокацией. Сглотнув комок воздуха, Эгин прочистил горло и начал:
– …Я не знаю, что было причиной вашего решения, милостивые гиазиры. Но теперь я заодно с вами, причем скорее рад этому, нежели опечален. Дело в том, что задание, данное моим непосредственным начальником Норо оке Шином, собственно, то задание, ради выполнения которого я и поднялся на борт «Зерцала Огня», было заданием совершенно не выполнимым. Это был тупиковый туннель, оканчивающийся в подвалах Опоры Единства. Вы, мои коллеги, должно быть, понимаете, о чем я. Вдобавок этой ночью я совершил служебный проступок и сунул нос в такое странное дело, от которого мне следовало бы держаться подальше. Я стал поперек горла Хорту оке Тамаю, для начала сцепившись с его людьми, а затем укрывал у себя его племянницу, которая поутру отправила к праотцам двух моих слуг и словно бы превратилась в морской ветер. Или, выражаясь более прозаически, сбежала. Я обнажил Внутреннюю Секиру ― чему свидетелем любезный Шотор, ― меня испытывал на честность Норо оке Шин… Словом, за последние дни произошел ряд событий, смешавших с дерьмом и пеплом мою карьеру и поставивших жирный знак вопроса на моей жизни…
Эгин, конечно, утрировал. Переставлял акценты. Сгущал краски.
Он говорил нарочито сбивчиво. Красноречие ― это союзник, но не его, Эгина, союзник. Красноречие хорошо только тогда, когда обдумывать каждое слово вовсе не обязательно. Красноречие уместно там, где слова ничего не значат. Там, где речь ― лишь музыка. С пар-арценцами следует быть искренним, смущенным и правдивым. Лгать нельзя. Лгать не следует. Лучше не договаривать. Это сложно, но выполнимо, да и доказать ему следовало всего лишь то, что он, Эгин, в безвыходной ситуации.
– И, стало быть, я обречен. Сожалеть о том, что Пиннарин, а с ним и Сиятельный князь, и истина ― обречены, мне, обреченному офицеру, вовсе не с руки. Ибо моего разумения хватает на то, чтобы предпочесть предательство гибели. Причем двойной гибели, милостивые гиазиры.
Дотанагела, к которому по преимуществу и обращал свой рассказ Эгин, удовлетворенно покачал головой. Кажется, Эгину удалось добиться своего. Пар-ар-ценц поверил большей половине того, что говорилось.
– Я еще утром заметил, парень, что дела твои идут хреново, ― обаятельно ухмыльнувшись, подытожил Знахарь, обращаясь как бы ко всем ― к Эгину и к каждому в отдельности. ― В его словах очень много, правды, ― добавил он, но уже обращаясь к одному лишь Дотанагеле.
Они говорили долго. Эгину приходилось много слушать, много поддакивать и еще больше удивляться.
Они опорожнили все кувшины и съели всю снедь. Но, как и всякий разговор, этот, сколь бы важным он ни был, не мог продолжаться вечно. И спустя три, а быть может, четыре часа предатели князя и истины встали из-за столика и стали расходиться по своим каютам. Вербелина демонстративно льнула к Дотанагеле, Самеллан зевал, а русоволосая Авор, не проронившая ни слова с момента своего представления Эгину, укутавшись в кружевную пелерину, заторопилась к выходу из «капитанского зала». «Если бы я не знал наверняка, что она была близка с Ардом оке Лайном, я бы, верно, подумал, что она девственница», ― отметил про себя Эгин" провожая взглядом хрупкую фигурку девушки с тощими русыми косами: Один Знахарь был удивительно бодр и свеж. Казалось, печать озабоченности и неопределенности, которая лежала в уголках искушенных глаз всех профессиональных лицедеев из Свода Равновесия, была совершенно чужда ему. «И откуда они только берут их, этих Знахарей?» ― вот о чем думал Эгин, выходя в соленую черноту ночи.
– Я провожу тебя до каюты, ― как нечто само собой разумеющееся бросил Иланаф, обдавая Эгина хмельными запахами ужина.
– Буду рад, ― радушно отвечал Эгин, в сотый, наверное, раз за эти бесконечные сутки отдавая должное затейливой судьбе, волею которой каюта Арда, которую он совсем недавно осматривал, вооружившись Зраком Истины, стала его каютой. Тем склепом, где ему, по всему видать, придется торчать еще долго.
Они неспешно прошествовали по верхней палубе, удаляясь от остальных. У самого носа корабля Иланаф облокотился о фальшборт и бросил назад взгляд, который Эгин, не будь он офицером Свода, быть может, счел бы нечаянным. Нет, они были здесь одни. Матросы, не занятые на вахте, спали.
Эгин испытующе поглядел на Иланафа. Тот на него. И оба отвели глаза. Оба были уверены в том, что собеседник абсолютно трезв. Физически и духовно.
«В конце концов, если я и могу доверять кому-нибудь на этом проклятом корабле, так это только Ила-нафу. Что бы этот сукин сын ни готовил!»
Но он, похоже, не готовил ничего более сногсшибательного, чем то, что уже довелось услышать Эгину из уст Дотанагелы.
– Спасибо, ― сказал Эгин со всей возможной признательностью, которой был готов заплатить за свою жизнь.
– Надеюсь, будь ты на моем месте, Эгин, ты сделал бы то же самое, ― несколько смущенно отвечал Иланаф. Возможно, ему было неловко, что, несмотря на его протекцию, Эгину все-таки изрядно досталось по голове обернутым в войлок шестопером. А возможно-и скорее всего, ― он, как и всякий офицер Свода, чувствовал неловкость всякий раз, когда кто-либо начинал подозревать его в том, что ему не чужды старомодные человеческие чувства. Те, что не приветствовались в Своде, ибо не являлись необходимыми. Привязанность, любовь, сострадание.
– Скорее всего ― сделал бы, ― отвечал Эгин, на которого временами находили приступы той же болезни.
– Ладно, ладно. Ты держался молодцом. Как будто у Норо на сковородке. Даже лучше. Ты все сказал правильно. Дотанагела тебе поверил, а от этого зависело все. «Несчастлив и лих тот час, когда ты вызовешь гнев пар-арценца!» Это не пустые слова… Но ты ему, кажется, понравился, несмотря ни на что. Насколько ему вообще кто-то может понравиться.,
«Несмотря ни на что!» У Эгина екнуло сердце. Он вспомнил о Вербелине. Иланаф знает, что Эгин и Вербелина состоят в связи. Или, точнее, состояли до вчерашнего утра. Он вполне мог поделиться своим знанием с пар-арценцем. Чтобы набрать весу в его глазах. Но и без этого! О Шилол! Какую глупую игру затеяла Вербелина. Дотанагела из Опоры Писаний. Гастрог ― тоже из, Опоры Писаний. Гастрог прекрасно осведомлен о том, что он, Эгин, спит с Вербелиной, чем он с радостью поделился с Эгином. То, что знает подчиненный, знает и начальник. Значит?.. Эгин взглянул на Иланафа, ища не то опровержения, не то утешения.
Иланаф не ответил. Но в его глазах было написано:
«Знает».
«Ничего не исправить. Если Дотанагела захочет моей смерти, он получит ее. С Вербелиной или без».
«Не думай о том, что неисправимо», ― говорил в нем голос его наставника.
Эгин был понятливым учеником. А потому он спросил, стараясь выглядеть как можно более естественным:
– Скажи мне, Иланаф, а почему ты не взял с собой Онни? ― как-то само собой сорвалось с его языка. ― Мы шли вместе с ним после последней пьянки, и мне показалось…
Но Иланаф не дослушал его. Его руки были сжаты в кулаки, а его взгляд стал жестким и немного свирепым.
– Тебе не показалось, Эгин. Онни убит. И Канн тоже.
Вместе с привычными реалиями, представлениями о жизни и ролями прошедшие два дня отняли у Эгина три четверти его таланта удивляться услышанному и увиденному. А потому Эгин лишь распустил пучок на затылке. Его волосы рассыпались по плечам. Пускай это будет знаком траура.
– Я ручаюсь тебе, Эгин, это был отнюдь не несчастный случай, ― зло процедил Иланаф, хотя Эгин и не задал ему ни одного ― вопроса.
Повисла тягостная пауза. Эгин, опершись о борт, сверлил бессмысленным взглядом черные волны моря Фахо, подбрасывавшие «Зерцало Огня», словно игрушку. Но видел он совсем другое. Серое Кольцо, спрыснутое ночным дождем, себя и Онни. Видел как бы со стороны. Казалось, он даже слышал слегка гнусавые причитания Онни. И философствования, показавшиеся ему тогда неуместными, и кислую физиономию друга, намекавшую на то, что этот вечер для него закончится с двумя пальцами во рту, если не в луже собственной блевотины. О да, Онни уже отыграл свою партию.
– А у тебя еще все впереди! ― обнадежил его Иланаф.
Эгин вздрогнул. Но нет, Иланаф не проронил ни слова. Никто ничего не говорил. Лишь шелест волн, на который так похож иногда чистый пиннаринский говор.
Эгин пожелал Иланафу доброй ночи-и затворил дверь каюты Арда оке Лайна. Когда его взгляд скользнул по опустевшим книжным полкам, ему вспомнился Гастрог. А затем вспомнилось, что он уже никакой не Гастрог. А просто хладный труп. Как, собственно, и Онни уже не Онни. И Канн тоже. Так и не дослужились до рах-саваннов. Как, собственно, и Амма с Тэ-ном уже не слуги. А обыкновенные трупы в Чертоге Усопших.
Не много ли мертвецов для двух суток?
О да, Дотанагела был, вероятно, недалек от истины, когда говорил час или два назад о том, что Свод, тот Свод Равновесия, которому все они приносили простодушные клятвы, мало-помалу перестает быть тем идеальным Сводом, что блюдет чистоту и неизменность вещного мира по заветам Инна оке Лагина. Сводом, оберегающим истину. И князя. А что ― князь и истина суть есть одно и то же? Почему «во имя князя и истины», а не «во имя истины и Эгина», например? Князь ― человек, и он, Эгин, ― тоже человек.
Свод на глазах перерождается. И как всякое перерождение, это перерождение требует человеческих жертв. И оно находит и забирает их ― Онни, Гастрога, других. Неизвестных ему. Быть может, не слишком честных, не слишком искренних и вовсе не благородных. Но все же людей. И, увы, это перерождение в любой момент может потребовать в жертву рах-саван-на Опоры Вещей по имени Эгин. Это он понимал.
Но кое-что из рассказанного Дотанагелой осталось Эгином не понято. Например, о каком таком «та-лан отражении» толковал пар-арценц Опоры Писаний?
Вот Знахарь, например, несмотря на то, что он моложе Эгина на целых десять лет, знает ответ на этот вопрос. А он ― нет. Наверное, если бы он, Эгин, служил в Опоре Писаний, а не в Опоре Вещей, он бы тоже знал. Ибо «отражение» ― это уж наверняка не вещь. Не предмет. И не зеркало. Вообще хороший вопрос для философского трактата: есть ли отражение в зеркале некая вещь, милостивые гиазиры? Хм, Шилол его знает…
Эгин обхватил голову руками ― головная боль нарастала с чудовищной быстротой, мозги, казалось, снова начали медленно плавиться и растекаться. «Нет, на сегодня хватит!» ― возопил Эгин и был готов повалиться на койку, как вдруг у изголовья обнаружил свой сарнод, непонятно зачем накрытый грубым войлочным одеялом, как если бы это была подушка. Беззубая шутка ― вполне в духе Иланафа.
Разумеется, они осматривали все, что находилось в нем. Эгин в некоей меланхолической задумчивости открыл его и заглянул внутрь. Все на своих местах. А вот и коробочка с серьгами Овель. И скомканная бумага с раскрошенными печатями.
Пахнуло вишневым клеем, и щемящая, кислая, словно неспелая вишня, тоска накатила на Эгина из потаенных глубин бытия. Или из его потаенных высот. Овель. Да жива ли она, эта госпожа-плакса? Что с ней? Случится ли ему еще раз слиться с ней в танце великого единства? Случится ли ему найти еще что-нибудь, что было бы связано с ее именем? Знает ли о ней Дотанагела? Или, быть может. Знахарь? Как всегда, больше вопросов, чем ответов. Эгин положил одну из серег на ладонь и поцеловал ее. Теперь он отчего-то не сомневался уже в том, что серьги прислала ему именно Овель. Никто другой, кроме нее. Как память о быстро-летящей ночи, начавшейся для них на Желтом Кольце, продолжившейся в фехтовальном зале и окончившейся под кисейным балдахином? Как знак признательности? Или как плату за услуги?
Былоли тому причиной вино, нахлынувшая внезапно сентиментальность или нечто иное, но Эгин вынул из сарнода шелковый шнур, продел его в застежки серег, завязал шнур узлом и повесил получившееся ожерелье на шею, опустив усыпанные сапфирами клешни под рубашку. «Пусть думают что хотят», ― огрызнулся Эгин невидимому критику. «У нас тут не Свод Равновесия, в конце концов!» Что-то подсказывало ему, что он нашел серьгам Овель самое правильное применение.
И, ощущая грудью холод золотых клешней не то краба, не то неведомого гада, Эгин задул светильник и погрузился в беспокойный сон.
Глава восьмая МОЛНИИ АЮТА
Мокрый и холодный удар в лицо. Соленая вода в ноздрях, во рту, на языке, на губах. Что-то щекотливое и тоже весьма холодное струилось по животу, по груди, по ребрам. Он определенно тонул.
Закашлявшись, Эгин вскинулся на койке. ― Извините, милостивый гиазир, дело совершенно неотложное!
Он был мокр с головы до… нет, не до пят. До пупа. Он все еще находился в каюте Арда оке Лайна, а каюта все еще находилась на «Зерцале Огня», а «Зерцало Огня», судя по всему, все еще скользило по водной, глади моря Фахо и тонуть не собиралось.
Створки оконца были распахнуты, и в каюту врывался свежий морской ветер вкупе с отблесками утреннего солнца. Перед ним стоял матрос ― тот самый, который вчера днем бегал сообщить «инспекции» о его, Этана, приходе. В его руках был внушительных размеров кувшин. Порожний, разумеется.
– Какого Шилола? ― пробурчал Этан.
– Погоня, милостивый гиазир. Гиазир Иланаф послал за вами. А вы спали таким мертвецким, извините, сном, что… ― матрос смог только улыбнуться и продемонстрировать кувшин, у горла которого дрожали несколько капель морской воды.
– Ладно, ― великодушно махнул рукой Эгин, лояльности которого события последних суток пошли на пользу во всех смыслах. ― Подожди меня за дверью, я оденусь, и пойдем.
Палуба «Зерцала Огня» напоминала строительную площадку приграничного форта. Корабль преображался на глазах. Вдоль обоих бортов матросы устанавливали широкие полноростные щиты, обитые медью. Быстро снимались паруса. Нижние полотнища на обеих мачтах были уже опущены на палубу вместе с реями, и теперь матросы сворачивали их, словно гобелены, готовясь упрятать паруса в кожаные чехлы, смоченные водой. «Все, что может гореть, ― не должно гореть» ― таково было самое простое и самое полезное наставление Морского устава. Поэтому палубу обильно поливали морской водой из исполинских двухведерных бадей, подаваемых двумя носовыми подъемниками.
Но самое интересное творилось на корме «Зерцала Огня», представлявшей собою одну огромную, задиристо приподнятую надстройку. Эгин еще во время своего первого посещения «Зерцала Огня» приметил там какие-то угловатые сооружения, смотревшиеся инородно и противоестественно. И вот теперь с этими сооружениями происходило нечто ― они раскрывались, словно бутоны неизвестных цветов.
К тому моменту, когда Этан, следуя за своим проводником, поднялся на корму, «бутоны» уже раскрылись полностью. Вместо них на палубе ― по две на каждый борт ― отливали превосходной бронзой длинные трубы, установленные горизонтально и снабженные заметными утолщениями у основания. С другой стороны трубы имели отверстие размером с человеческую голову. Эгин видел их первый раз в жизни, но сразу догадался ― это пресловутые «молнии Аюта», о которых ходило столько загадочных слухов и о которых почти никто не знал ничего достоверного. Этану было известно, что эти трубы с чьей-то легкой руки называются «стволами» (хотя они и не были похожи на стволы деревьев), и еще он знал, что само по себе это оружие не имеет особо выдающейся ценности. Но если при нем находится тот, кто знает нужные слова и знаки…
Стволы были установлены на деревянных станках с небольшими колесами, а колеса находились в окованных бронзой желобах, проходящих по палубе. Сейчас прислуга как раз откатывала по ним «молнии Аюта» назад. Из трюмных погребов наверх подавались причудливые железные клети с круглыми металлическими шарами и продолговатые шелковые мешочки, в которых, как вполне справедливо предположил Этан, —находилось огнетворное зелье ― что-то наподобие смолотого в порошок «гремучего камня» древних легенд. В жаровнях, где покоились длинные железные прутья с деревянными ручками, поспешно раздували угли.
– Посмотрите на нашего доблестного рах-саванна! Он так залюбовался вашими питомцами, Самеллан, что совершенно не замечает ничего вокруг!
Голос был весел и бесшабашен, как бывает у многих воинов перед жестоким сражением. Голос принадлежал Дотанагеле и доносился откуда-то сверху.
На боевой башне «Зерцала Огня», традиционно вознесенной над палубой на семь локтей, собрались почти все вчерашние собеседники. Дотанагела, Знахарь, Иланаф, Самеллан, а также палубный исчисли-тель, чье имя все время ускользало даже от профессиональной памяти Эгина. Не хватало только Авор и Вербелины.
Эгин поднялся к ним ― под защиту железного ограждения смотровой площадки. Помимо рулевого колеса (весьма редкого даже среди просвещенных народов, которые в большинстве все еще пользовались огромными и неудобными рулевыми веслами) и алу-стральского Перста Севера там находилась необычная дальноглядная труба на поворотном станке с кругом. Круг, к полной неожиданности Эгина, был размечен изображениями фигур для игры в лам. И еще на смотровой площадке был установлен весьма изящный полированный столик, тоже размеченный фигурами лама, кое-где обуглившийся и во многих местах совершенно беспорядочно исколотый, надо полагать, весьма острой иглой.
– Доброе утро, ― довольно глупо брякнул Эгин.
– Доброе, очень доброе, рах-саванн! ― согласился Самеллан, улыбаясь во все свои тридцать два белых зуба.
«Чего он так радуется?» ― подумал Эгин, невпопад отвечая на приветствия остальных.
– Представляешь, Эгин, ― не менее оживленно, чем Самеллан, заговорил Иланаф. ― Эти уроды не послушались предупреждения уважаемого пар-арценца. Они все-таки погнались за нами и догнали нас!
– А где они, эти уроды? ― спросил Эгин, демонстративно вертя головой. Насколько он мог заметить еще когда шел по палубе, горизонт был совершенно чист. ― И какое предупреждение?
– Уходя из Пиннарина, мы выстрелили в борта «Вергрина» и «Сумеречного Призрака» стрелами с краткими посланиями, в которых уважаемый пар-ар-ценц предлагал капитанам этих кораблей отказаться от преследования «Зерцала Огня».
– А уроды, ― вмешался сам пар-арценц, ― пока еще в двадцати лигах от нас, и видеть обычным зрением их никто не может. Но я их разглядел еще до рассвета и понял, что им следует догнать нас.
– Еще бы! ― вскричал Самеллан. ― Этого Норгва-на, эту змеиную кровь, вот уже лет двадцать как пора утопить в нечистотах. И вот ― отличный повод!
«Следует догнать нас» ― это интересно сказано, ― подумал Эгин. ― Есть какой-то аютский анекдот из разряда запрещенных, про петуха и курицу…"
– То есть вы хотите сказать, что «Зерцало Огня» могло бы уйти от погони? ― спросил Эгин, против своей воли прищурившись типичным норовским прищуром. Сейчас его устами говорил прежний эрм-са-ванн Опоры Вещей, преданный князю и истине, беспощадный, трезвомыслящий.
– Да, рах-саванн, ― жестко ответил Дотанагела. ― Потому что «Зерцало Огня» ― самый быстрый корабль из всех, которые когда-либо бороздили море Фахо. Но сейчас «Зерцало» ― еще и самый могучий корабль из всех, которые знала история. Поэтому мы примем бой без страха. Вы, рах-саванн, наверное, очень плохо представляете себе, какие ублюдки гонятся за нами. Наверняка ― десятки офицеров из Опоры Единства, очень похожие на того, который зарубил Гастрога. Наверняка или почти наверняка ― три-четыре аррума из Опоры Писаний, мои заместители. Если их, конечно, по каким-то причинам гнорр не решил попридержать в столице. И, как уже заметил уважаемый Самеллан, «Сумеречный Призрак» наверняка находится под началом Норгвана. Ради одной только его жизни стоит отпустить «Призрак» туда, где место призракам.
– Так… ― протянул Эгин.
Он понял. Заговорщики решили не просто бежать под крыло к харренскому сотинальму. Они еще решили на прощание очень крепко досадить Своду Равновесия. Последствия этого шага были чересчур легко предсказуемы. Жестокость. Непримиримая взаимная озлобленность. Сиятельный князь и гнорр не остановятся ни перед чем, чтобы найти и убить всех, кто сейчас находится на борту «Зерцала Огня». И если ради этого потребуется влезть хоть в тардерскую башню Оно, ― влезут. А за харренским сотинальмом тоже дело не станет. И, как уже было сто с лишним лет назад, на рейде Пиннарина появятся огромные флотилии северных галер. А у Степных ворот ― грюты, изголодавшиеся в сохнущих от десятилетия к десятилетию степях Асхар-Бергенны и готовые на все… «По рожденью я грют…»
– Вы понимаете, что это война? ― спросил Эгин лишь ради того, чтобы не молчать.
– Да, рах-саванн. Это война, ― удовлетворенно кивнул головой Самеллан, и в его глазах блеснули шалые искорки безумия.
Как и предсказывал Дотанагела, они появились через полчаса, и теперь даже невооруженным взглядом можно было видеть два парусника, приближавшихся с юго-запада. Они спешили. За спинами офицеров «Голубого Лосося» стояли, посмеиваясь, бледнолицые люди Опоры Единства. Их короткие клинки, предназначенные исключительно для ударов в спину, были обнажены, намекая на незавидную долю ослушников.
Офицеры Опоры Единства имели вполне определенные предписания. Они собирались выполнять их в любой ситуации ― даже если небо над ними истечет огненным ливнем, а волны за бортом обратятся стаями бесплотных лебедей. И только Норгван, капитан «Сумеречного Призрака», был предоставлен сам себе. Ар-румы Опоры Единства не нуждаются в особом надзоре.
На кораблях преследователей не было «молний Аюта». Просто весьма совершенные стрелометы, два «огневержца», превосходные солдаты и, вопреки опасениям Дотанагелы, ни одного аррума Опоры Писаний. Князь отдал приказ на преследование чересчур поспешно ― на корабли успели загнать лишь несколько офицеров Опоры Единства сверх штатных. Так, для порядка.
«Вергрин» и «Сумеречный Призрак» были обречены, и во всем Пиннарине было только три человека, которые понимали это. Гнорр Лагха Коалара, аррум Опоры Вещей Норо оке Шин и владетельный Хорт оке Тамай. Из этих троих судьба «Вергрина» и «Сумеречного Призрака» была небезразлична только гнорру. Но приказ Сиятельного князя был законом даже для него, и повернуть корабли назад было не в его силах.
На боевой башенке «Зерцала Огня» царило напряженное молчание. Говорить было не о чем. Все и без того ясно. Эгин мысленно проклинал тот день, когда Норо подсунул ему дело Арда. Не было бы его ― не было бы бескрайней морской стихии, пронзительно-синего жаркого неба над головой, четырех «молний Аюта», полностью снаряженных и готовых к бою, и, главное ― не было бы этого щемящего ощущения, которое всегда возникает перед лицом неизбежного и непоправимого.
«Вергрин» и «Сумеречный Призрак» находились приблизительно в двух лигах от них, когда Самеллан коротко бросил: «Можно начинать».
Исчислитель сверился с записями на желтом пергаменте и своей дальноглядной трубой, вслед за чем прокричал:
– Левому борту ― «шипастый окунь» и пять!
Засуетилась прислуга, два блестящих ствола вздрогнули и неспешно поползли влево. Остановились. И спустя мгновение стали подыматься вверх. Снова остановились.
«Две лиги! ― ужаснулся Эгин, на глаз прикидывая расстояние до преследователей. ― Неужели это Хум-мерово отродье швыряет железные шары на целых две лиги?!»
Самеллан, напевая под нос кабацкую песенку о тринадцати одноглазых девах, извлек две длинные иглы-заколки с яшмой и воткнул их в стол, размеченный фигурами лама. Эгин, который смутно догадывался о смысле происходящего, ожидал, что Самеллан воткнет иглы в «шипастого окуня», но этого не произошло. Просто ― в самый край стола, вне рисунков.
– Готовиться! ― голос исчислителя едва заметно дрогнул.
Обслуга поднесла к крохотным отверстиям в задней части стволов раскаленные прутья, снятые с жаровен.
– Прикрой уши ладонями, ― шепнул Иланаф Эги-ну, и тот не замедлил воспользоваться его советом.
Самеллан сказал фразу на неизвестном Эгину языке, в каждом звуке которого сквозила глубинная и неизъяснимая жуть, и вместе с последним словом, слетевшим с его уст, исчислитель прокричал:
– Пали!
Особых «молний Аюта» Эгин при свете дня не разглядел. Зато гром был такой, что, казалось, по ушам хлопнули осколки сокрушенных небес. Страшно было подумать, какой удар пришелся бы по его барабанным перепонкам, не заткни он уши. Внизу снова засуетилась обслуга, перезаряжая откатившиеся по желобам «молнии Аюта».
Прошло несколько мгновений звонкой тишины. Всю корму «Зерцала Огня» с левого борта заволокло тяжелым густо-серым дымом, но благодаря своему возвышенному положению Эгин видел, как перед носом одного из преследователей взметнулись два скромных фонтана брызг. Весьма и весьма скромных. «Тоже мне молнии!» ― разочарованно подумал Эгин. Он надеялся на более внушительное зрелище.
– «Сумеречный призрак» правее, ― заметил Дотанагела, который, пренебрежительно выпятив губу, наблюдал за растущими на глазах силуэтами преследователей.
– Сам вижу! ― довольно резко огрызнулся Самеллан, изучая корабли в свою дальноглядную трубу. ― Но Норгван мне нужен здесь, и живой, а не там, и мертвый. Пока что мы занимаемся «Вергрином».
Эгин знал, сколько времени подчас может потребоваться на перезаряжение порядочного камнемета, и был несказанно удивлен, увидев обе «молнии» полностью готовыми к стрельбе спустя какую-то минуту.
– «Южный краб» и четыре! ― это вновь кричал исчислитель, а Самеллан тем временем из грубой деревянной шкатулки вытрусил на свой загадочный столик щепоть черного порошка. В точности на рисунок «южного краба».
– Готовься!
Самеллан вновь заговорил на своем изуверском языке, но, кажется, это были какие-то другие слова.
– Пади!
Снова удар по ушам ― Эгин был уже внутренне готов, и поэтому грохот показался ему несколько слабее предыдущего. Снова ― несколько мгновений тишины. И когда тишина, согласно некоему внутреннему чувству Эгина, уже должна была закончиться, Самеллан с маху воткнул обе иглы в щепоть черного порошка на месте «южного краба».
На этот раз они снова не попали точно. Но это было и не очень-то важно.
«О Шилол!» ― подумал Эгин с ужасом.
Близ правого борта «Вергрина» вспухли два огромных алых шара и быстро опали, оставив после себя быстро рассеивающийся в воздухе ядовито-желтый дым. Потом донесся рокот. И только потом Эгин разглядел ― правый борт «Вергрина» разворочен на четверть длины корабля от палубы почти до самой воды. Там занималось пламя.
Пристрелка была окончена. Теперь «молнии Аюта» должны были разить без промаха.
"…клянусь… клянусь быть… беспощадным искоренителем Слов, Знаков, Обращений и Изменений, направленных как в явный вред, так и во мнимую пользу… и обиталищ людей… "
В голове Эгина вперемешку с очевидной чушью бессмысленно переваливались слова Клятвы. Многого же она стоит для самого Свода Равновесия! Эгин был уверен, что Зрак Истины разлетелся бы в изумрудную пыль от созерцания этих проклятых «игрушек» Самел-лана.
После пятого залпа «Вергрин» остался без парусов. Теперь были разворочены не только его левый борт, но и палуба, и носовая часть, где занимался жестокий пожар. Воображение Эгина отказывалось рисовать картины смятения и ужаса, которые царили сейчас на «Вер-грине». Имена Шилола навязли у него на зубах, и он, перестав сквернословить, перестал вообще реагировать на происходящее. Широко раскрытыми глазами смотрел он на обреченный корабль. Так легко… Так просто… Сыпать черный порошок на деревянный столик, нести какую-то околесицу, втыкать иглы и подносить раскаленное железо к дырочкам в бронзовых трубах…
Флаги ― и варанский, и «Голубого Лосося» ― были сбиты на «Вергрине» вместе с мачтами. Окутанный плотными клубами дыма, то и дело озаряющийся малиновыми вспышками корабль по Праву Народов являлся сейчас неопознанным пиратским судном. И вдруг по правому борту свесился длинный шест ― судя по всему, обломок реи, ― на котором трепетал лоскут ткани. Это не был ни зеленый княжеский, ни голубой «лосо-синый» флаг. Это была какая-то безвольная тряпка черного цвета.
Что есть черный цвет для северных народов Сар-монтазары?
Черный цвет для северных народов Сармонтазары есть знак конечной покорности судьбе, которую мудрецы также именуют Гулкой Пустотой. В войне черный цвет означает преклонение перед несгибаемой мощью судьбы, которую олицетворяет неприятель.
– Готовься! ― в очередной раз прокричал исчисли-тель.
– Постойте, гиазиры, ― собственный голос показался Эгину голосом надтреснутого колокола.
Самеллан, который собрался было вновь твердить свои заклинания, изумленно вскинул брови.
– В чем дело, рах-саванн?
– Они выбросили черный флаг. Они сдаются на нашу милость, ― сказал Эгин твердо.
– Да? Вы полагаете, что не пристало стрелять в черный флаг? ― спросил Самеллан без малейшей иронии. Напротив, он был настолько серьезен, что Эгину стало не по себе. Что-то было там в прошлом, у этого Самеллана… Что-то, заставившее его ненавидеть человека по имени Норгван и презирать Право Народов.
– Не пристало, гиазир Самеллан, ― неожиданно подал голос Дотанагела. ― То, что случилось семнадцать лет назад по обоюдной ошибке флота и Свода Равновесия, не следует повторять нам. Нам, вставшим на путь добра.
Самеллан поглядел на Дотанагелу исподлобья. Чувствовалось, что он готов сожрать пар-арценца со всем его «добром» и прочими рассудительными речами. Потом Самеллан перевел взгляд на «Вергрин», который горел в пятистах шагах от «Зерцала Огня». Его лицо просветлилось.
– Полностью согласен с вами, пар-арценц. Но я не вижу черного флага. Только варанский.
Эгин, который, весь напрягшись, как оружейная сталь, готов был без раздумий врезать Самеллану под дых, посмотрел на «Вергрин». Самеллан был прав. Черный флаг куда-то ― исчез. Вместо него на все том же обломке реи, но уже поставленном вертикально, более или менее гордо реял княжеский флаг династии Саг-горов.
– Идиоты… ― прошипел Иланаф.
– Я могу вернуться к исполнению своих обязанностей ― Самеллан примирительно улыбнулся Дота-нагеле.
– Можете, капитан.
Вскоре грянули «молнии Аюта», и на этот раз попадание оказалось особенно губительным ― обе пробоины пришлись на уровне морской поверхности, и в чрево «Вергрина» стремительно хлынула вода.
Никто никогда не узнал, что творилось на «Вергри-не» в последние минуты. Никто никогда не узнал, как озверевшие от страха и ненависти к своим соглядатаям офицеры «Голубого Лосося» убивали офицеров Опоры Единства. Как они искали черное полотнище на корабле и, не найдя ничего подходящего, зачернили сажей и кровью убитых обрывок паруса. Как чудом уцелевший рах-саванн Опоры Единства собрал вокруг себя с десяток абордажных воинов, заморочив им головы всякими небывалыми ужасами из «Книги Урай-на». Те отбили черный флаг и, хохоча, изрыгая проклятия предателям, вновь подняли стяг своей гордой морской родины. А потом они все погибли.
Пока «Зерцало Огня» сокрушало «Вергрин», «Сумеречный Призрак» беспрепятственно описывал широкую дугу, заходя на мятежный корабль с самого безопасного направления ― с носа. «Призрак» отлично просматривался отсюда, с боевой башенки , потому что паруса были полностью убраны и не закрывали обзор.
Оказавшись в двухстах шагах от «Зерцала», «Призрак» дал залп из «огневержца» и стрелометов. И тогда Эгин не выдержал и разразился громкой бранью. Потому что если обе огромные стрелы, с лязгом чиркнув по железным щитам на правом борту, сорвали один из них и, не причинив больше никакого вреда, упали в воду, то глиняный снаряд «огневержца» угодил точно под основание их боевой башенки и, разбившись, выплеснул прямо под ноги обслуге «молний Аюта» с полведра жидкой огнедышащей массы.
– Что вы все время ругаетесь, рах-саванн?! ― гневно проорал в ухо Эгину Дотанагела, пытаясь перекричать вопль обожженных матросов. ― Если бы не я, этот проклятый кувшин разбился бы у вас на голове!
В руках у пар-арценца был обнаженный меч. Когда он успел выхватить его, для Эгина осталось загадкой. Но, видимо, успел вполне вовремя, и меч был вполне согласен с этим. По его узкому и длинному клинку, своим аскетичным исполнением напоминающему о «новой ласарской школе», пробегали голубые нити. Невиданное крестообразное яблоко на рукояти вращалось, как крылатое колесо ветряной мельницы. Эгин заметил, что пар-арценц очень зол и, похоже, немного напуган.
Исчислитель прокричал обслуге «молний Аюта» что-то невразумительное, и ближний к носу ствол с правого борта, который пока что молчал, стал разворачиваться в направлении «Сумеречного Призрака». Только сейчас Эгин сообразил, что «молнии Аюта» расположены самым выигрышным образом и могут стрелять не только по бортам, но и прямо по курсу ко-.рабля.
По палубе стелился жирный черный дым. Воины из абордажной партии, подоспевшие на выручку по приказанию своих офицеров, растаскивали подальше от огня шелковые картузы с огнетворительньш зельем. Появились первые бадьи с водой и песком.
Следующий залп «Сумеречного Призрака» бьш отражен пар-арценцем тоже не самым лучшим образом.
Он сосредоточил все свое внимание на глиняном кувшине «огневержца», и тот, угрожающе прогудев длинным дымящимся хвостом запала у них над головами, упал в море за кормой корабля. Он разбился о волны, и Эгин с ужасом обнаружил, что Хуммерова смесь горит даже на воде.
Но восьмилоктевые стрелы пар-арценцу отвести не удалось. Пробив носовые щиты, они разрушили правый подъемник и убили нескольких человек из абордажной команды. Горящая пакля, которой стрелы были обернуты в первой трети, уродливыми лохмотьями повисла на вывороченных досках палубы.
"Так ведь они могут расстрелять нас, как мы ― «Вергрин», ― подумал Эгин довольно отстранение. Впрочем, его опасения оказались совершенно напрасными.
Без всякой возни с пристрелкой и без всяких исчислений ― слишком близко подошел «Сумеречный Призрак» к их кораблю, чтобы существовала хоть малейшая необходимость вводить поправки, ― «молния Аюта» разразилась громом. Уже привычный взору Эги-на алый шар вспух среди парусов носовой мачты «Сумеречного Призрака», и сероватые полотнища охватило прожорливое пламя.
Похоже, пресловутый Норгван понимал, что «Зерцало Огня» даже из одной «молнии Аюта» разделает подчистую «Призрак» раньше, чем тот успеет сколько-нибудь ощутимо досадить беглецам. У «Призрака» оставалась только одна надежда ― абордажный бой.
Когда «Призрак», проскрежетав вдоль борта «Зерцала Огня», намертво вцепился в него крючьями «кошек» и абордажных мостиков, это было равносильно полной победе беглецов. Потому что во главе воинов «Зерцала Огня» встал Дотанагела и его магический меч (по которому плакало, ох как плакало Жерло Серебряной Чистоты!) запел песню смерти в полный голос.
Абордажную партию «Призрака» вообще не пустили на палубу «Зерцала». Первые воины, достигшие конца мостиков, были срезаны мечом Дотанагелы с десяти шагов, и Эгин содрогнулся, наблюдая, как корчатся в предсмертных судорогах люди, чьи кольчуги, разлетевшись в один миг на тысячи лопнувших колец, подставили свою плоть под незримое продолжение меча Дотанагелы.
Самеллан, Знахарь, Эгин и прочие тоже не остались в стороне. И только Авор с Вербелиной, следуя строжайшему приказу Дотанагелы, продолжали прятаться в каютах.
Дотанагела и Самеллан, вооруженный огромной архаической варанской секирой (родной сестрою тех, что украшали жетоны офицеров Свода Равновесия), вступили на борт «Призрака» первыми.
– Я иду, Норгван! ― ревел Самеллан, и шлемы врагов разлетались под его ударами вдребезги, как перезревшие «бешеные огурцы». ― Я иду, змеиная кровь!
Знахарь с легкостью перемахнул на палубу «Призрака» и приземлился на четвереньки так, будто был кошкой, а не двуногим человеком. Меч описал полукружие над его головой. Странные были замашки у этого Знахаря, очень странные. А когда в его руках Эгин заметил длинный каменный нож вместо привычного меча или алебарды, он окончательно понял, какая невиданная банда бежала из Пиннарина солнечным днем месяца Алидам.
Каменный нож в руках Знахаря был опаснее любого обычного меча. Потому что обычные мечи раскалывались при встрече с его незатупимой кромкой, потому что тяжелый двойной панцирь с треском раскрылся под ударом Знахаря, потому что незадачливый офицер Опоры Единства, пытавшийся достать Знахаря алебардой, спустя мгновение остался с бесполезным обрубком древка в руках, а Знахарь, совершив свой очередной кошачий прыжок, подкатился ему под ноги и распорол несчастному пах.
Палуба под ногами Дотанагелы дымилась. Краем глаза Эгин заметил, что пар-арценц был бос. Воздух над его головой дрожал и переливался, как над раскаленной плитой. «Расплавится, ох, расплавится», ― подумал Эгин, стараясь заглушить священный трепет, которым помимо воли наполнялось все его существо при виде этого небывалого сражения.
Аррумы и пар-арценцы… Кристальная чистота пред лицом князя и истины. Князя ― возможно. Истины ― едва ли. Разве только истина их заключается в том, чтобы, искореняя магию, самим напитываться ею. Так белая промокательная бумага, вбирая чернила, становится черной, как смоль. Жерло Серебряной Чистоты… Изумрудный Трепет… Они, эрм ― и рах-саванны, со всего Варана и со всего Круга Земель несут таинственные рукописи, разыскивают вещи и людей, причастных к Изменениям. Они сдают все это своим начальникам, а те отправляют скверну в Жерло Серебряной Чистоты… Да уж, как же! Мусор, только мусор попадает в Жерло. Приворотные перстни, глупые апокрифы по Элиену и Урайну, подметные списки аютских любовных искусств. Да, еще мелкие должностные преступники. Вот в этом Эгин не сомневался. При вступлении в ряды офицеров им всем показывали Жерло Серебряной Чистоты в действии.
Жар, тяжелый барабанный грохот, своды из красного греоверда ― давно, впрочем, закопченного до непроглядной черноты. Озеро ослепительно белого клокочущего расплава ― не серебра, нет ― а если и серебра, то явно Хуммерова. Кто и чем питает его неугасимый яростный жар? О, об этом ведомо, быть может, одному лишь гнорру.
«Именем князя и истины рах-саванн Опоры Без-гласых Тварей, преступивший черту меж должным и непозволительным путем сочетания с двумя девственницами единовременно, приговаривается к испепе-лению и вечному проклятию». Ужас в глазах приговоренного. Короткий вопль. Аррумы Опоры Единства, произносящие страшные слова, от которых, кажется, барабанные перепонки вот-вот изойдут кровавым потом… Эгин был готов заплатить многое, чтобы увидеть, как исчезает в Жерле Серебряной Чистоты хоть что-нибудь стоящее. Ну, меч Норо оке Шина, например…
Эгин сражался. Его воля к действию была полностью сконцентрирована на кровопролитии, но рассудок пребывал сейчас очень, очень далеко. В Пиннарине, в прошлом. И почему его тело отлетело куда-то назад, отброшенное могучей рукой, он понял только, когда на том месте, где он стоял, упала, рассыпая уголья, прогоревшая рея.
– Не владеешь в совершенстве Освобожденным Путем ― не пользуйся им вообще! ― гаркнул над ним Дотанагела. И неожиданно вскрикнул, словно ужаленный пчелой ребенок. Именно ребенок. В мире что-то изменилось. Что?
Норгван, аррум Опоры Единства и капитан «Сумеречного Призрака», был не более чем аррумом и многого противопоставить мощи пар-арценца Опоры Писаний не мог. Поэтому, когда только Дотанагела ступил на палубу его корабля, он, как и положено истинной крысе-людоеду с кровью змеи и сердцем спрута, поспешил укрыться от недремлющего ока Дотана-гелы во чреве кормовой надстройки.
Засим Норгван изволил наблюдать за своими обреченными людьми сквозь однопрозрачное оконце из того измененного стекла, из какого были сотворены двери в туннелях Свода Равновесия. Наблюдать ― и неспешно, с расстановкой подготавливать к схватке свой боевой бич и «крылатую иглу». Когда он увидел, что Дотанагела несколько увлекся собственным мнимым всемогуществом и колеблющийся столб воздуха над его головой едва заметно темнеет, выдавая слабость пар-арценца, Норгван покинул свое убежище. Даже крыса-людоед не столь глупа, чтобы, сложив лапы, спокойно дожидаться прихода крысоловов в собственной норе.
Дотанагела изумленно поглядел на свое плечо. Там, шипя и дымясь, торчала игла с хвостом из разноцветных лоскутков. Эгин, все еще сидевший в глупой позе на палубе, первым заметил Норгвана.
– Вон он! ― крикнул он, указывая в направлении кормовой надстройки.
Там свистал боевой многозвенчатый бич. Горло одного из «лососей» с «Зерцала Огня» вмиг было оплетено звенящей сталью. От сильного рывка воин упал на колени, и меч Норгвана положил конец его страданиям. Обрубленная голова была отброшена носком его сандалии прочь, бич освобожден, а сам Норгван, облаченный в позлащенные доспехи во вкусе ре-тарских стердогастов, шагнул навстречу Дотанагеле.
Пар-арценц был багров и страшен. Он несколько раз пытался вырвать из плеча «крылатую иглу», но она, распустив в его плоти жестокие крючки, не выходила. Дотанагела упал на колени. Знахарь был далеко и не видел происходящего. Самеллан, чья секира то и дело взлетала над головами в свалке по противоположному борту, ничем помочь не мог. И Эган, и Иланаф могли противопоставить чересчур подвижному для неодухотворенного предмета бичу в руках Норгвана лишь свои обычные мечи, придуманные для честных воинов, а не для Хуммеровых наперсников.
Норгван был уже в каких-то двадцати шагах. Он понимал, что не сможет одолеть всех и вся на этом проклятом «Зерцале Огня». Но он знал, что предателю пар-арценцу не жить. Равно как и тем двум молокососам из банды изменников, которые завороженно наблюдают за его приближением. И Норгван был горд своей службой князю и истине.
Но не только Эгин и Иланаф видели его. Был еще один человек на боевой башенке «Зерцала» с неприятным, словно траченным огненной молью лицом, который понял все. И «молния Аюта» по правому борту, довернутая на «крапчатого спрута» и ноль, смиренно дожидалась своего часа. С исчислителем не было Са-меллана, а без его слов и магических игл ядро «молнии» означало не более, чем просто кусок железа. Впрочем, с сорока шагов и этого было достаточно. Норгван сделал еще один шаг. Исчислитель затаил дыхание.
– Пали!
– Где, раздери меня Шилол, этот проклятый Норгван? ― это был Самеллан, его руки были запятнаны кровью до локтей, двусторонняясекира жестоко иззубрена.
Все закончилось только что. Пленных не было. Палуба и трюмы «Сумеречного Призрака» были усеяны телами погибших. Среди них было и двадцать девять воинов с «Зерцала Огня».
Над потерявшим сознание Дотанагелой склонился Знахарь. Эгин, тяжело опершись на древко трофейной алебарды, ошалело таращился на все еще теплые золотистые обломки панциря Норгвана.
– Норгван? ― спросил он, подымая взгляд на свирепого сокрушителя офицеров Опоры Единства. ― Вот ваш Норгван, досточтимый гиазир Самеллан.
Эгин поддел носком ближайший искореженный обломок панциря. Снизу он был заляпан какими-то нелицеприятными кровавыми сгустками, но едва ли был сейчас на палубе «Сумеречного Призрака» человек, способный изобразить что-либо, напоминающее брезгливую гримасу.
Самеллан несколько мгновений молчал. Потом тяжело вздохнул.
– Я хотел взять этого подонка живым, ― сказал он упавшим голосом. ― Оторву голову исчислителю.
Знахарь поднялся с корточек, сжимая в руке зловеще почерневшую «крылатую иглу», которую он наконец-то смог извлечь из плеча Дотанагелы.
– Если бы не исчислитель, милостивый гиазир Самеллан, ― сказал Знахарь, сверля капитана пристальным взглядом, ― пар-арценц был бы сейчас мертв. И вместе с ним было бы мертво все наше дело. Так что потрудитесь оставить свою мстительность при себе. Она вам еще пригодится в будущем. А исчислителя я бы рекомендовал представить к нагрудному отличительному знаку. Вот только непонятно к какому. Явно не к варанскому, ― закончил Знахарь уже в своей привычной шутливой манере.
Глава девятая МЕСТЬ САМЕЛЛАНА
Потом они долго собирали оружие, считали павших и под предводительством Иланафа рылись в трюмах на предмет чего-нибудь интересного. Интересного не сыскалось. Бич Норгвана долго разглядывал Знахарь, а потом, пробормотав какое-то проклятие, вышвырнул прочь в волны моря Фахо. «Дрянь, ― прокомментировал он свое действие, ― лучше с ним не возиться. Удавит». Потом матросы расчехляли паруса, убирали щиты и вообще переводили «Зерцало Огня» в обычное походное положение.
Подожженный на прощание собственными снарядами «Сумеречный Призрак» растворялся за кормой в роении искр и хлопьев сажи. Ему было суждено стать погребальным костром для двухсот сорока трех варан-цев, долгие годы составлявших заслуженную гордость «Голубого Лосося» и Свода Равновесия. Война началась, и первое сражение в ней было выиграно мятежным пар-арценцем Дотанагелой.
Сам пар-арценц, синюшный, как умертвие, лежал сейчас на жесткой койке (так приказал Знахарь) и бредил под бдительным надзором Вербелины исс Аран. «Она, похоже, действительно влюблена в это исчадие Хуммера, ― подумал Эгин, заглядывая на секунду в их каюту. ― Впрочем, я бы, пожалуй, тоже любил человека, который вытащил бы меня из того псового вертепа, который творился в ее имении».
Этан, который после сражения был полностью предоставлен сам себе, пошел на корму. По дороге он встретил иечислителя, который с какой-то дурацкой полуулыбкой на изможденном лице плелся вдоль борта, то и дело сплевывая коричневые сгустки слюны. Эгина он совершенно проигнорировал.
– Милостивый гиазир! ― тронул его за локоть Эгин. Тот остановился, обратил к Эгину пустой взор и пробормотал:
– А-а, вчерашний рах-саванн…
– И сегодняшний тоже! ― задиристо заметил Эгин. Выходило довольно глупо. Он хотел от всего сердца поблагодарить исчислителя за его отличную службу, которая в конечном итоге спасла жизнь не только До-танагеле, но и ему, Эгину, хотел извиниться за вчерашнее недоразумение на палубе, хотел… А вместо всего этого прекраснодушия он стоит перед живым трупом, который обожрался запрещенной «смолки», или «корки», или, Шилол поймешь, как эта дрянь у них называется, и с трудом видит своего собеседника сквозь какое-нибудь блаженное радужноцветное марево.
Исчислитель молча и бессмысленно улыбался ему. Как ребенок. Эта мысль о ребенке немного смягчила раздражение Эгина, и он хлопнул «лосося» по плечу.
– Спасибо, друг, за стрельбу. И, клянусь Шило-лом, шел бы ты в каюту проспаться. У тебя сегодня был трудный день.
«Какая чушь! ― ужаснулся сам себе Эгин. ― Хорошо, что он меня сейчас не понимает». И вдруг, к огромному своему удивлению, Эгин увидел в глазах ис-числителя проблеск смысла ― чужого, непривычного, но все же смысла ― и тот, разлепив губы, произнес ровным голосом:
– Ты ошибаешься, рах-саванн. Трудный день сегодня был у тебя.
"А ведь он прав, мерзавец, ― думал Эгин, поднимаясь на боевую башенку. ― По-своему прав. Ведь он, исчислитель, просто делал сегодня свою привычную работу, какую ему не раз и не два приходилось выполнять в боях со смегами и в стычках с задиристыми северянами близ дельты Ориса. Самеллан ― тоже. Дотанагела, Йланаф, Знахарь ― они прекрасно знали, на что идут. А я вчера получил по голове, потом ночью на меня обрушились потоки новостей, а сегодня спросонья ― эта огненная мясорубка. А я ведь думал, что подобные сражения гремели только шесть веков назад в Синем Алустрале. Да и то не в действительности, а на страницах всех этих насквозь лживых «Книг Урайна».
Вход на боевую башенку теперь охранялся двумя алебардистами (вполне по Морскому уставу), но Самеллан крикнул им, что Эгина можно пропустить.
Эгин поднялся наверх и здесь, наверху, впервые почувствовал, что ветер крепчает.
– Что вам, рах-саванн? ― спросил Самеллан довольно дружелюбно.
– В первую очередь скажите мне, милостивый гиа-зир, не отрываю ли я вас от исполнения ваших прямых капитанских обязанностей?
Эгин был учтив до тошноты и тем сам себе противен.
Самеллан расхохотался.
– Куда они денутся, эти обязанности? Офицер парусов все прекрасно знает без меня. Он, ― Самеллан ткнул в рулевого, ― тоже понимает, что его дело крутить этот бублик туда-сюда, чтобы корабль шел строго по Персту Севера. Я бы мог сейчас спокойно идти жрать, да только что-то новый ветерок мне не по душе. Хочу посмотреть, к чему идут дела на небесах.
Казалось, что не было сегодня убийственного грохота «молний Аюта», не было отчаянной абордажной бойни, не было Норгвана и его бегства в небытие от карающей десницы Самеллана. Самеллан выглядел свежо, был чисто вымыт и, похоже, успел сделать пару глотков гортело, хотя от него и не пахло. Но как умеют пить иные виртуозы при исполнении служебных обязанностей, Эгин прекрасно представлял, поэтому не сомневался в том, что Самеллан навеселе. Это было ему, в общем-то, на руку.
– Я рад, Самеллан… вы позволите обращаться к вам по имени?
– Никаких вопросов, Эгин! ― Самеллан развел руки в радушном жесте.
– В таком случае, мне бы хотелось удовлетворить свое непраздное любопытство по поводу Норгвана.
Самеллан заметно помрачнел и многозначительно оглянулся на рулевого.
– Знаете, Эгин… ― протянул он. ― Если бы я не был уверен в том, что вы вполне порядочный человек, отягощенный своими служебными предрассудками и искренними заблуждениями, я бы, пожалуй, предложил бы вам высосать знание о Норгване из обломков его паршивого панциря. Но поскольку вы явно облечены доверием уважаемого пар-арценца и не праздновали труса в сегодняшней битве, я готов ответить на любые ваши вопросы. Кроме личных, разумеется.
Говоря так, Самеллан начал спускаться с башенки. Он явно хотел поговорить без свидетелей.
Прямодушие Самеллана вызвало в Эгине неожиданный прилив симпатии.
– Благодарю за доверие, Самеллан, ― бросил Эгин в могучую спину капитана и последовал за ним.
Они стояли на корме, глядя, как медленно, но неумолимо набухают тяжелые тучи на юго-западе. Это было жуткое зрелище ― жаркое, слепящее солнце над головами и верхняя кромка туч, горящая расплавленным золотом, которое медленно перетекает в густую фиолетовую темноту.
Эгин молчал. Теперь он знал многое, но не все. Сыпать словами на ветер не хотелось. Ему нужно было обдумать вопросы. Вопросов должно было быть мало, а ответов ― много.
Самеллан был родом из Аюта ― загадочного южного соседа Варана. Ают не имел почти никаких контактов с внешним миром. Только торговля. Очень ограниченная торговля лучшим вином во всем Круге Земель. За вино аютские государственные купцы и купчихи (о да, женщины Аюта имели там едва ли не больше прав, чем мужчины) просили всегда одно и то же ― оружие. Хорошее оружие! Больше хорошего оружия! Ласарская сталь? Нет? Тогда можешь засунуть свой клинок в свою тухлую задницу! Приблизительно так общались выходцы из Аюта со своими торговыми партнерами. Их ненавидели, но почти никогда не трогали. Потому что аютское вино ― настоящее аютское вино, разумеется, а не те варварские подделки, которыми полнился Круг Земель по обе стороны Хелтанских гор, ― это вино пьянило, не опьяняя. Самые неприступные красавицы, опорожнив кубок «зимнего аютского», могли пасть в объятия своего пажа по первому щелчку его пальцев. Мужчина, выпив аютского, становился неукротим в любовных схватках и неистов в сече. И голова наутро после аютского оставалась чиста, как холодные небеса над Северной Лезой, где лето не знает ни дождей, ни глухих ночей. Кроме винодельческих секретов, в Аюте около ста лет назад был открыт еще и секрет огнетворительного зелья. Там же были созданы первые, крайне несовершенные «молнии», которые, невзирая на все их несовершенство, оберегались как зеница ока, и лазутчикам из Опоры Вещей, равно как многомудрым северянам и многохитрым южанам, никак не удавалось подступиться к нему на протяжении восьмидесяти лет.
И вот тогда появился Норгван. Двадцать лет назад он был сравнительно молодым и сравнительно бесталанным эрм-саванном Опоры Вещей, которого в один прекрасный день озарило очень простое, но от этого не становящееся менее гениальным открытие. Если секрет огнетворительного зелья и «молний» не удается выкрасть, значит, надо сделать так, чтобы люди Аюта сами вверили его в руки бдительных аррумов Свода Равновесия.
Самеллан был найден довольно быстро. Он тогда тоже был молод, но, в отличие от Норгвана, обладал незаурядными талантами купца, а заодно и собственной торговой посудиной. Торговал он, разумеется, аютским вином. Его компаньоном была жена, что для Аюта особой редкостью не являлось. А двоюродная сестра Самеллана служила в аютской Гиэннере. «Вам, конечно, рассказывали, Эгин, что такое Гиэннера?» ― полувопросительно-полуутвердительно заметил на этом месте своего рассказа Самеллан. Эгин мог только молча кивнуть. Разумеется, он сразу догадался, что именно должность двоюродной сестры Самеллана сыграла с ним столь злую шутку.
Опора Вещей сработала топорно, но надежно. Когда корабль Самеллана прибыл на традиционную весеннюю ярмарку в Нелеоте, которая всегда приурочивалась к празднику Тучных Семян, жена Самеллана была похищена Норгваном и приданными ему людьми Опоры Вещей. Потом перед Самелланом были поставлены очень простые условия: молчание, покорность, секреты огнетворительного зелья (которое, кстати, по словам Самеллана, называлось «даггой») и «молний Аюта» в обмен на жизнь его жены, которую он любил страстной и преданной любовью. Самеллан, разумеется, тогда не догадывался, что виновником его злоключений является варанский эрм-саванн по имени Нор-гван. Самеллан тогда вообще был уверен, что имеет дело с харренитами.
Все это, впрочем, сути вопроса не меняло. Самеллан, конечно, принял условия и, получив свидание с женой, убедившись, что она жива-здорова и кормят ее хорошо, отплыл в Ают с навязанной ему легендой, что его супруга повстречала на ярмарке какого-то грютско-го богатея-табунщика, наставила ему, Самеллану, рога и бежала с проклятым грютом в Гердеарну. К сожалению, печаль Самеллана по возвращении в Ают была вполне непритворна, ибо его сердце действительно было разбито.
Самеллану предстояла очень непростая задача ― выудить у своей двоюродной сестры самые сокровенные секреты Аюта. Это при том, что Гиэннера охраняет свои тайны ничуть не хуже, чем Свод Равновесия. И тогда Самеллан сделал то, что в «Геде о Герфегесте» сделал пресловутый Стагевд, ведомый одновременно и похотью, и властолюбием. Самеллан соблазнил свою сестру. Любовь и жалость к супруге, которые преисполняли все его существо, обратились безудержной страстью. Ают ― не Варан. Ают не знает понятия «обращения», В Аюте мужчина и женщина могут делать все и более чем все, и это отнюдь не порицается. Да и ласкать страстно и безудержно свою двоюродную сестру он мог на вполне законных основаниях, ибо по обычаям Аюта подобная связь не считается кровосмесительной. У Самеллана времени было вполне достаточно ― люди Норгвана договорились с ним, что их следующая встреча произойдет все в том же Нелеоте ровно через год, на следующем празднике Тучных Семян. Разумеется, Самеллан волен не приплывать, но в этом случае голова его жены не замедлит прибыть в Ают в несколько подпорченном виде.
Самеллан успел. По его уверениям, после первых же ночей, проведенных со своей сестрой, он получил над ней безраздельную власть. Эгин был уверен, что тут не обошлось без приворотной магии, но Самеллан этот вопрос обошел, а Эгин не стал перебивать. Его интересовала вся история в целом, а не утомительные подробности.
В общем, сестра Самеллана просто сходила с ума, если по каким-то причинам (служебным, разумеется; Гиэннера есть Гиэннера) ей приходилось провести день без страстных объятий Самеллана. Самеллан тоже сходил с ума, но совсем по другому поводу ― что будет, когда ему придется перейти к вопросу о дагге и «молниях Аюта», а потом навсегда покинуть Ают. И Самеллан не нашел ничего лучше, кроме как рассказать своей сестре и любовнице всю правду о страшной встрече на нелеотской ярмарке.
Самеллан не ошибся в своей сестре. По долгу своей службы в Гиэннере она должна была сразу же убить Самеллана, убив тем самым, разумеется, и его жену, дабы пресечь в корне попытки Свода завладеть секретом чудовищного аютского оружия. Но она не убила Самеллана, о чем Эгин догадался несколько раньше, чем капитан сообщил ему это не без определенного самодовольства. Вместо этого сестра почти сразу предложила Самеллану лучшее решение.
На следующую ярмарку Тучных Семян торговый корабль Самеллана прибыл еще до ее открытия ― лучше было проторчать в Нелеоте лишних три дня, чем опоздать хотя бы на час. Люди Норгвана сами разыскали корабль Самеллана, и началась торговля.
Самеллан прекрасно понимал, что стоит ему полностью раскрыть секреты, полученные им от сестры, ― и он покойник. А его жена, соответственно, ― покойница. Выводы напрашивались сами собой.
Самеллан рассказал людям Норгвана почти все. Он показал им даггу. Он продемонстрировал им на миниатюрной модели, как работает «молния Аюта». Железный шарик пробил толстую переплетную кожу тома «Земель и народов» и завяз в первых же страницах. А потом он сделал так, что тот, же самый шарик разорвал толстенные «Земли и народы» в клочья. Разница была в том, что в первом случае Самеллан пользовался «молнией Аюта» как обычный невежа, а во втором ― как просвещенный аютский маг. Самеллан знал слова. Но главное ― он знал образ-ключ. Образ-ключ ― это предмет, который надлежит вообразить себе и очень прочно удерживать в сознании, когда произносишь заклинания, ― пояснил Самеллан несведущему в таких тонкостях Эгину в ответ на его удивленно вздернутые брови. Без слов и образа-ключа даже самая мощная из созданных в Аюте «молний» была в военном отношении ничем не ценнее огромного осадного камнемета.
После второго испытания в глазах людей Норгвана разгорелась неподдельная детская алчность. Вот это да! Вот что нужно поставить на службу князю и истине! И вот теперь Самеллан понял, что может торговаться. Он отдал варанцам (которых больше не принимал за харренитов, поскольку двоюродная сестра еще в Аюте, по его рассказам, совершенно справедливо опознала в них офицеров Свода) все цепи слов, необходимых для того, чтобы «молния Аюта» работала, и предложил им попробовать самим. Они очень старательно повторили все заклинания и совершили все действия над щепотью дагги. Никакого Шилола! Шарик не вспухал пламенем и не разлетался раскаленными каплями расплавленного железа. Нет. Он просто завяз в «Геде о Герфегесте», которая пришла на смену разодранным в клочья «Землям и народам». Чуда не случилось.
Терять Самеллану было нечего. Издевательски улыбаясь в лица разъяренным варанцам, Самеллан сообщил, что без образа-ключа ничего не выйдет. И пока они осознавали сказанное, Самеллан, выложил свои условия. Свод Равновесия берет его и его жену под свою защиту. Самеллан лично ― и никто другой более ― будет отвечать за применение «молний Аюта» там, где угодно князю и истине. А образ-ключ останется его сокровенной тайной и уйдет вместе с ним в небытие. А чтобы они, змеиная кровь, похитители его жены, не наделали глупостей и не понадеялись добыть образ-ключ у него под пыткой или дурманом, он, Самеллан, покажет им одно забавное зрелище. Сказав так, Самеллан прикрыл глаза, а когда он их открыл, ва-ранцев уже не было. На столе в его гостевой каюте, где происходил разговор, осталась записка: «Решение через неделю в том же месте в то же время».
«Что значит прикрыл глаза и открыл?» ― хотел переспросить Эгин, но вспомнил какие-то смутные рассказы о редком искусстве, которое, кажется, в Синем Алустрале называют «сном звезднорожденного». Тот, кто владеет «сном», может по своей воле впадать в состояние, очень близкое к смерти. Сердце у «спящего» бьется не чаще двух-трех раз за минуту, сознание отключается, и человек перестает воспринимать и окружающий мир, и собственное тело. Пытать его ― сущая бессмыслица, ибо боль для него ― ничто. Конечно, можно изувечить «спящего», но ведь суть пытки ― развязать язык, а не отрезать. Выходят из «сна» по-разному, но Эгин слышал, что просвещенные могут настраиваться на определенное время. Так или иначе, Эгин был восхищен сразу двумя вещами ― тем, что Самеллан оказался владетелем столь редкого искусства, и тем, что он не струсил перед варанцами. Варанца-ми. Он, Эгин, поймал себя на том, что строй его мыслей о Варане и его коллегах из Свода Равновесия меняется в последние дни буквально от часа к часу, и притом отнюдь не в лучшую сторону.
Варанцам очень хотелось убить Самеллана, предварительно вырвав у него тайну образа ключа, а затем ― и все члены по очереди. Медленно и с расстановкой. Очень хотелось. Норгван был в бешенстве. И тогдашний гнорр, который получил сообщение из Нелеота, тоже был в бешенстве. Десятки, сотни «молний Аюта», которые разносят в щепу и пыль ненавистные харрен-ские галеры, которые одним залпом опрокидывают грютские орды, которые, в конце концов, гвоздят прямо по надменному Магдорну… Все это великолепие, распалявшее мозги каждого варанца, преданного князю и истине, обращалось в сущую ерунду. В несколько стволов, полностью зависящих от воли одного человека, да и то инородца.
Но бешенство, уйдя в несколько разрубленных удалым гнорром золотых кубков (это Самеллан узнал от Дотанагелы), прошло, как утренний туман над Пинна-рином. Гнорр принял решение, достойное многомудрых персонажей древней истории. Условия Самеллана принять!, ему гарантируется жизнь и должность капитана в варанском военном флоте. Это, так сказать, морковка, чтобы ему, Самеллану, жилось добротно и вольготно, а равно и веселей стрелялось в недоброжелателей князя и истины. Но жена Самеллана останется в руках Свода Равновесия. Самеллан будет встречаться с ней раз в неделю, а если зарекомендует себя лучше ― то смотря по обстоятельствам. Это, так сказать, палка, чтобы он, Самеллан, не вздумал буянить.
Тучи заволокли всю западную половину неба. Ветер крепчал. «Зерцало Огня» грузно переваливалось с волны на волну, и здесь, на корме, это чувствовалось с особой силой. Но Эгин был полностью поглощен услышанным и почти не обращал внимания на непогоду.
У него вдруг возникло ощущение, что если он не выспросит все как следует у Самеллана прямо сейчас, то ему не узнать некоторых загадочных подробностей уже никогда.
– Послушайте, Самеллан, вы только постарайтесь не обижаться на мои слова… Я вот подумал-подумал и понял, что вы говорили много, а сказали едва ли половину.
Эгин не ставил никакого прямого вопроса. Эгин провоцировал.
– Это была лучшая половина, ― в сузившихся глазах Самеллана Эган увидел глухую стену отторжения. Он, Самеллан, не хотел говорить ему многого. И это многое было явно не самым лучшим, что может рассказать о себе человек.
– Но, ― заметил Самеллан, плотно сцепив пальцы, ― лучше, чтобы вы знали обо мне из моих собственных уст, чем, например, от Дотанагелы. Уважаемый пар-арценц, скажем мягко, питает отвращение к Аюту и, увы, ко всему аютскому. А я сделан в Аюте, и двадцатилетняя перековка здесь, в Пиннарине, едва ли пошла мне на пользу. К тому же я преступник, а пар-арценц очень не любит преступников.
Самеллан грустно улыбнулся. Эгин, который давал себе зарок молчать и слушать, испытал неожиданный прилив жалости при виде этой улыбки, совершенно неуместной на красивом жестокой красотою воина лице Самеллана.
– Вы действительно считаете преступлением похищение секрета дагги? ― спросил Эгин нарочито небрежно. Дескать, все нормально, Самеллан, какой там вы преступник!
– Нет, Эгин, ― лицо Самеллана окаменело. ― Я не считаю преступлением похищение секрета дагги в том виде, в каком оно-было мною произведено.
Слова Самеллана падали за корму, как железные снаряды «молний Аюта». Отрывисто и веско, глухо и зловеще.
– Я считаю преступлением собственноручное убийство доверившейся мне всем сердцем двоюродной сестры. Я считаю преступлением убийство восьми офицеров Опоры Единства, служивших до вчерашнего дня на «Зерцале Огня» и двадцать лет оберегавших мою скромную персону от мести Гиэннеры. Я принимал в их избиении весьма деятельное участие наряду с Дота-нагелой. Знахарем, исчислителем и вашим другом.
При этих словах Самеллана на западе утробно заворочался далекий гром. Но и Эгин, и Самеллан остались глухи к нему. Потому что последние слова Самеллана прозвучали для обоих значительнее любого грома.
– Зачем? ― только и смог выдавить Эгин.
– Зачем что? Зачем сестра или зачем офицеры?
– Зачем вы убили свою сестру? ― спросил Эгин, кое-как справившись с голосом.
– Вам не пришлось бы задавать этот вопрос, рах-саванн, если бы вы побывали на моем месте или даже просто удосужились поразмышлять не как молодой и честный человек, а как офицер Свода Равновесия. Посудите сами. Даже один-единственный корабль с «молниями Аюта» при всех трудах Опоры Единства не мог существовать в безвестности. Очень скоро Гиэннера узнала бы, что тайное стало явньм. Так оно, кстати, и случилось. Рах-саванны Опоры Единства, будь они с нами, многое могли бы порассказать о покушениях на мою жизнь. Но это не суть важно. Важно, что установить мою личность для Гиэннеры не составляло никакого труда и, значит, проще простого было и вычислить источник моей осведомленности ― мою сестру. Разумеется, она понимала это и бежала из Аюта вместе со мной. Я уже не говорю о том, что расставание со мной разбило бы ей сердце отнюдь не в поэтическом смысле.
При этих словах Самеллана Эгин вновь вспомнил о приворотной магии и вновь промолчал.
– Но самого ужасного моя сестра не понимала, а скорее, ослепленная своей страстью, просто не хотела понять. Дело в том, что двое людей, знающих образ-ключ за пределами Аюта, ― это уже слишком. Я ― мужчина, и мне удалось показать варанцам власть над своим телом и над своими чувствами. Я не хотел говорить вам, рах-саванн, но перед «куколкой» (Эгин догадался, что речь идет о «сне Звезднорожденных»; да, в Аюте это называлось куда как прозаичнее) я вручил варанцам голову своей сестры. Я рассказал им, как я добыл секрет дагги, не утаивая ничего. И тем самым я спас свою жену, потому что даже такие сволочи, как Норгван, понимают, что после такого…
Эгин умом понимал, что Самеллан, возможно, прав, но его сердце отвратилось от этого человека навсегда. Лучше бы он соврал, что убил свою сестру из ненависти к ее ополоумевшим от похоти глазам, чем во имя спасения своей жены.
– Самеллан, вы чудовище, ― неожиданно для самого себя сказал Эгин.
– Да, ― как-то очень небрежно кивнул Самеллан. ― Но имя настоящему беспощадному и бесчеловечному чудовищу ― Свод Равновесия. Есть и другие имена ― Варан, князь и истина. Потому что в отличие от меня, Самеллана, тленного человека в руках Судьбы, эти имена существуют уже века и просуществуют, возможно, тысячелетия. И золотая секира Свода Равновесия все время будет обагрена свежей человеческой кровью. Как вы думаете, Эгин, в чем разница между Сводом и Гиэннерой, между Вараном и Аютом? ― Самеллан бросил на Эгина испытующий взгляд.
– В сорока лигах Наирнского пролива меж ними, ― огрызнулся Эгин, который ожидал от Самеллана какой-нибудь людоедской демагогии.
– Ответ философа, ― усмехнулся Самеллан. ― И, Шилол мне на усы, если в нем нет смысла. Ают и Варан в действительности очень похожи. Хотя бы уже тем, что ни мы, ни вы, в отличие от всей прочей Сар-монтазары, по сей день не порабощены ни харренита-ми, ни южанами. Так вот, не мне вам рассказывать, что Варан уцелел исключительно благодаря Своду, а Ают ― благодаря Гиэннере, «молниям» и другому превосходному оружию, которого у нас даже несколько больше, чем кажется самым смелым мечтателям из Опоры Вещей. Но разница, Эгин, в том, что Ают никогда, вы понимаете, Эгин, никогда со времен Эррихпы Древнего не покушался на соседей. Вы думаете, Аюту сложно сокрушить, к примеру. Варан? С двумя сотнями «молний», не говоря уже о лучницах Гиэннеры? Сложно?
– Не знаю, ― честно пожал плечами Эгин. ― Теперь уже не знаю. Я не уверен, но мне кажется, что такие люди, как Дотанагела, могут…
– Ни хрена они не могут, ― спокойно перебил Са-меллан Эгина. ― К счастью, заметим. Вас просто несколько в ином духе воспитывали, Эгин. «И наступит день, когда княжеские знамена будут трепетать от Када до Магдорна, от Океана до Хелтанских гор…» Верно ведь? И под каждым кустом от Када до Магдорна будет сидеть офицер Опоры Единства. Ваш Варан, Эгин, в правление несравненного Шета оке Лагина уже имел счастье отличиться на поприще больших увеселительных игрищ с барабанами и развернутыми знаменами. Только мало, очень мало людей вернулось с них домой. Про битву в солончаках Сумра я вообще молчу, чтобы не обижать в вашем лице варанского офицера. Ну а сто лет назад вам просто очень повезло. Если бы харренитам в один прекрасный момент не насолили под хвостом южане, вашего Сиятельного князя сейчас звали бы каким-нибудь Неферналламом Восемнадцатым, и был бы он родным братом харренского наместника в Ре-Таре. Но вот что действительно могут такие люди, как Дотанагела… ― Самеллан понизил голос, ― …так это вырывать признания у слабых духом. Моей сестре могли просто пригрозить моей смертью. И, коль уж скоро она ради своей любви выдала этот секрет мне, она, конечно, выдала бы его и варанцам. Я имею в виду образ-ключ. И этот день стал бы началом конца того самого Равновесия, которое всякие Норгваны призваны, по идее, оберегать. И вот тогда ваши княжеские знамена стали бы трепетать где ни попадя. Возможно, действительно от Када до Магдорна. А ваши коллеги, Эгин, стали бы ссылать людей на рудники за то, что они делают любовь в той позе, которую находят самой прекрасной. Двадцать лет каторги за «Двойное Сочетание Устами»! И, разумеется, смерть за заговоренный нагрудник.
Эгин не сразу сообразил, что Самеллан намекает на гибель Арда. Но в свете сообщенного ему Норо оке Шином при последней встрече убийство Арда представлялось Эгину вполне оправданным.
– Ард был опасен, ― сказал Эгин голосом рах-са-ванна Опоры Вещей.
За их спиной раздавались гортанные команды офицера парусов. «Зерцало Огня» убирало почти все паруса. Идти под ними становилось чересчур опасно ― крепнущий с каждым мгновением ветер грозил завалить корабль. Самеллан был прав ― на «Зерцале Огня» прекрасно управлялись без него. Управлялись со всем, кроме «молний Аюта».
– Да, Эгин, ― усмехнулся Самеллан. ― Ард был очень опасен. Ард был задиристым мальчишкой, в котором странным образом сочеталась любовь к женщинам, кровопролитию и книгам. Дотанагела давно уже присматривался к нему, собираясь сделать его членом нашего заговора. Он подбрасывал ему простые находки и смотрел за его поведением. Но Ард, в отличие от Иланафа, проявил одновременно и больше честолюбия, и более трезвый рассудок. Он быстро учился. Свой нагрудник он заговорил сам. Два месяца назад, во время очередного похода к Перевернутой Лилии, я отпустил его на остров во главе обычного досмотрового отряда. Он вернулся изменившимся, и Дотанагела почувствовал это. Ард стал вести себя так, будто он ― гнорр. Он бросил свою предыдущую любовницу. И тогда к ней пришел Дотанагела и продиктовал ей донос. Если бы не остатки добрых традиций в вашем Своде, благодаря которым вы без особых причин избегаете пытать благородных, нам пришлось бы убрать Арда самим. А так вы сделали это собственными руками.
Солнца больше не было. Прогрохотал близкий гром, и первые градины размером с вишню застучали по палубе «Зерцала Огня».
– Ну это уже слишком! ― мотнул головой Самел-лан.
И в этот момент откуда-то из чрева «Зерцала Огня» донесся страшный вопль. Его не смогли приглушить переборки между каютами, гобелены и палубные доски. Вопль принадлежал человеку. Человеку, который по каким-то причинам стремительно утрачивает человеческое обличье.
Это был Дотанагела. Перепуганная до смерти Вербелина стояла в узком сквозном проходе между каютами и, придерживаясь рукой за распахнутую дверь, смотрела глазами, полными отчаяния, на приближающихся Эгина и Самеллана. С другой стороны прохода неторопливо подходил Знахарь, и на его лице было написана бесконечная усталость. Таким Эгин его еще не видел.
– Что с пар-арценцем? ― спросил Самеллан, подойдя вплотную. Эгин услышал в его голосе неподдельную тревогу. Действительно, мало ли чем была снаряжена проклятая «крылатая игла» Норгвана? С другой стороны, Знахарь тоже не мальчик, хотя и мальчишка…
Вербелина не смогла вымолвить ни слова. Она только судорожно кивнула в темный проем двери, ведущей в каюту. Самеллан, Знахарь и Эгин вошли.
Было довольно сумрачно, несмотря на распахнутое оконце. «А вот их не мешало бы задраить», ― подумал Эгин, но решил, что Самеллану виднее.
Дотанагела сидел на койке в идиотской позе, словно бы окоченевший прямо в своих санях охотник из Северной Лезы. Его глаза были широко распахнуты, но совершенно пусты ― зрачки закатились под лоб. Розовая пена двумя отвратительными дорожками стекала от уголков его губ к подбородку. Дотанагела молчал.
– Обоим выйти. Немедленно.
Это сказал Знахарь.
Наверное, из такого хаоса когда-то появились Хум-мер и Лишенный Значений. Наверное, именно такой хаос устроили они в Круге Земель при первой же своей встрече.
«Зерцало Огня» полностью потеряло управление. Последние паруса, с которыми чуть-чуть задержались, были сорваны вместе с реями ударом неистового ветра, который обрушился с запада, как неумолимый кузнечный молот размером с само «Зерцало Огня».
Волны перехлестывали через палубу и, не успевая вытекать через специальные проруби в фальшборте, сочились даже сквозь плотно задраенные палубные люки внутрь корабля. Кожаный пластырь на месте пробоин, оставленных стрелометами «Сумеречного Призрака», сорвало, как кусок промокательной бумаги, и обреченные матросы под началом обреченного офицера пытались завести новый. Тщетно.
Бутафорские сараи, под которыми скрывались «молнии Аюта», тоже оказались за бортом. Сами «молнии», принайтованные в походном положении почти намертво десятками отменных канатов, пока что держались.
Эгин лежал в каюте Арда, вцепившись в бронзовые поручни у изголовья ложа, и вновь проклинал тот день, когда Норо оке Шин положил перед ним, тогда еще вполне беззаботным эрм-саванном, два доноса на Арда оке Лайна. Это было совсем недавно. А кажется ― целую вечность назад.
К своему огромному удовольствию, Эгин так и не успел ни разу поесть за сегодня, не считая ломтя вяленой дыни, который он походя взял со стола одной из кают на захваченном «Сумеречном Призраке». Это оградило его от мучительных приступов морской болезни, которой он, сухопутная крыса, вполне справедливо опасался.
И тут сквозь оглушительный грохот стихий прорвался новый истошный вопль Дотанагелы. «Да что же тут творится!?» ― мысленно возопил Эгин. Он понял, что чудовищный груз новых знаний уже почти невыносим для его рассудка. Он понял, что не может лежать здесь и безропотно дожидаться, когда каюта Арда превратится для него в наглухо закупоренную могилу.
Эгин встал и почти сразу ушиб колено о тумбочку Арда. Пр-роклятие. Нет, при такой качке идти, похоже, не получится. Эгин встал на четвереньки. Как идиот. Как пес. Как рах-саванн Опоры Вещей.
Он помедлил мгновение, раздумывая ― обуваться ему или нет. Потом вспомнил о возможной встрече с Вербелиной и все-таки обулся. Кажется, Иланаф когда-то уверял, что, по его глубокому убеждению, нет ничего глупее в глазах женщины, чем хорошо одетый и притом босой мужчина.
Эгин выкарабкался в коридор. Там, в его сумрачной глубине, одиноко хлопала незапертая дверь. Стараясь выглядеть как можно степеннее и естественнее, время от времени падая на пол плашмя, Эгин пополз к каюте Дотанагелы.
В каюте Дотанагелы в весьма принужденных позах, прямо на полу, вцепившись друг в дружку, сидели Са-меллан. Знахарь и Вербелина. На койке, изрыгая зверскую, в целом непереводимую брань на наречии паттов (насколько Эгин вообще понимал в наречиях Круга Земель), приподнявшись на здоровом локте, лежал До-танагела. Глаза Дотанагелы были одухотворены яростью и страхом. Из всего его бурного речевого потока Эгин смог разобрать только несколько раз повторенное слово «гнорр» и дважды ― «Лагха».
Две масляные лампы давали много света, но вместе с тем жрали слишком много свежего воздуха. Было очень душно.
– Я не помешаю, милостивые гиазиры? ― осведомился Эгин по возможности беззаботно и деликатно, не беря на себя смелость перекричать Дотанагелу.
– Заползай, раз уж приполз, ― пожал плечами Знахарь.
– Премного благодарен, ― озарившись фальшивым светским оскалом, Эгин присоединился к компании. Лица у всех были прямо-таки гробовые.
– Как здоровье уважаемого пар-арценца? ― надо же Эгину что-то говорить!
Знахарь открыл было рот, чтобы ответить, но Дотанагела, Прекратив, к удивлению Эгина, браниться, опередил Шотора:
– Здоровье, спасибо Знахарю, в порядке. Но, боюсь, рах-саванн, оно мне больше не понадобится.
Дотанагела говорил вполне спокойно. Не верилось, что этот же человек считанные мгновения назад воплощал собой аллегорию Ярости Вод Алустрала.
– Простите, но как мне вас понимать, пар-арценц?
– Случилось то, чего я боялся больше всего и о чем не хотел попусту распространяться раньше. Скорее всего, не потеряй я силы в борьбе с магией Норгвана и находясь в здравом рассудке, я смог бы отвести или, по крайней мере, ослабить гнорра.
– Пар-арценц, я не хочу прослыть образцом скудоумия, но я все равно остался во тьме незнания.
– О Шилол! ― простонал пар-арценц. ― Послушайте, Самеллан, объясните хоть вы ему!
Дотанагела бессильно откинулся на подушку. Эгин обратил внимание, что его щекам возвращается некое подобие здорового румянца. Или это были лишь блики от масляных ламп?
– М-да, Эгин. Давненько мы с вами не болтали, ― проворчал Самеллан с деланным вздохом. ― Буду краток, как Морской устав. В море Фахо никогда не бывает в месяце Алидам таких штормов. Никогда. Особенно с таким ужасным западным ветром. Уважаемый пар-арценц хотел сказать, что здесь не обошлось без вмешательства гнорра.
Это было уже слишком. Да, «молнии Аюта». Да, магические мечи и клинки. Да, каменный нож Знахаря. Но только не власть над стихиями!
– Простите меня, гиазир Дотанагела, ивы, уважаемый Самеллан, но я не вижу здесь правды. Если гнор-рам по силам творить такое, то зачем Варану какие-то жалкие «молнии Аюта»? Хотел бы я посмотреть на флот харренитов, попавший в такую переделку!
Эгин осекся. Он сказал удивительную глупость. Ведь они уже в этой переделке! И если участь, которую он только что словесно уготовил харренитам, постигнет их самих… Последние дни постепенно лепили из Эгина весьма суеверного человека.
– Ах, рах-саванн, до чего же ты умный! ― без особой иронии воскликнул Знахарь. ― Ты, наверное, и в Хуммера не очень-то веришь?
– Оставим это! ― вскинулся вновь Дотанагела, которому явно было не по душе поминать Хуммера всуе. ― Видите ли, Эгин, есть два довольно необычных обстоятельства.
При этих словах Дотанагелы с кормы донесся оглушительный надсадный треск, потом омерзительное скрипение, и что-то грузно вывалилось за борт.
– Пошли «молнии Аюта», ― процедил Самеллан так, словно бы речь шла об азартных скачках. И еще в его голосе Эгину почудилось умело завуалированное злорадство.
Дотанагела, впрочем, был теперь безмятежен, как каменное изваяние. Похоже, брань пошла ему на пользу, изгнав прочь из его естества суетную накипь злобы. Полностью проигнорировав утерю драгоценного оружия, Дотанагела продолжал:
– Два обстоятельства, Эгин. Во-первых, вы не представляете, что и в каком количестве теряет гнорр в эти мгновения. Он сейчас в определенном смысле уподобляется лисе, которая попала в капкан и отгрызает собственную лапу, лишь бы удрать на трех. А во-вторых, очень злую шутку сыграл с нами Норгван. Временно лишив меня самоконтроля, ввергнув в пучины боли и страданий, которые вам, рах-саванн, к вашему счастью, и не снились, он тем самым вверил мое Сердце Силы во власть гнорра. Если угодно, он использовал мою истинную суть так, как стрела использует тетиву для полета. И даже в этом случае я могу со всей уверенностью заявить, что только животный и неподдельный страх за собственную шкуру заставил Лагху переступить границы, положенные могуществу смертных.
– Выходит, мы, горстка утомленных беглецов, представляем опасность для шкуры самого гнорра? ― не удержался Эгин. Слишком уж дутым величием полнились слова Дотанагелы. Не двинулся ли пар-арценц своей «истинной сутью» в область банальнеишего безумия?
– Да, Эгин. Мы представляем прямую опасность для гнорра. Потому что если нам суждено выжить сейчас, то рано или поздно мы уничтожим его. Не следует также забывать о том, что на его место предостаточно претендентов, а наше бегство ― самая большая катастрофа в истории Свода Равновесия за последние сто лет. Как вы думаете, гнорр виновен в этой катастрофе? С точки зрения Сиятельного князя или, скажем, пар-арценца Опоры Вещей?
Эгин не ответил. Потому что на корме снова раздался оглушительный грохот, и на этот раз он явно не собирался затихать. «Зерцало Огня» доживало свои последние часы.
Глава десятая ЦИНОР
Мокрая кошка. Вот это зрелище! Тощее, дрожащее на ветру тельце. Даже если ветра нет, кажется, что оно дрожит на ветру. Хвост, с которого капает. Шерсть, прилипшая к бокам. Выступающие ребра. И безумные глаза с искорками тихого бешенства. Вот на такую кошку и была более всего похожа госпожа Вербелина исс Аран, сидя на шершавом валуне, какими густо усеяно цинорское побережье. Авор, как ни странно, тоже каким-то чудом доплыла до берега, невзирая на свой тщедушный вид и платье из харренского бархата, которое, напитавшись водой, наверняка тянуло вниз куда сильнее, чем стальные клинки.
Отстучав зубами с час, Вербелина и Авор все-таки решились на то, чтобы снять с себя платья и остаться в исподнем. Стыдливо удалившись от остальных, они выкручивали свое тряпье. А затем, беспомощно озираясь, спрятались в щели между камнями. Матросы, как водится, бросали на них бесстыдные взгляды. Дотана-гела, Эгин, Знахарь, Самеллан и Иланаф ― благородный костяк «Зерцала Огня», ― вдохновленные примером Вербелины и Авор, тоже разоблачились до полной наготы, разложив свои вещи на валунах.
Уцелевшие матросы сделали то же самое.
Кое-кто еще боролся с волнами и, то и дело поскальзываясь на прибрежных камнях, пытался выбраться на берег. Кто-то уже карабкался вверх ― туда, где собрались те, кому повезло остаться в живых и доплыть до берега первыми. Но Эгину было понятно, что их отряд увеличится от силы на пять-десять человек. Те, кто еще не выбрался на берег, скорее всего уже не выберутся никогда.
Сам Эгин чувствовал себя сравнительно неплохо.
Несколько ссадин на ногах, разодранный до кости локоть, вкус моря во рту, соленая юшка из носа и шум прибоя глубоко-глубоко внутри черепа. Как он ни старался, а не наглотаться воды было невозможно. В отличие от большинства коллег, Эгин сразу сообразил, что доплыть до берега с оружием невозможно, а потому, поднырнув в толщу очередного вала, отстегнул пояс с мечом и кинжалами. А затем на тот же манер избавился от камзола. Сандалии, которые были легки и вдобавок трудно расстегивались, он пощадил. Равно как и штаны с батистовой рубахой. Все это сейчас окружало его благородную наготу напоминанием о той огромной дистанции, которая пролегла между людьми и, предположим, дельфинами. Едва ли последним пришло бы в голову изобретать одежду, милостивые гиа-зиры.
Эгин сидел к морю спиной. Откровенно говоря, один вид этой затихающей, пристыженной солнцем стихии теперь внушал ему бескрайнее, непреодолимое отвращение. Он глядел на малиновую печать восходящего солнца, а иногда ― на серьги Овель. Не будь он таким сентиментальным дураком, каким казался себе в тот вечер, когда вещал сапфировые клещни на шнурок, а шнурок на шею, последнее напоминание о ней ушло бы на дно вместе с «Зерцалом Огня». Не то чтобы Эгин видел в этих клешнях хоть какой-то прок в их настоящем положении. Но уж, по крайней мере, он не сомневался в том, что с серьгами обсыхать на диком и бесприютном берегу враждебного Цинора гораздо приятней, чем делать то же самое без них.
Как ни странно, все те, с кем Эгин трапезничал в «капитанском зале» в первый вечер, уцелели. Являя контраст со всеобщей обездвиженностью и обессилен-ностью, Иланаф; большой любитель водной стихии и лучший пловец и ныряльщик среди всех товарищей Этана, расхаживал по берегу. Он был мокр, наг и горд, словно индюк; тощ, словно угорь, но на лице его играла улыбка. Несколько позже Эгин узнал причину столь оптимистического поведения на фоне всеобщего мрачного полуотчаяния. Дело в том, что Иланаф не только выплыл сам ― с мечом и двумя кинжалами, но еще и выволок на берег Авор, которая без него уже давно кормила бы крабов.
Дотанагела, распустив свои седые волосы по плечам, сидел, облокотившись спиной о валун и обхватив костлявые колени руками, что весьма плохо вязалось с романтическим представлением Эгина об излюбленных позах пар-арценцев. Глаза его были закрыты.
Знахарь сидел поодаль от него и… грыз ногти, с интересом следя за тем, кто и чем занимается. Эгин почему-то не сомневался в том, что он достиг берега одним из первых. Хотя первым, разумеется, был Самеллан. Тот и не думал слагать с себя полномочия капитана, а потому, обменявшись с Дотанагелой многозначительными кивками, покинул «благородных» и присоединился к своим матросам. Эгин слышал краем уха его густой бас, отдающий приказания, расточающий похвалы и бичующий пороки.
Стараниями Самеллана и других «лососей» очень скоро был разведен костер из водорослей и сухой травы. Разумеется, он скорее чадил и вонял какими-то знахарскими снадобьями, чем грел. Но все-таки это был костер. И его пламя нашептывало людям успокоительную ерунду о том, что их положение отнюдь не безнадежно.
– Мы пробудем здесь до вечера, ― спокойно и громко сказал Дотанагела. ― Во-первых, потому что наша одежда должна высохнуть. Во-вторых, потому что разведчики едва ли успеют возвратиться раньше.
А в-третьих, оттого, что к вечеру тела погибших прибой должен будет вернуть земле.
Никто не возражал ему. Никто не комментировал его слова. Даже Шотор, у которого, как казалось Эгину раньше, язык зудел беспрерывно. Что, впрочем, не такая уж редкость у пятнадцатилетних мальчишек. А потому, когда Иланаф нарушил тишину, все воззрились на него в растерянности и недоумении, как если бы он был говорящим тюленем.
– А где, по-вашему, пар-арценц, мы будем хоронить их? И кто будет исполнять обряды?
– Мы не будем хоронить их. И не будем исполнять обряды. Хотя я, разумеется, и мог бы справить все, что положено, ― отрезал Дотанагела.
– Но в таком случае есть ли смысл в том, чтобы ждать, пока распухшие тела, обезображенные ударами о камни и клешнями крабов, выбросит на берег? Мне кажется, это лишь деморализует нас, и в особенности матросов, чьи товарищи… ― стал оправдываться Иланаф.
– Матросы позаботятся о себе сами. Нас интересуют оружие, деньги, драгоценности. А потом мы уйдем.
– Тогда позвольте спросить вас, пар-арценц, отчего вы отказываетесь от погребальной церемонии? ― неожиданно слетело с губ Эгина. ― Ведь «лососи» умерли праведниками и заслуживают доброго посмер-тия.
– Ты прав, Эгин, они ушли как праведники, хотя многие из них и не были таковыми, ― бесстрастно сказал Дотанагела. ― И именно поэтому у нас нет оснований сомневаться в их посмертии. Но… погребальная церемония потребует от нас, в частности от меня, слишком большого напряжения сил. Соприкосновение с миром мертвых истощит нас больше, чем морские купания. А силы нам еще пригодятся.
Эгин потупил взор. Слова пар-арценца заставили его впервые в жизни задуматься о смысле погребальной церемонии. С раннего детства Эгин привык относиться к ней как к значимой, но пустой формальности. Эту формальность отчего-то необходимо выполнять. Но ― казалось Эгину ― это лишь театр, лишь действо, где все фальшивят. Церемония, где фальшь необходима и приветствуется, ибо она, по всей видимости, и есть правда, игра, не требующая ни «напряжения сил», ни «соприкосновения с миром мертвых». Просто пустые, помпезные слова. Но пар-арценц, похоже, думал иначе…
Стоял полдень. Было сухо и жарко. Но Эгин поежился.
– Мы нашли поселение смегов! Мы нашли поселение! ― громко и радостно вопили разведчики из числа матросов, пробираясь по камням к Дотанагеле.
Известие было скорее радостным, чем печальным. Гораздо лучше найти рыбацкую деревушку смегов, где есть вода, еда и лодки, и найти ее в трех лигах от места крушения корабля, чем не найти ничего. Хотя радости в нем тоже было немного. Смеги ― заклятые, хотя и малочисленные враги Варана. Ненавистники варан-ского флота. Жестокие пираты. Кость в горле всех без исключения варанских князей. «Только войной и питаются» ― вот что говорили о них поэты. И они, как это нечасто случается, знали, что говорили.
– Это хорошо, ― подытожил Дотанагела. ― Сколь велико оно?
– Две дюжины домов, милостивый гиазир! ― отвечал матрос, наконец-то отдышавшийся.
– Это тоже хорошо, ― Дотанагела погрузился в раздумья.
Получить все, что необходимо, мирным путем им скорее всего не удастся. Не такие люди эти смеги, чтобы отдавать что-либо с миром, продавать, менять, дарить. Тем паче варанцам. А значит, либо поселение придется вырезать, а после взять все, в чем нуждаешься, и делать это быстро, пока в головах потерпевших кораблекрушение не помутилось от жажды, смирившись с тем, что в схватке отряд наверняка уполовинится… Либо произойдет чудо.
Верят ли в чудеса его коллеги из Свода Равновесия? Еще неделю назад Эгин, не задумываясь, отвечал бы:
«Нет, нет и еще раз нет!» Но теперь неделя была позади.
– Самеллан, объявите матросам общий сбор, мы выступаем, ― скомандовал Дотанагела, и капитан, учтиво сложив руки на груди, отправился выполнять приказание пар-арценца.
– Пар-арценц, ― шепотом сказал Эгин Дотанагеле, когда они, притаившись на скалистой вершине, разглядывали рыбацкую деревушку, ― я почти уверен, что она совершенно пуста, Дотанагела бросил на Эгина озабоченный взгляд.
– Признаться, я полностью с тобой согласен. Несмотря на то, что над очагами клубился дымок, лодки, выволоченные на берег перед штормом, сушили паруса, а до слуха доносилось беззаботное блеяние скотины; в том, что люди покинули деревню, не было сомнений. Причем покинули несколько часов тому назад. Ни детей, играющих в пыли с разноцветными голышами, ни старух, нанизывающих жирные плавники тунцов на прутья, ни мужчин, починяющих снасти и бражничающих после удачного разбоя или, на худой конец, улова. Где они теперь, Хуммер их раздери?
– Очевидно, они заметили наших разведчиков и удрали в горы. Быть может, кто-нибудь из них сейчас наблюдает за нами, пар-арценц, вон из того перелеска на противоположном склоне.
– Думаю, они заметили нас выбирающимися на берег гораздо раньше, чем наших разведчиков. Они ― смеги, Эгин, и этим все сказано, ― вздохнул Дотанаге-ла, разглядывая противоположный склон.
Эгин уставился туда же, но ничего достойного внимания не приметил. Чахлая растительность, серо-желтые скалы, оползни, скрюченные деревца. Прячутся между камнями или за деревьями, заключил Эгин. Но отлично прячутся, о Шилол!
– Вон, полюбуйся, рах-саванн, на живого смега! ― процедил сквозь зубы Дотанагела и осторожно указал в сторону отвесного скального уступа, нависающего над деревней со стороны моря.
«Еще насмотрюсь», ― мысленно огрызнулся Эгин, но советом не пренебрег. Эгину было совестно признаться пар-арценцу в том, что его наметанный глаз офицера не в состоянии различить соглядатая даже после того, как его местоположение было указано начальством. А потому он продолжал всматриваться вдаль с такой старательностью, что очень скоро стали слезиться глаза. Но когда Эгин был готов смежить веки и повиниться в ненаблюдательности, он увидел смега. И не одного, а сразу двух. Нет, они не прятались в трещинах, не сидели за кустами. Они стояли на каменном карнизе и наблюдали.
Разумеется, они были наги. Волосы на голове, в паху и под мышками были сбриты, а тела их были измазаны желто-серой ― в тон скалам ― глиной. Или чем-то наподобие глины. Смеги не шевелились. Они даже, казалось, не дышали. Ни глаз, ни ресниц не было видно, ибо специальные травяные наглазники отлично скрывали все их движения. Да, язык Эгина не поворачивался назвать смегов легкой добычей, если даже занюханная рыбацкая деревушка может похвастаться такими диковинами.
– Я вижу, пар-арценц, ― с облегчением произнес Эгин, отводя взгляд.
– Разумеется, это ловушка, ― сказал пар-арценц, когда они вернулись к остальным, ожидающим за гребнем скалы. ― Мы спустимся вниз, а они нападут. Но наше спасение и наша победа состоят в том, чтобы войти в эту ловушку и обосноваться в ней. Прятаться в скалах ― затея еще более глупая, ― Дотанагела обвел напряженный круг слушателей успокаивающим взглядом. ― Но это худшее из того, что пришло мне в голову. Быть может, все проще ― смеги покинули родные очаги потому, что увидели, насколько мы превосходим их численно и вооружением. Разумеется, они уже послали за подмогой. Ибо смег не отдаст варанцу тухлой сардинки, не спросив за нее как за кашалота. В этом случае наша задача взять все, а главное лодки, раньше, чем эта подмога придет.
– Понятно? ― спросил у «лососей» Самеллан. Ответа не последовало, а значит, и вопросов тоже. Все было яснее ясного. Сейчас, приложив все старания к тому, чтобы переломать себе ноги, руки и шеи, все спускаются в деревню и собирают на пристани все, что смогут утащить ценного и полезного. А затем будь что будет.
Спустя полчаса весь экипаж «Зерцала Огня» уже шествовал по рыбацкой деревушке, держа оружие наготове. До Эгина, следуя за Дотанагелой, донесся обрывок разговора между пар-арценцем и Знахарем.
– Если вода в колодце отравлена, умру только я, а тебе придется лечить свои болячки самому, ― с напускной мрачностью сказал Знахарь и уморительно скривился, изображая корчи безвинно отравленного.
Сколько-то он их видел, этих корчей?
– Надеюсь, я узнаю о том, что в колодце яд несколько раньше, и ты сможешь пожить еще чуть-чуть, Шотор, ― с легкостью парировал Дотанагела и похлопал Шотора по плечу.
У тащившегося позади Эгина впервые за все знакомство с Дотанагелой возникла мысль о том, что такой человек, как пар-арценц, скорее всего может не только спать с женщиной, но и доставлять ей известное удовольствие. Ранее же он, к собственному стыду, полагал, что когда человек из Опоры Единства дорастает до пар-арценца, его плоть и кровь превращаются в кремний и железо, а плотские услады становятся чем-то столь же праздным и чужим, как игра на флейте. Окончательно разрешить сомнения Эгина могла бы Вербелина ― уж она-то наверняка знает. Но отчего-то Эгину было не по себе при одной только мысли завести с ней пустячный разговор. В то время как Вербелина временами бросала на него весьма недвусмысленные взгляды. Впрочем, ничего двусмысленного в них не было, благо Эгин знал ее не первую неделю.
– Милостивый гиазир! Мы видим смегов. Их много. Они глядят на нас из-за скалы на юго-востоке. Многие из них столпились у перевала. Вдобавок что-то неладное на дороге, ведущей в соседнее селение! ― доложил матрос, и Дотанагела с Самелланом переглянулись.
Эгин подозревал, что и пар-арценц, и капитан «Зерцала Огня» имеют за плечами богатый опыт общения с этим народом. Хотя общением непримиримые экспедиции против смегов, где обе стороны стремятся лишь к одному ― перещеголять друг друга в жестокостях, назвать трудно. Похоже, только Самеллан и пар-арценц понимали, зачем смеги ведут себя столь бессмысленно. Ибо военное искусство.в его варанской интерпретации требовало от полководцев малых армий соблюдения одного простого правила ― «или таись, или бей в спину». Бить в спину смеги, судя по уверениям матроса, не собирались.
«Стало быть, у смегов свои представления о военном искусстве», ― отметил про себя Эгин. От него-не укрылась всевозрастающая озабоченность Дотанагелы. А когда он, бледный и сосредоточенный, попросил Эгина, Самеллана, Иланафа и Знахаря оставить его одного в рыбацкой хижине на несколько минут, Эгин понял, что сейчас ему снова предстоит стать свидетелем чего-то не совсем обычного. Скорее всего демонстрации некоей неведомой мощи, некоей измененной материи. То есть ему предстоит уповать на магию, которая так и сочится с тонких пальцев пар-арценца. На магию, искоренению которой он посвятил, по меньшей мере, последние десять лет своей очень недолгой жизни.
Они покинули хижину и воззрились на горный склон, по которому вилась дорожка. Смегов было действительно много. Разведчиков, чьим искусством сливаться со скалой еще недавно восхищался Эгин, уже не было на месте. Чувствовалось, что сейчас должно произойти нечто судьбоносное. Причем это что-то будет вовсе не сражением.
Иланаф пошутил что-то насчет танцев. Самеллан зло сплюнул. Знахарь объяснил ему что-то про Хоц-Дзанг, но эти объяснения явно не вдохновили его. Вербелина и Авор стояли, обнявшись, позади всех. Как вдруг Эгин заметил на дороге, ведущей к деревушке, трех всадников.
– Ну, начало-о-сь, ― протянул Знахарь, поставив руку козырьком, чтобы солнце не крало у картины недостающих деталей.
Трое двигались к ним.
– Расступись! ― это был голос Дотанагелы. Несколько минут, проведенных им в одиночестве рыбацкой хижины, изменили его почти до неузнаваемости. Но изменения можно было уловить не только в манере держаться, не только в выражении глаз. Казалось, его волосы теперь белы не оттого, что седы, а оттого, что то не волосы, а серебряные нити. Дотанагела даже стал выше ростом. На полголовы, если не на голову. Вербелина, знавшая пар-арценца немного лучше других, смотрела на него в замешательстве ― похоже, она тоже не видела ничего подобного раньше.
Меч, яблоко и рукоять которого выглядывали из ножен, занимался каким-то необычным голубоватым свечением. На груди Дотанагелы горел амулет, который мог бы соперничать в яркости с утренней звездой.
«Куда ни плюнь, всюду измененная материя. Всюду Не-Бытующее. Похоже, чем дальше от Пиннарина и Жерла Серебряной Чистоты, тем больше магии. Если верить досужим рассказам, тут, на Циноре, даже малую нужду никто не справит без посредства изменяющего слова!» ― так думал Эгин, опасливо следя за Дотанаге-лой, который смело выступил вперед.
Перед тем как его нога коснулась первого голыша, которыми была мощена дорога, Дотанагела в неуверенности обернулся к Знахарю. Как будто в поисках совета. Эгин впился глазами в Шотора. Где же он, совет?
– Дотанагела! Я что-то не вижу их! Не знаю, что это. Ты бы лучше пока ничего не предпринимал, разве Солнечную Черту проведи на всякий случай, ― бросил встревоженный Знахарь.
Все сказанное им показалось Эгину немного странным. Во-первых, почему Знахарь отговаривает опытного Дотанагелу от действий и взамен советует ему эту сомнительную, карнавальную Солнечную Черту? Эгин помнил, что такое Солнечная Черта. Один из запрещенных фокусов ― горящая линия, которая якобы помогает против нежити, выставляя на пути последней непреодолимую преграду. К фокусникам, которые горазды проводить такие линии, всегда испытывал жгучий интерес Свод Равновесия. Сызмальства Эгин был уверен ― а именно эту уверенность в нем поддерживали наставники и начальство, ― что Солнечная, Черта это просто искусное представление, в действенность которого никто не верит. Собственно, так же, как никто не верит в нежить. На примере Солнечной Черты наставники объясняли механизм всякого искусного обмана, который иногда рядится в одежды магии.
Вот тот, что якобы старается отогнать Не-Бытующее, делает взмах мечом, во время этого взмаха искусно рассыпает перед собой горящий порошок, что-то вроде «горячей каши» в твердом состоянии. Порошок загорается, пламя высвобождает некий первоэлемент, который вызывает легкое помутнение в мозгу, а затем наступает расслабление всех мышц, а потом ― наоборот, бодрость и все такое прочее… Одним словом, Эгин был абсолютно уверен в том, что Солнечная Черта ― это бред, придуманный для того, чтобы закалять мозги мальчишкам, из которых должны вырасти, а точнее, вылупиться будущие офицеры Свода. Но и Знахарь, и Дотанагела, похоже, были совсем другого мнения.
А во-вторых, недоумевал Эгин, кого это Знахарь не видит? Смегов ― полным-полно. Они наглы и не считают нужным скрываться. Всадники видны отлично. Чтобы окончательно увериться в этом, Эгин восставил руку ко лбу ― гости ехали против света. И, о Шилол, о тысячу раз Шилол, он не увидел никого. Всадников не было. Были только кони.
Эгин подошел поближе к Знахарю, объяснив это для себя желанием получше все рассмотреть и не решаясь признаться в том, что в обществе пятнадцатилетнего мальчишки чувствует себя в большей безопасности, чем в компании Иланафа и даже Самеллана. Хотя чего было бояться? Ну не трех же коней, рысью мчащихся по нисходящей к селению дороге? Рассудок пристыженно помалкивал.
Но чем больше Эгин всматривался в движения До-танагелы, чем больше он искоса поглядьшал на Знахаря, тем сильнее сосало у него под ложечкой.
Знахаря было не узнать. Его брови сошлись над переносицей, губы сжались, а его руки бьши расставлены ладонями вовне на уровне плеч наподобие листьев лотоса. Все его внимание, казалось, было сосредоточено на мече Дотанагелы, который уже был извлечен из ножен и теперь был уперт острием в землю, Эгину хватило сообразительности воздержаться от вопросов, хотя многие, слишком многие вопросы саднили в мозгу и жгли язык. Например, отчего эти кони скачут круп к крупу, хотя на них нет седоков. Отчего они не оседланы, хотя и взнузданы, а гривы их богато украшены чем-то пестрым ― лентами, бусинами, цветами? Да и что это вообще за странные кони ― Эгин был готов биться об заклад, что никогда не видел похожих тварей ни в Варане, ни за его пределами. Длиннющие ноги с пучками рыжей шерсти возле бабок, широченные копыта, тощие крупы и длинные узкие морды с непостижимо странными глазами. «Что это у них с глазами, Шотор?» ― почему-то именно этот вопрос больше всего хотелось задать Знахарю, и воздержание от которого вызывало то, все нарастающее и нарастающее с каждой минутой беспокойство. Эгину даже начало казаться, что, знай он совершенно точно, что это за диковинные твари, не столько уродливые, сколь необычные, на душе у него сразу просветлело бы, а от тревоги не осталось бы и следа. Сознаться себе в том, что это самообман, у Эгина, как ни странно, не хватило духу.
– Пора, пар-арценц, пора! ― громко и внятно сказал Знахарь, и вены у него на лбу вздулись, словно по ним текла не кровь, а раскаленная сталь.
Всадники, а точнее, кони, были на расстоянии двух бросков копья.
Но Дотанагела, вопреки ожиданиям Эгина, не обернулся больше. «Наверное, чтобы никто не подумал, что ему тоже не по себе», ― отметил про себя
Эгин, когда Дотанагела поднял меч. Хотя сзади было видно плохо, Эгин догадался, что пар-арценц целует лезвие чуть выше гарды ― что-то подобное делали рах-саванны, когда их посвящали в аррумы. Зачем ― непонятно. А еще ― произносили клятвы. Интересно, будет ли пар-арценц… у Эгина похолодело сердце, когда он сознался себе в том, что готов думать о чем угодно и вспоминать хоть о потере девственности, лишь бы не смотреть на дорогу, по которой уже не рысью, а шагом шли кони ― все как один огненно-рыжей масти с белыми гривами.
И тут раздался голос Дотанагелы. То есть Эгин знал умом, что это говорит он, то есть что это говорят уста пар-арценца, а не камни под его ногами. Хотя и такой возможности теперь, прожив последнюю неделю, он исключить не мог.
– Симманаин ка геаннаин-кага! ― вот что сказал Дотанагела, и был понят.
Эгин, к собственному стыду, к собственному восхищению, изумлению, устрашению и омерзению (опять же собственному), понял сказанное, хотя как офицер Свода Равновесия осознавал, что Дотанагела говорит на истинном наречии Хуммера, за одно упоминание о котором в Варане полагался холодный погреб сроком от полутора до двух лет. И хотя он давно подозревал, что на начальство Опоры Писаний (которое нередко имеет дело с текстами, писанными на истинном наречии Хуммера) такие законы не распространяются, он был все равно польщен. Еще одно его предположение подтвердилось. Вдобавок это была одна из немногих фраз, смысл которых Эгин узнал случайно, запомнил надолго и которую он тщетно пытался вытравить из памяти. Но чем больше он старался, тем глубже въедалось в мозг это «симманаин ка…». В переводе на варан-ский это значило всего лишь:
– Мой меч есть центр того круга, что не имеет окружности! ― И меч отозвался пар-арценцу легкой, но пронизывающей все идея до самого горизонта вибрацией.
Знахарь заметил, что пока безобидная с виду фраза рокотала в горниле истинного наречия Хуммера, кони остановились и какое-то время не двигались с места. Знахарь нервически хмыкнул, а Эгин, ошарашенный и обескураженный, стоял, широко расставив ноги, и глядел на коней. Он был не в силах оторвать взгляд от чего-то, что, разумеется, находилось во внешнем мире, но переворачивало вверх тормашками внутренний.
Эгин смотрел на коней. И на их рыжие глазастые морды. Только вот глаз у них не было. Вместо глаз у всех троих были толстые мутно-белые или, скорее, гнойно-желтые бельма. А сверху, поверх них, чьей-то неумелой, но старательной рукой были нарисованы лазурно-синие семиконечные звезды с охряно-желты-ми точками в середине. И ресницы. Ресницы тоже были нарисованными.
– Всем закрыть глаза и лечь на землю! ― это был голос Самеллана.
Но Эгин не обернулся, чтобы посмотреть, выполнено ли приказание капитана. Отчего-то он был уверен: к нему это не относится, а потому продолжал стоять, словно заколдованный. Словно каменный столб. Словно бы бросая вызов происходящему. Словно бы посягая на мощь Знахаря и бесстрашие Дотанагелы. Посягая на то, чтобы быть непобедимым.
Истинное наречие Хуммера лилось теперь над рыбацкими хижинами и сотрясало горы, нависающие над морем. Эгин не понимал ничего, кроме того, что он должен стоять и смотреть, ибо не простит себе этой трусости. Ибо если он не увидит Солнечной Черты наяву, если он отведет взгляд от коней с нарисованными глазами, он перестанет быть рах-саванном. Не рахсаванном для Свода Равновесия. Но рах-саванном для самого себя.
Отчитав положенные заклинания, Дотанагела сделал еще несколько шагов навстречу всадникам. Он очертил мечом полукружие, и земля перед ним загорелась. Да, это была Солнечная Черта. Но бушевало в ней не то ласковое оранжевое пламя, которое воспламеняет фитиль масляного светильника. И даже не то малиновое, что рождалось под кресалом наставника во дни сурового эгинового детства. То было пламя иного цвета и сущности. Иной природы. Языки его были желто-голубыми, а искры, снопом полетевшие вверх, когда занялась трава, ― изумрудными. Знахарь с облегчением выдохнул. Похоже, он не просто верил в Солнечную Черту, но еще и возлагал на нее надежды.
Черта обняла стоящего с мечом наголо Дотанагелу чем-то вроде горящей подковы. По высоте пламя ее доходило Дотанагеле до щиколоток, а ширина Солнечной Черты была не менее трех локтей. Отчего она такая широкая? Или недостаточно широкая? ― мысленно празднословил Эгин, просто для того, чтобы как-то успокоить ум, не желающий мириться с одним, считавшимся Эгином непререкаемым утверждением. Если Дотанагела и Знахарь верят в действенность Солнечной Черты и способны построить ее при помощи истинного наречия Хуммера, значит, они верят и в призраков.
– Лег бы ты, что ли? ― раздраженно сказал Знахарь, обернувшись к Эгину. ― Хотя нет, ― добавил он, складывая руки замком с выставленными в небо указательными пальцами. ― Кажется, теперь уже все равно…
«Все равно?» ― гулким эхом откликнулось в сознании Эгина, которое, как казалось, было во власти ледяного ветра.
И в самом деле, если Самеллан приказал своим людям лечь, желая уберечь их от замогильного страха, который воцарялся в душе от поступи слепых коней, полагая, что самое страшное уже позади, то когда Знахарь обращался к Эгину, ситуация была совсем иной. Самое страшное было уже рядом. Здесь. Наступило. Случилось. Явило себя.
О Шилол! ― быть может, сказал бы Эгин, если бы его онемевший язык не присох к гортани. Ибо все трое коней неспешно проходили теперь по горящей засеке. Шагом. Цок-цок-цок ― стучали их широченные копыта. Натягивались поводья.
Пучки рыжей шерсти, окружавшие лошадиные бабки, занялись первыми. Вспыхнули и сгорели. А потом загорелась короткая рыжая шерсть на ногах. Запахло жженым. Но кони даже ушами не повели. Даже не зафыркали. Не заржали. Они мерно двигались вперед, неумолимо сокращая расстояние, разделяющее их и Дотанагелу. А значит, приближались к варанцам.
Но, как ни странно, именно запах шерсти вывел Эгина из оцепенения. Он стоял и смотрел, стараясь не встречаться взглядом с охряно-красньши лошадиными зрачками. Если эти грубо намалеванные точки можно назвать зрачками. Теперь ему было ясно, отчего последние варанские князья не высаживаются на Циноре, чтобы вдосталь побряцать оружием. Теперь ему было ― понятно, отчего Варан, несмотря на, казалось бы, подавляющую военную мощь, никогда не мог полностью поработить смегов. Отчего военные экспедиции одна за одной либо возвращались с позором или липовым триумфом, либо пропадали в полном составе. Отчего варанцы никогда не говорят о смегах. Не говорят, ибо боятся.
– Нет, только не это, Хуммер вас раздери! ― Знахарь держался за голову и был, похоже, близок к отчаянию.
Судя по всему, то, на что возлагали надежду он и Дотанагела, с треском провалилось. Солнечная Черта не сработала. Но теперь Эгин, постаревший за эти минуты на год, не сомневался в том, что она в принципе не могла сработать. И не оттого, что Дотанагела или Знахарь что-то напутали в Истинном Наречии Хумме-ра. А только лишь оттого, что противник был слишком силен.
– Их трое, понимаешь, трое! ― как бы в подтверждение мыслей Эгина шептал Шотор. Да только обращался он не к Эгину. Но к кому же тогда?
О да, кони преодолели засеку. Шерсть на их ногах истлела, а кожа, которая кое-где вздулась, кое-где за-пузырилась коричневыми и фиолетовыми волдырями, стала облезать и рваться. Теперь в воздухе витал аромат жареного мяса. Но кони были спокойны. Они шли нарочито медленно, хотя могли бы преодолеть засеку в три секунды стремительного бега. Кони не останавливались. Голова к голове, круп к крупу, они двигались к цели. «Что ж, теперь Дотанагеле придется перерезать им шейные артерии мечом», ― подумалось Эгину.
Но тут произошло нечто из ряда вон выходящее.
Пар-арценц Свода Равновесия Дотанагела медленно вложил свой сияющий невыносимой голубизной меч в ножны. Встал на одно колено. Положил правую руку на грудь. И преклонил голову.
– Мир вашей земле! ― сказал Дотанагела на обычном варанском наречии. Без всякого Хуммера.
Кони остановились разом, словно бы повинуясь неслышной команде. Остановились, как и шли, ― голова к голове, круп к крупу. Остановились в четырех шагах от Дотанагелы. Смрад, исходящий от их опаленной шерсти и плоти, стал почти невыносим. Эгин боролся с тошнотой. Знахарь, судя по его позеленевшему лицу, ― тоже.
Было очень тихо. Смеги, чье далекое гоготанье и улюлюканье на гребнях скал с какого-то момента стало для Эгина просто незаметным фоном происходящих событий, как рокот морского прибоя и крики птиц, за молкли. Более того ― Эгин с ужасом отметил, что рокот прибоя и крики птиц тоже больше не слышны. Море и птицы, надо полагать, исчезли из того измененного мира надъестественных коней, с которым сейчас соприкоснулись варанцы. И в повисшей тишине прозвучали слова ответа:
– Не мир и не война тебе, человек Варана. Тебе вопрос.
Нет, кони молчали. В этом Эгин не сомневался. Они определенно молчали, хотя бы уже потому, что сквозь их плотно сцепленные зубы вырывалось едва слышное и все же вполне нормальное конское похрапывание. Говорил кто-то другой. Говорил мужчина, судя по голосу, ― немолодой, говорил на чистом, но каком-то омертвелом варанском языке. Впрочем, вопрос, заданный невидимым собеседником Дотанагелы, был вполне осмысленным и живым.
– Кто ты, кто твои спутники и в чем ваши упования?
Никаких угроз, никаких «съем твою душу» или «изопью твоей змеиной крови». И от этого становилось только страшнее. Потому что Дотанагела и не думал подыматься с колен. Потому что Дотанагела с очевидным трудом заставил себя поднять взор прямо на центрального коня и ответил:
– Мое истинное имя Дотанагела, я пар-арценц Опоры Писаний. В Варане я приговорен к умерщвлению, что относится и ко всем моим спутникам. Все они ― беглые офицеры Свода Равновесия либо воины из Отдельного морского отряда «Голубой Лосось». Все, кроме одной женщины по имени Авор, которая попала в наше общество почти случайно. Наши упования…
Слова пар-арценца были прерваны громким звоном. Откуда-то ― Эгин не заметил, откуда именно, но казалось, что прямо из воздуха, ― под копыта правому коню со звоном просыпались несколько Внутренних Секир. Не узнать их было невозможно. Некоторые жетоны были надорваны, словно бы их отковали не из превосходной стали, а вырезали ножницами из бумаги. Одна Секира потрясла Эгина особенно сильно ― она была скомкана, и на этом бесформенном куске металла отчетливым полукружием надкуса обозначались следы челюсти. По форме ― обычной человеческой челюсти.
– Свод Равновесия…
Этот голос был другим. Более зловещим и более молодым. И прозвучал он несколько правее первого. Потом над выброшенными Секирами перекатился короткий смешок, и шутник пояснил:
– Свод Равновесия ― хорошо. Значит, у вас достанет колдовского железа, чтобы насытить мой опустевший сарнод надолго.
Прежде чем Эгин успел понять смысл его слов, Внутренние Секиры были закручены невидимым вихрем, подброшены вверх и исчезли в той же пустоте, из которой минуту назад появились.
– Фарах, говорю я! ― укоризненно прикрикнул первый голос и благосклонно сказал:
– Продолжай, Дотанагела, пар-арценц Опоры Писаний. Продолжай, пока твои глаза не обратятся золотистой слюдой.
Эгин чувствовал, что от слов Дотанагелы сейчас зависит очень многое. Возможно, их жизни. Возможно ― нечто большее, и об этом «нечто большем» Эгину было даже страшно помыслить.
И Дотанагела продолжал говорить. Он говорил, похоже, правду, и только правду. Он говорил даже то, о чем Эгин и слыхом не слыхивал ни в разговорах за столом в кают-компании «Зерцала Огня», ни от Иланафа, ни от Самеллана.
Все извращено в Варане. Чистое, как Зрак Намар-на, учение Инна оке Лагина искажено до последнего предела. Свод Равновесия после Тридцатидневной войны неуклонно превращается в чудовищный нарыв на лике Круга Земель. Вместо борьбы с магией сильные Свода сами становятся магами, и в их руках накапливается могущество, какое, возможно, было неведомо и звезднорожденным. Вместо Равновесия Свод вот-вот принесет Варану и всему миру страшные Изменения. Он, Дотанагела, был более не в силах безропотно ожидать этого рокового часа. Когда ему стало известно, что где-то в недрах Свода затаилась сущность, чья злая воля, устранив последние препоны, готова принять на себя безраздельную власть над Сводом и вслед за тем надо всем миром, он, Дотанагела, вступил в тайные сношения с харренским сотинальмом. И так далее и тому подобное…
– Поэтому наша война ― это ваша война, ― довольно неожиданно заключил Дотанагела. ― Я смиренно прошу вас. Стражи Хоц-Дзанга, не чинить зла ни мне, ни моим спутникам и способствовать нам в достижении Тардера или хотя бы Фальма. Дайте нам любую сорокавесельную посудину, и вы не увидите нас больше. Но стоит вам только возжелать в будущем ― и в нашем лице вы всегда найдете верных союзников.
– Ты говоришь, что ты варанец и враг Варана. И я вижу, что ты не лжешь. Но скажи, Дотанагела, отчего ты веришь северянам? Отчего ты стоишь на их правоте? Вы придете в Тардер и отдадите северянам всю свою силу. Вы воздвигнете новый Свод? Это будет хорошо? Объясни мне это.
– Северяне, быть может, ничем не лучше варан-цев, ― Дотанагела говорил медленно, и Эган чувствовал, что он сейчас взвешивает каждое слово. ― Они ― люди и варанцы ― люди, а всем людям в равной мере свойственны алчность и любовь, стремление к власти и милосердие. Но по отношению к магическим искусствам Север сейчас наивен, как новорожденный младенец. Отвечая на твои вопросы, скажу: да, на Севере мы воздвигнем новый Свод на чистых уложениях Инна оке Лагина. Да, это будет хорошо, ибо только так у нашей страны появится возможность излечиться от той жуткой болезни, которая поразила самое ее сердце. И, главное, мы уничтожим человека, который ныне носит свою злую волю где-то за стенами Свода. Он должен умереть, даже если ради этого придется повторить Тридцатидневную войну. И если возникнет такая необходимость ― я сам готов возглавить новую Армаду Тысячи Парусов, чтобы обрушить во прах Свод Равновесия.
– Ты говоришь правду, которой не знаешь сам. Ты говоришь «злая воля», но ты сам не понимаешь, кто носит ее в складках своего плаща. Как ты намерен узнать лицо своего врага? Или ты готов истребить всех людей Свода поголовно, уповая на то, что одним из них окажется искомый враг?
Дотанагела, как показалось Эгину, уже вполне совладал с собой и был готов к подобному вопросу. Он ответил быстро ― как рах-саванн, проходящий Вторые Испытания на соискание звания аррума, всегда с легкостью может отчеканить ответ на традиционный первый вопрос: «Что есть князь и что есть истина в сердце аррума?»
– Я долго служил в Своде Равновесия, и мне отныне дано знать многое. Я видел много Писаний, и я знаю, что на Севере мне посчастливится найти Убийцу отраженных. Он создан для того, чтобы разыскивать и убивать носителей отраженных душ. Тот, кого разыщет и поразит Убийца отраженных, и будет тем, кто носит злую волю в складках своего плаща. Я, впрочем, и без этого почти не сомневаюсь, что человек, которого предстоит убить, ― Лагха Коалара, гнорр Свода Равновесия.
– Итак, если очистить сталь твоих слов от ржавчины витийств, ты предлагаешь торг: ваши жизни против жизней самых отпетых негодяев из Свода Равновесия. Твоя жизнь против жизни гнорра. Так, Дотанагела?
– Так.
Призрак погрузился в безмолвие. И вот тогда Эгин почувствовал то, что лишь позднее смог для себя назвать «испытующей сталью». Чей-то неимоверно пристальный взгляд вкрался в его череп, прошелся по сердцу, прикоснулся к душе. Потом другой. Эгин чувствовал себя совершенно беззащитным перед «испытующей сталью», как пугливая девственница, разморенная кубком доброго аютского, в лапах бывалого и безмерно порочного грюта. С той лишь разницей, что Эгину не приходилось уповать на то, что соглядатаи, забрав его девственность, растворятся в туманной пелене утреннего похмелья. «Испытующая сталь» сползла по его бедрам, по его голеням к земле и ушла прочь.
За спиной Эгина раздался сдавленный женский вскрик. Похоже, «испытующая сталь» забралась под юбку к Вербелине.
Человек привыкает ко всему. Быстрее ли, медленнее ― но ко всему. Эгин почти уже успел свыкнуться с мыслью, что бесплотный воздух над седлами неопалимых коней вполне способен изрекать не лишенные смысла сентенции и вызывать гордого пар-арценца на смиренную откровенность. Эгину уже начало казаться, что между невидимыми сущностями и Дотанагелой устоялся почти дружеский разговор о судьбах Свода Равновесия, Варана и Круга Земель, словно бы между младшими офицерами Опоры Вещей на дружеской вечеринке у Иланафа. После ухода «испытующей стали» Эгин уже мысленно расслабился и приготовился к тому, что по велению призраков смеги накормят всех сытным обедом и, выделив им пару-тройку своих посудин, отпустят с миром на Север. Эгин привык. И поэтому, когда призрак вынес свой приговор, он не сразу осознал страшный смысл его слов.
– Хорошо, Дотанагела. Мы проверили всех вас и мы принимаем твое предложение. Ты и твои люди получите жизнь, свободу и судно, на котором сможете достичь хоть Тардера, хоть Фальма, хоть Бездны Края Мира, ― нам это безразлично. Но для того, чтобы тебе и некоторым из твоих людей было небезразлично место вашего прибытия и жизнь Лагхи Коалары, мы оставляем себе троих. Их имена ― Авор, Вербелина исс Аран, Эгин. Эти трое останутся с нами до тех пор, пока ты не принесешь в Хоц-Дзанг голову убитого Убийцей отраженных, пока ты не изменишь Свод Равновесия в соответствии с твоими воззрениями, пока Варан не прекратит заговаривать сталь против смегов и нас. Стражей Хоц-Дзанга. Так сказали мы. Говорящие Хоц-Дзанга, и нашим словам быть.
К вящему ужасу Эгина, под копыта призрачным коням из пустоты просыпались обрывки какой-то желтоватой бумаги. Похоже, на Хоц-Дзанге были не в ходу огненные печати на воздухе и клеймление каменных скрижалей. Наоборот ― призраки словно бы разорвали некую древнюю грамоту и тем утвердили свое новое решение. Эгин оторопело перевел взгляд на Дотанаге-лу, ожидая слов пар-арценца, как несчастный колдун в Северной Лезе безнадежно заклинает зимой Солнце Предвечное ниспослать его народу хоть один погожий летний денек.
– Я… ― Дотанагела кашлянул, словно школяр пред строгим взором требовательного наставника, и продолжал уже более окрепшим голосом: ― Я хотел бы знать, какая необходимость существует для вас в удержании трех жалких смертных, которые не связаны с нами ничем, кроме варанского языка?
«Что-то пар-арценц мутит воду», ― подумал Эгин. Слишком коряво и многословно высказался Дотанагела, слишком медленно он говорил, слишком выразительно скосил под конец глаза на Знахаря.
– Ответ будет, хотя его могло бы не быть, ибо ты стал на шаткие подмостки лжи, пар-арценц. Трое жалких смертных, которых просим мы, связаны с вами многим. Я вижу, что Вербелина ― единственный светоч в твоей выжженной и темной душе, пар-арценц. Пока она в наших руках, ты будешь нашим другом. Большим другом, чем молодой рах-саванн Дотанагела, который рвал сердца нашим соплеменникам в подвалах Урталаргиса. Большим другом, чем опытный аррум Дотанагела, который пять лет положил на поиски ключа к Танцу Садовника и нашел бы его, не будь прошлый гнорр столь падок до чужих заслуг и открытий. Это цена Вербелины. Цена Авор и Эгина ниже и выше вместе с тем. Говорящие Хоц-Дзанга нуждаются в пище, пар-арценц. Мы вкусим от их плоти так, как вкушают друг друга мужчины и женщины Аюта.
«Мужчины… женщины… о ужас! Они ― мужчины. Но я ведь тоже мужчина!!!» ― мысленно возопил Эгин и не смог удержаться:
– Клянусь Шилолом, милостивые гиазиры… ― начал Эгин, чувствуя себя так, будто на нем сейчас сосредоточились взоры всего мироздания, ― …но я затрудняюсь понимать, как вы собираетесь вкушать меня?
Эгин не успел закончить свою простую мысль, а пустота над левым конем уже разливалась заразительным женским смехом.
Час пробил. Знахарь как-то непривычно, смущенно кашлянул ― точно так же, как до этого Дотанагела, ― и тогда пар-арценц наконец-то поднялся с колен. Его лицо посерело, как сама земля-животворительница. В его губах не осталось ни кровинки.
– Я отказываюсь признать ваши условия приемлемыми, ― тихо сказал Дотанагела, и раньше, многим раньше, чем Эгин успел что-либо понять, в руках До-танагелы сверкнул ослепительно голубой молнией клинок, непостижимым образом расслаиваясь в огромный веер, раскрывающийся перед оглушительно заржавшими конями, а Знахарь уже подкатился своим немыслимым подкатом под брюхо центральному четвероногому монстру, и каменный нож, заходясь в серии молниеносных ударов, искал встречи с плотью животного ― чем бы эта плоть ни являлась в действительности ― и никак не мог найти беззащитное брюхо, ― и вот тогда Эгин почел за лучшее упасть и закрыть голову руками.
– Хуммер-ларв тегед-дарх! ― прорычал Дотанагела так, что будь в ту пору звезды на небе, они бы все без исключения посыпались ему на голову.
Дотанагеле ответил хохот, и более молодой голос, который не так давно распространялся о любви к Внутренним Секирам, задорно прокричал:
– Не взывай к тому, чего не имеешь, пар-арценц! Коготь Хуммера, что некогда обитал в ножнах Шета оке Лагина, истребителя смегов, мертв уже шестьсот лет, мертв, как и его двуликий хозяин! И каждое полнолуние я пою славу Шилолу…
Дальше Эгин не расслышал, потому что темные слова призрака потонули в конском хохоте ― именно хохоте, Эган не смог подобрать лучшего слова. Потом что-то прозвенело надтреснутым печальным звоном, кто-то истошно вскрикнул, и на уши Эгина навалилась совершенная, войлочная тишина. Оторваться от земли ему уже не хватало духу. «Мать-животворительница, прими меня, спрячь меня, а весь внешний мир пусть хоть рассыплется прахом, но уже без меня».
Чья-то властная рука схватила его за шиворот и рывком подняла на ноги. К огромному удивлению Эгина, это был Дотанагела, а отнюдь не бесплотный и кровожадный Говорящий Хоц-Дзанга.
Изменилось, казалось бы, совсем немногое. Знахарь как ни в чем не бывало сидел на корточках, скрестив ноги, и досадливо покусывал нижнюю губу. Под глазом у-него добавился огромный синяк, а из губы сочилась кровь. Кони призраков стояли приблизительно там же, где и стояли раньше. С той лишь разницей, что рядом с ними, совершенно одинаково понурившись, как две сестры-одногодки перед сватами от грютского вельможи, скучали Вербелина и Авор. Где-то за спиной цедил сквозь зубы проклятия Самеллан. Левая рука Дотанагелы совершенно безжизненно свисала вдоль тела. Кисть была синей, словно бы залитой пресловутой Синевой Алустрала.
– Эгин, условия Говорящих Хоц-Дзанга приняты. Как старший по званию и по должности прошу тебя присоединиться к Вербелине и Авор, ― голос Дотанагелы звучал безжизненно и глухо, как редкая капель в пыточном подвале.
– Во имя князя и истины? ― криво ухмыльнулся Эгин.
– Во имя жизни, придурок, ― процедил через плечо Знахарь, сама любезность, как обычно.
Эгин неуверенно оглянулся, надеясь найти поддержку хотя бы у Самеллана. Особого облегчения ему это не принесло. Там, впереди плотной группы перепуганных «лососей», попирающих отброшенное от греха подальше оружие, сидел на корточках Самеллан. А перед ним лежало тело палубного исчислителя. Голова у тела отсутствовала. Похоже, Говорящие Хоц-Дзанга изыскали более чем убедительные доводы в споре со строптивым пар-арценцем. И, как всегда, основная тяжесть доводов пришлась на самого безвинного. Князья дерутся ― шкура трещит на галерных рабах и барабанах.
В тот момент Эгин не вспоминал о боевых подвигах «Зерцала Огня» и сотнях смегов, погибших под губительными снарядами «молний Аюта». А даже если бы и вспомнил, то по-своему резонно отписал бы основную вину на Самеллана. Тогда Эгин не знал, что случись варанцам и Говорящим передраться по-настоящему, Самеллан был бы единственным, кому суждено было бы обрести спасение.
Глава одиннадцатая ХОЦ-ДЗАНГ
Эгин был уверен, что никогда не знал этого дурацкого, издевательского стихотворения наизусть. А также и в том, что вообще никогда его не слышал.
Не в добрый час Герсар повел На грютов войско и нашел Свою погибель средь холмов, Прикрытых ям и тайных рвов, Где кольев острый частокол Виднелся неспроста. Энно!Но теперь оно вертелось у него на языке, заполняло его мозг, расцветало сорной травой на задворках сознания, стучалось во все двери рассудка и отдавало эхом в ушах. Энно! Энно! Энно!
Эгин был пьян. Но пьян не вином. «Медом поэзии». Он был уверен, что та обжигающая, сладчайшая жидкость, которую он пригубил из любезно предложенного кубка, была тем самым ненавистным и вожделенным «медом поэзии», о повсеместном уничтожении которого так пекся Свод Равновесия. О да, Эгин помнил, в какой из туннелей повели коренастого приземистого карлика, о котором ему, Эгину, стало известно, что тому удалось изготовить мед по древнему рецепту, провезенному контрабандой из Синего Алустрала. И даже помнил, как истошно вопил несчастный, когда палач продел конский волос через свежую рану в его языке ― его проткнули тонким и чистым серебряным стилом. (В Своде Равновесия не в почете грязь и гноящиеся раны. Даже если всем известно, что эти раны не успеют начать гноиться. Дурной тон есть дурной тон. Инструмент должен быть чистым.)
О да, тогда палач тянул за волос, а незадачливый медовар клялся, как тогда казалось Эгину, на полтуннеля, что не будет, как есть не будет, никогда не будет и клянется, клянется, клянется больше не варить, не приготовлять, не злоумьшлять, не нарушать законы и забудет рецепт… Только кто же верил этим клятвам!
Что за гадость-этот мед, подумалось тогда Эгину, если из-за него его коллегам по Своду приходится заниматься такой грязной и неблагодарной работой и пачкать серебряное стило. А теперь, теперь он сам полон «медом поэзии» до краев. И что же?
«Где кольев острый частокол виднелся неспроста. Энно!»
Теперь он лежал где-то и на чем-то, его глаза были по-прежнему закрыты повязкой. Его мысли не желают собираться в стройные цепи, и единственное, в чем он полностью уверен сейчас, так это в том, что «не в добрый час Герсар повел на грютов войско!». Зачем они дали ему меду? Зачем его вообще дают и варят? Но память отказывала ему теперь когда хотела и в чем хотела.
Кое-что Эгин все-таки помнил, несмотря на помутнение. Например, что воины древности прихлебывали «мед поэзии» перед битвой, чтобы сделать бой громокипящим, смерть ― легкой, а посмертие ― сладким. Что мастера знаменитых мечей прикладывались к чаше с медом перед тем, как взяться за молот. Чтобы сделать песню меча звонкой, его плач ― суровым, а его молчание ― оглушительным. Он помнил, что ведьмаки и ведьмы пьют мед перед тем, как заговаривать и наводить порчу. А женщины подливают его в кубки охладевших к ним любовников. Что если за ухом у пса помазать медом, он перестанет выть на луну. Но зачем ему, Эгину, мед?
Но мысль его, сконцентрировавшаяся совсем ненадолго на том немногом, что было почерпнуто им из разглагольствований наставника касательно истории и нравов древних народов, очень быстро полетела совсем в иные просторы. И Эгин предался совершенно серьезным размышлениям о том, почему грюты, в поход на которых повел свое войско Герсар, мочатся сидя. По-женски. Выводов было два ― во-первых, потому, что в степи так надежней и скрытней. Не оскорбить ничьих нравов, а здесь грюты способны демонстрировать утроенное ханжество. А во-вторых, оттого, что шальной стреле, пущенной в зазевавшийся столбик с головой и ногами грюта, гораздо труднее пронзить насквозь мирно сидящего и озирающегося сына степей. Да и руки у него не заняты, может натягивать лук и сидя. А что, собственно, тут такого?
Мир, спрыснутый «медом поэзии», предстал перед Эгином странным и необъятным.
Многие вещи, казавшиеся ему когда-то важными, теперь выглядели сущими безделицами. Например, что за город распахнул перед ним и его спутниками свои ворота? Сколько времени прошло с тех пор, как Дотанагела и Знахарь творили Огненную Черту? Долго ли замечательный рыжий уродец со слепыми бельмами, на спине которого качался в седле полубезумный или полусонный Эгин, шел вверх, вверх и вверх? Почему он, Эгин, такой же, в сущности, слепой теперь, как и его лошадь, не рвется к свету и не сопротивляется, хотя, как ему иногда кажется, достаточно сдернуть повязку с глаз, чтобы все увидеть и во всем разобраться. Но рука отчего-то не хочет сдергивать повязку. Наверное, строгай голос одного из смегов, предупредивший его, что голова и повязка для него теперь одно целое, не велит его руке поступать так. А он, Эгин, тоже ничего ей приказать не может.
Глаза Эгина были открыты, но он не видел ничего, кроме густой и бездонной черноты повязки. Ни одна корпускула света не просачивалась через нее. «Нужно быть донельзя наивным, чтобы полагать, что тут все дело в плотности материи», ― в бессилии подумал Эгин и раскинул руки на ложе.
Само ложе и земля под ним качались и пульсировали, будто он был прикреплен к поверхности гигантского бубна. Такого же огромного, как море. Бубна, в который с жаром лупит невидимая рука. Звуков не слышно, но кожа бубна пульсирует, а вместе с ней пульсирует и сам Эгин. «Энно!» ― подтягивали голоса из пустоты, и этот харренский боевой клич разносился, казалось, на тысячу лиг в обе стороны.
Он был один. Или не один. Он теперь что-то вроде наложницы. Что-то вроде Вербелины. А Вербелина теперь что-то вроде шлюхи. Он в городе Призраков. Быть может, даже в самом Хоц-Дзанге. Его рассудок отказывается служить ему, а его тело делает только то, что само считает нужным. И вдобавок чьи-то руки распахивают на нем рубаху и ласкают его грудь. И чьи-то губы целуют его то робко, то настойчиво. И Норо оке Шин не существует больше вместе со всем Вараном, Сиятельным князем и истиной. А есть только рифмы и ритмы, шорохи, токи теплого воздуха, странные ароматы и глухие звуки с улицы. Или это тоже наваждения, такие же устойчивые и навязчивые, как и стихи, которых он никогда не знал?
«Сомнений быть не может в одном ― я на Цино-ре!» ― со всей иронией, на которую он был способен, сказал себе Эгин, когда все те же прохладные руки, женские руки, расстегнули пряжку вначале на левой сандалии, а затем на правой. Сандалии шлепнулись на пол. И наваждения сменяли друг дружку, словно день и ночь. Как Запад и Восток.
Сандалиями покойного Арда оке Лайна, о да, это все еще были они, дело не ограничилось. Его рейтузы сползли с бедер стараниями этого наваждения с ухватками новенькой из портового борделя. Атласная рубаха Эгина была расстегнута и снята. Его пояс был развязан. Эгин не сопротивлялся.
«Все как везде», ― подумал он, когда стих о грютском походе горячечного любителя юных, очень юных женщин-девочек, носившего в харренской истории имя Орди Герсара, прокрутился в его мозгу еще три, а может, и четыре раза.
Это были женские руки и женские губы, сомневаться в этом было глупо. Эгину было с чем сравнивать. С Овель, например. Хотя нет, Овель, если бы делала то же самое, она бы делала это не так. Отчего-то Эгин был уверен, что совсем не так. Более нежно. Более трепетно и вместе с тем более смело и тепло. Вербелина? О да, это, конечно же, Вербелина. Она ведь тоже здесь, в этом городе Призраков. И она тоже… тоже что? Неважно, она ведь могла каким-то чудом пробраться к нему, Эгину, и выразить свою любовь наиболее доступным ей способом. Ее излюбленным способом.
Рука Эгина опустилась на одну из женских ручек. Прохладная. А затем осторожно, очень осторожно поползла выше. Так делают все слепцы. Выше. К локтю, под мышку, к плечу. А оттуда к ключицам. К шее. О да, это тело очень похоже на тело Вербелины. И эти волосы. Очень густые, ароматные, гладкие, тщательно вычесанные.
«Вербелина, ты?» ― вот что хотелось спросить Эгину. Но язык не слушался его. А лишь лежал безвольным увальнем в пещере зубов, покрытый сладким ковром «меда поэзии».
Вскоре его вторая рука легла на талию девушки и начала свое медленное движение вверх, вниз, вбок. Мускулистое тело. Впалый живот. Курчавая шерстка. Милый, аккуратный пупок. Нет, это не Вербелина, это наваждение. Но оно отчего-то длится и длится. Оно не исчезает. Оно продолжается. Две маленькие, словно два зрелых южных персика, груди. Нет, они не тают под его, Эгина, руками. Они остаются на месте для Эгина.
И тут мнимая Вербелина вздохнула. Так страстно и проникновенно, как никогда не удавалось Вербелине, даже когда она была в ударе. Этот вздох показался Эгину таким же древним, как сама страсть, как сама любовь и акт любви между мужчиной и женщиной.
В этом вздохе Эгину почудилась такая архаическая, древняя, нецивилизованная и дикая исполненность бытия, такая доверительность и такая нежность, что он невольно вздрогнул. Теперь его тело перестало быть кулем для муки, брошенным на пульсирующий барабан. Теперь его тело наполнялось огнем, имя и саму суть которого он знал слишком хорошо. Слишком хорошо для офицера Свода Равновесия.
«Иди ко мне, девочка, доверься мне», ― хотелось сказать Эгину, но его язык оставался неподвижен, а его уста немы, словно все мыслимые и немыслимые правила из Уложения Жезла и Браслета.
Но она, как ни странно, услышала его.
Грютская Скачка. О да, это была Грютская Скачка.
Он уже познал ее пряный вкус однажды. Не так давно. С Овель.
Ее бедра обхватили живот Эгина так же крепко, как колени наездницы прижимаются к крупу лошади в неистовом галопе. Ее пальцы вцепились в грудь Эгина, а ее спина выгнулась соблазнительной дугой. Она, Вербелина, или нет ― та, что так похожа на Вербелину, ― мчалась вперед навстречу своему наслаждению. Она торопилась. Она спешила. Ее дыхание становилось все чаще. Но она, похоже, не боялась, что оно ускользнет от нее, ибо Эгин был страстен и напорист. Словно породистый жеребец. Грютский жеребец.
Эгин чувствовал ее всем своим существом. Он не видел ее, но осязал. Казалось, из всех пяти чувств, которыми наделила варанца природа, у Эгина оставалось теперь одно лишь осязание, ибо даже слух и обоняние на время покинули его.
Теплый океан. Внутренность переспевшего фрукта. Инжира или дыни. Теплый бархат. Изысканный мех белой куницы. Вот какие метафоры, верно, пришли бы на ум Эгину, если бы он был способен интересоваться метафорами. Интересоваться чем-либо. Ибо он пропустил то мгновение, когда происходящее приобрело самостоятельную ценность, и был уже давно по ту сторону черты, когда ум еще значит что-нибудь.
Мир Эгина растаял и умчался в никуда в ритме Грютского Галопа.
Теперь он рвался и пульсировал вместе с ней. Ее прикосновения становились все более требовательными, а движения все более порывистыми.
Эгин не мог оставаться безучастным. И он не оставался безучастным. Его бедра теперь помогали ей. Их сердца теперь бились в унисон. А их дыхания сливались воедино с каждьш толчком. С каждым поцелуем. «Мед поэзии» обратился медом любви. И Эгин не жалел об этом.
Наконец невидимая, но осязаемая всей поверхностью души и кожи наездница рванулась вперед и вниз изо всех своих сил и застыла, словно музыкальная фраза, унесенная ветром. А Эгин, не в силах сдерживаться более и не видя в этом никакого смысла, очертя голову бросился в омут запретного наслаждения вслед за ней. Дева истошно вскрикнула. Руки Эгина сомкнулись замком у нее на талии, и когда его тело почувствовало ритмичный трепет, исходящий откуда-то извне, из тепла перезревшего инжира, из самого естества девушки, Эгин стиснул зубы и застонал, погружаясь все ниже и глубже, в пучины экстаза, сколь неожиданного, столь и неуловимого.
«Спасибо, милая», ― голос Эгина был хрипл и громок, но все же звучал неким намеком на благодарность и нежность.
Что бы там ни было, а теперь он уже не был нем.
– Я хочу видеть тебя! ― тихо сказал Эгин, когда его чресла стали вновь наполняться жизнью.
Он чувствовал ее. Она лежала рядом и играла серьгами Овель, по-прежнему украшавшими его, Эгина, шею. Но она молчала. Интригует? Разжигает его интерес, как это в обычае у женщин, кем бы они ни были? Или она вообще не умеет говорить? А только смеяться? Но что тут интриговать, милостивые гиазиры, когда он и так заинтригован до самой крайней крайности?
– Послушай, я очень хочу видеть тебя! ― повторил Эгин, вложив в эти слова всю свою искренность и нежность. ― Позволь мне взглянуть на тебя хоть минуту, а там ты сможешь снова надеть на меня эту дурацкую повязку… видишь ли, я сам не в силах сделать это…
Он почувствовал, как девушка привстала на локте, а потом, судя по шороху шелков, уселась у его головы на подушки. Эгин уже отчаялся услышать ответ, как вдруг девушка заговорила ― медленно, с жестким варварским акцентом, но ее голос был музыкален и чист, словно песня флейты.
– Меня зовут Тара, и мне по душе твоя смелость, Эгин.
Сразу вслед за этим незаслуженным, а потому сомнительным, по мнению Эгина, комплиментом, ее прохладная ладонь скользнула к затылку Эгина и одним ловким движением развязала узел. Еще одно движение, и глаза Эгина были освобождены для света и тьмы. Эгин уже был готов разлепить веки, как вдруг ему стало очень, кошмарно, по-детски страшно. Разумеется, он любил призрак. Что он увидит теперь? Струпья, оскал желтых беззубых десен, лишенных губ, фиолетовую сморщенную кожу, спутанные, свалявшиеся, тусклые волосы? Но комплимент Тары, как ни странно, подействовал ― быстро и радикально. Стоп. Призрак ― это не разгулявшийся труп, отлежавший свое. в сандаловом саркофаге какого-нибудь фамильного склепа. И он как офицер Свода должен бы об этом помнить. Да и вообще, если ему хватало смелости заниматься любовью с бестелесным существом, то с какой, спрашивается, стати он должен страшиться вида этого бестелесного? И его ресницы решительно вспорхнули вверх.
Безлунная ночь. Довольно просторная с очень низким потолком комната. В центре ― ложе, на котором, не касаясь друг друга, смогли бы переночевать четверо. Стрельчатое окошко занавешено плетенной из красного камыша шторой. В углу ― принадлежности для умывания и ночной горшок варанского образца. Судя по виду ― предмет роскоши времен Инна оке Лаги-на. Напротив ложа ― низкий столик с едой и кувшином. Никаких украшений. Никаких знаков на стенах. И Зраков Благочестия тоже не видно. Это его новое жилище?
После беглого осмотра комнаты взгляд Эгина переметнулся на ложе. Но… Здесь его ждало разочарование. На подушках, которые были явственно примяты ягодицами девушки, которая, как думалось (или гада-лось?) Эгину, сидела здесь, обхватив колени руками, он не увидел ничего, похожего на девушку. Быть может, лишь слабое свечение. Настолько слабое, что, наклонив голову набок и прищурившись на манер столичного ювелира, Эгину пришлось развеять эту фантазию. Девушки не было видно. Впрочем, всадников он тоже не видел, в то время как Дотанагела вел с ними весьма содержательную беседу. Была ли эта девушка той самой смешливой всадницей?
– Выходит, Тара, я вообще не могу тебя увидеть? ― вздохнул Эгин, сверля взглядом пустоту.
– Сейчас не можешь, ― отвечала она. ― Но через четыре дня ― да.
– Ты обретешь плоть? Что будет через четыре дня? ― мрачно поинтересовался Эгин, отмечая про себя ту необыкновенную легкость, с которой смирился с тем, что у его новой любовницы нет тела, но лишь подобие его.
– Во-первых, Эгин, мне не нужна плоть, а во-вторых, через четыре дня будет полнолуние, ― сказала Тара с милой девичьей усмешкой.
– А раньше? ― настаивал Эгин.
– Можно и раньше, но эти способы мне не нравятся.
– Что за способы?
– Я думала, ты знаешь. Как послушать, что рассказывают о Своде Равновесия, так там у вас вроде бы каждый видит насквозь предметы и управляется с духами, как со своими слугами. Или лучше… как со своими женами.
– У нас запрещено многоженство, ― ляпнул Эгин, лишь бы не молчать.
И тут Тара рассмеялась. Это был ее смех. Не узнать невозможно. Он похож на звон стеклянных колоколь-цев, какие надевают ручным соколам. На шелест садовых лилий, что трутся друг о дружку восковыми белыми бутонами. На серебряное биение водопада. Он уже слышал его в рыбацкой деревушке, и теперь у Эгина не было по этому поводу никаких сомнений. Как вдруг ее смех неожиданно прервался, и Тара, снова посерьезнев, продолжала:
– Ну, способы простые. Ты можешь увидеть мое отражение в каменном зеркале. У нас одно такое имеется, правда, далековато отсюда. А во-вторых, можно изготовить такой эликсир ― из трав, семени рыб и истолченного в порошок изумруда. Этот порошок называется «покровы Говорящих». Потом я им обмажусь с ног до головы, и ты, Эгин, меня увидишь, если уж очень сильно хочешь.
– Я ― хочу, а вот хочешь ли ты. Тара? В этом у меня есть сомнения… ― отвечал Эгин, меряя шагами комнату.
– Подожди лучше четыре дня. Этот эликсир жжет тело и ест глаза, и, главное, я потом долго не смогу вернуться к тому облику, который мне привьганей. Я сама не своя после него. Не нужно… ― застенчиво и грустно сказала Тара.
– Ничего! Я подожду, ― испуганно и поспешно заверил ее Эгин. Отчего-то ему очень не хотелось, чтобы эта девушка причиняла себе боль, исполняя его, в общем-то, праздные прихоти. ― Я буду ждать. Буду очень-очень ждать!
Эгин сокрушенно и растерянно сел на ложе. Он не узнавал себя! Что же это творится с ним? Он боится причинить боль призраку, с которым только что вступил в связь, превосходящую все мыслимые Обращения. Да и чего тут вообще печься об Обращениях, когда ты спишь с живым и бестелесным существом по имени Тара. О Шилол! Эгин сжал виски указательными пальцами.
– Не бойся меня, Эгин, ― прошептала Тара над самым его ухом.
В ту ночь он любил ее еще раз.
Но теперь ничто из Уложения Жезла и Браслета не претерпело от них. Тара лежала тихо и нежно, обняв Эгина за шею. Не стонала, не билась и не рвалась. Эгин был нетороплив, внимателен и спокоен. Впрочем, спокойствие это было той природы, когда под ним скрывается ураган, лишь ожидающий мгновения, когда ему будет позволено вырваться наружу. Эгин любил ее с закрытыми глазами. Не видеть девушки, чьи твердые соски щекочут твой напряженный живот, было свыше его разумения и понимания. Но не любить девушку только потому, что ты не видишь ее, ― это тоже было слишком.
Когда Тара прилепила к плечу Эгина утомленный, но нежный поцелуй, он признался себе в том, что эта ночь была самой странной и волнующей в его жизни. Тара, как и прежде, молчала, поигрывая сапфировыми клешнями. Занимался рассвет.
– Скажи мне, это ты выбрала меня тогда, в той деревне?
– Угу, ― проглотив зевок, отвечала Тара. ― Ты был самым красивым среди всех.
– И это все? ― немного обиженно спросил Эгин. Он, как и всякий варанец на государственной службе, не полагал способность нравиться женщинам ни добродетелью, ни заслугой.
– Честно говоря, это не только не все, но и не главное, ― отвечала Тара, щекоча его подбородок прядью своих волос. Какого они цвета? Черные, как у большинства смегов? Рыжие? Каштановые, как у Овель?
– Что же главное? ― от нетерпения Эгин даже приподнялся на подушках.
– А главное ― это то, что ты единственный среди всех своих товарищей, кто, сам того не ведая, следует Путем Великого Безразличия.
– Ты, верно, шутишь. Тара, ― у Эгина похолодело внутри.
Путь Великого Безразличия… Что-то он об этом уже слышал, что-то плохое, разумеется. А что может быть хорошего в любом безразличии для офицера Свода Равновесия?
– Я верно не шучу, ― с нажимом сказала Тара. ― Я, в отличие от Фараха и Киндина, поняла это в тот же миг, как наши кони рассекли ваш огонь. И моей правоте есть, по меньшей мере, три доказательства, сработанные из бренной, хотя и измененной материи.
Эгин открыл глаза и посмотрел туда, где, по его разумению, должны бы сиять голубизной ли, зеленью ли глаза Тары. Всегда занятно узнавать о себе такие подробности, о которых раньше и не подозревал. Раньше Эгину казалось, что радовать такими подробностями ― это прерогатива Знахарей. «У тебя сердце не слева, а справа. А печень ― слева» ― вот что однажды услышал Эгин и поверил на слово. Но тогдашнее его удивление не шло ни в какое сравнение с тем, как он был ошарашен теперь. Он следует Путем. И как же это осталось незамеченным его коллегами?
– Скажи мне. Тара, что за доказательства? ― стараясь быть сдержанным, спросил Эгин, но, несмотря на это, сказанное прозвучало мольбой. ― Если ты вправе, разумеется.
– Я вправе делать очень многое. Снимать с твоей головы повязку Киндина, а с твоих глаз ― пелену невежества. Я вправе любить тебя и приказывать другим. Я не вправе отпустить тебя, но… ― Эгин заметил, что Тара явно сболтнула лишнее и жалеет об этом, ― …я всегда отвечаю за свои слова. Итак, Эгин, все три доказательства на виду. Первое ― пряжка той сандалии, которую я не так давно сняла с твоей правой ноги. А второе и третье ― висят на шелковом шнурке у тебя на шее!
Эгин быд, мягко говоря, озадачен. Ему не хотелось ставить под сомнение правоту и честность Тары, но поверить в то, что он таскает на себе три предмета, чья сущность изменена, причем таскает на глазах у собаку съевших на таких игрушках коллег, было нелегко. Пряжка на сандалии Арда оке Лайна была вместе с сандалиями прикарманена им почти случайно. Его сандалии порвались, а идти босиком не хотелось. Серьги Овель тоже попали к нему случайно, ибо знакомство с Овель во всех отношениях было чистой случайностью. Едва ли кто-то мог заранее просчитать, что ему, Эгину, придет охота прогуляться по Желтому Кольцу перед тем, как завалиться спать, после вечеринки у Иланафа и подстроить эту встречу с девушкой, и ту ночь, начавшуюся в фехтовальном зале…
– Твои слова оставили меня в недоумении. Тара, ― Эгин счел за лучшее признаться своей растерянности. ― Даже если это части измененной материи, они доказывают лишь то, что я носитель измененной материи…
– Ты рассуждаешь, как офицер Свода, занимающийся крючкотворством на потребу начальству. В то время как ты ― человек Эгин ― уже вырос из этой тесной шкуры, куда тебя запечатали люди, которым была вверена твоя судьба, ― сказала Тара, и в ее голосе было понимание и сострадание. Две вещи, с которыми Эгин соприкасался так редко.
«Шкура и в самом деле трещит по всем швам. Видно, Норо оке Шин сшил ее по чужой мерке».
– …пряжка на твоей правой сандалии ― есть сегмент тела того Скорпиона, которого Дотанагела назвал Убийцей отраженных. Эти серьги, висящие у тебя на шее, есть не что иное, как его клешни. Простым смертным не дано иметь при себе больше одной части Скорпиона, ибо уже владение одной из них ― есть верный путь к жестокой смерти. Лишь идущие Великим Путем способны не только хранить части этой странной твари, но и вызвать ее к жизни из небытия.
– Но, Тара, пойми, я не собирал эти части, я не хотел их, я даже не знал о них. Все они попали ко мне случайно. Слу-чай-но! ― Эгин возражал Таре с жаром, который удивил его самого. Он ведь знал, что с жаром отпираются лишь виноватые и оклеветанные. Те, на ком нет вины, возражают по-другому.
– Да, они попали к тебе случайно. Но эта случайность ― закон. Ее не могло бы произойти, если бы ты не следовал Путем Великого Безразличия, Эгин. Поэтому ты и был самой значительной персоной среди всех варанцев, в обществе которых тебе довелось попасть на Цинор.
– Но я не следовал Путем, Тара!
– Ты ― нет, он призвал тебя. И это очень и очень не одно и то же. Тебе не выбрать пути, если прежде он не выберет тебя. Звезднорожденные не выбирали участи звезднорожденных. Они ими родились, и хотя все они временами мечтали о том, чтобы променять свою долю на судьбу свинопаса или придворной дамы, им не по плечу было менять свое предназначение.
– Я не верю в сказки про звезднорожденных, ― убежденно сказал Эгин.
– В сказки ая тоже не верю. Я верю в правду, ― сказала Тара, и Эгин понял, что она не шутит.
Эгин стоял у окна, то и дело оборачиваясь в сторону Тары, которая по-прежнему сидела-на ложе. Она, похоже, любовалась обнаженным торсом Эгина, а потому временами отвечала невпопад, а временами с небольшим запозданием. За окном было совсем светло, и Эгин с интересом обозревал Хоц-Дзанг, а это был, несомненно, он, раскинувшийся внизу кругами благоустроенных руин. Впрочем, разговор с Тарой поставлял ему гораздо больше пищи для размышлений, чем все руины, домики, башни и седые и белоснежные горные вершины, вместе взятью.
– Пусть так, Тара. Пусть все, что сказано тобой насчет пути и Скорпиона, ― абсолютная истина. Но скажи тогда, отчего ни Дотанагела, ни мой начальник Норо оке Шин, ни Знахарь, люди искушенные в Запрещенных Знаниях и Искусствах, видевшие все эти вещи, которые ты называешь частями Скорпиона, не поняли, с чем имеют дело? ― выпалил Эгин, и вдруг в его душу закралась странная догадка, которая сулила ему одно лишь беспокойство. ― Или они поняли, что за пряжка на моей сандалии и что за сапфиры у меня на шее, но решили оставить все это добро у меня, чтобы?..
Тара снова заливисто рассмеялась. Эгин уже успел немного привыкнуть к тому, что она смеется каждый раз, когда Эгин с серьезным видом говорит что-то, с ее точки зрения, нелепое или наивное.
– Милый, если бы они знали, ты был бы уже мертв, а эти вещи уже подтачивали бы волю Дотанаге-лы, вашего гнорра или твоего начальника, в зависимости от того, кому не повезло бы больше. Но в том-то и дело, Эган, что судьбою назначен ты. Не Дотанагела, не Норо оке Шин и не Лагха Коалара, а ты, Эгин. Тебе случилось собрать воедино две части Убийцы отраженных. Это значит, что ты можешь собрать и остальные. Собрать и остаться целым и невредимым. Удача на твоей стороне, и судьба ведет тебя, потому что ты ― избранник.
– И ты, последовав примеру всемогущей судьбы, сделала меня своим избранником. Тара? ― отмерив увесистую паузу, поинтересовался Эгин.
– Можно и так сказать, ― тихо усмехнулась Тара, и Эгин почувствовал кожей, что даже если он продолжит расспросы со всей мыслимой настойчивостью, сегодня он не добьется от нее больше ничего.
Впрочем, сам он уподоблялся чашке, в которую налили вина гораздо больше, чем до краев, и это вино вполне заметной выпуклостью громоздится над краем чашки. И что достаточно еще одной капли, еще одного слова Тары, как все это вино ринет наружу, а ясность, которую только стало обретать его сознание, снова превратится в полнейший сумбур.
Эгин был узником. Заложником. Любовником. Вот три роли, которые подарила судьба обладателю клешней и Пятого сочленения Убийцы отраженных, а попросту Скорпиона.
Днем Эгин метал нож в цель, играл в хаместир сам с собой, смотрел в окно, рисовал рожи и сценки на восковой дощечке, пил, закусывал и не беспокоился ни о чем. Это лучший способ выжить ― не заботиться ни о чем, когда от тебя ничего или почти ничего не зависит. Иногда к нему приходила Тара.
Не менее двух раз в день Эгин совершал омовение в большом тазу из обожженной по какому-то очень хитрому рецепту белой глины. В Пиннарине Эгин никогда не купался больше одного раза в день жарким летом или одного раза в три дня промозглой и сырой зимой. Но в Хоц-Дзанге прежние привычки ему изменили.
Во-первых, делать было особенно нечего. Во-вторых, он занимался любовью настолько часто и необычно, что сохранять тело в чистоте без частых купаний было совсем не просто. А в-третьих ― и это самое важное, ― Тара настоятельно рекомендовала ему (а в положении Эгина это значило почти то же, что приказывала) поступать так, а не иначе. «Если ты не будешь купаться в этой воде, ты иссохнешь, твое тело сморщится, а волосы поредеют настолько быстро, что через неделю ты будешь похож на тридцатилетнего, через десять дней ― на сорокалетнего, а через двадцать дней ― умрешь». Таре, похоже, не хотелось, чтобы Эгин отправился к Намарну так спешно, хотя Эгин догадывался, что не что иное, как ее любовь, делает так, что человеческое тело старится и превращается в гнилое мясо с такой неслыханной быстротой.
«Что это за вода?» ― спросил как-то Эгин, сочтя свой вопрос, по меньшей мере, резонным. Тогда Тара долго колебалась, прежде чем ответила. Историю, которую она поведала "Эгину вскоре после этого, ему хотелось выбросить из головы как можно быстрее. Сводилась она приблизительно к следующему. Где-то на севере от Хоц-Дзанга есть дерево, возле которого после ночной грозы собираются горные лисы ― бесхвостые, трусливые и удивительно сообразительные твари. Кровожадность и любовь к человеческому мясу, однако же, присущи им в полной мере. И хотя на человека такая лиса, чей мех сер, а хвост короток и некрасив, никогда не решится напасть ни в одиночку, ни группой, детям смегов часто приходится терпеть от них. Родители заклинают своих детей возвращаться домой засветло, ибо для ребенка нет ничего страшней, чем столкнуться на горной дороге с тремя-четырьмя животными.
После грозы эти лисы собираются под старым рас – кидистым деревом большой стаей. Каждая из них несет на хвосте крохотный бледный огонек, светящийся в безлунной ночи, словно гнилушка или упавшая звездочка. Они располагаются вокруг дерева семиконечной звездой и начинают скулить и перетаптываться на месте, в то время как огоньки каким-то непостижимым образом перекочевывают с их хвостов на ветки дерева и светятся, словно масляные лампады на Празднике Тучных Семян. У смегов есть примета ― кому довелось хоть одним глазом взглянуть на это дерево, тому суждено либо прославиться, либо погибнуть в дальней стороне в ближайший год.
И тут начинается самое интересное. Лисы образуют вокруг ствола плотное кольцо и начинают бить по дереву лапами, будто в барабан. Как бы отзываясь на этот бой сверху, с ветвей и листьев дерева начинают градом катиться тяжелые капли, что остались там с прошедшего дождя. Обрадованные твари начинают кататься по земле, ловить ртами эти капли и жадно глотать воду, которая, по поверьям смегов, обладает свойством залечивать даже самые тяжелые раны, исцелять тех, кто при смерти, оживлять мертворожденных младенцев и творить прочие чудеса. Но набрать хоть наперсток этих капель настолько непростая задача, что почти никто из смегов не отваживается дерзать ради этого. Дело в том, что лисы, занятые таким вот жутковатым купанием, от вида которого, по уверениям Тары, седеют даже окрестные горы, становятся свирепы и сильны вдесятеро против своего обыкновения, и даже взрослому человеку не оборониться от них ни мечом, ни луком.
Вот в этой-то воде и купался, по уверениям Тары, Эгин, который не удержался от вопроса о том, как же самой Таре удалось набрать ее в таком изобилии. «Ради твоего здравия, Эгин, я пошла на опасную хитрость. Однажды, приметив сияющее дерево после грозы, я привезла туда подводу с семью пленными северянами, которые давно дожидались казни в подвалах Хоц-Дзанга. И я выпустила их поблизости, когда вода уже полилась, а лисы стали кататься на спинах. Когда твари поняли, что кто-то нарушил их покой, их глаза стали ледяными, а шерсть на спинах поднялась дыбом. Нечистые завопили, но деваться им было некуда… одним словом, пока лисы лакомились мясом, я собрала эту воду для тебя».
Тупо глядя в надвигающиеся сумерки, Эшн, наверное, в десятый раз вспоминал рассказ Тары, поразивший его так сильно не то благодаря странной жестокости его новой возлюбленной, не то благодаря своей абсурдности, сказочности, от которой он, однако, становился лишь более правдоподобным и достоверным. Да что там рассказ, Эгин чувствовал, что после получаса любви с Тарой обессиливает так, как не обессиливал после четырех часов безостановочных упражнений в фехтовальном зале и лишь только благодаря купаниям способен продолжать в том же духе и дальше. Ночь за ночью. Три ночи. Три! Значит, сегодня полнолуние?
И в самом деле, Эгин заметил полный чуть красноватый пятнистый блин Хозяйки Ночи, поднимающийся из-за иззубренного края разрушенной башни.
«Значит, сегодня меня ожидает еще один сюрприз. Я наконец-то увижу женщину, с которой занимаюсь любовью уже третьи сутки». Эгин вздохнул. Одна вещь не то чтобы мучила его, но уж, по меньшей мере, не оставляла равнодушным. Если Вербелина и Авор совершают купания два раза в день, как и он, они живы и невредимы. А если нет?
– Я здесь, ― промурлыкала Тара.
Эгин вздрогнул. Погруженный в странные раздумья, он не услышал скрипа дверных петель, который обычно предварял появление в его покоях Говорящей Хоц-Дзанга. Да и был ли этот скрип? Эгин подозревал, что Тара вообще могла обходиться без дверей, когда хотела. И стены тоже не были ей помехой. Впрочем, насколько заметил Эгин, она старалась не злоупотреблять своими способностями в его присутствии. Тара была умна и понимала, что предел здравомыслия Эгин уже оставил позади. А стало быть, предел безумия для него теперь стал необычайно близок и легко преодолим.
– Рад тебя видеть, ― машинально отвечал Эгин, хотя видеть по-прежнему было нечего.
– Кстати, ― бодро продолжила Тара, которую приветствие Эгина изрядно развеселило, ― сегодня будет то, что я тебе обещала.
– А когда?
– Когда луна достигнет своего наивысшего положения над Хоц-Дзангом.
Эгин бросил разочарованный взгляд в окно. И снова обещанного придется ждать. Чтобы как-то отвлечься от идеи, ставшей приобретать в его сознании черты навязчивой, он обнял Тару и подарил ей глубокий и страстный поцелуй. Сколь бы ни была странна их связь, сколь бы ни была она противоестественна для человека, каким, несомненно, Эгин все еще являлся, она дарила ему такую глубину чувствования, какой не удавалось ему достичь в плотской любви ни разу прежде. Хотя нет, однажды с Овель все-таки удалось. Овель… Нет, ему не хотелось вспоминать о ней здесь и сейчас. Быть может, потому, что он боялся, что его ум и его мысли ― открытая книга для Говорящей Хоц-Дзанга, которой ведомы тайны эпохи Третьего Вздоха Хуммера. Одним словом, даже одними мыслями об Овель он не хотел омрачать свою связь со странной девушкой, которую некогда любил сам Элиен, звездно-рожденный. Хотя Искушение спросить у Тары о ее судьбе было велико. Очень велико. Ну хоть не о ней, так… Овель, клешни Скорпиона, Убийца отраженных…
– Скажи мне. Тара, ― спросил Эгин, отстранившись, ― я не понимаю одной вещи. Ты говорила, что мне назначено судьбой собрать воедино Убийцу отраженных.
– Можно и так сказать, ― кивнула Тара, посерьезнев.
– Но, судя по всему, мой путь прекратился здесь, чтобы никак не продолжиться, ― Эгин, конечно же, блефовал. Ему не хотелось даже думать о том, что он останется в этом чертоге мертвых навсегда. И потому его мрачное «судя по всему» было не более чем игрой. ― Каким же образом я соберу Скорпиона?
– Прекратился он или нет, мне неведомо. Я знаю только то, что ты здесь. И пока ты во власти Говорящих Хоц-Дзанга, я не могу отпустить тебя. Будущее туманно. И я не знаю, суждено ли тебе выйти за ворота Хоц-Дзанга еще когда-либо. Но уж будь уверен, что если ты выйдешь за них, то…
– То Убийца обретет цельность и станет направо и налево косить этих самых пресловутых отраженных, ― с сарказмом бросил Эгин.
– Отраженных очень и очень мало в этом мире. В мире, в котором живешь ты, Эгин. Быть может ― и скорее всего, ― он один.
– Но мне, откровенно говоря, плевать на них или на него! Я не фанатик, как Дотанагела, и не бесноватый, как гнорр! Мне нет дела до отраженных, что бы ты ни говорила там о Пути, ― горячился Эгин, которого задело то спокойствие, с которым Тара повествовала о том, что он, Эгин, вполне может встретить свою смерть, лежа на атласном ложе.
– Я говорила о Пути вот что. Даже если тебе плевать, ты все равно сделаешь то, что велит тебе Путь. Ибо это твой ум говорит плевать, в то время как твое сердце стучит совсем о другом, ― тихо отвечала Тара.
– Но тогда почему ты не помогаешь моему сердцу исполнить предназначение? Почему ты не помогаешь мне собрать Скорпиона и изгнать отраженных из вещного мира жизни-в-жизни? Почему тебя оставляет безучастным мое предназначение? Почему?
О да, гиазир Эгин не зря ел хлеб Свода Равновесия. С риторикой у него было все в порядке. Ибо риторика ― это когда любая, даже чуждая тебе мысль облекается в златотканые одежды убедительности и красноречия. Эгин при желании мог доказывать что угодно и с каким угодно жаром, лишь бы добиться своего. Он не верил в отраженных в первую очередь оттого, что не знал, кто это, а во-вторых, потому, что не хотел верить. Но ради того, чтобы покинуть Хоц-Дзанг, он был готов на что угодно. Сколь бы сладок ни был плен, он остается пленом.
Тара слушала его, не перебивая. Кажется, теперь она сидела на ложе и пристально смотрела на Эгина. Впрочем, поручиться Эгин не мог, ибо никаких доказательств у него, разумеется, не было. Наконец ее уста разверзлись, в посрамление Эгину, ибо голос доносился со стороны окна.
– Я, разумеется, помогу тебе, Эгин, в твоем предназначении.
Эгин опешил. Вот уж что-что, а такое быстрое согласие было для него неожиданностью. Она что теперь, устроит ему побег?
– Слушай меня внимательно. Четыре сочленения Скорпиона находятся в Хоц-Дзанге. Дотанагела был во многом прав, когда говорил о том, что интересующие его сегменты тела Скорпиона находятся на Севере. Они действительно находились там, служа декоративными гардами столовых кинжалов для разделки крупной дичины, и принадлежали внучатому племяннику предыдущего сотинальма Харрены. Нынешний сотинальм, получив наследство, поспешил перевезти его в свой удаленный замок у южной границы, в Дельту. И сегменты Скорпиона, а точнее, набор из четырех столовых кинжалов среди кучи столовой утвари, драгоценностей и охотничьего снаряжения погрузили в трюм корабля. Смеги перехватили его близ мыса Форф. Корабль был отправлен на дно, а кинжалы вместе с остальной добычей привезены сюда, в Хоц-Дзанг. Никто, кроме меня и, быть может, нашего свела, не подозревает, что за гарды у этих неброских кинжалов, ибо зреть явное дано всем, кроме слепцов, а зреть неявное ― лишь избранным, среди которых часты и слепцы. Ты можешь видеть эти кинжалы во время любого крупного обеда у нашего свела воткнутыми в олений бок. Так вот, Эгин, ты знаешь все, что нужно для того, чтобы мой подарок послужил тебе.
– Спасибо, Тара, ― невольно вырвалось у Эгина.
– Спасибо говорить рано, ― голос Тары тут же перестал быть серьезным, и Эгин, поднявший на нее взгляд, сразу же понял, почему.
– О Шилол! ― прошептал Эгин, глядя на серебрящуюся женскую фигуру, застывшую у окна.
Лаская ее тело, покрывая его поцелуями и вдувая ей в ухо слова любви, он представлял ее себе совсем иначе. Раскосые, широко посаженные глаза, черные, словно морские глубины. Ярко-желтые, словно солнечный свет, пробивающийся сквозь частокол колосьев спелой пшеницы, волосы, заплетенные в две косы, ниспадающие до самых колен. Стройные сильные ноги и стыдливо сплетенные на груди руки с острыми локотками. Ее тело не было телом из плоти из крови. Оно было соткано из лунного света и материи, которой Эгин в своем невежестве не знал имени. Нос Тары был прям, совершенен и имел необычную форму. Нет, среди варанских женщин не сыщешь такого изысканного и в то же время первозданно дикого овала лица. Таких широких, смелых скул. Таких тонких губ, за которыми сияют крупные жемчужно-матовые зубы.
Овеянное лунным сиянием тело Тары дышало жизнью, которой в нем не было. Оно дышало совсем иной, скрытой от простых смертных жизнью. Мускулы на ее руках были прекрасно развиты. Ее живот был плоским и твердым ― это было тело женщины-воительницы. Ее шея была длинна и гибка. Она склонила голову набок и, подмигнув Эгину, тихонько засмеялась. Неужели от смущения? Нет, среди народов Сармонтазары больше нет таких. Ибо смегов тоже нет больше.
– Ты… ты очень красивая, ― несмело сказал Эгин, ощущая, как глубины его естества вскипают неистовым желанием небесного танца, ― …позволь мне поцеловать тебя.
Медленно, словно зачарованный, он подошел к ней, любуясь ее переливающимися белым золотом небытия формами и… опустившись на одно колено, поцеловал ее руку с длинными пальцами, не украшенную ни перстнями, ни браслетами. «Впрочем, такие совершенные тела едва ли нуждаются в украшениях», ― пронеслось в голове Эгина, который теперь, прильнув губами к ее мраморному колену, стоял перед третьей из Говорящих Хоц-Дзанга, столь же восхищенный и подавленный, каким еще недавно казался ему вложивший меч в ножны Дотанагела. Дотанагела коленопреклоненный.
Глава двенадцатая СВЕЛ НАРОДА СМЕГОВ
В бытность свою добродетельным офицером Свода Равновесия Эгин полагал время предвечным, равномерным и неделимым. Да, благородный Вальх учил его, что мгновение проблеска вражеской стали перед глазами весит больше и длится дольше, чем год умиротворенной жизни на Южном Взморье. Да, Вальх наставлял Эгина, что время властно лишь над глупцами, а мудрые сами лепят из него то, что желают, и наполняют эти немыслимые сосуды такими винами бытия, какие и не снились разжиревшим и ослепшим от взаимной ярости владыкам Круга Земель.
Но слова Вальха оставались для Эгина лишь словами, проблеск вражеской стали перед глазами длился для его рассудка лишь одно невесомое мгновение, а «вина бытия» служили им, молоденьким рекрутам в грубых холщовых рубахах, лишь предметом грубого осмеяния в редкие часы отдыха. Какие, милостивые гиа-зиры, «вина бытия», когда в Четвертом Поместье, как скромно именовалась их закрытая школа офицеров Свода, младшие воспитанники никогда не видали даже ячменного пива? В общем, юному Эгину было совершенно наплевать на болтовню о времени. Время ― это месяцы, дни, время ― это удары сердца в рукопашном бою и горячее дыхание над затаившейся в предощущении конечного наслаждения Вербелиной. И все.
И только сейчас, будучи узником Тары, Эгин начал понимать вес и цену времени. Только сейчас, когда время словно бы растворилось под пологом густых и жарких туманов, заволакивающих долину Хоц-Дзанга, расползлось по кривым улочкам главного селения смегов (которое у Эгина язык не поворачивался назвать городом!), запуталось в сонных днях и горячечных ночах.
С момента первой любовной схватки с Тарой прошло шесть дней, и Эгин знал это. Но если бы старый Вальх сейчас явился к нему и спросил, сколько времени Эгин пребывает в Хоц-Дзанге, тот мог бы только молча поцеловать сухощавую и неимоверно сильную руку наставника. И это было бы единственно правильным ответом.
Эгин не знал, что ему нравится больше ― любить Тару или говорить с ней. Кажется, первое было бессмысленно без второго едва ли не в большей степени, чем второе без первого.
На следующий же день после прибытия в Хоц-Дзанг Эгин узнал от Тары истинную историю народа смегов, которая, как и все прочие истории, подавалась в Варане исключительно через кривые зеркала лжи.
Настоящие смеги ― желтоволосые, крупнозубые и, откровенно говоря, исключительно дикие ― жили на Циноре с незапамятных времен. По крайней мере, как со смешком заметила Тара, никакого Свода Равновесия тогда еще не было даже в самых смелых мечтаниях, да и быть, конечно, не могло. Смеги пиратствовали на море Фахо, иногда ловили рыбу и уж совсем редко ударялись в разведение коз и длинноногих кур. «Столь тощих, что сквозь них просвечивает полуденное солнце», ― припомнил Эгин из «Земель и народов». «Вот именно», ― кивнула Тара.
Варан, Ре-Тар и Харренский Союз время от времени пытались привести смегов к смирению и кротости. И даже тогда, задолго до появления Говорящих Хоц-Дзанга, эти попытки были совершенно тщетными. Потом, незадолго до начала войны Третьего Вздоха Хуммера, между смегами произошла внутренняя распря, и лучшие из них были вынуждены бежать вверх по Орису в неприютные болота на южном берегу Киада и осели там, назвавшись паттами. Патты построили цитадель Хоц-Але, и, поскольку их тогдашние соседи ― гервериты и грюты ― очень не любили лазить по болотам, вполне сносно прожили там вплоть до прихода Элиена Ласарского, которого она, Тара, больше привыкла называть запросто ― звезднорожденный.
Смеги же накануне войны Третьего Вздоха Хуммера весьма успешно отразили очередную карательную экспедицию варанцев (в которой, кстати, участвовали и Элиен, и будущий Сиятельный князь Шет оке Ла-гин), вслед за чем их на семь лет оставили в покое. Более того, когда Элиен Ласарский воцарился над паттами, приняв титул свела, смеги были уверены, что теперь-то уж их покой продлится очень и очень долго. Дело в том, что Шет оке Лагин, ставший Сиятельным князем Варана вскоре после возвращения из плена, приходился Элиену, скажем так, братом, а в действительности ― даже несколько более чем братом в расхожем смысле этого слова. Выходило, что если Шет начнет войну против смегов, он тем самым оскорбит своего брата, который правит их ближайшими родичами. И никакие соображения о том, что патты смотрят на смегов искоса, тут в расчет приниматься, конечно, не будут.
Но Шет оке Лагин, змеиная кровь, был на этот счет совершенно иного мнения. Великолепный и ужасный, перепоясанный Когтем Хуммера, вооруженный страшными Словами и Знаками, он пришел на Цинор, и вместе с ним пришли десятки тысяч варанских воинов.
И варанцы во главе с Шетом истребили смегов. Всех. Или почти всех ― это не важно, ибо уцелевшие нашли свою смерть в рабстве. Хоц-Дзанг, неприступная твердыня смегов, был срыт до основания, и его нетленные руины, которые Эгин может видеть, выйдя на окраину города, ― следствие удивительных преображений естества мира, которые происходили в дальнейшем.
Итак, желтоволосые и крепкозубые смеги были истреблены. Случилось это очень давно. Шесть с половиной веков назад. И без того дикий и неприютный Цинор опустел окончательно.
Варанцы заложили здесь сторожевые крепости, оставили несколько тысяч престарелых и увечных пехотинцев, вслед за чем весь варанский флот был брошен Шетом оке Лагином в Синий Алустрал, где и нашел свою погибель. Ярость Вод Алустрала сполна отомстила за истребление смегов.
Но на этом не закончились судьбоносные события тех удивительных и далеких лет. Шет оке Лагин вернулся из Синего Алустрала преобразившимся. Казалось, его подменили. «В сущности, так оно и было», ― туманно заметила Тара, но Эгин пропустил эту двусмысленность мимо ушей.
Шет оке Лагин приходил в долину Хоц-Дзанга ― один, простоволосый, в изодранном рубище. Никто не знает доподлинно, какие веления судьбы свершал там варанский князь, какие бездны грядущего зрел Шет оке Лагин, прогуливаясь с двойной флейтой по местам своих недавних преступлений и роняя на опаленные камни грустные напевы и скупые слова Истинного Наречия Хуммера. Но случилось так, что спустя десять лет Круг Земель погрузился в череду кровопролитных битв и усобиц, знаменовавших собой и благословенный, и ужасающий финал войны Третьего Вздоха Хуммера.
Когда отгремела сталь, когда замолкли заклинания и пепел погибших городов стал тучной землею на новых полях, мир испытал невиданное облегчение. Звезднорожденные были мертвы. Сильнейшие Синего Алустрала были мертвы. И правители величайших царств Сармонтазары были мертвы тоже.
Но зато были живы-вне-плоти трое из тех, кто погиб еще в первую половину чудовищной войны, в которой не было ни правых, ни виноватых, ибо все были лишь зваными помимо собственной воли гостями на кровавом пиршестве Хуммера.
Был жив Киндин ― искусный старейшина смегов, отяготивший некогда судьбу Элиена Ласарского знаком долгой смерти.
Была жива Тара ― дочь правителя паттов, нашедшая свое счастье в объятиях Элиена, знавшая близость с ним лишь одну ночь и убитая в День Судеб Лон-Меара.
Был жив Фарах, ученик Киндина, наградивший Шета оке Лагина двумя заговоренными стрелами в отчаянной, заведомо обреченной на неудачу попытке отомстить Сиятельному князю за истребление своего народа.
Говорящие Хоц-Дзанга.
– Скажи мне, Тара, ― Эгин стоял у невысокого участка серой стены, сложенной из нетесаных камней и покрытой местами чуть искрящейся на солнце свежайшей сажей. ― Скажи, ведь Шет оке Лагин срыл Хоц-Дзанг до основания, верно? Тогда как восстали из небытия эти камни и эти следы огня, который бушевал здесь, кажется, полчаса назад?
– В этом ― все величие Шета оке Лагина, звездно-рожденного, ― прикосновением свежего ветерка прошелестели над его ухом слова Тары. ― И эти восставшие руины, и мы, обретшие новую жизнь Говорящие Хоц-Дзанга, ― плод его искупительной магии и причудливого скрещения двух Путей Силы, которое именуется Золотым Цветком. Дело в том, что когда Кальт, молодой и безжалостный выскочка, узурпатор ретарского престола, пошел войной против Юга, а варанские и оринские меченосцы во главе с Шетом и Элиеном преградили ему путь, случилась великая битва, в которой горели не только земля, но и вода, и воздух. Пути Силы сошлись в долине Хоц-Дзанга и сложились в Золотой Цветок. И тогда стало так, как мыслилось Шету оке Лагину. Семя моей души, вынесенное Путями Силы из мрачных пучин тонкого мира в Малом Двуречье, а равно и семена душ Фараха и Киндина, что покоились долгие годы в долине Хоц-Дзанга, взошли ко свету и стали тем, чем мы есть. Тремя великими и бесплотными магами, ограниченными, впрочем, в своем могуществе волею прозорливого Шета.
По спине Эгина прополз холодок благоговейного восторга. «Золотой Цветок…», «Взошли ко свету…», «Бесплотными магами…» ― о Шилол, видел ли ты это, слышал ли, да и бытовал ли ты еще в те века? В том, что Шилол ― тоже отнюдь не риторическая фигура, а некая вполне реальная, хотя, возможно, и ненаблюдаемая сущность, Эгин уже почти не сомневался. Пытаясь по своей офицерской привычке перебороть необычное чувство, охватившее все его существо, Эгин скептически ухмыльнулся и провел пальцем по закопченной стене. Палец остался совершенно чистым. Так он и думал.
– Звучит похлеще, чем «Геда о Герфегесте», ― заметил Эгин. ― Но ты не ответила, Тара, как возродились руины. Ведь у них не было ни душ, ни семян души и, значит…
Эгин почувствовал шаловливый поцелуй в затылок и еще один ― на этот раз в ягодицу. Горячие, влажные губы. Никакого «леденящего холода». Он уже начал привыкать, что Таре не составляет большого труда целовать его сквозь одежду.
– Глупый, глупый служака! ― смех Тары рассыпался откуда-то с невысокого гребня стены, перед которой стоял Эгин. ― Иди сюда, варанский солдафон!
При этих словах Тары Эгин ощутил, как ее бережные ладони схватили его под мышки и, оторвав от земли, поставили на стену. Переведя дух, Эгин смог насладиться видом Хоц-Дзанга. Вернее, прежних контуров Хоц-Дзанга.
Необычное это было зрелище. Если что-то оно и напоминало, то, пожалуй, потешный лабиринт, выстроенный в садах Сиятельного князя. Неожиданные, противоречащие здравому рассудку встречи стен под острыми углами. Плавные линии, не образующие прямых углов, изогнутые не без изящества. Полное отсутствие круглых или квадратных очертаний башенных постаментов. А остатки стен, возвышающиеся то там то сям, больше всего напоминали Эгину, напоминали….
«…лепестки, Шилол меня раздери!» ― не без раздражения заключил Эгин, злясь на себя за свое тугодумие.
– «Хоц» на наречии смегов означает всего лишь «укрепление», «крепость». А вот «Дзанг» ― сроду не угадаешь, —игриво заметила Тара.
– А что тут гадать? ― слегка окрысился Эгин, который терпеть не мог, когда его собеседники кичатся книжным знанием. ― Даже тупому варанскому солдафону понятно, что «Дзанг» означает… «роза!» ― выпалил Эгин весьма неожиданно для самого себя.
Несколько мгновений Тара молчала.
– Да, ― сказала она, и Эгин очень, очень пожалел, что не может воочию увидеть ее лица, которое он столь живо представил себе, судя по ее голосу. Удивленное, восхищенное и слегка разочарованное.
– Вот то, что ваши глупцы из Свода назвали бы, верно. Сердцем или Оком Хоц-Дзанга, амы. Говорящие, зовем просто Семенем.
Тара провела Эгина в самый центр руин, и теперь они стояли перед черным матовым столбом шестилоктевой высоты, в котором любое, самое целомудренное око признало бы разительное сходство с мужским органом.
– А почему не… ― с лепсой хрипотцой начал было Эгин, которому на ум мгновенно пришла последняя ночь с Тарой.
– Потому что это семя, а не хрен, ― строго отрезала Тара тоном аррума Опоры Благонравия. ― Хоц-Дзанг назван «Крепостью-Розой» отнюдь не по пустой прихоти его создателей. Хоц-Дзанг ― это действительно крепость-роза. По преданию, он был построен Лишенным Значений. Но, честно говоря, ― Тара коротко хихикнула, ― о каких бы диковинах Круга Земель ни повествовали разные Скрижали, Книги и Геды, они вечно приписывают их создание то Хуммеру, то Лишенному Значений, словно бы не существовали ни Ге-стра, ни Гаиллирис, ни Леворго, ни Шилол, ни…
– Постой, постой! ― У Эгина и без того голова шла кругом от безумных вещей, сумасшедших событий и головокружительных ласк женщины, погибшей в героическую эпоху. ― Мне не важно, кто создал крепость-розу. Важно, чем она является.
– А… Да, Эгин, ты прав, ― спохватилась Тара. ― Видишь ли, таких крепостей, как Хоц-Дзанг, больше нет, да и эта не сохранилась бы никогда, если бы не Шет оке Лагин. Он, конечно, испепелил Хоц-Дзанг, но он же даровал ему…
– Тара!
Нет, это был не вполне человеческий голос. В нем слышались рев медведя-людоеда, рокот каменных утесов, шум свирепого зимнего прибоя. У Эгина против его воли чуть подогнулись колени. Голос принадлежал Фараху.
– Тара, тебя немедленно хочет слышать свел народа смегов. И меньше болтай ― боюсь, все, что ты сейчас собиралась рассказать своему тощему любовнику, он вскоре увидит сам. Ясно?!
– Ясно, ― с вызовом ответила Тара. Она была явно раздосадована, обижена за «тощего любовника» и… и сильно испугана.
С первого дня в Хоц-Дзанге Эгин понял, что смега-ми правит свел. «Свел», как он знал, ― это оринский титул, обозначающий верховного правителя с наследственной передачей власти. И в первый же день Эгин задумался над совсем простым вопросом: как делят власть над сметами Говорящие Хоц-Дзанга и свел? Да и можно ли вообще вести речь о какой-либо реальной власти свела над сметами, если могущество Говорящих огромно. Столь огромно, что даже пар-арценц Опоры Писаний вместе со Знахарем Свода не смогли противопоставить ему ровным счетом ничего, кроме своей отчаянной храбрости?
Теперь он знал ответы на эти вопросы.
Говорящие возродились вместе с руинами Хоц-Дзанга, и на всем Циноре к тому моменту едва ли сыскалась бы сотня беглых каторжников. Потому что все варанские гарнизоны были отозваны Шетом из недостроенных крепостей и никогда больше в них не возвращались.
Итак, Говорящие оказались в пустоте. Три одинокие души, отягощенные заклятиями Шета оке Лагина. А заклятия Шета были просты, очень сильны и не имели никакой обратной силы. Даже сам Шет был против них бессилен, как грудной младенец.
Заклятия гласили:
Говорящие не могут покинуть пределы Цинора до скончания времен. Ни своими силами, ни волею посторонних сущностей. Любая попытка пересечь сухопутные и морские границы Цинора означает немедленное и конечное небытие Говорящего.
Говорящие не могут причинить зла людям, которые придут на Цинор с миром, чтобы принять нравы, обычаи и язык древних смегов, а равно и имя «смеги».
Говорящие должны уничтожать всякого, кто придет к принявшим имя «смеги» с войной.
Говорящие должны во всем слушаться того, кто назовется свелом принявших имя «смеги». Ослушание перед лицом свела означает немедленное и конечное небытие Говорящего.
Попросту говоря, Шет оке Лагин придумал цепных псов Цинора, которые должны были оборонять тех, кому еще предстояло прийти.
Именно цепных, ибо Говорящие были закреплены за Цинором и не могли, даже возжелай они того, нести смерть в другие земли Сармонтазары.
Именно псов, ибо им было назначено ненасилие против своей паствы и полное послушание свелу ― своему пастырю.
А если свел пожелает истребить при помощи Говорящих половину своих подданных? Что победит ― «ненасилие» или «послушание»?
«Победит послушание, ― мрачно ответила Тара. ― Мы послушаемся свела и убьем. Но не смегов, нет. Мы убьем свела».
«Шилол, Шилол, Шилол… ― подумал тогда Эгин. ― Повсюду ― одно и то же. Люби и властвуй. Властвуй без любви. Властвуй без ненависти. Убивай и властвуй. Люби и стань никем».
Кто и когда придет на Цинор, чтобы принять имя «смеги», Шет не знал и не мог знать. Но, судя по всему, догадывался ― иначе зачем бы он делал все то, что он делал?
В те годы, когда Цинор стоял опустошенный, а по нему бродили пока еще толком никем не замеченные, но уже обросшие чудовищными слухами Говорящие, люди боялись Цинора, ибо не понимали его. «Да, кое-кого нам действительно пришлось проучить, ― грустно заметила по этому поводу Тара. ― Всегда находятся безумцы, которые жаждут золота из разрытых могил и страшного знания из непонятных письмен. Они, напуганные нами до смерти, уходили ни с чем и рассказывали свои истинные страшные приключения, которые быстро становились кошмарными небылицами».
Шли годы, десятилетия и века. На Севере крепла Харрена, на Юге ― Тернаун, в Варане набирался сил Свод Равновесия. «Да, офицеров Свода мы убивали всегда, ― с неохотой согласилась Тара. ― Они приходили сюда не по недомыслию, а с мрачными своекорыстными умыслами. Кстати, тогда ни князья, ни гнорры, ни пар-арценцы вполне справедливо никакого интереса к Цинору не питали, а не в меру любопытные аррумы лезли сюда исключительно в поисках разной дряни. И ни один из них не смог пред нашим ликом убедительно доказать, что ищет Коготь Хуммера или там Хват Тегерменда ради того, чтобы вверить их Жерлу Серебряной Чистоты. Нет, они искали Вещи и Писания во имя власти и зла, а находили пустоту и смерть».
И вот полтора века назад в Сармонтазаре начались новые великие войны. Харрена сожрала весь Север и вышла к Орису. Тернаунский войсководитель Эгин Мирный подмял под себя равнины и пастбища Юга и тоже вышел к Орису. Орис ― превосходная естественная граница между двумя монстрами? Отнюдь нет.
«Орис ― синий пояс, которым будет подпоясан исполин нашей империи, когда он распрямится в полный рост и его голова коснется Северной Лезы». Эгин Мирный, император Юга. Был многословен и велеречив, стихи писал, неплохие.
«Орис ― лишь передышка. Орис ― всего лишь удобный ров перед нашими походными лагерями. В Орисе наши внуки будут запускать кораблики, не боясь грютских стрел. А в это время на Тернауне наши дети будут добивать последних южан». Танай Третий. Был еще многословнее, стихи писал, вконец тошнотворные.
Обе империи были полны решимости наступать. Обе приняли роковые решения. И грянула Тридцатидневная война.
Танай решил не переправляться через Орис прямо под копыта грютской летучей кавалерии и тяжелым панцирным итанантам. Танай решился на стратегический обход армий Эгина Мирного с восточного фланга ― через перепуганный и трижды нейтральный Варан. Сказано ― сделано. Огромный флот северян, прозванный позднее Армадой Тысячи Парусов, вышел из ре-тарских портов и обрушился на Урталаргис ― тогдашнюю столицу Варана, а равно и на Пиннарин ― ключевой порт, державший под контролем дельту Ориса. Сопротивление Варана было сломлено очень быстро благодаря полной внезапности нападения. Страна погрузилась в хаос. Остатки армии, осколки Свода Равновесия и наследник престола (тогдашний князь принял смерть в бою) бежали в горы, к Ордосу, вверив побережье северянам.
Никто толком не знал, что собирается делать Танай дальше. В этом заключалась его основная военная хитрость. Под видом разбойничьего нападения переправить в Варан большую часть войска и ударить под стратегические ребра зазевавшегося Эгина. Но варанцы полагали, что Танай пришел истребить их подчистую, и многие жители восточного Варана заключили, что терять им нечего, что ужасы Цинора лучше, чем рабство и смерть от рук харренитов.
И тысячи, десятки тысяч беженцев пересекли границы Цинора. И ничего особенного с ними не случилось, потому что Говорящие Хоц-Дзанга поняли ― это и есть те самые люди, которые готовы принять имя «смеги».
Плетение нитей судьбы причудливо и вычурно, ирония судьбы неизбывна. Некогда варанцы враждовали со смегами и истребили их под стягами несравненного Шета оке Яагина. Теперь потомки истребителей смегов сами пришли на Цинор и приняли имя «смеги». Говорящие Хоц-Дзанга, как и было завещано Шетом оке Лагином, стали их пастырями и сами назначили первого свела. Надо же было с чего-то начинать.
Тем временем Эгин Мирный ― хитрейшая и умнейшая бестия, милостивые гиазирьг! ― разгадал замысел Таная. И, как и всякий талантливый войско-водитель, импровизируя буквально на ходу, пустился в кошмарную авантюру. Полностью оголив тылы и поставив всю свою наспех сбитую империю под угрозу полного развала, он бросил через Орис все силы, которые имел под рукой. Легкая грютская конница с ужасающей воображение скоростью приближалась к Тар-деру. Коренные тернаунские формирования осадили Нелеот и Суэддету. Южные провинции Харрены были охвачены паникой. А сам харренский сотинальм с отборной армией тем временем топтался у каких-то безвестных варанских перевалов, готовясь к выходу в грют-ские степи. К тому же воспрявшие духом варанцы во главе с наследником престола перешли к угрюмой партизанщине, которая ничего хорошего харренитам не сулила.
Перед Танаем встала головоломная стратегическая задача. Он мог либо остаться верным своим замыслам, пробиться-таки прочь из Варана, выйти в глубокий тыл Эгина и идти на Юг, сжигая все на своем пути так же, как воины Эгина разоряли Ре-Тар и Двуречье. Это было бы безумием. Бредом. Крахом обеих империй на долгие века. Более простое и очевидное решение заключалось в том, чтобы уйти из Варана тем же путем, каким он в него пришел, и, высадившись где-то в Тар-дере, дать Эгину решающее сражение на родной земле. Разумеется, Танай скрепя сердце выбрал именно его.
Ровно через тридцать дней после начала вторжения харренский флот покинул сожженные порты северного побережья Варана и отбыл в Тардер. Дальше история великих государственных монстров пошла своими причудливыми путями, которые нам, смегам, не без гордости заметила Тара, совершенно безынтересны. Интересно то, что варанские беженцы, принявшие имя «смеги», и не думали возвращаться обратно ― в хаос послевоенной разрухи, густо замешанный на крови и доносах в Свод Равновесия.
Потом проходили годы, слава о вольном братстве жителей Цинора разносилась по всей Сармонтазаре, и «сметами» спешили стать многие беглецы из Харрены, Ре-Тара, Варана и даже из грютских степей. Так и по сей день.
– Ткач Шелковых Парусов, свел народа смегов, примет тебя, чужеземец. Следуй за мной.
Вот так. Чужеземец. «А ведь твои прадед и прабабка были варанцами, братец», ― подумал Эгин с каким-то странным чувством, озирая колоритного смега, чей торс, плечи и шея были сплошь татуированы морскими гадами, а в руках неколебимо покоилась страховидная железная палица, взятая наперевес. «Похоже, так у них приветствуют важных гостей», ― пожал плечами Эгин, идя сумеречными коридорами вслед за громилой, который явно выполнял в так называемом «дворце» обязанности скорее церемониймейстера, нежели стража или телохранителя. Судя по рассказам Тары, которая осталась у символической калитки в не менее символической ограде, свел в телохранителях не нуждался. Во-первых, ни один смег никогда не решился бы и пальцем тронуть своего правителя, которому вольно приказывать Говорящим Хоц-Дзанга, словно луне ― звездам, своим небесным рабам. Во-вторых, по уверениям Тары, теперешний их свел-человек очень необычный, и в случае необходимости может оторвать голыми руками голову хоть акуле, хоть наемному убийце.
Коридор, похоже, был кольцевым. Потом в нем открылся низкий проход, за которым оказался еще один коридор ― тоже кольцевой. Вообще архитектура у смегов была странная.
Эгин шел и думал о том, что еще никогда ему не доводилось общаться с правителями целого народа. О том, что загадочный свел ― человек наверняка огромный, под стать своему церемониймейстеру, и будет смотреть на него, не очень высокого и отощавшего вдобавок от бесконечных любовных упражнений с Тарой, не без пренебрежения. И еще Эгин думал о том, что свел наверняка откажет ему во всех его просьбах. Но в свою очередь отказаться хотя бы от попытки что-то изменить Эгин не мог.
Второй коридор окончился таким же невысоким проходом, как и предыдущий, и Эгин попал в прекрасно освещенный небольшой зал.
– Эгин, рах-саванн Опоры Вещей, ― отрекомендовал его татуированный сопровождающий.
– Благодарю, Айфор, ты свободен.
Эгин застыл неподвижным изваянием, словно бы пораженный ледяной молнией. Голос был громок, свеж, властен. Голос имел легкий незнакомый акцент. Голос принадлежал женщине.
– Итак, как зовут вас, я знаю. Следовательно, можно говорить.
Свел скупо улыбнулся, точнее, улыбнулась. Эгин, который все еще пребывал в ступоре и поэтому чувствовал себя полнейшим ослом, с трудом выдавил кривую улыбку.
– Д-да, милостивый гиазир… простите, госпожа.
– Эгин, на Циноре не принято говорить «гиазир» и «госпожа». Здесь это считается в лучшем случае злой иронией. Вы можете обращаться ко мне просто Ткач.
– Хорошо, Ткач, ― кивнул Эгин, недоумевая, как женщину столь редкой, какой-то потаенной красоты можно называть словом, обозначающим грубое мужское ремесло ― «ткач». Она бы еще назвалась «сапожником». И, неожиданно набравшись храбрости ― терять ему все равно было нечего, ― он выпалил:
– Однако прошу меня простить за дерзость, но мне бы очень не хотелось обращаться к вам «ткач».
Свел удивленно вскинула брови ― словно бы крылья черной чайки ― и, цокнув языком, бросила:
– Отчего же? Впрочем, неважно. В конце концов, вы не мой подданный и имеете право не оправдываться передо мной в своих пристрастиях. И, поскольку скоро всем нам суждено предстать пред ликом ужасной и неотвратимой смерти, я назову вам свое истинное имя ― Лиг. Вы удовлетворены, Эгин?
– Да, Лиг, ― кивнул Эгин, недоумевая, что это за имя такое и где он слышал что-то смутно похожее.
– В таком случае, Эгин, я вас слушаю. Или нет, у нас уже совсем мало времени. Слушайте вы меня, но прежде сядьте.
Позднее, мучась горячечным бредом, изнывая от боли, исполинской многоногой дрянью терзающей его позвоночник, Эгин в короткие мгновения просветлении возвращался к прошедшим дням и, в частности, к разговору с Лиг и никак не мог вспомнить самых простых вещей. Не мог вспомнить черт лица Лиг, форму кресел, стола, кубков на столе, не мог понять, какая еще мебель была в зале и откуда исходил яркий золотистый свет, пронизывающий все вокруг.
– Вина я вам не предлагаю, потому что это настоящее аютское и от него вам захочется лишь одного ― всеиспепеляющей страсти в моих объятиях. Страсти я вам дать не могу, ― в глазах Лиг мелькнула на мгновение плохо скрываемая грусть, ― а мучить вас неразделенным желанием было бы жестоко. Но чару гортело я бы вам рекомендовала. Во-первых, гортело расслабит вас ― вы слишком закрепощены, ― а во-вторых, он просто очень и очень недурен. Пейте!
Лиг легонько прикоснулась своей чашей, наполненной багрово-красной ароматной жидкостью, к своей правой щеке.
Отказаться было невозможно. Эгин взял со стола весьма немалую «чару» размером с добрый кубок, повторил жест Лиг, залихватски испил гортело до дна, а потом захрустел ломтем моченой репы. Энно!
– Благодарю, Лиг, ― просипел он, утирая губы дорогой шелковой салфеткой, которую свел заботливо протянула ему через стол. Краем глаза он заметил, что на салфетке вышита какая-то надпись. Шесть незнакомых значков.
– Итак, Эгин, из намеков Тары я знаю о ваших желаниях. Вы хотите получить столовые кинжалы, гарды которых в действительности представляют собой сочленения Убийцы отраженных ― с первого по четвертое. Вы хотите также испросить у меня свободы и соизволения покинуть Цинор, хотя вы совершенно не понимаете, куда и зачем вам следует направляться. В Варане вас ждет Жерло Серебряной Чистоты, на Севере ― неизвестность. Вы не знаете, что произошло с людьми Дотанагелы, удалось ли им достигнуть Тардера и если да-то какой прием они там встретили; но, как человек долга, вы полагаете необходимым собрать Убийцу отраженных до конца и привести его в действие, чего бы вам это ни стоило. Так?
– Так, ― Эгин мог только улыбнуться и развести руками. Милая Лиг избавила его от необходимости долго и сбивчиво объяснять все то, что он услышал в свое время от Тары.
– Ну что же ― берите.
Звон от четырех столовых кинжалов, ловко вброшенных Лиг в центр стола, долго еще будет сниться Эгину, всегда служа его представлению символом необъяснимого и прекрасного чуда. Ибо рах-саванн мог ожидать чего угодно, но только не такой поразительной сговорчивости Лиг.
Эгин открыл было рот, чтобы поблагодарить свела народа смегов, но та останавливающим жестом упредила его.
– Не стоит благодарности, Эгин, ― довольно сухо сказала Лиг. ― Вы не знаете, куда заведут вас эти ножи. От Тары вы, возможно, слышали, что Убийца отраженных ложится на плечи своего хозяина тяжелейшим бременем, и никому не по силам снести более чем одну из его составляющих вещей.
– Простите, Лиг, ― не удержался Эгин, ― а как же вы? Тара говорила, что простые смертные, владевшие более чем одной частью Скорпиона, становятся жертвами жестокой смерти.
– Шилол вас побери, рах-саванн, до чего же вы дотошная бестия! ― рассмеялась Лиг, подливая ему еще гортело. И, мгновенно посерьезнев, ответила:
– Во-первых, рах-саванн, я не вполне простая смертная. Во-вторых, я владею кинжалами совсем недолго. До этого они принадлежали моему супругу, предыдущему свелу народа смегов, и он действительно погиб, совсем недавно, кстати. И в-третьих, я смею надеяться, что жестокая смерть уже однажды постигла меня двадцать лет назад и повторно разыщет теперь очень не скоро. Вы удовлетворены?
– Да, Лиг, вполне, ― как можно более искренне сказал Эгин, с ужасом уловивший в голосе свела очень зловещие нотки.
Эгин почувствовал, что, коль скоро главная цель аудиенции достигнута, пора постепенно расшаркиваться. Эгин осушил второй кубок гортело и, крякнув, поднял на свела отяжелевший взор.
– Позволите идти?
– Идите, рах-саванн, ― настроение Лиг явно портилось с каждым ударом сердца. ― И будьте готовы к завтрашнему.
– Скажите, Лиг, у нас есть шансы победить в завтрашнем сражении? ― небрежно спросил Эгин, сгребая столовые кинжалы и прикидывая, куда же он их засунет ― шейная веревочка уже была перегружена серьгами Овель сверх всякой меры.
– В завтрашнем сражении не будет победителей, ― мрачно процедила Лиг, покусывая нижнюю губу. ― Разве только вы, Эгин.
Глава тринадцатая РОЗА И ЕЕ ЛЕПЕСТКИ
Несметное стадо уродливых черных коров, отчего-то одноглазых и длинноногих, словно бы это были не коровы, а кони Говорящих Хоц-Дзанга, двигалось по выжженной равнине, звеня колокольцами, напоминающими черепа каких-то грызунов. Тяжелое вымя самой ближней к Эгину коровы свисало почти до земли, и сосцы ее то и дело задевали кочки. Они двигались к востоку, но Эгин не мог видеть куда, его руки были плотно связаны за спиной лыковой веревкой, а на его шею был надет тяжелый лошадиный хомут, который не давал ему возможности поворачивать голову по своему соизволению. Звон колокольцев и нестройный жутковатый рев усиливались ― теперь стадо проходило мимо него.
Позорный столб ― а Эгин отчего-то не сомневался в том, что это был именно позорный столб, наподобие тех, какими изобилуют площади грютских городов, ― был низок и ветх, вдобавок он был плохо вбит в землю, и когда Эгин делал попытки двинуть бедрами (ибо ноги его тоже были связаны), столб раскачивался туда-сюда, грозя надломиться и упасть в черный пепел неведомой земли, где копошились не то маленькие змейки, не то раздобревшие черви. На чем это они так разъелись? «Если какая-нибудь из коров заденет боком столб, он упадет, и тогда мне конец», ― подумалось Эгину, и капля пота скатилась по его носу. «Где пастух, где же?!» ― взывал он, обращаясь неведомо к кому. А рев все усиливался. Стадо почти поравнялось с его столбом, но пастуха, на которого он возлагал столько надежд, все не было и не было…
Эгин закрыл глаза, напрягся и изо всех сил рванулся вперед, пытаясь разорвать лыковые веревки. Одна из них поддалась и затрещала, освобождая запястья. С наслаждением вьщохнув, он сжал онемевшие пальцы в кулак и открыл глаза…
Таз для умывания, ночной горшок, камышовая циновка на окне, смятое ложе. Звона колокольцев не было, но вот рев… весь Хоц-Дзанг оглашался нестройным ревом. Но ревели не коровы ― боевые трубы сме-гов. Кажется, началось то, о чем вчера с милым аютским акцентом поведала ему Ткач Шелковых Парусов. Гнорр Лагха Коалара пожаловал в гости собственной персоной. Предрассветный мглистый горный туман покрывал комнату ватными клочьями. Эгин смахнул со лба пот. Вздохнул полной грудью.
– Тара, девочка моя… ― тихо и растерянно позвал он, услышав, как скрипнула входная дверь.
– Одевайся, мальчик мой, пора! ― это был исполненный убийственной издевки голос Фараха, Хуммер его раздери. ― К тебе в гости гнорр!
И, довольный собственной козлиной шуткой, Фарах рассмеялся. Совершенно как козел.
– Надо полагать, мои друзья сменили телесность на бестелесность, раз они здесь, ― нашелся Эгин, когда среди смегов, изготовившихся к битве, он увидел Дотанагелу, Самеллана, Знахаря, Иланафа и еще десяток знакомьк матросских рож из «Голубого Лосося».
– Это не призраки, они живы, ― не уловив иронии, отрезал Фарах авторитетнейшим тоном. ― А за то, что они здесь, благодари не нас, а гнорра.
На площадке, окружавшей Семя Хоц-Дзанга, куда прибыл Эгин в обществе своего невидимого проводника, уже собралось не менее трех сотен человек, и народу все прибывало и прибывало. И хотя место это было ничем не лучше других, кроме того разве, что находилось оно в самом центре руин крепости, все предпочитали именно его. Смеги были вооружены маленькими и наверняка маломощными луками, дротиками и короткими мечами ― такими же кургузыми и легкими, какой, по ходатайству все того же Фараха, минуту назад пожаловали Эгину. Впрочем, столовые кинжалы в продырявленной кожаной перевязи для метательных ножей, которые украшали несколько исхудавший за последние дни торс Эгина, тоже делали его по-своему комичным. Но ему было отчего-то не до смеха.
– Рад видеть тебя живым и невредимым! ― Дотанагела, похоже, был действительно рад. Из-за плеча Дотанагелы ― кроткая, словно домашний голубь, и худющая, словно сушеная корюшка, ― выглядывала Вербелина. От Эгина не укрылись ни ее мертвенная бледность, ни фиолетово-серые тени, что залегли у нее под глазами. Ее милый лоб рассекала непрошеная, озабоченная морщинка, которая раньше лишь намечалась, а ее губы были на удивление сухи и белы.
– Здравствуй, Эгин, ― сказала она с очень-очень грустной улыбкой.
И тут же, словно бы снедаемая бледной немочью, она закашлялась, уткнувшись в рукав Дотанагелы. Эгин никогда не испытывал к Вербелине чувств, далеко превосходящих то, что зовется приязнью. Но теперь от одного взгляда на нее ― изможденную и иссушенную ― его сердце сжалось в комок жалости и сострадания. «Любовь с Говорящими стоит дорого. Пока не выложишь все, что имеешь, ― не отпустят!» ― зло сказал себе Эгин, как вдруг ему стало стыдно, ибо, злясь на Фараха и Киндина, он косвенно злился и на Тару, которая сделала все зависящее от нее, чтобы оставить ему здоровье и жизнь. Значит, вся эта мутная история с семью северянами, которых скормили лисицам в обмен на бочонок с водой, тоже…
– А где Авор? ― поинтересовался Эгин, когда отзвучали довольно скупые, хотя и радушные слова взаимных приветствий. ― Что-то я ее не вижу.
– И не увидишь, ― зло процедил Иланаф, который, вопреки своему обыкновению, зарос густой щетиной и все еще не порадовал присутствующих ни шуткой, ни каким-нибудь идиотским комментарием к происходящему. ― Милашка Авор отошла к Намарну позавчера на рассвете. По крайней мере, так мне объяснил Фарах.
Эгин отвел глаза. Теперь сомнений по поводу того, состояли ли Иланаф и Авор в связи, если выражаться казенным языком Опоры Благонравия, у него не было.
– Прости, Иланаф, ― выдавил Эгин.
– Да чего уж тут «прости»! Всем ведь было понятно, что тщедушная Авор долго в Хоц-Дзанге не протянет.
Все смолкли и нарочито увлеклись наблюдением за военными приготовлениями смегов. Вот десятеро сме-гов вкатывают на площадку продолговатое нечто, укрытое парусиной. Вот отряд пращников получает последние указания от своего командира. Но все это выглядит странно, весьма странно. Армия собирается на небольшом пятачке в центре руин, которые не способны защитить ее не то что от стрел, но даже и от взглядов. Но варанцев все еще не видно ― боевые трубы смегов смолкли. Похоже, все, кто должен был собраться, уже собрались. Правда, их не слишком много.
– Я вижу, нашему ясному соколу пошло на пользу общество Говорящих! ― Эгин вздрогнул и обернулся.
Это был голос Знахаря, и его обладатель тоже был рядом. С ним был Самеллан, являвший собой странное сочетание угрюмого азарта и затаенной радости.
– Здорово, рах-саванн! Я тут уж было думал, ты тоже того… а ты всего лишь спал, ― Самеллан был, как всегда, прям и внятен.
«А я всего лишь спал», ― повторил Эгин, ища глазами хоть какой-то намек на близость Тары или хотя бы Киндина.
Но, судя по всему, и у свела, и у Говорящих были сейчас дела поважнее миндальничания с варанцами или шпионажа за ними же. Да и что толку в нечаянно оброненном слове чужака, если гнорр Свода Равновесия двигается маршем по единственной горной дороге, поднимающейся к Хоц-Дзангу от побережья? Эгин, чьи познания в истории были не столько скудны, сколько разрозненны, мучительно пытался припомнить, знал ли Свод Равновесия подобные прецеденты, и был вынужден себе сознаться, что нет, нет и еще тысячу раз нет. Как бы вторя его мыслям, Дотанагела, приобняв за плечи изо всех сил старающуюся казаться бодрой Вербелину, сказал:
– Ну когда б еще столько народу увидело живого гнорра Свода Равновесия! Хоть посмотрите. Он, между тем, удивительной, небесной красоты молодой человек!
Вербелина вымученно улыбнулась. Похоже, вместе с силами и волей жить Говорящие отняли у нее и способность интересоваться мужчинами, в том числе и очень красивыми мужчинами.
Эгин отчего-то вспомнил, что по неписаному закону Свода распространяться о внешности здравствующего гнорра и обсуждать ее, хоть бы даже и осыпая комплиментами, было строжайше запрещено. А потому все таланты языкастых портретистов находили свое применение в описании внешности уже ушедших в Святую Землю Грем гнорров и иногда князей. Так, например, каждый знал, что Шет оке Лагин был рыжеволосым, кудрявым, длинноносым и костистым, а в его ухе горел поразительной красоты изумруд. А предыдущий гнорр был, напротив, низок, лыс, толст и покрыт бородавками, словно жаба, что, конечно, ничуть не умаляло его неоспоримых достоинств. Дотанагела, разумеется, видел гнорра не раз, но Эгин был готов биться об заклад, что словесный портрет Лагхи Коалары слетел с его уст первый раз в жизни.
– Да… кто хрена не видел, тот посмотрит! ― войдя в свою излюбленную манеру выражаться ― манеру портового сутенера, ― сказал Знахарь и смачно сплюнул в пыль.
«Он, правда, забыл сказать, на что посмотрит», ― подумал Эган, пробуя на вес свое новое оружие.
– Никогда не думал, что мне будет назначено судьбой выступить против «Голубых Лососей» на стороне смегов. Если б кто сказал, плюнул бы в наглую харю, а тут… ― сказал Самеллан с недоброй усмешкой.
Эгин молча кивнул ему в знак согласия. Хотя мало ли кто о чем никогда не думал?!
И только Знахарь был, как всегда, правее всех:
– Против «Голубых Лососей» ты уже семь дней назад выступал, ― пожал плечами он. ― И какая разница ― на стороне смегов или просто так?
Ни с кем не здороваясь, сквозь толпу к Семени Хоц-Дзанга протиснулась Лиг. Она шла в сопровождении давешнего татуированного здоровяка, которого, как помнил Эгин, звали Айфор. На Лиг были умопомрачительные женские доспехи, каких Эгину видеть никогда не доводилось. Вообще специальные женские доспехи, насколько Эгину было известно, изредка изготовлялись в Синем Алустрале, и только там. Впрочем, припомнил Эгин, было еще одно место в Круге Земель, где делали сотни и тысячи женских нагрудников, специальных расширенных пластинчатых юбок и шлемов с дополнительным затылочным развитием, куда дама могла уложить пук своих роскошных волос. Это место называлось Ают. Да и по стилистике доспехи были, со всей очевидностью, аютскими, ибо на них без ложной скромности была выгравирована женщина, торжествующая над мужчиной в Грютской Скачке.
Лиг, свел народа смегов, с рассеянной улыбкой покусывала нижнюю губу. Казалось, она плохо понимает, зачем оказалась здесь, среди всех этих людей, разношерстно вооруженных и пестро одетых, в обществе варанских офицеров и смегов.
Все притихли, поглядывая на свела. Но Лиг стояла молча, положив ладони на Семя Хоц-Дзанга, и, судя по всему, не замечала никого и ничего.
Потом раздался приглушенный стук копыт, и сме-ги, которые расступались перед Лиг лишь едва заметно, вдруг с приглушенным «У-х-х-х» раздались в обе стороны на добрых десять локтей, пропуская двух неопалимых коней. Эгин догадался, что это кони Тары и Киндина.
– А где третий? ― негромко спросил Эгин, зная, что Фарах где-то рядом и наверняка слышит его.
– А третьего, которого, кстати, звали Шет, я потерял два дня назад, когда ездил разведать силы гнорра.
«Ого! Потерять такого коня ― да как сие возможно?» ― хотел было удивиться Эгин, когда вдруг заметил ― без удивления, впрочем, а скорее, с обессиливающей грустью, ― что левый конь сильно волочит правую заднюю ногу, а на правом… ободраны пресловутые наглазники и видны истинные глаза. Два черных угля. Лагха Коалара, гнорр Свода Равновесия, явно шутить не собирался.
Тара и Киндин подъехали к сведу вплотную. Эгин почувствовал, что от коней исходит почти нестерпимый жар. Их длинные ноги хранили бескровные следы чьих-то жестоких клыков.
– О Ткач Шелковых Парусов! Мы сделали все, что в силах Говорящих. И мы не смогли ничего. Сделай мы большее ― и гнорр убил бы нас молниеносно. Ибо с ним Поющие Стрелы и черные твари, которым мы не знаем имени.
Голос Киндина не был голосом призрака. Это был голос мертвеца.
Вершины гор вокруг долины Хоц-Дзанга были затянуты сероватой дымкой. Сильный южный ветер нес через долину пыль, крошечные обрывки соломы и какой-то острый тревожный запах, который Эгину показался знакомым. Но где и когда он чувствовал его, рах-саванн Опоры Вещей припомнить не успел, потому что с лица Лиг неожиданно сошло растерянное выражение и женщина переменилась в одночасье.
– Хорошо, ― бодро сказала Лиг. ― Вы сделали все что могли, и я не виню вас. А теперь забудем об этом. Пришла пора восставить Хоц-Дзанг так, как то мыслилось несравненному Шету оке Лагину.
– Добрую Воду, живо! ― потребовала Лиг, и ничто, служившее плотью Говорящих, породило три длинно-горлых кувшинчика.
– Лейте!
Кувшины опрокинулись, и в основание Семени сбежали три спорые струйки благоухающей розовым маслом влаги, которая ― в этом Эгин не сомневался ― ничего общего с розовым маслом не имела.
И все. Заклинаний не прозвучало. Здесь Шет в свое время создал свое собственное, небывалое магическое искусство, названное им Танец Садовника. Танец Садовника не нуждался в словах. Только измененные жидкости, измененные ткани, измененные камни. И музыка. Все искусство Танца Садовника умещалось на одном обороте обычного варанского «писемного» пергамента, который был, разумеется, утрачен еще при жизни Шета, потому что князь в последние годы являл собою зрелище, мягко говоря, странное. Танец Садовника имел ровно два приложения, предусмотренных Шетом, ― сотворение крепости-розы и сокрушение ее же. В сотворении нуждались смеги, в сокрушении ― их недруги. Свод Равновесия потратил долгие десятилетия на разыскание писаний Шета. Дотанагела в свое время найти ничего не смог.
Семя Хоц-Дзанга сотряслось в одном мощном толчке и ухнуло вниз, под землю, да так, что от него осталась выглядывать на пол-локтя лишь самая верхушка. Сразу вслед за этим под землей разлился мощный, всепобеждающий гул, словно бы там, по шатким бревенчатым настилам, перекатывались десятки исполинских каменных шаров.
И вот тут Эгин понял, отчего все смеги собрались на крохотном, в общем-то, пятачке, который окружал Семя Хоц-Дзанга. Круги руин, которые, как помнил Эгин, смотрелись сверху разметкой цветка розы, пошли в рост. Да, невысокие гребни стен, производящие впечатление безжизненных развалин, на глазах, локоть за локтем, сажень за саженью поднимались к солнцу, утолщались, раскрывались, приобретали все более заметный наклон наружу. Вот уже тени от растущих «лепестков» полностью накрыли площадку вокруг Семени, вот уже надо всем Хоц-Дзангом повис тонкий аромат роз, вот стены прихотливо изогнулись, словно бы подставляясь под ноги воинов, которым предстояло взобраться на них во имя битвы с варанцами.
И тогда над распустившимся Хоц-Дзангом повис торжествующий рев смегов. Они верили в то, что рано или поздно это свершится. Они понимали, что это будет означать лишь одно ― беспощадную битву. И все-таки не было среди них ни одного уважающего себя мужчины, который бы не мечтал о дне, когда Хоц-Дзанг явит им свою истинную сущность.
– И вот теперь мы лишь бронзовки-жуки в величайшей из всех роз, что цвели под Солнцем Предвечным, ― торжественно продекламировал Иланаф в духе «Книги Урайна». Но Эгин не улыбнулся. Несмотря ни на что, его все-таки обуял всеобщий благоговейный восторг.
– Слава князю и истине! ― глупейшим образом проорал он, как некогда на внутренних смотрах в Своде. За такие слова в Хоц-Дзанге могли бы и отрезать голову. Но Лиг только снисходительно улыбнулась.
Все пришло в движение одновременно. Стены-лепестки еще скрипели друг о друга, шуршали и потрескивали, а смеги уже бежали к внешнему кругу стен, чтобы занять там оборону. Здоровенное нечто, укрытое прежде от посторонних глаз парусиной, силами обслуги обнажило свою истинную сущность. У Эгина ― в который раз уже за день! ― полезли на лоб глаза.
Это была «молния Аюта». Не совсем такая, впрочем, как те длинноствольные красавицы, которые погибли вместе с «Зерцалом Огня», и все-таки вполне узнаваемая. Большой деревянный станок со сплошными колесами без спиц. Ствол, очень похожий на здоровенную деревянную бадью. Сходство с бадьей усиливалось тем, что ствол не был литым, а, напротив, грубо склепанным из широких железных полос, которые для надежности были скреплены обручами. Ствол был короток, зато удивительно толст. Он был задран вверх так, чтобы было сподручно стрелять «навесом» через возвышающиеся вокруг стены. «Логично, ― подумал Эгин. ― Кто ее, такую дикую и огромную, затянет на эти не менее дикие стены? А так спокойно будут постреливать отсюда по супостату; но откуда, откуда у смегов секрет дагги?» Эгин подозрительно покосился на Самеллана ― единственного за пределами Аюта человека, как он был уверен, который знает и состав дагги, и, главное, образ-ключ к мрачной разрушительной магии «молний Аюта». Самеллан, перехватив взгляд Эгина , кисло улыбнулся и развел руками. Дескать, я здесь совершенно ни при чем.
И в это мгновение все части разбитого событийного витража сложились в сознании Эгина в одно простое и стройное заключение. Свел народа смегов, именующий себя Ткачом Шелковых Парусов, ― та самая пресловутая двоюродная сестра Самеллана, служившая в аютской Гиэннере, которая, по его уверениям, была убита им накануне встречи с Норгваном. Этой догадкой объяснялось слишком многое, чтобы Эгин, при всей ее чудовищной невероятности, мог ею пренебречь. Эгин не пренебрег.
– Простите, Лиг, ― сказал он очень тихо, наклонившись к самому ее уху, все еще непокрытому болтающимся у нее за спиной на ремешке шлемом. ― Могу я задать вам один личный вопрос?
Айфор сделал предупреждающее движение, но Лиг жестом остановила его.
– Да, Эгин, ― столь же тихо кивнула она. Где-то на внешних стенах Хоц-Дзанга заголосили смеги и вразнобой заревели кривые боевые рожки. Похоже, варанцы начинали сражение. Но Эгин все-таки довел начатое дело до конца.
– Вы ― сестра Самеллана?
В глазах Лиг сменились испуг, негодование и растерянность.
– Да, ― сказала она наконец и одним резким движением надела шлем. ― Да, рах-саванн, и только поэтому вы и вся ваша варанская банда живы по сей день, ― донеслось до Эгина уже из-под железной маски.
Даже когда Эгин понял, чем завершится раскрытие крепости-розы, он не мог взять в толк, как гарнизон займет свое место на стенах ― они казались чересчур крутыми, не имеющими ничего, похожего на ступени. Но когда стены достигли своей предустановленной Танцем Садовника высоты, на них стали проступать массивные прожилки, которые вскоре разом лопнули, обнажая вычурную внутреннюю структуру перепонок и служа вполне приемлемыми ступенями. Сами же стены в своей верхней трети изогнулись наподобие рук, выставленных к солнцу. При этом «ладони» стали боевыми площадками, а «пальцы» ― оградительными зубцами для воинов.
Эгин и «вся его варанская банда» вкупе с Вербели-ной с соизволения Лиг заняли стену-лепесток ― наиболее высокую и в то же время наиболее-удаленную от внешнего обвода Хоц-Дзанга. С нее открывался превосходный вид на всю крепость-розу, дома смегов, сгрудившиеся в основном у южных стен, дорогу, тянущуюся долиной и исчезающую в седловине между двумя горными цепями.
Все были мрачны, молчаливы, напряжены. Знахарь, следуя своей излюбленной манере, сел на теплый парапет стены-лепестка и скрестил ноги.
Поначалу Эгин не мог понять, что заставило смегов столь неистово дудеть в рожки и натягивать луки навстречу неведомой опасности. Но потом Вербелина, пристально вглядывавшаяся в склоны окрестных гор, приглушенно прошипела: «Срань шилолова…», и Эгин, проследив направление ее взгляда, понял все.
Кустарник, низкие неприметные ели, валуны. Спокойствие, недвижимость. И вдруг между двумя соседними зеленовато-серыми камнями ― промельк черной молнии, по которой невозможно узнать с первого раза, что за существо оставило за собой такой странный след на сетчатке ока. Потом ― еще промельк. Сразу вслед за ним ― еще и еще. Кажется, четвероногое. Ушастое и бесхвостое. Пес? Но отчего его задние лапы столь длинны, будто они принадлежат какой-то уродливой саранче?
Смеги голосили повсюду. Эгин огляделся. Да, эти твари спускались и с западных гор. И подходили с севера. И молотили лапами в клубах желтой пыли на южной дороге. Их становилось все больше и больше.
Эгин почувствовал досадную слабость в коленях. Он попробовал пальцем лезвие своего меча, досадуя, что с ним нет его трех удалых клинков, отменных алебард и прочего великолепия, оставшегося в длинном сундуке в фехтовальном зале. Сундуке, на котором он и Овель…
Псы ― этих тварей Эгин решил все-таки именовать псами, потому что больше всего они напоминали именно псов ― перемещались с удручающей быстротой и вскоре вышли к самой крепости.
Смеги разрядили свои короткие луки в первый раз. И Эгин услышал, как кричат эти твари. Да, как псы. И как люди. Не больше десятка стрел достигли своей цели. И тогда всем стало ясно, что эти псы не только страховидны и быстры, но еще и чрезвычайно живучи. Только две твари остались лежать неподвижно. Несколько псов, пораженных в туловище, продолжали ковылять по направлению к стенам, оставляя за собой потеки смрадной крови. Одна тварь, голова которой была пробита насквозь, похоже, ослепла и, оглашая окрестности Хоц-Дзанга пронзительными жалобами, от которых мороз шел по коже, побрела прочь. Она прошла шагов десять и только потом свалилась замертво. О Шилол!
Смеги стреляли вновь и вновь. Собаки подбежали к основанию стен, и Эгин со своего места уже не мог видеть, что происходит там, но был уверен в одном ― всех псов не перестрелять и к утру, даже если бы у защитников запасы стрел были безграничны.
Эгин не мог взять в толк одного ― какой здесь ва-ранцам прок от этих страховидных псов, если перед ними стены, имеющие обратный наклон?
Если бы у самого Эгина сейчас отросли крылья и он вознесся саженей на пятьсот над Хоц-Дзангом, он бы увидел жуткую, невиданную картину. Огромная коричнево-серая роза, чьи невиданные лепестки позолочены в верхней части рассветным солнцем, а внизу утопают в тени и неведении. В центре розы, в полумраке ― крохотная группа людей вокруг непонятного сооружения, похожего на телегу с металлической трубой. А вокруг розы ― черный вихрь. Колесо, составленное из сотен черных тел. Колесо, не имеющее ни спиц, ни сердцевины. Это, воплощая неистовое упрямство и какую-то головоломную бессмыслицу, кружили черные твари. А потом кольцо псов стянулось вплотную к внешним лепесткам розы, словно бы слилось с ними и рассыпалось. «Псы» ― как их называл Эгин, «черная нежить» ― как их успели назвать смеги за два последних дня, «животные-девять» ― как они проходили в секретных бумагах Опоры Безгласых Тварей, ― взялись за цитадель Хоц-Дзанг вплотную.
Эгин не видел, как лезли они, движимые не столько силою своих мощных мышц и отвратительно цепких паучьих лап, сколько магией пар-арценца Опоры Безгласых Тварей.
Эгин не видел, как они составляли гроздья и пирамиды ― чисто бродячие муравьи южных лесов ― и порою срывались вниз под ударами алебард на длинных древках, под градом стрел и дротиков ― Но потери у псов были не так уж велики. Падения с десятилоктевой высоты не причиняли им особого вреда, а, напротив, только будили ярость и ожесточение.
С точки зрения Эгина, все выглядело так, будто псы по-прежнему толпятся где-то под стенами Хоц-Дзанга, а смеги спокойно расстреливают их с высоты своего положения. И поэтому, когда один из лучников, на спину которого как раз таращился в тягостном оцепенении Эгин, с воплем упал навзничь под тяжестью вцепившегося ему в горло пса, рах-саванн едва не завопил вслед за ним.
Эгин посмотрел на Вербелину так, словно это она лично сейчас обратилась сотнями псов, грозящих перегрызть глотки всем защитникам Хоц-Дзанга. Вербелина улыбалась краешком рта с совершенно отсутствующим видом. Это привело Эгина в ярость.
– Что, госпожа Вербелина исс Аран, рады успехам своих питомцев?! Хорошие собачки?!
Вербелина даже не посмотрела на него.
– Этих животных задумала и создала не я. Я только служила некоторым их прихотям, следила за ростом и кормежкой, записывала всякие глупости об их поведении для пар-арценца Опоры Безгласых Тварей. Они ― его питомцы, не мои.
Эгин немного помолчал, чувствуя себя очень и очень неловко.
– Ну а какого же Шилола улыбаться? ― спросил он, сам, в свою очередь, примирительно щерясь. Вербелина исс Аран повела плечом.
– Я просто радуюсь тому, что скоро эти твари погибнут все до единой.
– Все до единой? ― Эгин недоверчиво покосился на ужасающий кровавый бардак, который чинили несколько десятков псов на боевых площадках стен внешнего обвода.
– В общем-то, да, ― сказала Вербелина. ― Главное поймать подходящий момент.
Лагха Коалара, гнорр Свода Равновесия, походил сейчас больше на бродячего харренского лучника, чем на второго человека (а в определенном смысле ― и первого) княжества Варан. На Лагхе было надето древнее грубое рубище. Оно было изукрашено тем же мотивом, которым был расшит халат бывшего Знахаря. Многократно повторенная косматая звезда с перекошенным от бешенства ликом. За спиной гнорра в кожаном чехле висел огромный лук, возвышающийся над его головой на добрых три локтя. По бедру хлопал колчан со стрелами, снабженными карнавальными разноцветными шелковыми веревочками вместо традиционного оперения. В пальцах левой руки Лагха, играючи, покручивал двойную флейту. Правая рука гнорра была свободна, но тщась чем-то развлечь и ее, Лагха все время смахивал со лба длинные вьющиеся волосы. Лагха был молод и прекрасен. Сам себе и небеса, и звезды.
За спиной Лагхи, выдерживая почтительное отдаление, шли пар-арценц Опоры Безгласых Тварей и пар-арценц Опоры Единства. Первый сейчас заправлял воинством животных-девять и от неимоверной концентрации внимания на событиях удаленных поминутно спотыкался. Пар-арценц Опоры Единства полностью концентрировал внимание на гнорре, чтоб тот не выкинул какого-нибудь антигосударственного коленца в духе Дотанагелы. Гнорр, разумеется, знал об этом и только посмеивался. Если бы он чего хотел сделать ― уже бы давно сделал.
Ну а за гнорром и пар-арценцами волочилась публика помельче ― аррумы, рах ― и эрм-саванны понемногу от каждой значительной Опоры, а за ними ― морская пехота из «Голубого Лосося». Эти были здесь так, вроде как на прогулке, в основном для уборки тел и расчистки завалов. Впрочем, случись что ― и гнорр не задумываясь послал бы их умирать первыми.
Лагха шел и думал о том, что через три сотни шагов дорога круто повернет влево и во-он за теми соснами они увидят Хоц-Дзанг во всем его безумном великолепии, как о том и повествуют царственные каракули Шета оке Лагина. И еще он думал о том, что стрел в его колчане совсем мало и что если ему не повезет ― а ему вполне может не повезти, потому что в Хоц-Дзанге До-танагела вкупе со Знахарем все-таки равны ему, ― то обратно в Варан не вернется ни один человек из его отряда.
В этот момент пар-арценц Опоры Безгласых Тварей нелепо споткнулся и упал.
– Они теряют мой голос, ― удрученно сообщил он, не торопясь подыматься на ноги.
– Приведите себя в порядок и догоняйте, ― бросил Лагха через плечо, убыстряя шаги.
Да, псы прорвались по всему внешнему кругу обороны. И в то время как одни раздирали в клочья смегов и очень неохотно принимали в свою очередь гибель от их мечей, другие занялись внутренними лепестками. Теперь ором озверевших по-своему смегов и израненных, пьяных от крови и человечины, дорвавшихся до исполнения своего единственного предназначения псов было заполнено все.
– По-моему, самый подходящий момент, ― сказал Эгин Вербелине.
Он не понимал, чего она ждет и что собирается делать, когда этого «чего-то» дождется, но он прикинул, что самое большее через четверть часа псы доберутся и до них. И тогда уж точно момент будет самый что ни на есть неподходящий.
Вербелина внимательно обвела взором все вокруг себя. Сосредоточенно кивнула. Потом повернулась к Дотанагеле, Знахарю и прочим и сообщила:
– Милостивые гиазиры! Сейчас я буду вести себя несколько странно, но прошу мне ни в чем не мешать.
Впрочем, и Знахарь, и Дотанагела уже давно сидели в причудливых позах друг напротив друга, прикрыв глаза и символизируя собой Неведение-Безмолвие-Недеяние, а остальные вовсю таращились на избиение смегов. Оглянулся только Иланаф, одобрительно кивнул и вновь вернулся к созерцанию ужасов войны. Тогда Вербелина наклонилась, поцеловала Дотанагелу в плотно сжатые губы и, отшатнувшись, словно от раскаленной сковородки, выпрямилась в полный рост.
– Эгин, на моем десятом проходе можно будет начинать. Они даже ничего не почувствуют.
– Что? ― Эгин не понял ровным счетом ничего.
– Ты все поймешь, ― Вербелина запечатала его уста поцелуем.
Вербелина сбросила с себя всю одежду одним выскальзывающим движением ― словно змея, вывернувшаяся из старой кожи во имя блеска новой, ослепительно прекрасной. Эгин еще раз невольно поразился, как исхудала бедняжка в призрачных объятиях Киндина.
Вербелина поднялась на загнутый край стены-лепестка и, совершенно не боясь высоты, вытянулась в полный рост, раскинув руки. Потом она запрокинула голову в небеса и испустила очень тихий и жалобный вой с едва заметными грудными переливами.
Эгин знал этот танец. Эгин любил его и, разумеется, прекрасно понимал, что его любили и другие мужчины ― например, Дотанагела. Но как этот танец любят псы, если к нему прибавить еще кое-что, ― Эгин не знал и даже представить себе раньше не мог.
Вербелина шла, ритмично и плавно раскачивая бедрами, пять шагов влево. По ее лицу бежали, сменяясь, десятки удивительных сладострастных гримас. Иногда она скалилась медведицей, иногда взрыкивала тигрицей, но Эгин был уверен, что для тварей это все одно разные лики сладострастия. Вынося ногу вперед на шестой доле, Вербелина стремительно и в то же время неописуемо грациозно поворачивалась и шла назад. На обратном пути она не гримасничала, нет ― здесь все искусство опускалось ниже ― к животу, груди и бедрам, а на лицо Вербелины нисходила печать великого расслабленного облегчения. Новый поворот и новые гримасы. Смена ритма. Хлопки ладоней. В общем, Эгин с определенного момента не сомневался в том, что, обратись он животным, он бы определенно стал сейчас на карачки, развесив слюну и жадно впитывая каждое движение Вербелины. Он едва не забыл считать проходы. Но нет, не забыл ― сейчас как раз оканчивался седьмой.
Эгин с трудом оторвал взгляд от ослепительной наготы Вербелины и перевел взгляд на стены Хоц-Дзан-га, над которыми с начала ее танца воцарилась удивительная тишина, прерываемая лишь стонами умирающих смегов и поскуливанием раненых тварей, которые видеть Вербелины не могли.
Твари. Твари повсюду. Отвратительные алые пасти распахнуты. Глаза горят. Челюсти свисают едва ли не до шершавого пола боевых площадок. Нити розовой слюны. И полная неподвижность.
Псы сидели как завороженные. Смеги, которым Эгин, а вслед за тем и сообразившие, в чем дело, Са-меллан с Иланафом безмолвно подавали всякие предостерегающие знаки, затаились среди псов, стараясь не обронить ни единого лишнего звука. Эгин подумал, что более дикой картины ему не доводилось видеть никогда в жизни.
Десятый проход. Эгин поднял лук, которым его с утра снабдил предусмотрительный Фарах. Натянул тетиву. Прицелился в пса, который стоял подальше от смегов, прямо на гребне соседнего лепестка-стены.
Промахнуться было невозможно. Пес, не издав ни единого звука, исчез из поля зрения Эгина, прохваченный насквозь быстроперой стрелой. И ни один из его сотоварищей никак не прореагировал на это вопиющее надругательство над любителем изящных искусств, во-площеннь1х в бедрах и грудях Вербелины.
Это послужило сигналом. Сколь бы ни были мечи смегов в среднем дурны, они разили без пощады. Обезглавленные твари гибли быстрее, не успевая, как и обещала Вербелина, даже осознать, что же происходит. Псы наконец-то гибли десятками. Единственное, чего не мог понять Эгин, ― почему они не разлетаются вдребезги под невидимыми и неотразимыми ударами Говорящих, отчего по их черным загривкам не гуляет долгая рука клинка Дотанагелы и что вообще себе думают истинные сильнейшие Хоц-Дзанга? Выходило, что героиня дня ― Вербелина исс Аран, а все прочие ― простите, так, на подпевках.
Увы, день только начинался, Эгин не знал истинного положения дел и на одну десятую, а героями дня еще предстояло стать многим и многим. Только не ему, простому рах-саванну Опоры Вещей.
Да, вот он, поворот дороги. Вот они, сосны. А вот и Хоц-Дзанг.
Лагха Коалара резко остановился. Да, Шет оке Ла-гин знал, что делал. Крепость-роза, возродившаяся над Золотым Цветком…
– Прошу меня простить, гнорр, ― это был голос пар-арценца Опоры Единства. ― Но, если я не ошибаюсь, вы, согласно собственным уверениям, располагаете всем необходимым, чтобы сокрушить Хоц-Дзанг в одночасье. Почему же вы…
– Прошу меня простить, пар-арценц, ― голос Лаг-хи полоснул по ушам ближайших аррумов прыткой плетью-семихвосткой, ― но вы напросились сами.
Лагха рывком поднес двойную флейту к губам и резко дунул в нее. Два языка пламени с ревом вырвались из безобидных тростниковых трубочек и расплескались о позолоченные доспехи пар-арценца. Тот в ужасе отшатнулся назад.
– Вы хоть один чистый звук в этом реве расслышали? ― спросил Лагха тоном наставника музыкальных искусств.
– Нет, гнорр, ― покачал головой пар-арценц, постепенно приходя в себя.
– Вот именно. Потому что там, ― указующий перст гнорра ткнул в великолепные очертания Хоц-Дзанга, ― там сейчас пятеро ― трое живых-вне-плоти, один хушак и один человек ― держат с горем пополам Танец Садовника в тенетах своей отводящей магии, и мое искусство сейчас бессильно. А теперь, пар-арценц, позвольте мне наконец-то приступить к настоящему штурму Хоц-Дзанга.
– Безусловно, гнорр, ― на уста пар-арценца Опоры Единства снизошла наилюбезнейшая улыбка.
Тяжело дыша, к ним подошел пар-арценц Опоры Безгласых Тварей.
– Плохи дела, ― сказал он куда-то в сторону. ― Плохи дела. Они вовсе не слышат меня, и они гибнут. Совсем скоро они будут истреблены.
Лагха Коалара только махнул рукой. Дескать, пусть их.
– Подержите, будьте столь любезны.
Пар-арценц Опоры Единства с опаской принял от гнорра двойную флейту.
Лагха Коалара достал из-за спины лук, извлек из колчана стрелу и натянул тетиву. Лук он держал весьма необычно ― не вертикально, так, чтобы нижний конец упирался в землю, а горизонтально. Потом он задрал стрелу в небо, словно бы собирался дострелить до облаков. Ни один смертный не смог бы удерживать такой огромный лук в таком положении. Но рука гнорра даже не дрогнула.
До южных стен Хоц-Дзанга было шагов пятьсот, а до его цели ― шагов семьсот пятьдесят. Ничего, долетит.
– А, чуть не забыл! ― бросил через плечо Лагха Коалара. ― Пусть морская пехота разворачивается подковой вокруг Хоц-Дзанга. Когда стены падут, кто-то ведь обязательно уцелеет!
Вербелина разошлась вовсю. Ее тело блестело от пота, мокрые пряди волос облепили лицо, шею, плечи. Она хрипела и стонала, клочья белой пены то и дело срывались с ее губ, соски непомерно раздулись, и Эгин не сомневался в том, что ее груди сейчас совершенно окаменели, уподобляясь белому греоверду.
Впрочем, Эгину было по большому счету все равно, что там происходит с Вербелиной. Главное, псы были по-прежнему приворожены, причем глубина их транса явно возрастала с каждым мгновением, ибо Эгин заметил, что некоторые твари начали сомлевать и без какого бы то ни было вмешательства вражеского оружия. То у одного, то у другого пса закатывались глаза, подкашивались лапы, и грозный убийца валился на бок, как мешок с перегнившими сливами.
Псов оставалось никак не больше четверти. Еще немного ― и Хоц-Дзанг будет очищен целиком и полностью.
И в этот момент произошло совершенно необъяснимое, с точки зрения Эгина, событие. Невесть откуда выпущенная стрела ― казалось, ее породили сами небеса ― высекла искры из гребня стены в одном шаге за спиной Вербелины. С треньканьем лопнувшей струны разлетелся вдребезги ее наконечник (Эгин мог только пожать плечами по поводу такого дрянного железа), а освобожденное древко, нелепо подпрыгнув, упало прямо под ноги Эгину. Оно было лишено оперения. Только шелковые веревочки.
Где-то он уже видел такое… Где-то… А-ах, Шилол! Солнце, густой запах гари, лязг смертоносного металла. Палуба «Сумеречного Призрака». Дотанагела. Стрелка Норгвана, выплюнутая им из духовой трубки. Да. На той тоже были похожие веревочки. В общем-то, один почерк. Почерк карающей десницы Свода Равновесия.
– Вербелина! Вербелина! ― заорал он, не надеясь быть услышанным. Да, действительно, ― как Вербелина и обещала, она будет вести себя странно и не будет отзываться на обращенные к ней призывы.
В следующее мгновение стрела гнорра отыскала ее. Впившись в плечо Вербелины у самого основания шеи, наконечник стрелы разлетелся вдребезги ― как и предыдущий. В том не было вины дрянного железа. В том было преднамеренное злоумышление. Осколки железа разорвали шею танцовщицы, вскрыв вены.
Рах-саванн Опоры Безгласых Тварей Вербелина исс Аран неловко взмахнула руками и сорвалась с гребня стены вниз. Вниз, на трупы людей и псов, которые всегда были ее самыми внимательными и благодарными зрителями.
Лиг знала, насколько ненадежна та «молния Аюта», которую наспех соорудили по ее указаниям за последние три дня кузнецы Хоц-Дзанга из паршивого металла при помощи паршивой технологии столетней давности. Отлить они ничего не успевали, поэтому пришлось делать ствол клепаным. Но лучше такой урод, чем его полное отсутствие.
Все время с начала сражения Лиг провела рядом с «молнией Аюта», будучи готова отдать приказ на стрельбу в любой момент. Образ-ключ сейчас занимал все ее существо, пульсируя, словно второе сердце. Когда псы начали штурм Хоц-Дзанга, Лиг, несмотря на донесения о потерях, оставалась совершенно хладнокровна. Она верила в Вербелину, с которой имела обстоятельное общение накануне. Лиг узнала о начале танца Вербелины по неожиданно прекратившемуся псовому гвалту и не сомневалась в том, что нечисть будет истреблена. Но Лиг недооценила гнорра.
Когда Вербелина исс Аран получила Поющую Стрелу и рухнула вниз со стены-лепестка, Лиг как раз принимала донесение о появлении гнорра и его людей.
Сквозь вновь поднявшийся вой неутомимых тварей Лиг не стала дослушивать подробности о луке гнорра и «лососях», которые уже начали развертываться из походной колонны. С трудом перекрикивая шум вновь разгорающейся битвы. Лиг отдала приказ разрядить «молнию Аюта» в неприятеля. И над Хоц-Дзангом грянул гром.
Лагха Коалара был многомудр и многоопытен. Лаг-ха Коалара знал, что в Хоц-Дзанге ему будут противостоять Говорящие вместе с искушенными в своем искусстве мятежными офицерами Свода.
Но даже Лагха Коалара не знал ― ибо не мог знать, ― что в Хоц-Дзанге находится «молния Аюта» того образца, которые в Гиэннере принято называть «крепостными градобоями». Не знал Лагха и того, что он и его люди находятся в точности там, куда, по расчетам Лиг, должно было послать свои смертоносные гостинцы ее несовершенное детище.
Поэтому когда над Хоц-Дзангом раскатился сочный рокот и почти сразу же вслед за ним в небесах, стремительно приближаясь с едва слышным свистом, появились десятки небольших каменных снарядов, в отведенные ему мгновения гнорр не смог сотворить ничего лучшего, кроме как отшвырнуть лук и с невероятным проворством подкатиться под ноги пар-арценцу Опоры Безгласых Тварей. Пар-арценц, не успев даже ойкнуть, упал на своего непосредственного начальника. Впрочем, испугаться такому конфузу он тоже не успел. Потому что Лиг договорила заклинание, и образ-ключ в ее переутомленном мозгу взорвался и исчез, обрекая взрываться и исчезать мелкие каменные ядра, за изобильное исторжение которых «молнии Аюта» этого образца называют именно «градобоями».
Лиг очень повезло. «Градобой», как она и думала, не пережил своего первого и единственного выстрела. Использовать его повторно было нельзя. Но он, по крайней мере, не взвился смерчем раскаленных осколков. Отнюдь. Просто два из четырех обручей лопнули, и ствол «градобоя», раскрывшись, словно бесстыдная лилия, стал безопаснее мухобойки.
Но, судя по тому, как отряженные ею наблюдатели размахивали руками и вопили какую-то несуразицу, варанцам и одного раза оказалось достаточно. Здесь, внизу, делать было больше нечего. Лиг заторопилась наверх, на ближайшую стену.
Эгин жалел Вербелину, себя и весь старый добрый устойчивый вещный мир, распадающийся в его представлении прямо на глазах.
Тварей осталось немного. И все-таки ― более чем достаточно. Эгин дважды выстрелил в одного исключительно наглого пса, который прорвался к основанию стены, и оба раза промахнулся. В колчане оставались четыре стрелы. Негусто. Дотанагела и Знахарь по-прежнему, казалось, полностью игнорировали происходящее. Это настораживало. И когда «молния Аюта» накрыла ковром малиновых разрывов варанскую банду и дорога к Хоц-Дзангу в одно великолепное мгновение торжества уподобилась цветущему клеверному лугу, даже тогда Эгин не испытал ничего, кроме разочарования. Отсюда невооруженным глазом было видно, что уцелели слишком многие.
Гнорр не терял ясности сознания ни на один вздох, ни на один удар сердца. А раз не терял сознания, ― стало быть, ничего особенного и не случилось. Просто трескучие хлопки. Просто малиновые сполохи, прорвавшиеся даже сквозь плотно сомкнутые веки. Просто истошные, исполненные неподдельного ужаса вопли людей, которые еще несколько минут назад были исполнены неподдельного величия и спокойствия. И просто несколько горячих струй, испущенных телом пар-арценца Опоры Безгласых Тварей на изукрашенное косматыми звездами рубище гнорра.
Лагха Коалара не был трусом. Лагха Коалара всего лишь не собирался умирать и поэтому подставил вместо своей молодой плоти довольно-таки старую плоть пар-арценца Опоры Безгласых Тварей. Но Лагха Коа-лара не собирался и проигрывать сражение. Поэтому, едва только первые капли крови пар-арценца просочились сквозь одежды гнорра, он одним стремительным и брезгливым рывком сбросил с себя мертвого толстяка, создателя псов и многих прочих радостей.
Лагха Коалара поднялся на ноги и огляделся. Да, это, пожалуй, был самый разрушительный выстрел «молнии Аюта» за все время существования этого чудовищного изобретения. По меньшей мере, сорок убитых и раненых. Остальные ― перепуганы до смерти. Морская пехота тоже замерла среди кривых улочек поселения смегов, оторопело вглядываясь туда, где еще недавно виднелся гордый и, казалось бы, несокрушимый строй офицеров Свода, а теперь среди кровавого месива, гари и копоти копошились израненные люди.
Но воля гнорра была сильнее, чем любые удары судьбы.
В любой ситуации гнорр молниеносно умел увидеть главное. И он увидел. Лук, отброшенный им перед спасительным прыжком под ноги пар-арценцу Опоры Безгласых Тварей, был цел.
«Чудо!» ― воскликнул бы невежественный селянин. «Не чудо, но сущностное свойство», ― сказал бы высокомудрый Дотанагела и был бы совершенно прав. Лук гнорра был первым ключом к Хоц-Дзангу. Вторым ключом была двойная флейта гнорра. И этот ключ тоже неплохо пережил «градобой», ибо пребывал в складках ныне окровавленных одежд гнорра. Итак, вещи были в порядке. Оставалось лишь привести в чувство безгласых тварей, коими обратилось славнопозорное воинство Свода.
– Встать! ― пророкотал первый приказ гнорра.
Мертвые пожалели, что не могут подчиниться этому простому и прекрасному приказу. Живые подчинились незамедлительно. Они видели, что гнорр не пострадал, они слышали его голос, смотрели в его пламенеющие яростью глаза, и страх покидал их сердца.
– Оружие к бою!
С тем же успехом гнорр мог скомандовать «Парадное построение» или «В сдвоенное каре стройся». Почти всем уцелевшим было еще очень далеко до боя. Просто Лагхе приятно было общество опытных воинов, а не перепуганных крыс.
У гнорра теплилась слабая надежда, что Говорящие, Дотанагела и Знахарь из-за нападения псов ослабли и не удержат сейчас Танец Садовника. Лагха достал флейту и дунул в нее. Сыть Хуммерова! Из нежных тростниковых трубочек вырвались все те же языки ревущего пламени.
Значит, придется проделать все так, как было намечено. И это «все» начало вершиться, когда гнорр извлек из накладного колчанного сарнода первый мешочек с порошком, носящим имя «покровы Говорящих», а затем весьма и весьма небрежно, становясь на короткую ногу со всеми мыслимыми законами вещного мира, наколол его на острие очередной Поющей Стрелы.
В Хоц-Дзанге царило ликование пополам с отчаянием. Чувство, знакомое каждому, кто уже видел смерть сотни врагов, но видел также и вторую, свежую сотню, с которой еще предстоит сразиться, в то время как собственные силы почти исчерпаны.
Когда на смену взаимному ожесточению приходит взаимное истощение, мудрецы заключают мир.
Лагха был мудр, но он отнюдь не считал силы Свода истощенными. Лагха полагал сражение за Хоц-Дзанг выигранным еще в тот момент, когда ступил на цинорский берег, и даже смерть не смогла бы убедить его в обратном.
Лиг тоже была мудра, и она тоже не считала силы смегов истощенными. Пока живы Говорящие, Знахарь и Дотанагела, ― стенам Хоц-Дзанга стоять. А пока стоят стены Хоц-Дзанга, ― они непобедимы. Наперекор псам, остатки которых просочились внутрь крепости.
«Странное дело, странное дело, ― твердил Эгин, каким-то чудом отдергивая ногу от клацнувших челюстей черной твари. ― Они уже здесь, а я все еще жив, а Дотанагела со Знахарем будто спят, а Айфор ничем не может мне помочь, потому что вместе с Самелланом оберегает Лиг, а Говорящие Хоц-Дзанга безмолвствуют… клянусь Шилолом, в этой битве слишком мало воинской доблести и слишком много смердящей магии!»
Теперь их боевая площадка тоже стала ареной для стремительного и вместе с тем невыразимо тягучего сражения, в котором уже погибли несколько «лососей», из последних сил защищавших пар-арценца и Знахаря. Псов оставалось немного ― меньше даже, чем воинов на их боевой площадке. Но они были очень быстры и яростны. То, что для человека предел озверения, для зверя ― лишь его начало.
Эгин не удивился, когда одна из тварей, молнией промелькнув у него под ногами, поднялась за его спиной во весь свой немалый рост и как-то очень по-человечески вцепилась передними лапами ему в шею. Добраться до его плоти клыками было очень непросто ― мешало кольчужное оплечье не очень взыскательного, но надежного смегского шлема. Тварь опрокинула Эгина на спину и, похоже, несколько подивившись собственной удаче, не нашла ничего лучше, кроме как попытаться задушить рах-саванна вместо того, чтобы просто разорвать ему шею когтями. Это было ее роковой ошибкой.
«Еще не человек, а дурь уже вполне человечья, ― мысленно усмехнулся Эгин, подымаясь на ноги после того, как его меч неуклюжим ударом проткнул грудь пса-убийцы. ― Что-то там они перемудрили в Опоре Безгласых Тварей».
Развить эту мысль Эгину помешала Поющая Стрела гнорра.
Поющие Стрелы в исполнении Инна оке Лагина, приемного сына несравненного Шета оке Лагина, вышли куда мощнее и лучше, чем их прародительницы из одного потертого грютского колчана, туманную повесть о котором донесли до просвещенного читателя «Книга Урайна» и «Геда о Герфегесте».
Поющие Стрелы, которыми располагал гнорр, не только летали вчетверо дальше своих безмолвных сестер. Поющие Стрелы разили почти без промаха, если видели того, кого им предстоит разыскать. Говорят, что Инн оке Лагин назвал их Поющими лишь в дань традиции, и из-за этого в неокрепших умах идет великая путаница. Правильнее было бы назвать их Зрячими Стрелами. Но всякий зрячий слеп, если перед ним ― бесплотный, или, точнее говоря, тайноплотный невидимка.
«П-пух».
Так лопается гриб-дождевик под босой мальчишеской пяткой. Так же лопнул и мешочек с «покровами Говорящих», вскрытый разрывным наконечником Говорящей Стрелы. С той лишь разницей, что облачка от гриба-дождевика едва хватает, чтобы окутать нестойким туманом котенка. «Облачко» же от снадобья гнорра, изготовленного им в точности по рекомендациям Танца Садовника, было несколько больше, и его достало, чтобы громко расчихалась половина боевой площадки Эгина, включая и уцелевших псов, утонченному нюху которых «покровы Говорящих» были хуже горчицы.
Убедившись, что мелкая искрящаяся взвесь не ядовита, Эгин мог только пожать плечами. Равно как и остальные. Равно как и Лиг, которая… «Киндин, услышь меня!!!» ― закричала она что было сил, зная наверняка, что услышана не будет, зная, что гнорр победил в этом сражении, ибо ведающий секрет «покровов Говорящих» ведает и остальные таинства Танца Садовника, а это означает, что…
Гнорр не знал точно, сколько требуется «покровов», чтобы надежно проявить всех Говорящих. Поэтому вслед за первой на площадку упали еще три стрелы. Туман настолько загустел, что и псам, и людям оставалось только бежать прочь с проклятого места.
Эгин не понимал, отчего разоралась Лиг, Эгин вообще не понимал и половины того, что на самом деле творится в этот день под Солнцем Предвечным, Эгин мог только обезглавить полуослепшего пса, и в этот момент, когда фонтан дымящейся крови плеснул на его бессменные сандалии имени Арда оке Лайна, он вспомнил…
«…можно изготовить такой эликсир ― из трав, семени рыб и истолченного в порошок изумруда. Этот порошок называется „покровы Говорящих“. Потом я им обмажусь с ног до головы, и ты, Эгин, меня увидишь…»
И Эгин все-таки увидел. Да, Знахарь и Дотанагела по-прежнему ― сидели друг напротив друга. Но теперь Эгин видел, что все это время они находились в обществе Говорящих Хоц-Дзанга. Киндин и Фарах («До чего же они страшные!» ― мелькнуло в голове Эгина) образовывали вторую пару сидящих друг напротив друга в таком же оцепенении, как и Знахарь с Дотана-гелой. А в центре квадрата, образованного неподвижными фигурами этих четверых, стояла, вытянувшись в соляную статую, обнаженная Тара, и ее глаза были закрыты, и она тоже служила их общей цели.
А потом Поющая Стрела отыскала свою добычу.
Внешность наконечника Поющей Стрелы суть есть железо, которому придана форма лаврового листа. А внутренняя наполненность наконечника Поющей Стрелы суть есть измененная музыка двойной флейты Шета оке Лагина. Внешность наконечника Поющей Стрелы сотворена, дабы разить теплую плоть. А внутренняя наполненность Поющей Стрелы ― дабы разить тайноплотную нежить.
Поэтому когда Поющая Стрела отыскала свою добычу, видимую благодаря «покровам Говорящих», на боевой площадке умирающей воительницей взвизгнула флейта, вот только никто не увидел игреца. Вместе с последней нотой тайноплотная нежить по имени Фарах перестала существовать, окончательно слившись с Гулкой Пустотой. «Покровы Говорящих» на месте ушедшего в небытие Фараха держались еще несколько мгновений, а после опали.
Все изменилось. Дотанагела, Знахарь, Киндин и Тара мгновенно вышли из оцепенения, ибо без Фараха они больше не могли отводить Танец Садовника от Хоц-Дзанга. Невидимый, но непреодолимый для Танца купол исчез.
Прежде чем Говорящие успели покинуть боевую ― площадку, следующая стрела гнорра заныла в тайной плоти Киндина.
Лагха Коалара стрелял вслепую. Он не знал, проявило ли изумрудное снадобье тела Говорящих. Он не знал, поразили ли Поющие Стрелы цепных псов Хоц-Дзанга. Он знал только, что в его колчане остались две Поющие Стрелы. Не больше и не меньше.
Гнорр опустил лук и дунул в дудочку. Оп! ― тихая, печальная нота. Но отнюдь не ревущее пламя, милостивые гиазиры! Отнюдь!
Ну что же, две стрелы можно оставить про запас. Что бы там ни было, а главное дело сделано.
– Милостивые гиазиры! ― Лагха повернулся и обвел взглядом своих офицеров, которые вполне оправились от пережитых потрясений и все то время, пока гнорр, с их точки зрения, без толку тратил стрелы, простояли, не смея шелохнуться, с обнаженными мечами и просветленными служебным рвением лицами.
– Милостивые гиазиры! Сейчас, пожалуй, подымется довольно сильный ветер. Я советую вам сесть на землю. Впрочем, Можете стоять. Делайте, в общем, что хотите. Главное ― не наложите в штаны.
Из выживших после «градобоя» офицеров только пар-арценц Опоры Единства смог правильно понять настроение гнорра. Сейчас Лагха Коалара явно был в восторге, как мальчишка, которому удалось запустить воздушного змея. И, приблизительно представляя причины, вызвавшие торжество гнорра, пар-арценц поторопился сесть на землю. Ну его к Шилолу ― этот «довольно сильный ветер».
Всякой розе вольно распуститься под воздействием солнца, влаги и собственной природной предрасположенности. Всякой розе вольно цвесть некое время. И всякой розе вольно опасть, вверив лепестки жестокому ветру или пальцам Сиятельного князя.
Хоц-Дзангу, крепости-розе, как и всякой розе, было вольно распуститься под воздействием солнца, влаги из кувшинов Говорящих и собственной природной предрасположенности, созданной гением Шета оке Лагина. И Хоц-Дзангу, крепости-розе, как и всякой розе, было вольно опасть, вверив лепестки и жестокому ветру, и пальцам Лагхи Коалары.
Лагха Коалара поднес к губам двойную флейту, и первый звук незатейливой мелодии вырвался из нутра заговоренного тростника. Ничего. Звук быстро растворился в жарком послеполуденном воздухе. Еще одна нота. И еще одна.
Гнорр, буквально пожиравший взглядом внешние стены-лепестки Хоц-Дзанга, отметил, что ближайший из них будто бы немного качнулся. Едва-едва заметно. Приободренный гнорр заиграл уверенней.
Они вновь стояли близ Семени Хоц-Дзанга, рядом с саморазрушившейся «молнией Аюта» и конями Говорящих. Глаза-уголья коня Киндина сочились про-зрачнейшей жидкостью. Конь Киндина плакал, ибо его хозяин обрел свое небытие вслед за Фарахом.
Из Говорящих с гребня стены успела спастись только Тара, но «покровы» полностью не сошли с нее и вполне заметно серебрились, намечая контуры волос, плеч и лица. В любое мгновение Тара ожидала стрелы гнорра, но ее все не было, и это ожидание небытия было для нее во сто крат хуже самого небытия. Если бы Лагха Коалара знал, на какую пытку он, сам того не ведая, обрек последнюю из Говорящих Хоц-Дзанга, он бы очень и очень порадовался.
Еще там были Лиг, Самеллан, Знахарь, Дотанагела, Айфор, Иланаф, Эгин, двое последних «лососей» с «Зерцала Огня» и бесхозная обслуга «молнии Аюта». Еще где-то около сотни смегов были разбросаны по всей крепости. И все.
Все они только-только спустились со стены, тяжело дышали, крыли последними словами Свод Равновесия и лично гиазира Лагху Коалару и чувствовали себя совершенно обессиленными.
– А что, интересно, если эта штука развернулась, значит, ее можно и… ― спросил Знахарь, которого сильно угнетал колодец стен, на самое дно которого они были загнаны обстрелом Лагхи и едким туманом «покровов Говорящих». Знахарь хотел предложить Лиг уходить из Хоц-Дзанга на север. Собственно говоря, ловить здесь, по его вполне справедливому замечанию, было совершенно нечего. Совершенно.
Но вместо Лиг ответила магия Танца Садовника.
Эгин, который уже некоторое время чувствовал странные колебания почвы под ногами, сам не зная зачем, поднял глаза к ослепительно синим небесам и обомлел. Прямо над ними, в самом зените, словно бы красные чернила сквозь лазоревый шелк, проступало грандиозных размеров видение.
– Ты что э… ― Иланаф прервался на полуслове, ибо, задрав голову вверх, увидел то же самое, что и Эгин.
С каждым мгновением видение становилось все отчетливее, и Эгин, как завороженный, следил за тем, как из разрозненных черт и линий собрался силуэт розы. Точнее, розового цветка шиповника, который бережно держали длинные и чуткие пальцы неведомого человека. Вот его пальцы чуть сжались, и откуда-то с наружного обвода Хоц-Дзанга донесся оглушительный треск. Земля под ногами дрогнула так, что измотанный дракой с псами Иланаф едва удержался на ногах, успев в последнее мгновение вцепиться в плечо более коренастого и тяжелого Эгина. Кто-то истошно завопил.
К руке, сжимавшей цветок шиповника, прибавилась вторая рука, правая. Она прикоснулась к крайнему лепестку и, помедлив мгновение, резко оборвала его. Потом стали видны и губы человека, которые, сложившись в трубочку, дунули на оторванный лепесток.
И вот тогда Эгин пережил то, что с полной справедливостью считал самым страшным мгновением своей жизни. На южной окраине Хоц-Дзанга земля дала трещину глубиной с Бездну Края Мира. Вслед за этим раздался гул осыпающейся с высоты земли и мелких камней, а потом огромная тень, на несколько мгновений закрыв и солнце, и мрачное видение на небесах, с угрожающим ревом пронеслась куда-то на север. Ураганный порыв ветра, поднятого ею, швырнул на землю всех, за исключением Знахаря, и, уже падая, Эгин понял, что это за тень унеслась на север и, судя по новым раскатам земного грома, врезалась в обрамляющие долину Хоц-Дзанга горы. Это была самая внешняя и самая южная стена-лепесток.
Хотя это было уже совершенно все равно, Эгин узнал небесного человека. Узнал, потому что слишком уж противоестественно прямо торчал указательный палец его правой руки и слишком уж подозрительно не принимал он никакого участия в обрывании лепестков с невинного шиповника. Указательный палец небесного человека был изготовлен из бронзы, и когда видение исполнилось еще большей жизненностью, стали видны кожаные ремешки, крепившие кованый палец к браслету на запястье. Эгин припомнил все, что слышал от Тары, припомнил он и старинную легенду о Персте Лагина, который был утрачен Сиятельным князем в битве за Священный Остров Дагаат. Итак, прямо над Хоц-Дзангом изволило пребывать губительное видение Шета оке Лагина собственной персоной. Пребывать и сокрушать крепость, играючи обрывая стены, словно бы лепестки шиповникового цветка. Конечно, чем еще может заниматься добрый безумный садовник? Выращивать цветы и губить их себе на потеху.
Все происходило быстро ― как в невнятном кошмарном сне. Одна за другой отрывались стены. Влекомые ветром необоримой силы, который, не будь он напоен магией Танца Садовника, не смог бы даже оторвать от земли исполинские лепестки Хоц-Дзанга, стены с ревом неслись над головами потрясенных защитников и одна за другой сыпались на склоны гор. Грохот от всего происходящего поднялся такой, что Эгин, попытавшись несколько раз докричаться до Лиг, осознал, что не слышит собственного голоса.
Сиятельный князь Шет оке Лагин в небесах, вызванный к разрушению Танцем Садовника, был во сто крат сильнее, чем магические искусства Знахаря, Дота-нагелы и Тары на земле.
Крепость-роза была обречена. Оставаться возле Семени Хоц-Дзанга было бессмысленно и смертельно опасно. Уходить прочь из Хоц-Дзанга, протискиваясь в узкие лазы между стенами-лепестками, которые в любое мгновение могли сорваться и улететь прочь, влекомые чудовищным ветром Танца Садовника, ― немногим более осмысленно, ибо не менее опасно.
И все-таки Лиг, не говоря ни слова, лишь пригласив широким жестом всех присутствующих следовать за ней, поползла ― стоять в полный рост было невозможно ― туда, где гудели и трепетали, то увеличивая, то уменьшая зазор друг между другом, две соседние стены-лепестка. До них было шагов пятьдесят, но эти пятьдесят шагов еще требовалось преодолеть. Обстоятельно, неторопливо, вбивая в землю кинжал, а лучше пару, чтобы ветер не оторвал такое легкое человеческое тело от земли и не расплющил его, ударив об оставшиеся стены.
«Зачем? Зачем все это?» ― думал Эгин, двигаясь ползком вслед за Самелланом. Рядом с ним сопел До-танагела. Все, что они делали, было глупой игрой перепуганных детей, потерявшихся среди песчаной бури в пустыне Лагередан.
Лиг довольно точно подгадала момент. Когда она оказалась на расстоянии вытянутой руки от лаза между стенами-лепестками. Небесный князь Шет оке Лагин как раз обрывал предпоследний круг лепестков шиповника, и после очередного взрыва, оглушительного рокота и треска в просвет между стенами стала видна долина и… и цепь морских пехотинцев Лагхи Коалары.
Они, так же, как и защитники Хоц-Дзанга, были перепуганы, они вжимались в землю, но все-таки их было много, и они жцали, когда Танец Садовника выкурит из Хоц-Дзанга последних защитников, и их луки оставляли надежду спастись совсем немногим.
Пальцы небесного человека прикоснулись к очередному лепестку. Взмах ― и, обдав пеструю и бессильную кучку людей волной пыли и мелкого мусора, северная стена-лепесток взмыла над головами морских пехотинцев и небывалой серой бабочкой упорхнула с тем, чтобы сокрушить на расстоянии двух лиг чудом устоявшую до-сего момента сосновую рощу.
Из четырех стен-лепестков, составлявших внутренний обвод Хоц-Дзанга непосредственно вокруг его Семени, остались три. Преграды перед защитниками больше не было, и это было в определенном смысле везением, ибо они избавились от необходимости преодолевать узкую вибрирующую щель, в которой, пожалуй, можно было стереть в крошку и каменное изваяние, не то что человека.
Последние три стены были обречены исчезнуть в ближайшее время, и Лиг, зная что-то, что, кроме нее, могла знать лишь Тара, неожиданно для всех вскочила на ноги и помчалась вперед. Она перескочила через глубокий ров, оставшийся на месте вырванной стены-лепестка, и в этот момент ветер швырнул ее на землю. Но она вновь поднялась и побежала. Вперед, прямо на морских пехотинцев, до которых было около четырехсот шагов.
Вслед за ней побежали остальные. Никто не знал ― зачем, но никто не сомневался в том, что поведение Лиг заслуживает полного доверия и, соответственно, строгого подражания.
Эгину везло больше других. Ему помогала Тара. Он бежал навстречу смерти от стрел морской пехоты, стремясь избежать другой, неведомой смерти, которая вызревала за его спиной. Морская пехота не могла начать стрельбу раньше, чем утихнет ветер, неведомая смерть могла настигнуть в любой момент.
Эгин был уже у рва, оставленного сокрушенным внешним обводом стен, когда Семя Хоц-Дзанга лопнуло завершающим аккордом Танца Садовника, обернувшись огромным провалом, поглотившим все в радиусе трех обводов: трупы смегов, тела псов и самую землю на двести локтей в глубину.
Благодаря, казалось бы, самоубийственному порыву Лиг они успели избежать гибели от разрыва Семени Хоц-Дзанга.
Эгин упал в ров, обернулся и увидел, что все его спутники живы и жуками-бронзовками, которых рука садовника стряхнула с куста шиповника, падают ничком посреди рвов и борозд, чтобы не стать жертвами стрел или убийственных обломков оружия, взмывших вверх и теперь сыплющихся куда ни попадя с небес. Вообще, смерть в тот день в долине Хоц-Дзанга, как правило, предпочитала являться с небес ― в образе Поющих Стрел, «покровов Говорящих» и «градобоя».
Тара была рядом ― Эгин чувствовал это, ― и когда страшная боль от проникающего в спину клинка обожгла его от темени до пят, Эгин очень и очень удивился. Таким ― беспомощным и удивленным ― он погрузился в бархатную беспросветную тишину, которая хранит каждого, кто преисполнился болью свыше отпущенного смертным предела.
Тара успела поцеловать Эгина в затылок, успела провести пальцем по длинной кровавой полосе, вскрывшей спину рах-саванна Опоры Вещей, и более она не успела ничего.
Последняя стрела гнорра, пущенная вдогонку предпоследней стреле и утихающему ветру, отыскала Тару по изумрудным отблескам «покровов Говорящих» на ее волосах.
Иланаф и Дотанагела отстали от остальных, и их довольно основательно присыпало обломками станка «молнии Аюта» у самого края котловины, образовавшейся после разрыва Семени Хоц-Дзанга. На небесах медленно таяли руки несравненного Шета оке Лагина, а отделавшийся ушибами и ссадинами Иланаф старательно стаскивал с ног Дотанагелы тяжеленный деревянный брус с обрывком медной оковки. Оковка зацепилась за перевязь Дотанагелы, кожа лопнула, и ножны стонущего пар-арценца сползли по его бедру на землю. Иланаф задумчиво посмотрел на рукоять меча Дотанагелы, потом ― на самого Дотанагелу, который, судя по всему, сейчас почти ничего не соображал, потом ― на проступающие сквозь пыльную пелену силуэты офицеров Свода Равновесия, которые огибали свежий провал с востока во главе с пар-арценцем Опоры Единства, а с запада ― во главе с Лагхой Коала-рой. Потом Иланаф оглянулся. Никого и ничего, кроме Самеллана, Лиг и Знахаря, подымавшихся в полный рост прямо против стрел морской пехоты.
Иланаф извлек меч пар-арценца из ножен. «Во имя князя и истины», ― пробормотал Иланаф и тремя жуткими мясницкими ударами вскрыл пар-арценца так, что стало видно его дымящееся сердце. Последний, четвертый, удар Иланаф направил прямо в него.
Иланаф подобрал ножны, аккуратно вложил в них окровавленный меч и, расставив руки, пошел вдоль края котловины навстречу западному отряду, навстречу Лагхе Коаларе, который еще не догадывался, что совсем скоро ему тоже предстоит превратиться в заклятого врага князя и истины.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ОТРАЖЕННЫЕ
Глава четырнадцатая ХОРТ ОКС ТАМАИ, СИЯТЕЛЬНЫЙ КНЯЗЬ ВАРАНА
Земля ходила туда-сюда, туда-сюда. Небо тоже.
Казалось, кровь катится по телу не сплошным потоком, как обычно, а будто бы собравшись в шарики. Эти шарики перекатываются по шершавым стенкам сосудов, натыкаются на препятствия и застревают где-то под кожей, на шее, под локтями и коленями, а в особенности же где-то на спине. И причиняют боль.
«Мне больно, ― сознался Эгин самому себе. ― Мне очень больно. Спина, позвоночник, шея, немедленно перестаньте причинять мне боль!» ― приказал Эгин своему телу. Так учил его наставник, уверявший, что органы тела нетрудно держать в таком же повиновении, в каком добрый сюзерен держит своих честных, но капризных вассалов. Он повторил эту фразу не менее дюжины раз, и боль ощутимо уменьшилась.
Как вдруг доверительный разговор Эгина со своим телом был прерван. Кем? Чем? Эгин пока не знал. Он чувствовал лишь, что кто-то или что-то требует, чтобы он открыл глаза. Не вышло ― режущая боль ударила в виски. Эгин пробовал разлепить губы, чтобы сказать что-то наподобие: «Не надо, подождите!», но вместо этого издал лишь жалкое мычание.
Но тут перед его воспаленным внутренним взором возникло видение ― знакомое и угрюмое.
Вот он, привязанный к позорному столбу посреди выжженной, серой пустыни. Стадо коров, волочащих вымя, беспрестанно мычащих и по-прежнему угрожающих ему, приближающихся с неумолимостью седины.
Но теперь в этой картине появилось нечто новое. Эгин увидел пастуха. Конечно, пастух освободит его, развяжет лыковые веревки, поможет подняться и расправить одеревеневшие, онемевшие, налитые черной кровью члены. Или, по крайней мере, отгонит от него своих тварей с паучьими ногами и изъязвленными шкурами. Они не прикоснутся к нему, не причинят зла, нужно лишь только попросить. Но куда подевался пастух? Эгин напрягся и пристально уставился вдаль ― туда, где маячила фигура его спасителя. Теперь он видел его снова. Вот пастух уже приветственно машет ему рукой и кричит что-то. Эгин силится разобрать слова, пастух, к счастью, отлично говорит по-варански, правда, с каким-то нездешним, странным акцентом…
– Приветствую вас, рах-саванн, ― вот что сказал пастух. Но только ни пастушьей шапки с бубенцами, ни резного посоха, украшенного низкой семян чертополоха, при нем не было…
Красота ― удел женщины. Забота женщины. Достоинство женщины. Ее союзник и злейший враг. К мужчинам слово «красивый» относится лишь косвенно. Что-то вроде «красив делами». В Варане не принято говорить «красивый» применительно к мужчинам. Не принято ― и все. А потому, когда Дотанагела в сердце Хоц-Дзанга распространялся о красоте нынешнего гнорра Свода Равновесия, Эгин подумал, что, верно, пар-арценц шутит или желает намекнуть, что гнорр не чужд радостям Обращений. Таким, например, как Обращение Мужей. Иначе с чего бы… Впрочем, тогда Эгину было совсем не до фантазий на тему муже-ложских наклонностей гнорра.
А теперь? Теперь Эгин понял, что имел в виду До-танагела. Гнорр Лагха Коалара склонился над ним, и на его лице играла ничего не выражающая, разве только немного жестокая улыбка. Улыбка красавицы, которая знает, что неотразима. Улыбка варанца, который знает, что выше него лишь князь, да и князь не может и шага ступить без его ведома. Улыбка гнорра.
Эгин узнал его тотчас же, хотя никогда ― теперь он был готов поклясться в этом, ― никогда раньше не имел счастья (или несчастья ― как посмотреть) встречаться с ним. Такие лица не забываются даже простолюдинами, не говоря уже об офицерах Свода.
Всей своей фигурой, манерой двигаться, говорить, лицом, прической и уж, конечно, платьем и украшениями Лагха был образчиком того, что в Варане не имело имени. Образчиком мужской красоты в ее чистом и незамутненном виде. Иссиня-черные, очень густые волосы лежали на его плечах тяжелыми локонами. Лицо имело правильный овал, губы были в меру полны и в меру правильны. Нос, имевший едва заметную горбинку, которая ничуть не портила, но придавала лицу мужественную пикантность, был массивным, строгим и запоминающимся. Брови, густые и месяцеобразные, обрамляли сверху глаза, которые были серы, словно остывший пепел, словно воды горного озера поздней осенью.
В чертах лица гнорра Эгину почудилось что-то алу-стральское, но он поспешил отогнать от себя эту мысль как неуместную. С каких это пор в Свод стали брать выходцев из земель, искони объятых скверной и не знающих разницы между добром и злом, между магическим и чистым, между праведным и подлым?
Лагха по-прежнему улыбался, а за его спиной стояли, ожидая указаний, их общие коллеги из Свода Равновесия.
– Тебе повезло, рах-саванн, что ты ранен. И что рана твоя не такая безнадежная, с какими оставляют на поле брани стервятникам, и не такая пустяковая, с какими сразу же казнят за государственную измену безо всякого лечения и разбирательства, ― с этими словами Лагха одним движением распахнул рубаху на груди Эгина. С треском полетели пуговицы.
Естественно, первым, что увидел гнорр, были украшенные сапфирами серьги Овель, они же клешни Убийцы отраженных.
Лагха долго рассматривал их, поворачивая то так, то эдак. Сердце Эгина, казалось, готово вырваться из груди от волнения. Знает ли гнорр о том, что за вещица на шее у беззащитного, обескровленного рах-саванна?
В лицо Эгину пахнуло заморскими ароматами ― Эгин не был уверен, но, кажется, это был запах амиды. За два наперстка амиды в Урталаргисе платили меру серебра. Впрочем, гнорр Свода Равновесия мог себе позволить и не такое.
Вдосталь налюбовавшись серьгами Овель, Лагха извлек из-за пояса короткий кинжал и перерезал шелковый шнур, все это время служивший чем-то вроде посредника между телом Эгина и телом Овель, которое, хотя и едва заметно, но все-таки отражалось в сиянии синих сапфиров. Затем, уже не глядя на них, он бросил серьги в сарнод, услужливо распахнутый под его рукой одним на удивление откормленным аррумом.
– И это тоже туда, ― сказал медовогласый гнорр, довольно осторожно отстегивая с груди Эгина перевязь с кинжалами, подарками Лиг. ― Кстати, ты не откроешь мне одну жгучую тайну, любезный рах-саванн?
Эгин, собрав в кулак всю свою волю, чуть опустил подбородок ― раз говорить он не может, будет хоть кивать. Он откроет ему все тайны до единой. А если потребуется ― придумает и выдаст любые секреты, о которых не имеет ни малейшего представления. Потому что нет тайны более волнующей, жгучей и, главное, стоящей более, чем жизнь. «Все тайны твои, гнорр!» ― хотел сказать Эгин, который вовсе не торопился в Жерло Серебряной Чистоты, хотя бы уж потому, что оно мнилось ему теперь неотвратимым.
– Да-да, ты покажи мне хоть на пальцах, раз говорить не можешь, рах-саванн, ты куда с этими кинжалами собирался? Охотиться на картонного человека? Или, по-твоему, «лосося» можно и таким уложить?
Стоя в пол-изящнейших оборота, Лагха продемонстрировал перевязь со столовыми кинжалами, нелепо проткнувшими дорогую кожу, навострившим уши ар-румам.
Аррумы уже предвкушали остроту. Аррумы засмеялись. Кто от души, а кто по роду службы. Эгин бы и сам с радостью засмеялся, потому что всерьез метать такие столовые кинжалы в цель и носить их при себе на поле битвы ― это столь же нелепо, как картонный человек с намалеванными сурьмой усами. Как охота на картонного человека. Ибо картонными людьми в учебных поместьях Свода назывались куклы, на которых молокососы оттачивали меткость ножевого броска.
– Это… это… подарок одной дамы, ― прохрипел Эгин.
Гнорр пренебрежительно скривился.
– Дамы? Что же это ваши дамы, рах-саванн, дарят вам, воину, кухонную утварь? Впрочем, какие у смегов могут быть дамы? Девки одни, да и только! ― заключил Лагха, весьма, впрочем, обаятельно.
Аррумы за его спиной откликнулись одобрительным гудением. Перевязь с кинжалами Лиг утонула в другом сарноде. «Собирают игрушки для коллег из Опоры Вещей», ― вздохнул Эгин, как вдруг Лагха, забыв и о нем, и о кинжалах, подошел к краю палубы, облокотился о борт, уставился куда-то вдаль и, резко обернувшись к аррумам, сказал:
– Немедленно снимаемся с якоря. Доведите до сведения капитана! ― приятный баритон гнорра зазвенел сталью.
– Но… милостивый гиазир, на «Звезду Глубин» еще не вернулась сотня, прикрывавшая отступление из Хоц-Дзанга. А на «Гребне Удачи» еще не окончена погрузка раненых! ― отозвался капитан, вынырнувший невесть откуда.
– Раненым быть плохо. И с этим наш рах-саванн не стал бы спорить, ― отчеканил Лагха Коалара, ткнув носком между ребер Эгина. ― Но еще хуже быть мертвым, и с этим не стал бы спорить никто. Если мы немедленно не снимемся с якоря, добрые смеги, которых ты, конечно же, сейчас видеть не можешь, окружат нас в этой проклятой гавани, и тогда ты сам узнаешь, как это ― быть мертвым!
– Но капитана «Звезды Глубин» тоже еще нет на месте! ― на свой страх и риск продолжал перечить несчастный.
– Ты что думаешь, если мы хитростью и наглостью смешали с дерьмом Хоц-Дзанг, так нам теперь хоть всех смегов тут перебей? Может, еще дадим морское сражение? А потом пойдем на Хоц-Ия? А там изловим ихнего свела и будем из него веревки вить, пока он нам секрет «градобоя» не продаст? Ну уж нет, ― Лагха был разъярен и, как показалось Эгину, немного испуган. ― «Звезда Глубин» поплывет без капитана. Будем считать, что его заместителю крупно повезло.
– Повинуемся, ― жертва Лагхи склонила голову и опрометью бросилась отдавать приказы к отплытию.
– Этого вниз, как обычно, ― бросил Лагха, ураганом проносясь мимо хранящего неподвижность на деревянных носилках Эгина.
Сознание рах-саванна в этот момент было занято одним печальным парадоксом. Ему двадцать семь. Лагхе ― тоже с виду не больше двадцати семи. Но он, Эгин, ― рах-саванн, по большому счету мальчик на побегушках. А Лагха… Эгин был так увлечен своими мыслями, что даже не заметил, что последние слова гнорра были сказаны по его поводу.
Знахаря к нему, разумеется, не прислали. Быть может, оттого, что быстрое и безболезненное выздоровление преступного рах-саванна не входило в планы Лагхи. А быть может, потому, что ни на одном из четырех кораблей «Голубого Лосося» Знахаря не было. Правда, и без постороннего вмешательства рана Эгина заживала с поразительной быстротой. Меч, направленный искусной Тарой, рассек большую мышцу спины Эгина наискосок, не задев ни позвоночника, ни важных артерий, ни сухожилий. Этн, разумеется, потерял много крови, благодаря чему, собственно, и произвел на варанцев впечатление сильно, хотя и не безнадежно раненного.
Но потеря крови ― не самая страшная потеря. Эгина куда больше беспокоили судьбы его товарищей по несчастью. Как там Иланаф, Дотанагела, Самеллан? И, главное, жива ли Тара? Эгин не сомневался в том, что положительный ответ на последний вопрос значительно ускорил бы его выздоровление.
Его не беспокоили. Его оставили в полном одиночестве, которое два раза в день нарушал курносый веснушчатый матрос, в котором Эгин, как ни присматривался к его повадкам, так и не признал офицера Свода. Матрос приносил завтрак и ужин, выносил нечистоты, на вопросы отвечал односложно. «Да», «нет», «не знаю». Причем на все даже самые элементарные вопросы, в том числе и на вопрос: «Как тебя звать?» ― он отвечал:
«Не знаю». У Эгина, разумеется, быстро пропала охота предаваться болтовне с мальчишкой, которого его же собственные коллеги застращали запретами до такой степени, что он уже собственного имени не знает.
На второй день Эгин почувствовал себя несколько лучше и изменил политику.
– Мы плывем в Пиннарин? Да? ― быстро спросил он, не давая матросу времени на раздумья.
– Да! Не знаю! Нет! ― таков был ярчайший логический перл, исторгнутый веснушчатым матросом, для которого, в отличие от офицеров Свода, было внове следить за своим языком. И вдобавок делать это быстро.
Впрочем, в том, что четыре оставшихся в распоряжении князя «Голубых Лосося» движутся в столицу на всех парусах, Эгин и без того не сомневался. А то куда же? Получать награды, казнить пленных мятежников, награждать доблестных героев. И зализывать раны.
Разговоры гнорра с капитаном и аррумами, услышанные на палубе в день отплытия с Цинора, дали Эгину пищу для размышлений как минимум на ближайшие сутки. За время службы в Своде Эгин привык высасывать смысл из случайных слов, словно паук ― соки из пойманной и опутанной липкими нитями мухи. Выпивать все самое ценное, важное, принципиальное, оставляя лишь шелуху вежливых витийств. Выдавливать из жестов, интонаций и обмолвок, говорящих все.
Что же он выдавил из сказанного «молодым человеком небесной красоты», если воспользоваться меткой, хотя и двусмысленной характеристикой Лагхи, пожалованной ему пар-арценцем Опоры Писаний Дотанагелой?
Варанцы удалялись от Цинора на всех парусах. Они разбили смегов при Хоц-Дзанге, но кое-кому из защитников крепости-розы удалось найти свое спасение в бегстве и скрыться в горах, где им известна каждая козья тропа.
Варанцы не стали преследовать их, опасаясь… ловушки? Новой неведомой опасности, которая напугала гнорра больше, чем Говорящие? Совокупной магической силы Дотанагелы, Знахаря и Лиг?
Так или иначе выходило, что сразу после разгрома крепости свежие силы смегов стали готовиться к ответному нападению на Хоц-Дзанг, где жадные до всякой магической всячины копошились люди Свода Равновесия под охраной морской пехоты «лососей».
Но гнорр не был столь глуп, чтобы ожидать, пока к новым, на этот раз неподдельным руинам Хоц-Дзанга подойдут резервы из крепости Хоц-Ия. Смеги опоздали. Ибо не могли успеть. Потому что Лагха не стал задерживаться в Хоц-Дзанге дольше чем на двадцать четыре часа, которых хватило для того, чтобы насобирать полные сундуки трофеев, измененной материи, подобрать раненых и пересчитать сталью немногих пленных. Сразу после этого Лагха отдал приказ спускаться вниз, к побережью.
Гнорр был силен. Но не столь силен, как казалось Эгину в тот момент, когда стены-лепестки Хоц-Дзанга облетали один за одним. Гнорр был силен, но не всемогущ. И, главное, он очень спешил. Спешил вернуться в Пиннарин, где еще до отплытия в карательную экспедицию чуял приближение очень недобрых событий.
Благодаря своей быстроходности, до которой было далеко кораблям смегов, «Голубые Лососи» могли не бояться преследователей. Но преследователей Лагха, похоже, и так не боялся. Кому как не ему было знать, сколько морских лиг за час покрывает «Звезда Глубин». Но тем не менее Лагха, острословящий и расхаживающий по палубе в щегольском кафтане, с изумрудным медальоном на шее, этот самоуверенный и изысканный Лагха казался испуганным. Его правильное лицо, которым он владел вполне, все же выдавало тревогу. Даже с трудом ворочавший языком Эгин, лежащий словно бревно на носилках, смог заметить это.
Чего же он боялся? Мести развоплощенных призраков? Каких-то новых, неизвестных, но, безусловно, пагубных для Варана последствий, к которым может привести использование Танца Садовника Шета оке Лагина? Смегов, вооруженных «молниями Аюта»? Лиг, которая не ровен час пустит в ход какой-нибудь сугубо аютский трюк, от чего красивые волосы Лагхи вылезут за неделю, а его кожа сгниет под струпьями неискоренимой «ветроеды»? Неужели Лагха, только что победивший смегов, боялся все тех же смегов? Или Знахаря с Дотанагелой, которым, судя по некоторым косвенным данным, удалось все-таки избегнуть ласковых объятий своего сияющего, прекрасного гнорра с алу-стральской искоркой в глубине бездонных серых глаз?
И тут Эгина осенило. Нет, смеги были ни при чем. Лагха наверняка трезво оценил опасность, принял меры и все просчитал. Со смегами все было ясно. И хоть задерживаться в Хоц-Дзанге все равно не стоило, спешить в Пиннарин сломя голову тоже было незачем. Дотанагела и Знахарь ― вот кто были действительными потайными двигателями в этой ситуации. И не потому, что сейчас они бродят где-то по горным тропам около Хоц-Ия. А потому, что их нет в Пин-нарине.
Где Дотанагела ― в Хоц-Ия или в Святой Земле Грем? Неважно. Главное, что Опора Писаний временно обезглавлена, ибо Дотанагела, обладавший непререкаемым авторитетом и огромной властью, не оставил ни преемника, ни даже намека на преемственность. Опора Единства наверняка тоже осталась без пастыря. Эгин был готов биться об заклад, что пар-арценц Опоры Единства сейчас правит бал и шепчет под руку капитану «Гребня Удачи». Знахаря тоже нет, и остается открытым вопрос о том, есть ли у него замена в Варане. Но самое главное, что весь Свод Равновесия в целом остался без гнорра, а весь чудовищный девятиярусный корабль с двуострой секирой на куполе ― без кормчего. Без единой всеподминающей воли. Остался впервые за всю историю существования.
Идя по этому следу все дальше и дальше, Эгин вспомнил все, что слышал об отраженных отДотанаге-лы. Знахаря и Тары. Все они были единодушно убеждены, что в рядах Свода, по меньшей мере, один отраженный, или, как выражалась старомодная (если не сказать архаичная) в высказываниях Тара, ― та-лан отражение. (Сами эти слова пришли из Синего Алустра-ла, как и многочисленные рецепты, заклинания и реалии из быта магов, ведьмаков, колдуний и простых ведунов всех пошибов и предпочтений. Короче говоря, как начинало теперь казаться Эгину, магическое подспорье всех, кто является врагами князя и истины, а заодно и клиентами Свода Равновесия, было родом из Синего Алустрала.)
По мнению Дотанагелы, которое Знахарь, кажется, не разделял, именно Лагха Коалара является тем самым та-лан отражением. Человеком из прошлого, по своей воле и с помощью особого искусства избравшим время, место и тело для рождения своей нечистой души, чтобы и дальше проводить в жизнь злую волю Хуммеровых бездн. Но что, если этот человек как раз не Лагха? А кто-то другой? Кто угодно другой. Например, пар-арценц Опоры Безгласых Тварей или какой-нибудь аррум вроде покойного Гастрога? А что, если и сам Лагха знает что-то об отраженных или, например, каким-то образом узнал о них в Хоц-Дзанге?
Если допустить, что отраженный ― не Лагха, тогда поведение самого Лагхи становится более ясным, а его испуг ― вполне оправданным. А что, если гнорр, стоя под стенами Хоц-Дзанга, сообразил, какую великолепную, неоценимую услугу оказал он тем, кто задумал бы узурпировать власть над Сводом (и, следовательно, Вараном) и реализовать свою темную, отраженную сущность?
Он, Лагха, удалился из Пиннарина и оставил князя, охрану которого он же опекает, холит и запугивает как свою собственную, в обществе вельмож и Совета Шестидесяти, которым князь доверяет не больше, чем облакам в небе.
Он, Лагха, увел с собой четыре корабля «Голубого Лосося» ― самую преданную князю и истине частицу флота.
Он, Лагха, увез с собой из Пиннарина три сотни отборных боевых псов, которых так долго и тщательно холили в Опоре Безгласых Тварей и которых ни деньгами, ни наветами не заставить обратиться против него, Лагхи, и князя.
Он увез, он взял с собой на Цинор верных псов, верных аррумов, верных «лососей». Он уехал сам. Как Дотанагела. Как Знахарь. Он оставил Свод без головы. Долго ли проживет Свод без головы?
Ответ на вопрос, чего боится мудрейший гнорр Свода Равновесия, был найден. Лагха Коалара, блед-нокожий красавец, боялся заговора. Переворота. Измены, инициатором которой будет подлинный отраженный. Тот, против кого в древности был измыслен скорпионообразный убийца, лежащий сейчас расчлененным в наглухо залепленной навесными замками каюте, где хранятся одинаковые на вид сарноды с эмблемой Опоры Вещей.
И тут Эгин легко и заразительно рассмеялся. И хотя смех отдавался болью в спине, а голос его был по-прежнему чужим и хриплым, остановиться он не мог. Курносый конопатый матрос, дежуривший за дверью, навострил уши. Чего это он там?
Но ведь, милостивые гиазиры, это и в самом деле смешно, когда выясняется, что гнорр Свода Равновесия боится угодить в Жерло Серебряной Чистоты столь же рьяно, как и рядовой рах-саванн Опоры Вещей. И что для подобных опасений у него имеется не менее длинный ряд не менее веских причин.
Ни боли, ни снов не знал Эгин, мирно досыпающий самые сладкие предрассветные часы на койке какого-то безвестного офицера «Голубого Лосося», когда корабль подошел с севера к Вересковому мысу.
Эгин был бы удивлен, узнай он, что, давая самому себе прогноз о сроках своего же прибытия в Пиннарин, просчитался почти на сутки. Промах простительный, но обидный. Хотя как он, Эгин, не видя даже дневного света, мог правильно оценить скорость «Голубых Лососей», которая была воистину ошеломляющей?
Эгин догадывался, что Лагха подгоняет капитанов и матросов и кнутом, и пряником. Но насколько успешно?.. И о попутном ветре, который пособничал кораблям с самого отбытия с Цинора, Эгин тоже, разумеется, не знал. В трюмах не бывает ветра.
Так или иначе, когда Лагха вышел из своей каюты бодрый и нарочито легко одетый, Эгин еще спал мертвым сном раненого героя.
С Лагхой почти не было сопровождающих. Во-первых, оттого, что тот, вопреки создавшемуся у Эгина впечатлению, терпеть не мог свиту и обожательно распахнутые рты и с высоты своего положения деликатно брезговал даже обществом аррумов. С Лагхой был лишь капитан «Венца Небес». О том, что Эгин покачивается в трюме именно «Венца Небес», он тоже не подозревал, ибо приставленный к нему матрос с настойчивостью попугая говорил одно и то же тупое «да», когда Эгин, стремясь доискаться из соображений самого праздного любопытства до истины, перечислял ему имена оставшихся на плаву «Голубых Лососей». Что-что, а это было не сложно, ибо любой себя уважающий офицер Свода знает их не хуже, чем купчина имена своих теток и дядьев.
Лагха был удивительно свеж и, вопреки своему обычаю, немного румян. Его волосы были аккуратно собраны в пучок на затылке, а его брови были сомкнуты над переносицей, что делало его озабоченным и неожиданно для столь раннего часа мрачным. Играть на публику было незачем, ибо не было самой публики.
Капитан, являя полный контраст с бодростью гнор-ра, только хотел казаться свежим. В глазах его стояла непроглядная сонная муть.
Лагхе, похоже, не было охоты болтать. Не говоря капитану ни слова, он вынул из футляра, болтающегося на поясе у последнего, дальноглядную трубу, направил ее на Вересковый мыс и… зло цокнул языком.
– Что там? ― поинтересовался капитан. Вместо ответа гнорр, закусив нижнюю губу, передал ему трубу, и тот направил ее на мыс. Да, в деревушке, которая притаилась на Вересковом холме, догорали костры, и, по всей видимости, изрядно пьяные рыбаки все еще горланили песни. Весьма громко горланили, насколько гнорру удавалось расслышать своим сверхчутким ухом.
– Чего это они радуются по ночам? Вроде ж не праздник? ― прочистив горло, спросил осоловевший капитан.
Но Лагха не отвечал. Теперь он всматривался совсем в другую сторону. В сторону моря, безбрежным серо-черным полотном раскинувшегося впереди. Лагха был очень сосредоточен.
Как игрок над доской хаместира в ожидании построения неприятельской тиары.
Как опытный завсегдатай петушиных боев, приглядывающий за своим питомцем, только-только входящим в посыпанный мелкой галькой круг.
Как путешественник, входящий в спальные покои к жене после многих лет странствий. Кого он увидит на своем брачном ложе?
Капитан, который в присутствии гнорра старался быть особенно внимательным, прилежным и честным, встал рядом с Лагхой и направил трубу на мыс.
– Что там, милостивый гиазир? ― после двадцати минут молчания и рептильей неподвижности гнорра капитан решился наконец на вопрос.
Но Лагха даже бровью не повел. Капитан был честным трусливым морским волком, а не офицером Свода, а потому не знал, что беспокоить пар-арценцев и гнорра в такие моменты ― значит дергать за усы онибрского тигра. Правда, в этот раз капитану сошла с рук его неосведомленность. Наверное, из-за того, что Лагха узрел там нечто такое, по сравнению с чем меркли все возможные бестактности, провинности и недоразумения.
– Мы немедленно меняем курс. В Пиннарине нам делать нечего. Теперь мы плывем на Перевернутую Лилию. Ясно?
– Яснее ясного, вот сразу так и плывем, ― пробормотал оторопевший капитан. ― Сейчас ударим подъем, переставим паруса и…
– Даю тебе на все пять минут. И никакого «ударим подъем»! Не вздумай будить кого-нибудь, кроме матросов, ― тон Лагхи воспрещал не только малейшие возражения, но и какие бы то ни было комментарии.
Капитан почувствовал это как нельзя лучше. Спустя несколько мгновений он уже топотал по одной из дощатых лестниц, уводящих на нижние палубы. Спать ему совершенно не хотелось.
Сам Лагха остался стоять там, где стоял. Безмолвный, зловещий и неподвижный, словно изваяние древнего тернаунского духа мщения. Капитан, опрометью бросившийся выполнять приказание гнорра, остановился на второй палубе и подумал было вернуться. Дело в том, что дальноглядная труба… ее-то он прихватил с собой, так как она принадлежала ему. Хотя лучше было бы оставить ее гнорру.
На одну секунду капитану показалось, что полезней было бы вернуться и проявить показную, верноподданическую сообразительность, но он тут же расстался с этой идеей. Действительно, лучше прослыть идиотом, чем ощутить в глубине своей души испепеляющие сверла глаз Лагхи Коалары.
Ни мыс, ни морская серая даль, ни прибрежный туман не были гнорру помехой, чтобы увидеть далеко-далеко в море, близ самого Пиннарина, весьма внушительную флотилию. Свыше двух дюжин кораблей. Все как один под парусами и в боевой готовности, несмотря на столь ранний час. Они уже знают о приближении «Голубых Лососей», и проницательному Лагхе было нетрудно догадаться откуда.
Лагха видел, как восемь кораблей на левом фланге отделились от остальных и быстро пошли на север, а с правого фланга ― на северо-восток. Строй кораблей выгибался полумесяцем, обращенным своими хищными рогами в направлении «Голубых Лососей».
От какого же врага должен оборонить столицу весь этот флот? Лагха горько усмехнулся. Ибо теперь его подозрения стали явью. Такой же явью, как герб рода Тамаев на флагмане встречающих.
С каких это пор варанский флот дежурит в боевом порядке неподалеку от пиннаринского порта под стягами Хорта оке Тамая? С каких это пор гнорру, возвращающемуся из карательной и вдобавок тайной экспедиции устраивают такую почетную встречу? С каких это пор на упомянутую встречу отправляются лучшие боевые корабли числом, как раз в полтора раза превышающим достаточное для уничтожения всех четырех «Голубых Лососей» в случае, если те станут оказывать сопротивление (а другого от них, везущих самого гнорра, ожидать не приходится)? И почему они украшены расчехленными стрелометами, а не гирляндами из лилий и роз, как то принято в Пиннарине? С каких это пор все так странно, как это видится Лагхе Коаларе?
С тех пор, как Хорт оке Тамай стал новым Сиятельным князем Варана, милостивые гиазиры.
Был полдень, и «Венец Небес» мчался на восток со скоростью ветра, отягощенного корабельным лесом, гвоздями, мачтами, парусами, ракушками-паразитами, людьми и парой десятков уцелевших под Хоц-Дзангом черных тварей.
– То, что я скажу сейчас, быть может, не станет для некоторых из вас новостью, милостивые гиазиры, ― начал Лагха, обводя взглядом немногочисленных офицеров, аррумов и пар-арценца Опоры Единства, собравшихся в капитанском зале «Венца Небес». ― С сегодняшнего рассвета все четыре наших корабля находятся в том же положении, в каком еще недавно находилось «Зерцало Огня».
Сдержанность ― одна из первейших добродетелей тех, кто допущен к служению князю и истине. А потому никто не стал шептаться, вздыхать и таращить глаза. Первая пилюля была проглочена вполне спокойно.
– И, как, наверное, все уже поняли, мы плывем к Перевернутой Лилии, а вовсе не в Пиннарин, ― продолжал Лагха, чеканя каждое слово. ― Я, гнорр Свода Равновесия, никогда не помышлявший о том, чтобы изменить князю и истине, стал изменником. Отчего же все вышло именно так, милостивые гиазиры?
Перебивать гнорра не принято. Когда говорит гнорр, все должны разверзнуть уши и прикусить языки, пока гнорру не будет угодно выслушать их мнение. И не было в капитанском зале никого, кто отважился бы преступить это правило.
– Случилось так, что Сиятельным князем и управителем наших судеб стал всем хорошо известный гиа-зир. Милостивый гиазир Хорт оке Тамай, ― повесив эффектную паузу, добавил гнорр. ― Сегодня на рассвете мне дано было зреть двадцать четыре корабля ва-ранского флота под штандартами рода Тамаев. Под княжескими штандартами, милостивые гиазиры, под теми самыми, на которых еще неделю назад красовались гербы династии Саггоров. Я не сомневаюсь в том, что единственным назначением этого флота на входе в пиннаринскую гавань было заключение нас всех ― подчеркиваю, всех ― под стражу. Безусловно, они собирались представить нас пред очи нового князя, который решит нашу судьбу. Не поставив вас в известность, я отдал приказ изменить курс, что было равносильно измене. Увы, судьба, вознесшая на престол бывшего Первого Кормчего, не оставила мне иного выбора. И только благодаря быстроходности «Голубых Лососей» мы все еще дышим воздухом свободы.
Многие из присутствующих опустили глаза. «Сколь мало правды в словах гнорра? И почему, собственно, он уверен, что положение именно таково, как ему примерещилось? Может быть, ничего дурного не предвещали те корабли?» ― вот какими вопросами задавался в тот момент почти каждый, за исключением разве что проницательного пар-арценца Опоры Единства, который мог бы описать положение ничем не хуже самого Лагхи.
– Поясню! ― с циничным смешком продолжил гнорр, от которого, разумеется, не укрылось замешательство слушателей. ― Хорт оке Тамай стал князем, хотя ни его род, ни его происхождение не позволяют питать надежды на такой титул ни сейчас, ни в отдаленном будущем. Я оставлял князя в добром здравии, и у меня нет причин сомневаться в том, что его кончина была насильственной. Мы ― глаза, уши и руки Свода ― знаем, что всевидящее око Свода не могло оставить заговор незамеченным. И буде Хорт оке Тамай задумал переворот и убийство князя по собственному, так сказать, разумению, он был бы сейчас не князем, а покойником. У меня есть все основания утверждать, что, воспользовавшись моим отсутствием, а также и отсутствием большинства значимых пар-арценцев ― Писаний, Единства, Безгласых Тварей, ― наши бывшие коллеги учинили в Своде то же самое, что Хорт оке Тамай учинил в княжеском дворце. То есть пришли к власти, поправ законы людские и писаные. И теперь у Свода Равновесия новый гнорр. Такой же самозванец, как и князь.
В тот день Лагха Коалара был величествен и статен как никогда. Речь его была исполнена праведного гнева, в то время как лицо дышало неомраченным спокойствием и уверенностью в себе. Со стороны могло показаться, что этому человеку вообще неведомы ни колебания, ни отчаяние, ни страх. Каждый из тех, кто внимал ему в «капитанском зале», знал, что Лагха еще не перешел сомнительный рубеж, именуемый варанца-ми «золотым тридцатилетием». Загипнотизированные, убаюканные, порабощенные спокойствием и силой, исходившими от Лагхи, все, за исключением, быть может, пар-арценца, были готовы поклясться в том, что с ними говорит мудрый и прозорливый восьмидесятилетний старец. Что он, черноволосый красавец Лагха, был рожден со звездой во лбу. Рожден, чтобы любить и властвовать. Любить всех и властвовать надо всеми.
Но кое о чем не догадывался даже пар-арценц. О том, например, что в свои двадцать семь лет Лагха Коалара был и оставался девственником.
– Я знаю, о чем думают сейчас многие из вас, ― Лагха любил предварять жестокие и циничные речи обаятельной улыбкой, и потому самые сообразительные аррумы предусмотрительно зашарили взглядом по потолку, чтобы ненароком не выдать своего возможного волнения. ― Думают приблизительно так. Если есть новый гнорр, старому гнорру не прожить и недели. Ибо нет и не может быть двух солнц на небе, двух князей в Варане и двух гнорров в Своде. Лагха, стало быть, мертв, хотя и жив, как всякий может убедиться воочию. Но жизнь гнорра ― это забота гнорра. Не лучше ли сейчас же, не откладывая, связать его ― то есть меня ― по рукам и ногам и вернуться, пока не поздно, в Пиннарин со зна-атной добычей. Так?
Разумеется, ни один из тех, в чьих головах роились подобные мысли, не откликнулся.
– Так, разумеется, так, ― продолжал гнорр с понимающей улыбкой. ― И я не виню вас, ибо, будь я одним из вас, думал бы так же. Но, милостивые гиази-ры, если бы все было так просто, моим долгом было бы не только позволить, но и приказать вам поступить по вашему подлому разумению. Но! Все мы знаем законы Свода. Кто лучше, кто хуже. Так вот, даже если половина из вас будет помилована, обласкана и возвеличена на службе новому князю, вторая половина будет волею нового гнорра обезглавлена со всей неизбежностью. О да, каждый волен полагать, что вот как раз он-то и будет тем счастливчиком, кто уцелеет и продвинется в должности. Но так полагают только глупцы, не знающие ни Свода, ни его правды. А правда Свода состоит в том, что лишь случайность, лишь Жребий, лишь произвол решит вашу участь. И каждый из вас сейчас наполовину жив, а наполовину покойник. Каждый из вас, милостивые гиазиры. Каждый! Возвращение в Пиннарин, под крыло к Хорту оке Тамаю ― это все равно что игра в лам, где ставкой являются снятые головы игроков.
Лагха сложил руки на груди и замолк. Нет, не с уличными мальцами вел он сейчас беседы. А с такими же беспощадными, закаленными и циничными убийцами, как и он сам. Людьми без роду-племени. Без родителей, жен, близких, детей. С теми, кто сызмальства не знал другой доли, кроме служения князю и истине. И его слова отозвались глубинным ужасом обнаженной правды в каждом сердце. Когда все услышанное было осознано, Лагха добавил:
– Я был низложен как гнорр сегодня на рассвете. Но именно в тот момент я стал гнорром нового Свода Равновесия, костяком которого предстоит стать вам. Это обещаю вам я, ваш прежний и ваш новый гнорр. А вы должны поклясться мне в верности, как это некогда сделали, поступая на офицерскую службу.
И хор голосов незамедлительно ответил гнорру словами клятвы. В этом не было ничего странного, ибо разумным и смелым людям не свойственно бунтовать, стоя одной ногой в Жерле Серебряной Чистоты. Будь среди них Эгин, он тоже внес бы свой голос в общий хор. Что может быть лучше присяги такому красивому и мудрому гнорру в преддверии многотрудной борьбы за свою шкуру?
– Милостивый гиазир ― запинаясь и краснея во все веснушчатые щеки, начал матрос, принесший, как обычно, ужин, ― мне ведено сопроводить вас к гнорру спустя время, достаточное для приема пищи.
Если бы способность удивляться, и без того присущая Эгину в весьма незначительной степени, не атрофировалась окончательно в Хоц-Дзанге, Эгин, услышав такое, пожалуй, вскричал бы какую-то ерунду вроде: «Вот так да!» Разве это не забавно, не удивительно, когда истукан, наученный одновременно и подтверждать, и отрицать все без разбора, рождает такую щедрую тираду?
Но Эгин лишь придвинул к себе тарелку с каким-то пересоленным супом и откусил кусок хлеба с тмином. Прием пищи даже в преддверии разговора с Лагхой был очень кстати. А кроме того, под мерные движения челюстей ему можно было еще раз обдумать, как получше сыграть эту странную партию, где твоим противником будет сам Лагха Коалара.
Эгин шел вослед матросу, медленно переползая со ступени на ступень, ― каждый подъем ноги отдавался болью в спине, где укутанная самодельной повязкой медленно заживала подаренная Тарой спасительная рана.
Они покинули трюм и теперь поднимались на верхнюю палубу. По пути им встретились трое озабоченных и довольно изможденных с виду матросов, которые несли приспособление, сильно напоминавшее Эгину одно из креплений палубного стреломета, а также давешний аррум (тот самый, в сарноде которого исчезли совлеченные с шеи Эгина серьги Овель). В общем-то добродушное лицо аррума было омрачено испугом и недовольством. По всему было видно, что возвращение в Пиннарин (которое, по представлениям Эгина, ожидалось этой ночью) будет далеко не триумфальным. У края лестницы Эгина ждал еще один сюрприз ― юркая, худощавая фигура с тощей короткой косицей. Гладко выбритые скулы, залихватская улыбка и излюбленное пиннаринское «Здорово живешь, Эгин». Это был… Иланаф.
Он помахал ковыляющему Эгину рукой и как ни в чем не бывало отправился по своим делам. Казалось, на борту «Голубого Лосося» он чувствовал себя так же вольготно, как в своем столичном доме. С чего бы это? Неужто гнорр помягчел и объявил всеобщее помилование, зачислив в герои всех, кто участвовал в обороне Хоц-Дзанга на стороне смегов? А где же в таком случае Знахарь, Самеллан и Дотанагела?
Слегка оторопевший Эгин поприветствовал Илана-фа с некоторым запозданием. В спину. Искушение послать матроса куда подальше и перекинуться с Ила-нафом парою слов было очень велико. Если бы не Лагха Коалара, который ждал его, сидя в резном кресле, в десяти шагах от лестницы, Эгин наверняка так и сделал бы.
Какое уж тут «послать»! Эгин проводил взглядом Иланафа и решительным шагом направился к гнорру, который глядел на него ― а может, и не на него, а сквозь него ― остекленевшим, отвердевшим взглядом человека, с головой погруженного в раздумья.
Алустральский веер с ручкой в, виде грациозной лебединой шеи, которым, не довольствуясь морским ветром, пробавлялся гнорр, распластанной летучей мышью или гигантской бабочкой лежал у него на коленях.
– Приветствую вас, милостивый гиазир, ― сказал Эгин с поклоном.
Наверное, для обращения к гнорру существуют специальные формулы вежливости. Но ведь он, Эгин, окончил свою службу в Своде в должности простого рах-саванна, а стало быть, в силу исключительной невозможности аудиенций у гнорра этим формулам его никто не обучал. Да их, наверное, и аррумы тоже толком не знают. «Вот Норо оке Шин, например, знает?» ― подумал Эгин, припоминая своего начальника и его железный приказ отыскать Пятое сочленение. «Ха-ха, а четыре предыдущих вам не мясо, аррум? Ну так спросите их с гнорра», ― ехидно хихикнул внутренний голос Эгина, которому, в целом, было совсем не до смеха.
Конопатый матрос почел за лучшее испариться. Гнорр поднял лицо навстречу Эгину, и пронизывающий насквозь взгляд его серых глаз заставил Эгина поежиться. Что-то странное привиделось Эгину в облике гнорра. Что-то новое. Некий тлетворный дух, казалось, исходил теперь от одежд гнорра, сменив собой запах драгоценной амиды. На палубе было довольно-таки прохладно, но со лба Лагхи градом катился пот, струйками стекая по его стройной сильной шее за шиворот. Лагха поднял веер и сделал два довольно вялых взмаха. Он что, болен?
– У меня нет времени вести с вами душеспасительные беседы, Эгин, но кое-какие новости вам придется узнать. Хоть бы и последним на этом проклятом корабле. Буду краток. В Варане новый князь. Хорт оке Тамай. По вполне понятным причинам я теперь такой же мятежник, как, например, Дотанагела, Знахарь и Самеллан. Я не собираюсь уступать свое место гнорра тому самозванцу, который сидит сейчас в Пиннарине. Партия еще не сыграна, и я предлагаю вам, Эгин, играть ее на нашей стороне. Вы, Эгин, виновны перед старым Сводом. Но старый Свод остался в Пиннарине. Там вы заслужили ни много ни мало, а Жерло Серебряной Чистоты. Но перед тем Сводом, который плывет сейчас на Перевернутую Лилию, плывет вместе со мной, вы чисты. Пока что чисты… Поэтому либо вы сейчас же отправляетесь кормить крабов, либо…
– Либо? ― не выдержал Эгин.
– Либо отправляетесь к арруму Опоры Безгласых Тварей гиазиру Альсиму для получения дальнейших распоряжений, ― с усилием закончил Лагха.
– Благодарю вас, гнорр, ― растерянный, обрадованный и испуганный Эгин остановился в трех шагах от Лагхи.
Целуют ли гноррам руку после первой аудиенции? Или перстень? Или носок туфли? Или вообще никаких телесных контактов не допускается? Или это с Сиятельным князем не допускается?
Гнорр, догадавшись о его замешательстве, протянул вперед левую руку. Эгин, превозмогая боль в спине, склонился перед резным креслом и одними губами приложился к поразительно белой, поразительно длинно-палой мужской, но по-женски холеной руке Лагхи. О Шилол! Его обдало жаром, словно бы он поцеловал клинок, только что вынутый из горнила.
– Благодарю, гнорр! ― еще раз повторил Эгин, но Лагха уже не слушал его, а лишь презрительно или, быть может, устало махнул веером от себя. «Убирайся» ― вот что значил этот жест на алустральском наречии перьевых вееров.
– А-а, явился не запылился! ― густой бас Альсима приветствовал Эгина из сумрака каюты. ― Это ты тот самый калека рах-саванн, который будет чистить мое платье и играть со мной в кости?
– Я… ― растерянно протянул Эгин. ― И пить гор-тело тоже, ― добавил он, дивясь собственной наглости. Впрочем, Эгин уже успел признать в Альсиме того самого аррума, который оприходовал серьги Овель, и полагал, что они тем самым уже немного знакомы между собой.
– Тогда начнем с гортело, ― подытожил Альсим и предложил Эгину место за низким столиком, на котором стояли необъятное блюдо с тушеными овощами и кувшин гортело.
Эгин рассчитывал пробыть у Альсима не более часа. Какие, собственно, могут быть распоряжения у сухопутных аррумов, находящихся в открытом море вдали от берегов и дел? Но судьба распорядилась иначе. Эгин выбрался из каюты своего нового начальника лишь на следующее утро, да и то чтобы распорядиться о завтраке.
Моральное разложение офицеров было самым страшным из бесплотных призраков, с которыми Своду приходилось бороться неустанно. И, как казалось Эгину до сих пор, довольно успешно. Эгин был уверен, что подавляющее большинство офицеров Свода ― особенно старших! ― свято соблюдали Уложения Жезла и Браслета. Ничего подобного.
Опустошив два кувшина гортело, Альсим, тучный, —жизнелюбивый и довольно симпатичный, спросил у Эгина: «Обращался ли ты, дружок, хоть раз?» Эгин, для порядка поколебавшись, честно ответил ему, что да, бывало. И тогда Альсим поведал Эгину пару-тройку историй, от которых у Эгина волосы встали дыбом. О да, обращался и Альсим, причем никакой тайны из этого не делал. Послушать Альсима, так можно даже подумать, что не только здание Свода с голубым куполом осталось в Пиннарине, но и вся Опора Благонравия вместе с Опорой Единства тоже.
За игрой в кости, беспробудным пьянством и болтовней прошел первый день службы под новым начальством. Между делом Альсим рассказал Эгину подробности прибытия в бухту Пиннарина, в красках расписал памятную речь Лагхи в капитанском зале, попотчевал своего нового денщика свежими сплетнями и авторитетными мнениями коллег из родной Опоры Безгласых Тварей.
К следующему утру Эгин уже знал все, что можно было узнать, не проведи он предыдущие дни в тесном гробу на последней, трюмной, палубе. Чтобы как-то оправдать доверие Альсима, в котором Эгин отчего-то не сомневался, он, замалчивая и обходя кое-какие чересчур пикантные подробности, рассказал арруму основную канву своих странствий от Пиннарина до Хоц-Дзанга. «Зерцало Огня», мятежники. Говорящие…
– Ну ты даешь, сучье вымя! ― добродушно выругался Альсим, когда Эгин, попутно трижды проиграв начальнику в кости, закончил-таки историю о том, как штурм Хоц-Дзанга (в котором Альсим, собственно, и потерял под «градобоем» своего предыдущего денщика) выглядел изнутри ― собственно, со стороны смегов.
Эгин вежливо улыбнулся. Впрочем, улыбка вышла довольно кривой. А какой она могла еще выйти, ведь, окидывая взглядом Альсима, Эгин вновь вспомнил о Норо оке Шине. Своем предыдущем начальнике.
«Кажется, никто еще не применял к Своду эпитета „многоликий“. А зря» ― вот с этой-то мыслью Эгин, мертвецки пьяный, и отошел ко сну на полу каюты Альсима, чей живот был так же велик, как и бочка с гортело, принайтованная под койкой аррума Опоры Безгласых Тварей.
Когда Эгин проснулся, Альсим еще звучно храпел на своей койке.
Голова разваливалась на тысячу частей, а спина ныла с удвоенным тщанием. Во рту Эгина смердело плохо вычищенным хлевом, а живот, казалось, орал:
«Вскрой меня!». В голове царила каша, к которой Эгин благодаря событиям последнего месяца успел притерпеться.
Смачно зевнув, Эгин покинул каюту Альсима и вышел на палубу. Огляделся.
Самым уместным и правильным сейчас было бы встретить Иланафа. Узнать от него свежие новости и сравнить их с услышанным от аррума. Справиться о судьбе Дотанагелы и Знахаря. Знахарь был бы сейчас Эгину очень кстати. Ему надоело чувствовать себя калекой, когда вокруг зреют такие события. Да и вообще, за годы службы в Своде он как-то разучился выздоравливать своими силами. Но…. мысль о Знахаре натолкнула Эгина на воспоминание о Лагхе, чье тело, кажется, действительно сгорало в лихорадке. Это и Альсим тоже приметил. О если бы Знахарь попал в плен, разве Лагха бы мучался сейчас хоть бы даже и пустяковой простудой?! А с другой стороны, если бы это была пустячная простуда, разве Лагха бы позволил ей пристать к себе?
Иланафа нигде не было. Эгин спустился на нижние палубы. Расспросил встречных матросов. Постучался в пару кают. Нет, никто не знает такого. «Нужно было спросить у Альсима», ― сообразил наконец Эгин и, , злой привычной похмельной злобой, отправился на камбуз. Там он сделал шикарный заказ и пошел будить Альсима, решив, что сразу после завтрака продолжит поиски Иланафа.
Естественно, в тот день намерения Эгина разыскать на корабле Иланафа остались всего лишь намерениями. И всему виной были четыре кувшина гортело и три завтрака, плавно перешедшие в бесконечный ужин.
«Подумаешь, дела! Если бы Иланаф хотел повидаться со мной, он бы уже повидался», ― заключил Эгин, подливая себе в чашку обжигающей мутноватой жидкости и таким образом провожая еще один день, проведенный на борту «Венца Небес», в прошлое.
Глава пятнадцатая ПЕРЕВЕРНУТАЯ ЛИЛИЯ
– Вставай, дружок, ― басил Альсим, тряся заспанного и мятого Эгина. ― Приехали!
И в самом деле приехали. Все четыре «Голубых Лосося» находились в виду Перевернутой Лилии. Самой загадочной жемчужины варанского государства и варанской истории.
Высокий и статный Лагха Коалара, с развевающимися по ветру черными кудрями, стоял на носу «Венца Небес» в окружении пар-арценца и трех аррумов. Разговор даже не теплился. И в самом деле, к чему разговоры, когда и так все ясно. Либо они сейчас обоснуются на Перевернутой Лилии и оттуда будут вести переговоры с новым князем и новым гнорром в надежде подороже продать свои шкуры, либо не обоснуются, и тогда все кончено.
Обосноваться на Перевернутой Лилии было задачей не простой, но посильной. Остров охранялся гарнизоном численностью приблизительно в двести человек, засевшим в крепостце, возвышавшейся на утесе у входа в единственную пригодную бухту.
Вариантов было два.
Можно было взять крепость штурмом, который после бойни на Хоц-Дзанге показался бы детской забавой.
Можно было склонить гарнизон к сдаче, «клинка не обагряя, меча не доставая», как невесть в каких песнях поется.
Судя по всему, Лагхе Коаларе был по душе второй вариант, ибо все четыре «Голубых Лосося» входили в гавань, не таясь и не маневрируя в надежде сбить с толку обслугу метательных машин в крепости. Входили как свои, кай победители, на всех парусах. Входили как к себе домой, благо капитаны Отдельного морского отряда «Голубой Лосось» знали лоцию Перевернутой Лилии наизусть и могли пристать вслепую. И хотя Лагха догадывался, что начальник гарнизона Саф получил приказ из Пиннарина без предупреждения топить всех, кто входит в гавань, он был уверен, что разрядить стрелометы в корабли «Голубого Лосося» у Сафа не хватит духу. Уж очень хорошо Лагха знал этого самого Сафа.
«Венец Небес» причалил первым, и Лагха, по-прежнему невзирая на засохшие потеки бурой крови пар-арценца Опоры Безгласых Тварей, облаченный в свое бессменное боевое рубище с косматыми звездами, подошел к сходням.
– Всем оставаться здесь до моего приказа, ― бросил он через плечо.
Лагха Коалара сошел на берег. Огромный изумруд, вделанный в крышку медальона, висевшего у гнорра на серебряной цепи поверх белых одежд, в свою очередь накинутых поверх косматых звезд, откликнулся утреннему солнцу снопом искр, часть из которых просыпалась на пристань, а часть растворилась в воздухе острова, оповещая всех и каждого о том, что гнорр прибыл и шутить не намерен.
Он шел очень медленно, и каждый его шаг был шагом императора, который долго странствовал и наконец вернулся в свои земли с чужбины, дабы водворять порядок и призывать к благоразумию. Двести пар глаз следили за ним со стен крепостцы. Но из всех двухсот ему были важны одни. Глаза коменданта.
«Лососи» сгрудились у бортов, с замиранием сердца наблюдая за шествием своего гнорра. Когда же начнут стрелять? Да и начнут ли вообще?
Оставив позади пристань, Лагха стал подыматься по выбитой в скале лестнице вверх, к воротам крепостцы.
Эгин, наблюдающий за всей этой слегка затянувшейся сценой в обществе Альсима (в обязанности которого входило отводить стрелы, если вдруг кому-то взбредет в голову подстрелить гнорра), неожиданно понял одну из главных причин такого странного замешательства, в котором пребывали солдаты гарнизона. Большинство из них ― быть может, сто девяносто девять из двухсот ― никогда раньше не видело гнорра, хозяина Свода Равновесия, хотя и передавали из уст в уста рассказы о его темном могуществе, о его влиянии, о его пристрастиях, ничего доподлинно не зная. Рассказы, исполненные страха и трепета.
И вот теперь они видят гнорра воочию. Молодого, чудовищно бледного юношу высокого роста с черными кудрями по плечам, в грубых белых одеждах и с изумрудно-зеленым солнцем на шее. Они, притихшие, словно школяры, в ожидании порки, смотрят со стен на двадцатисемилетнего властителя их судеб, имени которого никто из них, кроме Сафа, даже не знает.
Многие из них заметили, как сметался и опустил в нерешительности взгляд их командир. Никаких точных предписаний от князя у него не было, а старые инструкции Свода Равновесия требовали от Сафа уничтожать всех, кто дерзнет высадиться на берегу Перевернутой Лилии без письменного разрешения гнорра. Проблема была в том, что теперь гнорр явился собственной персоной, но это был уже не тот гнорр.
Тем временем Лагха успел преодолеть три четверти пути. И хотя подъем давался ему нелегко, и хотя жар и одышка делали каждый его шаг мукой, почти никто, кроме пар-арценца и еще одного человека, очень и очень хорошо известного Эгину, не догадался, сколь много сил утекает сквозь пальцы и кожу гнорра с каждой минутой.
На площадке возле деревянных ворот с железными заклепками Лагха остановился и поднял взгляд вверх.
– Саф, я хочу переговорить с тобой! ― требовательно заявил гнорр. ― У меня есть для тебя новости!
Ему никто не ответил. Но Лагха, исполненный достоинства, даже не думал уходить. Он просто стоял и ждал.
Первые две минуты каменная утроба крепости пребывала в полном оцепенении. В параличе. Никто не двигался, не стрелял, не говорил. Все только переглядывались, как то случается, когда все понимают, что происходит что-то непостижимое, ужасное и неотвратимое.
Затем, словно по сигналу, крепость взорвалась голосами. Все вмиг зашумели, засуетились и заговорили.
Наконец ворота с лязгом распахнулись. Перед Лаг-хой Коаларой возник всадник. Гнедой жеребец бьш явно оседлан в последний момент ― попона позорно съезжала набок с лошадиной задницы, подпруги были очень дурно подтянуты, а затрапезная уздечка совершенно не вязалась с парадным видом всей прочей сбруи. Оставалось совершенно неясным, куда это собирается скакать Саф с двуручным мечом, притороченным справа от седла.
Появление коменданта Перевернутой Лилии на крохотной площадке, верхом на жеребце, в полном боевом облачении, выглядело комично. Но никто не смеялся. И Лагха тоже не смеялся.
– Чего тебе надо, Лагха? ― нарочито грубо начал Саф, старательно пряча глаза. (Чтобы облегчить себе эту задачу, он даже надел на голову боевой шлем с решетчатым забралом и распущенным по плечам цветастым шерстяным шлейфом.)
Лагха стоял перед ним, словно призрак, пришедший бессонной грозовой ночью в гости к зарвавшемуся коменданту, чьи земные деньки истекли. Стоял и молчал, сверля взглядом решетку забрала.
– Чего тебе надо, а? ― привстав в стременах, повторил Саф, стараясь казаться спокойным и раскованным. Тщетно ― голос и дрожащие колени свидетельствовали против него, превращая всю его игру в дешевую буффонаду.
Лагха скрестил руки на груди. Окинул Сафа с головы до ног холодным, властным взглядом и спросил:
– С каких это пор ты, Саф, приветствуешь гнорра Свода Равновесия, сидя в седле?
Наконец Лагха изволил отверзть свои уста!
Все, кто был в тот день на Перевернутой Лилии, стали свидетелями этой исторической сцены. Но как любили отмечать впоследствии писаки, творящие историю при помощи перьев и пшеничного пурпура, никто не понимал, почему все происходило так, а не иначе.
«Мышь и змея, ну точно тебе говорю!» ― ударил в ладонь кулаком Альсим, когда Саф на глазах у своего гарнизона спешился и… подойдя к гнорру, поцеловал его руку. ― Мышь целует змеиный хвост. Змея одобрительно скалится.
«Ну, Хуммер его раздери… ну мощный мужик этот хренов гнорр», ― восхищенно и немного испуганно прошептал один лучник на ухо другому. Прильнув к бойнице, они в полной растерянности наблюдали за тем, как Саф, только что велевший им приготовиться к бою не на жизнь, а на смерть, снимает свой шлем и бросает его под ноги жеребцу.
– Я рад, что благоразумие и здравый смысл по-прежнему главные среди твоих добродетелей, Саф, ― сурово, но с одобрением сказал Лагха Коалара, проходя через ворота крепости первым.
– …не моя вина, милостивый гиазир гнорр, я лишь выполняю ваш собственный приказ не пускать никого без письменного разрешения гнорра… ― Саф плескался в чане собственного косноязычия, словно лягушка в крынке с молоком. Но не взбить ей сливок для себя. Лишь для Лагхи Коалары.
– А я тебе уже не гнорр, да? И не могу, стало быть, выписать самому себе письменное разрешение. Какая жалость! Скажи мне, Саф, как имя того нечестивца, что посмел без закона назвать себя новым гнорром при новом Сиятельном князе Хорте оке Тамае? ― как ни в чем не бывало поинтересовался гнорр, когда солдаты гарнизона сложили перед ним оружие.
– Я всего лишь старый служака, я ж не ваш, мне не докладывали, милостивый гиазир… Мне только сказали, то есть написали, что новый… А кто новый? Имени не говорили!
– Так вот запомни, Саф. Нет никакого нового гнорра и нет никакого старого гнорра. Гнорр ― это я, и больше никто. Понял?
– Понял! Очень хорошо понял, ― частил Саф, обильно сдабривая речь улыбками и улыбочками.
– Очень хорошо понял ― это очень хорошо. А тот мудак, ― в нужное время и в нужном месте гнорр умел назвать вещи своими именами; среди солдатни пополз одобрительный шепоток, ― который сидит сейчас в моем кабинете, будет убит на виду у всего Пиннарина.
Сзади какой-то солдат вел под уздцы жеребца Са-фа. Кое-кто из лучников начал орать приветствия гнорру на воинский манер. Саф отирал лысину платком. Обслуга зачехляла стрелометы. Панцирная пехота прятала мечи в ножны. Лагха шел вперед мимо казарм ― бледный, как смерть, и несгибаемый, словно обветренная прибрежная сосна. Голова его кружилась, и потому он шел медленно, вымеряя каждый шаг.
– Ладно, Саф, ― с тяжелым вздохом сказал Лагха, откидывая мокрые от пота прядисо лба. ― Распорядись о квартирах для меня, моих людей и «лососей»! Немедленно!
Змея, надавав мыши оплеух, послала ее за бражкой, отложив ужин на неопределенное время.
Хорт оке Тамай, новый Сиятельный князь Варана, был слишком вызывающей и скандальной персоной, чтобы не обратить на себя внимания Свода Равновесия.
Во-первых, Хорт оке Тамай, подобно своему знаменитому предку Гаассе, долгое время занимал должность Первого кормчего княжества. Причем, судя по тому, как возросла при нем мощь варанского флота, Хорт был далеко не худшим куратором для этого превыше всех почитаемого в Варане рода войск. И даже после того, как Хорт оке Тамай ударился в любострастие и книгочейство, отошел от дел и завел на своей вилле «Дикая Утка» роскошь, от которой стошнило бы и тернаунского наместника Радагарны, даже после этого Хорт сохранил очень высокий авторитет в армии и продолжал навещать все смотры, парады и маневры на правах почетного гостя.
Во-вторых, сестра Хорта была супругой Сиятельного князя, и, таким образом, он входил в Ныне Здравствующий Дом на правах не только верного слуги престола, но и вполне родственной души.
В-третьих, Хорт оке Тамай в определенный момент ― этак, по представлениям Лагхи, лет восемь назад ― испил из живительного источника нечистых писаний. Дело в том, что Хорт оке Тамай обладал очень странными, хотя и сравнительно безобидными способностями. Так, например, он превосходно играл в лам.
«Превосходно играть в лам» ― это все равно что повелевать рыбами или назначать обугленным костям из погребальной урны собираться по контурам скелета покойного. Лам ― это бассейн или (для «малого лама») трехведерный резервуар, дно которого размечено полями с изображениями животных и цветов. Каждое из них имеет свое значение. Есть и разные фигуры ― широкие и плоские, чуть поменьше Внешних Секир офицеров Свода. В бассейн наливают воду, игроки покупают в общем банке столько фигур, на сколько хватает денег и наглости, ― и начинается игра. Игроки по очереди вбрасывают с двух шагов фигуры на поверхность воды в резервуаре. Фигуры тонут, закладывая замысловатые и толком непредсказуемые пируэты, подобно сухим листам в осеннем воздухе, и со временем достигают дна бассейна. Потом по правилам, сложность которых зависит только от изощренности, жестокости и азарта игроков, рассчитываются выигрыши, проигрыши и взаимные долги.
Откровенно говоря, лам ― это не более чем изысканный и чуть усложненный вариант игры в кости, потому что любому школяру ясно: никому не по силам сделать так, чтобы фигура упала именно туда, куда хотелось бы ее хозяину ― на «южного краба» или там «шипастого окуня», а еще лучше ― четыре подряд фигуры в башню на «повелителе глубин»! Есть, конечно, сотни трактатов наподобие «Об истинных и ложных путях вбрасывания фигур лама», «Золотая Рука», «Порицание дурного игрока» и так далее. Но в действительности лам ― это всего лишь танцы Гулкой Пустоты.
Так вот. Хорт оке Тамай последние несколько лет играл в лам пре-вос-ход-но. Он мог семь раз подряд вбросить «длань» в «южного краба», а на «повелителе глубин» однажды воздвиг башню из пяти (пяти, милостивые гиазиры!) «цветов дурмана». Конечно, изредка Хорт проигрывал. Чтобы поддержать легенду, чтобы показать, что с ним можно и нужно играть, что у него можно выиграть и тем самым разжиться кое-какими деньгами, а главное, обзавестись славой победителя самого Хорта оке Тамая, прозванного в придворных кругах Золотой Рукой.
Да, любой аррум в Своде Равновесия понимал, что человек, умеющий такое, обязательно может и кое-что похлеще. С другой стороны, любой эрм-саванн не сомневался ни мгновения в том, что даже сравнительно безобидного искусства беспроигрышной игры в лам было бы достаточно, чтобы приговорить Хорта оке Тамая к смерти. Но! Хорт оке Тамай был братом Сиятельной, и это делало его совершенно неуязвимым даже для Свода. В конце концов. Свод в лице гнорра всегда относился к Хорту достаточно спокойно. По приказанию Лагхи Хорта и его усадьбу все время держали под присмотром, но никаких действий против него не начинали.
Таким был Хорт оке Тамай. У него было много человеческих слабостей, но слабость сущностная была только одна. Овель исс Тамай ― его ослепительно красивая племянница, бежавшая две недели назад из «Дикой Утки», перехваченная посреди ночи каким-то за-нюханным рах-саванном Опоры Вещей с южным именем Эгин и похищенная неизвестно кем из его дома на следующее утро. Неизвестно кем?
В тот день, когда четыре корабля «Голубого Лосося» отвернули от Пиннарина на восток и тем совершили государственную измену, Лагха Коалара не мог знать, что растянутые полумесяцем корабли под штандартами Хорта оке Тамая имели строжайший приказ не применять силу первыми. Более того, им вменялось всеми средствами избегать вооруженного столкновения даже в том случае, если «Голубые Лососи» разрядят свои стрелометы в родовой герб Тамаев. Высланные Хортом корабли должны были всего лишь выступить в качестве вооруженных парламентеров и сопроводить «Голубых Лососей» в пиннаринский порт.
В порту с Лагхой намеревался встретиться Хорт оке Тамай лично на предмет выяснения простого, но весьма животрепещущего вопроса: «Где моя возлюбленная племянница, Овель исс Тамай? Где, Шилол вас раздери?» Разумеется, просто так задать этот вопрос Лагхе Коаларе означало услышать презрительный смех в лицо. Но Хорту оке Тамаю обещал всестороннее содействие новый гнорр Свода Равновесия ― персона, конечно, зловещая, но полезная как раз для таких случаев. Ну а в том, что единственный человек во всем Варане, который знает всю подоплеку исчезновения Овель исс Тамай, ― это именно Лагха Коалара, Хорт был совершенно уверен.
Но Лагха оказался чересчур проницательным трусом. Лагха бежал прочь, и поговорить с ним в Пиннарине, где стояли девять десятых Флота Открытого Моря и где высился нерушимым исполином Свод Равновесия, не удалось.
И новый гнорр, и Хорт оке Тамай были уверены, что Лагха изберет местом своего добровольного изгнания именно Перевернутую Лилию. Но вот дальше начинались некоторые разночтения в понимании ситуации.
Новый гнорр знал лишь одно ― чем быстрее он убьет Лагху, тем целее будет, ибо, даже пребывая в опале, прежний гнорр был для него опаснее, чем весь наивный офицерский корпус Свода Равновесия и вообще все оболваненное варанское государство; Здесь предстояла еще большая, очень большая.работа, и Лагха, как это уже случалось некогда в темные века Круга Земель, служил для нее единственным серьезньм препятствием. В свете этого нового гнорра интересовала лишь смерть Лагхи Коалары, а инцестуальные любовные привязанности Сиятельного князя Хорта оке Тамая оставляли его совершенно равнодушным.
Хорт оке Тамай тоже хотел смерти Лагхи, но лишь после того, как он получит в руки здоровую, невредимую и склонную к бурным любовным играм Овель исс Тамай. Несмотря на заверения нового гнорра в том, что Овель будет разыскана и доставлена пред ясны очи Хорта оке Тамая в наилучшем виде, девушка как сквозь землю провалилась. Проведя два дня в томительном ожидании. Хорт оке Тамай принял решение.
В Урталаргис вместо приказа о немедленном уничтожении «Голубых Лососей» наличными средствами пошли куда более нежные распоряжения.
Во-первых, военному наместнику Урталаргиса запрещалось нападать на корабли «Голубого Лосося» впредь до особых указаний, буде таковые вообще последуют.
Во-вторых, тому же военному наместнику Урталаргиса вменялось направиться на Перевернутую Лилию лично и провести переговоры с Лагхой Коаларой, строжайше придерживаясь предписаний Сиятельного князя, которые заняли четыре «писемных» пергамента с двух сторон. Сии предписания были незамедлительно отправлены в Урталаргис посыльным альбатросом Почтового Дома и прибыли туда ровно на полдня раньше, чем корабли «Голубого Лосося» ― на Перевернутую Лилию.
Военный наместник Урталаргиса был человеком в годах. Ему исполнилось пятьдесят два, и звали его Лорм оке Цамма.
Лорм помнил окрашенную заревом пожаров ночь Черного Мятежа, помнил, как корабли «Голубого Лосося» вступали в бой с верткими посудинами смегов едва ли не на рейде Урталаргиса, помнил далекий грохот «молний Аюта» на борту «Зерцала Огня» и пронзительные очи нового гнорра, которого он видел один раз в жизни. Два года назад Лагха Коалара приезжал сюда, на восточную окраину княжества, осматривать местное скромное управление Свода Равновесия, а заодно и древние книгохранилища, где, по мнению военного наместника, не сохранилось ничего, кроме хлопьев сажи и слежавшихся пластов мышиного кала. Гнорр, надо полагать, умел сыскать выгоду и не в таком дерьме.
Лорм оке Цамма, как и большинство военных, трепетал перед Сводом Равновесия, а равно и перед Лагхой Коаларой лично. Но делать было нечего. Получив предписания нового Сиятельного князя, он взял с собой двух проверенных кавалерийских офицеров, приказал подобрать для своей ответственной миссии самый маленький корабль Флота Охраны Побережья ― плоскодонного урода со странным именем «Повелителя Чаек» ― , и поднять над ним четыре черных флага побольше, чтоб его ненароком не утопили задиристые «Голубые Лососи».
Когда все было готово, Лорм оке Цамма надел свой парадный мундир, поцеловал урну с прахом жены (которая выстаивала положенный «траурный месяц» на постаменте в прогулочной галерее его дома), бегло пробежал глазами свое завещание (он трудился над ним с того дня, когда глашатай на площади Урталарги-са возвестил о скоропостижной кончине Сиятельного князя Мидана оке Саггора) и поднялся на борт «Повелителя Чаек», пребывая в полной уверенности, что едва ли ему суждено увидеть родной дом вновь, ибо слишком жестоки и беспощадны мятежники, ведомые опальным гнорром, и слишком нелицеприятна миссия, навязанная ему новым Сиятельным князем.
– Кто? Куда? Гребная барка?! ― гнорр скривился на своего вестового, как баклан на чайку. ― Утопить! Сердце вырву!
Было шесть часов утра. Лагха Коалара, которого уже давно тошнило от кораблей, палуб, запаха просмоленных канатов и засушенных водорослей, которого вообще уже второй день нефигурально тошнило, спросонья частенько грозился вырвать сердце незадачливым слугам. Впрочем, к его чести, подобные угрозы еще никогда не приводились им в исполнение.
– Да, милостивый гиазир, ― вестовой тоже выглядел не лучшим образом (его самого только что поднял с топчана, перегораживающего вход в покои гнорра, начальник ночного дозора), ― но барка идет под черными флагами. Они явно хотят переговоров.
– Перегово-оров, ― зевнул Лагха, потягиваясь. ― Хорошо, Шилол на них на всех. Пусть Саф вышлет две сотни своего мяса для торжественной встречи, прямо к пристани. И пусть взведут свои чахлые стрелометы. «Лососей» поднять по колокольной тревоге, пусть держат ухо востро. Если хоть один меч блеснет на палубе барки или хоть один придурок натянет лук, ― топите мерзавцев, не задумываясь. Все.
Лорм оке Цамма, продрогший за ночь в единственном помещении для отдыха команды, которое было предусмотрено на проклятом «Повелителе Чаек», и напряженный от предощущения переговоров с опаснейшим мятежником за всю варанскую историю, исподлобья вглядывался в приближающиеся с каждым взмахом весел скалы Перевернутой Лилии. Больше всего на свете ему сейчас хотелось проснуться в своей кровати и услышать от слуги, что Перевернутая Лилия канула в бездну вместе с гнорром, «лососями» и проклятым Пиннарином, откуда приходят такие многословные и идиотские указания.
Двое его спутников уже были разбужены и теперь вполголоса спорили, долженствует ли сопровождающим лицам варанского посла находиться при оружии или нет. Один, помоложе, уверял, что да, ибо все чиновники Иноземного Дома имеют право на ношение оружия как в Варане, так и в любой державе Сармонта-зары. Другой, постарше, потирая длинный шрам на щеке (результат опрометчивых скачек вслед за убегающим любовником жены через полудикие сады Урта-ларгиса), резонно возражал, что, дескать, нет, ибо их посольство ― случай совершенно особый, и находиться при оружии пред лицом мятежного гнорра ― непростительное оскорбление. Молодой шепотом заметил, что сам посол, то есть Лорм оке Цамма, пока что препоясан и мечом, и кинжалом, и им, следовательно, даже спорить не о чем.
Лорм оке Цамма давно уже хотел снять оружейную перевязь, обернуться и рявкнуть, чтобы они немедленно заткнулись и сдали свои мечи капитану «Повелителя Чаек». Но тягостная истома склоняла его к полному бездействию.
Их встречали. В крохотной гавани четыре могучих «Голубых Лосося» под колокольный перезвон с характерным стрекотом взводили стрелометы. На берегу ― плотный строй гарнизонных крыс Сафа. Интересно, его гнорр четвертовал сразу или отложил это увеселение до лучших времен? Из-за крепостных башен выглянуло солнце. Лорм вздрогнул.
В этот момент молодой офицер-кавалерист в сердцах рявкнул: «Шилол с вами! Пусть это…»
За спиной Лорма раздался недобрый хрип. Оцепенение молниеносно сошло с военного начальника Ур-таларгиса, сменившись совершенно паническим испугом. Он обернулся. Кавалерист стоял в глупой театральной позе, отведя обнаженный клинок словно бы для удара. В его груди, пройдя между пластинами наборного панциря, торчала стрела. Потом он качнулся, солнце еще раз блеснуло в его клинке, и он упал навзничь. На одном из «Голубых Лососей» взвыла сигнальная труба, и по беззащитному «Повелителю Чаек» ударили тяжелые стрелометы.
Саф пожал плечами. «Если хоть один меч блеснет на палубе барки… топите мерзавцев, не задумываясь». А над чем тут задумываться?
С одежд посла все еще капала вода. Но это не помешало ему начать беседу с Лагхой с протеста по поводу утопления барки.
– Это совершенно неважно, ― Лагха Коалара хрустнул пальцами, скроив брезгливую и вместе с тем глубоко безразличную мину. ― Если бы ваш новый князь действительно хотел мира и моего благоденствия, он бы выслал нам навстречу в Пиннарине не двадцать четыре боевых корабля, а такую вот точно барку, какую мои исполнительные подчиненные пустили на дно. И правильно сделали, между прочим!
Лагхе Коаларе было все равно. С тем же успехом он мог извиниться за ошибку. Главное он понял сразу, когда только вестовой доложил ему о приближении посольства, ― Овель исс Тамай не найдена. Иначе вместо одного «Повелителя Чаек» к Перевернутой Лилии была бы выслана половина Флота Открытого Моря. Овель по-прежнему была там, где он оставил ее, отплывая на Цинор по приказанию тогда еще живого Сиятельного князя.
– Милостивый гиазир, ― в словах Лорма прозвучал совершенно неожиданный для него самого вызов. ― С точки зрения князя и истины, вы ― мятежник, и это оправдывает любые ваши действия. Вы вольны убивать послов, вы вольны творить любые бесчинства, вы вольны рано или поздно сделать свое тело достоянием Жерла Серебряной Чистоты. Поэтому будем считать, что вы действительно все сделали правильно. Но, милостивый гиазир, я послан сюда отнюдь не за этим.
В продолжение всей безумной по своей наглости речи Лорма в Лагхе Коаларе боролись два совершенно противоположных чувства. Первое ― немедленно заколоть мерзавца и второе ― назначить храбреца на должность личного секретаря. Уж больно хорошо был подвешен язык у военного начальника Урталаргиса. Так или иначе, Лагха до времени молчал, предоставив Лорму, щеки которого стремительно покрывались лихорадочным румянцем приговоренного к смерти, заливаться всласть.
– Я располагаю личными указаниями Сиятельного князя Хорта оке Тамая. В соответствии с этими указаниями я должен обсудить с вами вопрос относительно некоего предмета, о местоположении которого вы, с точки зрения Сиятельного князя, превосходно осведомлены. Сиятельный князь полагает, что, выдав ему вышеоговоренный предмет, вы могли бы…
В этот момент Лагха Коалара молниеносно принял решение, предопределившее судьбы Варана на долгие годы вперед. Лагха Коалара вообще все судьбоносные решения принимал в одно мановение и в том был подобен стихиям. В его голове, подобно вспыхнувшему во тьме огню маяка, возник и засветился негасимым светом план, осуществив который, он спасал свою жизнь и возвращал безраздельную власть над Сводом Равновесия. А при неблагоприятном ему грозило только одно ― смерть, обычная смерть, вторая смерть на его теперешней памяти и пятая по непостижимым уразумениям Хуммера.
И тогда Лагха Коалара расхохотался ― неподдельно, искренне и очень громко.
– «Предмет»? «Предмет»?! И каковы же сущностные свойства этого «предмета»?
Лорм оке Цамма обиженно поджал губы.
– Милостивый гиазир, я ― лишь «говорящая раковина». Предписания Сиятельного князя Хорта оке Та-мая не называют ни имени, ни свойств этого предмета. Следовательно, Сиятельный князь с одной стороны полагает, что мне не должно знать о нем ничего, а с другой ― что вы прекрасно поймете его намеки.
– Согласись, Лорм, что наш новый Сиятельный князь ― отъявленный скромник, да? ― подмигнул ему Лагха, продолжая давиться смехом. ― Так знай же, Лорм оке Цамма, что имя этому предмету ― Овель исс Тамай, а сущностные свойства его ― деланая скромность, необузданная похоть и небесная красота.
И, не давая потрясенному Лорму (который был глубоко уверен, что речь идет о каком-то колдовском мече или древнем свитке с рецептом сожжения глади вод и тверди небес) опомниться, опальный гнорр продолжал:
– Знай, Лорм оке Цамма, что Овель исс Тамай была похищена мною лишь потому, что подвернулся очень редкий и удобный случай, который выпадает раз в десятилетие. Преданные мне люди содержат ее в Пинна-рине, в тайнике. Она цела и невредима, и эти слова вошли бы в уши Хорта оке Тамая сладчайшим медом. Но знай также, Лорм оке Цамма, что цена, которую я востребую с Сиятельного князя за ее шелковую кожу, будет очень и очень высока. Первое ― голова гнорра-самозванца. Второе ― полное восстановление моей должности и моих привилегий. И третье ― рука и сердце Овель исс Тамай. В обмен за это Сиятельный князь получит: первое ― преданного слугу князя и истины в моем лице на вечные времена; второе ― мое согласие на его княжеский титул или, иными словами, полное одобрение того гнусного преступления над династией Саггоров, которое свершилось на днях по его воле; и третье ― тело прекрасной Овель исс Тамай.
Лорм оке Цамма не был профессиональным слово-плетом из Иноземного Дома, но страшные и захватывающие события, которые творились в Варане, обострили все его природные добродетели. Покрасневший было до корней волос вместе с началом тирады Лагхи, Лорм довольно быстро успокоился, оценил ситуацию и пришел в ровное расположение духа. Пауза, повисшая после слов гнорра, была недолгой.
– Я понял вас, милостивый гиазир. Мое дело было выяснить, на каких условиях вы согласны предоставить искомый предмет Сиятельному князю, и я это выяснил. Я не имею полномочий принимать или оспаривать ваши условия, от которых, как я прекрасно понимаю, вы не отступитесь ни на иглу. Мне осталось неясным лишь названное вами «третье». Вы просите руку и сердце прекрасной Овель исс Тамай, в то же время вы предлагаете Сиятельному князю ее тело. Я не знаток изысканных иносказаний, к которым прибегают в Пиннарине столичные господа для описания любовных отношений, и потому хотел бы уяснить… .
– Так ты же только «говорящая раковина», а? ― перебил его, хитро подмигивая, Лагха. ― Зачем тебе уяснять? Напишешь Сиятельному князю просто «тело предмета» и, скажем, «руку и сердце предмета». Можешь не сомневаться. Сиятельный князь ― большой знаток «изысканных иносказаний», он все поймет.
– Прошу меня простить, я перешел границы дозволенного, милостивый гиазир, ― отводя глаза, пробормотал Лорм оке Цамма.
– Послушай, Лорм, у тебя жена есть? ― неожиданно спросил Лагха.
– Ее тело две недели как сожгло погребальное пламя.
– А дети?
– Увы, нет, милостивый гиазир.
– А завещание ты составил?
– Да, милостивый гиазир.
Лорм оке Цамма окончательно уверился в том, что теперь гнорр уж точно убьет его.
– И тебя ничто не держит в Урталаргисе, ведь так?
– Ничто, кроме долга перед князем и истиной, милостивый гиазир.
– И сейчас ты уверен в том, что я прикажу убить тебя.
– Да… милостивый гаазир, ― у Лорма оке Цаммы подгибались ноги, но он, совершив над собой усилие, остался стоять, а не упал перед безумным сероглазым монстром на колени и не взмолился о пощаде. Нет, он умрет стоя.
Спустя полчаса единственный почтовый альбатрос, которым располагал гарнизон Перевернутой Лилии, взмахнул мощными крыльями и отбыл на запад. В запечатанном наглухо футляре «крылатый корабль Пел-нов» нес послание, написанное Лагхой Коаларой за скудным завтраком, который напрочь отказывался лезть в его пересохшую глотку. То и дело сглатывая комки, которыми подкатывала к горлу отвратительная горькая изжога, Лагха Коалара писал:
«Приветствую вас, милостивый гиазир Хорт оке Тамай, и спешу принести запоздалые поздравления со столь стремительным взлетом к княжескому престолу, о котором еще совсем недавно вы не могли и помыслить…»
Потом гнорр обстоятельно, но в очень живых красках излагал суть своих условий. Потом почерк его стал расползаться, и распущенные с особой и оттого весьма угрожающей небрежностью мазки красной туши повествовали:
"По существу нюансов выполнения моих условий. Зная, сколь благоволит вам Флот Открытого Моря, я требую при поддержке морской пехоты убить самозваного гнорра. В случае сопротивления разрешаю вам штурм пиннаринского Свода Равновесия.
Пятого числа месяца Гинс в Час Орниделен четыре верных мне корабля «Голубых Лососей» войдут в пин-наринскую гавань. Я буду на борту одного из них и хочу видеть вас на пристани Отдельного морского отряда близ памятной стелы «Голубого Лосося». С вами должны быть неоспоримые доказательства смерти самозваного гнорра. Я со своей стороны обязуюсь привести вам неоспоримые доказательства жизни Овель исс Тамай. Вслед за чем между нами состоятся публичные дружеские переговоры и церемония полного взаимного признания.
В заключение прошу вас принять в расчет три обстоятельства.
Первое. В случае попыток покуситься на мою жизнь Овель исс Тамай будет подвергнута мучительной смерти на ваших глазах. (Это, в общем-то, было правдой, хотя Лагха Коалара где-то в глубине души опасался, что в решительный момент ему не хватит духу подать своим людям роковой знак.)
Второе. В случае прямого вооруженного столкновения у меня достанет сил, чтобы полностью уничтожить Пиннарин точно так же, как мною была сокрушена цитадель смегов Хоц-Дзанг. (В этом гнорр лгал совершенно бесстыдно; самое большее, что он мог устроить сейчас в военном отношении ― скромную кровавую баню в порту, исходом которой стала бы гибель и его самого, и всех его людей.)
Третье. Ваше посольство, устроившее при входе в гавань Перевернутой Лилии оскорбительные демонстрации, уничтожено по не зависящим от меня причинам. Ваш полномочный посол Лорм оке Цамма казнен, чтобы у вас не возникало сомнений в моей решимости отвечать на вероломство ― жестокостью, на кровопролитие ― бойней, на зло ― злом.
Именем князя и истины, гнорр Свода Равновесия
Лагха Коалара.
Остров Перевернутая Лилия, тридцатый день месяца Алидам".
Почтовый альбатрос преодолел первый десяток лиг своего долгого пути, а Лагха Коалара, чувствуя полнейший упадок сил, с едва слышным стоном, сочащимся сквозь его намертво сжатые зубы, катался по полу своих апартаментов, пытаясь унять дикую боль, буравом входящую в недра его мозга. Никогда ничего подобного с гнорром не случалось. И он впервые чувствовал себя столь бессильным. О если бы Хорт оке Тамай видел его сейчас! Как бы он смеялся над бескомпромиссными, лязгающими сталью строками его ультимативного послания!
Лагха все-таки дал волю рвущимся наружу стонам и изо всей силы обрушил на пол свои небольшие, но немыслимо сильные кулаки.
А в это время бывший военный управитель Урта-ларгиса Лорм оке Цамма пил с Сафом подогретое сухое вино и вполголоса обсуждал свое удивительное положение. Мертвый для внешнего мира, он был вполне жив и весел.
– Но как эти «лососи» сегодня врезали по нашей барке! ― весело скалясь, мотал головой Лорм оке Цамма. ― Как врезали, шилолово отродье!
И Лорм оке Цамма изо всей силы обрушил на стол свои большие, но сравнительно вялые кулаки.
Глава шестнадцатая ЗНАХАРЬ
Казармы спали. «Лососи» спали. Не спал только Альсим. Выиграв у Эгина в кости три золотых (которых, впрочем, ему никто не собирался отдавать), он, удовлетворенный и немного грустный, в одних штанах сидел у окна и листал отобранный у младшего по чину трактат с аппетитным названием «О правильных способах метания алустральского криса с пламевидньш клинком и о неправильных способах того же вышеуказанного действия».
Тема не слишком занимала его, а потому он рад был отвлечься, тем более что способ представился ― по коридору, топоча и спотыкаясь, неслись двое, явно из числа солдат гарнизона Перевернутой Лилии. Только они способны бегать столь неуклюже. Они спешили наверх ― туда, где располагались спальные покои гнорра. Впрочем, клопов там было ничуть не меньше, чем в остальных покоях.
Когда среди ночи кто-то бегает по коридорам ― это верный признак того, что происходит что-то важное и интересное, хотя и не предназначенное для всеобщих глаз и ушей. Иначе били бы тревогу. Альсим бросил взгляд на Эгина, распустившего пьяные слюни по всей подушке, и на цыпочках подошел к окну. Раздвинул занавеси. Пересчитал корабли на пристани. Их стало ровно на один больше. По силуэту ― фелюга смегов.
– Так я и думал, ― вслух сказал Альсим. ― Это вонючие смеги. Приехали прощения просить!
Но не было никого, кто смог бы оценить непритязательную шутку аррума. Эгин спал, посвятив и этот день пьянству во славу ее сиятельства скуки.
Ни одного смега на корабле не было и в помине. Команду его составляли «Голубые Лососи», каким-то чудом уцелевшие после Хоц-Дзанга. А главной персоной на корабле был…
«Да это же наш новый, то есть наш бывший Знахарь, Хуммер его раздери!» ― вскричал в сердцах Аль-сим, когда, прильнув к дверной щели, его взгляд выхватил из темноты мальчишескую фигуру, в сопровождении четырех рах-саваннов двигающуюся в покои гнорра.
И Альсим не обознался.
– Шотор?
– Точно-точно, я. Привет, красавчик, ― Знахарь был, как всегда, нагл, задирист и по-особому, по-своему жизнерадостен.
Лагха, увенчавший прошедшие дни не одной малой и большой победой, выглядел, однако, ужасно. Он попробовал подняться со своего излюбленного кресла навстречу Знахарю, но… сел, не удержавшись на ногах.
– Отошли своих долбодятлов, и побыстрее, ― увидев такое дело, добавил Знахарь, нехотя указывая на конвоировавших его рах-саваннов.
– Вы свободны! ― твердым, но тихим голосом сказал рах-саваннам Лагха.
Повинуясь приказу, те оставили гнорра и Знахаря в одиночестве, мысленно пожав плечами. И еще раз пожав плечами уже за дверью. Все-таки очень странные вещи творятся в последнее время. Знахарь зовет самого гнорра «красавчиком», а их ― «долбодятлами», хотя его самого ― изменника и одного из инициаторов заговора против князя и истины ― его, шестнадцатилетнего мальчишку, наглеца и наверняка ведьмака чистейшей воды и все такое прочее, давно пора бы отправить прямиком в самое Жерло Серебряной Чистоты.
– Спасибо, что пришел, ― выдавил из себя Лагха, умоляюще глядя на Знахаря.
– Я пришел не за тем, чтобы лечить тебя, Кальт, ― хмыкнул Знахарь.
– А я и не прошу тебя, мерзавец, ― зло прошипел Лагха и отвернулся, весьма справедливо сочтя последнюю фразу Знахаря плевком в лицо.
– Хоть я все равно полечу тебя. Пли этим вечером наступит последний закат солнца, который доведется видеть тебе собственными глазами. В этой жизни, разумеется.
– Ладно, Шотор, извини, ― бросил Лагха. ― Я за-был, что ты все такой же хам, хоть ругаться стал меньше.
– Хотя ты, будь ты здоров, с радостью убил бы меня за то, что мы с Дотанагелой учудили в Своде и на Хоц-Дзанге. А я ― нет. Я буду тебя лечить. Вот в чем разница между людьми и дионагганами.
– Подумаешь, благородный, ― махнул рукой Лагха. ― «Дионагган», слов-то каких набрался! Да хуша-чина ты! Хушак! Помню я вас. Золотые сердца! Шестьсот лет милосердия!
Если бы удаленным за дверь рах-саваннам довелось присутствовать при этом, они, пожалуй, еще неделю не оправились бы от удивления. Ибо их гаюрр, обессиленный и уже не бледный, но почти зеленый, сидел, скрючившись, в своем кресле и заливался беззаботным смехом, тыча пальцем в Знахаря, на лице которого играла немного озорная и очень усталая улыбка. Улыбка человека? Нет, как это гнорр его там назвал… ах, да ― хушака!
– Ладно. Будешь ржать, когда выздоровеешь, ― вмиг посерьезнев, сказал Знахарь и положил одну ладонь на затылок Лагхи, а другую ему на грудь. А после сосредоточенно закатил глаза в потолок. ― А пока слушай сюда. У тебя в мозгу красная пиявка величиной с указательный палец.
– Я чувствую, Шотор, ― простонал Лагха.
– Кто-то пустил ее тебе, извиняюсь, в ухо два дня назад. Ты уже и так прожил довольно долго. Вообще-то с такой животинкой в голове и ночи не пролежать. Кто же этот молодец?
– Да кто угодно, ― Лагха закрыл глаза. ― Врагов у меня хоть задницей ешь, ― отмахнулся Лагха, отчего-то перейдя в излюбленную Знахарем манеру выражаться.
– Ладно, скоро узнаем наверняка. Но имей в виду, на такую пиявку у большинства твоих врагов кишка тонка. Так что ты думай. Не догадаешься ― будет сюрприз.
– Ты можешь вылечить?
– Да, ― переходя к лечению, Знахарь понемногу переставал паясничать. Сменил одну маску на другую. ― Но в качестве платы за лечение ты должен пообещать мне две пустячные вещи.
– Говори! ― похоже, Лагха был согласен на все или почти на все. ― Знаю твои пустячные вещи.
– Обещай, что ты не будешь удерживать меня здесь и препятствовать моему возвращению туда, откуда я пришел.
– Обещаю, ― вздохнул с облегчением Лагха. ― А вторую?
– Вторая ― еще проще. Тот белобрысый рах-са-ванн по имени Эгин, которого ты увез из Хоц-Дзанга. Эгин, помнишь?
С минуту Лагха молчал, усиленно соображая.
– Ах, Эгин… ну, помню, и что? ― он с силой выдохнул, как будто это могло как-то остудить ту чудовищную головную боль, что сверлила ему виски.
– Пообещай, что ты отпустишь его на все четыре стороны, дашь ему лодку и вернешь все, что отнял, ― сказал Знахарь, зажигая одну свечу от другой. ― Все, до последней запонки.
– Это проще простого. Пусть катится. А с чего ты взял, что ему куда-то не терпится?
– У меня есть подозрение, что ему до зарезу хочется в Пиннарин! ― сосредоточенно сказал Знахарь, подпаливая третью свечу от второй.
– Ах, в Пиннарин! Так тогда тем более пусть валит. Я ему даже поручение дам, если ты, радетель за рах-са-ваннов, не возражаешь.
– Да мне вообще все это до третьего уха, ― легко и искренне отвечал Шотор. ― Я с ним ехать не собираюсь. У него своя дорожка. И своя ма-аленькая звездочка во лбу. Так что хоть три поручения. Ну так что, лечиться будем, милостивый гиазир гнорр, или как?
Дюжина тонких восковых свеч и четыре масляные лампы освещали покои гнорра. Две свечи были в руках Лагхи. Две ― в руках Знахаря. Остальные составляли загадочную фигуру у ног хворого. Чем-то она напоминала петлю виселицы, классический скользящий узел которой только-только начал затягиваться. Масляные лампы просто давали свет и никакого отношения к делу не имели.
Раздевшись до пояса, Шотор с широко раскрытыми и вследствие этого невообразимо огромными, словно сливы, глазами, стоял по левую руку от гнорра и вещал:
– А сейчас сосредоточься. Ты видишь себя, сидящего в кресле, совершенно голого, изможденного и довольно-таки вонючего. Видишь?
– Нет, ― удрученно сказал гнорр.
– Как это нет? Ты все-таки видишь. Вначале ты видишь такое, как бы это сказать, оранжевое или, скорее, малиновое марево, вроде огненного, а вот позади него сидишь ты, с двумя свечами в руках. Ты видишь себя как бы со стороны. Ну что?
– Не вижу. Ты что-то не то говоришь, Шотор! Я ничего такого не вижу, ― обреченно и сухо сказал Лагха, не открывая глаз.
Знахарь, до этого момента не терявший самообладания, вдруг завелся, словно колдун Северной Лезы, одержимый духами. Видимо, сам он был о процедуре извлечения пиявки вовсе не столь жизнеутверждающего мнения, какое пытался внушить Лагхе.
– Ты что, Кальт, совсем здесь оскотинился в своем Своде?! Что, стал верить в покровы косной вещности, чтить пустую философию и презирать магию, как это у многих кретинов здесь принято? ― ревел в ярости Знахарь. ― Кальт! Очнись, ведь тебе когда-то было по силам найти Золотой Цветок! Ведь ты творил такое, что большинству смертных не пригрезится и в самых смелых мечтаниях! Кальт, Хуммер тебя подери! Да ведь я мог бы оставить тебя подыхать, мог бы спокойно дождаться завтрашнего утра и так же спокойно, лицемерно всплакнуть над твоим бездыханным телом! Бросить щепотку черного янтаря в курильницу у изголовья и как ни в чем не бывало обсуждать вместе с твоими недоделанными «лососями» гениальную и безвременно угасшую персону и злословить по поводу того, что очистительные обряды над твоим прекрасным телом проводятся без должного тщания! Я мог бы! Но я этого не сделал! Я пришел, чтобы тебе помочь. И не столько ради тебя или себя, но ради этого ненормального Лос-кира, которому из всех, кто сейчас топчет эту землю, только ты и небезразличен. Лагха, да неужели ты не можешь увидеть такой ерунды? Она же перед твоими глазами. Да присмотрись ты!
Сопровождая свои возмущенные тирады оживленнейшей жестикуляцией. Знахарь нервно расхаживал по комнате и ревел, словно раненый тюлень. Хватался за голову, бился в истерике, орал, словно буйнопомешан-ный. Он, Шотор, видел, как догорают свечи, и знал, что, когда они догорят, шансов на то, чтобы выудить нечисть из мозга гнорра, уже не будет.
Лагха не отвечал ему ― расплавленный воск заливал его унизанные перстнями пальцы, его сброшенные на пол одежды, а по его исхудавшим и пожелтевшим скулам, словно бы вторя воску, катились слезы. Возможно, ему было лестно, что его здравие так небезразлично Знахарю, коль скоро он так разоряется. Но едва ли он мог осознать это, ибо в первую очередь ему было больно.
– Ну что, гнорр, раз у тебя такие трудности со зрением, приготовься отходить в Святую Землю Грем, если туда таких, как ты, еще принимают… ― потусторонний сарказм Знахаря был последним средством, которое тот решил испробовать на Лагхе.
Как вдруг Лагха, не открывая глаз, отнял затылок от спинки кресла и, отбросив прочь свечи, вцепился в резные подлокотники кресла. Сразу вслед за этим он прочистил горло и необыкновенно хриплым, низким, не своим голосом сказал:
– Свечи догорают. Быстрее. Что там? Знахарь просиял. Теперь нельзя было терять ни минуты. И истерическое буйство оставило его в тот же миг.
– Теперь подойди к себе, сидящему, и присмотрись. Ты должен видеть свое тело, как если бы оно было сделано из желтого стекла.
– Ну, пусть из стекла, ― откликнулся Лагха после долгой паузы.
– Теперь сосредоточься на своей голове. Сделай так, чтобы твои волосы были прозрачны, словно они тоже сделаны из стекла, только черного. Ну?
– Ладно… что дальше?
– И последнее. Пиявку видишь? Она лежит сейчас, свернувшись, внутри твоего желтого и черного стекла. Ее красное тело образует ту же фигуру, какую образуют свечи у твоих ног.
– Я вижу, Шотор, вижу, ― торопливо отвечал Лагха.
– И теперь схвати ее двумя пальцами, словно бы это был червяк, а твоя голова была сосудом с широченным горлышком. Схвати ее и брось гадину внутрь петли. Давай. Не бойся! Бросай. Да бросай же, недоносок, скорее!
…Все окончилось очень быстро. Во внешнем, видимом всеми мире не произошло ровным счетом никаких изменений.
Почти никаких. Свечи выели последние мерки воска и стали по одной гаснуть. Глаза гнорра были все еще закрыты. Он сидел в кресле и часто-часто дышал. Губы его были белы, а из ноздрей сочилась кровь. Правда, это продолжалось недолго. На грудь Лагхи упали три алые капли, и кровотечение прекратилось. Знахарь с облегчением вздохнул и с видом надзирателя за каторжными работами встал возле гаснущей петли из свечей, скрестив руки на груди.
– Ага, а вот и она! ― сказал себе и отчасти Лагхе Знахарь, разумея не то крохотную тупомордую змейку, не то пиявку, обугленную и скрюченную, совсем, казалось бы, обыкновенную. Пиявку, несколько мгновений назад возникшую из пустоты у самых раззолоченных носков туфель гнорра.
Наконец все свечи до единой погасли. Впрочем, благодаря масляньш лампам в покоях гнорра и без того было довольно светло.
– Хочешь знать, кто тебе подложил такую свинью? ― ехидно бросил Знахарь, окончив процедуру брезгливого осмотра, чем-то сходную с доморощенными играми харренских естествоиспытателей.
– Хочу, Шотор, ― отвечал Лагха, с наслаждением вдыхая полной грудью тлетворный дух своей собственной опочивальни.
– Тот замечательный рах-саванн, который тебе так понравился в Хоц-Дзанге. Такой улыбчивый! ― Знахарь подцепил обугленное тельце, гада кончиком кочерги и вышвырнул в окно.
– Эгин?
– Мимо, Лагха. Мимо. У Эгина на такие дела не встает. Но в одном ты прав ― этот твой доброжелатель тоже из Опоры Вещей. И я его прекрасно знаю. Ну что? Или пиявка у тебя вместе со здоровьем высосала последние мозги? Ну что, сдаешься?
– Ладно, сдаюсь, ― развел руками Лагха и… без былой легкости, но все же совершенно свободно поднялся на ноги и стал растирать затекшую шею.
– Пиявку подсадил тебе Иланаф, ― бросил Знахарь и испытующе уставился на гнорра, ища одобрения, удивления и благодарности. Или хотя бы чего-то одного. ― Вначале он отправил куда надо Дотанагелу, а потом решил и тебя отправить туда же.
Глаза Лагхи сверкнули бешенством. Перед его мысленным взором проносились сцены штурма Хоц-Дзан-га. Крепость, на глазах обращающаяся в громыхающие руины, кровавое месиво человеческих и собачьих тел. И бодрый, хотя и окровавленный Иланаф, с мечом своего бывшего союзника и командира. Сияющий, довольный своим предательством. Тем, что выслужился перед гнорром. Разговор с Иланафом на палубе «Венца Небес». Его милые шутки. Как это у него выходило прикидываться таким бесхребетным и беспринципным жизнелюбом. Таким верным псом, заслуживающим полного доверия. Лагха вспомнил, как в день, когда они отвернули свои корабли от Пиннарина, он имел с Иланафом короткий разговор о превратностях судьбы. Как, выходя из капитанского зала, он зацепился краем плаща за случайный крюк и Иланаф вкупе с уместными шутками пришел ему на помощь…
– М-да. Кто бы мог подумать, что этой суке достанет мочи поставить меня на грань между бытием и раз-воплощениему ― прошипел наконец Лагха.
– Знаешь, ― с сомнением сказал Шотор, ― собственно, этой суке достало мочи только на то, чтобы подсадить тебе эту гадину. А вот создавал, заклинал и лелеял эту тварь совсем не он. Кто ― не знаю. Тут даже я бессилен…
– Но и этого достаточно для того, чтобы с этой минуты считать аррума Опоры Вещей Иланафа покойником, ― бесстрастно и твердо сказал Лагха.
– Значит, так и будем считать. ― Знахарь, потерявший интерес к теме, заторопился к двери. ― Я пойду поговорю с Эгином и заодно распоряжусь от твоего имени насчет его пожитков.
И, послав воздушный поцелуй в сторону гнорра, Шотор добавил:
– Эх, красавчик, наслаждайся здоровьем! Я еще зайду попрощаться. Впрочем, зная вас, людей, уверен, что расстаемся мы ненадолго.
Альсим уже потушил светильник, когда в дверь постучали. Пьяный и в силу этого особенно легкомысленный Эгин беззаботно перевалился с боку на бок и сладко засопел. Альсим, нагой и сонный, на цыпочках подкрался к двери, льстя себе тем, что его передвижения наверняка останутся незамеченными. Он почти не сомневался, что ночной гость ― это один из соседей, тот самый хозяин трактата о метании криса с пламенеющим клинком, которому не терпится поделиться свежими новостями о прибытии смегов. «Это Знахарь, открывай!» ― прошептали из-за двери, и Альсим понял, что делиться свежими новостями придется ему. Если, конечно, не будет указаний сверху ничем ни с кем не делиться…
– Мне нужен Эгин, ― тихо сказал Знахарь, ввалившийся в комнату, не дожидаясь приглашений, которые застряли на кончике сонного языка Альсима.
– Он, изволите видеть, спит…
– Понятно, ― сказал Знахарь, водружая лампу на стол, заставленный чашками, кувшинами и тарелками с ореховой скорлупой. ― Значит, так, аррум. Ты сейчас надеваешь штаны и идешь на пристань считать корабли. Возвращаешься к рассвету. О результатах подсчетов можешь не докладывать. Все.
Альсим опрометью бросился к своей одежде, беспорядочной кучей громоздящейся у изножья его кровати, и, бросая на Знахаря тревожные взгляды, стал одеваться, не попадая всюду, куда можно не попадать, и застегивая все пряжки с третьего раза. Кто бы мог подумать, что этот Эгин окажется настолько важной птицей, что сам Знахарь Свода станет навещать его прямиком после визита к гнорру…
А в это время Знахарь распоряжался в их комнатушке весьма по-свойски. Первым делом бросил на пол холщовый мешочек из тех, какие в ходу в Опоре Вещей. Одним резким движением руки он смел со стола все, что на нем было. Затем разыскал в углу большой кувшин с водой для умывания и, встав над Эгином, принялся лить воду на голову, шею, грудь рах-са-ванна. Тонкой ледяной струйкой.
«Ну что твоя заботливая мамаша», ― хмыкнул Альсим и, чтобы не разозлить ненароком Знахаря, осторожно открыл дверь, протискиваясь в нее бочком, бочком. Когда пузатый кувшин опустел. Знахарь уселся на край эгиновской кровати и…
Это было последним, что случилось увидеть Альси-му перед тем, как провести ночь в промозглой сырости с видом на окрестности Перевернутой Лилии.
– …а кроме того, я просто… ну, чую, что ли, что ты, Эгин, ждешь не дождешься поскорее смыться с Лилии и отправиться в Пиннарин, ― довольно осклабившись, продолжал Знахарь.
– Послушай, а с чего это ты чуешь, Шотор? Может, я бы и рад унести подальше ноги с этой проклятой Лилии, но вот в Пиннарин меня совсем не тянет, ― с трудом ворочая языком, но на удивление хорошо соображая, отвечал Эгин, дыша в лицо Знахарю перегаром.
– Мое, так сказать, чувство, ― затянул Знахарь, ― зиждется на кое-каких подарках, которые я тебе принес прямо в стойло, ― с этими словами он наклонился и поднял с пола холщовый мешочек, который Эгин, прослуживший верой и правдой доблестной Опоре Вещей не один год, узнал сразу же.
Упиваясь удивлением Эгина, Шотор стал выкладывать на стол содержимое мешка.
Первыми, сверкнув синевой сапфиров, на свет выбрались серьги Овель. Целые и невредимые. Затем ― столовые кинжалы, подарок «одной дамы», которая, в отличие от большинства прочих дам Круга Земель, правит разбойным и бесшабашным народом, ведает секретом «молний Аюта» и при этом очень недурна собой. И, наконец. Знахарь выложил на стол броскую золотую штуковину, которую ранее Эгину никогда видеть не доводилось. Хотя нет, он уже видел ее однажды, в каюте Арда оке Лайна, видел не в живых, но на рисунке, затерявшемся среди всякой похабщины на предмет Обращений, Грютских Скачек, Задних Бесед и тому подобного. Это была голова Скорпиона. Убийцы отраженных.
– Эта дрянь ― подарок Самеллана, ― поспешил объясниться Знахарь, разглядывая зловещую скорпио-нью голову с глазами-опалами. ― Когда он узнал о моем несгибаемом намерении навестить Перевернутую Лилию, а вместе с ней тебя и нашего болезного гнорра, он просто навязал мне ее. Правда, еще раньше ко мне с ножом к горлу пристал доблестный свел народа сме-гов, просто умоляя отправить тебя в Пиннарин, обнажив тем самым свою капризную бабью сущность. Так ты что, недоволен?
– Скорее доволен… ну конечно же, я доволен… ― задумчиво сказал Эгин, принимая голову из рук Шото-ра. ― А откуда она у Самеллана?
– Ее он прикарманил еще на «Сумеречном Призраке», ― продолжал разглагольствовать Знахарь. ― Раньше она принадлежала Норгвану, к которому, если ты помнишь, Самеллан относился с особым пиететом и, будь его воля, поджарил бы в змеиной крови и растянул бы трапезу голодных собак не на один месяц. Так вот, ты навряд ли помнишь, но, когда мы пошли чесом по каютам, в каюте Норгвана Самеллан обнаружил эту штуку и, побурчав что-то насчет «нечистых талисманов», взял и положил в свой сарнод. Почему он решил теперь сплавить ее тебе ― честное слово, не знаю, но думаю, что это проделки хитроумной Лиг… Хотя все это меня вообще-то не интересует, ― довольно неожиданно сменив интонацию с заинтересованной на равнодушную, заключил Знахарь.
– Раз не интересует, что ты делаешь на Перевернутой Лилии? ― со злой иронией спросил Эгин.
– А это не твоего ума дело, Эгин. Но, будь уверен, я здесь вовсе не для того, чтобы наставлять тебя и читать тебе, похмельная рожа, нотации, ― без обиды, но с некоторой горечью отвечал Шотор.
Как ни странно, Эгин разобрал в словах Шотора ноты неподдельной искренности. Только вот ясности от этого ничуть не прибавилось.
– Спасибо тебе, Шотор, ― рассеянно, но тепло сказал Эгин, тупо пялясь на стол.
Клешни Скорпиона. Ноги Скорпиона. Голова Скорпиона. Что-то у него там еще? Пятое сочленение и… хвост с жалом. Пятое сочленение и хвост с жалом отсутствуют. Отсутствуют? Эгин бросил взгляд в угол комнаты. Там на одёжном крюке висел его поношенный и латаный камзол. А под ним стояли стоптанные сандалии. Сандалии Арда оке Лайна.
«Значит, хвост и жало ждут меня в Пиннарине, куда с такой настойчивостью пытается выпроводить меня Шотор», ― подумалось Эгину.
– Поздравляю тебя, рах-саванн, но это как раз тот случай, когда твои желания совпадают с моими, ― начал Лагха, заговорщически подмигивая Шотору, который скучнел и мрачнел прямо на глазах. ― Но желания гнорра всегда выше всяких желаний рах-саванна. Поэтому лучше бы тебе думать, что ты отправляешься в Пиннарин не потому, что тебе хочется, а потому, что тебе приказал отправиться туда гнорр.
– Полностью с вами согласен, милостивый гиа-зир, ― отвечал Эгин, когда в речи гнорра образовалась подходящая для его служебного писка дырочка.
Лагху было не узнать. От былой слабости теперь не осталось и следа. Он был бодр, вальяжен, красноречив. Эгин, конечно, тут же сообразил, что виной всему этому жизнелюбию Знахарь, и теперь не сомневался в том, что свобода пустословить и вольничать самого Знахаря куплены у гнорра не чем иным, как успешным лечением той странной хвори, что изводила Лагху накануне.
Даже в столь поздний час гнорр был весел и бодр. И даже немного простоват. В его веселости, однако, нет-нет да и проскакивали уже знакомые Эгину интонации, не предвещавшие подчиненным ничего хорошего. (Впрочем, навряд ли Эгину.) А в его простоватости, проявлявшейся в не замеченной за ним доселе манере изъясняться в духе портовой шпаны, Эгин угадывал старание потрафить Знахарю, который только так, кажется, и умел выражаться.
– Я дам тебе шестивесельную лодку и шестерых солдат. Они высадят тебя в диком, но не слишком удаленном от Урталаргиса месте, откуда тебе придется добираться до Пиннарина своими средствами. Но, рах-саванн, имей в виду, что «своими средствами» и «своими ногами» ― это не одно и то же. А сейчас слушай меня. Я дам тебе поручение. Ты должен выполнить его не позже, чем на четвертое утро от сегодняшнего. И я не буду гнорром, а ― ты рах-саванном, если мне нужно будет объяснять тебе сейчас, что будет, если ты задержишься.
– Я не задержусь, ― по-солдафонски твердо сказал Эгин, потому что объяснять ему действительно не нужно было.
– Тогда держи, ― жестом площадного факира Лагха извлек невесть откуда сложенный вчетверо лист бумаги и передал его Эгину.
Эгин с достоинством, хотя и довольно неуверенно, принял листок. Может ли он посмотреть, что там? Ведь конверта нет?
– Читай, любопытный рах-саванн. Читай, если сможешь. Правда, сие послание выполнено тайнописью Дома Пелнов, павшего ни много ни мало, а шестьсот лет тому назад, если ты о таком вообще слышал, ― в своей излюбленной обаятельной манере издевался Лагха, то и дело поглядывая на Шотора, как будто намекая на то, что уж кому-кому, а Знахарю тайнопись исчезнувшего еще при Элиене Дома известна как нельзя лучше.
– Я не любопытен, ― отрезал Эгин, сочтя такое наглое вранье наиболее уместным.
– Это плохо. Потому что я бы на твоем месте узнал, кто адресат этого письма.
– Это как раз то, что я собирался сделать, милостивый гиазир, ― брякнул Эгин.
– Тогда запоминай. Дом Скорняков на набережной Трех Горящих Беседок. Знаешь, где это?
– Разумеется. Неподалеку от порта.
– Все, что ты должен будешь сделать, это зайти в дом и без свидетелей отдать это письмо привратнику. И чем раньше ты это сделаешь, тем лучше.
– Вас понял, милостивый гиазир.
– Я верю, что ты будешь старательным гонцом, Эгин, хотя и сомневаюсь, что во лбу у тебя есть место для голубой звездочки всемогущего. Но я знаю, каким медом подсластить твою дорогу.
Эгин потупился, ожидая какой-нибудь грязной шутки в духе Шотора. Ив целом он не ошибся.
– Дело вот в чем, рах-саванн. ― Лагха перешел на липкий, гадливый шепот. ― Именно в Пиннарине, а не где-то еще судьба подарит тебе шанс свидеться с той плаксивой барышней, что прислала тебе эти уродские крабьи клешни с поддельными синими камнями. И ты будешь последним недоумком, если его упустишь.
– Ладно, Лагха, подвязывай треп. Мне пора, так что давай прощаться, ― вмешался Знахарь, вставая с кушетки, на которой он провел все время разговора. Он был мрачен, словно туча. ― Я сам провожу Эгина, так что будь спокоен.
Лагха, не успевший насладиться реакцией Эгина, был вынужден переключить внимание на Знахаря. Воспользовавшись моментом, Эгин упрятал письмо во внутренний карман. «Подумаешь, протраханная тайнопись протраханного дома Пелнов, ― не унимался его внутренний голос, возмущенный и смущенный вместе со своим хозяином. ― Небось колется за два часа. Чего они там, несчастные варвары, могли понаприду-мывать?» И хотя тратить хотя бы два часа на такое Эгин не собирался, но из чувства противоречия хорохорился про себя. Лишь бы не думать об Овель и о том, что гнорру наверняка известно о них все, что только может быть известно об отношениях между мужчиной и женщиной. Лишь бы сердце не стучало так, будто сейчас выскочит. Когда оно стучит так, нужно думать о чем угодно. Хоть о тайнописи.
– Ну что, Шотор, ― задумчиво начал гнорр. ― По мне, так ты оставался бы лучше здесь.
Лагха казался насмешливым, игривым, но… голос его стал немного сиплым, а медовое течение слов сбивчивым. Могло даже показаться, что голос его… О ТТТи-лол, с каких это пор у гнорров дрожат голоса? И куда это собрался Знахарь? Он что, все еще не расстался с идеей предложить свои способности харренскому со-тинальму? Эгин навострил уши, для отвода глаз занявшись своей перевязью с анекдотичными столовыми кинжалами.
– Знаешь, мне все это смертельно надоело. Это не пустая бубнежка, как водится у поэтов. Мне действительно смертельно надоело, ― Знахарь приставил к кадыку сложенные козой указательный и средний пальцы, изображая вилы, прижимающие его горло к стене, вилы, мешающие дышать и говорить. И для пущей убедительности захрипел: ― Вот как мне все это встало. Если бы не Дотанагела, если бы не его фокусы, если бы не его наглость, никогда не видать бы вашей сраной лавочке дионаггана у себя на службе…
– Да, он оказался крепким хреном.
– Но теперь Дотанагела сделал нам ручкой. И нету больше мерзавца, который способен держать меня тут на цепи. Впрочем, есть ты. Но насколько я помню, ты не из тех, кто любит пускать по ветру пепел и клочья собственных обещаний.
– Нет, я не буду тебя держать. Прощай, Шотор, не в первый раз прощай.
– Но уж точно не в последний, ― и с этими словами брюзга Знахарь обнял за плечи гнорра, а тот… тот сделал то же самое. Что-что, а вот такое Эгин видел в Своде в первый раз в жизни. Это дружеское объятие было еще более загадочным и неожиданным, чем сам разговор, обрывки которого достигли любознательных ушей Эгина.
– Пошли, дружок, а то глаза на лоб вылезут, ― бросил за спину Знахарь и скрылся в темноте коридора.
– Это к тебе, рахсаванн, ― холодно сказал гнорр, указывая Эгину на дверь.
– Вообще-то на пристани мне делать совершенно нечего, Эгин, но я провожу тебя, ― сказал Знахарь, когда они вышли во внутренний двор крепости. ― Не знаю, почему тебя невзлюбил гнорр, но мне ты всегда нравился, ― добавил он довольно-таки невпопад.
– Спасибо, Шотор, ― Эгин бросил взгляд на казарму, где провел несколько последних суток. ― А раз так, могу я тебя спросить, а?
– Можешь, спрашивай. От меня кусок не отвалится, ― отвечал Шотор, свистом вызывая караульных, охранявших выход на пристань.
– Ты покидаешь ряды служителей князя и истины? ― получилось на редкость коряво, и Эгин улыбнулся.
– А ты что, еще не понял?
– Я-то понял. Но скажи на милость, как тебе это удалось? Я, может, тоже последовал бы твоему примеру, да ведь ты, наверное, знаешь, что людям, вступившим в Свод, не выйти из него раньше времени, отмеренного Сводом.
– Вот именно, что людям, придурок, ― подавив зевок, вставил Знахарь.
– А ты что ― не человек, что ли? Или не придурок, а? ― огрызнулся Эгин, которого хамство Шотора то забавляло, то приводило в бешенство.
– Вот именно, что не человек. А придурок, так это пожалуйста. Хоть тысячу раз придурок, ― Знахарь высунул язык, приставил уши и состроил рожу, которую при свете дня Эгин счел бы уморительной. Но той лунной ночью она показалась ему отталкивающей и жуткой. Да, Шотор определенно не был человеком, хотя иногда им казался.
– Я ― дионагган, или, как выражаются отдельные козлы вроде нашего любимого гнорра, хушак. Дотана-гела, да будет его посмертие легким, извлек меня из небытия где-то около месяца тому назад, воспользовавшись одной темной формулой из истинной «Книга Урайна». Я служил Дотанагеле верой и правдой и иначе не мог ― благодаря «Книге Урайна» старикан имел надо мной почти безграничную власть. Но теперь он изволил протянуть ножки, а значит, я тоже могу валить к себе со спокойной совестью.
– К себе ― это куда, а, Шотор? ― когда страх отпустил, Эгина начал жечь страстный интерес, ибо он понимал, что если не узнает ответа на свой вопрос здесь и сейчас, на Перевернутой Лилии, пока Шотор в хорошем расположении духа, пока он разговорчив и празден, то едва ли узнает его когда-либо в будущем. Не гнорр же будет ему рассказывать, в самом деле.
– Ты ― невежественный осел, Эгин, ― беззлобно, но устало сказал Знахарь. ― Потому что всякий просвещенный муж, рожденный в Варане, должен знать, что «туда» ― это значит по ту сторону каменных зеркал, какими когда-то давно была заставлена Воздушная Обсерватория вот на этой самой долбаной Перевернутой Лилии. Можешь считать, что Знахарь собирается на дно морское, ибо для тебя что бронзовые зеркала в княжеской купальне, что каменные зеркала Обсерватории ― одна и та же малина.
– Выходит, твоя прогулка «на дно морское» чем-то сродни самоубийству Элиена Ласарского в памятный год Тайа-Ароан? ― Эгину не хотелось, чтобы Знахарь окончательно закрепил за ним звание невежественного осла.
– При чем тут звезднорожденные?! ― возмутился Знахарь, насупившись. ― Ты окончательно сбрендил, Эгин. Читал бы лучше всякую запрещенную муть про Крайние Обращения и не портил бы аппетита «Геда-ми» про всяких там… Пойми, Эгин, я не дурак, лезущий в петлю. Можешь считать, что я возвращаюсь домой.
– Тогда счастливого возвращения! ― сдался Эган. Это не очень лестно для самолюбия ― проигрывать в словесных перепалках безусым пятнадцатилетним мальчишкам. Но если они не мальчишки, а хушаки, то можно и утереться. Утерся ― и пошел дальше.
Хотя идти дальше в буквальном смысле было некуда. За оживленной беседой на темы, сугубо запрещенные всеми уложениями Свода, они дошли до самого края причала.
Шестивесельная лодка, обещанная Лагхой, качалась на волнах, а солдаты ― квелые, сонные, но исключительно мордатые и плечистые ― уже заняли свои места на лавках.
Знахарь рассматривал что-то в черной морской дали и молчал. Молчал и Эгин. Кто-то должен первым сказать что-то вроде «Ну вот, пора!». К счастью, один из солдат, набравшись храбрости, крикнул им: «Мы готовы, милостивые гиазиры!» Как будто все дело было в них, и только них.
– Ну ладно, вали. Люби и властвуй! ― сказал Знахарь, как некогда, казалось, давным-давно, еще в прошлой жизни, когда он лечил новоиспеченного рах-са-ванна Опоры Вещей Эгина от буйства Внутренней Секиры. Сказал и фамильярно хлопнул Эгина по плечу.
И, дабы подать Эгину пример, развернулся к нему спиной и зашагал прочь. Потерянный и все еще пьяный (о Шилол!) Эгин, словно зачарованный, смотрел ему вслед. Хушаку нужно было что-то сказать. Но вдруг Знахарь резко остановился и пошел в обратном направлении к Эгину.
– Постой, совсем забыл. У меня для тебя тут жетон припасен. А то, боюсь, сделают из тебя в Пиннарине чучело на потребу маленьким воспитанникам Свода. Вот, держи.
С реакцией у Эгина всегда был порядок. Серебристая молния, брошенная Шотором, сверкнула в темноте и приземлилась на раскрытую ладонь Эгина. Это была Внешняя Секира аррума.
– Будет отзываться на тебя по всем правилам. Это уж ― верь моему слову.
Эгин рассеянно рассматривал подарок. Все как надо. Отверстия, глаза на секире Свода, должность.
– Ты мне всегда нравился, Шотор, ― сказал Эгин в спину удаляющемуся Знахарю.
– Ну, без соплей, ― бросил тот через плечо и ускорил шаг.
Когда его фигура слилась со скалами, льнущими к пристани, Эгин скомандовал солдатам отплывать. Те, разумеется, повиновались. И очень скоро Перевернутая Лилия осталась позади них, залитая лунным сиянием.
А промерзший до костей, злой, мятый и похмельный Альсим стоял у другого края пристани и следил за тем, как челн, везущий его новообретенного и новоутраченного денщика, ползет в сторону Урталаргиса по лунной дорожке.
Глава семнадцатая ПИННАРИН
Когда забрезжил рассвет, Эгин был уже на полпути к вершине скалы, за хребтом которой вился ленивой змеей тракт, соединяющий столицу и Урталаргис.
Он сел на плоский камень, чтобы отдышаться, и обернулся в сторону моря. Лодку с солдатами едва было видно. Молодцы, несмотря на усталость, гребли что было мочи.
Во-первых, потому, что хотели покинуть прибрежные воды побыстрее, ибо были по правилам изменниками, а значит, любой военный корабль имел все полномочия доставить их в ближайший порт для расправы.
Во-вторых, потому, что ни у кого из них не было жетона аррума, которым можно было бы козырнуть, случись такая неприятность.
А в-третьих, потому, что Лагха в случае счастливого возвращения обещал им премного всего хорошего, ради чего, несомненно, имело смысл попотеть, даже из последних сил.
Кстати, о жетонах… Эгин извлек из своего сарнода подарок Знахаря, который не смог толком рассмотреть впотьмах. Перед тем как совать жетон под нос всем и каждому, хорошо бы узнать, как его владельца теперь зовут и в какой Опоре он, ненароком произведенный в аррумы, служит.
Сорок Отметин Огня отозвались ему положенными голубыми искорками, в который раз подтверждая несусветную даже для видавшего виды Свода искушенность Шотора в магических искусствах. Но самое удивительное было впереди. «Иланаф, аррум Опоры Вещей» ― вот что было начертано на Секире…
Эгин не знал, радоваться ему или печалиться. Если Секира отзывается на него, Эгина, значит, у Иланафа не может быть такой же. Если Иланафа произвели в аррумы после его участия в обороне Хоц-Дзанга, значит, ему удалось как-то отличиться именно во время обороны. А как, интересно, может отличиться солдат вражеского лагеря перед войсководителем, раздающим должности? Только предательством, милостивые гиа-зиры. Только крупным предательством.
Теперь многие несуразности, связанные с Илана-фом, становились на свои вполне объяснимые места. И то, что за все время, проведенное Эгином в обществе союзников гнорра, он видел Иланафа всего три раза и притом мельком. И то, что когда Эгина только-только освободили из-под стражи, Иланаф уже преспокойно тешился свежим воздухом на палубе «Венца Небес», и многое другое…
Но один вопрос по-прежнему висел в воздухе. А именно: если Иланаф такой же изменник, как и все остальные, то зачем Знахарю понадобилось передавать Эгину именно его жетон? С таким же успехом Эгин мог ехать в Пиннарин со своим собственным. А в чем разница? Хоть у аррума и втрое больше полномочий, чем у рах-саванна, но у преступного аррума их ровно столько же, сколько и у преступного рах-саванна. Но Знахарь не похож на кретина. Совсем не похож. Он знал, что давал Эгину. Значит, разница есть. А в каком случае есть эта разница? Только в случае, если про Иланафа известно, что он является доверенным лицом новых сильнейших Варана. То есть нового князя и нового гнорра.
Разве кто-нибудь в Варане станет чинить препятствия арруму, который работает на нового главу Свода Равновесия? Нет, нет и нет.
«В Своде нет такого белого, что одновременно не было бы черным. В Своде нет такого Солнца, которое не могло бы становиться Луной. А потому верь только Своду и познавай только Свод. Ибо все остальное недостойно полного доверия и непознаваемо» ― вот чему учил его наставник во дни иные.
Видно, плохо учил. Ибо удивление и горечь, которые овладели всем существом Эгина, играющего жетоном Иланафа, свидетельствовали именно об этом.
Добираться до столицы, которая вместе со всем остальным Вараном находится в пучинах неразберихи смутного времени, ― отличное испытание для офицера Свода.
«Но „своими средствами“ и „своими ногами“ ― это не одно и то же», ― говорил Эгину гнорр. И он, конечно же, был прав. Ибо каждая минута, которую Эгин тратил впустую, меряя шагами совершенно пустынный тракт, ставила под вопрос успех предприятия, и в первую очередь ― жизнь самого Эгина. Не более чем через четыре дня он должен уже трясти колокольчик привратника у Дома Скорняков, который находится в Пиннарине. Причем лелея в кармане письмо гнорра. А пока… пока он лишь в виду колодца на окраине Ур-таларгиса.
Это в первую очередь означало, что ему до зарезу нужна лошадь. Но где ее взять, если на тракте он не встретил пока ни одной собаки, не говоря уже о лошадях?
У колодца Эгин позволил себе небольшую передышку. Он набрал талой воды ― а только такая и была во всех колодцах по обочинам тракта, проложенного через седые скалы ― и отошел в сторону помочиться, как вдруг до его слуха донесся стук копыт.
Напустив на себя самый наглый и в то же время самый непринужденный вид, Эгин присел на край чаши с водой.
«Трое или четверо?» ― вот что было интересно Эгину, напрягавшему слух и даже обоняние в безуспешных попытках понять, у кого ему придется покупать, выменивать или попросту отнимать четвероногое средство передвижения.
Когда из-за громады серого, обросшего лишайником валуна показались трое жаждущих водицы, он вздохнул с облегчением. И напрасно.
– День добрый, милостивые гиазиры, ― сказал Эгин, прихлебывая из свеженаполненной фляги.
– Добрый, добрый, ― буркнул, спешиваясь, красноносый бородач в шерстяном плаще с капюшоном.
Двое других, не сочтя нужным приветствовать чужака, сидели в седлах в гробовом молчании, вцепившись в уздечки.
«Ну и рожи! ― отметил про себя Эгин. ― Я не я буду, если этот любезник не из Опоры Единства. Кто же еще, кроме солдат и людей Свода, будет с таким наглым видом разъезжать по Варану, когда перемещения цивильного люда стараниями нового князя сведены к минимуму?» Но он немного ошибся. Людьми Опоры Единства были те двое, что не пожелали спешиться.
И в их головы почти одновременно пришла замеча-тельная идея, какие положено иметь в смутное время всем верным псам князя и истины. Пока бородач поил ввоего коня и омывал лицо, покрытое серой дорожной пылью, они переглянулись, обменялись знаками, и один из них, откинув на спину капюшон, процедил, обращаясь к Эгину:
– А ты кто такой будешь? Эгин был одет не столь уж бедно, но подозрительно пестро. Коричневый плащ он одолжил у Альсима без разрешения последнего. Рубаху и штаны ему пожало-вали из закромов гарнизона Перевернутой Лилии. Знака дворянского отличия на нем не было, да и не могло быть. Перевязь со столовыми кинжалами, сар-нод, короткий меч морского офицера и сандалии Ар да окс Лайна. Впрочем, Эгин был совершенно спокоен , ибо любая несуразица в одежде простительна человеку, который собирается покрасоваться жетоном аррума.
Благо, положение чрезвычайное.
– Свод Равновесия, ― не изменившись в лице, сказал Эгин, уверенный в том, что всадники тотчас же полезут за своими жетонами рах-саваннов.
– Предъяви доказательства, ― прогундосил пер-вый.
– Мне нет нужды отчитываться перед людьми, ко-торые не называют себя.
Бородач опасливо поглядывал на них, похлопывая свою кобылу (которую Эгин уже мысленно седлал, ибо, на его вкус, она была самой свежей и холеной из всех трех) по влажной шее. «Кажется, назревает разбирательство», ― было написано на его красноносой роже.
Всадники снова переглянулись. Тогда тот, что был ближе к Эгину, вытащил свою Внешнюю Секиру и показал Эгину. «Смутное время тем и отличается от „вре-мени благоденственного“, что всякая рожа, имеющая касательство к Своду, показывает свою Секиру за здорово живешь и не колеблясь. Однако же рах-са-ванн», ― отметил Эгин с облегчением и показал свою.
– Очевидно, рах-саванн, ― начальственным тоном заключил Эгин, когда его жетон отозвался своими Сорока Отметинами своему незаконному, но безраздельному владельцу, то есть ему, ― что вы как младший на одну ступень по званию должны немедленно уступить мне свою лошадь.
Да, этот выход был эффектным. Быть в звании ар-рутма в возрасте Эгина ― это исключительная редкость. Тем большая редкость ― случайная встреча с таким исключительным случаем во плоти на пустынном тракте. И всадники это понимали, а потому первый отдал бразды беседы второму. Тому, что был постарше и вызывал у Эгина еще меньше симпатий.
– Никакой лошади вам не видать, аррум, ― сказал, как будто выплюнул, второй. ― Потому что я тоже аррум, но в отличие от вас спешу в столицу, исполняя волю самого князя, свидетельством чего является моя подорожная…
В подкрепление своих слов он продемонстрировал Эгину свой жетон. «Так и есть, траханая Опора Единства», ― отметил про себя Эгин. И подорожную, разбираться с которой Эгину было неохота, ибо она наверняка была совершенно подлинной.
– …а потому я хотел бы взглянуть на вашу подорожную, чтобы удостовериться в том, что вы ― не одна из тех паршивых овец, которые портят все наше стадо.
Подорожная! Надо же такому случиться. Вот чего не учли ни Знахарь, ни гнорр, ни он сам! Смутное время ― время бумажек. Да, новый гнорр, кем бы он, Хуммер его раздери, ни был, взялся за Варан со всей строгостью. Уж больно много паршивых овец развелось, с которых нужно начать, чтобы все хорошие овцы расхаживали на цыпочках!
– У меня нет подорожной, ― с достоинством ответил Эгин, ― ибо задание, которое я получил от своего непосредственного начальника еще месяц тому назад, было выполнено уже после того, как Сиятельный князь Хорт оке Тамай…
– Молчать, ― тихим, жутким голосом перебил Эги-на второй. ― Именем князя и истины вы заключены под стражу и будете препровождены в…
Но Эгин не стал дослушивать, куда и зачем намерены доставлять его эти милые люди с лицами отъевшихся на княжеских харчах упырей. Ему надоело. Ему очень надоело. Сколько можно топтаться пешим перед этими гадами из Опоры Единства, никогда ничем другим не занятыми, кроме пожирания своих собственных коллег! Чем больше сожрал ― тем выше должность. Сколько, в конце концов? А время утекает сквозь пальцы, и письмо гнорра жжет грудь тайнописью Дома Пелнов! Но самое главное ― сколько можно болтать, пока еще существует Пиннарин, по разноцветным улицам-кольцам которого расхаживает живая и невредимая темноволосая и стройная девушка по имени Овель. Ему хочется увидеть ее, как не хотелось еще ничего и никогда.
Это значит, что разговору пришел конец. Пора начинать, и начинать с этого аррума из Опоры Единства, на счету которого никак не меньше пятнадцати офицеров Свода. Убил бы меньше ― был бы, как и второй, рах-саванном.
Без обманов, без уловок и переносных ударов он убил их всех. Всех троих. Только хладнокровие и внимание.
Пока угрюмый аррум, счастливый обладатель подорожной, оканчивал свою высокомерную тираду о взятии Эгина под стражу, а его коллега рах-саванн с самодовольным видом кивал, Эгин пустил в горло арруму тонкий метательный кинжал с экзотическим названием «жабье ухо». Один из тех, что были предусмотрительно вложены им в перевязь со столовыми кинжалами Лиг.
Когда аррум закатил глаза и начал медленно заваливаться в седле на спину, обильно орошая кровью и свой дорожный костюм, и свою ошалевшую лошадь, а рах-саванн, плохо соображая, что же, собственно, происходит, потянулся за мечом, Эгин уже вступил в короткую и яростную схватку с красноносым бородачом. Бородач продемонстрировал один левый отбив, два вольных выпада с прокрутом на каблуке и оказался, в общем-то, не таким рохлей, как вначале представилось Эгину.
Но времени на долгую возню у Эгина не было. «Мы не в цирке, дядя!» ― гаркнул он так, что бородач от неожиданности вздрогнул, и этого мгновения замешательства Эгину вполне хватило, чтобы не очень благородно, но действенно пробить уводящий удар левой ногой «метла осенних ветров». Оборонительная стойка бородача была вскрыта, и меч Эгина погрузился на четыре ладони в приемистый живот противника, которому так и не довелось обмолвиться с Эгином и парой слов, если не считать довольно недружелюбного ответа на приветствие.
Эгину очень повезло. Пока свершалась расправа над владельцем лучшей кобылы из трех, спина Эгина была совершенно беззащитна. Но когда убитый метательным ножом аррум сполз-таки под копыта лошади рах-саванна, та с пронзительным ржанием взвилась на дыбы, и тот, сквернословя во всю глотку, был вынужден успокаивать свое животное, теряя драгоценные мгновения Эгиновой беззащитности.
Но вот толстяк булькнул кровью, Эгин вытащил клинок из его распоротого брюха, и впечатлительная лошадь рах-саванна, не выдержав, видимо, переизбытка впечатлений, неожиданно присмирела Рах-саванн, само собой, не замедлил этим воспользоваться. И ошибся.
Его первой и последней ошибкой стала попытка одолеть Эгина, «седла не покидая». Ибо мнимая неуязвимость всадника очень быстро оборачивается полным крахом всего в руках умелого пешего противника. «Сейчас будет бить лошадь в ноздри. Сейчас будет заходить мне под левую руку» ― вот какого поведения ожидал от Эгина рах-саванн. Но Эгин рассудил иначе.
Проигнорировав пресловутые ноздри, о которых твердят наставники любым кавалеристам на любом плацу от Када до Магдорна, Эгин обошел противника справа. Но он не стал предпринимать попыток разить рах-саванна в спину, колоть лошади глаза или бока ― ибо всякому дураку известно, что если лошадь начнет лягаться, то лучше бы ты родился в другом месте и в другое время.
Ничем не выдав своих намерений, Эгин, спровоцировав рах-саванна на ложный отбив, бросился ― на землю. И, сделав три оборота по пыльным камням, Эгин, недосягаемый для короткого меча противника, очень скоро оказался у лошадиного зада. Легонько, самым краем лезвия своего меча Эгин полоснул лошадь рах-саванна по сухожилию. А затем по второму. Все это произошло настолько быстро, что, когда лошадь, издав пронзительное обиженное ржание (она словно ожидала этого печального мига! ― пронеслось в голове Эгина), стала оседать на задние ноги, рах-саванн встретил это событие с недоумевающей рожей. Хотя уж чего тут, казалось бы, недоумевать?
Рах-саванна хватило еще на то, чтобы покинуть седло в столь рискованных обстоятельствах. Теперь уже все мнимые преимущества были пущены по ветру. Эгин, совершенно озверевший, с мечом, омытым кровью бывших если уж не товарищей, но попутчиков рах-саванна, был ловок, как ласка, беззаботен, как на тренировке с деревянным оружием, и окрылен чем-то таким, о чем рах-саванн, несчастный служака, даже не подозревал. Лошадь убитого аррума, казалось, обезумела от вида своей искалеченной подруги, заржала и, заложив немыслимый вираж, промчалась мимо Эгина, отсрочив расправу над рах-саванном.
«Всем лошадям сегодня назначено сойти с ума, это уж точно. И аррумам тоже. Пора бежать, бежать подальше от этого сумасшедшего аррума Опоры Вещей. От этого озверевшего мятежника, который наверняка носит в себе одно из страшных цинорских умертвий и неодолим, словно…»
И здесь рах-саванн, выкормыш Опоры Единства, молодой упырь, был снова не прав. И по форме. И по существу.
Рах-саванн показал Эгину спину и помчался прочь, стремясь скрыться в скалах быстрее, быстрее, чем что? Чем ветер? Чем полет стали, почуявшей кровь? Три кинжала подряд ― одно «жабье ухо» и два столовых, подвернувшихся Эгину под горячую руку, ― вонзились ему в спину, не защищенную даже ерундовой «дорожной» кольчугой. Люди Опоры Единства чересчур привыкли полагаться на свои жетоны, наводящие ужас даже на некоторых старших коллег из других Опор.
Рах-саванн захрипел, остановился и упал на спину, вогнав тяжестью своего тела кинжалы еще глубже. Настолько глубоко, чтобы перестать жить в ту же минуту.
Эгин не стал удостоверяться в том, что все люди, отведавшие его гнева в то утро, действительно мертвы. Ибо это и так было ясно. Вот животные… Эгин подошел к лошади с перерезанными поджилками и, срывающимся голосом пробормотав: «Прости, дура, надо было тебе сразу сбросить этого недоделанного», быстро и, как ему хотелось бы надеяться, почти безболезненно, добил ее двумя очень сильными ударами.
В положении Эгина наиболее разумным и безопасным было оседлать третью, самую приличную, лошадь (которая, в отличие от двух остальных, даже ухом не повела, когда убили ее толстого седока), а потом гнать на ней во весь опор к Пиннарину, подальше от этого безвестного водопоя.
Очевидно ― рядом с тремя трупами не стоит устраивать долгих посиделок. Даже с жетоном аррума.
Но Эгин задержался. Его интересовали три вещи.
Во-первых, подорожная, из-за которой заварилась вся эта алая каша.
Во-вторых, надо было извлечь из тел «жабьи уши», застрявшие в холодеющих телах, и кинжалы Лиг. И то и другое на дороге не валяется. Отнюдь не валяется.
В-третьих ― деньги. Деньги Эгину были нужны, очень нужны. Слишком быстро и безалаберно готовил его гнорр к прогулке в Пиннарин. Денег, например, не дал. Запамятовал. Впрочем, старшие офицеры Свода всегда думают о деньгах в последнюю очередь. Например, Альсим уверял Эгина, что давным-давно позабыл тот день, когда расплачивался деньгами. «Так, в первый раз суну трактирщику под нос свою Внешнюю Секиру ― и готово. Во второй раз сам уже лучшее вино тащит-надрывается». Сейчас Эгин был как раз аррумом по имени Иланаф, но после того как первые трое случайных встречных все сплошь оказались людьми Свода, натуральная форма оплаты чужих услуг при помощи Внешней Секиры его прельщать перестала.
Насмешки Лагхи Коалары по поводу столовых кинжалов, которые отлично помнились Эгину, оказались довольно-таки беспочвенными. Несмотря на вычурную роскошь, сталь и закалка клинков оказались отличными. Кинжалы вошли в тело несчастного рах-са-ванна глубоко и надежно ― ровно между ребер.
Мышцы убитого, сведенные предсмертной судорогой, никак не хотели отпускать сталь-преступницу. «Охота на картонного человека, на картонного человека? Да, на очень крепкого картонного человека», ― стучали в ушах Эгина два голоса ― гнорра и его собственный ― когда он, уперев носок в спину рах-саванна, вытаскивал сначала один, а потом другой кинжал, гарды которых когда-нибудь, быть может, станут ногами и сочленениями Убийцы отраженных.
Эгин не удержался от соблазна и перевернул рах-саванна. Глаза его случайного врага оказались синими, как васильки.
– Доброго тебе посмертия, рах-саванн, ― бесстрастно сказал Эгин васильковым глазам, отирая кровь с лезвий и возвращая оружие перевязи.
В кошеле «картонного человека», как и полагал Эгин, сыскалась лишь жалкая серебряная монета. Так. Этот расплачиваться деньгами уже успел отвыкнуть, хотя всего лишь рах-саванн.
На подорожную, извлеченную со всеми брезгливыми предосторожностями из сарнода аррума Опоры Единства, Эгин даже не взглянул. Разобраться можно по дороге, даже в седле. Если что ― чернила отнюдь не бессмертны, это знают даже младшие офицеры Опоры Вещей, он что-нибудь там припомнит из простых Изменений и впишет свое имя. Чтоб это была наисложнейшая задача в его жизни!
Под аккомпанемент таких мыслей и «жабье ухо» заняло свое законное место в арсенале Эгина.
В сарноде аррума обнаружились четыре медные монеты. Этого хватит ровно на половину дохлого мула. Причем на его худшую половину. В свете того, что отбитую у бородача лошадь он наверняка загонит к сегодняшнему вечеру, это было более чем досадно.
– Бессребреники, Шилол вас всех пожри! ― заорал Эгин в полный голос, отмечая про себя, что начинает нервничать, а это не слишком хорошо. Эгин прикрыл глаза. Да, он спокоен. Уже почти спокоен. Остался один. Всего лишь один. Еще один ― и все.
Толстый красноносый бородач. Оружия в его теле Эгин не оставлял. Это точно ― меч-то уж он выдернул. Отчаявшись после двух неудачных попыток с этими, из Единства, найти у него хоть ломаный грош, Эгин собрался уж было не копаться больше в мертвечине и ехать поскорее прочь, но…
Что-то знакомое померещилось в лице лежащего в луже известной красной жидкости человека. Не назвавшего себя и не предъявлявшего никаких жетонов. Вот если бы не борода… Эгин склонил голову набок. Прищурился. Подошел ближе.
Неужели? Четвертое Поместье… Нет, это было чуть позже ― в Староордосской крепости. Как-то его там звали… Эрпоред? Варпорат? Капилед? Нет, самого молодого (тогда ему было лет сорок) и спесивого наставника их соседей по Староордосской крепости звали Эрпоред. Эгин с ним знаком не был. А вот Иланаф был. Иланафа Эрпоред наставлял в истории народов и различении Вещей и Писаний. Иланаф однажды вскользь обмолвился, что если и был когда-то в Своде по-настоящему умный человек, ― так это Эрпоред. Но до чего же странно, что наставник закрытой высшей школы вновь вернулся в мир и спокойно так разъезжает вместе с офицерами Свода по Варану. Может, это все-таки не Эрпоред?
Эгин запустил руку за пазуху бородача, чтобы глянуть, есть ли при нем подорожная и Внутренняя Секира. В этом было больше праздного любопытства, чем пользы, но уж очень Эгину хотелось знать, обманывают ли его глаза и память. И отчего кобыла неприметного бородача вдвое моложе и вдвое дороже и по виду, и по стати, чем лошади двух его попутчиков. Купчина?
Наконец рука нашарила что-то твердое. Футляр с подорожной. Значит, тоже коллега, только с таким важным поручением, что ради него даже налепил фальшивую бороду. Теперь вблизи было видно, что это такая же борода, как у Вербелины волосы. И еще что-то выпирающее из-под камзола. В коробочке, наподобие той, в которой одним памятным днем «шмель» принес Эгину серьги Овель.
Со всей возможной небрежностью Эгин открыл коробочку, следя боковым зрением за тем, что происходит по краям площадки у водопоя. Что-то бессовестно и тревожно ныло у него внизу живота. Как бы не появилась следующая тройка офицеров… Ну, что же там среди атласа, расшитого цветочками? Деньги? Дым-глина? Амулет? Драгоценности?
О нет, милостивые гиазиры. Золотой рожок, сужающийся к концу. Золотой или что-то в этом роде, а конец его загибается прихотливой дугой, увенчиваясь чем-то наподобие когтя. И эту штучку Эгин уже видел однажды, нарисованной в книге Арда оке Лайна. В книге, из-за которой погибли три креветки его Зрака Истины и аррум Опоры Писаний Гастрог.
Красноносый фальшивый бородач оказался самой важной персоной из всех трех, ибо вез в столицу ни много ни мало, а хвост и жало Скорпиона, Убийцы отраженных.
Денег, однако, при нем вообще не оказалось. Равно как и Внешней Секиры. Но Эгин теперь не сомневался ни мгновения в том, что это был все-таки Эрпоред. Ибо какая может быть Секира у наставника? Правильно, никакая.
На левом плече Эрпореда Эгин уже вполне в соответствии со своими ожиданиями обнаружил почти идеальный прямоугольник из четырех белых шрамов. Да, когда-то он был офицером Свода. Потом он в чем-то крепко провинился, но все-таки спас свою шкуру. Внутреннюю Секиру удалил прежний Знахарь, и Эрпоред стал наставником. А потом чья-то воля ― очень могущественная воля! ― выдернула его из Староордос-ской крепости и швырнула в Урталаргис. Зачем? Затем, чтобы извлечь из темных складок мировой ткани жало Скорпиона. Затем, чтобы вновь вверить Эрпоре-ду Секиру (кого? как знать, может быть, и пар-арцен-ца ― мысленно пожал плечами Эгин). Затем, чтобы подставить Эрпореда ранним утром сего дня под клинок скромного рах-саванна Опоры Вещей. Ибо Эрпоред при всем своем недюжинном уме фехтовать так толком и не научился.
Так думал Эгин, снимая траурно позвякивающие шпоры с сапог умного Эрпореда.
Кобыла бородача Эрпореда была отнюдь не тихоней. Поначалу она два раза едва не сбросила Эгина, и ему удалось удержаться в седле лишь чудом. Впрочем, Эгин был тоже отнюдь не идеальным всадником, ибо весь следующий день он только и делал, что вонзал в лошадиные бока шпоры, не давая отдыха ни животному, ни себе. А потому, когда на землю спустились сумерки и Эгин решил, что три часа сна ему просто необходимы, взмыленная кобыла подтверждала всем своим видом простую мысль о том, что этой же ночью придется позаботиться о новом средстве передвижения.
Ночь Эгин провел в придорожной гостинице. Перед тем как завалиться на кровать, проглотив ужин, приготовленный в расчете на невзыскательных купчиков и зажиточных ловцов всякой морской снеди, Эги-ну пришлось попотеть над подорожной аррума.
Ужин успел остыть и начал пованивать протухшим болотом, ибо был приготовлен преимущественно из скромных и отнюдь не самых свежих даров моря, но зато подорожная, побывав в умелых руках Эгина, засияла как новенькая. Аррум Иланаф теперь следовал в столицу по всем правилам. Но даже после этого Эгин не мог вот так взять и уснуть. Ибо в его сарноде лежали разные разности, которые все вместе и каждая в отдельности жгли сознание Эгина словно бы каленым Экелезом.
Наскоро расправившись с холодным окунем-носорваном, Эгин выложил на постель сокровища, вокруг которых вертелась его жизнь весь последний месяц. Он вспоминал слова Тары о Великом Пути. Каким бредом они представлялись ему тогда, в Хоц-Дзанге! И каким страшным откровением звучали теперь.
Эгину пришлось сознаться себе, что если бы весь Скорпион ― от граненой главы до острого, как мысль о смерти, жала ― не лежал сейчас перед ним, он бы и до сих пор склонен был полагать всю эту историю с Убийцей отраженных чистейшей воды выдумкой.
Скорпион, даже если бы он был обыкновенной металлической игрушкой, украшенной «синим стеклом», все равно смог перевернуть сознание Эгина вверх дном. Мыслимое ли дело, чтобы части какой-то игрушки липли к тебе с такой настойчивостью. Теперь оставалось лишь открутить от кинжалов гарды, распотрошить сандалию Арда оке Лайна и полюбоваться на все это великолепие, собранное вместе.
«Плоды трудов и размышлений долгих», ― вздохнул Эгин, извлекая на свет кинжалы Лиг.
Спустя полчаса Скорпион уже лежал на подушке. Пока что мертвый, ибо расчлененный. Но вполне узнаваемый. Очень похожий на свой символический портрет, который Эгин видел в книге Арда оке Лайна.
Но детали есть детали. Глядя на них, совсем непонятно, получится ли в конце концов работающий механизм. Да и вообще ― что значит Убийца отраженных? Как этот убийца будет убивать этих отраженных? Или Скорпион ― просто оружие, которым предстоит воспользоваться Эгину, как если бы он был сам Убийцей отраженных?
Раздираемый такими вот мыслями, непреодолимым желанием заснуть и праздным интересом, Эгин взял золотую каменноглазую голову, добытую Самелланом у своего заклятого врага, и серьги Овель. Взял и интереса ради положил их рядом. Чтобы прикинуть, как это приблизительно будет выглядеть. И… хотя он оставил между сочленениями зазор в указательный палец толщиной, неуловимое мгновение спустя он обнаружил, что зазора нет и ничего более не разделяет клешни и головогрудь. Ибо серьги Овель намертво приросли к золотому амулету Норгвана. И не только приросли, но и конвульсивно дернулись.
– Сыть Хуммерова! ― довольно громко выругался Эгин, отшатнувшись, и, когда умеренный испуг перерос в неумеренное любопытство, поднес лампу поближе к явленному чуду.
Глаза Скорпиона сияли серо-голубым, а его клешни угрожающе сжимались и разжимались, словно бы пробуя воздух на мягкость, на податливость. Несколько раз Эгин видел такое, еще когда учился в Четвертом Поместье. Тогда, влекомый отчасти детским живодерством, отчасти столь же детским любопытством, расчленял речных раков острой палочкой. Еще тогда его удивлял один странный факт ― через некоторое время после того, как голова оказывалась отделенной от туловища, рак продолжал шевелить усами, а клешни вслепую мыкались влево-вправо, влево-вправо.
Не успел Эгин, как некогда, насладиться содеянным собственными руками, как вдруг в стену застучали настойчиво и сильно.
– Тише там, а то щас засуну тебе голову в задницу, чтобы не шумел! Спи давай! ― видимо, его невоспитанный сосед страдал жестокой бессонницей. Ибо всполошиться так от одного достаточно безобидного ругательства мог только тот, кто только и ждал повода выплеснуть свой нервический гнев и обвинить кого-то во всех своих злоключениях. Определенно ― поиски третьего бока в постели, полной клопов, иначе как злоключениями не назовешь.
«А может, он и прав», ― сказал Эгин. Затем он переложил все части ― кроме головы и клешней, ставших, по-видимому, одним целым уже навеки, ― по отдельности, проверил засовы на двери, погасил лампу и уснул за три секунды до того момента, когда его щетинистая щека коснулась подушки.
– …так я посмотрел на тот веер ― мама родная! Все спицы острые, а на концах яд. Он только с виду веер, а так ― сам понимаешь… ― глаголел за стеной тот самый голос, который вечером обещал Эгину засунуть голову в задницу.
– Эти бабы, они такие, ― поддержал второй голос.
– Да там, в Алустрале, и мужики с веерами ходят. Во больные, скажи?
– Да они там, сам видел, просто бабами не интересуются, а все больше промеж себя соображают…
Под аккомпанемент рассуждений о странах и народах Эгин поставил ноги на сырой пол и потянулся.
Все было на месте. Расчлененный Скорпион покоился под подушкой. Чей-то конь призывно ржал у коновязи. Подорожная смердела государственными глаголами в сарноде. Денег было в обрез ― значит, с покупками придется повременить до следующего, более удачного разбоя. За стеной коротали время за приятственной беседой двое жлобов. А слуга уже скребся в дверь, предлагая завтрак Эгину. Но он не станет брать его, потому что не любит еду, которая воняет тиной.
«Теперь осталось всего ничего, ― подумал Эгин. ― Сменить лошадь. Добраться до Пиннарина. Выпустить Скорпиона. Увидеть Овель и умереть. Потому что если Убийца отраженных и есть мое предназначение, коль скоро я следую Великим Путем, а к этому, кажется, все и пришло, значит, после того как предназначение будет выполнено, мне останется отправиться в Святую Землю Грем. Ибо что есть человеческая жизнь без предназначения?»
Собрав вещи, Эгин вышел к коновязи. Как ни в чем не бывало подошел к самой статной лошади ― он так и не узнал, что ее владельцем был не кто иной, как его невидимый сосед, рассуждавший об алустралъских «крыльях лебедя» (а ведь именно такое название носил описанный за стеной веер из-за изогнутой в виде лебединой шеи ручки), ― и, надавав строптивому, но ма-лахольному конюху оплеух в укромном закуте конюшни, оседлал ее сам.
Солнце стояло высоко. Это значило, что он опаздывает и, не ровен час, приедет в Пиннарин позже, чем требовал того Лагха. Это значило, что спать ближайшие двое суток ему не светит. Разве что в седле. А ведь всякий знает, как хорошо спится в седле, когда лошадь, чьи бока в мыле и чьи ноги вот-вот подкосятся, несется иноходью под гору по плохо мощенной дороге.
Такого столпотворения у Восточных ворот Пинна-рина Эгин не видел никогда. Конные и пешие, чиновники и военные, купцы, рыбаки, девки. Вся эта разношерстная публика была озабочена тем же, чем и Эгин. А именно, страстно желала попасть в столицу. И притом сделать это как можно скорее.
А для того чтобы не дать этим чаяниям сбыться, у ворот была расквартирована сотня гвардейцев Сиятельного князя. Они, по всему видно, уже не первый день пробавлялись тем, что урезонивали недовольных, кичились своей значимостью, делали суровые и озабоченные лица, смотрели подорожные и вместо ответов на вопросы либо изысканно хамили, либо загадочно улыбались. Впрочем, для таких, как Эгин, то есть для тех, кому Свод Равновесия ― дом родной, у Восточных ворот был организован отдельный вход. Молодой сотник придирчиво разглядывал документы, удостоверяющие все, что только можно удостоверять при помощи чернил и бумаги.
Правда, желающих побеседовать с ним наедине было тоже не меньше двух десятков. Промаявшись добрых три часа в ожидании досмотра, Эгин успел узнать все малоприятные подробности ожидающей его процедуры. Во-первых, в Пиннарин, в котором происходило что-то, о чем никто не имел представления, пускали только тех, кто есть в списках, доставленных к воротам от самого гнорра. Все остальные шли гулять по окрестностям, ожидая, пока времена переменятся. Во-вторых, и у Южных, и у Западных ворот наверняка все было точно так же. А в-третьих, тем, кто пытается проникнуть в Пиннарин не через ворота, а как-либо иначе, Сиятельный князь Хорт оке Тамай пообещал импровизированное четвертование на месте преступления, а ведь всем известно, что свежий тиран всегда исполняет данные обещания с утроенным рвением.
Эгин вынул свою подорожную. Что ж, это будет занятный трюк. Подлинная подорожная и подлинный жетон. Хозяин подорожной наверняка внесен в эти загадочные списки, ведь недаром он сопровождал бородача Эрпореда ― судя по бумагам, исполнителя секретного задания самого гнорра. Но только что в этом проку, если после ночных трудов Эгина в его подорожной стоит имя Иланафа? Усталый и злой Эгин погладил по страдальческой морде своего жеребца ― третьего за третий день. Как и предыдущие, ― краденого. Может, им еще и на него нужно будет представить документы? Что, мол, служит князю и истине верой и правдой, а кличку имеет такую-то. Смеркалось.
Без сна и отдыха, грязный, голодный и опустошенный, он достиг Пиннарина на полдня раньше, чем требовал Лагха. Но не пошли ли его труды под хвост столичным котам?
– Иланаф, аррум Опоры Вещей, ― отрекомендовался Эгин, сверля взглядом сотника. ― Вот, извольте видеть, моя подорожная.
– Эге, ― сотник с бывалым видом принял документы.
Подорожная прошла без сучка без задоринки. Разумеется, будь на месте сотника коллега из Опоры Писаний, он даже в темноте распознал бы подмену. К счастью, сотник был офицером князя, но не Свода.
– Что там дальше?
– Дальше ― Внешняя Секира, ― уверенно сказал Эгин, сосредоточившись на левом зрачке сотника, и Сорок Отметин Огня перекочевали в руки власть предержащего лентяя.
Сложив руки на груди, Эгин с безучастным видом ждал, пока сотник натешится магической игрушкой, произведенной Шотором в поистине сверхкороткие сроки. Ждать пришлось долго. Поворачивая Секиру то так, то эдак, сотник, похоже, не преследовал никаких Целей, кроме эстетических.
– Покажи, что в сарноде, ― неохотно подытожил он.
– Каждый, кто внимательно прочтет мою подорожную, офицер, сможет убедиться в том, что я и мой сарнод освобождены от досмотра, ― с нажимом отвечал Эгин. Пусть этот придурок почувствует разницу между офицерами Свода и офицерами князя.
Сотник смутился, покраснел, но оттого показательно расхрабрился.
– Значит, покажи еще раз подорожную. Что-то я там такого не припомню, дружок.
«Дружок!» ― с каких это пор офицеров Свода величают, словно дворовых шавок? Желваки на скулах Эгина хищно задвигались. Подорожная вновь оказалась у самого носа сотника. Долго, очень долго офицер рассматривал ее, то приближая к свету, то отдаляя. Все это время Эгин, пытавшийся понять, что же именно снова насторожило офицера, пришел к выводу, что сотник, вдобавок ко всем своим достоинствам, читает из рук вон плохо. И был прав.
– Все верно, тогда ожидайте, ― с этими словами сотник удалился в соседнюю комнатенку, где и покоились пресловутые списки «допущенных в столицу в эти судьбоносные дни», как выражался гнорр на первом листе списков.
Разумеется, его возвращения Эгин ожидал с растущим нетерпением.
– Иланаф?
– Да. Аррум Опоры Вещей.
– Вот то-то и оно, что аррум.
– Не понял?
– А тут понимать нечего. В списках есть Иланаф, рах-саванн Опоры Вещей. А аррум ― это уж извините!
– Посмотри в дополнительных списках! Очень внимательно посмотри, не то не сносить тебе головы, дружок!
– М-м… смотрю… Нету.
– Тогда слушай Меня произвели в аррумы неделю назад. Сам знаешь, что это была за неделя. Наши люди в Главной Канцелярии не поспевают портить бумагу записями о повышениях, понижениях, переводах. Понял?
– Я-то понял, но. .
– Никаких но, друж-жок. Дай сюда разрешение на въезд и бывай. А то вон коллеги заждались.
– Но…
– Ты меня плохо слышишь?
– Хорошо.
– Тогда бывай.
«Друж-ж-ж-ок», ― все еще вертелось на языке Эги-на, когда Восточные ворота столицы захлопнулись за его спиной с недружелюбным лязгом проржавленных петель. Он был очень зол, и любой аррум Опоры Вещей был бы зол на его месте.
За стеной, по ту сторону, ревела скотина, хныкали дети и ожесточенно ругались все кому не лень. Близлежащие улицы уже по эту сторону были пусты и безлюдны Эгин шел медленно, ведя за повод совершенно убитого дорогой коня. Он успел вовремя. Но это не самое важное. Самым важным было то, что Убийца отраженных может преспокойно начинать жить своей жизнью.
«Однако Иланаф ― парень не промах! Ласковый мужик сразу с двумя девками лижется. Причем лижется с большим успехом!» ― сплюнул Эгин наземь. Если бы в его голове сейчас не теснилась сотня рассуждений, куда более важных, чем вопрос о статусе Иланафа и его житейских политиках, он, пожалуй, нашел бы эти рассуждения забавными.
Скорпион лежал в сарноде. Целый, но расчлененный. Великий Путь вел его к своему воплощению. По существу, Эгин чувствовал себя наполовину мертвым. А так как вторая половина была еще жива, последний серебряный авр пошел в уплату хозяину приличной гостиницы, которая располагалась в двадцати минутах ходьбы от Дома Скорняков на набережной Трех Горящих Беседок. Оставшаяся в живых половина должна была вкусить от сна под шелковым балдахином и ароматного завтрака, прежде чем отправиться исполнять поручение гнорра.
Разумеется, он мог пойти в Дом Скорняков прямо так, прямо сразу. Но он не сделал этого. Чего было в этом больше ― вольного разгильдяйства, самоуправства, детского упрямства или желания просто выспаться, сам Эгин не знал. Но понимал, что если не упадет в постель сейчас же, то уснет на пороге Дома Скорняков, так и не дождавшись привратника. Сколь бы ни были велики его таланты бороться с дремой, но после двух дней непрерывной безостановочной скачки даже они были исчерпаны. Голова начинала кружиться, а земля уплывать из-под ног, колени не гнулись, язык не ворочался, а где-то на краю сознания Эгин стал различать голос Овель, басовитый рокот покойного наставника по логике Вальха и гоготание Иланафа. Он решительно схватил колотушку у гостиничной двери и закрыл глаза в предвкушении отдыха. Впрочем, даже если бы Эгин оставил глаза открытыми, он едва различил бы в уличной темноте две фигуры, словно по команде замершие за высоким крыльцом ближайшего строения, когда остановился он сам.
– Мне лучшую комнату. Плачу серебром, ― выдохнул Эгин в лицо перепуганному насмерть хозяину.
– Прошу прощения, но указом Сиятельного князя все гостиницы, трактиры и постоялые дворы закрыты на неопределенный срок.
В иное время Эгин, пожалуй, выругался бы или зашипел проклятия, ибо велика была его находчивость и словоохотливость в такие моменты. Но в этот раз…
– Плачу серебром, ― повторил Эгин с каким-то пьяным нажимом.
И, как ни странно, это подействовало. Обессиленный конь Эгина был принят под уздцы и сопровожден в стойло, да и сам Эгин в некотором роде тоже.
При желании за один серебряный авр он мог теперь располагать всем первым этажом гостиницы. И вторым тоже. Но первый был куда лучше, несмотря на то, что комнаты, располагавшиеся там, по традиции были гораздо хуже верхних.
Эгину пришлось поступиться условной роскошью ради одной достаточно эфемерной вещи: Скорпиона, ожидающего своего часа в его сарноде. Отчего-то Эгину подумалось, что если Скорпион оживет, то покинуть первый этаж ему будет гораздо легче, чем второй. Глупость, конечно, но Эгину, не чующему под собой ног в ту ночь, это соображение глупым вовсе не показалось.
На то, чтобы разводить вокруг Скорпиона какие-либо излишние ритуалы, у Эгина просто не было сил.
Занавеси на окне он, однако же, задернул. Скорее по привычке, нежели оттого, что действительно полагал, будто кому-то будет не лень наблюдать за ним из окон противоположного дома или с улицы. На то, чтобы проверить, так ли это в соответствии с принятыми в Своде уловками, его уже не хватило.
Он с прискорбием сознался себе в том, что, явись сейчас в этом роскошном клоповнике обнаженная Овель исс Тамай собственной персоной, он, пожалуй, не пошел бы дальше одного изысканного поцелуя в шею. Или двух поцелуев в шею.
Головогрудь и клешни оставались целостны и неразлучны. Он выложил их из сарнода первыми.
Гарды кинжалов слиплись вместе так быстро, что за это время капля пота, скатившаяся с Эгинова носа, не успела достичь пола. Скорпион теперь мог ходить, бегать, карабкаться и юрко семенить из угла в угол. Правда, всего этого он не делал. Он оставался на месте, ибо ноги и туловище ― это еще не все, что нужно Убийце для того, чтобы убивать отраженных.
Пятое сочленение, так долго служившее пряжкой сандалиям Арда окс Лайна ― их пришлось оставить в трактире, в конюшнях которого свершилось второе по счету конокрадство, ― приникло к остальным частям Убийцы отраженных, словно бы никогда от них не отделялось.
Хвост и жало. Последняя «находка» Эгина была возвращена телу Скорпиона последней. Что ж, теперь тварь была… тварь была жива.
Эгин не успел насладиться плодом своих, в общем-то, нечаянных злоключений последнего месяца. Не успел подивиться тому, сколь ярко горят глаза на зловещей скорпионьей голове и как поблескивают синие камни на его клешнях. Ибо Скорпион, свернув хвост дугой, метнулся в неосвещенный угол комнаты, куда-то в сторону двери, уводящей в коридор. Метнулся и исчез.
«Ну что же, по крайней мере, я ― не отраженный», ― с облегчением вздохнул Эгин и, не потрудившись раздеться, упал в объятия подушек.
Глава восемнадцатая НОРО ОКС ШИН
Бодрость во всем теле. Страх. Плотское желание. Вот три чувства, которые безраздельно владели Эгином, когда он шел Красным Кольцом к выходу на набережную, где стоял Дом Скорняков.
Где сейчас Убийца отраженных? Где сейчас Овель? Где сейчас Лагха Коалара? Вот три вопроса, которые стучались в сердце и разум Эгина.
Ага, вот она, набережная Трех Горящих Беседок. Почему «трех» и почему «горящих»? Эгин смутно помнил какую-то историческую байку о наемниках (не то грютских, не то харренских), которые, нефигурально пьяные одержанной накануне победой над смегами, шествовали из порта по направлению к центру города, горланя песни. Увидев беседку, они решили восславить неких родных богов огнепоклонством и подожгли ее. Но этого было мало, и они подожгли вторую. Наверное, потому, что богов в Харрене тоже было порядком. А затем, кажется, и третью. Что это была за война и были ли в Пиннарине беседки в те далекие времена, Эгин, разумеется, не знал, да и байку почти не помнил.
Дом Скорняков помнился Эгину куда как лучше. Когда идешь в порт, всегда проходишь мимо него. Хмурый, серый и трехэтажный, Дом Скорняков казался нежилым и угрюмым. Эгин нащупал во внутреннем кармане куртки сложенное вчетверо письмо, составленное тайнописью Пелнов.
«Что ж, самое что ни на есть утро четвертого дня!» ― заметил Эгин, в то время как его кулаки колотили в парадные двери, а уста орали что-то наподобие: "Привратник! Привратник ! ". Двое приземистых торговцев какой-то дрянью вразнос переглянулись в двадцати шагах от голосистого чиновника. Но Эгину не было до них дела. Ибо по его собственному внутреннему ощущению он был уже в самом конце пути.
«Теперь осталось увидеть Овель и умереть», ― подумал Эгин, когда в крохотном смотровом окошке показался белок чьего-то глаза с красными кроличьими прожилками.
– Чего тебе?
– Мне нужен привратник.
– Зачем?
– У меня к нему письмо, ― сказал Эгин почти шепотом.
В ту же минуту дверь резко распахнулась, а собеседник Эгина отступил в темноту. Сочтя это за приглашение, Эгин вошел внутрь.
– Привратник ― это я. Давай письмо… Эгин.
Было темно, но голос привратника больше не казался Эгину незнакомым. Теперь Эгин был совершенно уверен, что говорит с Онни. Когда тот зажег светильник, окрасивший стены замогильным светом, Эгин удостоверился в этом.
Онни. Осунувшийся, постаревший на добрых десять лет. Сломленный, но живой. Хуммер раздери этого Иланафа с его историями. Может, и Канн жив, если так?
– Знаешь, Иланаф говорил мне, что ты погиб.
– А я и в самом деле погиб, ― нахмурив чело, бросил Онни, не отрываясь от тайнописи Пелнов.
– Значит, я говорю с призраком? ― спросил Эгин, который хотя и был уверен в обратном, но после Хоц-Дзанга не мог исключать и такой возможности.
– Не с призраком, но с человеком, рожденным дважды, ― без тени улыбки отвечал Онни.
– И кто же твоя вторая мама, Онни? ― оживился Эгин, которому скучно было стоять вот так и наблюдать за тем, как его друг, которого он полагал мертвым и с которым вместе выпил не одну бочку гортело за годы службы в Своде, игнорирует его, уткнувшись в письмо. Ну, в важное письмо. Ну, в письмо от гнорра. Но всего лишь в письмо. В задрипанный клочок бумаги, место которому в гальюне «Венца Небес».
Однако Онни, похоже, полагал иначе. Он окончил чтение, сложил письмо вчетверо и поднял на Эгина усталый печальный взгляд.
– Моя вторая мама ― опальный гнорр Лагха Коа-лара. И он считает, что я должен зарубить подателя сего письма на месте, не вдаваясь в рассуждения о вторых рождениях и первых смертях.
Недоумевающий Эгин пожал плечами. Это у дважды рожденного Онни теперь в ходу такие угрюмые шуточки? Но ничто на мрачном лице Онни не свидетельствовало о том, что он решил разыграть приятеля. Но если Онни не шутит… Эгин как офицер Свода понимал, что должен уже быть мертв. Дружба ― дружбой, а приказы гнорра ― это приказы гнорра.
– …поэтому для тебя самое лучшее будет покинуть этот дом, столицу и Варан немедленно. Тогда у тебя будут шансы выжить, да и у меня тоже. Потому что я не зарублю тебя на месте, Эгин.
Все это было сказано с такой леденящей душу правдивостью, так убедительно и так пронзительно честно, что Эгин отступил к двери. Покинуть Варан… вторая мама… Лагха, Шилол его пожри… хороша благодарность за труды…
– Скажи мне, Онни, а почему ты, собственно… ― спросил Эгин, стоя на крыльце.
И тут лицо Онни впервые исказилось неким подобием улыбки. Улыбки висельника, под тяжестью тела которого вовремя лопнула гнилая веревка. Улыбка, похожая на бледный лунный луч, пробившийся сквозь грозовые облака.
– Вспомни последнюю пирушку у Иланафа. Когда мы шли пьяные домой, когда я пророчил дурное всем нам заплетающимся языком, а ты вел меня под руку. Помнишь?
– Помню, Онни, ― сказал Эгин прочувствованным и крайне неестественным тоном человека, якобы погруженного в приятные воспоминания.
– Мы расстались у перекрестка. Я пошел домой на подкашивающихся ногах. А ты ― ты, Эгин, ― подумал, что хорошо бы проводить меня, а то не ровен час упаду в лужу и просплю там в собственной блевотине до рассвета. Ведь так?
– Так… ― смутился Эгин, не понимая, куда клонит Онни.
– Так вот, Эгин. Всем, с кем сводила меня судьба с самого детства, всем без исключения было совершенно плевать, захлебнусь я в собственной блевотине одной душной пиннаринской ночью или нет. Кроме тебя. А теперь вали отсюда!
Один, два, три, четыре. Ступени крыльца сосчитаны, дверь за привратником Дома Скорняков захлопнулась. Осталось увидеть Овель и умереть.
Онни с остановившимся мутным взглядом постоял по ту сторону закрытой двери еще несколько минут, пока Эгин не исчез из поля видимости смотрового окошка. Одна фраза гнорра, составленная все той же тайнописью, не давала ему покоя.
«Незамедлительно умертвить подателя сего письма в присутствии Овель исс Тамай», ― именно так гнорр советовал своему верному псу Онни. «Он бы еще пожелал умертвить его в присутствии Совета Шестидесяти и Сиятельного князя. А почему бы и нет?» ― Онни закусил губу и отправился наверх. Потому что других, более понятных и выполнимых указаний, в письме гнорра было очень и очень много.
Онни было суждено скоро погибнуть и тем самым скрыться во смерти от страшной кары Лагхи Коалары за невыполнение его рокового приказа.
Овель.
Овель исс Тамай.
Овель исс Тамай, племянница и былая наложница ныне здравствующего Сиятельного князя.
Он встретился с ней однажды. Он любил ее однажды. Но это скромное «однажды» стоит тысяч других «неоднократно». Овель. Лагха знает, где она. Лагха уверен, что она в Пиннарине, иначе он не стал бы давать Эгину таких глупых обещаний. Впрочем, от этой змеиной крови, от этого убийцы можно было ожидать чего угодно.
«Коль скоро части Овель не липнут ко мне подобно частям Скорпиона, значит, следует отправиться на поиски», ― подумал немного разочарованный Эгин. Рассыльная «шмелей». Вот с чего следует начать поиски. Нужно сделать то, что он не успел сделать две недели тому назад, очутившись на мятежном «Зерцале Огня». Найти «шмеля», что принес ему серьги-клешни, расспросить его хорошенько, а затем искать. Искать. Потому что больше ему в этой жизни делать было нечего.
Он удалялся от порта, высматривая возчиков, которых отчего-то словно ветром сдуло отовсюду. Ни одного возка. Ни одного крика зазывалы. Изволь теперь ходить повсюду на своих двоих. Странно. Впрочем, странного в Пиннарине хоть отбавляй.
Вот, например, тот плюгавый хромоногий матрос, что идет за ним и икает. Спьяну. Или вот. Навстречу ему шел мордатый нищий. Пыльное, нарочито убогое рубище, грязная борода. Переметная сума, из которой торчат какие-то смердящие пожитки. В руках у нищего ― богатый посох с изогнутой ручкой, такие носят паломники с Юга. Посох украшен черненым серебром, а на его ручке висят амулеты с бирюзой. Хорош попрошайка! Да загнав этот посох в базарный день, он мог бы завести хозяйство и слуг, одна только бирюза…
Нищий в этот момент как раз поравнялся с ним, внезапно присел на корточки, крючковатая рукоять его богатого посоха обхватила колени Эгина и рванула вперед с неожиданной силой и упорством. Эгин упал на спину. Его рука дернулась к мечу, но было уже поздно.
Поздно, потому что шею Эгина уже стягивала веревка, которую держал в огромных ручишдх тот самый икающий хромоногий матрос.
Нищий, отбросив посох, соединил запястья Эгина стальными браслетами на коротком жестком стержне. Щелк!
– С вами хочет говорить гнорр Свода Равновесия, ― тихо прогундосил он.
Эгину ничего не оставалось, как прохрипеть что-то в знак полного согласия. Полного и окончательного согласия.
За спиной остался гулкий туннель Почтового Дома, бесшумный механический подъемник (Эгин никогда не бывал в этой части Свода Равновесия и даже приблизительно не представлял себе, куда завели его бойкие рах-саванны в одеждах матроса и нищего, псы самозваного гнорра), и… две пары дверей распахнулись с мелодичным звоном, отворяясь прямо в огромный круглый зал с куполообразной крышей. Безусловно, они сейчас находились на самом верху здания Свода, который при взгляде снаружи представлял собой голубой купол, увенчанный исполинской двуострой секирой.
Кабинет гнорра. Святая святых Свода Равновесия. Пуп мироздания. Обитель любви и власти.
Сразу объять взглядом и осознать все, что находилось в кабинете гнорра, было невозможно. С ходу Эгин отметил только несколько занятных деталей.
Во-первых, в центре кабинета стояла массивная колонна, без сомнения, представлявшая собой постамент для секиры над куполом.
Во-вторых, прямо рядом с ней стоял небольшой сравнительно с исполинскими масштабами помещения стол, показавшийся Эгину очень и очень знакомым.
И в-третьих, пока до его потрясенного сознания доходило, что стол этот принадлежит его бывшему начальнику арруму Опоры Вещей Норо окс Шину, на глаза Эгину попался шар, занимавший почетное место по правую руку от стола и исключительно похожий на увеличенный Зрак Истины. Усиливая сходство, в нем тремя полупрозрачными тенями вальяжно прогуливались три диковинные рыбы. Не креветки, а именно рыбы.
Эгин получил болезненный и сильный тычок в основание шеи и, чтобы не упасть лицом вниз, был вынужден буквально вбежать в кабинет. Не отставая ни на шаг, за ним последовали его пленители и стражи.
– Итак, рах-саванн, вы, я надеюсь, принесли мне Пятое сочленение?
Голос раздался откуда-то из-за спины и показался Эгину совершенно незнакомым. Эгин хотел оглянуться, но твердые пальцы сопровождавшего его «матросика», грубо впившись ему в ухо, не дали ему повернуть голову ни на румб. «Ну, сволочь, это ты уже слишком», ― подумал Эгин и, поскольку терять ему было совершенно нечего, вслепую лягнул мерзавца. Эгин не сомневался в том, что его каблук врежется тому точно в колено. Увы, стражи Эгина были начеку и, опережая ход его ноги, второй рах-саванн нанес ему удар под левое колено своим нищенским посохом. «Спасибо хоть не мечом», ― мелькнуло в голове Эгина, который, изрыгая слышанные на Циноре смегские проклятия, неловко упал набок, подвернув ударенную ногу.
Эгин знал перифраз древней итской притчи про то, что все в этом мире свершается трижды. Первый раз как Данность, второй раз ― как Отражение, третий раз ― как Изменение. «Сейчас, кажется, мироздание пошло по швам, потому что второй и третий разы слились воедино, составив редкой мерзости Искривление», ― грустно подумал Эгин, с трудом привыкая к своему незавидному положению.
Да, все это уже было один раз около двух недель назад. Кабинет Норо окс Шина, перерубленная крышка стола, боль, жесткий, неудобный стул для «гостей», разговор о Пятом сочленении. Но кабинет тогда был меньше, Норо окс Шин был аррумом, болело плечо. Теперь кабинет был огромен, болели в основном ноги и стянутые беспощадными браслетами кисти, а разговор велся с новым гнорром Свода Равновесия. И гнор-ром этим был Норо окс Шин.
Его голова почти целиком была скрыта шлемом с клювообразным забралом. Тем самым шлемом, который носили Знахари. Его голос звучал сейчас совершенно иначе. Узнать его было тяжело, очень тяжело. И все-таки…
– Я вижу, Эгин, вы немного пришли в себя от уличной потасовки в этом бестолковом варанском городе. Повторяю свой вопрос. Где Пятое сочленение?
Чернота двух прорезей на шлеме Норо вперилась в Эгина алчной и беспощадной пустотой. Эгину было очень страшно, и он не боялся признаться себе в этом. И, быть может, именно в силу полного осознания своей обреченности он нашел в себе силы тонко улыбнуться.
– У меня нет Пятого сочленения, аррум. Я выбросил его вкупе с остальными четырьмя, вкупе с жалом, головой и клешнями. Убийца отраженных обрел свою независимую от моей жизнь сегодня ночью, и нити наших судеб отныне разделены.
Норо молчал несколько дольше, чем ожидал Эгин от своего быстрого на язык начальника. «Ага, уел!» ― злорадно воскликнул его внутренний голос.
– «Аррум»… ― наконец нашелся Норо. ― Меня не называли так уже целых семь дней, Эгин. Впрочем, вам простительно, вы ведь не присягали ни новому князю Варана, ни новому гнорру Свода Равновесия. Что же до, как вы выразились, «Убийцы отраженных» ― позвольте вам не поверить. По меньшей мере, у вас не может быть его жала и почти с полной уверенностью ― головы, а без них Ищейка Урайна совершенно безжизненна. Следовательно, я позволю себе предположить, что вы где-то укрыли доступные вам сочленения твари. Вопрос ― где?
Эгин почувствовал, что начинает понимать ситуацию во всей ее сложности, полноте и мрачной иронии. Так, например, Эгин перестал сомневаться в том, что рисунок в книге Арда содержал зашифрованное сообщение, выполненное наверняка по результатам неких мрачных гаданий, о сути которых Эгину было недосуг думать. Самым интересным было то, что Арду при всем его профанизме наверняка эти гадания вполне успешно удались (о чем, кстати, ни Дотанагела, ни прочие заговорщики в свое время узнать просто не успели; они лишь могли о чем-то смутно догадываться и послать Гастрога наперерез ему, Эгину).
И повествовал рисунок в книге Арда ни о чем ином, как о местоположении сочленений Убийцы отраженных. Разумеется, было там зашифровано и принадлежащее ему Пятое сочленение, и талисман Норгвана, найденный Самелланом на «Сумеречном Призраке», и серьги Овель, и все такое прочее. Когда Норо окс Шин убил руками своих преданных псов-саваннов Гастрога (сейчас Эгин отчетливо осознавал, что охранник туннеля из Опоры Единства был к этому совершенно непричастен и что Гастрога убили по прямому приказанию Норо), он завладел книгой Арда. Норо понял, что часть сочленений Убийцы отраженных находится за пределами его власти, как, например, столовые кинжалы из Хоц-Дзанга. Но Норо достаточно было найти и уничтожить хоть что-нибудь, дабы Убийца превратился в бесполезный хлам.
«Доступнее всего для Норо было Пятое сочленение в руках Арда окс Лайна. (О Норо, знал бы ты, как близко было оно к тебе в тот день, когда ты допрашивал меня с пристрастием через обнаженную Внутреннюю Секиру!) Но Пятое сочленение загадочным образом ускользнуло через меня (о чем я сам тогда не подозревал), и пришлось послать меня же на розыски. Кроме этого, Норо уж как-то там через высокомудрого Эрпореда устроил расследование в Урталаргисе, чтобы на всякий случай разыскать и уничтожить еще и жало. (И это удалось бы, о Шилол, если бы не чудовищная случайность-не-случайность Пути, которая свела меня третьего дня с его забияками близ водопоя на пинна-ринском тракте.) И, наконец, могу себе представить, как обрадовался Норо, когда узнал, что „Сумеречный Призрак“ ищет и вот-вот обретет верную гибель при встрече с мятежным „Зерцалом Огня“!»
Эгин едва не расхохотался Норо в лицо. Но это было бы слишком просто.
Теперь он был готов ответить гнорру так, чтобы у того проступил холодный пот меж лопаток.
– Милостивый гиазир, ― начал Эгин, вольготно вытягивая ноги (и изо всех сил делая вид, что от этого действия его колено не взвыло отчаянной болью), ― ваши офицеры никогда не вернутся из Урталаргиса, ибо они умерщвлены моей рукой у колодца на двадцать первой лиге пиннаринского тракта. Точно так же, как голова Убийцы отраженных отнюдь не погибла вместе с «Сумеречным Призраком», как вы в том не сомневались. Единственное, в чем вы не ошиблись, ― это то, что я разыщу Пятое сочленение. Я действительно разыскал его, и оно сейчас исправно служит Убийце отраженных в его перемещениях по Пиннарину.
Норо не успел сказать ни единого слова потому что, когда Эгин говорил «в его перемещениях», вода внутри увеличенного Зрака Истины озарилась слабым зеленоватым свечением, и рыбы, которые прежде были полупрозрачны, как Хуммерово стекло, налились дурной черной кровью, став темнее грозовых туч над зимним океаном.
Мгновения торжества. Ровный мертвенный свет, истекающий с небес на поле беспощадной сечи. Мертвые лица мертвых. Мертвые лица живых. Вой Гулкой Пустоты в ушах и под сердцем.
Красноглазый человек с длинными снежно-белыми волосами, рассыпавшимися по плечам из-под шлема, увенчанного полумесяцем и девизом правящей династии Новых Конгетларов, принимает присягу из сочащихся кровью свежих ран уст побежденных.
Ему нет противников. Ему нет равных. Ему нет предела.
Море Фахо рокочет в нескольких лигах от его стоп. На нем ― лес мачт, бьются по ветру штандарты Южных Домов и шелковые тритоны тернаунских дружин.
Война эпохи Третьего Вздоха Хуммера завершена. Звезднорожденные мертвы. Кальт, узурпатор ретарского престола, умерщвлен на рассвете. Элай, сын звезд-норожденного, умерщвлен час назад. Мятежный Дом Гамелинов истреблен. Орин раздавлен, как молодой неумелый краб в челюстях бывалой морской черепахи. Имя черепахе ― Синий Алустрал. Имя новому Властелину Круга Земель ― Торвент Мудрый.
Губы Герфегеста сухи и шершавы. На мгновение он, глупейший из Конгетларов, прикладывает их к тыльной стороне ладони своего бывшего наставника, своего бывшего соратника, своего бывшего Императора.
Герфегест поднимает глаза. Сейчас, сейчас эти сухие губы предателя произнесут слова присяги. Сейчас.
– Торвент, мгновения твоей жизни сочтены. Ищейка Урайна идет за тобой.
Тогда он не нашел ничего лучшего, чем смех. Смех ― и промельк стали, вернувшей мятежного Герфегеста в лоно небытия.
Но прежде чем последний из покоренных мерзавцев склонил перед ним колени, прежде чем он успел задуматься над словами Герфегеста, сочлененная смерть разыскала его.
Норо окс Шин слишком хорошо помнил тот день и слишком свежей казалась боль, дробящая огненными молотами в прах его молодое тело. Норо окс Шин не рассмеялся теперь, спустя шестьсот лет после своей смерти в зените небывалого могущества, по сравнению с которым слава Элиена, искусство Шета и воля Урай-на были менее, чем ничем.
Убийца отраженных чуял свою добычу за многие лиги так же хорошо, как гончая чует медведя, как Поющее Оружие ― плоть звезднорожденного, как влюбленный мужчина ― счастье своей возлюбленной.
Сточными канавами улиц, вытяжными трубами обширных подвалов особняков Красного Кольца, а то и просто густой травой садов, разбитых на манер алу-стральских «озер и тропок», Убийца крался к своей цели.
Убийца отраженных не мог «знать», но он мог «пребывать в действиях, которым позавидовали бы и превыше всех мудрый правитель, и превыше всех зоркий следопыт, и превыше всех опытный воин». Весь остаток ночи и все утро Убийца отраженных пребывал в действиях. И они вывели его в туннель Почтового Дома. Туннель, ведущий в неведомую Убийце громаду Свода Равновесия.
Но Убийца отраженных и не должен «ведать». Путь ведет его от начала до конца рокового странствия. Убийца уже был близок. И сверхчуткий Зрак Истины в кабинете гнорра отозвался на его приближение.
Норо, стремительно подошедший к шару, приложил к нему ладони, после невесть зачем ― правое ухо, вслед за этим вернулся, сел, бессмысленно обвел взглядом надрубленную поверхность стола и стражей за спиной Эгина. Наконец он вновь обрел способность удивлять мир членораздельной речью.
– Вы не солгали мне, рах-саванн. Признаюсь, я удивлен. Можно даже сказать ― восхищен вами, рах-саванн. И тем большим будет мое восхищение, когда вы продемонстрируете свою способность не только выпускать в мир Ищейку Урайна, но еще и отзывать ее обратно.
Теперь для Эгина настала очередь неподдельно удивляться.
– Простите, аррум, я не вполне понимаю вас. Убийца отраженных ушел своим путем, и я не имею над ним ни малейшей власти. Равно как и вы, равно как и кто-либо другой.
– Милостивые гиазиры, оставьте нас.
Слова Норо явно были обращены к «матросу» и «нищему», так как, кроме них, в кабинете никого не было, и те безмолвно направились к дверям подъемника. Норо помолчал, ожидая, когда они исчезнут, и сказал твердым, ровным голосом:
– Не тебе, варанец, судить о темной мудрости Ок-танга Урайна, звезднорожденного, призванного ко второму рождению волею Хуммера и уничтоженному волею Кальта Лозоходца. И не тебе, варанец, знать о секретах его Ищейки.
Судя по тому, что Норо отослал своих преданных псов, он говорил нечто, чего ни одному смертному знать не должно. Эгин подумал, что если Норо говорит это ему, следовательно, он уже заочно приговорил его, Эгина, к смерти в любом случае. А у Эгина, хоть ему и было стыдно в том себе признаться, была слабая надежда, что Норо по каким-то соображениям высшего порядка до поры до времени оставит его в живых. Ведь уцелел же он, Эгин, в стольких передрягах! И Дотана-геле он глянулся, и Знахарю, и даже Лагха был более чем снисходителен к нему. Если не считать, конечно, указаний Онни убить его незамедлительно по прочтении письма.
Норо тем временем продолжал:
– Урайн был достаточно умен, чтобы оставить лазейку к хладному сердцу и каменным глазам Скорпиона. Скорпион ― это стрела, которая создана так, что ее можно вернуть обратно. Но сделать это может лишь тот, кто выпустил стрелу. Ты, Эгин, безумно везучий рах-саванн Опоры Вещей, выпустил Скорпиона в мир. И ты, Эгин, заставишь его вновь распасться в ничто, в бессмысленные побрякушки.
– Странно, ― протянул Эгин, опьяненный гибельным предощущением своей близкой и неизбежной смерти. ― Вы полагаете, аррум, что я, офицер Свода Равновесия, присягавший на верность князю и истине, а равно и невольный странник Великого Пути, я выпустил Убийцу отраженных ради собственной забавы и теперь по первой же вашей просьбе верну его назад?
Норо противоестественно свернул голову набок (ну чистый ворон!) и с усилием потер шею под своим знахарским шлемом.
– Да, рах-саванн, по первой же моей просьбе. Просьба будет чуть позже. А пока что вы можете поговорить со мной. Просто поговорить.
Эгин был в полном недоумении. А как же «я вырежу твое сердце, мерзавец, если ты не…» или «вскрою Внутреннюю Секиру, и ты поймешь, чем…»? Впрочем, что ему, Эгину? Уж лучше действительно просто поговорить. Но о чем? В том, что Норо ― отраженный, Эгин теперь не сомневался, ибо отчего бы самозваному гнорру так пугаться Скорпиона? В том, что тирания нового гнорра будет жестокой и беспощадной, Эгин тоже не сомневался. Они ― враги, и говорить им не о чем. Оставалась Овель.
– Скажите, аррум, а где Овель исс Тамай?
– Овель? Не знаю. Честное слово, не знаю. Я вам лучше расскажу, как мои люди выследили вас в Пин-нарине. Хотите?
Эгин не хотел и поэтому молча пожал плечами. Понятно ведь и так, что дотошный гвардеец на заставе послал все-таки своих людей в Свод сообщить о подозрительном арруме по имени Иланаф, и Норо, который ожидал появления своего агента, услышав описание его, Эгина, внешности, сразу понял, какой «Иланаф» прибыл в столицу. Нет, говорить им было решительно не о чем. И Норо это тоже знал. Но чего же он ждал, чего?
«Голубые Лососи» возвращались в родной порт. Четыре лучших корабля княжеского флота шли в Пинна-рин, чтобы ― как почти никто не сомневался ― найти там свою гибель. Даже Лагха Коалара был уверен в том, что они обречены. Едва ли Эгин выполнил его поручение. Едва ли Онни получил его предписания. Едва ли Хорт окс Тамай выполнил условия и уничтожил нового гнорра. И если это действительно так ― значит, после бессмысленных переговоров и его, Лагху, и всех его людей ждет смерть. Но прежде они уничтожат Сиятельного князя. На это им еще достанет сил.
Гнорр приказал не поднимать черных флагов. Пусть каждый солдат, пусть каждый эрм-саванн в порту увидит, что они не намерены сдаваться. Это боевые корабли, и идут они для того, чтобы при необходимости сражаться до последнего. На «Голубых Лососях» вообще не было поднято никаких флагов. Но ― и в этом гнорр в полной мере проявил свое дипломатическое чутье ― по приказанию Лагхи на всех кораблях были заготовлены штандарты новой правящей династии. Династии Тамаев.
Сиятельный князь тоже был готов вести переговоры во всеоружии. Флот Открытого Моря в полной боевой готовности был развернут прямо в порту двумя устрашающими шеренгами, между которыми со всей неизбежностью предстояло пройти «Голубым Лососям». На набережной выстроились две тысячи гвардейцев с тяжелым вооружением. Крыши ближайших к порту домов кишмя кишели лучниками.
Лагха Коалара не любил доспехов и клинкового оружия. Лагха любил просторные одежды и магические искусства. Но теперь он облачился в полный алу-стральский доспех и взвесил на руке посеребренный шлем, который, по легенде, некогда носил сам Калът Лозоходец. Легенда не лгала.
– Ну наконец-то! ― оживился Норо окс Шин.
– Овель… здравствуй, ― сказал себе под нос опешивший Эгин. Сказал настолько тихо, что Овель наверняка не услышала его.
Она была растрепана, простоволоса, худа и очень испугана, как бывают испуганы девушки, которых вытащили из купальни, обернули в шерстяной плащ с чужого плеча, сковали запястья браслетами ― такими же точно, какие были на Эгине, ― а потом долго вели мрачными туннелями и коридорами на вершину Свода Равновесия.
– Здравствуйте… милостивые гиазиры, ― проблеяла Овель и, окинув Эгина отчаянным, непонимающим взглядом, потупилась.
Хотя лицо новоиспеченного гнорра по имени Норо окс Шин почти полностью скрывал шлем, Эгин, знавший гнорра простым аррумом, догадался, что появление Овель было для него самой радостной новостью сегодняшнего утра.
Норо воистину ликовал. Об Эгине он, кажется, и думать забыл. В результате его ликование вылилось в довольно странные действия. Постояв в молчании минуту, он вынул из-за пояса короткий с широким лезвием кинжал и решительно направился к Овель. Конвоиры отступили на шаг ― мол, если у гнорра возникло желание убить девушку собственноручно, они не будут портить ему удовольствие. Овель тоже отшатнулась назад, но офицеры являлись той непреодолимой преградой, дальше которой отступление было невозможно. Норо, впрочем, не хотел ничего дурного. По крайней мере на этот раз. Безо всяких комментариев он взял в плен каштановую прядь волос Овель и с ухва-тистостью цирюльника срезал ее у самого уха девушки. Получившуюся каштановую змейку он осмотрел довольно придирчиво и передал одному из офицеров.
– Незамедлительно доставить это князю! А ее усадите вон туда, ― сказал он, уже обращаясь к остальным и, казалось, до времени потерял к Овель всякий интерес.
«Вон туда это вон куда это?» ― Эгин повернул голову вслед за указательным пальцем гнорра. Одна достопримечательность кабинета гнорра ускользнула от него, спрятавшись за центральной колонной. Пыточный стул с ремнями, которые обхватывают тела своих жертв, словно щупальца спрута.
– А теперь, рах-саванн, у меня есть к вам одна просьба, ― сказал Норо, деловито потирая руки. ― Будьте добры, отзовите Ищейку.
Стало быть, наступило роковое «чуть позже».
– Я не умею. Я просто не у-ме-ю! ― совершенно искренне и совершенно отчаянно сказал Эгин.
– Вы настаиваете?
– Увы, аррум, ― неловко пожал плечами Эгин, следя за тем, как караульные буквально прикручивают тело смурной Овель к креслу.
Когда они окончили оплетать ее жесткими ремнями, Норо сделал знак рукой, и караульных как ветром сдуло. Никаких там «милостивые гиазиры, оставьте нас». Теперь Норо явно было не до показной вежливости, ибо рыбы уже стали багряно-красными (что бы там это ни означало в точности, а, определенно, ничего хорошего этот знак Норо не пророчил).
– У меня нет времени, Эгин, а потому придется расправляться с твоими заблуждениями, которые стали чересчур опасны для меня. Причем расправляться с ними будем быстро. Либо ты отзываешь Ищейку немедленно, либо Овель умрет на твоих глазах. Достаточно быстро, чтобы зрелище это не успело нам наскучить, и в то же время достаточно медленно, чтобы оно запомнилось тебе на все твое проклятое посмертие, о котором я уж успею позаботиться вполне особым образом. Правда, Овель?
Как это ни странно, но слова гнорра не вызвали в Эгине никаких чувств, кроме легкого удивления. Удивления по поводу того, с какой легкостью и непоследовательностью Норо переходит в разговоре с ним с «ты» на «вы» и обратно.
Норо подошел к жертве и нежно положил ладонь на ее оголенное стараниями караульных плечо. Словно бы любящий отец на сватовстве дочери.
Шантажировать офицеров Свода в подавляющем большинстве случаев невозможно, ибо офицеры никогда не имеют родственников, почти никогда ― истинно близких любовных привязанностей, им запрещено иметь детей и жениться до отставки. Подумаешь, Овель! Да как этот Норо пронюхал, что она значит сейчас для него больше, чем весь остальной мир? И Эгин, решив для начала испробовать классический ход, ответил:
– Эта женщина ничего не значит в моей жизни. Ты можешь зарезать ее, как барана. Можешь справить нужду ей на грудь. Можешь вступить с ней в связь у меня на глазах. Это оставит меня равнодушным и ничего не добавит к тому, что я уже сказал.
Но играть по нотам, написанным для офицеров Свода, с гнорром все того же Свода, затея глупая. Норо не поверил ни одному слову, сказанному Эгином. Зато Овель, проявившая редкую для себя твердость духа и не уронившая даже украдкой ни одной слезинки, начала тихо плакать. Даже если бы гнорр поверил Эгину сразу, после вот таких слез Овель он бы наверняка пересмотрел свои взгляды.
– Отзывай Скорпиона, дружок, ― подытожил Норо.
Он театрально развел руками ― мол, что ж я могу поделать, раз ты такой упрямый осел ― и снова извлек из ножен кинжал, которым только что отсек каштановую прядь своей жертвы.
«Снова „дружок“! Что они все заладили ― „дружок“, „дружок“!» ― Эгин был в отчаянии, но все же постарался принять самый безучастный вид. И не закрыть глаза.
«И все-таки Лагха был прав. Был тысячу раз прав, Хуммеров выкормыш! Я встретил в Пиннарине Овель. Правда, сидящую в пыточном кресле. Уж лучше бы я вообще не встречал ее», ― бился в тихой истерике Эгин, когда Норо сделал крохотный надрез под щиколоткой Овель.
Кровь не замедлила явиться. Она стала наполнять туфлю, а когда пошла через край, Норо сделал еще один надрез ― но уже на другой ноге.
– Поверь, Эгин, это самое безболезненное для нее средство побороть твое ослиное упорство. Есть средства и похуже, ― разглагольствовал Норо, как будто бы разговор шел за чашкой подогретого аютского. ― Я буду вскрывать ее вены одну за другой. Не слишком быстро, ибо каждому ослу должно быть дано время на то, чтобы сосредоточиться. Но и не слишком медленно, потому что я не ослиный пастырь. Ты меня слышишь, Эгин?
Эгин не отвечал. Его немного тошнило, и это было лучшим доказательством того, что средства Норо приносят свои плоды.
Эгин, давно забывший о брезгливости, Эгин, проливший в своей жизни если не реку, то уж, по крайней мере, ручей этой солоноватой алой жидкости, был в смятении, и причиной этому служили две красные ниточки, струящиеся по пяткам девушки с каштановыми волосами и заплаканными глазами обиженной аристократки. Эгин, рах-саванн Опоры Вещей, не ведавший ни жалости, ни гадливости, теперь был бледен. Холодный пот выступил на его лбу. А зрачки схлопнулись в две отчаянные точки.
– Отзывай Скорпиона, ― повторил Норо окс Шин, держа Овель за запястья.
– Прекрати, Норо, я не лгу тебе, прекрати мучить ее, я ничего не могу поделать с этой тварью, ― тяжело дыша, говорил Эгин. ― Я даже не аррум. Я не прошел Второго Посвящения. Я просто тупой варанский солдафон, ставший орудием сил, которым не знаю ни имен, ни назначения.
– Гм… ― Норо сделал надрез на запястье Овель. Не настолько большой, чтобы кровь хлестала неостановимо, но и не настолько маленький, чтобы она сочилась крохотными каплями. И еще один ручеек стал низвергаться вниз с высоты подлокотников пыточного кресла.
– Ты не аррум, это правда. Но у меня есть для тебя хорошее предложение. Если ты сейчас отзовешь Ищейку, я произведу тебя в пар-арценцы. Я не шучу. Из-за мятежа Дотанагелы и измены людей Лагхи Коалары в Своде почти не осталось сильных. А ты крепок, Эгин, ты мог бы занять пустой кабинет пар-арценца Опоры Вещей.
«Не мечом, так хреном!» ― подумал Эгин, откидываясь назад, на резную спинку кресла «для гостей», которое даже при полном отсутствии специальных приспособлений в присутствии Норо легко обращалось в кресло для пыток.
Эгин был действительно, на самом деле, безо всякого вранья и безо всяких там принципов, идей и убеждений, уверен, абсолютно уверен в том, что не может отозвать Убийцу отраженных. И в этом была вся беда.
Ради Овель он был готов сделать что угодно. Все, что было в его силах. Но только не отозвать Скорпиона. Для него это было равносильно тому, чтобы заставить Солнце Предвечное сменить желтый цвет на фиолетовый. Или повернуть вспять медленноструйный Орис. Или заговорить вдруг на наречии эверонотов. Эгин, не воспользовавшийся в своей жизни ни одним заклинанием, был уверен, что, желай он этого сколь угодно страстно, Убийца отраженных даже клешней не поведет. Ибо на самом деле Эгин никакой ему не хозяин. А скорее, слуга. Раб. А стало быть, он совершенно бессилен.
«Невозможное ― невозможно». Этот принцип настолько глубоко въелся в мозг Эгина, что даже последние две недели не смогли устойчиво вытравить его оттуда. Даже крики Овель. Даже ее слезы. Даже хохот Норо окс Шина, нового гнорра Свода.
– Пойми, Эгин, я не терплю бессмысленных убийств. Мне не хочется убивать ни тебя, ни эту милую, трогательную девочку. Будь я обыкновенным человеком, я бы не постоял ни за чем, только бы обладать ею. Если ты выполнишь мою просьбу, она будет твоей. Она не просто останется жива. Она станет твоей женой. Произойдет то, о чем ты не мог мечтать даже в самых смелых своих снах. Я сделаю так, что вы сможете скрыться из Пиннарина навеки. Вдвоем. Вы сможете жить и наслаждаться жизнью где угодно. Где угодно, вдали от Хорта окс Тамая, чья похоть, между прочим, рано или поздно доведет эту крошку до помешательства. Вдали от Лагхи, чей пронзительный взгляд для нее хуже взгляда желтой кобры, обвившей шею. Впрочем, Лагха не жилец на этом свете, ― поправился Норо. ― Вдалеке от меня, в конце концов, если мое общество действительно столь уж противно…
В этот момент Овель, напрягшись всем телом, стала биться среди ремней, метаться среди щупалец спрута и изрыгать брутальные словечки из арсенала портовых шлюх. И где она их только набралась? Впрочем, Овель быстро обессилела и обмякла. Лужа крови увеличилась ровно вдвое. Глаза Овель горели безумным огнем.
– Отзови его, Эгин, я умоляю тебя, отзови, ― простонала Овель. Последние слова она сказала почти шепотом, но Эгин отлично слышал ее.
И в этот момент его осенило. Обман. Этот обман поможет ему выиграть, по крайней мере, время. По крайней мере, кровь из новых ран не прибавится к крови из старых, она не будет заливать пол кабинета гнорра с такой удручающей быстротой.
– Дай мне сосредоточиться, Норо, ― сменив интонацию на волевую, сказал Эгин, всем своим видом изображая человека, который одумался, простился с заблуждениями и взял себя в руки. ― Перестань ее резать, не то тебе нечем будет расплатиться со мной, когда твоя шкура будет спасена.
Норо ответил ему согласным кивком. Он бросил правое запястье Овель и пристально посмотрел внутрь стеклянного шара, рыбы в котором теперь переливались всеми оттенками оранжевого. И немного сдвинул шлем на затылок. Наверное, в нем было все-таки очень душно.
Знахарь, Лагха и Дотанагела. А еще ― Тара, Лиг, Фарах и Киндин. Сплошь маги, призраки, провидцы, наполовину всемогущие. С какими замечательными людьми, а если не людьми, то сущностями, свела его судьба за последние две недели! И, между прочим, многие из вышеперечисленных общались с ним как с равным. Знахарь, вот, например, говорил, что симпатизирует ему и верит в его счастливую судьбу. Да неужели же он, навидавшийся магической гадости до ряби в глазах, не сможет поставить убедительный спектакль со своей персоной в главной роли? Такую себе пьесу «Эгин, могучий странник Великого Пути, повелевает Скорпионом!» Для столь благодарного зрителя, как Норо, он будет играть так артистично, как только сможет.
– Мне нужна тишина, ― утробным голосом сказал Эгин и закрыл глаза.
Затем закусил нижнюю губу. Стал дышать быстро и глубоко, оставляя крохотные паузы между вздохами. И еще напряг колени и вытянул носки ног, словно бы объятый судорогой. Его ноздри стали трепетать в такт дыханию, а брови сомкнулись над переносицей. Будь его руки свободны, он изобразил бы пальцами какую-нибудь фигуру наподобие тех, что плела иногда Тара. И еще хорошо бы исказить лицо пугающей гримасой, как то было в обычае у Фараха. И, наконец, для того, чтобы добавить правдоподобия этому действу, необходимо действительно представить себе Скорпиона. Эгин чувствовал странную безоглядную решимость. Он чувствовал некое вдохновение, природа которого оставалась ему неясна.
Норо видел это. Он опустил кинжал. Норо замер. Овель перестала плакать и смотрела на Эгина во все глаза. Что это с ним происходит?
А с Эгином действительно происходило нечто очень странное. Очень скоро поток привычных мыслей ушел куда-то в сторону, и его место занял поток чужих мыслей. Очень необычных. Явно нечеловеческих.
Его глаза, которые были по-прежнему закрыты, начали видеть что-то, чего он никогда раньше не видел. Это было похоже на сон. Но лишь похоже, ибо Эгин полностью осознавал происходящее. Он видел железную клеть, огромную, словно дом, проносящуюся мимо него куда-то вверх с лязгом и скрипом. Он видел каменную трубу, по которой продвигался вертикально вверх. Он был необыкновенно цепким, очень глупым и исключительно целеустремленным. Он, Эгин, прекрасно знал, куда ему нужно. Ему нужно на самый верх, туда, где труба оканчивается и начинается что-то очень интересное. Он полз, цепляясь всеми своими лапками, и даже неуклюжие клешни, поблескивающие синевой, не были ему в этом помехой.
«Я в стволе подъемника», ― догадался Эгин и с неожиданной для себя естественностью принял эту мысль.
«Я ползу вверх, к кабинету гнорра».
«Я ― Скорпион, Убийца отраженных». И даже это ничуть не удивило Эгина. Что ж, скорпион так скорпион.
До верха оставалось еще довольно долго, но конец пути уже обозначился чем-то похожим на небо, и это радовало Эгина. Его новое тело не чувствовало усталости, но сила земного притяжения, увы, сохраняла над ним свою безраздельную власть. Он понимал, что не хочет сорваться вниз. Что должен ползти помедленней, дабы какая-нибудь скользкая железка, обмазанная маслом, не помешала его лапкам цепляться. Эгин полз довольно долго, погрузившись в новые, совершенно незнакомые ощущения, пока одна чужеродная мысль не нарушила этой гармонии восхождения. «Кажется, я должен остановиться, мне не нужно наверх», ― подумал Эгин-скорпион и остановился, дабы разобраться, так это или не так. Но что-то произошло вовне, во внешнем мире или во внешнем сне, что заставило Эгина вздрогнуть и… открыть глаза.
– …они прибыли. Лагха уже на пристани и Сиятельный князь…
Лагха? На пристани?
Оказалось неожиданно светло. Норо, о да, конечно, Норо, слушал донесения какого-то плешивого человека. Не того ли самого, который только что поднялся сюда на подъемнике, пока он, Эгин-скорпион, пробирался вверх? Бледная-пребледная Овель с бескровными губами и красными от слез глазами в ужасе смотрела на него, словно на собственного восставшего из фамильного склепа пращура ― того самого грозного Гаассу окс Тамая, что под знаменами Шета окс Лагина ходил воевать за Священный Остров Дагаат. Что же это происходит, милостивые гиазиры?
Глазами новорожденного щенка Эгин озирал кабинет гнорра, который начинал меняться прямо на глазах. Становилось все светлее и светлее, и причину этого странного явления Эгин понял не сразу. Норо был явно поглощен новостями, принесенными арру-мом, и ему было ― или, по крайней мере, так казалось ― не до Эгина.
Купол Свода Равновесия раскрывался. Некий неведомый Эгину механизм, приведенный в действие Норо окс Шином, с мерным скрежетанием раскрывал купол на отдельные лепестки. Неба в кабинете гнорра становилось все больше и больше, а сам кабинет с каждой минутой становился похож скорее на смотровую площадку на вершине пресловутой Башни Оно, чем на обитель любви и власти. И с этой смотровой площадки, в чем совершенно не сомневался Эгин, открывался отличный вид на всю столицу и на порт в том числе. А о том, что происходило в порту, Эгин начинал понемногу догадываться. Лагха прибыл в гости к Хорту окс Тамаю. Вот что там происходило.
Норо вступил, как всегда, неожиданно.
– …Что ж, Эгин, я в тебе не ошибся. Твоя ложная скромность не обманула меня. Стать Скорпионом для тебя так же просто, как для простых смертных встать на руки. Но… ― он указал на Овель, чья внезапная безучастность начинала сильно тревожить Эгина, ― невинная теплая кровь по-прежнему истекает из этого сосуда сладострастия. Поэтому на твоем месте я бы поторопился с выполнением моей просьбы. Долго наша красавица не протянет.
Гадать о том, как, собственно, Норо узнал о том, что Эгину удалось войти в контакт с Убийцей отраженных, ему не пришлось. Потому что объяснение было у всех на виду ― рыбы, заключенные внутри стеклянного шара, перестали пламенеть оранжевым и вернулись к своему предыдущему состоянию. Это обнадежило Норо окс Шина, оставило безучастным плешивого и прошло совершенно незамеченным для Овель.
«Было бы лучше, если бы она рыдала, а не кончалась в жертвенном безмолвии, Хуммер их всех подери!» ― подумал Эгин, исполненный решимости отозвать Скорпиона во что бы то ни стало. Ибо невозможное стало возможным.
Сиятельный князь Хорт окс Тамай во главе пышной и, главное, вооруженной до зубов свиты ждал гнорра под памятной стелой «Голубого Лосося», как того и требовало письмо гнорра. На Сиятельном князе был надет с виду совершенно обычный и, в общем-то, невзрачный шлем с простой полумаской и коротким наносником.
Гнорр сошел с борта «Венца Небес» в полном одиночестве. Он был облачен в шлем Кальта Лозоходца и препоясан показательно пустыми ножнами.
Они не виделись больше месяца, со дня последнего большого приема у тогда еще живого Сиятельного князя Мидана окс Сагтора. И были бы рады не увидеться никогда.
Десятки тысяч глаз были устремлены на них. Тысячи стрел были направлены в сердце Лагхи Коалары, сотни ― в сердце Сиятельного князя Хорта окс Тамая.
Гнорр приказал всем своим людям остаться на кораблях. Вместе с людьми он оставил два простых приказания. Первое: если он упадет на землю ниц, пронзенный ли стрелами, или ради спасения своей жизни от оговоренных стрел, ― незамедлительно высаживаться и убивать столько, сколько достанет жизненных сил и алчности стали. Второе: если он, гаорр, обнимет Сиятельного князя за плечи ― подымать штандарты династии Тамаев повыше, показательно швырять оружие в воду и вообще брататься Итак, Пиннарину в тот день был оставлен жестокий выбор: либо погрузиться в пучину кровавого безумия (это было бы как обычно), либо избежать кровопролития (это было бы чудом, и в него никто не верил).
Гнорр остановился на пристани в двадцати шагах от Сиятельного князя.
– Иди ко мне, Хорт, мы будем говорить здесь, чтобы наши слова не стали добычей ушей недостойных! ― Лагха имел в виду сопровождавших Хорта придворных, высших гвардейских чинов и прочую шушеру, от которой его тошнило еще с веселых деньков правления в Ре-Таре.
– Сиятельному князю не пристало… ― начал было выкрикивать сопровождавший Хорта церемониальный глашатай, в обязанности которого входило прогорланить на полпорта то, что шепнул ему на ушко Сиятельный князь.
– Молчать! ― Лагха вскинул правую руку, облаченную в широкий наруч со множеством позвякивающих друг о друга подвесок. Удивительное дело ― веление их звона оказалось необоримым, и глашатай мгновенно заткнулся.
– Переговоры между великими, ― продолжал Лагха, ― должны проистекать в величественной тишине и неведении смердов. Иди ко мне, Хорт, иначе не видать тебе искомого предмета, как внешнего испода хрустальных небес.
Лагха не испытывал страха. И это делало его непобедимым. А Хорт боялся, очень боялся навеки потерять свое единственное сокровище, свою шелково-кожую Овель, без которой последняя неделя показалась ему горше смерти, хотя он и пребывал в самом средоточии власти, на княжеском престоле.
Хорт повиновался. И пока он, изо всех сил стараясь не уронить свое княжеское достоинство, мерил шагами расстояние, отделяющее его от гнорра, гнорр думал о том, что слабость смертных неизмерима, и, не будь в мире некогда звезднорожденных, а после ― отраженных, все уже давно скатилось бы в пасть к Хуммеру. И в этом Лагха был прав. Прав ровно наполовину.
– Здравствуй, Лагха, ― тихо сказал Сиятельный князь, подходя к гнорру совсем близко.
Сотник лучников по имени Сарпал (в действительности ― рах-саванн Опоры Вещей), начальствовавший стрелками на крыше вспомогательного арсенала Морского Ведомства, в досаде сплюнул под ноги. Пурпурный плащ Хорта полностью закрыл гнорра от его людей. В это же время выругались еще очень многие, но именно Сарпал был зол сильнее всех. Он имел недвусмысленные указания от Норо окс Шина и не собирался упустить очередное повышение из-за неосмотрительности Сиятельного князя.
– Здравствуй, Хорт. Где голова самозваного гнорра?
– Гнорр жив и, полагаю, будет жить еще долго, ― в словах Хорта Лагха услышал странные нотки, которых раньше в голосе Золотой Руки не было.
– Жив? А ты помнишь, князь, что я писал тебе о его жизни? Жизнь самозваного гнорра ― смерть Овель.
– Чтобы умертвить Овель, надо владеть ею. Докажи свою власть над ней, Лагха, и мы будем говорить еще. Иначе ― ты покойник, ― глаза князя зловеще блеснули в прорезях полумаски.
«И все-таки он ведет себя слишком глупо. Подошел очень близко, чересчур близко, так ведь я могу убить его в любое мгновение», ― подумал Лагха, в то же время удрученно подмечая, что на крыше Дома Скорняков, на крыше, прекрасно просматривающейся с его места и свободной от лучников князя, не видно ни Овель, ни Онни, ни прочих его людей. Это значит, что Эгин не доставил послания. Это значит, что никакой подлинной власти над князем он, Лагха, не имеет. Что же, придется использовать власть поддельную.
Лагха чуть тряхнул своим непростым, очень непростым наручем, и подвески на нем вновь разразились мелодичным звоном, под аккомпанемент которого прозвучали слова, призванные раздавить в ничто волю Хорта окс Тамая.
– Плохо говорить, князь, когда вместо подарков друг другу мы держим в руках пустоту, а за нашими спинами дрожат тысячи натянутых луков. Мы не можем стоять здесь вечно, князь. Разреши моим людям сойти на пристань, князь, разреши им пройти об руку с твоими гвардейцами к Своду Равновесия, разреши мне проследовать туда же об руку с тобой, и мы возьмем жизнь самозваного гнорра и Овель исс Тамай…
Лагха Коалара говорил и говорил, подвески все звенели в такт плавным покачиваниям его руки, на его спине начал проступать холодный пот, а в глазах князя, к его неприятному изумлению, стояла та же зловещая стена, что и прежде. Сиятельный князь был явно глух к колдовскому звону, глух к медоточивым речам опытнейшего совратителя душ человеческих, и в это время гнорр заметил, что в свите князя, напряженно следившей за переговорами, произошло некое замешательство и сквозь нее прошел человек, который быстрыми шагами направлялся прямо к князю.
Оказавшись рядом с ними, незваный гость, пренебрегая говорением Лагхи, сказал:
– Сиятельный князь, вам сообщение от гнорра Ваша племянница находится в полной безопасности в Своде Равновесия, в доказательство чего гнорр прислал вам вот это.
В протянутой руке человека была прядь каштановых волос. Хорт окс Тамай прикоснулся своей «золотой рукой» непобедимого игрока в лам к пряди и, конечно же, сразу почувствовал неповторимый След Овель. Чтобы убедиться в правдивости сногсшибательной, ужасной новости, Лагхе Коаларе достало одного взгляда.
– Что вы скажете на это? ― в голосе князя не было ничего, кроме спокойствия, торжества и похотливой хрипотцы. Старик уже мысленно водил Овель нескончаемыми садами запрещенных Уложением Жезла и Браслета наслаждений.
В этот раз все шло гораздо хуже, чем в предыдущий. Тело Скорпиона отчего-то перестало быть доступным Эгину. Быть может, оттого, что он стал нервничать гораздо сильней и сосредоточиться так, как того требовал этот странный ритуал, у Эгина, новичка в Великом Пути, не получалось. Осознание ответственности за жизнь Овель, реальной ответственности, осознание возможного делали его попытки суматошными и тщетными.
Купол полностью раскрылся, и в кабинете гнорра теперь гулял такой силы ветер, какой обыкновенно можно встретить лишь в горах. Попробуй сосредоточься, когда под твоими ногами ― весь многострадальный Пиннарин.
Отчаявшись в очередной раз, Эгин то и дело открывал глаза. Каждая новая неудача заставляла его все больше сомневаться в собственных силах. Чтобы как-то успокоиться, он следил за Норо, который теперь стоял к ним спиной, облокотившись на тонкие перила, огораживающие его вскрытый, подобно устрице, кабинет, и следил за событиями, разыгрывающимися в порту. И хотя Эгину с его кресла не было видно совсем ничего, кроме небес и туч в означенных небесах, он чувствовал, что там, на пристани, все идет как по маслу. Возможно, Лагха уже убит. Он знал своего начальника не первый день и с легкостью определял, доволен он или злится. Норо был доволен.
– Эгин, поторапливайся, ― бросил Норо окс Шин через плечо, невесть каким пятым, шестым или сотым чувством определивший, что Эгин пялится ему в спину, позабыв о Скорпионе.
Разозленный своим бессилием, Эгин всерьез подумал о том, что если подскочит сейчас к Норо сзади (ведь ноги его, к счастью, остались несвязанными) и изо всех сил даст гнорру пинка, то тот, возможно, упадет вниз с огромной высоты своего кабинета, словно мешок с отрубями. Но тут же всерьез отказался от этой затеи. В такие решительные моменты нельзя уповать на мальчишеское везение.
Лагхе хватило последних крупиц самообладания, чтобы не броситься под ноги Сиятельному князю, опрокидывая того на себя сверху (как он уже поступил не так давно с пар-арценцем Опоры Безгласых Тварей во время штурма Хоц-Дзанга) и тем самым оттягивая свою неминуемую гибель под градом стрел и под сапогами морских пехотинцев. Лагха остался стоять, он даже немного приосанился и нашел в себе силы улыбнуться.
– На это? ― Лагха кивнул на прядь, которую держали пальцы Хорта окс Тамая прямо перед его носом, словно бы демонстрируя некую редчайшую, фантастической красоты бабочку. ― А что вы скажете на это, князь?
Если на правой руке гнорра по моде Южных Домов Алустрала был мужской наруч, то на левой ― веер с изящной ручкой в форме изогнутой лебединой шеи. Веер крепился к запястью шелковым шнурком, завязанным со щегольской небрежностью и выпроставшим наружу распушенные концы. Правая рука гнорра, подобно молнии, метнулась к этой шелковой опушке, вырвала клок волокон и под звон подвесок взметнулась к лицу Хорта окс Тамая. Сиятельный князь чуть отшатнулся, он был испуган резкими движениями гнорра, и его гортань уже была готова проорать роковое: «Стреляйте!!!». Но изумление пересилило испуг. В пальцах гнорра теперь тоже была прядь волос Овель.
– Не бойтесь, князь, потрогайте.
Хорт окс Тамай несмело коснулся второй, поддельной пряди. Она несла След Овель. Ее ― и ничей больше. О Шилол!
– Поэтому я называю себя гнорром, князь, ― с достоинством заметил Лагха, сердце которого бешено клотилось, но речь была уверенной и неспешной. ― Я могу в одно неделимое мгновение времени изменить шелк, сделав его прядью волос Овель. И тот мерзавец, который засел в Своде Равновесия, назвавшись гнор-ром, тоже это может. Да и ты сам, пожалуй, смог бы, князь, ибо для человека, направляющего пути фигур лама, это немногим труднее, чем поставить «башню» из пяти «шипастых окуней» на «доме мурены».
Прежде чем Сиятельный князь успел что-либо ответить, офицер, доставивший прядь на пристань, выкрикнул:
– Не верьте ему, князь! Я лично вел дело Овель, и я…
Офицер не договорил, потому что веер, мгновенно растерявший все перья и преобразившийся в стилет, вонзился ему в горло.
Лагха Коалара сорвал свой шлем и отшвырнул его в сторону. Он ожидал смерти в любое мгновение.
– Князь! Ваши люди не должны стрелять! ― в голосе Лагхи смешались в удивительное варево предостерегающий выкрик, властный приказ, отчаянная мольба.
Тело офицера упало прямо под ноги Сиятельному князю, но Хорт не видел его. Перед его глазами билось огненными пиявками только одно слово: «Стрелять! Стрелять! Стрелять!» Сегодня утром новый гнорр дал ему этот шлем, сказав, что он сделает его неуязвимым на переговорах, сказав, что он поможет ему во всем. В этом проклятом шлеме все время гудела голова и чесалась плешь. А теперь шлем приказывал Сиятельному князю отдать самоубийственный приказ. Приказывал волею Норо окс Шина, который находился в двух лигах от них, на вершине раскрывшегося купола Свода Равновесия. Но что-то в глубине сознания Сиятельного князя все еще противилось этому страшному приказу, противилось вопреки магическому искусству Норо, и это «что-то» передалось ему от истинной пряди волос Овель, которую он действительно любил. Этого Норо учесть никак не мог, ибо отраженные лишены любви так же, как простые смертные ― представлений о хум-меровых безднах и неисповедимых путях Великой Ма-1ери Тайа-Ароан.
Лагха Коалара понял, что Хорт окс Тамай сейчас не слышит его, что Сиятельный князь вошел в странный столбняк сродни тому, в который входят сильные, когда используют отводящую магию. И тогда Лагха Коалара обнял Сиятельного князя, как блудный сын ― строгого, но любящего отца.
Знак, поданный гнорром, был понят на кораблях «Голубого Лосося». Тотчас же в воду полетело оружие, стрелки с удовольствием опустили натянутые луки, вверх поползли штандарты рода Тамаев. На кораблях Флота Открытого Моря, на крышах домов, в рядах княжеской гвардии взирали на это представление настороженно, но не без одобрения. Если что ― можно будет перебить этих безумцев совершенно безнаказанно. Если что? ― никто не знал, ибо гнорр и князь продолжали стоять совершенно неподвижно, Лагха обнимал Хорта, прижавшись губами к срезу его шлема близ ухн, и никто не слышал его шепота, никто не видел, чтобы Сиятельный князь подавал хоть какие признаки ЖИЗНИ.
«Услышь меня, услышь меня, потомок неистового Гпассы окс Тамая, пусть твоя кровь вспомнит нашу общую войну, пусть вспомнит Кальта Лозоходца, пусть поверит ему…» ― это и много иного шептали уста Лпгхи в те короткие, но столь бесконечно длинные мгновения, когда решалась судьба Пиннарина и всего Баранского княжества.
Ему помогло его же собственное нетерпение. Или, по крайней мере, так ему хотелось думать. Когда его мозг уже обессилел от попыток прорваться по ту сторону себя самого, когда перед его мысленным взором поползли зеленые черви и стали разбегаться разноцветные круги, Эгин сказал самому себе: «Хватит! Будь что будет!» и был уже готов вернуться в кабинет гнор-ра, как вдруг… увидел собственные клешни, украшенные поддельными сапфирами, собственные ноги, бывшие некогда гардами столовых кинжалов. Почувство-. вал, как приятно хрустит каждое его сочленение и как его хвост, увенчанный смертоносным жалом, наливается тяжестью грядущих свершений.
А еще он видел Пиннарин, лежащий внизу, словно большой и сочный пирог, набитый всякой всячиной. Правда, эта гигантская снедь не вызывала у него аппетитных слюнок. Эгину стало казаться, что от аппетита он избавился если не навсегда, то надолго. Он видел и пристань и, как ему казалось, мог различить там фигуру Лагхи. А рядом ― фигуру Хорта окс Тамая, на котором был шлем, точь в точь похожий на тот, что украшал голову Норо окс Шина. Еще одной загадкой стало меньше. Разумеется, Норо использовал шлем, чтобы следить за Сиятельным князем, которому вменялось быть паинькой и не баловать попусту.
Но Эгин-скорпион был отягощен смутным осознанием того, что не может задерживаться здесь долго, сколь бы интересным не было все происходящее вверху и внизу. Здесь ― это, собственно, где? Эган с трудом повернул свою уродливую голову, и мир, подернутый легкой изумрудной пеленой, дал ему ответ. Здесь ― это на вершине раскрывшегося купола Свода Равновесия. Здесь ― это значит, у самого основания гигантской двуострой секиры, созданной безвестным зодчим, дабы внушать страх и трепет. Он чувствовал, что уцепился недостаточно хорошо. Что его позиция недостаточно устойчива и что в любую минуту он может свалиться вниз, пустив насмарку все долгое восхождение. Он не разобьется, но тогда все труды нужно будет повторить с самого начала. Стоять на краю колонны было тяжело. Он ведь всего лишь скорпион. Не муха. Нужно ли ему валиться вниз?
Прямо под собой он увидел навершие шлема. Какого еще шлема? Шлема Норо окс Шина ― очень скоро сообразил Эгин-скорпион. Значит, ему нужно именно вниз, но не слишком вниз, а в аккурат на шлем. Ему все-таки придется упасть. Хотя нет, здесь есть одно противоречие. Он, Эгин-скорпион, должен остановиться и перестать хотеть очутиться за шиворотом у гнорра Свода Равновесия Норо окс Шина. Вот что от него требовалось. Так, по крайней мере, он себе это представлял.
«Отозвать Скорпиона ― это значит отозвать самого себя», ― сообразил наконец Эгин, который, очутившись в теле Убийцы отраженных, оставил в своем теле человека девять десятых мыслительных способностей.
Противоречия. Их слишком много. С одной стороны, он, Эгин-скорпион, должен остановиться и… наслаждаться пейзажем дальше. С другой стороны, его нутро, его самость хотят совсем другого. Он ― Скорпион и создан для того, чтобы разить, жалить, уничтожать отраженных. Один такой отраженный сейчас нервничает, хрустит костяшками пальцев и зрит в направлении пристани прямо под ним. Нужно лишь упасть и дать жалу вонзиться в теплую человеческую плоть во исполнение своего же предназначения. Другой отраженный тоже в Пиннарине. Он, Эгин-скорпион, отлично чует это своим особым скорпионьим чутьем. Но этот, другой отраженный далеко. Он появился здесь совсем недавно. Он, пока что он недосягаем. Это значит, что для него он уже не существует.
Но он не может убить того, который стоит внизу. Почему?
И тут внутри Эгина-скорпиона произошло нечто, похожее на землетрясение. На извержение внутреннего вулкана. Он, Эгин-скорпион, стал скорее Эгином, нежели Скорпионом. Норо. Да, он всегда относился к своему начальнику с пиететом и многотерпеливой преданностью. Доверял ему, служил ему на совесть. Не держал от него тайн. Был псом. Вассалом. Ничем. Он, Норо, использовал его, как хотел и когда хотел, Норо платил ему за службу ложью, Вечной лпжыо И еще обе= щаниями, тоже лживыми. С чего это он, Эгин, решил, что Норо хоть пальцем двинет для того, чтобы позволить им с Овель скрыться из Пиннарина? После того как опасность перестанет существовать, перестанет существовать и сам Эгин. Ибо если бы слово офицера, честь и порядочность, если бы все эти понятия звучали для Норо окс Шина хоть сколько-нибудь убедительно, не бывать ему сейчас гнорром, пусть даже и трижды отраженным. И почему бы ему, Эгину-скорпиону, не убить человека, который наверняка не задумываясь убьет его? Почему бы и не вонзить ему в тело свое жало, напоенное ядом Гулкой Пустоты, тем более что это как нельзя лучше соответствует велениям его самости? Зачем притворяться травоядным и поступать наперекор себе, если его внутренний голос поет и кричит ему именно об убийстве?
Примерившись к прыжку, Эгин-скорпион напряг все свои силы, чтобы не промахнуться, и…
Ничто не длится вечно. Завершилось и их объятие, вошедшее впоследствии в историю как «поцелуй Лагхи».
Хорт окс Тамай разлепил губы и еле слышно спросил:
– Стрелять?
Лагха, который, разумеется, был единственным, кто слышал князя, встрепенулся.
– Князь, ты слышишь меня? ― спросил он, чуть отстраняясь и пристально всматриваясь в глаза Хорта. В них не было больше мутной стены. Или почти не было.
– Да, Кальт… ― судя по губам князя, искривившимся от затаенной муки, тот чувствовал себя отнюдь не лучшим образом.
– Очень болит голова, ― признался он после недолгого замешательства.
«Он действительно услышал меня!» ― подумал Лаг-ха, соображая, не сболтнул ли он чего-то лишнего, пока с перепугу горячечно взывал к предкам князя.
– Ты должен снять свой шлем подобно тому, как это сделал я, ― сказал Лагха. ― И тогда боль оставит тебя навсегда.
Сиятельный князь в сомнении покачал головой, но, по всей вероятности, от этого движения боль ударила ему в виски с новой силой, и он в отчаянии поспешил сорвать свой незатейливый шлем.
– О Гилол, ― только и пробормотал Сиятельный князь.
Теперь Лагха воочию убедился в том, о чем догадывался с первого мгновения разговора с Сиятельным князем. Хорт окс Тамай выглядел измученным и изможденным. Под его глазами отложились тяжелые синие мешки. Но, главное, общая картина, в которую складывались черты его лица, словно бы говорила: «Сиятельный князь обречен, обречен к быстрой или медленной смерти, но обречен и бесстрастной волей судеб, и злонамеренной волей нового гнорра».
– Князь, вам нужен отдых, ― сказал Лагха, и в его голосе звучало почти неподдельное сострадание. ― Но прежде прикажите своим людям разрядить луки. Мои, как вы можете видеть, уже безоружны.
– Да… разумеется, да.
Сиятельный князь обернулся и жестом подозвал к себе церемониального глашатая. Спустя несколько мгновений его луженая глотка уже несла над рядами княжеской гвардии благую весть:
– Сиятельный князь повелевает… Оружию ― мир!
Среди десятков тысяч солдат, морских пехотинцев, людей Свода Равновесия и праздных зевак, ― которые, просочившись сквозь оцепление, имели радость наблюдать историческую встречу сильнейших Варана, были всего лишь четверо, от которых в тот день действительно что-то зависело. И среди этих четверых не было ни Лагхи, ни Сиятельного князя, ни даже самозваного гнорра Норо окс Шина.
С борта «Голубых Лососей» сходили первые несмелые десятки разоружившихся морских пехотинцев.
Над «Венцом Небес» реяли штандарты династии Тамаев, и в лад с ними развевались полотнища нового князя на «Звезде Глубин», «Гребне Удачи» и «Ордосе».
Облегченный ропот полз надо всем пиннаринским портом. Господа замирились или хоть сделали вид, что замирились, и мы вроде все живы будем до следующей свары.
Сиятельная Сайла исс Тамай, супруга предыдущего князя и сестра ныне здравствующего, единственная женщина среди всей свиты, глазами-щелками, сузившимися от разнообразных и сложных мыслей о любви и власти, пристально следила за «поцелуем Лагхи» и за прочими дивными событиями, которые сейчас распускались новыми, до времени неведомыми нитями судьбы.
Сарпал, сотник стрелков на крыше вспомогательного арсенала Морского Ведомства, подчиняясь приказу князя, опустил лук и приспустил тетиву. Ему как рах-саванну Опоры Вещей не составляло большого труда вскинуть лук в любое мгновение и выстрелить прежде, чем его подчиненные успели бы хоть моргнуть.
Альсим и пар-арценц Опоры Единства, как и было уговорено с Лагхой Коаларой, были одеты простыми «лососями». Они, как и все, показательно вышвырнули дрянные мечи за борт и одними из первых спустились на пристань Отдельного морского отряда. Альсим, который умел сходиться с людьми на короткой ноге, после третьего же кубка гортело для пущей достоверности братания прихватил с собой милостью гнорра уцелевшего Лорма окс Цамму. Лорм был с утра немного пьян, и Альсим, панибратски обхватив его за плечи, поволок бывшего военного начальника Урталаргиса в загадочную неизвестность будущего.
И Альсим, и пар-арценц теперь знали о противнике все. Откуда в первую очередь может выпорхнуть стрела провокатора, а откуда ― во вторую. Они видели распахнутый купол Свода Равновесия, и они одними из первых поняли, что главное зло так или иначе будет исходить оттуда. Впрочем, Эгина и Убийцу отраженных они не учли.
Лагха, взяв Сиятельного князя под локоть, вел его навстречу свите. За его спиной почтительным сдержанным шагом неторопливо сокращали расстояние «лососи» и среди них ― пар-арценц и Альсим.
В это мгновение всеобщего мира над Сводом Равновесия и надо всем Пиннарином полыхнула ослепительная вспышка.
Когда скорпион падает на голову крестьянке, та, шепча под нос безобидные ругательства и поминая предков, начинает по-бараньи трясти головой и размахивать руками, призывая на помощь. Когда скорпион падает на голову воину, он молниеносно извлекает из ножен короткий кинжал и счесывает тварь на землю, поближе к своему каблуку.
Когда Скорпион, ведомый сознанием Эгина, упал на шлем Норо окс Шина, тот, почувствовавший чужеродное вторжение, был похож скорее на крестьянку, чем на воина. Эгин-скорпион, сбитый с толку налетевшим порывом ветра, не попал туда, куда хотел, а именно на спину. Очутившись на гладчайшем куполе шлема Норо, он понял, что промахнулся.
Поведение Норо было правильным, и Эгин-скорпион, не удержавшись на шлеме, неуклюже свалился на пол и отскочил назад. Что делать теперь? Эгин помнил такое количество поединков, что их с лихвой хватило бы на трех бывалых солдат. Эгин знал, как драться с противником, когда ты человек. Но когда ты скорпион? Когда ты мал, глуп, слишком юрок и слишком ничтожен по сравнению с громадой человеческого тела ― что делать тогда? Розовым светом блеснул клинок в руках Норо. А где его, Эгина, клинок?
И тут раздался истошный женский крик. Эгин-скор-пион знает этот голос. Это кричит та бледная и простоволосая девушка, прикованная к высоченному стулу. Она кричит, потому что боится. Чего она боится? Эгин повернул свою скорпионью голову, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке, и… сияние розового меча удалилось от него на добрых десять шагов. Крик Овель выбросил его прочь из тела Скорпиона и утвердил в роли заинтересованного, но стороннего наблюдателя. Он по-прежнему сидел в своем кресле, а его руки были скованы жесткими браслетами.
Опасаться было нечего. Опасаться было бессмысленно. Ибо когда ты не можешь ничего поделать, опасаться ― самое глупое, что можно придумать.
Однако Скорпион справлялся и без его, Эгина, участия. Причем справлялся отлично. Гораздо лучше, чем справлялся раньше. Норо пробовал достать тварь своим чудовищным клинком, но тварь закладывала такие виражи, что Эгин просто диву давался. Клинок Норо был почти бесполезен. Что проку в самом совершенном оружии, когда ты просто не можешь достать противника?
Очень скоро Эгину стало стыдно за свою наглую самонадеянность. Как он вообще мог подумать, что Скорпион не справится с делом убиения Норо окс Шина без его участия? Если он нашел путь к Своду Равновесия, если он прошел сквозь все туннели, сквозь все стволы подъемников, миновал всех безумных рах-саваннов, забрался на крышу и все это совершенно самостоятельно, безо всяких там Эгинов, значит, и это едва ли составит ему проблему. Думал Эгин и вот о чем: если бы он не помешал Скорпиону своим вторжением, если бы он не шевелил своим жалким человечьим умишком, не примерялся, не выгадывал перед тем, как прыгнуть с купола вниз, Скорпион наверняка попал бы куда надо, а стало быть, Норо окс Шин был бы уже мертв.
Эгин не сразу понял, почему Скорпион тянет так долго. Отчего он не совершит рокового прыжка? А ведь ответ лежал на поверхности. На Норо окс Шине был шлем. Были наручи. Были поножи. Были штаны из толстой оленьей кожи, к которым Норо питал слабость с незапамятных времен (он, разумеется, не изменил своим привычкам, даже заняв кабинет Лагхи Коала-ры), и теперь Эгин прекрасно понимал ― почему. Потому что Норо всегда боялся Убийцы отраженных. И его тело всегда было защищено почти полностью.
Скорпион искал уязвимое место в защите Норо. Искал все это время. И в конце концов он нашел его.
Обогнув Норо справа, он добился того, что тот принял оборонительную стойку на правую сторону. И в этот момент Убийца отраженных обманно попятился и прыгнул. Далеко, высоко, стремительно. Он вонзился в левый бок Норо окс Шина, туда, где обнажилась крохотная полоска исподней рубахи, ибо доспех, подтянутый вверх рукой, держащей меч, предательски открыл ее для укуса.
Все, что было дальше, происходило очень быстро. Эгин так и не поймал момента, когда жало Ищейки Урайна слилось с плотью жертвы. Да, рах-саванн так и не увидел самого интересного. Потому что в то мгновение, когда Скорпион ужалил отраженного, шар, в котором безумствовали всеми забытые рыбы, ослепительно вспыхнул и разлетелся вдребезги. Все было затоплено зеленоватым сиянием, которое было во много крат ярче солнечного света. И этот свет жег кожу, глаза, внутренности, вызывая слезотечение, жажду и… чувство недоуменного страха. Кабинет Норо наполнился тем странным запахом, какой бывает иногда после грозы. Шара не было. Рыб не было. Эгин закрыл глаза руками, взвыв от боли. Когда на пол рухнуло что-то тяжелое и в комнате воцарилась тишина, Эгин осторож, но открыл глаза. Но ничего, кроме ярко-зеленой мути, не увидел. Ослеп? А Овель? Она тоже ослепла?
Но рах-саванн волновался совершенно напрасно. Овель была без сознания с того самого момента, когда Эгин покинул тело Скорпиона. И глаза ее, разумеется, были закрыты.
Никто в пиннаринском порту не знал, что сейчас на вершине Свода Равновесия истекает кровью Овель исс Тамай, племянница князя. Никто не догадывался, что самозваный гнорр Норо окс Шин, имя которому в предыдущем та-лан отражении было Торвент Мудрый, заклятый и древний враг сущности, что ныне носит имя Лагхи Коалары, а некогда именовалась Кальтом Лозоходцем, в это мгновение истекает черной душой сквозь расколотый жалом стального скорпиона сосуд своих телесных покровов. Никто не знал, что Эгин, безвестный рах-саванн Опоры Вещей, жив, хотя и чувствует себя пребывающим у самой черты небытия.
Не знал всего этого и Сарпал, доверенный стрелок умирающего Норо окс Шина. Сарпал не нуждался в знании. Сейчас ему было важно лишь одно ― меткость, ибо голова Лагхи Коалары то и дело почти полностью скрывалась за крупной головой Хорта окс Тамая. Убивать Сиятельного князя Норо окс Шин ни в коем случае не велел, ибо Хорт был превосходной куклой, которой предстояло сделать для самозваного гнорра еще много добрых дел. Другое дело ― Лагха. Сейчас или никогда.
Следуя безукоризненно усвоенным Освобожденным Путем, левая рука Сарпала воздела грациозный изгиб лука, а правая, одновременно с этим взводившая тугую тетиву с легкостью падающего осеннего листа, отпустила стрелу на свободу.
Как только на вершине Свода Равновесия полыхнула изумрудно-зеленая звезда, все чувства Альсима и пар-арценца Опоры Единства, истинных телохранителей Лагхи, обострились до предела. Но в их силах было лишь отвести стрелу на полпальца, не более.
Стрела пробила голову Сиятельного князя Хорта окс Тамая насквозь и чуть наискось, оцарапав Лагхе правое ухо. Тамай захрипел и начал заваливаться в бок. Лагха успел упасть на колено и подхватить тело князя снизу. Поэтому вторая стрела тоже досталась Хорту.
Подчиненным Сарпала сейчас не было никакого дела до того, что их сотник ― офицер Свода Равновесия, о чем многие догадывались. Негодяй только что застрелил их обожаемого Хорта, их Золотую Руку. Сар-пал разразился бранью только в своем коротком полете с крыши арсенала, а вслед за этим в его размозженное тело разом воткнулись полтора десятка стрел. Лучники отвели душу.
Все видели смерть князя, но лишь немногие знали, кто убил его ― свои или мятежники.
Сиятельный князь умирал на руках Лагхи Коалары. Варан остался без повелителя, и без повелителя осталась мощная и кровожадная армия, многие в которой были готовы растоптать людей гнорра по первому же приказу своих командиров, ибо не знали истины.
По пристани шли гвардейцы. Их лица не обещали ничего хорошего. Штандарты династии Тамаев над кораблями «Голубого Лосося» смотрелись чудовищным издевательством. Лагха почувствовал, что был на одну иглу от победы, но теперь проиграл окончательно.
Лорм окс Цамма протрезвел быстрее, чем того можно было бы ожидать от пятидесятилетнего солдафона, с перепугу всосавшего на рассвете подряд три кубка гортело. Он понял, что гвардейцы сейчас начнут рубить всех без разбору и н первую ошцшм (норр! А ненец гнорра будет и сю, Лормп окс ЦяММЫ, квнцпм, ибо разговор с гвардейскими мечами будет слиткам коротким.
Он вырвался из объятий раздосадованного Альсимп и бросился на заплетающихся ногах (хмель отпустил только его голову) к гнорру. Альсим и пар-арценц Опоры Единства поспешили вслед за Лормом. Что бы он ни задумал, а им требовалось оберегать гнорра от любых неожиданностей.
– Сиятельная госпожа! Сиятельная госпожа! ― не своим голосом заорал Лорм, всматриваясь в свиту, волей-неволей прижавшуюся к левой стороне пристани, ибо по правой шествовали гвардейцы с обнаженными клинками.
Сайла исс Тамай была отнюдь не столь глупа, как о том было принято хихикать по беседкам дворцового сада. Неожиданная смерть брата не помешала ее рассудку быстро оценить ситуацию. Так же, кик и Норм, Сайла поняла, что после бойни и ииннарипском иоргу судьба может забросим, ее и в глухую варанскую провинцию, и в подвалы Свода Равновесия, и в небьпие
Сайла исс Тамай протолкалась через свиту и, быстро-быстро семеня ногами, устремилась навстречу орущему Лорму. Она немного знала его. Когда Хорт окс Тамай еще был Первым кормчим, Лорм окс Цамма служил под его началом в Морском Ведомстве, и им доводилось несколько раз сидеть рядом на званых ужинах. А вот с Лагхой Сиятельная никогда рядом не сидела и вообще боялась его как огня, хоть и полагала себя в романтические мгновения влюбленной в молодого гнорра.
Лагха все еще опасался подняться в полный рост. Он не знал, что Сарпал мертв, боялся новых стрел и вообще с него на сегодня было довольно.
Лорм ловко наклонился над бездыханным Хортом окс Тамаем, сорвал с его шеи тяжеленную золотую цепь Властелина Морей и высоко воздел ее над головой.
– Да здравствует династия Тамаев! Да здравствуют гвардия, флот и Свод Равновесия! ― проорал Лорм первое, что пришло ему в голову.
Сиятельная была уже совсем близко. Не медля ни мгновения, Лорм набросил цепь Властелина Морей на шею Сайлы.
– Именем князя и истины! ― ревел Лорм так, что, пожалуй, ему позавидовал бы и звезднорожденный. ― Да здравствует Сиятельная княгиня Сайла исс Тамай!
– Оружию ― мир, ну же! ― Лорм дохнул перегаром в ухо застывшему безучастным изваянием церемониальному глашатаю.
– Оружию ― мир, ― подтвердила Сайла, тяжело дыша.
Подоспевший Альсим исподтишка отвесил глашатаю увесистого пинка, и тот наконец-то вышел из оцепенения.
– Сиятельная княгиня повелевает… Оружию ― мир!
На свирепых рожах гвардейцев отразилось жестокое разочарование. Увы, над варанской армией снова появилась власть. Власть, которая несколько мгновений назад опустилась на плечи Сиятельной тяжелой цепью Властелина Морей. И даже самый тупой гвардеец (а им был тысяцкий, замерший с обнаженным мечом в двух шагах от Лагхи) понял, что бойни сегодня не будет.
У Варана вновь был Сиятельный князь, вернее, княгиня.
У Свода Равновесия вновь был гнорр.
В Варане больше не было ни одного мятежника. Два главных мятежника ― Хорт окс Тамай и Норо окс Шин ― были мертвы. Сотни солдат и людей Лагхи присягнули на верность Сиятельной и, следовательно, мятежниками быть перестали. Дотанагела и «лососи» с «Зерцала Огня» нашли свою смерть в Хоц-Дзанге. Ну а Самеллан никогда не был истинным варанцем, да и в Варане его сейчас не было.
Вместо тысяч погибли единицы.
Бывший аррум Опоры Вещей Норо окс Шин, самозваный гнорр, та-лан отражение древнего тирана Синего Алустрала.
Онни, рах-саванн Опоры Вещей, и трое его товарищей по несчастью ― преданные псы Лагхи Коалары, которые восемь дней кряду провели на тайной квартире Свода Равновесия, охраняя похищенную Овель исс Тамай.
Сарпал, рах-саванн Опоры Единства, преданный пес Норо окс Шина, непревзойденный стрелок из лука, побежденный магическим искусством Альсима и яростью своих солдат.
Хорт окс Тамай, князь на час, бывший Первый кормчий Варана, прозванный Золотой Рукой за отменную игру в лам и за миллионы авров дохода, принесенные его мануфактурами и верфями.
Семнадцать безвестных обывателей, задавленных в сутолоке на набережной Трех Горящих Беседок вместе с началом торжеств по поводу всеобщего и полного примирения.
Итого ― двадцать четыре.
Истекла ли кровью Овель исс Тамай?
Нет.
Отчего же?
Во-первых, оттого, что Лагха Коал ара ворвался в свой собственный кабинет спустя полчаса после того, как Скорпион превратился в обуглившиеся железные безделушки. И хотя Знахарей, подобных Шотору, в Своде более не было, тот дряхлый старец, что пытался подражать Шотору по мере сил, вернул лицу Овель румянец довольно быстро ― спустя десять дней.
Во-вторых, оттого, что Норо окс Шин, недооценив скорость движения Скорпиона и переоценив время, отпущенное ему до смерти, так и не взрезал вену на правом запястье племянницы Сиятельной Сайлы исс Тамай.
Походила ли Сайла исс Тамай на свою племянницу лицом и статью?
Нисколько ― на горе придворным портретистам и на радость придворным дамам, которые вкушали от расположения ее покойного супруга, Сиятельного князя Мидана окс Сагтора, сколько хотели и когда хотели.
Как же на самом деле умер Сиятельный князь Варана Мидан окс Саггор?
Он был убит.
Кем?
Своей возлюбленной супругой.
Во имя чего Сайла исс Тамай решилась на убийство?
Дабы угодить своему куда более возлюбленному брату и отомстить похоти придворных дам.
Как же совершилось это злодеяние?
Через тайнодейственный яд, переданный Норо окс Шином Хорту окс Тамаю, а тем ― своей сестре, Сайле исс Тамай.
Догадался ли перед смертью Сиятельный князь о том, что он отравлен?
Да. И даже правильно назвал имя яда. Князь был большим поклонником естественных наук.
Догадался ли перед смертью Сиятельный князь о том, кем он отравлен?
Нет. На смертном одре князь заключил, что стал жертвой аютской Гиэннеры.
Отомстила ли аютская Гиэннера Самеллану и Лиг за свершенное последними предательство доблести Аюта, выразившееся в том, что уже спустя четыре недели после штурма Хоц-Дзанга и истребления Говорящих бастионы Хоц-Ия, новой цитадели народа смегов, были оснащены двумя дюжинами «молний Аюта»?
Нет, Гиэннера предпочла тайный мир ― мир смегов.
Вспоминал ли Эгин о Говорящих Хоц-Дэшиа ще и о Таре в частности?
Да.
В чем это выражалось?
В суеверной боязни полнолуний, в чтении скрижалей Элиена звезднорожденного, что именуются «Конец Вечности», в то время как истинное имя их ― «Исход Времен», а также в том, что, будучи на Циноре, он ни разу не возжелал возлечь ни с одной из предложенных ему женщин.
Стало быть, Эгин бывал на Циноре впоследствии?
Да. Будучи произведенным в аррумы Опоры Вещей, он находился во главе посольства, которое отрядил дальновидный Лагха Кошшрп для ТОГО, ЧТОБЫ переговорить накоротке со еиелом народе емвгои и т достойным мужем.
Были ли счастливы Лиг, свел народа емегов, и Самеллан, ее блудный двоюродный брат, обосновавшись в крепости Хоц-Ия?
Да. Три года. Ибо по прошествии четырех лет миру было суждено познать истинное могущество и истинную чудовищную природу Лагхи Коалары.
Какого мнения о Лагхе были Самеллан и Лиг?
Плохого, ибо Лагха был слишком сильным и опасным противником, чтобы смотреть на него сквозь пальцы даже во дни дружбы. Но о том, что Лагха ― отраженный, они узнали лишь спустя четыре года.
Если Лагха был и оставался отраженным, отчего жертвой Скорпиона стал именно Норо?
Одна стрела не может поразить двоих, даже пройдя навылет. В тот момент, когда жало Скорпиона вонзилось в плоть Норо окс Шина, жизнь покинула измененную материю Скорпиона, и он распался на отдельные сочленения, полностью утратившие свою первичную природу.
Значит, Убийцу отраженных нельзя восстановить после убийства отраженного?
Нет, можно. Ибо жало Скорпиона уже некогда отыскало плоть Торвента Мудрого. Да, Скорпион тогда тоже распался в ничто. И все-таки был восстановлен впоследствии Инном окс Лагином, основателем Свода Равновесия.
Значит, Убийца отраженных когда-нибудь вновь обретет жизнь?
Нет, этому уже не случиться никогда под Солнцем Предвечным. Ибо Лагха Коалара, отраженный, собрал все сочленения распавшегося Скорпиона в день подавления мятежа. И Лагха Коалара, отраженный, вверил все члены Скорпиона вкупе с телом Норо окс Шина Жерлу Серебряной Чистоты. Оттуда нет возврата, ибо и убийца, и его жертва перестали существовать, как перестают существовать человеческие тела после полного варанского четвертования.
Кто стал последним офицером Свода Равновесия, подвергшимся полному варанскому четвертованию?
Иланаф, ибо именно такой приговор вынес ему Лагха после недолгого и на редкость бессодержательного разговора на Перевернутой Лилии. Гнорр, к своему великому удивлению, так и не смог заставить Иланафа сознаться, по чьей указке действовал тот, сводя в могилу сперва Дотанагелу, а после и его, Лагху. «Я служу князю и истине, ― хрипел Иланаф, извиваясь угрем под раскаленными пальцами гнорра. ― Мой долг уничтожать мятежников, кем бы они ни были».
По чьей же указке действовал Иланаф, когда входил в доверие к Дотанагеле, когда сопровождал того во время бегства на «Зерцале Огня», когда вонзал ему в спину клинок и подсаживал в ухо Лагхе Коаларе смертоносную пиявку?
По указке Норо окс Шина, своего покровителя еще с давних давен, когда он, молодой воспитанник Старо-ордосской крепости, восхищался Эрпоредом, а Эрпоред ― Иланафом. Именно от Эрпореда Иланаф впервые услышал имя Норо. Потом Норо выразил желание познакомиться с талантливым воспитанником Старо-ордосской крепости. И с той поры Иланаф всегда действовал по указке Норо ― точно так же, как Альсим, ежевечерне упаивавший Эгина до бесчувствия на «Венце Небес», действовал по указке Лагхи.
Что сталось с Альсимом после того, как все окончилось наилучшим образом?
Альсим, отличившись на пристани, был произведен в пар-арценцы и близко сошелся с Лормом окс Цаммой, который был возвеличен Сайлой исс Тамай не менее, чем сам Альсим. Лорм окс Цамма стал Первым кормчим Варана и раздавал увесистые пинки и Флоту Открытого Моря, и Флоту Охраны Побережья.
Долго ли продлилась дружба Альсима и Лорма окс Цаммы?
Увы, нет. Ибо, поссорившись однажды по пустячному поводу, они более не встречались по собственной воле. А однажды, на празднестве в честь бракосочетания гнорра, дело едва не дошло до рукоприкладства.
С кем сочетался браком Лагха Коалара?
С Овель исс Тамай. В тот день Эгин в тысячный раз пожалел о том, что не отозвал Убийцу отраженных. Сделай он это тогда, у него была бы хоть призрачная надежда на то, что Норо поможет нитям их судеб сплестись воедино. Хуммер его раздери, этот Великий Путь, в конце которого его настигли пустота и одиночество!
Догадывался ли Лагха об этих мыслях Эгина?
Нет. Лагхе была неведома ревность, как неведома была и любовь К тому же он был уверен, что Эгин толком не разбирается ни в та-лан отражениях, ни в их убийцах. Лагха по-прежнему считал Эгина недалеким, хотя и безумно везучим сукиным сыном.
Если Лагха не любил Эгина, то отчего он оставил его в живых и, более того, произвел в аррумы?
Оттого, что об этом (а равно как и о том, чтобы отослать Эгину свои серьги с сапфирами вместе со «шмелем» в одно памятное утро) попросила его Овель.
Выходит, Лагха во всем потакал Овель?
Выходит, так. К слову сказать, даже сочетавшись с ней браком, Лагха так и не научился отказывать ей, когда дело касалось вопросов непринципиальных. Он не любил ее, а потому очень многие вопросы казались ему непринципиальными.
Значит, Лагха женился на ней только для того, чтобы породниться с династией Тамаев?
Нет, не только. Овель представлялась ему достойнейшей из всех женщиной, которым гнорр рискнул бы вверить свое невероятное девство. Если уж предаваться нелепым телодвижениям с какой-либо женщиной, так это с Овель. Лагха не знал разницы между любовью и властью, и первое для него всегда подразумевало второе. Именно поэтому он относился к Овель так же бережно, как всадник относится к своей кобыле. Лагха обладал, владел и наслаждался ею.
Не содержится ли в этой фразе намека на Обращение через Грютскую Скачку?
О нет, отношения между гнорром и его супругой никогда не выходили за рамки Уложения Жезла и Браслета. Содержащийся намек ― другого свойства.
Какого?
На еще одно огорчительное и в то же время удивительное обстоятельство, о котором узнал Эгин, возвратившись наконец в дом Голой Обезьяны на Желтом Кольце под личиною чиновника Иноземного Дома Атена окс Гонаута. В бытность свою Эгин холил, берег и лелеял свою кобылу Луз. Он откармливал ее отборным овсом и всегда жалел. Каково же было его огорчение, когда новый привратник сообщил ему, что некий злоумышленник похитил Луз третьего дня и в этом ему не помешали ни слуги, ни запоры на воротах конюшни. Эгин лишь сдержанно покачал головой. Вся эта история слишком отдавала ворожбой для него самого, трижды конокрада.
А что же еще отдавало ворожбой, кроме этого?
Шуточки Шотора ― от них у Эгина частенько шел мороз по коже. Молния, ударившая в восточный флигель имения «Сапфир и Изумруд», принадлежавшего некогда Вербелине исс Аран, и ставшая причиной невиданного пожара. Слова Онни о том, что он рожден дважды, и письмо, которое как-то доставили Эгину, перепутав адрес. Письмо было подписано неким Дотанагелой и начиналось словами: «Да пребудет твоя жизнь безоблачной, словно небо над Цинором». Подписано другим, точнее, другой Дотанагелой с именем через «исс». И все-таки.
И все?
Нет, было еще одно. Глаза Лагхи Коалары ― пронзительные и серые, словно струи водопада в пасмурный день, когда он вручал Эгину Внешнюю Секиру аррума Опоры Вещей.
Что сказал Лагха, когда вручал Эгину Внешнюю Секиру аррума Опоры Вещей?
Ничего особенного. «Люби и властвуй».




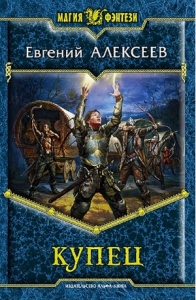
Комментарии к книге «Люби и властвуй», Александр Зорич
Всего 0 комментариев