Марина и Сергей Дяченко Земля веснаров
* * *
К полудню ветер опять посвежел, и дальше поезд шел на всех парусах и почти без остановок. Земледелец, мой сосед, дремал на скамейке напротив. Я смотрел в окно — не отрываясь, час за часом.
Солнце склонялось. На вывесках полустанков мелькали знакомые названия, я смотрел — и ничего не узнавал. Передо мной расстилалась моя страна, моя Цветущая, равнины сменялись холмами, леса — открытыми пространствами, но ни один пейзаж, ни одна живописная балка или холм, поросший колючим кустарником, не заставляли мое сердце забиться сильнее.
За те двадцать с лишним лет, что прошли со дня моего отъезда — все изменилось. Совсем. Безвозвратно.
Кое-где в траве паслись стада нелюдей. Четвероногие, крупные, покрытые черной и рыжей шерстью, эти твари срывали зубами траву, жевали и смотрели вслед поезду круглыми, ничего не выражающими глазами. Все изменилось в Цветущей. Все изменилось…
Прошел кондуктор, объявляя, что Светлые Холмы — через полчаса. Я снял с багажной полки свой заплечный мешок, попрощался с фермером и поднялся на крышу.
Дорога впереди поворачивала по широкой дуге, команда готовилась выполнить маневр. Я смотрел, как убирают паруса по правому борту, как складывают главное несущее полотно; мне не так часто доводилось путешествовать на поезде. А столь далеко — вообще никогда.
Поезд повернул. Через несколько минут я увидел впереди станцию — Светлые Холмы, в этом не было сомнений. Замедляя движение, поезд миновал впадину между двумя пригорками. Оглушительно свистнул кондуктор. Я дождался, пока подножка поравняется с дощатым перроном, и спрыгнул.
Я был единственным пассажиром, который сошел в Холмах. Мое место на поезде тут же было занято: пробежав с десяток шагов вдоль платформы, на верхнюю палубу вскочил мальчишка лет пятнадцати. Он был одет по-крестьянски, на плече у него болталась котомка, и способ, каким он забрался на поезд, выдавал привычного и умелого путешественника.
Кондуктор подал знак капитану. Тот свистнул матросам, и через минуту несущее полотно развернулось опять. Я смотрел, как парус наполняется ветром; мальчишка, замерев на верхней палубе, смотрел тоже. Потом обернулся ко мне и вдруг, скорчив рожу, выбросил, как флаг, непомерно длинный язык: видимо, его приводило в восторг, что догнать и надрать уши я уже не сумею…
Я улыбнулся.
Поезд катился, все ускоряясь, по направлению к Дальним Углам, и наконец скрылся за холмами. Я стоял на перроне, маленьком, безлюдном. На вывеске крупными черными буквами значилось йолльское название: «Фатинмер». И ниже на языке Цветущей: «Светлые Холмы».
Двадцать три года назад здесь не было никакой станции. Не было железной дороги. Был тракт. Был обоз — череда двуколок на огромных колесах, каждую из которых катили по четыре человека. Были путники, молча идущие рядом. Мне, семилетнему, иногда разрешали держаться за чей-то пояс… И я шагал, едва переступая ногами, спасаясь от смерти.
Сегодня я вернулся. И — руку готов положить на рельсы — меня теперь невозможно узнать.
Вниз с перрона вела хлипкая лестница, скрипевшая при каждом шаге. Я спустился; человек, сидевший в будочке смотрителя, был мне совершенно незнаком.
— В Холмы, добрый путешественник? Надолго? Ищете хорошую гостиницу, совсем хорошую, недорогую?
Он даже не спросил, бывал ли я раньше в Холмах. По лицу видно: не бывал. Мне даже играть ничего не приходилось — я чувствовал себя чужаком. «Добрым путешественником».
— Вы меня очень обяжете, — сказал я смотрителю.
Он с готовностью вытащил из конторки стопку темных бумажных квадратов.
— Гостиница «Фатинмер», в центре… Отдадите вот это хозяйке — получите скидку.
Я принял бумажку у него из рук. Меня неприятно поразило название гостиницы. Что, наши уже и между собой называют предметы йолльскими кличками?
Смотритель ничего не заметил. То ли я так хорошо научился владеть собой за годы городской жизни. То ли он, обалдевший от станционной скуки, потерял остатки наблюдательности.
— Прямо по дороге, добрый господин, на распутье налево: до темноты, глядишь, и дойдете…
Я поблагодарил его.
Вечерело. Трава переливалась, освещенная низким солнцем, и это была не та трава. Не такая, не ее я помнил с детства. А может быть, мне казалось, что помню.
Я шел по Холмистому Тракту. Вокруг не было ни души. В дорожной пыли кое-где явственно виднелись отпечатки подков. Нелюдей обувают железом, говорил когда-то мой дед. Тогда и слова-то такого не было — «подковы»…
По-йолльски — олф.
Дорога поднялась на пригорок. Сделались видны поля на много верст вокруг. На северо-востоке показался Холмовый лес — тоже неузнаваемый. Еще бы: его и жгли, и рубили, и прореживали. Мы с дедом почти полгода жили в Холмовом, оттуда нас не могли ни выбить, ни выкурить… Теперь на пепелище пробился молодой подлесок, издали лес казался светлым и зеленым. А на опушке, на склоне холма, маячил тяжелый каменный дом. Я присмотрелся.
Йолльское строение. Три или четыре этажа. Дом замер на опушке у самого леса, как грузный путник, идущий в гору. Над крышей дымок. И еще один толстый дым — над приземистым строением, едва заметным из-за каменного забора. У мясоедов считается, что чем дальше от жилых помещений расположена кухня — тем богаче хозяин дома. На родине у них, говорят, ужасная теснотища…
Я тряхнул головой и ускорил шаг. Время дорого. Я путешественник, прибыл в Холмы исключительно по делу и уеду сразу же, как только управлюсь. Что мне ждать, столичной штучке, в этой Богом забытой глуши?
Дорога опустилась в низину. На склонах холмов зеленели, розовели, золотились поля, засаженные разными злаками. Цепью, как тушители на пожаре, стояли молодые березы, удерживали корнями нарождающийся овраг. Я вздохнул: раньше надо было высаживать, теперь сползающую почву не удержишь…
Когда дорога снова поднялась на холм, я увидел впереди двух всадников. Дед называл таких «нелюдь под нелюдью». Громоздко получалось. По-йолльски — офорл.
Помню, при виде этих существ я бросался бежать, как ошпаренный, дед хватал меня за шиворот, уговаривал, хлестал по щекам, убеждал, что бояться нечего, все равно мы сильнее…
Теперь я даже с шага не сбился. Двадцать три года прошло.
Я ждал, что они проедут мимо, не обратив на меня внимания, но они заинтересовались. Первому было лет сорок, судя по одежде и осанке — владетельный вельможа. Второй…
Второй был маг. У меня подобрался живот: йолльские маги легко распознают ложь и убивают без раздумий.
Всадники придержали четвероногих нелюдей. Прямо перед моим лицом оказались две огромные, длинные, покрытые шерстью морды. Я тоже остановился.
— Кто таков? — спросил вельможа по-йолльски.
— Путешественник. Иду в Холмы по своим делам, — ответил я на языке Цветущей.
— Говори по-человечески, растение, — тихо проговорил маг.
Он недавно прибыл на остров. Я видывал таких в городе: у них очень бледные лица и нутряная ненависть ко всему, что осталось в Цветущей не-йолльского.
— Что за дела у тебя в Фатинмере? — продолжал вельможа, не обращая на спутника внимания. — И почему не кланяешься барону?
Я поклонился. Если этот мясоед в самом деле барон — мне не стоило раздражать его. Он в своем праве.
Четвероногая нелюдь под магом косилась на меня огромным глазом. Я отступил на несколько шагов.
— У меня, господин барон, торговое дело. Мне поручили купить здесь, в Холмах, дом, — я по-прежнему говорил на родном языке. Не лгал напрямую, но утаивал правду. Скажи я то же самое на языке йолльцев — маг почти наверняка заметил бы подвох.
— Кто поручил? — спросил барон по-йолльски.
— Торговая контора «Фолс», у меня при себе верительные грамоты…
Я сделал движение, собираясь раскрыть свой мешок и вытащить бумагу. Маг вскинул правую руку. Я замер.
— Оставь его в покое, — сказал барон спутнику. — Он в самом деле идет по своим делам… Оставь!
Маг опустил руку, не сводя с меня глаз. На указательном пальце его правой руки мерцало стальное кольцо с перламутровыми пластинами.
Барон сдавил свою нелюдь коленями, давая приказ двигаться дальше. Маг смерил меня взглядом с ног до головы — и последовал за вельможей. Мне предстояло продолжать путь по дороге, загаженной дерьмом нелюдей.
Цветущая моя, Цветущая, что с тобой сталось?!
* * *
Я не стал останавливаться в гостинице «Фатинмер». Прошел еще два квартала и отыскал постоялый двор без названия, зато с йолльской лицензией, приколоченной к двери огромным ржавым гвоздем. Лицензия белела в полумраке, то приподнимая, то опуская уголок в согласии с налетавшим ветерком. В жесте трактирщика, приколотившего йолльский документ к дверям, было столько великолепного пренебрежения, что я не удержался и вошел.
Мне была предложена комната, маленькая и чистая, и ужин. Глядя, как поднимается пар над семикрупкой — традиционной кашей, кулинарной гордостью Семи Холмов — я слушал осторожные рассказы жены трактирщика о новостях в округе. Хотя, если по совести, говорила женщина, нет новостей. Работают люди, с утра до ночи в поле — разве это новость? Торгуют опять же, трактир хоть и не процветает, но и с голоду умереть не дает. Один завелся, из города приехал, мясную лавку открыл. Да прогорел: нет покупателей. У барона поставщики свои, он к мужику торговаться не пойдет. Вот он покрутился здесь неделю-другую, мясо нелюдей стухло, он и уехал. Лавка до сих пор пустая стоит: провоняла так, что никто туда идти не хочет. А удобная лавка, на перекрестке… Месяц назад толстого Крутика, которого поле с краю, ограбили: вломились в дом, нашли под полом сундучок со сбережениями и унесли средь бела дня. Оказалось, какой-то бродяга из Заводи, на другой же день его и поймали… Вот и все новости, добрый путешественник, а вы в Холмы с чем?
Она была круглолицая, как подсолнух. Букет свежих «солнечных цветов» стоял, как полагается, в парадном углу, и орнамент на потолке, если присмотреться, был тоже из подсолнухов. Старый орнамент, нанесенный еще до нашествия.
Я подумал, что вполне мог ее знать когда-то. Но, как не узнавал я родного селенья — и эту женщину не мог вспомнить. Она была мне чужая.
— Я торговец из самого Некрая, — сказал я. — Буду покупать — не для себя, для клиента — дом Осотов.
— Дом Осотов, — повторила она, как эхо. Ее взгляд стал отстраненным. — Да. Старуха Осот помирает… да.
И она отошла, оставив меня наедине с кашей. Я погрузил деревянную ложку в густую, отлично выдержанную, политую маслом семикрупку — вкус моего детства; я понял, что волнуюсь. Что мое спокойствие, отстраненное, как эта трактирщица, готово разлететься шелухой.
Вошел хозяин — крупный, круглый, поросший изжелта-русой бородой, и с ним слуга, носатый парень лет пятнадцати. Сразу стало шумно. Хозяин громко давал указания жене и мальчишке, и непонятно было, доволен он или зол, хвалит или распекает. Накричавшись, он вдруг обернулся и спросил, уставившись мне в глаза безмятежно-голубыми гляделками:
— А вы, добрый путник, торговать к нам? Или как?
— Не так чтобы торговать, — признался я. — Но что дела торговые, это точно.
— Господин дом Осотов покупает, — тихо сказала жена трактирщика.
— Дом Осотов?
Трактирщик мигнул. Перевел взгляд с моего лица на руки и обратно. Отвернулся. Покачал головой, будто отвечая сам себе на только что заданный вопрос.
— Да, — сказал я, глядя, как он расчесывает бороду длинными цепкими пальцами. — Не для себя. Для клиента. Контора «Фолс», если вы слышали.
— Где уж нам, — пробормотал хозяин. — Некрай… Городская контора… Я и в городе-то не бывал, не доводилось… А вы, господин, бывали в Холмах?
— Никогда, — я зачерпнул кашу ложкой.
— Дом Осотов, — еще раз повторил трактирщик. — Вот же, прошли те времена… Самая богатая и уважаемая семья во всех Холмах — до нашествия, разумеется.
— Мне говорили.
Хозяин снова заглянул мне в глаза — на этот раз почти заискивающе.
— Простите за нескромный вопрос… Мы здесь, знаете, люди без предрассудков, не дикари какие-нибудь, горожан тоже принимали… Может быть, вы мясо едите? Так у нас есть йолльский мясник в Холмах. Для самого барона поставки, а не просто так…
— Нет, — я взялся за душистую ковригу хлеба. — Мяса я не ем.
— Ох, извините, — трактирщик смутился, — у нас тут разные люди бывают… А вы, если в первый раз, так и поживите подольше. Места прекрасные, сердце Цветущей… В Холмовый лес только не ходите, там мясоеды развели своих нелюдей. Не тех, что траву жуют, а других, тоже мясоедов. Барон туда ездит охотиться — стрелять этих тварей, то есть. А нам и не сунься — ни за ягодой, ни за грибами… Так не ходите в Холмовый лес, ладно?
Я пожал плечами:
— Мне-то что… Я уеду послезавтра. Самое позднее — через три дня.
Хозяин покивал и вышел. Семикрупка на столе остывала.
Я нервничал. Мне все труднее было сохранять внешнюю невозмутимость.
* * *
Всю ночь я провел, наблюдая за лунным лучом, ползущем по гладкому деревянному потолку. Иногда луч двигался рывками: я проваливался в сон и просыпался опять.
С рассветом луч погас. Я встал и умылся. Мне не хотелось есть, я не чувствовал усталости после почти бессонной ночи. Я знал, что сегодня — через час, через два — попаду домой и увижу бабушку. И мне было страшно.
Я запомнил ее крепкой женщиной с едва поседевшими висками. Теперь — я знал это точно — она старуха, настолько дряхлая, чтобы умереть. Поэтому я здесь; поэтому я вернулся в Холмы, хотя когда-то с меня брали клятву никогда не возвращаться.
Ей же, бабушке, я и клялся.
Я спустился вниз. Хозяин, уже полностью одетый и бодрый, вел какие-то подсчеты на желтоватом свитке древесной коры. Я поздоровался; в какой-то момент мне показалось, что уж его-то, бородатого и грузного, я точно когда-то знал. Еще мгновение — и вспомню его имя…
Наваждение прошло. Хозяин водил по коре отточенной спицей, не обращая на меня внимания. Я спросил его, как найти дом Осотов.
— Идите вдоль по улице, потом через площадь Рынок, у старого цветка поверните направо и дальше все прямо. Там увидите. Приметный дом.
Я поблагодарил.
Было все еще очень рано, но на улицах с каждой минутой прибавлялось народу. Я бродил без цели, разглядывая новостройки, поднявшиеся на месте сожженных, разрушенных или просто снесенных старых домов. В Холмах жили небедно: кое-где даже строили, на манер йолльцев, из камня. Фоона — по-йолльски дом, каменный дом, деревянных они не признают.
На площади, конечно, и следа не осталось тех ветхих прилавков, перед которыми я когда-то тянулся на цыпочки. Торговые ряды стояли, сложенные из каменных плит, и были в этот час почти пусты. В центре базара восседал на огромном мешке баронский надзиратель, он же сборщик налогов: мешок был опоясан цепью с кованым гербом, такой же герб, только поменьше, помещался на круглом животе надзирателя. Сам он был из местных; прохожие здоровались с ним без теплоты, но и без откровенного презрения. Я остановился возле пивных бочек, взял себе кружечку светлого и завел неторопливый разговор с пивоваром.
Да, с бароном поселку повезло. Сам живет и другим жить позволяет. Отдали ему луг заливной — нелюдей выпасать, дом сложили, ну, налог со сделки, ну, оброк раз в год. Зато за службу, значит, за услужение барон платит денежкой: вот, даже присматривать за нелюдью кое-кто пошел, кто посмелее. К мясоедским своим привычкам не принуждает, а что все бумаги надо писать по-йолльски — так на то писарь есть. Хороший барон, грех жаловаться, одна у него слабость: по женской части очень уж ловок. Правда, и девки наши тоже хороши: лишь бы в каменный дом, да на мягком поспать, да подарочек получить такой, чтобы подруги обзавидовались… А корни — что корням? Человеческие корни невидимы: с гнильцой они, или чистые, по лицу ведь не скажешь… Нет, не такие нынче девки, как раньше. Зато барон хороший в Холмах, а в других землях куда как хуже бароны: мясоеды те еще и кровопийцы.
Пивовара отвлекли: хозяйка гостиницы «Фатинмер» прислала слугу за пятью бочонками темного. Я отошел, чтобы не мешать погрузке, и почти сразу увидел, как через площадь — от противоположного ее края к центру — движется, плывя над головами, офорл… то есть всадник. Йолльский маг.
Люди перед ним расступались, вокруг ширилось свободное пространство. Маг ехал, опустив поводья, поглядывая по сторонам с показным равнодушием. Остановился рядом с надзирателем, что-то сказал ему, не сходя с лошади. Надзиратель ответил — по-йолльски, судя по тому, как двигались его губы.
Я решил, что мне пора идти. Допил пиво, по широкой дуге обогнул площадь и от цветка — старинного каменного изваяния в виде большого подсолнуха — повернул направо.
* * *
Дом стоял по-прежнему. Как будто Цветущая никогда не горела, ее не топтали нелюди. Как будто семья Осотов, самая уважаемая, богатая, многочисленная семья во всех Светлых Холмах, не исчезла с лица земли, оставив два последних ростка: старуху, застывшую на полпути к небесным корням, и чужака, не узнающего родного дома.
А я его не узнавал.
Краеугольный столб, увенчанный изображением Солнца (деревянный круг и крест на нем), стоял так же прямо, и тень от его верхушки падала на отметку «восемь» — было восемь часов утра. Над частоколом поднимался дом: каждое бревно в стене — в два обхвата. Темная крыша, резные украшения, балкон третьего этажа — полукруглый, ажурный. Сколько раз мне снился этот балкон…
Я остановился перед столбом, и моя собственная тень упала на поросший травой циферблат. Забыли мясоеды развалить этот дом, или боялись тронуть, или не знали всего, или, наоборот, слишком много знали, — теперь не важно. Вот он, дом Осотов.
Я отступил. Снова подошел. Потом, будто по наитию, опустился на одно колено. Прямо перед моим лицом оказались прожилки на дереве: кольцо, похожее на рожицу, и две светлые ленточки, ведущие вверх. В детстве именно так мне представлялись человек — и его невидимые корни…
Я поднял голову.
Угол зрения. Чтобы вспомнить, как все было, мне следовало встать на колени. Посмотреть с высоты своего прежнего роста: дом. Частокол. Ворота. Улица, по которой мы с дедом уходили, бывало, и на рассвете, и поздно вечером, и…
— Добрый господин? Вы что-то уронили?
Служанка смотрела на меня, как на сумасшедшего. Я поднялся, отряхивая брюки; досадно. Мне нельзя привлекать внимания.
— Я потерял монету… Передайте, пожалуйста, хозяйке, что прибыл коммерсант из Некрая — по поводу продажи.
— Ах да! Ах да! — служанка засуетилась. — Проходите, любезный господин коммерсант.
* * *
Через несколько минут я вошел в ее комнату.
Бабушка лежала на огромной дубовой кровати, на льняных простынях, под балдахином из грубого льна, и льняные же волосы сливались с постелью. Ее лицо, темное, ссохшееся, неприятно напомнило лица всех, умерших от дряхлости на моих глазах.
Я сделал несколько шагов — и остановился посреди комнаты.
Что-то говорила служанка. Бабушка, в отличие от меня, слушала ее — и слышала; повинуясь ее приказу, служанка принесла табурет, стопку белой бумаги и чернильницу с пером. Потом вышла и плотно притворила за собой дверь.
Бабушка лежала, откинувшись на высоких подушках, и смотрела на меня.
Ее голос, когда-то звучный и даже мощный, все еще служил ей. Она могла бы сказать, что не рассчитывала увидеть меня в этой жизни — только там, в небесном лесу, где сплетаются корни всех людей. Она могла бы признаться, что в ее памяти я навсегда останусь семилетним ребенком. Она могла бы рассказать, как одиноко и тоскливо было ей в старом доме Осотов, доме-замке, доме-крепости — без малого двадцать три года.
Все это не имело значения. А значит, не стоило нарушать тишину.
Я стоял перед бабушкой, посреди старой спальни Осотов, в которой был, наверное, зачат, и смотрел в ее зеленые, чуть поблекшие, но все еще ясные, полные мысли глаза.
Прошел, наверное, час, а может быть, больше, прежде чем бабушка опустила веки, указывая взглядом на табурет и стопку бумаги.
Я сел на пол. Придвинул к себе бумаги и, используя табурет вместо стола, принялся писать по-йолльски длинные, не имеющие силы, только для отвода глаз необходимые бумаги: контора «Фолс»… договор купли-продажи… по согласованию сторон…
Бабушка смотрела, как я пишу. Я отводил со лба упавшие волосы, поглядывал на нее исподлобья: кровать была низкая, даже с пола я мог видеть ее темное лицо, будто плывущее в воздухе над льняными подушками.
Как над облаками.
Я закончил. Поставил последнюю точку. Отобрал бумаги, предназначенные бабушке, свернул их трубочкой и с поклоном положил к ее изножью.
Тогда она впервые разомкнула губы, обращаясь ко мне.
— Спасибо, Осот, — сказала она.
* * *
Мне кажется, она благодарила меня не за то, что я приехал. И даже не за то, что молчал. Я выжил; некоторые и этого не смогли. Другие осознанно предпочли умереть. А я, почти не имевший шансов, живу на земле, корнями в небо: я, преуспевающий столичный коммерсант. Я, внук моего деда, говорящий по-йолльски без тени акцента.
Бабушка поблагодарила меня, и я ушел. Ей необходимо было побыть одной. Я вышел со двора и долго стоял, делая вид, что заинтересован устройством солнечных часов; мне тоже требовалось время, чтобы взять себя в руки. Дела мои в Холмах отнюдь не были закончены: если сделка, которую я фиктивно заключил в пользу несуществующего лица, служила ширмой для моего рискованного визита в Холмы, то баронский налог с продажи играл в этой ширме роль несущей конструкции.
Итак, я вернулся на площадь. Надзиратель все так же сидел на своем мешке, но верхового мага поблизости не было. Я подошел, назвал себя, предъявил бумаги и мешочек с деньгами. Надзиратель все тщательно перечел, пересчитал и, наконец, выдал мне документ об уплате налога — написанный по-йолльски с ужасными ошибками, но зато скрепленный баронской печатью.
Выйдя из поселка, я двинулся по тракту — но не к станции, а в противоположном направлении. На лугу вдоль ручья паслись нелюди. Я хотел пить — но к воде из ручья не притронулся. Из брезгливости.
Солнце стояло в зените. Я поднялся на пригорок, отошел от дороги и уселся среди колосьев — на меже двух полей. Молчаливая встреча с бабушкой отняла у меня больше сил, чем я ожидал. И мне страшно было представить, чего эта встреча стоила ей. Одну длинную минуту я был почти уверен, что бабушка умерла сразу же после моего ухода, и, вернувшись к дому Осотов, я обязательно увижу желтые ленты на полукруглом балконе — знак траура.
Но колосья шелестели, вцепившись корнями в пригорок, а небо — вместилище всех человеческих корней — безмолвствовало. И я, мало-помалу, справился и с отчаянием, и с тоской.
Я лег, вытянувшись, и заснул, как в детстве — слушая звон колосьев.
* * *
Был поздний вечер, когда я вернулся в гостиницу. Ветер все так же покачивал лицензию на двери. В сенях пахло дымом, чуть подгоревшей кашей и еще чем-то — я никак не мог понять, что это за запах.
В обеденном зале было темно и тихо. Похоже, я по-прежнему оставался единственным постояльцем.
На столе горела свеча, в круге света лежали три коротких огарка. Я шагнул, протягивая руку, намереваясь взять один из них и осветить себе путь наверх…
— Стоять, веснар!
Я еще успел подумать, что слово «веснар» звучит одинаково и по-йолльски, и на языке Цветущей. Потом медленно, очень медленно повернул не голову даже — глазные яблоки.
Его кольцо, стальное с перламутром, мерцало, казалось, прямо перед моим носом. Хоть нас разделяли шагов пять, не меньше. Йолльский маг стоял в углу обеденного зала, готовый убивать, но почему-то медлил с ударом.
— Не вздумай, веснар. Стоять.
Он был новичком, этот маг. Ни один из тех, кто воевал с нами во время нашествия, не стал бы брать меня живьем. И уж конечно не стал бы со мной разговаривать.
Я ждал. Моя жизнь подошла к концу — почти одновременно с жизнью бабушки. Судьбе было угодно, чтобы род Осотов прекратился сегодня — и навсегда.
— Руки за спину, — пролаял маг.
Я выполнил приказ. Мои руки тут же принялись вязать сзади — очень крепко и очень грубо. Маг подошел ближе, не опуская кольца. Я смотрел, как скачут по чеканке и перламутру синие злые искры.
— Убийца! — его голос дрогнул. — Ты ответишь…
Тут мне на голову накинули мешок, и я больше ничего не видел.
* * *
Меня выследили? Слуга подслушал, как бабушка назвала меня настоящим именем? Или йолльские маги теперь обладают могуществом, о котором прежде никто не подозревал?
Стук колес по тракту сменился хрустом гравия. Скрипнули, открываясь, ворота, и лязгнули, закрываясь. С головы моей наконец-то сняли мешок, я мигнул и огляделся.
Посреди двора горела бочка со смолой. В ее свете я разглядел баронский дом, сложенный из серого и черного камня. Дом стоял на крутом пригорке, с одной стороны у него было три этажа, с другой, вероятно, — два. Лес подступал совсем близко, я чувствовал его запах и видел сплошную черноту там, где начинались стволы.
Ограда вокруг дома была тоже из камня, и даже землю укрывали каменные плиты: на стыках между ними кое-где пробивалась трава. Оконца узкие и очень высокие. Сейчас, среди ночи, почти все они светились, будто накануне большого праздника. Я поднял голову: в окне второго этажа мелькнула тень…
И почти сразу оттуда вырвалась арбалетная стрела, целя мне в лоб.
Не поворачивая головы, почти не глядя, йолльский маг выбросил руку в сторону, и стрела разлетелась на куски. Звякнул о камни наконечник. Острая щепка клюнула меня в лоб. А кольцо, стальное с перламутром, опять смотрело мне в глаза, и сине-фиолетовые отблески только на миг потускнели.
— Что ты сделал! — глухо кричали в доме. — Притащил веснара живым… Прочь, все прочь! Кто хочет жить — уходим!
Лошадь, запряженная в повозку, нервно заржала, ударила подковой о камень, вышибая искры. Слуги, сопровождавшие меня от гостиницы к баронскому дому, жались друг к другу за спиной мага.
Я ждал.
— Вперед, — сказал маг. — В дом, растение.
Я вошел.
В йолльских строениях почти не бывает внутренних перегородок, только колонны, на которые опираются балки, да винтовые лестницы без перил. Сводчатый потолок баронской гостиной был очень высок, в три человеческих роста. Вдоль стен горели факелы. В дальнем углу стоял мальчишка лет десяти, смотрел на меня круглыми глазами, обомлевший, будто в столбняке.
По внешней лестнице, пристроенной к дому снаружи, бухали сапоги: слуги и стражники отступали. Их начальник служил в Цветущей давно, еще со времен нашествия, и не желал участвовать в смертельной затее глупого мага.
Или он не так уж глуп?
Я присмотрелся. Дальше, за каменной спиралью винтовой лестницы, угадывались странные очертания — что-то грузное нависало, почти касаясь пола, в тяжелых складках не то сети, не то ткани.
— Подойди, веснар, — голос мага звенел, как будто он сдерживал смех. — Подойди и посмотри, убийца!
Я обогнул лестницу.
Это был старый гамак, привешенный к балкам на лохматых веревках. В гамаке лежал труп дряхлого старика. Желтоватая прозрачная кожа, обтянувшая череп и собравшаяся складками на щеках, редкие седые волосы, ввалившиеся черные губы — я вдруг вспомнил бабушку, мне сделалось горько и страшно.
И только потом, несколько мгновений спустя, я узнал лежащего. Вчера на закате я встретил его: тогда ему было лет сорок, он сидел в седле, гордо выпрямив спину, и велел магу оставить меня в покое, раз уж я иду в Холмы по своим делам.
Барон. Йолльский наместник в Светлых Холмах. Теперь ему было больше ста лет — по крайней мере с виду.
Маг молчал. Его кольцо касалось моей шеи. Я чувствовал то жар его, то холод. Перед глазами метались огненные язычки: я медленно осознавал, что произошло. Что это значит. Небесные корни, за миг до смерти я не знал, радоваться своему открытию — или пугаться…
Я повернул голову. У мага были совершенно безумные глаза. Мне снова показалось, что он вот-вот рассмеется. Или разрыдается. Или даст, наконец, волю своему кольцу; я снова подумал о бабушке. Хорошо, если она уже умерла и не узнает, как я распорядился этим несчастным сокровищем — жизнью последнего Осота.
Горели факелы. В их неровном свете мы с магом глядели друг на друга; я был уверен, что мой взгляд ничего не выражает, но йолльские маги проницательны.
Он дернул кадыком:
— Барона убил веснар!
Я не спорил.
— Ты!
Я промолчал.
— Ты его убил? — спросил он отрывисто.
Могущество йолльских магов заключается прежде всего в том, что им невозможно врать.
— Нет.
Он был потрясен. Я заметил это по глазам. Но, даже сбитый с толку, соображал он быстро.
— Ты хочешь сказать, что здесь рядом… еще один… такой же?
— Это Цветущая, мясоед, — сказал я со скрытым торжеством. — Что ты хотел здесь найти?
Он захлебнулся яростью. Нашей с ним жизни оставалось — несколько мгновений.
— Я убью тебя.
— Я знаю, — я мельком взглянул на дряхлое, мертвое лицо барона. В детстве такие лица преследовали меня в кошмарах. — Знай и ты: ни один веснар не умирает мгновенно. И связывать меня бесполезно. Для моего дела мне не нужны ни руки, ни глаза.
Его зрачки расширились. Кольцо на пальце вспыхнуло ослепительно-фиолетовым светом. Йолльский маг чувствовал западню, но все еще не верил.
— Я думал, ты выследил меня, — проговорил я медленно. — Я думал, ты знаешь мое имя… Но тебе просто повезло, мясоед. Вернее — тебе ужасно не повезло. Посмотри на барона — это и твоя судьба тоже.
Мальчишка, стоявший у стены, наконец-то вышел из столбняка и кинулся бежать, поскальзываясь на покрытом соломой полу. Маг смотрел на меня — в его глазах отражался свет факелов.
— У тебя был шанс напасть внезапно, мясоед, — сказал я. — Оглушить. Или убить во сне. Ты этого не сделал.
Он молчал. Мы были связаны, как веревкой, смертью о двух концах: если ударит один, тут же ответит и второй; йолльские маги тоже не умирают мгновенно. Во всем доме, в огромном каменном доме сейчас не было ни души: слуги и стража разбежались. Только где-то под самой крышей тяжело дышал, забившись в укрытие, мальчик.
Мы смотрели друг на друга. Сейчас, именно в эту минуту, маг во всей полноте осознал свою ошибку — и увидел будущую судьбу.
…Они не люди, говорил тогда дед. Запомни, Осот, они все — нелюди.
* * *
— Вставай, Осот. Вставай.
— Деда, но ведь ночь… Совсем темно… Завтра у меня уроки…
— Не завтра, а сегодня. И не уроки, а война. Вставай, Осот!
Мальчик тер глаза кулаками, сутулился и судорожно зевал. Ему было семь лет, светло-русые волосы торчали, как колючки репейника. Двух зубов недоставало.
— Деда… Их будет много?
— Очень много, — жестко сказал мужчина лет пятидесяти, протягивая мальчику полотняную куртку со шнурками-завязками. — Сколько бы ни было — они наши, Осот. Мы будем ждать их под лесом… Если успеют, подойдут еще Усач и Ягода.
— Как это — если успеют?!
Мужчина не ответил.
Над Холмовым лесом висела луна. Каждый дом, каждый куст отбрасывал длинную черную тень. Поселок не спал: в каждом доме, за закрытыми ставнями, что-то происходило: мальчику слышались приглушенные голоса и плач. Держась за руку мужчины, он шел, почти бежал в гору, деревянные подошвы скользили по росистой траве, штаны вымокли до колен.
— Стой…
Мальчик огляделся.
За спиной лежал поселок — тихий, без единого огонька. Слева темнел лес, уходил все выше и сливался с небом. Справа, внизу, тянулся тракт, залитый луной, а впереди, в полном безветрии, стояли под лунным светом поля с высоченной, почти созревшей рожью.
Мужчина лег и приложил ухо к земле. Мальчик дрожал, щелкая зубами, смотрел вперед — но видел только рожь на вершинах ближайших холмов.
— Они близко, — мужчина резко поднялся. — Я возьму слева, от леса, а ты справа, от тракта… Усач!
Мальчик обернулся. По склону холма бежал, пригибаясь, человек. Через минуту он уже стоял рядом, тяжело дыша, вытирая молодое безусое лицо.
— Ягода не придет, — сказал он вместо приветствия. — Я сам еле успел…
Задрожала земля. Даже сквозь толстые деревянные подошвы мальчик слышал, как она содрогается.
— Я возьму от леса, — сказал его дед. — Малой от дороги, ты, Усач, будь в центре.
— С чего ты взял, что они пойдут здесь? — безусый Усач все еще задыхался. — Что не перевалят холмы южнее?
— Нелюдь под нелюдью, — тихо сказал мужчина. — Там, на юге, слишком крутые холмы… для этих тварей.
Мальчик смотрел на далекие поля. Вся его кожа сделалась колючей и жесткой, как эта рожь, светлые волосы встали дыбом. Ухо различало глухой топот, порождавший сотрясение земли.
Над темным горизонтом медленно поднимались головы, тысячи голов. Выше, намного выше роста обычного человека. А под ними — мальчик на миг зажмурился — второй ряд голов. Нечеловеческих, огромных, длинных. На таком расстоянии, да еще в темноте, невозможно было различить глаз и лиц. Но мальчик видел их раньше — и стоял, оцепенев, широко открыв глаза и рот.
Тяжелая рука деда опустилась на плечи, заставила лечь. Рядом лежал в помятой ржи Усач — бормотал себе под нос и ругался, но мальчик его не слышал. Земля Цветущей, к которой он прижимался теперь всем телом, дрожала под ним, будто от страха.
Он обхватил ее обеими руками.
— Идите, — говорил дед, в голосе его звякала смерть. — Идите… Ближе. Еще ближе.
Мальчик прижался к своей земле щекой.
— Осот! Ты слышишь? Они нелюди, все. И те, что внизу, и те, что сверху. У них нет корней — ни земных, ни небесных, они не растут — носятся по свету, как сброшенные листья, как пойманный ветром мусор. Преврати их в мусор!
— Да, деда, — беззвучно ответил мальчик.
— Встаем, — сказал мужчина. И они поднялись одновременно — все трое.
Всадники, ехавшие впереди, заметили их и вскинули луки. Двое или трое успели выпустить стрелы; они пролетели высоко над головами стоящих на холме мужчины, юноши и мальчика.
Никто из троих даже не шевельнулся.
Первыми упали кони, повалились, увлекая за собой всадников. Кто-то успел подняться, кто-то нет. Кто-то закричал — прошло мгновение, может быть, два; по рядам поверженной армии прокатился не то хрип, не то сдавленный стон. Заколебался под луной воздух, ставший вдруг очень жарким.
И снова сделалось тихо и неподвижно.
Под луной, устилая вытоптанные поля, мешками лежали пришельцы. Их дряблая кожа складками стекала к подбородкам, к огромным хрящеватым ушам. Ветер срывал с черепов седые волосы, подбрасывал к небу, и издали казалось, что на поле боя отцветают одуванчики.
Мальчик стоял, дыша ртом. Бесконечно дряхлые, седые лошади лежали вперемешку с людьми, одновременно умершими от старости. И странно выглядели рядом с этими немощными трупами их блестящие мечи, копья, их натянутые луки. Кольчуги своим весом проламывали истончившиеся грудные клетки, то там, то здесь слышался хруст…
— Уходим, — сказал мужчина. — И помни: тебя здесь не было, Осот.
* * *
Мы молчали. Покойник в провисшем гамаке отбрасывал множественную тень — по числу факелов.
Я мог оборвать это молчание прямо сейчас — вместе с нашими жизнями. Я медлил не потому, что боялся; дряхлый барон, жертва веснара, напомнил мне кошмары моего детства. Я не хотел отягощать свои небесные корни еще и этой смертью. Поэтому ждал, чтобы маг ударил первым.
Он был моих примерно лет. Поджарый. Черноволосый. Вероятно, очень могущественный — никогда раньше я не видел, чтобы на магическом йолльском кольце так горел и светился перламутр. Говорят, стальные кольца куют на далеком острове, а цветные пластинки для них поставляют морские нелюди, у которых нет ни глаз, ни рта…
— Зачем ты явился на мою землю? Что ты забыл в Цветущей, мясоед?
— Моя земля там, где утверждаю свой закон. Даже если ты убьешь меня, закон здесь останется йолльский, и ты ничего не можешь с этим сделать.
— На небесном поле, где прорастут мои корни, не действуют земные законы. А тебя — тебя не будет нигде, мясоед. Твоя дряхлая плоть удобрит поля Цветущей. Чем тебе поможет йолльский закон?
Маг ухмыльнулся. Он тоже не боялся смерти.
— Вспомни, — сказал я. — Здесь, поблизости, ходит еще один веснар, и ни ты, ни я не знаем, кто это.
Его ухмылка застыла на губах.
— Это он убил барона, — продолжал я. — И, вполне возможно, станет убивать еще. Что ему йолльский закон?
— Растения, — он облизнул губы. — Хищные твари, напоказ смирение, внутри — подлость. Убийцы невинных людей…
— Мясоеды — не люди. Как и те, кто вам служит — ваши рабы и пища.
— Это животные! Не рабы и не пища, это лошади, коровы, кролики, овцы, свиньи, ослы, собаки!
Я вдруг понял, что говорю с ним по-йолльски. На языке Цветущей до сих пор нет слов, чтобы обозначить все многообразие йолльской нелюди. И еще я понял — с удивлением — что он тоже не хочет убивать первым. И что он вовсе не так спокоен, как полагается магу.
* * *
Те, кто впервые сошел на Цветущей с огромных кораблей под синими парусами, поначалу благодушествовали. Их мир был устроен по-другому: там сильный подминал слабого, и, добившись покорности, делал его частью этого мира. Без излишней жестокости, без напрасных смертей: йолльцам нужны были не трупы, а подданные. Они любили своих лошадей и собак, берегли их и хлестали кнутом только в крайнем случае — понуждая к покорности. Они кормили своих кроликов, овец и коров, а потом, когда приходило время, резали их и съедали. Они занимались науками и искусствами, строили огромные корабли и отправлялись в плаванье, и на каждом новом острове заново воссоздавали свой Йолль — таким, каким хотели его видеть.
Явившись на Цветущую, они поступили, как всегда. Им казалось естественным, что жители острова, не знающие оружия, немедленно покорятся людям со стальными мечами и дальнобойными луками в руках.
Так оно поначалу и вышло.
Все живое на Цветущей имеет корни в земле. Все, кроме человека. Человек волен выбирать себе место, жену и дом, волен выбирать себе ремесло и жизнь — его корни не привязывают его к земле, но привязывают к небу. После смерти, мы все прорастем на небесном поле — тот, чьи корни целы и здоровы, раскинется от звезды до звезды. Чьи корни подточены ложью, завистью, ненавистью — будет чахнуть. А того, чьи корни сгнили еще при жизни, не будет нигде, он исчезнет из мира, распадется прахом…
Когда новые люди высадились на берег, ведя в поводу огромных четвероногих людей с продолговатыми головами, выпуская на траву мелких людей, покрытых шерстью, и рогатых людей, издающих странные мычащие звуки — жители Цветущей были потрясены. Давние легенды говорили, что далеко-далеко за морем живут люди иной породы, совершенно не похожие на обитателей Цветущей. Тем не менее они остаются людьми: ведь у них нет видимых корней, а значит, есть невидимые, соединяющие с небом. И жители Цветущей встретили всех пришельцев, как подобает встречать людей.
Это потом оказалось, что чужие двуногие люди убивают четвероногих — себе в пищу. Запрягают в повозки, седлают их и ездят верхом. Заставляют пахать землю с утра до ночи, привязывают и бьют. В представлении жителя Цветущей это было немыслимо — ведь и те, и другие были связаны с небом невидимыми корнями!
Йолльцы потешались над жителями Цветущей, когда те пытались заговорить с лошадью или коровой, когда приглашали в дом собаку, как дорогого гостя. Это не люди, объясняли йолльцы (к тому времени в прибрежных районах почти каждый житель знал десяток йолльских слов, а некоторые — по целой сотне). Так в обиход вошло — на языке Цветущей — слово «нелюди»…
Тем временем пришельцы вели себя все более своевольно. Захватывали земли, постройки, сами назначали цены на хлеб, не желая слушать ни местных купцов, ни земледельцев. Община прибрежного города Заводь собралась и постановила — отказать пришельцам в гостеприимстве. Но йолльцы посмеялись над посольством горожан, а депутатов побили кнутом — несильно, в назидание — и отпустили.
В прибрежных городах начались волнения, с йолльцами отказывались торговать, в их лодках пробивали днища. Тогда командор йолльского флота отдал приказ, многократно опробованный уже на многих других островах: он велел схватить нескольких смутьянов и повесить их на рыночной площади в Заводи.
И это было сделано.
Целые сутки целый город молчал. Никто, даже дети, не произносил ни слова. Смотрели на тела казненных. Глядели друг на друга. В эти часы жителям Цветущей открылась чудовищная правда: не только четвероногие твари, привезенные из-за моря, не были людьми. Сами йолльцы, хоть и обладали даром связной речи, тоже людьми не были. У них не было корней — ни зримых, земных. Ни небесных. Они были — прах, случайно (и временно) наделенный подобием жизни.
Увидев ужас островитян, пришельцы больше не церемонились. Новую и страшную страницу в истории этого противостояния открыл маленький прибрежный поселок под названием Сухой Камень. Местные жители выращивали трепс, съедобные водоросли, называемые также «морским хлебом». Было время жатвы, мужчины целые дни проводили в море, женщины хозяйничали на маленьких огородах, полосками вытянувшихся на склоне холма. Случилось так, что экипаж йолльского судна «Овффа» («Морская птица»), недавно прибывшего на Цветущую, стосковался по женскому обществу и решил высадиться на берег.
Пытался ли капитан удержать их, или не видел в этой затее ничего плохого — никто так и не узнал. Двадцать молодых парней, опьяненных собственной властью, ворвались в поселок, почти не встречая сопротивления, и начали охоту за девицами и молодыми женщинами.
Без веснарского искусства трудно выращивать водоросли на мелководье — их уносит штормом прежде, чем созреет «морской хлеб». В поселке был свой веснар — вернее, была веснар, девушка из Заводи, которую пригласили послужить в Сухом Камне сезон или два, как она захочет; искусство веснара ничего общего не имеет со смертью. Это искусство весны, солнца, обновления и жизни. Так было до того дня, до случая в поселке Сухой Камень.
…Через несколько дней йолльский наряд раскопал наспех вырытую могилу. В тот день завоеватели впервые, пожалуй, от самой высадки на Цветущую узнали, что такое страх: яма была заполнена телами дряхлых, распадающихся от древности стариков. На них была одежда экипажа «Овффа», знаки различия, здесь же лежало и оружие, не успевшее даже потускнеть. Потрясение было таким сильным, что йолльцы ни о чем не стали спрашивать жителей поселка и без единого слова убрались в Заводь, оставив мертвых в могиле.
С того дня слово «веснар» перешло в йолльский язык. Единственное слово, которое звучит одинаково на их языке — и на языке Цветущей.
* * *
— Как ты меня узнал? Как догадался?
У нас обоих слезились глаза — от напряжения. Мы оба старались не мигать.
— Ты был единственный чужой, прибывший в Фатинмер. Я заподозрил тебя сразу, когда увидел на тракте. Если бы барон тогда меня не удержал…
— …он бы все равно умер! Я приехал в Холмы не затем, чтобы кого-то убивать. Я ненавижу убивать. Я маленьким мальчиком убил сотни людей, тысячи.
— Ты Осот?! — он не выдержал и мигнул. — Черт возьми… Нэф… То есть барон, он говорил… он был уверен, что ты мертв… Это не везение, это закономерность. Ты ведь ждал, что тебя узнают, все время ждал и боялся, поэтому даже отговариваться не стал! Ты ждал, что в тебе угадают веснара!
У него, наверное, затекла рука, но он все равно не опускал кольца — держал перед моими глазами. Я вдруг понял, что он прав. С того самого момента, как нога моя коснулась платформы под вывеской «Фатинмер», я ждал, сам не отдавая себе отчета, окрика в спину: «Веснар!»
— Я давно ничего не боюсь, — сказал я магу, и это тоже была правда. — Мы оба умрем сегодня. А убийца барона останется на свободе.
— Нет!
— Да. Ни ты, ни я никогда не узнаем его имени.
Он зашипел сквозь зубы.
— Нэф был добр. Слишком добр. Он был сентиментален. Он возился с этими растениями, как…
Он осекся. Его кольцо потускнело. Я стоял и смотрел, как он думает. В его красных слезящихся глазах поблескивал отсвет факелов.
— Если ты опустишь руку, — сказал я медленно, — я могу поклясться тебе небесными корнями, что не нападу на тебя первым в течение… тридцати минут, например.
— Я не верю твоим клятвам.
Он был по-своему прав: такую клятву может принять только тот, у кого есть небесные корни. Время шло, я не чувствовал связанных за спиной рук. Факел в дальнем углу затрещал и погас. На дряхлое лицо барона легла тень.
— Почему ты не убил меня сразу? — спросил я, не то врага своего, не то сам себя. — Ведь должна быть какая-то причина…
— Я приехал на остров не как убийца. Я должен расследовать дело, убедиться в твоей вине, судить тебя и казнить. По законам Вечного Йолля.
— Что?!
Такой самонадеянности, граничащей с детской наивностью, трудно было ожидать от человека, наделенного магической властью. Но мой враг верил своим словам. Когда он говорил, его ноздри раздувались и воспаленные глаза сверкали.
— Ты глупец, — сказал я тихо. — Извини, но ты просто болван, идиот, понятия не имеющий о том, что говоришь. Ты знаешь, сколько мясоедов заплатили жизнью за эти… бредни?
Перламутр на его кольце засветился ярче, и целый миг я думал, что это конец: сейчас он ударит.
Но он удержался. Факелы дымили. В помещении вся тяжелее становилось дышать.
— Где ты был сегодня после полудня? — тихо спросил маг. — Вернее, уже вчера… После полудня — и вечером?
— Ты все-таки решил «расследовать дело»?
— Отвечай.
— Я был за Холмами, шагов на сто правее тракта, на меже двух полей.
— Что ты там делал?
— Жил. Смотрел в небо. Спал.
— Кто-нибудь тебя видел?
— Не знаю. Мне не было дела ни до кого. И сам я никого не заметил, если ты об этом хочешь спросить… Барона убили в доме?
Он помолчал.
— Барона нашли… я нашел. В лесу. Недалеко отсюда. Он был один. Лежал лицом вниз. Я перевернул его… — маг задержал дыхание, заново переживая эту сцену. — Это было уже вечером, на закате. Он ушел в лес сразу после обеда, якобы охотиться, но не взял с собой оружия.
— Барон часто так делал?
— Нет, никогда.
Задумавшись, мой враг почти опустил руку с кольцом. Это, впрочем, не ввело меня в заблуждение: я же видел, как он сбил на лету арбалетную стрелу…
— Можешь показать мне это место?
— Зачем?
Я не сразу отозвался. Мне следовало верно сформулировать ответ — безо лжи. Но и правды мой собеседник не был достоин — он просто не смог бы ее понять.
— У нас обоих мало времени, — сказал я медленно. — Но мне хотелось бы знать, кто и почему убил барона.
Его глаза сверкнули. В этот момент я читал его мысли: маг рассчитывал, изобличив моего собрата-веснара, подвергнуть его так называемому «йолльскиму правосудию»; тогда я решил про себя: как только я догадаюсь, кто убийца — нанесу удар первым. Похороню себя вместе с магом — и с этим знанием.
* * *
Я не был в Холмовом двадцать три года. После большого пожара лес изменился до неузнаваемости. Я взбирался первым по крутому склону — по-прежнему со связанными за спиной руками. Слушал незнакомый, не внушающий доверия шорох, ловил ноздрями пропахший опасностью ветер. Позади меня шагал маг: я чувствовал, как его кольцо смотрит мне в затылок.
Ночь сменялась рассветом.
Мои ноздри дернулись. Не успев сообразить, откуда вонь, я замер, всматриваясь в предутреннюю муть. Источник запаха обнаружился почти под ногами: это были останки некогда живого и теплокровного существа. Обглоданные кости, клочья меха, запекшаяся кровь.
— Это заяц, — сказал маг за моей спиной. — Его съели.
— Кто? — я боролся с тошнотой.
— Хищник, — маг говорил теперь сквозь зубы. — Вперед.
Я ничего не ответил. Обошел останки и двинулся дальше, вверх и вверх по склону. Все йолльцы, с которыми мне доводилось общаться в Некрае — а в их числе были и университетские профессора, — искренне не понимали, как природа Цветущей могла существовать без «фаа», «мерф» и «манфи»…
Я улыбнулся: все-таки я побывал в Холмовом. Иду по лесу и думаю на родном языке; сейчас, перед смертью, каждая мелочь имеет значение.
Сделалось светлее: впереди отрылась поляна. Слой рыжей хвои уступил место траве. Я замедлил шаг.
— Здесь, — сказал маг. — Он лежал вот здесь.
Трава на поляне, высокая и жесткая, во многих местах была примята. Уже после смерти барона здесь толпились стражники, растерянно оглядывались, хмурили брови, месили траву сапожищами. Расстилали полотно, укладывали на него дряхлое тело… Я присмотрелся: среди полегших стеблей подрагивали на ветру две пряди длинных седых волос. Даже в утреннем полумраке я отлично их различал.
— Трава не распрямилась, — тихо сказал маг.
— Что?
— Когда я нашел его тело, трава стояла ровно, не было ничьих следов… Даже следов барона. Я подумал, она распрямилась сама по себе… Всего за несколько часов…
В лесу кто-то тонко вскрикнул — как ребенок. Я содрогнулся.
— Это птица, — сказал маг.
— Вы и «мерф» сюда завезли…
— Это лес! Да, в нем должны жить птицы и животные, это нормально. Это жизнь! Хищники и жертвы, норы и гнезда, рождение, смерть…
Я не слушал его. Смотрел на поляну: с двух сторон она была огорожена, как забором, густым ельником. Несколько огромных сосен, когда-то уцелевших в огне, колоннами тянулись в небо. Между их темными, поросшими мхом стволами теснились маленькие березы: я готов был поклясться, что их высаживали здесь специально, помогая лесу опомниться после пожара. Десять лет назад, пятнадцать…
— Хорошее место для встречи, — сказал я вслух.
Маг промолчал.
— Ты не знаешь, с кем барон собирался здесь говорить? У тебя нет даже предположения?
Он снова промолчал. Утренний ветер дергал березы, заставляя их нервно, зябко перебирать листвой. Среди истоптанной травы лежал увядший василек.
Я наклонился и поднял его.
Цветок погиб не под каблуком стражника. Его сорвали раньше, возможно, далеко отсюда. Возможно, в поле. И это мог сделать кто угодно — сам барон. Или тот, с кем он встречался. Василек цвета неба уродился слишком красивым, чтобы умереть своей смертью; сейчас он обмяк, лепестки потускнели, стебель переломился пополам.
Не выпуская из рук мертвый цветок, я поднял с земли шишку. Сунул в карман. В детстве у меня была привычка — собирать семена, которые попадутся под ноги. Бабушка бранилась, вытряхивая мою куртку — полные карманы крошек, семян, сосновых иголок…
— Ты слышишь? — напряженно спросил маг.
Я поднял голову. Он был прав: в лесу что-то неуловимо изменилось и продолжало меняться прямо сейчас. Лес жил по чужим, йолльским законам, и я, который прежде знал Холмовый и любил, не мог теперь понять, что происходит.
Там, в глубине. В серых сумерках. За стволами. Все ближе и ближе.
Маг искоса глянул на меня — и обернулся в сторону ельника. Он тоже ничего не понимал.
Я вспомнил — что-то из детства. Из тех кошмарных снов. Не офорлы… нелюдь под нелюдью в чистом поле… что-то другое, не менее отвратительное, но куда более опасное…
— Берегись! — зачем-то крикнул маг.
Прошла половинка мгновения.
Я успел увидеть, как взлетает из-под низких еловых веток вожак. Беззвучно выпрыгивает вверх почти на полный человеческий рост, целит когтями в грудь магу и клыками — ему же в горло. Как маг вскидывает руку, и кольцо разражается белым огнем. Как все тело нападающей твари освещается изнутри, на мгновение становится прозрачным, видны кости, позвоночник, череп… очень похожие на человеческие, но уродливые, страшные… а потом тварь распадается на части, и одновременно из-под елок взвиваются, нападая на мага, еще три таких же.
Четверо кинулись на меня. Один навалился из-за спины. Я не устоял — у меня были связаны руки — и упал лицом в росу.
* * *
Это накатывает волной. Волосы встают дыбом. Все живое бросается в рост, в развитие, в старение, в осень и опять в весну… Ветер подхватывает листья… Вихрь, водоворот, зима и лето сменяют друг друга, лопается оболочка и снова нарастает, бегут соки, бежит кровь по жилам, скорее, скорее…
…Преврати их в мусор.
* * *
Я упал, а тварь навалилась сзади — мертвым грузом. Уже мертвым.
Я закрыл глаза.
Каждая жилка дрожала. Как тогда, на вершине горы, когда дед сказал: «Тебя здесь не было». Я давно, очень давно не был веснаром…
И уж тем более — не убивал.
Я пошевелился, сбрасывая с себя тощую, роняющую шерсть, дряхлую тушу. Передернулся от отвращения. Подтянул колени, с трудом поднялся. Мага тоже сбили, он встал одновременно со мной — бледный, как жемчужина с далеких островов. Кольцо на его пальце горело синим и фиолетовым.
— Погоди, — выговорил я, пытаясь плечом стереть с мокрого лица прилипшие клочья шерсти. — Не нападай. Мы не договорили.
Он огляделся. Поляна была завалена дохлыми тварями — все они умерли на лету, в прыжке, от старости. Мутные глаза затянуты бельмами, клыки рассыпались прахом. Я с трудом узнал в этих «манфи» — волканов. Йолльцы привезли их на остров, йолльцы когда-то, давным-давно, натаскивали этих тварей для охоты на людей.
На счету мага был только один враг, тот, первый. От волкана мало что осталось: кучка пепла, понемногу уносимого ветром.
— Восемь, — сказал маг и сглотнул.
— Там еще двое… За елками. Дохлые.
— Откуда ты знаешь?
— Пойди, посмотри. Может, ты привык убивать без счета, а я — нет.
(«Сколько их было?» — спросила тогда бабушка, встречая нас на пороге, и я был благодарен деду, что тот не стал ей отвечать…)
Маг стоял среди этого побоища, среди горы дряхлых тел — и смотрел на меня. Это был странный взгляд. И ужаса в нем было все-таки больше, чем отвращения.
— Давай уйдем отсюда, — сказал я. Повернулся и пошел, не оглядываясь.
Он догнал меня и зашагал сзади — молча. Я слышал, как похрустывают веточки у него под ногами. Так, не говоря ни слова, мы спустились с пригорка и вышли на опушку как раз тогда, когда из-за холмов на востоке показалось солнце.
Возможно, это был мой последний рассвет, поэтому я замедлил шаг. Подставил свету лицо. Дом барона лежал ниже, и солнечные лучи до него пока не добрались.
Маг остановился рядом — по-прежнему очень бледный.
— Я же говорил тебе, — сказал я негромко. — Веснару для дела ни руки, ни глаза ни к чему. Зато теперь ты знаешь, как это будет с тобой. А я — как это будет со мной.
— Это мерзко, — отозвался он тоже вполголоса. — Веснарство — самый отвратительный из волшебных даров.
— Неправда. Веснарство — прекрасный дар. Дар жизни, а не смерти. Мы не виноваты, что вы явились сюда с йолльским законом. Что вы даже лес, мирный лес, превратили в бойню, где нелюди жрут друг друга.
Он не ответил. Пошел к дому, а я за ним.
Со стороны пригорка баронский дом казался двухэтажным. Дикий виноград оплел его стены сплошной плетенкой. Усики торчали в разные стороны — искали, требовали, шарили в поисках новой опоры. Каменная ограда здесь была совсем невысокой, волкану не составило бы труда перемахнуть ее с разбегу. Мы с магом одновременно подумали об одном и том же.
— Он говорил, что это не опасно, — пробормотал маг. — Если не ходить в лес по ночам… Слишком уж расплодились зайцы. Грызли кору…
Меня передернуло от омерзения.
Солнце коснулось верхушек травы у самой ограды. Покачивались метелочки. Безмятежно тянулись к небу белые соцветия. Цветущая, моя Цветущая, что с тобой сталось?!
— Развяжи мне руки, — сказал я глухо.
* * *
Во дворе баронского дома стояла пустая телега: лошадь из нее благоразумно выпрягли и увели. Бочка со смолой догорела и дымилась теперь, расточая смрад. Залитая солнцем дорога вела к тракту, и только там, на благоразумном отдалении, маячили черные фигурки.
— Ты можешь убивать на расстоянии, веснар? Дотянуться до тех, к примеру?
Я прищурился.
— Могу. Но я не знаю, кто там. Может быть, это свои… И они ведь не нападают.
— А если нападут свои — ты убьешь?
Он так и не стал развязывать мне руки. Воткнул в щель между камнями баронский меч — и отошел в сторону, предоставив мне возможность самому, вслепую, перепиливать веревку.
Меч был хороший. Я рассек веревку в двух или трех местах, она ослабела и потихоньку стала соскальзывать с онемевших рук — виток за витком. В свете дня мертвый барон в гамаке казался ссохшимся, как черная груша.
— Нам обязательно оставаться здесь?
Маг подумал.
— Иди наверх… Только не пытайся завернуть за угол! Оставайся на виду, если хочешь прожить подольше!
Я хмыкнул.
На втором этаже помещалась «комната для бесед», по-йолльски «фрадуф». Комната была в том же виде, в каком ее оставил барон — если не считать опрокинутого кресла с отпечатком башмака на мягкой спинке. Кресло валялось у того окна, из которого в меня стреляли.
Солнце освещало комнату, не оставляя ни краешка тени. Йолльцы любят свет; удобная деревянная мебель делила пространство на несколько уровней — можно было сидеть у самого пола или выше, или еще выше, под потолком. Согласно йолльскому кодексу гостеприимства, «фаон», то есть собеседник в общей комнате, волен выбирать себе место потеплее или посвежее. С иерархией — положением в обществе или старшинством — этот выбор никак не связан.
Если бы не мохнатые шкуры нелюдей, устилавшие пол, я сказал бы, что комната мне нравится.
— Подведем итог, — сказал маг. — Я убью тебя, как только ты попытаешься до меня дотянуться. Знаю, ты убиваешь быстро, но у меня хорошая реакция.
— Хорошая, — отозвался я. — В бою у меня преимущество: я могу поразить сразу многих. Но в нашем с тобой случае это не имеет значения.
— Не имеет, — повторил он отрешенно.
Я растирал затекшие руки и пытался понять: если бы там, в лесу, я накрыл своей веснарской волей не только волканов, но и человека тоже… успел бы он убить меня? Хищники, появившись внезапно, полностью занимали его внимание. Возможно, это был единственный мой шанс: покончить с ним — и самому остаться в живых…
Маг тоже об этом подумал.
— Я не выпущу тебя живым, — сказал я, обрывая его так и не начатую фразу. — Ты знаешь о втором веснаре. Ты будешь его искать.
Он вскинул подбородок:
— Неужели ты решил, что я оставлю в живых тебя?
Я кивнул. Каким бы ни был мой шанс — он ускользнул, закончился, и вспоминать о нем не было смысла.
— Ты догадываешься, с кем встречался барон? — я прошелся по комнате, стараясь не наступать на шкуры.
Маг сел на низкую полированную скамью. Потер лоб, будто вспоминая. Блики на его кольце при свете дня чуть потускнели.
— Скажи… полукровка может быть веснаром?
— Полукровка?
— У барона двое сыновей… Со старшим он поссорился три дня назад: щенок надерзил отцу и ушел.
Я невольно посмотрел в потолок: мальчишка, которого я первым увидел в этом доме, все еще прятался где-то на чердаке. Мы с магом в третий раз одновременно подумали об одном и том же; такая солидарность начинала внушать мне опасения.
— В любом случае, — медленно сказал я, — его нужно отправить к людям. — У него, наверное, есть мать… другие родственники…
— Иди наверх, — сказал маг. — И не делай резких движений.
Наверх вели две лестницы: внешняя, пологая, увитая виноградом, и внутренняя, очень крутая, закрученная винтом. Я снова поднимался первым. Крышка деревянного люка, прикрывавшая вход на третий этаж, была чуть сдвинута.
Маг выбрался из люка, чуть не хватая меня за щиколотки. Вполглаза приглядывая друг за другом, мы огляделись: я изучал незнакомое йолльское жилище. Маг искал мальчишку.
Все те же высокие окна, увитые виноградом, свободно впускали солнце и сквозняки. В центре большой комнаты помещалась «оре» — теплая йолльская постель, больше похожая на дом в доме. Полог-палатка, притулившаяся к каминной трубе, закрытая со всех сторон одеялами и шкурами нелюдей.
Вдоль стен висели, открытые всем ветрам, пустые гамаки.
— Комната барона, — сказал я вслух. — Где они жили все? Дети, стража, слуги?
— Внизу. На земляном этаже.
Я вспомнил о бароне, который так и коротает вечность — провиснув в гамаке почти до пола. Некстати пришла на ум еще одна йолльская традиция: хоронить особо знатных покойников в гамаках.
— А… ты? — я запнулся. — Ты где жил? И кто ты, собственно, такой? Что делаешь в доме барона?
Будто не слыша меня, он откинул край тяжелого полога. Заглянув через его плечо, я увидел — сквозь тучу пылинок в солнечном луче — мальчишку, свернувшегося на матрасе, как корешок в слишком тесном горшке.
— Реф! — негромко приказал маг.
Мальчишка вскочил. Встрепанный, круглоглазый, бледный, он вдруг напомнил мне — меня.
— Выходи, — сухо велел маг.
Мальчишка выбрался из «оре». Сердце в нем колотилось так, что вздрагивала льняная рубаха на груди и на спине.
— Твой отец умер, — сухо сказал маг.
Мальчишка хлопнул светлыми ресницами. В нем не было ни капли скорби — только страх.
— Это ты его убил?
Я поперхнулся от такого вопроса. Мальчишка долгое мгновение глядел на мага, а потом затряс головой так, что чуть глаза не расплескал.
— Где Кноф? Где твой брат?
Мальчишка икнул.
— Отвечай!
— Осторожнее, — сказал я. — Все-таки ребенок…
Маг мельком глянул на меня через плечо.
— Где твой брат? — повторил тоном ниже.
— Он ушел, — выдавил мальчишка еле слышно. — Сказал… что уйдет… в море… на корабле.
— Когда? Когда ты видел его в последний раз?
Мальчишка, казалось, не понимал вопроса.
— Вчера? Видел его вчера?
— Нет.
— А позавчера?
— Нет. Он ушел.
— Куда?
— На корабль… матросом.
Мальчишка говорил по-йолльски. В языке Цветущей слова «матрос» до сих пор нет.
Маг помолчал, играя желваками. Мальчишка снова икнул.
— Слушай внимательно, — сказал маг сквозь зубы. — После смерти твоего отца здесь распоряжаюсь я. Беги в Фатинмер. Скажи матери: я велел явиться сей же час. Скажи госпоже Розе: я велел явиться ей тоже! Передай: я приказал слугам и страже вернуться на службу — немедленно, иначе я сочту это бунтом. Повтори!
— Матери… Госпоже Розе… немедленно… слугам… страже… бунтом, — мальчишка повторял слова механически, как заводная игрушка.
— И не бойся, все образуется, — зачем-то добавил я.
Он посмотрел сквозь меня — и шагнул к выходу на внешнюю лестницу. Минутой спустя мы увидели, как он бежит по дороге к тракту — что было сил, во все лопатки. А вдали, за невысокими холмами, проплывали цветные паруса — поезд набирал скорость, уходя от станции «Светлые Холмы», следуя из Дальних Углов в сторону побережья.
Мне никуда уже отсюда не уехать.
— Спорим, что стража не послушается. Тот, что в меня стрелял, наверняка был здесь во время нашествия. Многое повидал.
— Я тоже кое-что видел, — все так же сухо отозвался маг. — Пусть попробуют не явиться.
Я подумал, что не завидую этому начальнику стражи. Если выбирать между веснаром — и обвинением в бунте…
— Кто такая эта госпожа Роза?
— Мать старшего мальчишки, того, который сбежал.
— Женщина барона?
— Была женщиной барона почти шестнадцать лет назад. С тех пор ее муж, всю жизнь долбивший канавы, пошел на повышение… Теперь он сборщик налогов и надзиратель в поселке.
Я смотрел, как удаляются паруса. Тогда, в начале нашествия, женщины Цветущей были горды и непреклонны, и смерть предпочитали позору. Тогда все были уверены, что йолльцы уйдут с острова — или умрут все до единого, превратившись в удобрение для наших полей. И никому в голову не могло прийти, что спустя всего несколько месяцев… ну ладно, год с небольшим… первый веснар станет жертвой предательства.
Я на мгновение прикрыл глаза: веки горели. Хотелось спать, но я понимал, что не засну уже до самой смерти.
Вдалеке на тракте все так же маячили люди: не решались убраться, не отваживались подойти. Я бездумно взялся рукой за виноградную лозу — корень ее был далеко внизу, в земле, в плодородной земле моей Цветущей…
Я чуть сжал ладонь.
В рост. В развитие, в старение, в осень и опять в весну. Ветер унесет листья, зола вернется в землю, и будет пища корням.
* * *
Поле чернело золой. Вчера ночью йолльцы подожгли его с четырех сторон. С тех пор прошел день и еще одна ночь. Прошел дождь, превратил золу в жидкую грязь.
— Они хотят, чтобы мы передохли с голоду, — сказала полная женщина с родинкой на кончике носа.
Высокий светловолосый парень сплюнул сквозь зубы:
— Как же… Не дождутся.
Над верхней губой у него едва пробивались тонкие, прозрачные усы.
Поодаль толпились люди. Переговаривались. Жались друг к другу.
— Эй, дармоеды! — весело крикнул мужчина лет пятидесяти (его рука лежала на плече небольшого щуплого мальчишки). — Сеять будем — или плакать будем? Тащите все всхожее, что есть!
Дождь то утихал, то снова начинал моросить. Расходились тучи. Одна за другой вставали на небе радуги.
— Радуга — к веснарству, — бормотал мужчина. — Ну, где вы там, дармоеды?
Увязая в земле, катились тяжелые тачки. Люди сгружали мешки и корзины, торопливо шли, разбрасывая зерно — каждый по своей полосе, не ошибаясь и не сталкиваясь, хотя в горелой грязи не было видно меж.
— Не перерасти, Осот, — строго сказал мужчина. — Осыплется — как его потом жать… Усач, Ягода, вместе, что ли?
Женщина с родинкой улыбнулась, двумя руками отбросила с лица тяжелые темные пряди. Парень с невидимыми усами высморкался в грязь, скромно вытер руки о штаны.
— Ну… Поехали. Вместе!
Мальчик побежал.
Лучше бы, конечно, замереть, как солидному веснару, глядя в сторону, с равнодушным лицом. Слушать охи да ахи крестьян, не смотреть, как поднимается рожь — только чувствовать, как бегут по стеблю соки… как наливается колос…
Но он не мог удержаться. Не мог устоять. Таким восторгом, такой силой и радостью наполняла его работа.
Он бежал, раскинув руки. Он подпрыгивал, и под его босыми ступнями, и далеко вокруг лопались зерна. Выстреливали белые ростки — корни. Укреплялись. Тянули вверх зеленые побеги. Яркая зелень пробивалась поверх черного, грязного, безнадежного — поверх сгоревшего урожая. Все выше тянулись стебли. Солнце, вырвавшись из-за туч, засветилось на каплях росы.
— Цвети! — кричал мальчик на бегу. — Цвети!
Среди колосьев проглядывали красные и синие цветы. Дед много раз велел ему не растить сорняков, а он все равно растил. И они вырастали, открывали лепестки и снова сбрасывали, и вырастали снова, а колосья поднимались, меняли цвет, из зеленых становились желтыми, тяжелели, клонились к земле…
— …то-ой! — кричал дед, и ветер носил над полем обрывки его слов. — …ерасти-ишь!
Мальчик остановился.
Еще бы миг — и они в самом деле начали бы осыпаться. Вот какие они тяжелые. Вот как гнутся к земле…
— Жните! — кричал дед. — Жните, пока есть время!
Мальчик побежал обратно — по меже, между колосьями, старясь как можно меньше их тревожить. Все поле покрылось жнецами; взлетали косы. В лихорадочной спешке вязались снопы. Мальчику тоже сунули в руки серп, и он торопливо срезал колосья, и сквозь их желтый лес на него смотрели, смотрели разноцветные глаза васильков и маков. Синее небо… Красная кровь из случайной царапины — обрезался серпом, дуралей…
Разошлись тучи и выкатилось, всех благословляя, солнце.
* * *
Маг зачарованно смотрел, как движется по комнате лоза. Выбрасывая в стороны зацепки-крючки, она потянулась по стене в потолку, обвилась вокруг балки — жуткое, прекрасное, завораживающее зрелище. Вот зеленая плеть ухватилась за свисающую веревку, поползла по сетке гамака — все дальше и дальше… Я разжал пальцы. Лоза успокоилась и замерла.
Маг смотрел на меня. Это был странный взгляд.
— Здесь такая земля, — сказал я. — Только надо ее как следует удобрить. Тогда из семечка вырастет дерево — в три обхвата, в шесть обхватов… и его будет тяжелее спилить, чем вырастить.
Маг отвел взгляд. Отошел к стене, выбрал гамак, не тронутый лозой, подтянул веревки и лег, закинув руки за голову, не снимая пыльных сапог.
— Меня зовут Аррф, — сказал будто нехотя.
* * *
Он происходил из богатой и знатной семьи потомственных носителей магии. Образование получил в Храме Науки Эо — старейшем учебном заведении йолльской столицы, факультет юриспруденции. Через несколько лет оставил место судьи в одном из пещерных городов (многоярусные дебри, вырубленные в скале, ни травинки, ни листика), погрузился на корабль под синим парусом и вышел в море — нести йолльский закон в те края, где о справедливости прежде не слышали.
Он сошел на землю Цветущей в порту Заводь — и поразился красоте и богатству этой земли.
Он остановился в гостинице на берегу, и в первый же вечер его отравили, сдобрив тушеное мясо могучим растительным ядом. Не будь он магом — умер бы в мучениях. А так — помучился и выжил.
Хозяин гостиницы ударился в бега. Йолльскому патрулю удалось перехватить его возле самого города. На допросе отравитель признался, что спутал Аррфа с другим йолльским магом, который несколько лет назад якобы убил его сына.
Злодея повесили согласно йолльскому закону.
Едва преодолев последствия отравления, Аррф отправился к барону Фатинмера — передать письмо с родины. Ехать пришлось через весь остров. Маг не спешил, приглядываясь к местному укладу, но видел везде одно и то же: обитатели Цветущей, внешне доброжелательные и смирные, в любой момент готовы были нанести удар в спину. Их лицемерные слова о «небесных корнях», которые якобы соединяют их с небом и определяют все их слова и поступки, звучали издевательством: само собой подразумевалось, что у «мясоедов», как у животных, никаких корней быть не может.
Он почти перестал общаться с местными. Все они сносно владели йолльским, но, говоря между собой, то и дело переходили на непонятный стрекочущий язык. Казалось, в его присутствии они обмениваются анекдотами о нем самом, насмехаются и злословят.
Когда он ел мясо — как правило, скверно приготовленное, — они кривили лица за его спиной: казалось, их сейчас вырвет. Когда он, искренне заинтересовавшись, расспрашивал о старинных обычаях и нравах — с ним говорили, как с умалишенным.
Они были медлительны, долгие дни проводили, лежа на земле и глядя в небо. Они были ленивы — чего и ждать от народа, без особых трудов снимающего по три урожая в год? Ни одно строительство не обходилось без йолльских рабочих: всякий подрядчик знал, что если поставить на работу одних только местных, стройка умрет, не начавшись.
Йолльцы, чиновники и торговцы, общались только друг с другом и откровенно презирали местных, называя их «растениями». Стоило ли рваться из кожи вон, строя школы, куда дети Цветущей ходили из-под палки, строя больницы, когда местные от всех своих хворей умирали дома под присмотром какой-нибудь травницы?! Стоило ли добывать руду, прокладывать новые торговые пути, ставить мосты, стоило ли превращать это сонное растительное царство в островок человеческой жизни?
По какой-то прихоти природы на Цветущей водились только растения — и человек. Отсюда все эти варварские представления о небесных корнях, отсюда — полное неприятие борьбы, движения, творчества. Растительная жизнь — пассивная, вялая; местные были коварны, как безобидный с виду, но смертельно ядовитый цветок.
Еще долго после отравления Аррф чувствовал слабость. Бредовый мир Цветущей поглощал его, как огромный желудок.
Только в Некрае, самом большом городе Цветущей, теплилась жизнь. Там йолльцы и местные жили тесно, бок о бок, и ритм ежедневной работы заставлял «растений» отвлечься от ежедневного созерцания небес. Аррф провел в городе неделю и совсем уже решил остаться — но письмо жгло ему карман. Он обещал дяде, что передаст послание старому другу из рук в руки. А значит, надо было ехать в Фатинмер.
Барон встретил его радушно, как родственника. За шестнадцать долгих лет дом его порос мхом и виноградом, а барон поскучнел, поглупел и почти превратился в растение — так он сам говорил. Появление Аррфа заставило барона встряхнуться: хозяин и гость много путешествовали по окрестностям, вместе закусывали (баронский повар готовил мясо великолепно) и проводили долгие часы за беседой.
Среди прочего барон рассказал Аррфу историю взятия Фатинмера, кровавую историю противостояния военной силы — и дикой мощи местных колдунов. Сам он, барон, ни разу в жизни не видел веснара: он приехал на остров, когда тех уже выжили, выжгли, извели на всей Цветущей. Однако страшный рассказ о полях, засеянных дряхлой человеческой плотью, произвел на мага тяжелейшее впечатление и еще более укрепил его неприязнь к островитянам.
Между магом и бароном завязалась не то чтобы дружба — йолльцы очень осторожны в привязанностях — но спокойная симпатия. Единственным серьезным неудобством было такое устройство быта, при котором Аррф, лежа в мягком гамаке баронской спальни, слышал сопение крестьянской девушки, уединившейся с хозяином в палатке-«оре». Толстый полог, покрывала и шкуры приглушали звуки — но в тишине ночного дома Аррфу казалось, что он там, в «оре», третий.
В такие минуты он горько жалел, что покинул Йолль. Простота, с которой барон сходился с «растениями», поражала Аррфа и угнетала. Сам он никогда не мог бы переступить незримую черту, отделявшую островитянок от йолльского мага.
— Они нас презирают! — твердил он барону. — Они, тупые растения, нас не считают людьми!
— Два-три красивых подарка, — мудро отвечал барон, — и они будут считать нас не то что людьми — богами!
Примерно так они разговаривали, направляясь верхом к станции «Фатинмер» и дальше, на пастбища, где подрастали жеребята, где гуляли в сочной траве коровы и овцы. Они видели, как прошел за холмами парусный поезд, а спустя полчаса встретили одинокого путника. Тот отлично понимал йолльский, но говорил с бароном на своем стрекочущем языке.
Фатинмерцы нередко ездили куда-то на поезде или уходили пешком, но чужаки в поселке появлялись, как правило, только во время ярмарок. Сейчас ярмарки не было, и каждый путешественник оказывался на виду — «как горошина на тарелке». Упрямый приезжий и был такой горошиной. Аррфу, пребывавшему в раздраженном состоянии духа, очень хотелось ударить наглеца. Не насмерть. В воспитательных целях — чтобы знал свое место. Но барон был хозяином в своих владениях, и Аррф не решился нарушить его прямой приказ — оставить путника в покое.
На другой день после обеда барон собрался в лес на охоту. Но оружия с собой не взял. Аррф, решивший, что здесь опять замешана крестьянская девчонка, ничего не сказал.
Кольцо мага не дарит ясновидения, но обостряет проницательность. Предчувствие было похоже на смутную тень, но Аррф знал цену таким теням. На закате барон не вернулся. Маг, прежде избегавший лесных прогулок, отправился на поиски… и нашел.
В первый момент он решил, что перед ним труп незнакомого, невыразимо дряхлого старика. Но сразу после этого вспомнил рассказы о веснарах — и осознал весь ужас случившегося.
* * *
Я смотрел вдаль, на дорогу, и первым увидел, как приближаются осторожные фигурки. Две женщины и с ними начальник стражи; то ли он устыдился перед лицом бабьей храбрости, то ли решил, что раз ночь прошла и маг все еще жив — невыполнение приказа обойдется дороже, чем повиновение.
— Они идут, — сказал я Аррфу.
Тяжело ворочаясь, тот выбрался из своего гамака и нервно потер кольцо на пальце. По-прежнему не выпуская друг друга из виду, мы выбрались на широкую внешнюю лестницу.
Трое остановились у приоткрытых ворот. Внутрь входить не стали. Две женщины были разительно не похожи друг на друга: высокая, полная, тяжелая красавица с черными косами вокруг головы и щуплая, как подросток, бледно-рыжая бабенка самого обыкновенного вида. Я про себя отметил, что вкусы барона отличались разнообразием.
Начальник стражи — тот, что вчера стрелял в меня — держал марку из последних сил, но даже на расстоянии было видно, как он бледен. Взведенный арбалет у ноги — он пристрелил бы меня немедленно, если бы не присутствие мага.
— Входите, — громко и раздраженно предложил Аррф.
Черноволосая шагнула в ворота первой, за ней рыжая и только потом — начальник стражи. Все трое обогнули повозку, брошенную посреди двора, и остановились, глядя на нас снизу вверх.
— Роза, где твой сын? — отрывисто спросил Аррф, обращаясь к черноволосой.
— Я думала, вы мне это расскажете, добрый господин маг, — отозвалась женщина на неплохом йолльском. — В Холмах он не показывался.
Начальник стражи смотрел на меня, как стрелок на мишень. В его глазах ситуация выглядела совсем уж невероятной: веснар, убивший барона, до сих пор не наказан и стоит, как ни в чем не бывало, рядом с магом. А тот ведет странные и, с точки зрения стражника, лишние расспросы.
Я подумал, что о том, другом, затаившемся веснаре ни один из них не знает. А если знает — то молчит. И не успел я об этом подумать, как рыжая женщина открыла рот: не то она была очень глупа, не то полностью лишена воображения, а с ним и чувства страха.
— Господин маг, — сказала рыжая. — Этот чужак рядом с вами, — вы его нам отдайте. Если это он убил Нэфа ни за что ни про что, так нам его и судить. И начальству вашему скажите: веснара мы сами казнили, пусть солдат к нам не присылает. Хватит и того, что новый барон будет хуже Нэфа, потому что лучше Нэфа быть не может.
— Храбрые какие — веснара казнить, — сквозь зубы сказал начальник стражи.
— А что нам веснар? — бестрепетно отозвалась рыжая. — Наше это дело, внутреннее. Свои же их когда-то и перебили, а вам, йолльцам, они не по зубам.
Говоря, она посмотрела мне в глаза. Я вздрогнул.
— В «Фатинмере» тебе надо было останавливаться, — сказала рыжая, не сводя с меня странного взгляда. — Я там хозяйка. Уж в моей-то гостинице тебя не захватили бы врасплох.
— Хватит, — оборвал ее маг. — Роза, когда ты в последний раз видела своего сына?
— На прошлой неделе, — бестрепетно отозвалась черноволосая. — Кноф глядел волчонком, но что там и как, рассказывать не стал.
— Когда ты в последний раз видела барона?
— О-о, — она игриво вскинула черные брови. — Нэф не желал меня замечать вот уж полгода, не меньше… Разве что на прошлой ярмарке, на торгах… месяца три будет.
— Горчица, — маг обернулся к рыжей. — А ты когда в последний раз виделась с бароном?
Зависла пауза. Женщина смотрела на мага, как сквозь толстое стекло, и меня вдруг обсыпало мурашками: она веснар!
Мы не можем узнавать друг друга. Мы не можем чуять друг друга, но в эту минуту, глядя на нее, я готов был поклясться: она веснар. Годы и годы проведшая в тайне. Прижившая ребенка с йолльским бароном. И вот теперь…
— Мы виделась вчера, — просто сказала рыжая Горчица. — Я собирала травы в лесу, возвращалась после обеда, встретила его на опушке. Мы поговорили. И я ушла. А он остался в лесу. Сказал, что у него встреча. Это правда, чистая правда, ты не можешь этого не чуять, Аррф.
— Ты собирала травы в лесу, где полно волканов?!
— Нэф говорил, эти твари не охотятся днем. А я пришла в лес, когда солнце стояло высоко… Почему ты спрашиваешь, господин маг? Какая разница, кто и когда видел Нэфа? Если теперь он мертв, если его убил вот этот веснар, — она опять кивнула на меня, — какая разница, с кем он встречался?
Я разжал пальцы. Увядший василек, невесть как оказавшийся у меня в руках, упал на каменный пол балкона. Вот оно как… Я испытывал и облегчение, и разочарование. Я ведь ждал, оказывается, что она первой нападет на обоих йолльцев, и мага, и стражника. И настанет наконец развязка.
Она почувствовала мой взгляд. Снова посмотрела мне в глаза — без тени страха, без намека на стыд.
— Зря ты убил его, — сказала на языке Цветущей. — Те времена прошли… Теперь всем будет только хуже.
Я прикусил язык — до того мне хотелось ответить.
— Говори по-человечески! — рявкнул Аррф.
Женщина приподняла уголки губ:
— Я и говорю по-человечески, мясоед.
Он вскинул руку с кольцом — и тут же опустил. Рыжая даже не моргнула.
— О чем вы беседовали с бароном? — глухо спросил Аррф.
И опять Горчица помолчала, прежде чем ответить. Эти маленькие паузы, как ледяные гвозди, делали каждое ее слово значительным и острым.
— Нэф хотел отправить сыновей в Некрай на учебу. Реф согласился. А Кноф… — она мельком взглянула на черноволосую. — Сын Розы хотел остаться в Холмах и жениться. Академии ему ни к чему, так он сказал. И еще он сказал, что ненавидит отца и хочет его убить.
— Врешь! — выкрикнула Роза.
Горчица ухмыльнулась:
— Может, и вру… Это он не мне говорил. Это он Рефу, дурачку, говорил. А Реф, бедняга, врать вообще не умеет.
Начальник стражи, позабыв обо мне, переводил взгляд с черноволосой на рыжую и обратно.
— Капитан, — голос Аррфа звучал теперь устало. — Верни слуг. Пусть позаботятся о лошадях. Собери людей с лопатами: до захода солнца барон должен быть похоронен. Поспеши! Я, возможно, смогу простить вам всем вчерашнее бегство. А может, и нет. Постарайтесь меня задобрить.
Начальник стражи щелкнул каблуками и исчез. Остались женщины: Роза уперла кулаки в крутые бока. Горчица стояла неподвижно, ветер теребил длинный и легкий подол ее ситцевого платья.
— Роза, — медленно начал Аррф. — Ты когда-нибудь думала о том, что твой сын может быть веснаром?
Черноволосая мигнула. Ответила через силу:
— Мы все об этом думаем. Спросите хоть Горчицу. Она тоже.
— Мы думаем, — подтвердила рыжая со странной улыбкой. — В старину они часто рождались, веснары-то… Мать мне рассказывала — всегда устраивали праздник, когда малыш впервые травку подрастит. Никто, — она впилась взглядом в воспаленные глаза мага, — никто их не боялся. И не боится. И веснар, — она кивнула на меня, — никогда и ни за что не убьет человека. Только нелюдь.
Она была сумасшедшая. Безумие влажно поблескивало в ее глазах.
— Ты все сказала? — хрипло спросил Аррф.
— Выходит, Нэфа другой веснар убил? — она рассуждала, не слушая мага. — Не этот? Иначе ты не расспрашивал бы… Ага! Веснар в Холмах, и ты не знаешь, кто это… Пойди по домам, Аррф, пойди по всему поселку и каждого спрашивай. Сколько там у нас местных в поселке? А на выселках? Ничего, за неделю справишься… Если спать не будешь. И если веснар тебя дождется.
— Допрыгаешься, — вполголоса сказала ей Роза.
Горчица улыбнулась шире:
— А начинать надо с девок. Каждая девка в поселке, бери любую, хоть хромую, хоть горбатую. Он со всеми переспал. Не веришь? Пойди, поспрашивай.
— Бред, — выплюнул Аррф. — Замолчи.
Горчица послушалась — и молчала целых три мгновения. Коротенькая, холодная пауза.
— Мальчишку-то мне можно забрать? — спросила совсем другим голосом, тихо. — Рефа? Насовсем?
Маг не ответил. Обернулся к Розе:
— Скажи… Кто из девчонок… в последнее время… с кем он… ты знаешь?
Женщина чопорно поджала губы:
— Я ему не сторож, господин маг. Горчица, хоть и дура, дело говорит: бери в поселке любую.
— Это ложь, — сказал Аррф, но как-то неуверенно.
— Правда, — сказала Роза, будто камень бросила. — Испортил многих. А такой девки, чтобы ему долго у сердца держать — такой в последний год не знаю.
Маг перевел взгляд на Горчицу. Рыжая стояла, не разжимая губ, как будто рот у нее склеился.
Тогда Арф повернулся к женщинам спиной и кивнул мне, приглашая обратно в дом. Уходя, я в последний раз глянул на нее через плечо на Горчицу и Розу. Они стояла, одинаково подбоченясь, и обе смотрели мне вслед.
* * *
В доме все тяжелее было находиться — снизу, из гамака, поднимался тяжелый запах. Слуги, доставившие из поселка завтрак, накрыли его на зеленой лужайке в тени ограды. И стол, и скамейки были врыты в землю.
Горчица, оказавшаяся хозяйкой гостиницы «Фатинмер», приготовила этот завтрак с полным знанием дела: мне полагалась бобовая каша, Аррфу — котлеты в луковой чешуе. Наверное, у нее был припасен готовый фарш, думал я, глядя, как маг сидит над своей тарелкой. Мясное блюдо не приготовишь так быстро…
Интересно: гостиницу Горчице подарил барон? Как и пост сборщика налогов — Розиному мужу?
Цветущая моя, Цветущая…
С детства приученный уважать еду, я съел все, что было в миске. Маг вяло поковырял котлеты и выпил две кружки пива.
— Почему ты не ешь мяса? — спросил, глядя в упор.
— А почему ты не ешь человечину?
Мы смотрели друг на друга. Нас объединяла смерть о двух концах. За домом, в дальних пределах ограды, притихшие крестьяне рыли четырехугольную яму. Скрежетали лопаты, вонзаясь в плодородную землю Цветущей. И пахло весной, обновлением — пахло сырой землей.
— По-твоему, барона убил мальчишка? — маг отхлебнул еще пива. — Старший сын, байстрюк? Кноф?
Яма под лопатами землекопов становилась все глубже.
— Когда, ты говоришь, он сбежал? — я подтянул к себе свою кружку.
— Три дня назад. Уже, считай, четыре.
— И не пришел к матери, — я размышлял вслух. — У него есть друзья в поселке?
— Я почем знаю… Мальчишки жили тихо, как мыши, спали внизу в одной комнате со слугами, вставали рано. Никаких особенных развлечений им не полагалось. Конечно, Нэф учил их арифметике и йолльскому, но эти уроки вряд ли доставляли им удовольствие…
— Я думаю, — медленно начал я, — то есть, если бы я был на месте этого Кнофа… Погоди, сколько ему лет?
— Пятнадцать.
— Тощий, довольно высокий, волосы длинные, темные, нос курносый, веснушки, одет по-крестьянски?
— Да… Подожди, откуда ты…
— Я его видел. Он уехал на поезде в Дальние Углы позавчера вечером, на закате.
И я рассказал Аррфу о мальчишке, вскочившем на тот самый поезд, с которого я сошел. Теперь мне понятен был восторг юного беглеца: рожа с высунутым языком, которую он скорчил мне, предназначалась на самом деле его отцу-барону… И, возможно, магу.
— Получается, мы ехали за ним по пятам, — помолчав, сказал Аррф. — Еще несколько минут — и заметили бы.
— Ничего подобного. Он мог весь день просидеть на станции — прятаться под платформой, например. Для него очень важно было не попадаться вам на глаза — и успеть на поезд… Зато теперь мы точно знаем, что барона он не убивал.
— Почему? Он мог вернуться…
— Из Дальних Углов?! Оттуда пять дней пешего пути! А обратный поезд — я видел — прошел только сегодня утром!
Аррф отодвинул тарелку. Я поморщился: запах его недоеденных котлет смущал меня больше, чем тяжелый дух смерти, воцарившийся в доме.
— А я был уверен, что это он, — тихо сказал маг. — Он ненавидел отца. Хуже: презирал.
— За что? — я понимал, что вопрос идиотский, но придержать язык не успел.
Маг прищурился:
— А за что его презирали женщины, с которыми он спал? За что вы все ненавидите нас?
— Может быть, за то, что вы явились на нашу землю, чтобы убивать и насиловать? — предположил я. — И нести йолльский закон туда, где его не хотят знать?
— Мы?! — он поперхнулся. — Мы принесли избавление от эпидемий, которые убивали без разбора и когда-нибудь прикончили бы весь остров! Мы построили больницы и школы! Мы построили дороги и пустили по ним поезда! Ты уже не помнишь, что до йолльского вмешательства здесь умирал каждый второй младенец? Ты не помнишь нищеты, в которой вы все поголовно жили?!
— Я получил хорошее образование, мясоед, — отозвался я холодно. — Все эти «аргументы» я пересказывал у доски наизусть.
— А как тебе удалось получить образование? Как ты вообще выжил в Некрае? Что, не йолльцы подобрали тебя и отмыли? Не йолльцы отправили в школу? Университет, где ты учился, не был построен на йолльские деньги? Или стипендия, которую ты получал…
— Ты забыл сказать, что предварительно йолльцы убили моего деда.
— Ты забыл сказать, что перед этим Осоты убили несколько тысяч человек!
— Ты забыл, что эти люди пришли на мою землю с оружием.
— С оружием, с металлургией, с лекарствами… Сказок не бывает: мы победили, потому что сильнее. Умнее. Подвижнее. Мы пришли к вам, а не вы к нам — мы успели первые. А значит, строим мир по собственному разумению — так, как считаем нужным.
— Йолльский закон — самый человечный и справедливый, — я ухмыльнулся.
— Йолльский закон — результат опыта многих поколений, — тихо сказал Аррф. — Плод работы лучших умов… и великих душ. Большое счастье для острова — то, что он получил закон Йолля. И если ты этого не понимаешь, растение, — поймут твои дети!
— У меня никогда не будет детей, — отозвался я шепотом. — Твоей милостью, мясоед.
* * *
Расспросы стражников и слуг ничего не дали. Все они были йолльцами, не считавшими нужным запоминать имена и лица крестьянских девушек — даже если этих девушек удостаивал вниманием хозяин. Какой-нибудь особой, запавшей в сердце барона прелестницы никто из слуг не вспомнил, не выделил из общей вереницы. В поведении барона накануне смерти не обнаружилось ничего странного, он не упоминал никаких имен, к исчезновению старшего сына относился спокойно: погуляет, мол, и вернется.
Миновал полдень. Барона похоронили наскоро, без каких-то особенных ритуалов, без надгробных речей. Только слуги, желающие поскорее справиться с печальным и неприятным делом. Только мы с Аррфом — последний друг барона и — так получилось — его последний враг.
— Кто бы мог подумать, что у йолльского наместника будут такие похороны, — грустно сказал маг.
Я промолчал. Мы стояли над свежей могилой, сами почти мертвецы. Я вдыхал запах сырой земли: в нем не было трагедии. Только память о лучших днях.
* * *
— Ты бы не путался под ногами, Осот! Иди к деду!
По всей опушке горели костры, превращая в пепел кору и сучья, превращая хмурое утро в яркий весенний день. Десятки вил выбрасывали из ям подгнившее сено, десятки тяпок рыхлили землю, перемешивая ее с пеплом. Дед сидел в стороне, на белой и твердой его ладони лежали два десятка желудей.
— Погнали тебя? Садись… Они торопятся. Припозднились мы с новым домом для молодого Вячки.
Мальчик сел рядом — на свежеспиленную колоду. Дед перекатывал на ладони желуди, будто любуясь блестящими боками и крепкими круглыми шляпками.
— Глубокие корни, — бормотал дед. — Всю бы Цветущую зарастить дубами, да ведь и землю надо поберечь. Она всем корням дает силу, и если много тянуть — истощится и высохнет. Вот мы дом здесь вырастим — потом долго, долго опушку надо будет сдабривать… Этот мне не нравится, — он уронил под ноги самый маленький и тусклый желудь. — Выпил я сегодня, Осот. Выпил, ты меня прости. Нелюди, говорят, уплыли на своих кораблях, только ветер свистел. А не уплыли — так уплывут… Нехорошо трупом землю удобрять. Кто знает, что на тех полях вырастет… Нелюди ушли, веснаров им не одолеть. Вот так.
Мужчина поднялся, непривычно тяжело, неуклюже.
— Выпил я… Ну да ничего, ты поможешь, если что. Тут стеречься не надо, пусть растет себе и растет, главное, чтобы ногу корнем не прищемило. Идем, Осот.
И побрел, сопровождаемый мальчиком, вдоль опушки. Наклонялся, клал каждый желудь в приготовленную для него, удобренную лунку, бормотал что-то, будто давая напутствие. Мальчик не отставал ни на шаг.
— Деда… дай мне хоть один.
— На.
Желудь лег в ладонь. Блестящий. С круглой серенькой шляпкой. Мальчик, встав на колени, сам положил его в землю. И вспомнил, как хоронили отца и мать — их тоже положили в землю, чтобы земные корни умерших соприкоснулись с небесными.
Мальчику было тогда четыре года. Поселок накрыло красной чумой, вымерла треть взрослых и половина детей. Осот помнил те дни — все плакали, и все говорили, что небесные корни тех, кто умер, теперь прорастут. И посадили людей в землю, засеяли целое поле, и над ними выросла роща…
Он завалил землей желудь, как засыпали могилы. Поднялся. Огляделся. Вокруг толпилась, в основном, ребятня — ровесники, с которыми он в последнее время ни во что не играл. Не до того было.
— Отходи! — крикнул низким солидным голосом. — Корнем прищемит!
Ребята отбежали подальше, а мальчик, встав перед похороненным желудем, набрал полную грудь воздуха…
И улыбнулся.
В рост. В жизнь. В смерть — и снова в жизнь.
Разлетелась земля, будто взорванная изнутри. Вырвался, как пружинка, зеленый росток, оброс листьями и уронил их, и снова оброс, и снова уронил, и так, утопая в груде пожухлой листвы, ринулся ввысь.
Зашевелились корни, расползаясь под землей. Мальчик отскочил и раскинул руки, удерживая равновесие. Содрогнулась земля — пустились в рост все желуди деда; мальчик не удержался и упал на четвереньки, не переставая улыбаться.
Его дуб закрыл хмурое небо. Раскинул ветки, касаясь дедовых деревьев, будто здороваясь с ними за руку. И дальше, выше, только сыпались на голову листья, только потрескивала кора да ухала земля, раздвигаемая корнями.
— Насосы! — крикнул дед.
Заскрипели шестерни. Мужчины впряглись в деревянный ворот, вода из озера побежала по желобам и хлынула на землю, увлажняя палые листья, моментально исчезая в разверзшихся трещинах.
— Еще! — кричал дед.
Осот стоял, по пояс заваленный листьями, которые пахли лесом и жизнью. Иногда желуди, падая, били его по макушке, приходилось закрываться полами куртки. Десятки и сотни, рожденные тем единственным желудем, который мальчик своими руками похоронил — посадил? — в мягкую землю. В этот момент он впервые задумался, почему в его родном языке слова «посадить» и «похоронить» имеют единый корень…
— Хватит! — крикнул дед. — Осот, стой!
Ему не хотелось останавливаться. Ничего не было прекраснее этой могучей, быстрой и щедрой жизни, которая вырастала здесь из земли по его, Осота, воле.
Осот отступил на шаг. Обернулся; опушки не было. Огромные дубы закрыли небо, вокруг носились, вздымая тучи листьев, ошалевшие дети — и взрослые, похожие в своей радости на детей. Мерили обхватами стволы: где два с половиной, где три обхвата. Осот подумал, как жалко будет все это пилить, зато какой у Вячки будет замечательный, большой и прочный дом, и светлый, как чистая древесина…
Он с трудом выбрался из груды листьев. Травы здесь больше не было: земля под листьями устала, посерела и растрескалась. Осот вдруг вспомнил, будто бы безо всякой связи, дряхлые лица мертвых нелюдей, и его радость улетучилась.
— Деда…
— Чего тебе?
Их никто не слышал: все были слишком заняты дубовой рощей, и кучами листвы, и горами желудей.
— А если сделать… это… с человеком, я имею в виду, с настоящим человеком, у которого корни?
Рука мужчины сдавила его плечо. Мальчик вскрикнул от неожиданности.
— Не думай, — прошептал дед, приблизив внезапно покрасневшее лицо к лицу мальчика. — Даже не думай об этом. Наши корни в небе. Что будет с небом, если… ты ведь видел, что бывает с землей?!
* * *
— Наше расследование в тупике, мясоед. Ты ведь не можешь, в самом деле, идти по Светлым Холмам, из дома в дом, и спрашивать у каждого: не веснар ли ты? Не убил ли ты барона?
— Почему не могу? Кто или что мне помешает?
— Во-первых, тебе могу помешать я. Во-вторых… барон умер сутки назад: убийца давно ушел из поселка по торговым делам. Или уехал на сегодняшнем поезде — к Побережью, да хоть и в Некрай, где ты его не найдешь ни за что на свете. Ты упустил время, мясоед.
Он презрительно поморщился, открыл рот, собираясь что-то сказать — и вдруг так замер с открытым ртом.
Не то вспомнил важное. Не то понял нечто, недоступное мне.
— Что с тобой?
— Осот… — он впервые назвал меня по имени. — А ведь тот, второй веснар сделал это не из ненависти к барону. Он метил в тебя. Он хотел, чтобы тебя убили.
— Что?! — я поперхнулся.
— Фатинмер большой… очень большой, это правда. Но все на виду. Местные друг за другом присматривают, и подозрение падает на чужого. В тот день ты приехал один-единственный, как горошина на большой тарелке…
Маг смотрел на меня, будто чего-то ожидая. Я тупо молчал.
— Ты никогда не видел мухоловку? — продолжал он после паузы. — Такая трава, толстый гибкий стебель с лопаткой на конце. Отзывается на движение. На мух, на пчел. Если мимо корова пройдет — ударит и корову. Подозрение — удар. И ничего не спрашивает.
— У нас такое не растет, — сказал я с отвращением.
— Тот человек рассчитывал, что убью тебя, как мухоловка. Подозрение — удар.
Я помотал головой. Он был прав, но его правота с трудом до меня доходила. В самом деле, любой вменяемый йолльский маг убил бы меня, не вступая в разговоры, и если бы мой теперешний собеседник не был одержим идеей «законности»…
— Конечно-конечно, — бормотал Аррф, полностью захваченный этой новой идеей. — Разумеется… Первое: он всегда жил в Фатинмере, все эти годы. Второе: ему зачем-то нужна твоя смерть. Сам он убить тебя не мог… Небесные корни и все такое… А вот подставить тебя под удар — запросто. Барона вызвали в лес… веснар знаком с бароном… бедный Нэф был слишком добр и недостаточно высокомерен… Чисто сделано. Скорее всего, твой убийца заранее знал, что ты приедешь. Кто-то знал заранее?
— Ни одна душа. Кроме…
Я запнулся.
Я подумал о бабушке. «Спасибо, Осот»…
Нет. Быть такого не может.
— Нет, — сказал я вслух.
— Да! Если бы я тебя прикончил из-за угла, веснар добился бы своей цели: мертвый, ты бы не оправдался… Выходит, не так уже я сглупил.
— Ты считаешь, отдать жизнь за одно расследование — очень умно?
Он осекся.
— Есть такая штука — справедливость, — сказал другим, сухим и тяжелым голосом. — И закон. Да, за них отдают жизнь. Иначе они мертвы.
* * *
Полукруглый балкон дома Осотов был увит желтыми лентами — знак траура.
Я закрыл глаза. Открыл их снова; нет, лент не было. Это тень давнего кошмара. Это мне показалось.
— Ты можешь подождать во дворе? — спросил я мага.
— Нет, — отозвался он сухо. — Я должен видеть тебя постоянно. Иди вперед.
Навстречу вышла служанка. Перевела недоуменный взгляд с меня на мага и обратно. Похоже, в уединение дома Осотов слухи пока не добрались.
— Мне нужно немедленно увидеться с госпожой, — сказал я официальным тоном.
Служанка скорбно поджала губы:
— Она спит.
Я вздохнул:
— Мы подождем.
— Вы неверно меня поняли… Я не умею хорошо по-йолльски… Она в забытьи. Боюсь, больше никогда не проснется.
— Где лекарь? — я обернулся к дверям бабушкиной спальни.
— Она велела никого не звать… Никого не пускать. Еще со вчерашнего дня.
— Я ее внук, — сказал я на языке Цветущей, потому что притворяться больше не было смысла. — Я — Осот и хозяин этого дома. Веди меня к ней!
* * *
Бабушка лежала на огромной дубовой кровати, на льняных простынях, под балдахином из грубого льна. Льняные волосы сливались с постелью. Казалось, она не дышала; только подойдя вплотную, я увидел, как подрагивают веки. И расслышал шелестящий звук угасающего дыхания.
— Что теперь? — спросил маг за моей спиной. Я и забыл о нем.
Я хотел спросить его, умеет ли он врачевать. Но одна мысль о том, что мясоед станет лечить бабушку, отгонять от нее смерть затем только, чтобы допросить… Чтобы выспросить, не она ли велела затаившемуся веснару навести смерть на ее внука… Эта мысль заставила мои губы срастись.
Служанка клялась, что со вчерашнего дня никто не приходил в дом и никто не выходил из дома. Я глядел в лицо умирающей бабушке, а маг за моей спиной никак не желал заткнуться:
— Она одна знала, что ты прибудешь в Фатинмер, ведь так?
Я не собирался ему отвечать. Собственно, мне было все равно, что говорит этот ходячий покойник.
Краеугольный столб, увенчанный деревянным кругом и крестом, отбрасывал тень на отметку «три с четвертью». Эта отметка помещалась совсем близко к основанию столба. Солнце то выглядывало из-за туч, то пряталось снова. Казалось, что тень от столба то расползается, захватывая весь мир, то снова сжимается в пятнышко. Дом Осотов высился над частоколом: каждое бревно в стене — в два обхвата. Темная крыша, резные украшения, ажурный балкон третьего этажа. Дом устоял, в то время как род Осотов — погиб.
— Погоди, — сказал маг, поймав мой взгляд. — Да погоди ты!
Его кольцо, переливаясь лиловым, зависло перед моими глазами.
— Погоди, Осот. Два слова. Погоди нападать! Стой! Я хочу тебе кое-что сказать!
В его голосе было отчаяние.
* * *
Гостиница «Фатинмер», не чета безымянному постоялому двору, выстроена была на городской манер, по-йолльски: на первом этаже просторное помещение для гостей попроще, две лестницы ведут наверх, внешняя и внутренняя, и на втором этаже «фрадуф» — комната для бесед. Я уселся в низкое деревянное кресло. Маг вскарабкался на длинноногий стул и тут же принялся раскачиваться взад-вперед, рискуя упасть.
Принесли закуску. Хозяйка гостиницы не показывалась, хотя раз или два я слышал с первого этажа ее властный голос.
— Что ты хотел сказать мне, мясоед? — я грыз дольку чеснока. Последний вкус жизни.
— Кто в этом поселке мог желать тебе смерти так сильно, что пошел ради этого на страшный риск? На двойное убийство?
— Раньше я сказал бы — никто… А теперь я не знаю.
Хлопнул, открываясь, люк, и по внутренней лестнице поднялась Горчица. В руках у нее исходило паром блюдо — деревянное, искусно вырезанное в виде подсолнуха, со множеством отделений. Семечки, орехи, белые и желтые каши, ломтики хлеба, горка соли — традиционный «хлебосол», которым встречали в Цветущей дорогих гостей.
Горчица молча поставила блюдо на столик между нами. Мы оба смотрели на нее — я снизу, Аррф сверху.
— Слуга прибежал от Крикуна, — сказала Горчица, ни к кому в особенности не обращаясь. — Интересуется Крикун, жив его постоялец или уже помер, и кто заплатит, и что с вещичками делать.
Я с запозданием понял, о ком она говорит. Хозяин безымянного постоялого двора с йолльской лицензией, приколоченной гвоздем к двери, прозывался Крикуном, оказывается.
— Пусть возьмет деньги в кошельке, — сказал я равнодушно. — А с вещичками… как знает. Может забрать себе.
— Пусть ни пальцем не тронет! — резко бросил маг. — До конца следствия — чтобы даже в комнату постояльца не входил!
— Мне-то что, — Горчица пожала плечами. И, выходя, снова посмотрела на меня — искоса.
Маг наклонился со своего стула, двумя пальцами, средним и указательным, подцепил орех с блюда. Положил на язык. Разжевал, не сводя с меня хмурого взгляда. Глаза у него были красные, как закат на ветреную погоду.
— Тебя совсем нельзя одолеть, да, веснар?
— Только если напасть внезапно. Сзади. Или во сне.
Он сцепил пальцы — кольцо слабо мерцало.
— Просто удивительно, как же Великий Йолль взял верх, — в его голосе звучала издевка.
— Каша стынет, — сказал я холодно. — Ешь, коли не хочешь умирать на голодный желудок.
* * *
— Ягода! — позвал мужчина.
В темном доме было пусто. Тяжелая дубовая мебель стояла на своих местах, в печке тлели угли. На столе остыла семикрупка — когда-то пышная каша на тарелке осела, подернулась пленкой, превратившись в неаппетитный блин.
— Ягода! — в голосе мужчины была тревога. — Что же такое…
Он отодвинул тяжелый стул — и вдруг остановился, глядя куда-то на пол. Лицо его сделалось белым и засветилось в полумраке, как цветок акации.
— Осот… — голос его звучал совсем глухо. — Ступай за порог… там стой. Сторожи. Скажи Усачу, пусть сюда идет.
Мальчик бывал в этом дворе не раз. Они с сыном Ягоды, десятилетним Хвостей, играли за поленницей в камушки, и Хвостя, как старший, почти всегда выигрывал. Теперь во дворе было пусто и страшно, хотя на первый взгляд ничего не изменилось — поленница, колодец, сарай с покатой крышей, три пышные клумбы с россыпью разноцветных кустов, грядки со спелой клубникой…
На деревянных воротах — низких, в рост мальчика — виднелись свежие порезы. Кто-то высек ножом две косых линии, сложившихся не то в лепесток, не то в язычок огня. Знак был вырезан совсем недавно.
Мальчик коснулся насечки дрожащими пальцами.
— Что там? — спросил Усач, подтирая мутную каплю под большим розовым носом. — Есть она?
Голубые глаза Усача поблескивали в темноте — воспаленно и нервно.
— Деда сказал, чтобы ты к нему шел, — прошептал мальчик. — Там… беда, Усач.
* * *
— Человеческие корни истончаются преступлением. Мелкая подлость оставляет на корнях гнильцу, но настоящее преступление подтачивает их, как резец. Говорят, убийцам никогда больше не зацепиться корнями за небо. Поэтому люди не должны убивать.
— Только поэтому? — маг сощурился, не то выражая презрение, не то тайком смаргивая слезу. — А как же любовь и сочувствие? А как же справедливость? Что же, вы не убиваете встречного-поперечного только потому, что печетесь о силе корней?
Мои глаза тоже горели и тоже слезились. Я не спал уже почти трое суток.
— Что такое «любовь и сочувствие» для того, кто катится по миру без корней, будто комок дерьма? — спросил я, обращаясь к тарелке с остывшим «хлебосолом». — Корни и есть любовь. Корни и есть справедливость.
— Неправда. У меня нет корней. Нету! А что такое любовь и справедливость, я знаю лучше тебя!
Я усмехнулся.
— О «любви без корней» следовало бы спросить экипаж «Овффа»…
— А что экипаж «Овффа»? — его глаза открылись шире, мутный взгляд вернул былую яркость. — Что — экипаж «Овффа»? Что, до тех пор в Цветущей никто никого не насиловал? И ведь не было настоящего расследования, не было суда, не допросили свидетелей! Может быть, несчастные матросы с «Овффа» и пальцем никого не тронули. Может, безумной девке-веснару только показалось, что ее хотят изнасиловать… И она убила двадцать человек, уморила страшной смертью два десятка мальчишек, старшему из которых было девятнадцать!
Я не стал ему отвечать. Слишком устал.
Маг распалялся все больше. По его кольцу сновали сине-фиолетовые змейки, и я чувствовал, как моя смерть подступает ближе шаг за шагом.
— Корни, говоришь ты?!
Смерть приблизилась сразу на несколько шагов — рывком.
— А вот расскажи мне, растение, кто продавал веснаров йолльцам, одного за другим? Кто подставлял их под дальнобойные луки? Кто подсыпал веснарам сонное зелье, а на воротах вырезал «лепесток»? Это были йолльцы? Нет, растение. Это были достойные жители Цветущей. Страшно гордые тем, что у них якобы есть корни… Что же случилось с их корнями?
Я прикрыл слезящиеся глаза.
* * *
— Их видели за Кружелью, — Усач говорил на бегу. — Большой отряд, несколько сотен… Пешие, без этих своих нелюдей.
— Если пешие, пойдут по сухому руслу.
— Да, — Усач чихнул, вытер прозрачные, невидимые усы. — Я уже ноги сбил, по этим кручам ползая… Нам надо наверх. На гребень Песчанки. Они теперь хитрые, толпой не ходят. Вот увидишь, пустят один отряд по сухому устью, а еще два или три — в обход, через валуны, а мы их сверху накроем… Малой, шевелись, ждать не будем!
Мальчик, едва поспевая, бежал за старшими. Его трясло, но не от страха и даже не от возбуждения. Он заболевал; напряжение последних месяцев, когда после праздника избавления наступил опять кромешный ужас, подкосило его и отобрало волю. Когда веснары в ближних и дальних поселках стали умирать один за другим… Когда обоим Осотам пришлось уйти из дома и жить в лесу…
Вчера бабушка плакала, обнимая его на опушке. Она, даже на похоронах родителей не пролившая ни слезинки!
— Живее, Осот, — отрывисто сказал дед. — Они думают, что одолели нас… Как же… По команде, разом, слышите? Усач, за мной!
Мужчина первым вылетел на гребень высокого холма над каменистым руслом речки, давно сменившей направление. Остановился и замер, прислонившись к валуну, став одной с ним тенью. Над сухим руслом висела ущербная луна. Сухо шелестели колючие кусты на дне, да тяжело дышал Усач за плечом у мальчика.
— За Кружелью, — проговорил дед раздумчиво. — Нет, как ни верти, не будет им другой дороги. Через валуны… — он бросил взгляд в сторону, где в мутном лунном свете едва виднелась тропинка среди каменных джунглей. — Нет, через валуны, да еще ночью, они не рискнут. Ну-ка, ложитесь оба… Осот, на землю!
Мальчик лег, стараясь поудобнее устроится среди базальтовых осколков. В ладони вонзились мелкие острые камушки. Серая трава, проросшая в трещинах валунов, шевелилась на ветру, как волосы.
Рядом упал на живот Усач. Замер, часто моргая. Дед стоял над ними, пригнувшись, сам неподвижный, как камень, смотрел вдаль, ожидая, откуда появятся враги…
Лежа, мальчик поднял голову.
Глухой и страшный звук: мальчик никогда прежде такого не слышал.
Дед раскинул руки, будто желая обнять весь мир, и упал на спину. У него в груди торчали короткие пенечки, поросшие светлым, легким пушком. Оперение играло и переливалось при свете ущербной луны, похожее на нежные водоросли.
Три пенечка.
Осот посмотрел деду в лицо. Бледное, с огромными удивленными глазами. Губы шевельнулись. Дед хотел что-то сказать.
— Беги! — взвизгнул Усач. Мальчик не двинулся с места. Смотрел деду в глаза и видел, как они стекленеют.
— Беги, Осот! Спасайся!
Еще одна стрела взвизгнула над головой мальчика, и тогда только он сорвался с места и побежал.
Он несся по тропинке, по гребню Песчанки, а вокруг было тесно от летящих стрел. Они визжали, бились о камни, звенели наконечниками и раскалывались — а мальчик бежал, неуязвимый, и к утру, задыхаясь, со страшной вестью добрался до дома.
Через день он уже шагал в караване, все дальше и дальше, держась за пояс молчаливого купца…
* * *
— Что с тобой? — спросил Аррф.
Я сам не понимал. Смутная тень возникла из бессмысленного разговора с мясоедом — о корнях. Родившаяся из воспоминания о гибели деда. Звук стрел, впивающихся в плоть… Звук стрел, летящих над головой…
Я был уверен, что сейчас пойму что-то очень важное, но в этот момент снова вошла Горчица. Поставила перед Аррфом тарелку с горячим мясом, а передо мной — миску густого бобового супа. Подала Аррфу вилку с ножом, а мне — круглую деревянную ложку.
Ложка встала посреди суповой жижи, не торопясь падать. Вот это варево, может, и вправду надо было с самого начала останавливаться в «Фатинмере»…
— Мальчишка-то, Реф, сам не свой, — негромко сказала мне Горчица, игнорируя мага.
— Напугался, понятно, — я коснулся губами края ложки, но суп был еще очень горячий. Обжигающий.
— Горюет он, — в голосе Горчицы скользнул упрек. — Отца убили. Брат пропал невесть где.
— Брат отыщется, — сказал я без особой уверенности.
— Ты бы поспал, веснар, — проговорила Горчица, по обыкновению чуть помолчав.
Я покосился на мага. Тот ответил мне кислой ухмылкой.
— Вы бы поспали оба, — сказала Горчица. — Я отведу для вас комнаты и прослежу, чтобы никто не беспокоил.
— Спасибо, но мы не будем спать, — ответил Аррф. — Я не хочу во сне умереть от дряхлости.
Пришла моя очередь ухмыляться. Горчица, не дожидаясь приглашения, села рядом на ступенчатую деревянную скамью.
— Значит, это ты Осот? — спросила, глядя мне в глаза. — Тот самый… младший Осот? Последний?
— Да.
— Вот оно как, — она отвела взгляд. — Говорили, что тебя застрелили. То говорили, что ты жив… Много лет тобой йолльцы друг друга пугали, — она улыбнулась.
— А ты сама? — я чувствовал неловкость. — Я тебя… помню?
— Нет, — она равнодушно покачала головой. — Я не из ваших мест, я с Побережья. Родители у меня померли от красной чумы, вот и моталась по свету… Пока не осела, — добавила она со странным выражением.
Я хотел упрекнуть ее бароном, но не смог.
— Об Осотах слышала, и немало, — Горчица продолжала рассказывать, будто ее кто-то об этом просил. — Старуха, правда, из дома почти не показывалась. Военный комендант, тот, что в Холмах тогда правил, семь раз велел своим людям дом Осотов спалить вместе со старухой.
Я содрогнулся.
— И что?
— Семь раз ему докладывали, что дом спалили и пепел развеяли. В те времена горела половина Холмов… Дым стоял до неба… Бывало, что и сосед соседа поджигал, да на йолльцев списывал.
— А дом Осотов? — спросил я, подавляя дрожь.
Горчица прикрыла глаза:
— Где же найдется такой сумасшедший… Дом веснаров в пяти поколениях… Каждое бревнышко хозяина помнит… Не горит он, сколько не поджигай. А вот кто такой дом пальцем тронет — стареть начнет и через год помрет от дряхлости.
— Сказки все это, — вырвалось у меня. Горчица выдержала свою обычную крохотную паузу.
— Может, и сказки… Только в те времена не было слова страшнее, чем «веснар». Для йолльцев. Да и наши… сам ведь знаешь, Осот, завидовали вам, завидовали до белых костяшек, — она сжала загорелый кулак, будто подтверждая свои слова проступившей сквозь кожу белизной мослов. — Кто в поселке самый богатый? Веснар. К кому на поклон с подарком идти? К веснару… А йолльцы давали хорошие деньги. Трудно удержаться, понимаешь.
Она говорила, чуть улыбаясь, посверкивая глазами, и от этого ее слова исполнялись еще большей жутью. Маг сидел над своей тарелкой, сгорбившись. Глаза его запали, подбородок и щеки покрылись серой неопрятной щетиной. Я знал, что выгляжу не лучше.
— А бывало такое, чтобы веснар предавал веснара? — спросил я хрипло. Перед глазами у меня стояло бледное лицо Усача.
— Вряд ли, — Горчица покачала головой. — Помилования вашему брату никто не обещал, вот хоть у его милости мага спроси.
— Он сказал «беги», — пробормотал я, — а сам остался на месте… Он привел нас на гребень Песчанки, выставил, как мишени… А сам остался лежать…
— Кто?
— Усач. Ты знала такого человека?
Она покачала головой:
— Если ты о веснаре, то те из них, кто выжил, имена сменили и подальше от дома перебрались. От тех мест, где их знали. Опять же, двадцать с лишним лет прошло, парнишка превратился в мужика, жизнью его покорячило… Так, бывает, люди меняются, что мать родная не узнает.
— Только зачем ему меня убивать? — спросил я растерянно.
— А ты, может, узнал бы, — заговорил маг, наконец-то оторвавшись от созерцания тарелки с мясом. — Ты, может, помнишь его, этого Усача. Или он боится, что ты его помнишь.
Я напряг память: кого я видел, вернувшись в Холмы? Кто видел меня? Смотритель в будке на станции. Хозяин и хозяйка безымянной гостиницы с йолльской лицензией на гвозде. Продавец пива… Сборщик налогов — муж черноволосой Розы…
Хозяин гостиницы.
«Беги, Осот! Спасайся!»
— Значит, Крикун присылал слугу — узнать, что с его постояльцем? — я обернулся к Горчице.
Она подняла белесые брови:
— Ты на Крикуна подумал? Он, вроде бы, не местный. Семь лет назад приехал, гостиницу открыл, мне еще грозился, что разорит, мол. Разори-ил, — она ухмыльнулась. — Какие-то приметы были у твоего Усача?
Я задумался. Не над приметами Усача. Над тем, как близко я могу подводить йолльского мага — к тайному веснару. Не сказал ли я слишком много. Не проговорилась ли Горчица.
Мне вспомнилось лицо умирающего деда — с огромными удивленными глазами. «А йолльцы давали хорошие деньги. Трудно удержаться, понимаешь»…
Но Усач?!
Горчица смотрела на меня — ждала ответа. Брови ее сошлись, пролагая две глубокие морщины на переносице. Я подумал, что она старше, чем мне с самого начала показалось.
* * *
Перед маленькой безымянной гостиницей топтались лошади. Высился над плетнями одинокий всадник — офорл. Я почувствовал, как напрягся Аррф.
— Привет, соотечественник! — крикнул всадник по-йолльски. Нас с Горчицей он будто бы не заметил.
— Привет, соотечественник, — отозвался Аррф хрипловато. — Что, собственно…
— Медицинская служба, плановый рейд! Есть замечания, пожелания от наместника?
— Никаких, — ответил Аррф после паузы. — Доброй работы.
Из гостиницы вышли двое в черных плащах, каждый с медицинским чемоданчиком.
— Привиты? — спросил тот, что повыше, глядя мимо меня. Я закатал рукав, показывая давний круглый рубец. Рядом, иронично хмыкнув, поддернула рукав Горчица. Двое в черных плащах равнодушно скользнули взглядом по нашим отметинам.
— Было время, — Горчица говорила, по обыкновению, улыбаясь. — Взяли как-то меня, бродяжку, доблестные йолльские солдаты… Думала, убьют.
* * *
Девушка пролежала в канаве весь вечер, а в темноте попыталась вырваться из окружения. Долго ползла, задержав дыхание, прислушиваясь. Погружалась с головой в затхлую воду, пережидая шаги и голоса йолльских охранников. Она не понимала их язык: казалось, йолльцы разговаривают волшебными заклинаниями, лишенными смысла, но полными угрозы. Казалось, над головой у нее ходят огромные жуткие птицы, позвякивающие железными перьями.
Она выждала момент, вскочила и побежала. Была опасность, что ее достанут стрелой, но полночь была безлунная, темная. Девушка рассчитывала, что стрелок, умеющий посылать смертоносное острие в полет — на огромное расстояние — промахнется на этот раз и позволит ей уйти.
В нее не стали стрелять. Ее догнали, скрутили руки за спиной и повели в поселок, где на заре поднялся крик, вой и плач.
Оцепление не выпускало никого. Щелкая кнутами, оскаленные солдаты выгоняли людей из домов — на площадь. Там, под навесом, стоял длинный стол, и трое людей в черном молча перебирали инструменты в железном ящике. Какой-то человек, йоллец, пытался что-то объяснять на языке Цветущей, кричал, пытаясь перекрыть гвалт, и так коверкал слова, что понять его было невозможно. В конце концов он охрип, махнул рукой и отошел в сторону.
Стремясь удержать толпу в повиновении, солдаты хлестали кнутами направо и налево. Кричали, ругались, но слов их все равно не понимал никто. Девушка, знавшая несколько слов по-йолльски, разбирала только «стоять», «растения», «ни с места»; прочие жители поселка, располагавшегося далеко от моря, сроду не говорили на языке чужаков и ничего не могли понять. Нарастал ужас: люди не знали, что с ними будут делать.
Потом взошло солнце, и началась экзекуция. Солдаты выхватывали из толпы человека — мужчину, женщину или ребенка — и волокли к столу, и там один из черных йолльцев всаживал иголку жертве в руку повыше локтя. После этого солдаты вдруг теряли к жертве интерес — наоборот, гнали с площади прочь, и многие, обезумев от испуга, не возвращались домой, а удирали подальше — в поля…
Когда девушку поволокли к столу, она вырывалась что есть силы и, извернувшись, укусила солдата. За это ее наотмашь хлестанули кнутом, а потом, повалив на стол, все-таки всадили в плечо иголку. Боль была слабее, чем страх. Солдат, которого она укусила, бранился, обливаясь кровью, и еще раз ударил ее кнутом — напоследок…
Вечером йолльцы ушли, оставив людей в недоумении и страхе: что с ними теперь будет?
То место на теле, куда входила йолльская иголка, покраснело и вздулось почти у всех. Метка была похожа на прикосновение «Багрового князя» — красной чумы, от которой тело человека сперва берется пятнами, а потом сохнет и распадается. Неужели йолльцы, вместо того чтобы вырезать поселок, поголовно заразили его чумой?!
Прошло два или три дня, и следы от йолльских иголок померкли, а потом и вовсе исчезли. Гораздо дольше заживали отметины от кнутов — в толчее досталось многим. Приблудная девушка, совсем обессилев, осталась в поселке на неделю.
Уходила на рассвете, по меже, разделявшей розоватое — и светло-желтое золотистое поле. Шла, сшибая росу, подняв бледное лицо навстречу солнцу. Цветущая расстилалась перед ней, спокойная и радостная, как будто никаких йолльцев не существовало на свете.
* * *
Йолльцы-медики вскочили на лошадей и двинулись дальше в поселок, по направлению к гостинице «Фатинмер»; в окне второго этажа обиженно и горько плакал ребенок, что-то успокаивающе приговаривал женский голос.
— Что же ты донесения не отправил? — Горчица с улыбкой обернулась к магу. — Что, если кто-то из наших ляпнет, что наместника, мол, убили, а йолльский маг расследование проводит на свой страх и риск, в столицу не сообщив?
Аррф молчал. Не оглядываясь на него, я отвалил дверь (качнулась лицензия, приколоченная гвоздем) и вошел в безымянную гостиницу беззаботно, как почти сутки назад.
В парадном углу стоял букет «солнечных цветов». На пустом столе оплывала свеча; хозяйка выскочила к нам навстречу встрепанная, с льняным одеялом наперевес.
— Хозяин дома? — бросил Аррф. Одновременно с ним Горчица добродушно осведомилась:
— Крикун-то не спит еще?
— Нет его, — круглые щеки хозяйки чуть ввалились, отчего лицо ее, похожее на подсолнух, казалось увядшим. — Уехал.
— Куда?!
Мы задали вопрос одновременно — Аррф, Горчица и я. Хозяйка отступила на шаг и чуть не упала, споткнувшись о край деревянной лестницы.
— Да ведь… Дела-то идут плохо, приезжих мало, «Фатинмер» всех перебивает… Он и решил разведать, что да как в Дальних Углах…
— На поезде уехал?
— Пешком ушел… Поезда сегодня не было, да и затратно это — на поезде… На своих двоих — надежнее…
Она говорила, глядя на меня и только на меня. Не то ждала, чтобы я расплатился за постой, не то боялась, что я здесь, прямо на ее глазах, начну веснарствовать. Аррф скрипнул зубами; искусство йолльских магов вызнавать правду сразу дает сбой, когда приходится допрашивать «свидетеля второй ступени». «Он сказал», «он решил» — свидетель просто передает чужие слова, а врал ли тот, кто «сказал» и «решил» — узнать не представляется возможным…
В полном молчании мы вышли во двор. Ребенок в окне второго этажа уже не плакал — тихонько поскуливал. Видно, место прививки еще болело.
— Догоним его, — отрывисто сказал Аррф. — Верхом. Пешего, галопом — догоним.
— По какой дороге? — рассеянно поинтересовалась Горчица. — Холмы, вишь, на перепутье, только к Углам две дороги ведут. А Крикун мог жене сказать, что в Углы идет, а сам податься на Побережье.
Я попытался вспомнить в мельчайших подробностях лицо хозяина гостиницы. Светлая борода, почти полностью загородившая лицо. Голубые глаза… длинные цепкие пальцы…
У Усача были длинные пальцы, я помню. Бороды, разумеется, не было и в помине: усы-невидимки едва пробивались…
Навалилась усталость. Я взялся за плетень, чтобы не упасть.
— Вина доказана? — скромно спросила Горчица.
— Нет, — отрывисто сказал Аррф. — Вина может считаться доказанной только тогда, когда есть неопровержимые факты. Свидетельские показания. Улики. Подозрение — это всего лишь тень… Я должен догнать его и допросить.
И, не оглядываясь на меня, он зашагал по направлению к площади, где было велено ждать начальнику стражи с лошадьми.
* * *
В бессонном мозгу мир преображается. Звуки становятся то резкими, почти невыносимыми, то уходят в вату. Глаза превращаются в две щемящие раны на лице, их можно тереть, а можно щадить, но труднее всего заставить их оставаться открытыми.
Было уже почти совсем темно, в руках стражников горели факелы. Базарные прилавки пустовали. Четвероногие нелюди — лошади — были привязаны под навесом к поперечной перекладине в центре базара, рядом с будкой сборщика налогов. Аррф подошел к черному жеребцу, погладил его по морде — и вдруг уткнулся лицом в короткую лоснящуюся шерсть. Жеребец переступил с ноги на ногу. В огромных, обрамленных ресницами глазах промелькнуло сочувствие.
— Можно опросить заставы, — сказал Аррф будто в полусне. — Его видели… как он выходил из поселка… мне нужно догнать его и задать один-единственный вопрос… Если он ответит — «да», я его покараю.
— А я не дам тебе его покарать, — в таком же полусне отозвался я. — Как только мы узнаем наверняка, кто это… мы умрем.
— Ты считаешь, что людей можно убивать безнаказанно?
Мы с Горчицей переглянулись.
— Людей, — сказала она с едва ощутимой насмешкой.
Маг осторожно отстранился от лошади. Отошел. Перевел взгляд с меня на Горчицу и обратно, а потом вдруг резко поднял руку, и белая молния из его кольца напополам перерезала опору пустого базарного прилавка:
— Людей! Людей! Ты, сука, спала с Нэфом почти двенадцать лет! Ты терпела всех его баб! Ты жила с ним — почему?! За красивые подарки? За свою гостиницу?! Считала нелюдью — и прижила от него сына! Считала нелюдью, ненавидела, презирала… и спала с ним! Шлюха!
Деревянный навес зашатался, покосился, стряхивая мусор и щепки на каменный прилавок. Забеспокоились кони. Из будки выскочил сторож. Кольцо, мерцающее синим и фиолетовым, смотрело мне в грудь.
— Да, убейте друг друга, — сказала Горчица. Лицо ее в свете факелов неуловимо изменилось — рассеянная улыбочка все так же играла на губах, но глаза сделались не стеклянные даже — хрустальные. — Убивайте, ненавидьте, презирайте друг друга. Бей, мясоед! Убей веснара, пусть он убьет тебя! А за Нэфа тебе все равно не отомстить. Тебе — за Нэфа, Осоту — за свою семью и деда… Скачите, ищите ветра в поле — его нет!
И она засмеялась.
* * *
Мне приходилось садиться на спину нелюди всего два или три раза в жизни. Сейчас не было другого выхода: Аррф желал скакать вдогонку беглецу, а я не мог выпустить мага из виду. Кроме того, мне тоже хотелось узнать… мне необходимо было узнать правду. Потому что если это Крикун… то есть Усач привел к смерти моего деда, это о нем хотел предупредить меня дед в последние мгновения жизни… я должен это знать.
Я сам не понимал, зачем мне это знание. Тягостное, бесполезное, злое. Необходимое.
Внутренне содрогаясь, я взгромоздился на спину четвероногой твари. Вот шутка, я теперь тоже «офорл»… Не дожидаясь меня, Аррф дал команду своему жеребцу, и с тех пор я думал только о том, чтобы не упустить его из виду и не свалиться с лошади.
Три заставы на трех дорогах не видели Крикуна. Наконец, на четвертой, ведущей не в Дальние Углы, а в прямо противоположную сторону, маг услышал то, что хотел: бородатый мужчина с дорожный мешком прошел здесь за час до заката, очень торопился, сказал, что идет разведывать гостиничное дело в поселке Кустюжки. Маг оглянулся ко мне и вдруг оказался очень близко: бока наших коней почти соприкасались.
— Не отставай, веснар. Отстанешь — убью… Вперед!
И сжал пятками бока жеребца.
* * *
Взошла луна.
Я плохой офорл. Чудом удерживаясь в седле, вцепившись в прыгающую спину нелюди, в ее удивительно мягкую гриву, я в конце концов приноровился к движению и поднял голову, осматриваясь.
Вокруг светлели под луной холмы — те самые, что дали название поселку. Поля тянулись лентами поперек склонов, колосья застыли под луной, как жестяные. Маг скакал впереди, из-под копыт его жеребца стлалась лента пыли, в полном безветрии зависала над дорогой. Вдалеке, на гребне самого большого холма, темнели камни, сложенные пирамидой, издали похожие на человеческую фигуру. Это мы с дедом стояли на том холме, глядя, как приближаются всадники. Правда, войско йолльцев надвигалось на поселок с другой стороны…
Я подумал, что беглец, издали услышав стук копыт, запросто может залечь в поле. А если он веснар — поднимет вокруг стебли так, что среди бела дня в двух шагах не различишь. Другое дело, что дальше вдоль этой дороги начинается каменистая пустошь…
Аррф оглянулся. Что-то крикнул на полном ходу — я не услышал. Тогда он поднял руку, под луной засветилось кольцо. Маг не то угрожал мне, не то выискивал на подлунном пространстве между холмами укрывшегося человека.
Мою левую ногу свело судорогой от напряжения. Как долго я еще выдержу? Когда полечу с коня вниз головой, перестав быть офорлом и сделавшись падалью?
Перед глазами мелькала дорога. Лента пыли из-под копыт. Застывшие колосья. Лицо Усача: как он взвизгнул «Беги», а сам остался на месте. Как он дрожал, на закате ожидая нас в Холмовом лесу — на условленном месте. Светлые Холмы уже сделались добычей йолльцев, мы с дедом жили в лесу, который кормил нас и защищал. Ягода к тому времени погибла, став жертвой предательства, а Усач то пропадал у себя на болотах, то появлялся снова. И вот Усач пришел… нет, прибежал, он почти всегда бегал, тяжело дышал и вытирал мокрую безусую губу… Он прибежал, чтобы сказать: за Кружелью видели большой йолльский отряд.
«Вина может считаться доказанной только тогда, когда есть неопровержимые… факты. Свидетельские показания». Как упрямо этот йоллец держится за свои представления о законе… Как дотошно соблюдает кем-то установленные правила — и тратит, безжалостно тратит на них последние минуты жизни…
А я готов осудить Усача. Не Усача даже — Крикуна, на которого пала отдаленная тень подозрения. Жаль, что человеческие корни невидимы… Если бы их можно было выкопать из небесной дымки, как из душистой земли, взять на ладонь и рассмотреть: вот гнильца… Вот неизлечимая болезнь корневища… А вот чистые, белые, крепкие корни, идущие глубоко, глубоко…
Я свалился с коня.
Сам не знаю, как это получилось. Наверное, я на мгновение уснул. На одно-единственное мгновение. А когда очнулся, надо мной были звезды. Гудела голова, болела и дергала каждая жилка, в лицо заглядывала луна… А вдалеке разворачивал коня йолльский маг, в полутьме сверкали его глаза и светился перстень на пальце.
— Осот?!
Я сел. Кружился мир перед глазами; моя нелюдь отошла в сторону от дороги и ждала, переступая с ноги на ногу, нервно подергивая хвостом.
— Ты что? — маг был уже совсем близко. — Ты цел?
— Да, — я еле ворочал языком. — Поднимись… на ту гору. Посмотри… Здесь дорога видна вперед на два поворота.
— Без фокусов, — сказал он сухо. — Я тебя достану и на расстоянии.
— Я тоже… Поторопись. Я хочу, наконец, отдохнуть.
* * *
Мы нагнали его почти через час. Услышав, как я и предполагал, издали топот копыт, он не стал прятаться в развалах камней, а рванулся через каменистый гребень — на ту сторону гряды.
— Стой!
Глядя, как он бежит, перепрыгивая с камня на камень, я окончательно узнал его. Прошло двадцать три года, он постарел, отяжелел, обзавелся усами и бородой… Но я его узнал.
— Стой! Именем Йолля!
Белая молния ударила в камень у ног беглеца. Бывший Усач, а ныне Крикун, припустил быстрее — он бежал из последних сил, он взлетел на гребень, еще миг — и он пропадет из виду, тогда магу будет его не достать!
— Стой, Усач! — крикнул я.
Он обернулся на ходу, оступился — и покатился вниз, с обрыва, по камням.
Луну заволокло тучами. Сделалось очень темно. Я видел только сине-фиолетовые искры, проскакивавшие по стальному с перламутром кольцу у мага на пальце. Аррф остановился в нескольких шагах от меня.
— Что там, на той стороне?
— Обрыв, довольно крутой…
— Ты его слышишь?
Я прислушался. Шуршали, скатываясь по склону, камушки.
— Усач! — позвал я.
Ответа не было.
Кольцо на пальце мага загорелось ярче. Осветило камни на несколько шагов вокруг — тусклым, дрожащим, перламутровым светом. Осторожно ступая, выбирая, куда ставить ногу, я двинулся за Аррфом — он торопился, иногда спотыкался и бормотал сквозь зубы самые крепкие йолльские ругательства.
Мы поднялись на самый гребень. Наших лиц коснулся едва ощутимый ветер. Маг вытянул руку над головой: кольцо осветило крутой спуск, почти отвесный, мертвую сосну с кривыми, вцепившимися в склон камнями, и тучу пыли над самой землей.
— Усач!
Тишина.
Не спрашивая у меня совета, маг двинулся вниз. То и дело рискуя свалиться, перебираясь с камня на камень. Я, поколебавшись, пошел за ним. Добравшись до сухой сосны, мы оба, не сговариваясь, остановились передохнуть.
— Усач!
Глухой стон.
* * *
Он лежал, наполовину заваленный камнем. Наших с Аррфом сил едва хватило, чтобы этот камень откатить. В холодном свете кольца кровь казалась черной.
Раненый схватил воздух ртом. Под носом, на неухоженной щетке усов, выступила мутная капля.
— Осссот… я так и знал, что ты… еще вернешься.
У него были переломаны ребра. Что-то надрывалось и булькало в груди при каждой попытке вздохнуть.
— Ты не лекарь? — растерянно спросил я у мага. Тот покачал головой. Опустился рядом с раненым на колени:
— Ты веснар?
— Д-да.
— Усач! — выкрикнул я. — Это ты…
— Да! Потому что… они… мою семью… сказали… убьют, если не приведу… старого Осота… я привел. Я привел! Не смогли… мальчишку… Я так и знал. Все время… ждал… мальчишка Осот.
— Ты убил барона Нэфа, чтобы навести меня на Осота? — почти выкрикнул Аррф. — Чтобы убить свидетеля — моими руками?
— Нет. Нет. Я не убивал… никого. Даже тогда… на холме… Вы убивали их, два Осота. Убивали йолльцев. Я только делал вид… Я не могу убивать, — его лицо исказилось. — Я привел их… на гребень Песчанки. Чтобы спасти семью. А ты бы сделал иначе?!
— Ты врешь, — сказал я, отлично зная, что соврать йолльскому магу — невозможно.
Усач хотел было оспаривать, но кровь у него изо рта хлынула ручьем.
— Что, веснары не умеют врачевать? — спросил Аррф у своего кольца.
Я мог затянуть небольшую рану. Царапину. Но не срастить переломанный позвоночник.
— Кто убил барона, если не ты? Кто тогда убил барона?!
— Я никого никогда… — повторил он еле слышно.
— Не убивал? Только подставлял под чужие стрелы, так?!
— Н-нет… Только чтобы спасти. Своих. Мать, отец, сес…тра…
— А Ягода? Кто предал Ягоду? Тоже ты?
— Ее свекровь. Мать ее мужа… Бабка ее сына… Осот!
И он умер с моим именем на устах. Не то моим, не то моего деда.
* * *
— Йолльцы взяли в заложники его семью.
— Потому что ты и твой дед продолжали убивать людей.
— Йолльцев.
— Людей!
Все, что мы смогли сделать для бывшего Усача — перенести его тело на обочину дороги. Чтобы родственники могли забрать его и отнести в поселок.
— Йолльцы взяли в заложники его семью! Невинных!
— А те, кого вы убивали — чем они были виноваты?
— Они пришли на нашу землю непрошеными.
— Они спасли тысячи жизней! Одни только эпидемии красной чумы…
— Лучше чума, чем нашествие!
Снова был рассвет. И снова я встречал его рядом с магом. И мне совсем не хотелось спать — только мир вокруг стал прозрачным и звонким, как сахарный домик на палочке.
Вокруг лежали холмы — каменистые, кое-где поросшие желтой травой. Небо к утру полностью заволокло пеленой, начинался дождь. Аррф взял под уздцы свою нелюдь. Погладил по морде, будто ища сочувствия. Жеребец ткнулся ему в щеку, едва не сбив с ног.
— Он тебя понимает?
— Да.
— А ты ездишь на нем верхом и бьешь плеткой?
— Я никогда не бью его плеткой!
— А другие бьют?
— Тебе не понять, — сказал он безнадежно. Из его воспаленных глаз катились слезы. Он их даже не смахивал.
— Скажи, — начал я. — То, что он говорил… Он, мол, не убивал тогда йолльцев, а только делал вид… Неужели это правда?
Аррф кивнул. Я перевел взгляд на немолодого, грузного, мертвого человека, лежащего на голых камнях, на обочине.
— Зачем же он… ходил с нами? Мог ведь отказаться?
— Мог ли?
— Да… Его сочли бы трусом. Но его никто бы и пальцем… Зачем он это делал? Зачем бегал за нами? Еще боялся опоздать…
Дождь полил сильнее.
— Далеко ближайший поселок? — отрешенно спросил маг.
— Ближайший поселок — Холмы… Здесь место дикое, неплодородное, никто не селится.
— Крикун… то есть Усач… не убивал барона, — сказал Аррф. — Это значит… что в Холмах живет еще один тайный веснар. Сколько вас?
Я ухмыльнулся:
— Это Цветущая, мясоед. Это земля, принадлежащая веснарам.
* * *
Родник нашелся в часе пешей ходьбы от места гибели Усача. Круглое озерцо, обложенное белыми камушками. Источник — ключ, облачко глины на дне, — и сток, размывающий склон, без следа исчезающий в глубоченных земных трещинах.
Мы напились сами и дали напиться лошадям. Они едва касались мордами прозрачной водной поверхности и фыркали почти как люди.
— А ты в самом деле работал в конторе «Фолс»? — ни с того ни с сего спросил Аррф.
— Я и сейчас там работаю… Пока жив.
— Торговец?
— Нотариус, немного архитектор. Оцениваю старые здания… Оценивал.
Дождь прекратился и снова пошел. По поверхности озерца расходились круги, пересекаясь, образовывая орнамент. Ни маг, ни я не сдвинулись с места. Лошади стояли под дождем, покорно опустив головы.
Дождь хлынул, как из ведра. Озерцо захлебнулось. Сток превратился в ручей, трещины переполнились. Размывая землю и глину, вода устремилась вниз, к дороге — грязный, пенистый поток.
Я сунул руку в карман куртки. Полпригоршни разных семян и еловая шишка. Я вывернул подкладку, вытряхивая семена, песчинки и давно засохшие крошки.
Оглядел каменистую пустыню вокруг. Островки жесткой травы… Колючие кусты…
— Что ты делаешь?!
Мне уже было все равно.
В рост. В жизнь. В смерть и снова в жизнь. В складках голой земли, в трещинах хранились семена и споры, занесенные ветром, невесть как сюда попавшие. Почва здесь была скудной, зато воды — сейчас — хватало.
Из разбухшей глины выстрелили первые ростки. Трава, вездесущий осот, еловые побеги. Акация. Подорожник. Рожь. Лезут и лезут, раздвигая глину, и вот в зеленых зарослях распускаются первые цветы — маки. Роняют листья, превращаясь в круглые коробочки, трескаются, вываливая новую порцию семян…
Я забыл о присутствии Аррфа.
Дождь бил по белым шапкам одуванчиков, но они все равно разлетались и проникали, шаг за шагом, все дальше и дальше, на соседние склоны. Увядали, возрождались, желтели, белели, разлетались и возрождались опять. Мелкие приземистые елочки водили корнями в поисках опоры. Рвалась к небу сосна, созревали шишки. Трава поднималась почти по колено, блеклая из-за недостатка солнца, но упругая и жесткая. Склоны вокруг то наливались алым цветом маков, то бледнели, покрываясь белыми одуванчиками, вспыхивали ярко-желтым, переходящим в красный, и снова зеленели. А потом вступили васильки, и будто в ответ им на посветлевшем небе вспыхнули ярко-синие, чистые прогалины…
Дождь прекратился. Вышло солнце. Я сидел в траве на берегу источника-озерца, а вокруг буйно, надрывно, с невозможной яркостью цвели холмы.
Елки сплелись корнями, преграждая путь оврагу.
И стояла тишина.
Кони, отойдя в сторонку, ели траву, глубоко погрузив морды в зеленое море. Аррф сидел ко мне спиной, сидел на земле, обеими руками вцепившись в листья подорожника.
— Извини, — сказал я. — Просто не удержался… напоследок.
Он не желал оборачиваться. Не хотел смотреть на меня.
— Поедем, — сказал я. — Ведь мы на пороге смерти, мясоед. И мы до сих пор не знаем, кто убил барона.
Маг молчал.
— Аррф?
Он помотал головой, не оборачиваясь.
* * *
Он молчал всю дорогу обратно. Мы ехали то шагом, ты рысью, меня мутило. Аррф молчал.
— Я говорил тебе — это не дар смерти. Это дар жизни…
Он молчал. У него подергивался уголок века.
Я думал о Крикуне… об Усаче, которого мы оставили на обочине. Которого, вольно или невольно, погубили. О веснаре, который стоял рядом с нами на тех холмах, но ни разу не убил ни одного врага. Как мы не заметили? Как мы с дедом могли не заметить, что он ничего не делает?!
Пусть мне, мальчишке, и не дано было этого понять. А дед? Впрочем, разве дед был убийцей со стажем? Мы стояли на холме, на нас шла армия, и мы думали только о том, чтобы остановить ее. Чтобы эти вооруженные люди никогда не добрались до Светлых Холмов. А Усач, выходит, тогда боялся убивать…
Боялся за свои корни?
Смотрел, как убивает семилетний мальчишка, и просто стоял рядом?
— Застава, — хрипло сказал Аррф.
— Что?
— Я вижу заставу. Мы почти приехали.
* * *
На въезде в поселок нас встретила черноволосая Роза. Рядом с ней, понурившись, втянув голову в плечи, стоял Кноф — тот самый подросток, что показал мне язык на станции «Светлые Холмы».
Я сошел — почти свалился — с седла. Никогда в жизни больше не буду офорлом… Впрочем, жизни моей осталось совсем чуть-чуть.
— Сын вернулся, — голос Розы позвякивал от напряжения. — И хочет сказать господину магу… Что ты хочешь сказать, Кноф?
— Я не убивал отца, — проговорил мальчишка голосом крупного хриплого петуха. — Я… уехал. Потом передумал. Спрыгнул с поезда за поворотом… И я видел, с кем он встречался в лесу.
— С кем? — наши с Аррфом голоса слились в один.
— С Горицветкой, — выдавил мальчишка. — Девка тут есть такая. Он ей ожерелье подарил!
* * *
Горицветке было семнадцать лет. Длинный патлатый Кноф влюбился в нее так сильно, что даже временами ненавидел.
Она над ним смеялась. Считала сопляком. Когда он однажды подстерег ее у колодца поздно вечером, в темноте, и предложил, может быть, слишком грубо, свою любовь — она ударила его коромыслом по уху. Разозлившись, он намотал ее косу на кулак, но девчонка стала кричать, и он ушел.
Он был барон по крови. Барон и наполовину йоллец, господин. Он готов был пойти к отцу и потребовать, чтобы эту дрянь отдали за него — прямо сейчас, насильно, пусть и без приданого. Ну и что, что Кнофу пятнадцать лет! Он еще в тринадцать стал мужчиной, и о его мужской силе шептались девки в поселке.
Он удержался и не пошел к отцу. И, как оказалось позже, правильно сделал. Потому что не успело его распухшее ухо вернуть нормальную форму, как у Горицветки обнаружилось на шее ожерелье из морских камушков.
Кноф видел раньше это ожерелье. В шкатулке у отца. Горицветка — Кноф видел ее на базаре — казалась веселой и довольной жизнью. Ревнивый бастард знал, что это означает.
Вечером того же дня барон, будучи в отличном расположении духа, призвал сыновей к себе и завел речь о поездке в Некрай, об учебе в университете, об образовании, достойном йолльца в этой стране. Глупому маленькому Рефу было, кажется, все равно, ехать или оставаться. Но Кноф увидел в намерении отца откровенное посягательство на свои права. Желая единолично насладиться девушкой-цветочком, старик отсылал молодого соперника подальше.
Никогда в жизни он так не дерзил отцу. Он знал, что рискует, но в тот момент ему было начхать. Он сказал, что никуда не поедет, останется в Фатинмере и возьмет за себя эту строптивую девку. Отца, кажется, его гнев насмешил — он не стал наказывать Кнофа, а преспокойно велел бастарду готовиться к отбытию в город. Вечером, когда слуги уснули в гамаках, Кноф сказал — по глупости, от отчаяния, — сказал маленькому Рефу, что ненавидит отца и убьет его рано или поздно.
А потом испугался собственных слов и удрал.
Он бродил в полях, не решаясь показаться на глаза матери. Потом принял решение и сел на поезд, идущий в Дельние Углы. Но у него не оказалось денег, поэтому капитан велел подобрать паруса, и кондуктор высадил — выбросил — мальчишку в песчаных дюнах за поворотом.
Оголодавший Кноф вернулся домой пешком. Издали увидел отца, идущего в лес без оружия, и решил проследить за ним. Сперва барону встретилась мать Рефа, Горчица, возвращавшаяся из леса с корзиной трав. Они поговорили и разошлись. А потом… Кноф чуть не лопнул от горя и досады, когда увидел, как из-за деревьев навстречу отцу выходит пунцовая от скромности Горицветка.
Отец без предисловий поцеловал ее в пухлые, как сердечко, губы. Кноф поборол желание немедленно выломать дубину и обнаружить свое присутствие: он отдавал себе отчет в том, что отец сильнее. К тому же, мальчишке не хотелось еще раз позориться перед ней… Шлюхой, потаскухой, дрянью! Ругаясь и плача, он снова ушел в поля и сидел там, питаясь сухим зерном, целые сутки.
Потом не выдержал, вернулся и сдался матери. И только тогда узнал о страшной смерти отца, случившейся в тот же день и в тот же час, когда барон Нэф целовался в лесу с Горицветкой, крестьянской девушкой.
* * *
Я угодил в собственную ловушку. Расслабился. Цепляясь за жизнь, забыл о долге. Не пройдет и нескольких часов, как весь поселок узнает имя тайного веснара. И даже наше с магом взаимоистребление не изменит его будущей судьбы.
— А может, это не она? — спросил я вслух.
Аррф тяжело покачал головой.
— Ну подумай, зачем ей… — не сдавался я.
— В истории завоевания Цветущей полно рассказов о девушках-фанатичках, убивавших йолльских любовников. Иногда весьма причудливым, мучительным образом.
— То было раньше, — сказал я неуверенно.
Мы остановились перед небольшим скромным домом, из новостроев, но сооруженным по старинке. Ворота были крепко закрыты.
— Я хочу тебя кое о чем попросить, Аррф. Если девушка окажется веснаром — дай ей шанс. Даже не так… Дай мне шанс понять, что там все-таки произошло.
Он болезненно сощурился — яркое солнце слепило его. Подышал на свое кольцо. Подумал. Отрывисто кивнул.
— Именем Йолля!
Мы одновременно ударили кулаками в ворота.
* * *
К счастью, Аррф слишком устал, чтобы нести закон Йолля громогласно и величественно. И потому через полчаса уговоров мне удалось убедить несчастную мать, что ее дочери все-таки лучше подняться из погреба, где она прячется, и предстать перед магом.
Мать ничего не знала. Ее дочь — воспитанная скромная девушка, без разрешения глаз не поднимет. Свидание с бароном — да вы что?! Да, позавчера вечером Горицветка вернулась домой бледная, трясущаяся, ни в чем не признавалась… но при чем тут барон?! Наутро хмуро молчала, наотрез отказывалась выходить на улицу, даже к колодцу за водой. Но барон — это невозможно! Услышав стук в ворота, Горицветка кинулась в погреб и там заперлась… Но она ни в чем не виновата! Горицветка сирота, отец умер давно, она, мать, воспитала дочь в строгих традициях… Невозможно!
Мы говорили на языке Цветущей. Аррф переводил настороженные глаза с женщины — на меня.
— Из погреба есть второй выход? — спросил я ровно, без выражения.
Ее мать смотрела на меня полными ужаса глазами.
— Нет, господин.
— Не беспокойся, женщина. Пусть Горицветка поговорит со мной. Ничего ей не будет, пусть только поговорит!
— Не вздумай обмануть меня, веснар! — Аррф скалился, пытаясь уловить смысл нашего разговора.
Погреб не запирался изнутри. Я с трудом поднял тяжелую крышку — дохнуло сыростью.
— Горицветка?
Тишина.
— Послушай, я тоже веснар. Я не допущу, чтобы тебя тронули пальцем — сейчас… Но мне… нам… очень нужно знать: ты это сделала? Зачем?
Тишина. Еле слышный шорох.
— Ты сказал «веснар», — прошептал Аррф за моим плечом.
— Не мешай.
Из погреба по-прежнему не доносилось ни звука. Говорит ли Горицветка по-йолльски? Наверняка говорит: молодые говорят все.
— Горицветка, — продолжая я на языке Цветущей. — Я хочу тебе помочь. Я могу тебе помочь. Только скажи правду.
— Я его не…
Рыдания. Маг быстро посмотрел на меня, потом опустил руку с кольцом в темноту погреба. Стали видны цвелые стены, гора яблок в дальнем углу и скрюченная фигура, притаившаяся в куче тряпья за дырявым бочонком.
— Убери свет.
Маг поднял брови:
— Давай вытащим ее оттуда. Невозможно же…
— Убери свет!
Удивительно, но он повиновался.
— Горицветка, — сказал я так мягко, как мог. — Меня зовут Осот. Даже если ты убила барона — я сумею тебя защитить, по крайней мере сейчас. Ты слышишь? Только скажи!
Она ничего не отвечала. Ревела в три ручья.
* * *
Она понимала, что делает что-то не так… но устоять не могла. Барон никогда в жизни не обижал ее. Никогда. Только смешил, дарил подарки и хвалил. Ни один парень в Холмах никогда-никогда не развлекал ее так, как взрослый чужой мясоед, которого она поначалу боялась.
Она плохо писала по-йолльски, но читать умела. Барон оставлял ей коротенькие послания в расщелине старого дуба на перекрестке — там, где от тракта отделялась дорога к каменному дому. У нее сердце замирало всякий раз, когда она запускала руку в сухую, шершавую щель.
Он назначил ей свидание в лесу. Раньше она в лес никогда не ходила — про него в поселке рассказывали недоброе. Но раз барон сам ее позвал — значит, ничего страшного случиться не может?
Она пошла.
Барон подарил ей колечко. Вот это. Он целовал ее, и все было хорошо… Потом барон велел ей идти домой, а сам остался.
Она отошла на сотню шагов. Остановилась, чтобы пособирать землянику и через несколько минут услышала… Нет, не крик. Какой-то очень страшный звук. Хоть и негромкий.
Сперва она бросилась наутек. А потом, вот дура-то, не удержалась и вернулась. Чтобы только взглянуть…
Увидела мертвое тело, лежащее в высокой траве. Тело барона, и всюду по поляне — седые волосы, как оборванные нитки.
Тогда она побежала домой и поклялась никогда-никогда, никому об этом не рассказывать. Но как только она закроет глаза — перед ней возникает труп, мешком лежащий в траве, и эти белые нитки, дрожащие на ветру.
* * *
— А теперь скажи по-йолльски: я не веснар. Я не убивала барона.
Горицветка, извлеченная из погреба, дрожала в объятиях матери. Аррф сидел, нахохлившись, глядя с подозрением.
— Я не веснар, — пролепетала Горицветка на вполне приличном, почти без акцента, йолльском. — Я не убивала барона. Честное слово! Клянусь! Даю присягу!
Все эти клятвы были ни к чему. Уже после первых ее слов Аррф отшатнулся, будто между ним и девушкой перерезали натянутую нить. Из веснара, убийцы и мстителя Горицветка превратилась в несчастную дуру. Хоть бы жители Холмов пожалели ее…
А почему нет? Ведь живут же — и прекрасно живут! — и Роза, и Горчица. То, что в прежние времена считалось позором, теперь превращается чуть ли не в доблесть.
— Мы оказались там же, откуда начинали, — сказал я. — Даже хуже: у нас совсем не осталось времени.
* * *
— А что такое для тебя — Йолль? Твоя родина?
Мы свернули с тракта. Дом покойного барона Нэфа стоял перед нами на склоне, как путник, идущий в гору и на миг замерший с занесенной ногой.
— Много камня, много людей… дым… суета, — Аррф нехотя улыбнулся. — Для меня моя родина, Осот, — то, что я могу унести с собой.
— Твой узелок с одеждой?
— Нет. То, что я могу принести… дать кому-то. Отдать миру, если хочешь. Йолльский закон. Наука Йолля. Искусство и архитектура Йолля… или вакцина, которая спасает от красной чумы, сохраняя тысячи жизней. И плевать на благодарность. Мне не надо благодарности, я ведь и сам знаю, что так — правильно.
— А корни?
— Зачем корни человеку, если он — не растение? Я свободен. Я не пристегнут ни к земле, ни к небу.
— А где же ты будешь, когда умрешь?
— Я не думаю о смерти, — он помолчал. — Я думаю о жизни. Даже сейчас. Я должен написать отчет… донесение… в Некрай. О гибели Нэфа…
— А расследование?
Он помолчал. Мы шли медленно, едва передвигая ноги. Дом впереди и не думал приближаться.
— Я проиграл, — сказал Аррф еле слышно. — Если бы я убил тебя — сразу после смерти барона… и написал донесение о ликвидации тайного веснара…
— Тебя бы наградили? Назначили наместником?
— Ты ничего не понял, — он сжал запекшиеся губы. Мы прошли молча несколько десятков шагов. Впереди над крышей кухни поднимался дымок. Слуги желают исправить оплошность?
— Сейчас бы выскочили собаки, — сказал Аррф с тоской. — Побежали бы навстречу… Кинулись вылизывать лицо… Дома, в Йолле, у меня было две собаки. А здесь… вы не понимаете животных, зовете их «нелюди»… Обыкновенная дворняга стоит столько, что даже йолльский маг не может себе позволить…
— Зачем ты приехал? Сидел бы дома!
Он помотал головой:
— Для тебя родина — корень, на котором ты сидишь. Для меня — подарок, который я несу в мир.
Я хотел ему ответить, но в этот момент ворота приоткрылись. На дорогу выскочил начальник стражи.
— Ваша милость… там… эта женщина. Хотели гнать, но она… ваша милость, погодите!
* * *
Она ждала нас, стоя босыми ногами на свежей могиле барона. Увидев ее, мы оба остановились, будто налетев на стену.
— Что? Вы оба еще живы?
Растрепанные волосы Горчицы лежали на плечах. Где-то в холмах набирал силу ветер, надувал паруса утреннего поезда; струйки воздуха подхватывали и бессильно роняли спутанные бледно-рыжие пряди.
— Я думала, вы перебьете друг друга еще до рассвета… мясоед и растение. Веснар и йолльский маг. Ходите парочкой, чуть не в обнимку, небось, еще беседуете о жизни после смерти… Скоро вы все узнаете сами. Скоро вы увидите корни… Ты, Осот, увидишь. Ты, Аррф — нет.
— Горчица…
— Помолчи, веснар! У Нэфа тоже не было небесных корней. Ни корней, ни души, ни совести. Я знала, что будет с ним после смерти… никто не может изменить его судьбу, только я. Только я. Дам ему корни. Пусть он будет человеком.
Аррф дернулся. Я схватил его за рукав. Горчица скользнула по нашим лицам зеленым, безумным взглядом. В ладонях ее лежали желуди, большая пригоршня, она роняла их себе под ноги, один за другим.
— Правильно, веснар. Держи его. Потому что… нет! Вы не знаете! Нэф будет человеком. Мертвым человеком. Потому что я всю жизнь любила нелюдь… думаете, сдуру родила, нечаянно? Дураки, подходящее зелье теперь любая баба умеет варить. А я родила Нэфу сына. Потому что так хотела. А эти безмозглые подстилки… ожерелье на шею! Я видела, она собирала в лесу мать-нематку. Нерожалую траву… Нелюдь. Мясо.
Глаза ее вдруг загорелись ненавистью. Аррф отшатнулся. Я попятился.
— Я скажу вам обоим, — глухо, с угрозой заговорила Горчица. — Слушайте… правду. Смотрите, это я, я, я убила экипаж «Овффа»! Я та самая женщина! Та девчонка… И я скажу теперь, слушайте, повторять не буду: они-то просто заигрались. Щенки в поисках любви… Заигрались. В чужой стране… Кто-то хотел бабу покрепче. Кого-то веселил мой страх. Но все они искали любви, да, как они ее понимали… Я убила их, да. Всех, всех. И они стали чудовищами в человеческой памяти. Они, а не я. Это я — первый веснар-убийца! Смотрите и знайте! Они мне снятся. Они — и Нэф.
Она замолчала, глядя мимо нас, высматривая что-то, видимое ей одной. Я быстро посмотрел на Аррфа — он стоял, покачиваясь, сжав руку в кулак, готовый вскинуть кольцо.
— Я все вижу, — сказала Горчица другим, трезвым и насмешливым голосом. — Я все вижу, Аррф, только попробуй. Я накрою тебя, ты состаришься и умрешь, и никто не подарит тебе корней после смерти. Нэф… в поисках любви, — она сухо хохотнула. — Заигрался. Щенок… У меня нет корней, Осот, нет, все сгнили. О сыне позаботится Роза… Он ей не чужой. А вы… делайте, что должно. Ненавидьте друг друга. Презирайте. Убивайте. Не считайте друг друга людьми. Учите своих детей: пусть тоже ненавидят и презирают. Да будет между вами омерзение навеки, пусть каждый предъявляет другому счет, который никогда не будет оплачен. Никогда!
Она засмеялась. Мы с Аррфом стояли, утратив дар речи. Я чувствовал, как вздрагивает плечо мага, замершее в пальце от моего плеча.
Горчица резко оборвала смех. Уставилась на нас с подозрением, будто услыхав неожиданный вопрос.
— А-а… Хотите знать, что сказал мне Нэф, и что я ему ответила? Хотите узнать, почему я к нему вернулась тогда, в лесу? Хотите знать, почему я его убила?
Она замолчала, переводя взгляд с меня на Аррфа и обратно. Резко и непривычно пропела птица на крыше каменного дома — «мерф». Птица… я вдруг понял, что Горчица говорит по-йолльски.
— Не узнаете, — сказала она шепотом. — Никогда. Он достался мне. Может, я хотела дать ему корни… От земли — до неба. Нэф! Любовь… моя.
Могила под ней зашевелилась.
На один долгий момент я поверил, что это Нэф, умерший от дряхлости старик, поднимается навстречу обезумевшей женщине.
Но это были корни.
Никогда прежде я не видел — и уже не увижу — такого бешенного, скоротечного, обвального веснарства. Дубы не выросли — выстрелили из могилы. Потянулись трещины во все стороны. Загрохотал, обваливаясь, каменный забор, покосился стол, врытый в землю. Листья, не успевшие как следует пожелтеть, кинулись нам в лицо. Я схватил мага за рукав и потащил прочь, не осознавая, что делаю.
Там, под землей, мертвеца обвили и сплющили корни. Проросли сквозь него. Выбросили то, что было Нэфом, в небо, под солнце — каплей воды, древесного сока, листком, блестящим желудем.
Там, над могилой, стволы сошлись вплотную, не оставив по Горчице ни следа, ни памяти. Дом затрещал, но выстоял. Страшными трещинами пошла стена. Где-то лопнуло перекрытие.
Все это длилось несколько минут. Всего лишь. Плодородная почва Цветущей, удобренная телом чужеземного пришельца, выдержала и это. Когда я поднялся с земли, моим глазам открылся памятник, который никогда больше не встанет ни на чьей могиле.
Покореженное сплетение дубовых стволов. Сплошная глыба дерева, темная и мрачная, увенчанная лесом светло-зеленых листьев. Крона, уходящая в небо.
* * *
Два дня спустя, на закате, бабушка открыла глаза. Обвела комнату осмысленным взглядом. Остановилась на моем лице.
— Спасибо, Осот.
И тень улыбки, слабая, но совершенно явственная.
* * *
На улице стояли, бок о бок, верховые нелюди. Аррф держал поводья, разглядывая солнечные часы.
Я подошел поближе. Лошадь, чьим офорлом я был так недолго, вдруг узнала меня. Потянулась. Сам не сознавая, что делаю, я поднял руку, и в ладонь мою ткнулась влажная морда
— Я еду с тобой, — сказал Аррф скучным голосом. — Мой долг исполнен. Расследование завершено… А находиться тут дольше нет никакого желания. Пошли. Верхом мы успеем к вечернему поезду.
— Я никуда не еду, Аррф.
Он смотрел на меня минуты две. Все ждал, что я заговорю снова, но я молчал.
— То есть как?
— Я остаюсь. Это мой дом. Дом Осотов. Больше я его не оставлю.
Аррф сглотнул.
— Сюда пришлют нового наместника…
— Пусть присылают.
— Тебя убьют.
— Не думаю.
— Осот, не валяй дурака! Уходи отсюда. Исчезни. Пожалуйста.
— Нет.
Аррф провел рукой по взлохмаченным темным волосам. Нервно потер щеку. Накануне он принял решение, которое далось ему нелегко; теперь все шло кувырком, маг никак не мог собраться с мыслями.
— Но… ты же веснар! И все об этом знают!
Его рука нервно сжимала повод. Мгновения бежали. Аррф опаздывал на станцию.
— Ты веснар, — повторил он беспомощно.
— Это Цветущая, — я улыбнулся. — Земля веснаров.
Далеко над холмами показались паруса вечернего поезда, идущего в Дальние Углы.

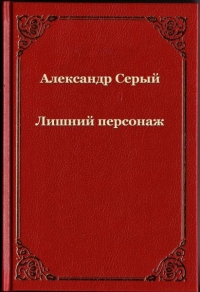

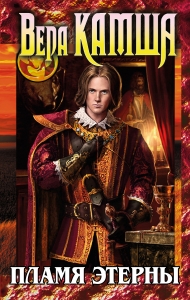
Комментарии к книге «Земля Веснаров», Марина и Сергей Дяченко
Всего 0 комментариев