Николай Басов Магия Неведомого
Часть I ДЖАРСИН НАБЛЮДАТЕЛЬНИЦА СОЗРЕВАНИЕ ЗАМЫСЛА
1
Голос чтицы звучал гулко, протяжно и уныло в этом высоком зале. Она читала, как строился замок Джарсин Наблюдательницы, как он был придуман, как работали каменщики, скульпторы, даже столяры и краснодеревщики, украсившие стены причудливыми панелями. Впрочем, до столяров повествование еще не дошло, но Джарсин знала текст и оттого испытывала скуку.
Кнет, замковый шут, пантомимой изображал все, о чем голосила чтица. Он становился то каменщиком, то стеной, которую надстраивали, то скульптором, а то и горгульей, одной из бесконечного ряда тех, что украшали замок, или оборачивался суетливым возчиком, подвозящим камень для строительства, или лошадью, этот камень тащившей на телеге, столяром, а потом и столом, над которым мастеровой трудился, даже страхом, который он испытывал при мысли, что Джарсин не понравится его произведение. В другое время Наблюдательница обратила бы на него внимание, но не сейчас.
Сейчас ее одолевали мысли тревожные и неприятные. Джарсин считала это неправильным, полагала, что архимагичке, каковой она являлась, не пристало беспокоиться, но это все равно было, было… Джарсин попыталась разобраться в себе, это оказалось непросто. Она отвыкла от ощущения мыслей о себе, она не хотела этого, она уже и забыла – каково думать о том, что можно в какой-то момент оказаться уязвимой. И гнала эти мысли от себя.
Джарсин попробовала сосредоточиться на словах, которые почти выпевала чтица. Но тут же ее взгляд скользнул вбок, от этого дурака-Кнета, и она стала рассматривать Ванду Хранительницу, – или, как однажды Джарсин придумала в неудовольствии, что ей приходится выговаривать такое длинное прозвище, и к тому же парадоксально похожее на ее собственное… В общем, как бы то ни было, она уперлась зрением в Ванду Хранцу. А та вышивала на пяльцах, поставленных на специальную резную подставочку. С боков вышивка свисала причудливыми складками, раскинулась по каменному полу, выложенному растительным орнаментом из камней четырехсот видов и цветов. Ткань лежала едва ли не правильными волнами и переливами… Но и Ванда раздражала этой никому не нужной вышивкой, деланым старательными видом, сосредоточенностью и поразительным спокойствием. Она чуть не закричала на Ванду, но… И о ней забыла.
Взгляд Джарсин скользнул к стрельчатым окнам. Но там ничего интересного не было, замок стоял на скале, вырастающей из тяжкой, клубящейся темными тучами или вечными туманами пропасти, через которую вела единственная дорога, построенная на таких же редких скалах, что и сам замок, только более тонких и обточенных все теми же туманами и ветрами. Настоящая панорама начиналась милях в трех за этим ненадежным на вид мостом, но Наблюдательница знала, что он простоит столько, сколько понадобится, сколько она собирается жить – тысячи лет, а возможно, и до тех пор, пока не погаснут звезды.
Равнина была лишь с левой стороны от дороги, ведущей к замку, с юга. На севере поднимались горы, обрывистые и такие высокие, что с той стороны и свет никогда не доходил до этой… местности. Горы возносили свои вершины в бесконечность, и даже у Джарсин не было желания выяснять, насколько же они высоки.
Она жила тут, в мире, который назывался по-разному, иногда Верхним миром, иногда Горним, а иногда и Безместным и лишь изредка – Безвременным миром. Только тут она могла жить, как хотела, только тут могла править и чувствовать себя в безопасности. Она забыла, как тут оказалась две или три тысячи лет назад, как окончательно сюда перебралась, и что ее побудило к этому, и как она нашла именно эту пропасть, эту скалу… Лишь как строился замок, она не забыла, потому что чтица частенько читала этот древний эпос, полагая, вероятно, что Джарсин нравится его слушать. Наверное, для смертных, которых она привела сюда для работы, это было захватывающим приключением, для самой же волшебницы оказалось лишь ранней юностью, едва ли не окончанием детства, конечно, магического детства, но все равно – всего лишь той порой, когда собственных сил не представляешь, и оттого кажутся они безмерными.
Джарсин встала, чтица тут же умолкла, Ванда подняла голову, оторвавшись наконец-то от вышивания, Кнет тоже замер, дурак, на одной ноге, другую вытянув назад, возможно изображая полет кометы, а может, хвост дракона, и странно выпученными глазами попробовал посмотреть, не поворачивая головы, на хозяйку.
Не говоря ни слова, Джарсин пошла по коридору, тут было чуть прохладнее, чем в зале для чтения, щекой она определенно ощутила слабенький сквознячок. Что оказалось в ее замке не очень хорошо – так вот эти сквозняки. Но что же с ними поделаешь, они приходили из пропасти, из того пространства внизу, в которое она тоже не хотела вглядываться, как и в вершины северных гор.
Наблюдательница пошла по коридорам, пинком раскрывая двери, которые были так массивны и тяжелы, что не сразу и пропускали ее даже после толчка. Давно следовало бы поставить у них гвардейцев в серебряных кирасах, может, даже со шпагами или с протазанами, чтобы они эти двери ей открывали… Да вот беда, не любила она лишние лица в замке – всех этих орков, гоблинов, карликов, людишек, троллей или эльфов.
Кнет увязался за ней, Ванда приотстала, должно быть, слишком аккуратно складывала свою драгоценную и бессмысленную вышивку.
– А раньше ты, Госпожа, умела перелетать из башни в башню, помнишь? – спросил он фальцетом, подражая голосу ярмарочного зазывалы. Она не отозвалась, тогда он продолжил: – Или просто переносилась, куда тебе нужно… Бывалоча, что в трех разных местах тебя видели, и каждый же раз это ты была, не фантом или что-то подобное…
– Заткнись. – Она все же не выдержала.
Кнет с деланым испугом зажал рот ладошками, на одном из пальцев вдруг блеснул дорогой и большой, закрывающий чуть не всю фалангу, перстень. Джарсин остановилась и посмотрела на него, Кнет всегда выпрашивал у нее подачки, порой довольно дорогие. Интересно, зачем ему все эти вещицы тут, в замке? Уж не для того ли, чтобы тискать за них продажных служанок? Так мог бы просто приказать, если ему по вкусу такое развлечение… Или он откупается от Торла за что-то?.. Или он попросту копит?! Зачем ему копить, он же не собирается жить вечно, как она, и знает, что если его и выпустят из замка, то только для того, чтобы отнести на погост… Если она позволит. А то сбросят в пропасть, как поступают с мелкими служками.
Идти пришлось через большой зал, сплошь уставленный зеркалами самой лучшей работы. Джарсин на миг остановилась, посмотрела на себя. Кнет тут же попробовал спрятаться за нее, но зеркала так отражали свет, падающий из верхних окон, что его все равно было видно, прижавшегося к ногам хозяйки, как собака. Он уже попытался было представиться собакой, но она его отпихнула, он ей мешал. И тогда взглянула на себя прямо.
Тощая, в длинном платье с мягким шлейфом, аккуратно подметающим пол за ней, прямая, как палка, и с лицом… Что за лицо! Мучнисто-белое и гладкое, как кость, обглоданное всеми прожитыми годами, лицо уже не архимагички, а какого-то ночного кошмара, видения, от которого хочется проснуться… Острый нос, похожий на клюв хищной птицы, слишком тонкие губы, запавшие щеки и лоб, выше раза в два, чем было бы хорошо для женщины… И глаза… Но в глаза она и сама не хотела смотреть, знала же лучше всех, что может там увидеть – череду предательств, интриг, в искусстве которых она совершенствовалась столетия, и магических побед, которые странным образом оборачивались поражениями ее плоти и духа… Джарсин и сама не была уверена, что согласилась бы на такую судьбу когда-то давным-давно, когда еще была обыкновенной девчонкой-гадалкой на рынке пыльного провинциального городка, когда только мечтала стать настоящей магичкой, если бы знала, что увидит когда-либо у себя такое лицо и – главное – такие глаза.
Тихое рычание вырвалось у нее, это испугало Кнета больше всего, он заскулил даже, эти звуки слились, странно переплелись, и Джарсин самой стало страшно, но всего лишь на миг, не более… Архимаги не боятся ничего, не должны бояться, как не должны по какому-либо поводу волноваться. Она пошла дальше. Ступени, снова ступени, бесконечные и крутые переходы, снова ступени выше колена…
Вот наконец-то и место, куда она направлялась. Круглая комната, небольшая для такого замка, лишенная крова, уходящая высокими, заваливающимися к центру стенами вверх, в серое, бездонное небо, клубящееся нескончаемыми тучами. Но во всем этом замке – главное место, в котором Джарсин проводила больше всего времени, которое, что ни говори, все еще поддерживало в ней чувство жизни, давало ощущение причастности миру и вдохновляло порой на новые эскапады и эксперименты, как ни странно.
В самом центре комнаты на сложных узорчатых цепях из золота, отходящих затейливой паутиной от стен, прямо под открытым небом висел Камень, не больше головы теленка, неправильной формы, окованный тончайшей сеточкой, поддерживающей его на весу. Одна его часть была прозрачной, потом шла полоса молочно-белого цвета, который через радугу переливов превращался в самый черный, какой Джарсин когда-либо видела в жизни. Это была даже не чернота, это было полное отсутствие чего бы то ни было, хотя бы тени, которая, как всем известно, отбрасывается пронизывающим весь космос светом звезд, неугасимо горевших, поддерживающих Мироздание. Эта чернота свидетельствовала – существует нечто, где нет ничего, нет даже пространства, пустоты или самого времени, которые присущи миру. Эта часть Камня в последние три сотни лет нравилась Джарсин более всего.
И тут не отставший от хозяйки Кнет отполз на коленях к стене, пытаясь замотать себе голову и уши полами камзола, потому что знал, что сейчас должно произойти. Джарсин проследила за шутом, потом села в единственное тут кресло, установленное в малоприметной нише, откуда тем не менее было видно со стереоскопической резкостью и ясностью все это место: трещинки в стене, каждую пылинку в воздухе, каждую каплю дождя, упавшую сверху, и даже открытое небо над головой.
Посидела немного, вникая в состояние пространства вверху. Наконец, медленно, словно боялась ошибиться – хотя ошибки быть не могло, она занималась этим не реже, чем раз в два-три месяца с тех пор, как поселилась в замке, – принялась читать заклинание, вызывая в себе образы проговариваемых древних и сложных слов, обозначающих еще более сложные понятия, схемы и символы.
И тучи над центром комнаты сгустились, заиграли наслоениями света и теней, переплелись, будто наверху стал крепнуть ветер, почти неощутимый в этом помещении, а затем потемнели, и впервые ударил сполох молнии, разрядившейся между тучами, еще не касаясь этой земли и замка Джарсин.
Это было непростое волшебство, Джарсин сидела не шелохнувшись, слова сами возникали в сознании и так же уходили, подчиняя мир, обращая его в место воплощения ее воли, ее власти, но это требовало и выучки, и времени. Немалого времени, хотя архимагичка его и не чувствовала сейчас. Наконец, молнии ударили ближе и ниже, почти над замком. И вдруг… Небесный огонь странновато медленно вылился из клубящихся, кипевших уже избытком энергии туч прямо на замок, на эту комнату, выстроенную именно для того, чтобы он мог приходить сюда… Огонь, ярко переливаясь, прошелся по золотым цепям, но стек куда-то вбок, Камня он еще не коснулся.
Джарсин договорила заклинание и стала ждать, молнии только набирали силу. Наконец-то, о наконец!.. Одна из них, самая дерзкая, ударила в Камень, как и должно было произойти… Удар был оглушающий, если бы Джарсин была обычным существом, она бы не пережила этот удар. От него, казалось, закачались стены, заплясали бешеными рывками тяжелейшие и крепчайшие цепи, и сама скала, на которой стоял замок, содрогнулась от силы этой молнии. Она ударила в Камень… и ничего не произошло.
Джарсин не поверила своим глазам, которые сумела не закрыть даже перед молнией или закрыла лишь на крохотный миг, который не имел значения… Камень тоже дрожал от удара, при этом казалось, что он даже немного изменил свою форму, но Джарсин знала, это лишь видимость, это обман, она проверяла когда-то, тысячи лет назад, когда впервые увидела этот эффект, потом снова не раз проверяла – Камень оставался таким же, не изменяясь ни на йоту, ни на крошечную свою частичку. Но не это сейчас было важно.
Джарсин позвала, но он, Камень, висевший в центре, не отозвался! Он должен был вспыхнуть огнем, иногда цветного, иногда ослепительно белого цвета, иногда почти таким же черным, как и та чернота, что покоилась в его крае, напоминающем формой нос теленка. А потом в разные стороны, словно бы стен из гранита не существовало вовсе, должны были разлететься искры и поплыть над миром, видимые лишь магическим взглядом, каждая в свою сторону, возможно заранее предопределенную ей судьбой… А разлетевшись по миру, даже мельчайшая из искорок находила того, в ком могла бы сохраниться, находила сущность, которую избирала, будто обладала сознанием, и меняла это существо… Делая его необычным, ярким, талантливым даже…
Собственно, как искры меняли того, в кого попадали, оставалось загадкой. Тут все зависело от цвета искры, и что за существо она избирала, и к чему у этой… живности имелась склонность, каков был характер или к какой расе она принадлежала. Бывали случаи, когда искры избирали даже неразумных животных или полуразумных, таких как грифоны…
Тогда за ними можно было наблюдать. Переживать всю их жизнь, сидя в этой же комнате, или в зале с зеркалами, или порой даже вовсе не в замке, а довольно неожиданно, например, объезжая поля окрестных крестьян, над которыми владычествовала Джарсин и ее орденцы, в карете, в портшезе, или даже за ужином, который для нее, конечно, устраивался торжественно и пышно. Хотя сама Джарсин гостей почти никогда не приглашала, да и некого было тут, в Безвременье, приглашать, а из Нижнего мира приглашать было слишком сложно, и не заслуживали все эти правители из Нижнего, чтобы она обедала в их присутствии…
Искры позволяли ей, как и остальным архимагам, наблюдать жизнь этих вот незначительных, смертных людишек, эльфов, карликов или прочих… Даже змееподобных существ с далеких Мокрых островов, или похожих на камни троллей, или обитающих в подводных поселениях русалов, или драконовидных полуразумных тварей из южных земель, о которых не знал ни один географ, где с ними, с драконоидами, вели бесконечные войны мантикоры и пегасы… Наблюдать за ними было даже не забавно, а необходимо, иначе бы существование самой Джарсин давно превратилось в самую страшную пытку, какую только могло изобрести Мироздание, – пытку бесконечным временем.
Особенной властью Джарсин обладала над искрами белой и черной. Тех, в кого попадали эти редчайшие цвета, она ощущала особенно хорошо, чувствовала их воспоминания и страсти, их мысли, как бы нелепы и неприметны они ни были, и даже саму их смерть… Этим она и занималась все бесконечные столетия, иначе давно стала бы подумывать, как может наиболее верно и точно удалить себя из этого мира.
Да, сноп искр должен был возникнуть, молния была вполне подходящая, сильная и прямая, без всяких искривлений, которые порой в них, в молниях, возникали по неизвестным причинам. Но Камень молчал, он не отозвался ни одной, даже самой слабой, искоркой, даже самого неприметного цвета… И это было страшно.
Вернее, вот сейчас Джарсин и поняла, чего боялась все последние дни, из-за чего нервничала, хотя и не хотела себе в том признаться… Она боялась молчания Камня, его покоя под ударом молнии, отсутствия искр, высеченных небесным огнем. Она боялась, потому что знала – когда-то такое должно произойти.
Она чуть было не стала читать заклинание Грозы еще раз, но это было бы ошибкой, потому что тогда, не исключено, возникла бы такая гроза, которая могла разрушить и самый ее замок… А молнии еще набирали силу. Следующий удар пришелся, когда Джарсин показалось, что она устала ждать. Удар тоже был правильным, хорошим, точным, ослепительным и оглушающим.
Но Камень снова промолчал, не издал ни одного блеска, хотя бы случайно похожего на искру. Джарсин не замечала, что сидит в своем кресле, обдаваемая сплошным потоком дождя, скорчившись, сжавшись в комок, хотя никогда прежде не боялась дождей… Она сидела и ждала, потому что в предсказании Берты Бело-Черной Созидательницы было сказано: когда молнии ударят в Камень трижды и он трижды не отзовется, тогда надеяться уже не что.
Третий удар пришелся вскоре после второго. И снова Джарсин не увидела искр, не увидела ничего, что могло бы ее хоть немного утешить. Она поняла, что Камень умер. И это означало, что ее прежнего мира больше нет.
2
Джарсин выбежала из покоя, в котором наколдовывала молнии. Такой ее никто из живущих в замке еще не видел! Служанки, стоящие на нижних ступенях и ожидающие, не понадобятся ли они Госпоже, в ужасе разбежались. Кнет выкатился за ней следом, но лишь сжался на ступенях, так что Джарсин, заметавшись на верхней площадке, об него чуть не споткнулась, и тогда она ударила его ногой, не понимая, насколько была сильной и резкой, но это отлично понял сам шут, когда со сломанными ребрами и, кажется, вывихнутой рукой, откатился на порог комнаты Камня и замер, задохнувшись от боли.
Хозяйка, едва заметив это, ринулась вниз, потом по анфиладам проходов и залов, о которых тут же забывала, и волосы ее, растрепанные бурей, развевались как у безумной. Да она и была в тот момент безумной, глаза ее горели неземным огнем, так горят только глаза драконов на старинных шпалерах, так светятся рубины при совершении над ними магических ритуалов, так могут гореть и уголья, если их раздувать горном.
Она бежала, ни на что не обращая внимания, она знала только одно: прошлое умерло вместе с Камнем! Ее гнал страх, невыносимый, не понимаемый простыми смертными ужас, что вот теперь со смертью Камня, изменилась сама структура ее, Джарсин, присутствия, власти в мире, и никто, даже она сама, не понимает, не может знать, как теперь будет дальше и что из этого получится.
Наблюдательница неслась по замку, словно смертоносный вихрь. Некоторые из предметов мебели загорались при ее приближении от страшного, чудовищного выброса магической энергии, которая истекала из нее вместе со страхом. Многие драгоценные цветы в ее оранжерее, привезенные в замок со всех концов Нижнего мира, засыхали на глазах, будто бы на них обрушился острый поток нежизни. Кони в конюшне разбивали и ломали себе ноги, пробуя выбраться из тесных денников, словно при пожаре. А она летела по галереям и залам замка в своем развевающемся бело-черном платье. Даже где-то в отдалении некоторые из людей почувствовали беспокойство и страх, не догадываясь о его причине, и особенно плохо стало тем, в ком имелась искра, кого эти искры хотя бы ненароком касались в поиске пристанища…
Лишь когда гроза в серой вышине вдруг стихла, словно была не в силах соревноваться с той мощью, которую обрушила на мир Джарсин Наблюдательница, и там, в серых тучах, установилось относительное спокойствие, она стала понемногу и сама затихать. Она будто бы впитывала теперь это спокойствие сверху, вторила ему и понемногу обретала себя в прежнем качестве архимагички, бесстрастной и непоколебимой…
И едва ли не помимо ее воли, помимо ее волнения, которое оказалось таким страшным, она начинала думать, размышлять, сначала эмоционально, чего не бывало уже многие века, но постепенно все более по-прежнему, холодно и расчетливо.
Джарсин остановилась, огляделась, она находилась в огромном парадном зале, когда-то она устраивала тут небывало пышные приемы для тех, кого почитала верными себе и своей власти. Тогда тут бывали разные существа, приведенные ее рыцарями из Нижнего мира, и даже маги, которых она могла терпеть возле себя. С тех пор прошло уже более тысячи лет, зал обветшал, его стены натекли селитрой от сырости, царившей здесь, как в глубоком подвале, вымпелы и знамена давно исчезнувших царств и армий, свисающие сверху со специальных растяжек, истлели, превратившись в серые от пыли лохмотья, даже стальные мечи и доспехи, стоящие в нишах между окнами, истаяли от ржавчины. Даже стекла в сложных и тонко сработанных переплетах из темной бронзы помутнели от прошедших веков, за ними ничего невозможно было увидеть, и непонятно было, в какую часть света они смотрели… Кажется, все же на юг, на равнины, подумала Джарсин неуверенно.
Все же она пришла в себя, поправила волосы, одернула надорванный где-то шлейф, все еще не высохший после дождя и неприятно обвивающий ноги, выпрямилась. Осмотрелась вокруг уже более осмысленно, чем минуту назад. Да, кажется, она знала, что теперь ей делать, как поступить. Она захотела позвать кого-нибудь из слуг, но быстро в ментальном режиме считала ситуацию в замке и поняла, что поблизости нет никого. Она даже сумела усмехнуться тонкими, бледными от страха и жестокости губами, ей понравилось, что все разбежались от ужаса перед ней, перед ее силой и мощью.
Джарсин пошла в библиотеку, одну из самых полных в обоих мирах, в залы, где хранили книги, о ценности которых лишь догадывались другие архимаги, книги, в которых можно было прочитать обо всем, что только придумали когда-либо разные существа, о чем когда-либо писали маги прошедших эпох. Библиотека находилась в той части замка, куда смели заходить только самые доверенные слуги, куда сама Джарсин уже стала забывать дорогу, потому что куда больше времени проводила рядом с Камнем… который теперь умер.
Уверившись, что она идет правильно, хотя и не по самому короткому пути, Наблюдательница мысленно потребовала, чтобы служанки собрались у дверей перед библиотечными залами. Для верности позвала и Хранцу, но та была без чувств, Джарсин снова про себя усмехнулась. Ей понравилось, что это случилось с Вандой, пусть знает свое место, пусть удостоверится, как сильна ее Госпожа, пусть поймет, на что способна настоящая архимагичка, если ее что-то расстраивает в этом мире… Мире без Камня.
Она уселась на свое любимое место, в кресло у высокого окна, которое умело светиться круглые сутки, несмотря на дожди или туманы снаружи. Настоящей-то смены суток в Верхнем мире, конечно, не бывало, ночь была похожа на раннее утро, а ясный день напоминал тут сумерки, но к этому все привыкли, в этом не было ровным счетом ничего необычного, ничего удивительного.
От окна пока не исходил свет, оно просто показывало северные горы, хотя находилось, разумеется, ниже этих гор, но из этого окна они казались почти обычными каменными складками, которые все же можно было обозреть живым зрением, а не магическим видением. Как это получилось, какое волшебство она, Джарсин Наблюдательница, вложила в это окно, вспомнить было уже невозможно. Она знала только, что тогда очень внимательно относилась к своему прозвищу и доказывала его везде, где только получалось, вот и с этим окном так вышло. Теперь она просто сидела под этим окном чаще, чем где бы то ни было еще, кроме комнатки с Камнем… Но и это теперь придется, кажется, изменить.
Джарсин позвала Ванду еще раз, та уже пришла в себя, какие-то служанки растерли ей виски винным уксусом с пахучими солями, скоро она сумеет отозваться на зов. Тогда Наблюдательница попробовала вызвать Кнета. Странное дело, без этого шута она чувствовала себя неуютно, словно бы оказалась неподобающе одетой, а ведь, выделывая перед ней свои коленца, он почти всегда злил ее… Он был в сознании, но его лечил замковый лекарь, какой-то полугном-полуэльф, что было редчайшим сочетанием, эти расы ненавидели друг друга и беспрерывно воевали, но лекарем он был неплохим. Сейчас лекарь, имя которого Джарсин не помнила, может, и не знала никогда, накладывал шуту магическую повязку, которая должна была вылечить его за несколько часов. Если бы Джарсин захотела, то и сама сделала бы то же самое с Кнетом, только рука у него вернула бы подвижность и ребра срослись за считаные минуты, но стоило ли? Пусть Кнет пока побудет без нее, вернее, она – без него.
Она стала вспоминать, где может быть описание всего того, что Берта Созидательница Бело-Черная делала, когда выдумала свой Камень, тот самый, что висел теперь в комнате-колодце на золотых цепях совершенно бесполезно и бессмысленно?.. Так, об этом можно прочитать… Джарсин не сразу поняла, что не помнит уже языка, на котором были эти трактаты писаны. Ох и многое же придется ей теперь вспомнить, если она хочет вернуть Камень, привести мир в тот вид, в каком она привыкла его видеть вокруг себя.
Чтобы до конца успокоиться, она поднялась и взобралась на лестницу в дальнем углу зала, где находились самые редкие кодексы и гримуары неимоверной толщины, написанные писцами, от которых теперь даже костей не осталось. Хотя как Джарсин где-то читала, кости сохраняются лучше всего остального, чуть ли не дольше, чем жила она сама. Но книги-то эти были писаны еще до ее рождения, и только магические заклятия не позволяли истлеть страницам из телячьей кожи…
Книга, которую она наконец выбрала, была огромной, тяжелой, Джарсин с ней едва справилась. Но все же справилась, донесла до резной подставки для чтения… Когда-то она читала тут многое, и не исключено, с удовольствием, теперь же на подставке было чуть не с палец пыли. Она со злостью посмотрела на это безобразие, но что же делать – она сама запретила ходить сюда кому бы то ни было без нее. Смахнула пыль рукавом, белое полотно, испорченное дождем и опаленное взрывом ее эмоций, теперь стало еще и грязным. Но думать об этом было… легкомыслием, которого архимагичка не хотела себе разрешить. Она уселась на почти такой же пыльный, как и подставка, диванчик, подложила под спину несколько подушек, которые наполовину истлели с того времени, когда ими пользовались последний раз, и принялась читать.
Книга повела речь о том, как и почему нужно было создать Камень. Что из этого проистекало в магическом плане, и как это изобретение Берты Созидательницы отозвалось на судьбе царств, где верховодили архимаги в целом, и как каждый использовал свою власть в отдельности. Философией это было, не более… Джарсин перелистала несколько десятков страниц, ничего конкретного не нашла. Она поднялась, сбросила первую книгу – и нашла фолиант чуть более поздний и чуть менее тяжелый.
Тут объяснялись принципы геополитики, давалось описание владений Вильтона Песка, даже имелся его портрет… Интересно, подумала Джарсин, для кого это писалось?.. Явно, что не для нее, потому что она-то помнила про Вильтона все, или, по крайней мере, все важное, в этом она была уверена. Вильтон, архимаг с сильными задатками некроманта, похожий на скелет, любивший носить кровавые плащи и зачем-то поднятые острыми шипами подкладные плечи, отрастивший в юности себе хвост, чтобы напоминать Владыку преисподней, даже рога себе приделавший, чтобы пугать слуг и разных смертных… Чудак, но как же он бывал иногда силен, тем более что под его властью находились искры серая и желтая. Он занимал значительную часть мира, вот только обезлюдела она в последнее время, слишком многих он забирал в Верхний мир, чтобы служили ему непосредственно и чтобы он не скучал, устраивая любимые им голодоморы и пандемии… Пустая растрата живого материала, подумала Джарсин и перевернула несколько страниц разом, до следующей главки.
Марсия Клин, архимагичка со специальностью управления магией случайных событий, очень сильная, уверенная в себе и своем искусстве, вот только не изжившая некоторые издержки женственности. Стерва, дрянь и вздорная спорщица, никогда ни с чем не соглашается. Да, по книге получалось, что живет она уж чуть не дольше самой Джарсин, с ней всегда приходилось считаться, потому что верховодила она искрами красной и синей, а это испокон веков были цвета войны и насилия. Цвета крови и самых ужасных катастроф, какие только можно вообразить даже тренированным в жестокости архимагам.
Рош Скрижаль, один из немногих, кто пользовался, кажется, подлинной любовью смертных, которые о нем знали или хотя бы догадывались о его существовании… Таких было немного, но все же они были. Потому что он не очень-то и скрывался от них, питая к смертным какую-то патологическую приязнь. Тихоня, любитель почитать книжечки, поучить историю народов, всех этих эльфов, карликов, людишек, троллей, гномов, историю, которую он, бывало, сам же и создавал… Невнятный тип, но силен, это следовало признать. Владетель искр голубой и зеленой, как правило, хотя, случалось, к нему залетали и иные, вот только красных никогда не бывало. Как-то его любовь к деревьям плохо сочеталась с красным цветом, а у него, сказывали, даже замок был выстроен из дерева и украшен такой резьбой, что почитался среди знатоков непревзойденным шедевром. Все равно дурак, решила Джарсин, хотя и умный при том.
Потом шло описание владений и предпочтений Сары Хохот, Норы Поток и самого загадочного изо всех архимагов – Августа Облако, любителя людей, повелителя коричневых искр, занимающего немалое пространство в мире, потому что люди – странный, любопытный, хотя и очень недолговечный народец – умели проникать всюду, чем существенно отличались от прочих, и даже умели на новых местах устраиваться, причем неплохо, получая немаловажные роли и посты в местном управлении. Да и вояки из них выходили неплохие, хотя… Дальше было не слишком-то интересно.
Джарсин закрыла книгу, скинула и ее на пол, потащилась в тот же угол зала за новым кодексом. Оказалось, память подвела ее: все, что ей было необходимо, находилось совсем в другом труде, теперь-то она была уверена – в кодексе, который, по слухам, был написан со слов самой Берты. Она снова взобралась на самую высокую ступень передвижной лестницы, дотянулась до самой высокой полки и стащила уж совсем древнюю книгу, ее переплет был обуглен, часть страниц кто-то вырвал, а медные застежки оказались сплошь сломаны. Она все же стащила ее вниз, разложила на подставке, снова стала читать, хотя половину слов, которые ей встречались, уже не помнила.
Тут имелось введение, трактующее мир таким образом, что, если мага или даже архимага забывали люди, он истаивал, истлевал подобно знаменам в пиршественном зале, на что Джарсин про себя усмехнулась. Но мысль была почти новой для нее, вернее, не абсолютно новой, конечно, она знала об этой идее ранних магов, но как-то над ней не раздумывала. А что же будет, вдруг пришло ей в голову, если теперь без Камня мы не сможем насылать на смертных искры? Что же получится, если эта идея окажется хотя бы отчасти правильной?
И тогда она поняла, что желает вернуть Камень еще больше, еще нестерпимее, еще настоятельнее. И получить при этом больше власти, больше силы, потому что одно дело – пользоваться тем, что когда-то создала Берта Бело-Черная, а совсем другое – если она сама будет Созидательницей!
Джарсин просидела в библиотеке очень долго, пожалуй, поболе недели, обдумывая свои шаги в последовательности, которая позволила бы ей не наделать ошибок. Во-первых, не поссориться с остальными архимагами или поссориться хотя бы не со всеми сразу, потому что было ясно: если уж ей пришло в голову, какой сильной она станет для этого мира, если сумеет воссоздать Камень, то и другие об этом подумают, когда поймут ее замысел. И второе, что не нравилось ей, – слишком многое должны были исполнить слуги, ее подчиненные, ее рабы, потому что появляться в Нижнем мире она не хотела ни в каком качестве, ни в какой маскировке. Это не просто уронило бы ее достоинство, но и сделало бы на время посещения Нижнемирья страшно уязвимой, настолько, что только дурак не воспользовался бы возможностью уничтожить ее, просто на всякий случай, потому что там это было легко сделать любому архимагу, даже самому слабому из них, вроде Августа Облако.
Ей приносили еду в библиотеку, она даже разрешила разжечь камин, потому что временами начинала мерзнуть, чего с ней не случалось уже много веков, и все думала, читала, перебирала варианты своих действий и противодействия им других, враждебных сил. Получалось все довольно сложно, даже нелепо-сложно, но возможно и исполнимо, в чем Джарсин убеждалась все вернее, чуть не с каждым прочитанным кодексом и с каждым днем, проведенным в размышлениях.
Наконец она решила, что готова или почти готова. Она вызвала к себе Торла и Ванду. Кнет давно уже прибился к ней сам, хотя мог бы и не являться, толку от него было мало в той работе, которую она уже проделала и которую собиралась продолжать. Когда Торл и Хранца почтительнейшим образом доложили, что ожидают распоряжений, она оттолкнула – наконец-то! – последнюю из читаных книг и сказала охрипшим от недосыпания и усталости голосом:
– Ванда, готовь Прорицание, и смотри, чтобы на этот раз оно было точным и подробным, самым подробным, как только сумеешь. Торл, открой лабораторию, я вынуждена буду снова взяться… – она даже сумела улыбнуться, хотя от ее усмешки Кнет спрятал лицо в ладонях, – взяться за практическое колдовство. Ванда, вот что еще, когда сделаешь, что нужно для Прорицания, ступай в сокровищницу… Нет, туда мы пойдем вместе. – Джарсин тяжело поднялась с диванчика, на котором сидела все эти дни, и почему-то мигом почувствовала, какая же она грязная и неопрятная. Оказывается, она забывала все это время мыться, и даже руки у нее были по локоть в вековой пыли и паутине от книг. – Да, пожалуй, начнем с сокровищницы, вот только сначала в баньке ополоснусь… Значит, так – сначала в баню, потом в сокровищницу. У меня имеется там нечто, что нам понадобится.
3
Торл ступал так тяжело, что Джарсин решила оказать старику уважение, оглянулась на него и подняла бровь. Старик когда-то был человеком, сейчас в его лице осталось уже мало признаков этой расы, он походил на морщинистого и древнего гнома, вот только не с ладонь величиной, как они обычно бывают, а ростом почти до пояса самой Наблюдательницы. И борода у него была не совсем гномья, скорее карличья, окладистая, неопрятная, плохо расчесанная и с застрявшими в ней крошками, если приглядеться. Впрочем, с неожиданной брезгливостью подумала Джарсин, если приглядеться по-настоящему, в ней и вши обнаружатся – не просто старым стал Торл, но и грязным. Это был бич людишек – неопрятность и малочувствительность всех органов в конце жизни.
Можно было бы его омолодить, сделать более подвижным, вернуть гибкость суставам, притом что голову старика, опытную, многодумную и когда-то светлую, талантливую, можно было бы тоже подновить – прочистить сосуды, снабжающие мозг кровью, восстановить кое-какие нервные узлы и ткани… Пожалуй, тогда бы более сорока лет ему никто из непосвященных не дал. Вот только теперь, когда многое, очень многое должно было в мире измениться, Джарсин решила этого не делать. Она найдет себе нового советника, лучше приспособленного к грядущему новому миру, что непременно возникнет согласно ее замыслу. Нет, на самом-то деле, если уж она берется за этот труд, не может же не получиться, чего она желает?!
А Торл что-то почувствовал, научился за свои два-три столетия жизни читать ее настроения и самые отчетливые мысли. Он даже решился заговорить, пока они спускались в темные, освещенные лишь редкими факелами коридоры, которые вели в такие подвалы, где и крыс уже не было, Джарсин их не любила и несколько раз пыталась извести, вот и не водились здесь крысы… О том, что тут и обычный смертный мог задохнуться, если его продержать чуть подольше, она не думала – знала с уверенностью.
Все же коридоры освещались тут не зря, Хранца хоть и вредная, как скорпиониха, но дело свое знала получше многих, пожалуй, ее-то уж можно будет пока не менять, как Торла. Все же догадалась, не сама побежала открывать сокровищницу, а послала кого-то, и незаметно это сумела проделать, вот факелы и горят… И все же хвалить ее не следует, пусть думает, что выполняет лишь то, что должна, иначе… И до повышенного самомнения додумываться станет, а зачем это? Вдруг ее тоже менять придется? Со смертными или даже с полумагами, как Торл и Ванда, в которых гордость просыпается, всегда какая-нибудь лишняя канитель возникает…
Коридоры становились все уже, теперь не до соблюдения этикета стало, и Наблюдательница пропустила вперед Ванду. Та не подвела, по-прежнему повела их уверенно и, пожалуй, правильно. То, что правильно, – это Джарсин и сама чувствовала. В одном месте притормозили, когда-то тут стояло защитное приспособление, то ли камень на цепи сверху падал, чтобы раздавить непозволенного гостя, то ли просто мечи рубили всех в куски. Только теперь ловушка не работала, слишком давно ее сделали, изржавел механизм. В другом месте стояла довольно любопытная старой работы сигнальная машинка, но сейчас Ванда ее очень толково отключила. Нет, все же молодцом она была, хоть и не всегда, но на этот раз не сплоховала.
Немалые, высотой в десять локтей, ворота закрывали сокровищницу, как и прежде, надежно и плотно, между ними и лезвие ножа невозможно было просунуть. Ванда звякнула тяжелыми бронзовыми ключами, которые прежде несла, заботливо сжав в кулаке, чтобы не звенели, знала, что это может не понравиться Госпоже. Три ключа, на которые она имела право, она вставила и повернула сама, бронза, почти не стареющая даже в этом сыром воздухе, уверенными щелчками с едва слышимым звоном открыла три замка. Последний серебряный ключ Ванда передала Джарсин. Та его сначала осмотрела, при желании, она могла бы считать по нему, когда ходила сюда, и даже за чем именно ходила. Но не стала этого делать, сейчас было не до того.
Хранилище открыла Ванда, которой помогали Торл и Кнет, вот он-то был силен и ловок, справился в одиночку с левой створкой, хотя в прежние времена, когда тут еще держали каменную бабу, которую Джарсин украла с какого-то древнего кургана и оживила, чтобы поставить у этих дверей, даже она, медлительное существо с преувеличенными животом и грудями, но с короткими и мощными руками и ногами, больше похожими на звериные лапищи, – даже тот голем кряхтел и крошился, когда исполнял эту работу. Куда подевалась та каменная баба, Джарсин, конечно, не знала, скорее всего, когда она уже стала трескаться, ее сбросили в пропасть, как и все остальное ненужное и изжившее свое.
Сокровищница оказалась не такой большой, как ожидалось, или Джарсин забыла ее настоящие размеры. Было время, когда она, еще увлеченная своей силой, получив подлинное могущество не только в Нижнем мире, но и тут, собирала, сколько могла, все артефакты, все магические частички прошлого, оставшиеся со времен Берты Бело-Черной. А добывать их иногда приходилось весьма сложными путями, потому что наложить на них лапу пытались и другие архимаги. Впрочем, теперь-то она могла с удовольствием признать, что у нее собрание раритетов было больше, чем у всех остальных архимагов, вместе взятых.
Джарсин обострила свое зрение до способности видеть в темноте, и тогда от двух факелов, тускловато горевших перед дверями в сокровищницу, свет сделался достаточно ярким, чтобы она увидела…
Доспехи Корсуна Императора, тяжкие теперь, хотя и небольшие, в них мог бы забраться и Кнет, и они оказались бы ему, пожалуй, маловаты. Великий создатель первой Империи был всего-то шести футов росточком без одного дюйма, едва ли не карлик… И вся сила его заключалась в том, что доспехи эти на нем, и только на нем, теряли две трети своего веса, что позволяло ему двигаться быстрее любого противника, да еще, пожалуй, они очень хорошо, без ощутимого толчка, гасили каждый удар. Когда-то одна из подручных Наблюдательницы изучала это их свойство, но так ни до чего и не додумалась, недаром Джарсин от нее как-то избавилась… Нет, не убила, но сослала навечно вниз, к смертным, где жизнь всегда была конечной и истаивала за считаные десятилетия.
Непобедимое Знамя, под ним воевала какая-то армия карликов, которые вздумали отстаивать свое неподчинение одному из архимагов. Они добились немалого, у них до сих пор имеются какие-то земли, где они правят почти как суверенное племя, вот только кому они нужны, если для того, чтобы они доставляли золото и драгоценные самоцветы, хватает всего-то договоренностей и купцов, которые возят туда разные иные товары. В общем, Знамя все равно может пригодиться.
Набор Возвращающихся кинжалов, тоже неплохая штука. Если такому кинжалу правильно, с соблюдением несложной магии нашептывали имя, кого следует убить, а потом отправляли в Нижний мир, он действовал самостоятельно, переходил из рук в руки самых разных существ, пока кто-то из них не убивал того, кого нужно. А потом исполнившему задание кинжалу удавалось вернуться, таинственными путями магии Несбыточного, когда его приносил в замок или кто-то из путников, даже не понимая, почему он решил его продать именно Наблюдательнице, или на своем поясе наемник, который решил поднаняться в ее стражу, или иным образом. Они лежали завернутые в кожу, под толстым слоем густого масла, чтобы не старели и не ржавели. На миг Джарсин захотелось проверить, правду ли говорили, что их и точить не нужно, но не стала этого делать: подобрав кинжал, его почти обязательно следовало пусть в ход, а у нее пока такой потребности не было.
Колба Моря Разливанного, страшноватое оружие, на вид просто стеклянная химическая колба, вся в потеках каких-то реактивов не только снаружи, но и внутри, где плескалась какая-то на редкость легкая, почти неуловимая, едва видимая глазом жидкость. Стоило эту колбу оживить, а потом вылить куда-то, как именно в это место начинали собираться все дожди, и туда же устремлялась вся вода в округе… Бывало, что и реки после применения этой штуки изменяли русло, если могли это совершить, и чудовище-Океан вдруг прорывался, но всегда, в любом случае вся та местность, куда были брошены хотя бы считаные капли жидкости из Колбы, оказывалась затоплена на многие годы… Хотя точное, меткое ее применение было невозможно, всегда получалось не вполне то, что задумано, и ничего с этим было не поделать.
Но теперь, как с удовольствием думала Джарсин, это искусство можно обновить, когда она воссоздаст новый мир… Кто-то за ее спиной подал голос, Джарсин в гневе обернулась.
– Я говорю, – тут же быстро произнес Кнет, – много тут силы, даже макушку у меня покалывает, Госпожа.
Шут явно защищал кого-то, пожалуй что Торла, сердобольный он, никак его не поймешь.
– Давно тебя не пороли? – спросила она, уже понимая, что не сумеет вновь, как только что у нее было, полюбоваться своим собранием магиматов.
– Пороли недавно, – с готовностью доложил Кнет, понимая, наверное, что на этот раз останется ненаказанным, – даже рубцы еще не зажили. Но ведь говорят гномы – поротым быть несладко, зато до следующей порки можно передохнуть.
– Ты это о чем? – не поняла Ванда, спросила, впрочем, шепотом.
– Так ведь мы все от грозы еще не очухались, – с готовностью сообщил Кнет.
– Не всякая поговорка умна, – сказала Джарсин. – Есть и обычное гномье пустозвонство.
– Так шут и должен пустозвонить, кто же к нему прислушивается?..
Болтовня Кнета была почти кстати, все же делом следовало заниматься. Джарсин прошла едва не в самый темный угол, постояла перед небольшим столиком, где под стеклянными колпаками лежали медальоны Прямого Подчинения. Сильные артефакты, вот только их подлинную силу не знала и не понимала даже она сама.
Медальоны были разных размеров, а в центре каждого, сделанного порой очень искусно, а иногда и очень неровно, едва ли не грубо, из разного же металла – из серебра, железа, золота, олова, платины или простой бронзы, – имелся на вид недорогой цветной камешек. Сейчас они спали, но и в темноте под взглядом архимагички вдруг затлели едва различимыми пока оранжевой, красной, синей, зеленой, голубой искорками. Всего их было девять, но почему-то медальоны с желтым и фиолетовым, серым и коричневым камешками оставались темными, немыми, неяркими. Неужто и медальоны не выдержали тысячелетнего заточения?
Джарсин провела над ними ладонью, выплескивая свою энергию, проверяя медальоны на действенность, на способность ожить и исполнить ее волю. Нет, вроде бы все были насыщены магией, где-то жили смертные, которые подпитывали эти камешки своей жизнью, в свою очередь, как казалось Джарсин, питаясь от них неведомыми остальным смертным силой и талантом. Все же с ними следовало обращаться очень аккуратно.
– Госпожа, – хриплым от малопонятного волнения голосом заговорил Торл, – если я правильно догадываюсь, что ты хочешь сделать, тогда я…
– Тебя кто-нибудь спрашивал, Торл? – отозвалась Наблюдательница. Спросила лениво, едва ли не добродушно промычала вопрос, но все, кто был в сокровищнице, затрепетали, потому что именно таким тоном она отправляла неугодных ей слуг на конюшню, где их запарывали до смерти или вовсе живьем сбрасывали в пропасть.
– Я много читал в последнее время, Госпожа…
– Потому что ни на что другое у тебя уже нет сил, Торл? – поинтересовалась Госпожа.
– Я бы все же предложил тебе сделать новые медальоны из Камня, тем более что он не дает искр под молниями.
– Ты считаешь, что пользоваться этими старыми медальонами не следует?
– Именно так, Госпожа.
Долгий миг она размышляла. Вернее, она уже обдумала этот вариант действий и пришла к выводу, что поддаваться ему нельзя. Вот только не ожидала, что придется объяснять свое решение кому бы то ни было, пусть даже и старому Торлу, или наоборот – особенно непонятно было, почему ему она должна хоть что-то объяснять.
– Когда-то тебя называли мудрым, Торл, сейчас я вижу, что ты изрядно мудрость подрастратил… Как думаешь, если я попробую всего лишь отщепить от Камня кусочки, чтобы создать новые медальоны, что почувствуют другие архимаги?.. Правильно, они почувствуют, что от их власти в этом мире, как и от моей собственной, кто-то украл кусочек… – Торл попробовал что-то сказать, но Джарсин уже не склонна была с ним спорить. Она закричала так, что эхо ее голоса раскатилось по всем этим нескончаемым подземельям: – Молчать, Торл! – Она взяла себя в руки. Добавила спокойнее: – Молчать. И слушать. Когда они это почувствуют, как ты полагаешь, задумаются ли они над тем, зачем мне понадобились эти кусочки? Правильно, они, скорее всего, дойдут до правды, поймут истинное положение дел. А если они подумают еще чуть, тогда сообразят, что я задумала. И не сочтут ли они после этого, что пора сбросить мою власть над ними и самим воссоздать новый Камень?
Тяжкое молчание было ей ответом. Джарсин знала, что действует правильно, просто потому, что знала это наверняка и была в себе уверена. Поэтому она закончила просто:
– Ванда, забирай медальоны, отнеси их в лабораторию. Там мы проверим, насколько они сохранили свою силу. – Она повернулась к Торлу, который стоял и дрожал, по крайней мере ноги у него под длинной, расшитой серебряными звездами хламидой ходили ходуном. – Ты, старик, провинился, поэтому закроешь сокровищницу, сегодня мне тут больше ничего не нужно… Один закроешь, хотя бы на это ушел весь остаток твоей жизни. Потом принесешь ключи Хранце.
И вдруг Торл снова раскрыл рот. Он сказал:
– Я думаю лишь о твоей пользе, Госпожа. – Она чуть не сожгла его взглядом, который горел, как камни в медальонах, медленным, горючим пламенем, только один глаз у нее был черный, как уголь, а другой белый, словно свежий снег. Но Торл продолжил, и это было проявление недюжинного мужества, некогда свойственного ему, когда он был еще человеком. – Что же касается архимагов, моя Госпожа, они все равно узнают о твоем новом замысле очень скоро.
– Он никогда не давал тебе плохих советов, Госпожа, – сказал Кнет. – Его стоит послушать, пусть тебе и не нравятся его слова. Такое уже случалось…
– И ты туда же, дурак? – удивилась Джарсин. И вдруг поняла, что Торл хочет сказать что-то еще. – Ладно, старик, что ты еще надумал? Говори.
– У тебя много дел, Госпожа, проверить медальоны могу и я… Сумею. – От волнения у него даже лицо изменилось, стало моложе и сильнее, почти таким, каким он бывал прежде, в свои лучшие годы. – А ты можешь заняться Прорицанием, которое подготовила Хранца.
– Ого, в собственном замке мне говорят, чем я могу заняться, а чего мне делать не следует. Да как ты смеешь, Торл, после всего, чему я тебя обучила?..
И вдруг она решила быть благосклонной. Такое с ней, как заметил Кнет, и прежде случалось, правда, очень редко, но случалось. Непонятное ей самой ощущение общности с этими… тремя смертными оказывало и на нее, на Наблюдательницу Джарсин Бело-Черную, свое почти парализующее действие. Она пожала плечами:
– Хорошо, если ты уверен в себе, поручаю заняться медальонами. Но если ты хоть что-то напутаешь, это будет последней твоей ошибкой, ты меня понял? – Торл медленно, по-стариковски поклонился. Джарсин решила, что это будет неплохой проверкой для ее советника, тем более что она почему-то не сомневалась – если он сумеет, если не забыл законы магии, то все сделает едва ли не лучше, чем она, и гораздо тщательнее, потому что теперь от этого зависела его жизнь. – Тогда ты, Хранца, с помощью Кнета закроешь двери хранилища, даже серебряный ключ сегодня я доверяю тебе, а затем мы займемся Прорицанием… Торл, когда управишься тут с Вандой, отправляйся к моим генералам, пусть они приведут ко мне лучших рыцарей, дюжины четыре, а затем необходимо устроить маневры Ордена, с конными атаками и всеми прочими воинскими премудростями… Это должны быть такие маневры, после которых ни у кого не должно оставаться сомнений – скоро предстоит война. – Она еще раз осмотрела слуг и сама же удивилась своей милости к ним. – Удивительные времена настали, я слушаю вас, будто вы понимаете не меньше моего… И я стала к вам едва ли не добра, уж и не знаю, что обо всем этом думать?
Она повернулась и пошла наверх, шурша новым длинным бело-черным платьем со свежим, неизорванным шлейфом. Неожиданно она захотела есть, лучше всего стейк с кровью, к которому лишь чуть добавлено зелени. В конце концов, пока все было в ее власти. Если повара ей не угодят, можно будет наказать их, а не Торла верного и умелого.
4
Гадательная комната Ванды была похожа чем-то на обыкновенную умывальню, Джарсин всегда раздражала эта похожесть, но поделать она ничего не могла, действительно не могла, по всем канонам магии Предвиденья здесь должно было нравиться не ей, а именно Ванде Хранительнице, прорицательнице. Правда, Джарсин всегда думала, что как пифия Ванда не очень глубока, или, наоборот, возвышенна, или точна, или дальнозорка. Она сама, Наблюдательница, могла бы исполнять эту роль не хуже, а лучше, чем Хранца, но приходилось в этом искусстве довериться ей. Потому что серьезное Прорицание требовало такой тонкой настройки, такой бездны энергии, отнимало у любого мага столько сил, что за всю историю не было замечено ни одной прорицательницы, которая преуспела бы в других магиях. Потому-то Джарсин и приходилось жертвовать этим даром или наказанием Пресветлых богов в угоду прочим своим достижениям.
Посередине комнатки, выложенной простыми плитами из синеватого и зеленоватого мрамора, разбавленного белыми вставками, находился Колодец испарений, иногда оттуда исходили очень необычные запахи, а порой такие, что даже Наблюдательнице с ее-то выносливостью и железным желудком делалось плохо. Над Колодцем возвышалось сделанное из бронзы и драгоценных пород дерева широкое кресло, обитое к тому же мягкой кожей с упругой подкладкой, от которого и Джарсин бы не отказалась.
Кресло крепилось к треножнику, к которому вели три выложенные грубым гранитом тропы, обрывающиеся над уходящим в бездну Колодцем. Все сооружение казалось и хрупким, и на удивление надежным, хотя чем это было вызвано и почему рождало именно такие мысли, Джарсин уже не помнила. Не знала это и сама Ванда, появившаяся в замке более чем через полтора тысячелетия после того, как это сооружение было воздвигнуто и опробовано первыми предсказательницами Джарсин. Кстати, по молодости лет она отбирала предсказательниц по своему вкусу и лишь много позже поняла, что это было неправильно, Колодец со временем сам научился требовать к себе смертных служительниц, с которыми ему было проще, которых он легче и точнее умел вводить в транс.
Такое в замке Джарсин случалось сплошь и рядом, вещи, которыми она постоянно пользовалась, напитывались магией, и у них возникали собственные умения, едва ли не желания, как у живых объектов. Иногда в своих снах, которые Джарсин не любила и от которых почти научилась избавляться, ей виделось, что ее уже почему-то нет в замке, а все ее магиматы, все магические приспособления и артефакты вдруг обрели способность не только жить самостоятельно, но и общаться друг с другом, соединяться в достижении каких-то непонятных для нее целей, а то и враждовать между собой.
На этот раз Ванда подготовилась хорошо, хотя еще и не вполне окрепла после того приступа, который у нее случился во время колдовства Госпожи с молниями и Камнем. Джарсин устроилась на диванчике, стоящем в самом звонком месте помещения, тут отлично слышались все слова, вздохи или даже всхлипы Ванды. Около него уже пристроился Кнет, как часто с ним случалось, он проявил инициативу – приготовился писать то, что могла во время сеанса произнести прорицательница. Вот это уже могло быть опасно, потому что все, что было где-то когда-либо написано, можно было посредством магии воссоздать в специально изготовленных, так называемых Белых книгах, как будто это было написано именно в них. Джарсин сама когда-то баловалась этим приемом, пока не устала от этой забавы, а вернее всего, устала от слишком многого, почти безбрежного чтения.
– Писать не нужно, – бросила она шуту.
– Как же ты, Госпожа, сопоставишь все то, что она обыкновенно тут лепечет? – сделал удивленный вид Кнет. Не мог, мерзавец, без придуривания. – У нее же сразу ничего не поймешь и, лишь когда перечитаешь ее слова раз двадцать, начинаешь хоть до малой крупицы понимания доходить.
– Умолкни.
Ванда переоделась в белое, простое платье, доходящее до пят. Под ним она была уже голой, вымытой в каких-то благовонных водах и умащенной растираниями, которые одуряюще пахли даже через те двадцать шагов, которые отделяли ее от Джарсин. Она двигалась медленно и спокойно, но архимагичке было видно, что в ней все дрожит от напряжения и она едва сдерживается, чтобы не впасть в беснование.
Она выпила большой кубок в четыре фунта чеканного золота, а что было в нем, Джарсин не знала. Прорицание требовало каждый раз от пифии особенного, подходящего только для данного случая питья. Вернее, она, конечно, знала основные компоненты – красное вино, семьдесят две капли настойки белладонны, растворенной в северной водке, изготовленной из воды ледников семи вершин горы Забытых Богов, тринадцать гранов сухой крови карлика, родившегося в полночь лунной ночи, соки двух десятков южных трав, причем некоторые были чистыми, выдавленными из растений, а некоторые требовалось настаивать на крепчайшем бренди или на уксусе, порошок из сушеной летучей мыши, мелко порубленные кусочки печени горного козла, два грана опийного мака, какая-то ужасно ядовитая соль на основе ртути и многое другое… но вот в точную рецептуру вдаваться не собиралась.
Ванда наконец-то уселась в кресло, поерзала, устраиваясь поудобнее, немного посидела, ничего внешне не делая. Но Джарсин видела, какие силы она призывает себе в помощь, и от этого хладнокровной, неустрашимой архимагичке стало не по себе. Она давно не пользовалась воззванием к Пресветлым богам, она и хотела этого – помнила, что потребовала, чтобы пифия сделала самое точное прорицание, – и страшилась, потому что боги не дают знание просто так, без своей цены, которая заранее, конечно, была никому не известна и могла быть наложена не на предсказательницу, а прямо на нее, на Наблюдательницу… Ванда воззвала к Колодцу, хотя, наверное, это было уже скорее Вызывание, немного другое направление мыслей, чувств и воли. Колодец стал отзываться.
Кнет, как у него бывало при чрезмерно решительном обращении к магическим силам, негромко завыл, но к такому его поведению все уже привыкли, потом он стал зажимать себе нос, из глаз у него потекли слезы, – видимо, запах из Колодца поднялся первой волной. Джарсин сама-то ничего еще не чувствовала, но Ванда уже стала понемногу отходить от этого мира. Она откинула голову, глаза у нее сделались белыми, руки, прежде спокойно лежащие на подлокотниках, тоже стали белыми, она вцепилась в кресло так, что сейчас ее не могли бы оторвать и орки с големами.
Она вдруг изменилась, стала едва ли не прозрачной и в то же время сделалась больше, массивнее, в ней уже не было ничего от смертного существа. Она едва ли не заполнила собой все помещение, почти закрыла сам Колодец, как пробка, как плита, надвинутая на него. Из пропасти внизу повалил довольно густой пар, странно, но архимагичка по-прежнему не ощущала его запаха.
– Сегодня мы не слишком преуспеем… – Дальше что-то непонятное, видимо, Ванда заговорила на языке, в котором даже Джарсин не понимала многих слов. – Но собраться следует на священной цифре девять. Да, девятка в этом деле, по которому вызваны священные силы, имеет наивысшее… Знак! Это и есть требуемый знак, без него не обойтись.
Ванда умолкла. Молчание затягивалось, но Джарсин была готова сидеть и слушать то, что Ванда могла бы произнести, сколько угодно. Однажды она просидела так трое суток, пока прорицательницу не унесли, истощенную и почти мертвую от перенапряжения. Кажется, тогда это была не Ванда, кто-то другой. Может быть, тогда пифия и в самом деле умерла.
В магии чисел Джарсин не любила девяток, что-то с ними было для нее неприятное связано, хотя, что же именно, она забыла. Осталась только стойкая неприязнь к самому числу. Или к знаку, которым он обозначался, ведь это последний из ряда первичных цифр… Или буквенное изображение девятки ей не нравилось?
– Неопределенность всего лишь подсказывает, но, как правило, не лжет, – сказала Ванда твердым, трезвым тоном. Вот только голос звучал не ее, а низкий, демонский, от которого и до Ведьминого крика было недалеко. – Нужен свободный поиск, и не иначе. Следует составить всех воедино, но есть условие, чтобы смертных не лишали свободы воли, тогда они сложат новый Камень как исполнение собственной цели и сути существования… Чтобы потом, позже, если удастся, присвоить его. Вот только – захочет ли он того?.. В нем будет чрезмерно много воли Богов, которых я не вижу, которые нам неизвестны.
Вот этого Джарсин не ожидала, она-то полагала, когда дело коснется смертных, она будет, как всегда, дергать их за веревочки, словно марионеток, и они исполнять все не только под ее контролем, но даже и в том виде, в каком ей заблагорассудится. А тут вдруг такое – свобода воли… И для кого? Для презренных мелких насекомых, с которыми она разучилась считаться еще тысячелетия назад… Поистине, прорицания бывают неблагородны, но все же их приходится исполнять, иначе они обижаются и становятся неточны, а то и действуют против наговоренного…
– Действовать должны посыльные, не ты, Госпожа, но ты и сама знаешь… Отбирать нужно, тоже сообразуясь с их силами и волей и нацеленностью на смертных. – Ванда сидела уже почти как обычно, даже слегка расслабленно, вот только пот стекал с нее так, что, казалось, она почти плавала в своем кресле, и ткань платья облепила ее будто вторая кожа… Его стало даже не видно, будто бы пифия осталась нагой, как новорожденная. Голос ее снова изменился и стал совсем иным, видимо, предсказание на этот раз оказалось удачным, и через нее говорили несколько Предвечных, или демоны, которым, как известно, открыты самые разные аспекты будущего. – Следует готовиться к войне, это будет чудовищная война, в которой магия столкнется с магией, в которой погибнет многое из того, что ныне нам знакомо… Но Камень миру необходим, и сражаться придется в любом случае.
Да, война, конечно, дело рискованное, но в данном случае Джарсин и сама догадывалась, что без борьбы, скорее всего, не обойдется. Противников у архимагички было достаточно, хотя с ее силами она не представляла, кто бы мог бросить ей вызов, кроме, пожалуй, некоторых других архимагов, и то в альянсе, в союзе между собой… Например, Вильтон мог бы создать такой альянс или даже Марсия Клин, она по любому поводу пробует сначала повоевать, а лишь потом начинает думать. И ведь очень-то глупой ее не назовешь, она по-своему умна, вот только воевать слишком любит, и смотреть, как воюют, – это у нее основное развлечение.
– Кто победит в войне? – спросила Джарсин.
– Все победят, захватив то, чего не ожидали, и все проиграют, потому что получат то, чего заслуживают и хотят.
Типичный ответ пифии, с раздражением решила Джарсин. Но она сама была виновата, она потребовала прорицания, не решив еще про себя, какой вопрос следует задать, сформулировала лишь свое требование, и то – слишком размыто, слишком неопределенно в частностях. Хотя частности она видела довольно ясно, если незаметно для себя тоже впадала в состояние предвидения, вот только без транса и потери общего контроля.
– Я сумею одолеть врагов, если они найдутся?
– Самоуверенность – не то, в чем следует искать подтверждение пифии… Враги найдутся, оружие следует ковать уже сейчас, его тебе может не хватить. Хотя бы ты и полагала, что этого не случится. Великая развилка мира проявится и в этом тоже. Ее создадут не герои и не маги, а обычные… – Дальше снова на незнакомом языке, кажется, что-то о древних богах.
Именно о древних, а не о Пресветлых, как обычно получалось при использовании Колодца и Ванды. Джарсин автоматически приготовилась обострить свою память, чтобы и через много лет при желании вспомнить едва ли не каждый звук, который сейчас выговаривала Ванда, и разобраться в этом предсказании на незнакомом наречии, но потом решила этого не делать. Прорицание все равно получалось каким-то невнятным и не слишком подробным, как ей хотелось. А спросить еще раз, по любому конкретному поводу – всегда возможно. Так что не стоило, как говорилось в простонародной поговорке, съедать весь пирог за один раз.
– Что мне следует знать определенно?
– Две вещи. – Ннеожиданно Ванда сникла, сделалась маленькой, как девочка, почти карлицей. И заговорила едва ли не с детским присюсюкиванием, это было странно, получалось, что уже третий демон высказывался через нее: – Первое. Все, чего ты добьешься, произойдет уже скоро, всего-то через десять недель или около того. Точный срок может наступить и чуть скорее, и чуть позже. На него повлияют блуждающие звезды, положение которых должно соответствовать возможной развилке мира… После прохождения этого срока состояние звезд будет не самым удачным для того, что ты задумала…
Всего-то десять недель, подумала Джарсин, менее трех месяцев. Хотя конечно, это имело значение лишь для Нижнего мира, здесь, в Безвременье, эти недели можно было растянуть на годы, при желании. Вот только… положения звезд магии не поддаются, командовать ими не умеет никто, кажется, даже боги сложили их по единому закону и отошли в сторону, не вмешиваясь более в их знаки и в силы, которые определяют их положения. Значит, действительно придется торопиться.
– И второе. Произойдет то, что произойдет, хочешь ты этого или нет. Ты столкнешься с магией Неведомого, что всегда неожиданность и неопределенность, некоторые вещи могут остаться непостигнутыми, непонятыми, неувиденными.
Да, такую штуку, как какое-либо случайное совпадение в событиях, прорицательницы могли не увидеть, не умели порой даже определить его приблизительного проявления, потому что это было уже нечто запредельное, или, как говорилось в древних трактатах, это были игры Пресветлых богов, и они не поддавались простому или даже магическому знанию и учету заранее.
Кажется, Ванда или те силы, что стояли сейчас за ней, начинали повторяться. Был, правда, еще один вариант, согласно которому ей, Джарсин Наблюдательнице, придется столкнуться с неожиданностями дважды, но это уже… Этого, скорее всего, не будет, этого просто не могло быть. Хотя второй раз она назвала это неопределенностью, но… Нет, вероятно, этого не будет, не должно быть.
Наблюдательница еще немного послушала, что говорит Ванда, а пифия определенно пошла по кругу, повторяла высказанное, что уже сложилось в сознании Джарсин в целостный план. Конечно, можно было таким образом, через многократные повторения, выяснить кое-какие любопытные детали, но стоило ли этим заниматься? Детали возникнут сами собой, не в них заключалась суть дела, которое архимагичка решила совершить. И потому в ней медленно зрела уверенность, что Ванда на этот раз не справилась с заданием, но делать нечего, следовало пока согласиться на то, что Пресветлые сочли необходимым ей поведать.
Несколько минут Джарсин даже раздумывала, не слишком ли она много взвалила на Ванду, возможно, ей следовало бы привести в замок не одну пифию, а несколько и оставить Ванду только для управления всеми хозяйственными нуждами замка, вот только… Если пифия в жизни не соприкасалась постоянно с ней, с Госпожой, это грозило другими осложнениями, слишком туманными предсказаниями и даже ошибками при их толковании. Нет уж, решила Наблюдательница, пусть будет так, как есть. Это все же было надежно, не то что разные нововведения, а уж их-то у нее в ближайшие недели будет достаточно, даже с избытком.
Кнет тоже странновато как-то заснул у подножия того возвышения, где стоял диванчик Джарсин. Он устроился в позе обиженного ребенка, и по его лицу можно было прочитать, что ему снится что-то очень неприятное или страшное. Наблюдательница поднялась на ноги, толкнула шута ногой. И лишь тогда сказала Ванде:
– Довольно, можешь возвращаться. Ты мне опять понадобишься.
Хотя пифии полагалось бы после транса отдохнуть, но Джарсин не была к этому сейчас расположена. Она вышла из комнаты Колодца, Кнет тащился за ней, припадая на ногу, которую отлежал на твердых камнях в своем неожиданном сне.
– Госпожа, а что там было? Неужто я все проспал, вот незадача, и не знаю теперь ничего.
– Ты никогда ничего не знаешь.
– Но ведь и тебе, Госпожа, случается не знать чего-либо… Иначе бы ты не спрашивала демонов.
Вот это была уже наглость. Джарсин остановилась, повернулась и влепила шуту крепкую оплеуху, тот отлетел к стене, захныкал, закрывшись, опасаясь новых ударов. Впрочем, ему доставалось и сильнее, и он это помнил, поэтому хныкал фальшиво, просто обозначал таким образом прощение.
Джарсин дошла до лаборатории, в которой работал ее главный советник. Тот сидел в окружении двух подручных, тоже седых, бородатых старцев, один даже был горбат от возраста. Оба согнулись в поклонах и, не разгибаясь, чтобы не обратить на себя ненароком внимание Госпожи, выскользнули в какую-то боковую дверцу. Торл поднялся, разумеется, и поклонился, в его движениях читалась усталость едва ли не больше, чем у Ванды после прорицания.
– Отвечай, медальоны способны к поиску своего соответствия?
– Они найдут смертных, на которых ты захочешь их наложить, Госпожа. Но тех, кто понесет медальоны в Нижний мир, следует проинструктировать.
– Умный сам поймет, – отозвался неугомонный Кнет из-за спины Джарсин. – Но лучше всего, конечно, с этим справился бы дурак. У дураков особенность такая – делать то, чего от них никто не ждет.
Джарсин подошла к выложенным на лабораторном столе в ряд медальонам. Теперь искры в них светились уверенно и ясно, они проснулись от своего многовекового сна, они ожили, они были полны магии и каких-то своих, свойственных только магиматам надежд и устремлений.
Наблюдательница провела все же над медальонами рукой, ощущая их цвета, их различия. Желтый слегка согревал ладонь, красный даже покалывал жаром, синий впивался тонкими уколами, будто комариными жальцами, от фиолетового кожа немела, как от хорошего зелья против боли. Другие тоже были активны в высшей степени.
– Как их лучше всего перевозить?
– Для тех, кто понесет их в Нижний мир, Госпожа, следует изготовить замшевые мешочки, чтобы гонцы ненароком не соприкоснулись с медальонами, отчего у них могут возникнуть искушения или искривления в восприятии… задания. А вот для тех, кто будет их носить, я бы порекомендовал изготовить золотые цепочки.
– Нет, сделаем по-другому.
И она принялась колдовать, хотя тоже была не в полной силе, просидев не один час с Вандой и с теми мыслями, какие вызвало у нее прорицание пифии.
Она прочла одно заклинание, потом другое… Кнет из лаборатории убежал, для него за последние дни было слишком много магии. А Наблюдательница колдовала, да так, как давно уже не пробовала. Возможно, так проявлялось беспокойство, которое возникло у нее после прорицания.
Во-первых, она вложила в медальоны заклятие, которое сделает их невидимыми, когда они войдут в свою активную фазу, и еще настоящую действенность не только в поиске… Для поиска они могли быть и видимыми, с этим согласились почти все из них, хотя и тут, как в ощущениях на ладони, могли быть некие различия.
А во-вторых, она сделала медальоны «присущими», это была уже довольно сложная магия, некоторые из древних героев носили так мечи, чтобы их не могли заранее определить враги. У такого человека как бы не было меча, пока он расхаживал по миру, а потом неожиданно вдруг он выхватывал его, как казалось со стороны, прямо из воздуха. Вот и медальонов для смертных как бы не будет… Но они будут, и в этом заключалась их защита от непрошеного или насильственного действия против них – против медальона и против смертного, в котором магимат найдет свое соответствие.
Все же придется иметь дело со смертными, а они ненадежны и, кроме того, подвержены влияниям чужой воли, например воли их господ… Или хотя бы хищным желаниям разных грабителей… Попутно Джарсин еще раз, возможно и впрямь того не замечая, сделала сами медальоны чуть слабее в воздействии на смертных, у которых будет с ними соответствие. Все же с предсказанием о том, что носителям этих знаков следует оставить свободу воли, следовало считаться, хотя бы ей того и не хотелось.
Так что прямого порабощения смертных через эти магиматы не будет… Ну почти не будет. Она об этом позаботилась. Торл понял, что она делает, подошел слишком близко, едва не навис над ее плечом, и уже в который раз за свою долгую жизнь замер от восхищения перед ее умением, ее искусством. Она это поняла, почувствовала, но сейчас это лишь вызвало в ней злость – нашел чем восхищаться, всего лишь магическим трюком, который она, бывало, устраивала для пробы сил, для тренировки, если не сказать, что для озорства… Правда, в прежние-то времена она делала его наоборот, подчиняя волю и последующие действия смертных какому-то вложенному в магимат волшебству, заданию, преследованию некоторой цели. Но тот, кто может это сделать для подчинения, тот сумеет и разрядить это слепое подчинение или ослабить его, как проделала она сейчас.
Поэтому, закончив заклятия, она повернулась к своему главному советнику резко, едва не ударив локтем, чтобы сбить его с ног, причинить боль его старому, немощному телу… Но вопрос прозвучал по-деловому сухо:
– Я приказывала вызвать ко мне лучших рубак Ордена… Они готовы?
– Они ждут, Госпожа, – отозвался Торл с поклоном.
5
Зал назывался Тронным, хотя и Джарсин не имела титула королевы, и трона тут не было. Зато стояло высокое, резное и изукрашенное золотом и драгоценными каменьями кресло, которое ни один король из Нижнего мира не посчитал бы зазорным поставить себе вместо трона. Сидеть на нем было неудобно, но Наблюдательница привыкла к нему, тем более что шелковые подушки в кресле все же имелись.
Она уселась, по-прежнему хмурая, недовольная тем, как медленно и неясно, с ее точки зрения, продвигается дело. Затем глянула в окно и застыла. За окном творилось что-то необычное. Тьма, клубящаяся внизу, в пропасти, поднялась, а возможно, опустилась серая хмарь сверху, и сейчас она плескалась у самых окон ее замка, почти угрожающе висела за стеклами, вызывая в сознании невнятные переживания. Казалось, из нее может выпрыгнуть кто-то, с кем не сумеет справиться даже она, архимагичка Джарсин Наблюдательница.
Она все же оторвалась от этого зрелища, оглядела Торла, Хранцу и своего дворцового дурака. Все ожидали знака, она махнула рукой. Торл подошел к высоким дверям и отворил их, повернулся, слегка дребезжащим, старческим голосом объявил:
– Рыцари Ордена Берты Созидательницы, преданные слуги Джарсин Бело-Черной, прозванной Наблюдательницей, властительницы Верхнего мира и Госпожи мира Нижнего.
Со своим официальным званием она когда-то нимало помучилась, но решила, что именно эти слова подойдут для сколько-нибудь торжественных церемоний. Вот только сейчас они ее тоже раздражали, она ни за что не согласилась бы на них в нынешнем качестве, вот только над этим, как и над многими другими традициями, она была не властна. Вернее, тоже, конечно, властна, однако для того, чтобы хоть что-то в них изменить, требовалось много времени.
В зал стали входить рыцари, из смертных, конечно. Зачем ей вечные рыцари? Солдаты нужны, чтобы умирать за нее или во имя целей, которые она им укажет. Тогда они становятся ценным ресурсом, у них появляется ощущение собственной нужности, даже необходимости, культ своей чести и достоинства, непреходящих ценностей, ради которых следует сражаться с врагами, которые, разумеется, эти ценности пытаются разрушить.
Впереди шел генерал из гоблинов, седой и близорукий, с водянистыми, злыми глазами, потом еще один, рангом поменьше, человек, кажется, солдаты называли его Колотун, и что это значило, всем было понятно без объяснений. Джарсин не помнила имени или прозвища первого из генералов, но это было неважно, они должны были хорошо знать ее и подчиняться ей, а не она их помнить… Впрочем, Камень когда-то позволял ей следить едва ли не за каждым из ее солдат, вот только жизнь их ей не понравилась, и она быстренько переключилась на наблюдение за остальными смертными, из Нижнего мира, у которых все в жизни происходило интереснее, и насыщеннее, и необычнее, едва ли не богаче. Тогда, помнится, она решила, что солдаты все же обладают слишком простым взглядом на мир, чтобы занимать ее. И ремесло у них не слишком сложное – тренировки, сон и еда, конечно, самая простая, незамысловатая тяга к прелестницам разного сорта и бои, которые, в случае их недостатка, они устраивают между собой, называя это отстаиванием каких-то своих уже представлений и рангов.
Генералы ввели четыре десятка разных смертных. Тут были и орки, и гоблины, и карлики, и люди, и даже один тролль, вот только не слишком большой и грузный. Почему-то Джарсин вспомнила, что среди ее рыцарей имелся один циклоп, он был отличным солдатом, но потом вдруг нашел себе пещеру где-то в северных горах и ушел из Ордена, хотя обычно такого не случалось, потому что бывших рыцарей Ордена Берты быть не могло, их попросту не бывало. Что с циклопом стало позже, она не знала, следить за ним в пещере стало еще скучнее, чем наблюдать за казарменным житьем-бытьем орденцев.
Они стали почти как на плацу, в три ряда, хотя равнения и не выдержали, и правильно, не хватало еще, чтобы они тут строевые учения устроили. По знаку седого генерала из гоблинов они все опустились на одно колено и склонили головы, широкие плащи превратили их в белые либо черные изваяния. На одном из этих рубак плащ почему-то был сырой, это Джарсин вдруг увидела очень отчетливо. Другой, на которого она почти с интересом перевела взгляд, оказался вшив, при желании она могла бы избавить его от таких-то мучений, но не стала, разумеется. Третий был слишком юн для рыцаря, но он был быстрым, подвижным и очень выгодно использовал это свое дарование в схватках и турнирах. Четвертый пылал такой жаждой богатства, самых примитивных денег, что ему, наверное, лучше было бы стать торговцем, купцом, а не воином.
Она разглядывала их и не замечала, как едва ли не каждый, на кого она обращала внимание, ежится под плащом от давления, которое оказывал ее взгляд. Это было странное давление, не физическое, конечно, но психическое, или ментальное, или магическое, которое даже эти жесткие и несгибаемые смертные едва могли выдержать. Она их разглядывала теперь как бы сообща, всех скопом, но и раздельно, она же умела переживать и чувствовать едва ли не сотню смертных разом, оценивая вкус жизни, оттенок бытия каждого, как вкус вина, который можно разложить на оттенки ощущений, если как следует разбираться в вине. А Джарсин в жизни смертных разбираться научилась, иначе она никогда не стала бы архимагичкой даже при всех ее прочих дарованиях.
Почти в каждом она видела белую или черную искру, иногда маленькую, иногда слабую, иногда довольно сильную. Не раз она замечала, что белые искры имели какой-то иной отсвет, склонность к иному цвету, но это было, в конце концов, не слишком значительно, главное, что их основной цвет был ее цветом, а иначе и быть не могло. Иначе эти смертные не оказались бы здесь, предателей вычислили бы сами эти рыцари, орденцы, и избавились бы от них, как от ненадежных, разумеется. Она подумала, может, не следует тратить время, а просто отобрать тех, кто владеет самой сильной и ясной искрой, но потом подавила в себе это желание. Рыцарей следовало проверить по полной программе, не давая ни им, ни себе поблажек. Потому что слишком многое зависело от того, кого она сейчас выберет и на что они окажутся способны.
Вот если бы она увидела кого-нибудь, в ком горели бы обе искры, черная и белая, она бы такого выбрала сразу. Но такого не было, видимо, как-то так получалось по закону искр, что две никогда не попадали в одного смертного.
– Поднимитесь, – приказала Джарсин. Рыцари поднялись, верными, точными и сильными движениями хорошо тренированных бойцов. Она осмотрела их еще раз, замечая, как некоторые бросают на нее опасливые взгляды. – Я вызвала вас, чтобы выбрать достойных, которые должны сослужить мне особенную службу.
– Мы все готовы, Госпожа… – начал было седой генерал.
Джарсин остановила его резким жестом и продолжила:
– Вы находитесь здесь, у меня в замке. – Она едва заметно усмехнулась бледными губами. – Но должны быть готовы ко всему, что с вами сейчас произойдет. – Она еще раз с силой произнесла: – Соберитесь со всеми силами и будьте готовы.
Она больше не смотрела на них. Она опустила голову и стала собирать собственную силу, ощущая ее прилив в себе, как скопление молний в грозовой туче, как напряжение пружины в некоторых хитроумных механизмах карликов, готовой потом развернуться и придать этим механизмам способность к движению, как невидимое для взгляда смертных давление ветра, способного обрушиться на все, что ему попадется по пути, со всем своим иногда чрезмерным, смертоносным напором.
Наконец она была готова и тогда мощным посылом бросила в этих стоящих перед ней воинов невероятной концентрации шар боли и муки… Это было не самое сложное волшебство, но сейчас оно было страшно своей разрушительной силой. Простые смертные, не обученные боли, неспособные проявлять выносливость истинных бойцов, вероятно, погибли бы все сразу, но эти… эти сумели выстоять несколько секунд, прежде чем… прежде чем первые из них стали падать от той муки, которая обрушилась на них.
Вшивый солдат упал первым, он был не слишком сильным и даже не сумел как следует сложиться при падении на пол зала. Он рухнул как истукан, не согнувшись, не выставив руки, лицом вперед, и вызвал что-то вроде цепной реакции, падать стали и другие. Через минуту-другую на полу корчились уже все, лишь с десяток сумели не упасть, а опустились на колени, впрочем, тоже с выражением такой боли на лицах, что не составляло труда догадаться – они держатся из последних сил.
Джарсин чуть ослабила свое давление на них, мельком взглянула на своих слуг. Они стояли рядом с ней, шар боли их впрямую не затронул, и, несмотря на это, Торл качался, словно осинка на сильном ветру, он тоже должен был вот-вот потерять сознание. Хранительница, как самая стойкая изо всей троицы, присела, закрыв лицо руками, мучаясь, впрочем, чуть менее остальных, потому что стояла за спинкой трона Наблюдательницы. Но ее опять тошнило, она едва удерживалась, у нее изо рта, открытого в беззвучном крике, прямо на платье, прямо на колени текла какая-то густая, отвратительная, темная слюна. Кнет корчился, сгибаясь от чудовищной боли в животе, в голове, в сознании, в сердце, во всем его естестве… Но он, в отличие от Хранцы, онемел от боли, не пробовал кричать и не замечал, как бьется головой и плечами о ступени, что вели на возвышение, на котором находилась Джарсин.
Да и самой Джарсин стало не по себе, она, пожалуй, немного переборщила с этой магией, тоже почувствовала боль, вот только она-то могла с ней справиться, к тому же ей следовало этот приступ в конце концов снять.
Она быстро, так быстро, что этого никто и не заметил, пробежала своим подвижным вниманием по всем собравшимся тут смертным. Отобрала чуть менее половины и тогда резко, как бывает только у очень искусных архимагов, отключила свое колдовство. Потом еще разок осмотрела своих солдат.
Трое были мертвы, тот самый, что был слишком юн, лежал, раскинув руки, невидящими глазами глядя в потолок. Жадный был жив, но у него тряслась голова, руки его ходили ходуном, в сознании что-то сместилось, это Джарсин видела совершенно отчетливо, пожалуй, он был более ни к чему не пригоден, его невозможно было использовать даже как торговца. Он был сломан до конца, до основания, если у этих смертных имелось какое-то основание…
Но почти половина из них все же пробовали встать, подняться, некоторые даже сумели не потерять внимания ко всему происходящему, а один кто-то из всей компании едва ли не получил от пережитого удовольствие. Он был странный, этот парень, даже извиваясь от боли, он едва ли не ликовал внутренне… Джарсин ему почти позавидовала – таким острым было его переживание, сама она была к такому, конечно, неспособна.
– Торл, позови кого-нибудь из коридора, пусть уберут тех, кто не выдержал первого испытания.
Торл на подгибающихся и дрожащих ногах прошел к незакрытым дверям, выглянул, беспомощно оглянулся на Джарсин. Она поняла его еще до того, как он произнес:
– Тут все тоже… лежат, моя Госпожа.
– Тогда позови служанок, – рявкнула Наблюдательница.
Служанок пришлось собирать чуть не со всех покоев, которые находились поблизости от Тронного зала. Некоторые по касательной испытали на себе удар, который обрушила архимагичка на рыцарей, и едва могли собой владеть. Но все же они, хоть и по прошествии какого-то времени, унесли тех, кого теперь, повинуясь неслышимым приказам Наблюдательницы, отбирал Торл. Впрочем, чтобы дело шло быстрее, к нему присоединились и Хранительница с Кнетом.
Времени на это ушло немало, но почему-то Джарсин не разозлилась, может быть, потому, что ей самой после всего этого требовалось немного восстановиться. Она обнаружила это с удивлением, прежде она бы не радовалась этой передышке. Но до смерти Камня все было по-другому, она не знала наверняка, в каких именно частностях и особенностях, но все равно ощущала – прежде было иначе.
В зале перед ней осталось почти два десятка смертных. Кстати, старенького генерала тоже увели, зато молодой остался, и он даже пробовал размышлять – это Хранительница видела совершенно отчетливо. Он думал, вот если бы его солдат обучили этому искусству, они все, рыцари Ордена, могли бы применять это умение против настоящих врагов на поле боя. Это Наблюдательнице, конечно, понравилось, она решила, что Колотун должен сменить изжившего свое время и свою службу старичка-гоблина.
– Теперь ты, – обернулась она к Торлу. И еще посмотрела на Хранительницу. – Ванда может помочь, если у тебя не хватит умения.
У Торла, как у обученного простым магическим задачам, была одна страсть. Он любил играть в лабиринты, и умел вызывать у смертных очень точные ощущения того, что они в этих лабиринтах находятся. Советник понял, кивнул и, почти как Джарсин незадолго до этого, собрался, произнес несколько заклинаний и бросил в рыцарей впечатление о довольно головоломном лабиринте.
Эти смертные как стояли в зале перед Джарсин, так и остались стоять, но в своих ощущениях они мигом очутились в лабиринтах, наполненных смертоносными ловушками, которые следовало пройти.
Следить за этим было бы даже любопытно, если бы для Наблюдательницы эти ходы, подземелья и ловушки не были… слегка примитивны. Она видела, как кто-то из рыцарей, кажется, тот, что явился в сыром плаще, условно погиб на простой ловушке выдуманного Торлом подземного потока, увлекшего его в совершенно закрытое глубокое озеро, из которого не было выхода. Видимо, он при жизни боялся воды, боялся ощущения глубины под собой, потому что плоховато умел плавать. Другой рыцарь, внешне очень уверенно прошедший почти весь лабиринт, вдруг сломался на обычной решетке, провалившись между железными прутьями, и условно сломал себе обе ноги. Третий погиб от неожиданного удара механического копья сбоку, четвертый… Вот этот погиб интересно, он задохнулся от едкого облака сернистого газа, который на него неожиданно напустила Ванда. Он просто лег на пол зала и перестал дышать, умер по-настоящему, хотя мог бы, кажется, дышать, ведь то, что с ним происходило в его воображении, было не на самом деле и воздуха, чистого и почти свежего, вокруг него имелось достаточно.
Тот, что провалился в решетку, стонал, пробуя дотянуться до ног, которые дивным образом казались ему вывернутыми под жутким углом. Они на самом деле были вывернуты, хотя и не так страшно, как ему представлялось. До конца лабиринта дошло всего-то десять рыцарей, вот только один из них, Колотун, нужен был ей здесь, в Верхнем мире, чтобы следить за обучением и подготовкой орденцев.
Всего-то десять, это было почти то, что Джарсин было нужно. Хотя и маловато, она рассчитывала на большее количество бойцов. Она снова приказал увести или унести тех, кто не справился с лабиринтами. Мельком она заметила реакцию на произошедшее у Торла. Тот был раздражен, почти как это бывало с ней самой, хотя и слабее. Он не думал, что эти солдаты так тупы, и лабиринты, которые рыцарям пришлось условно пройти, оказались для этих солдафонов слишком сложными. Он помрачнел, к тому же его задело, что Хранительница оказала ему дурную услугу, усложнив задание.
Но Наблюдательница была довольна, и Торл, заметив это ее настроение, все же немного приободрился. Ведь если Госпожа не сердится, что же ему-то расстраиваться? Он даже немного обрадовался, и, если бы Джарсин не была так поглощена происходящим, если бы не чувствовала, что все у нее получается как надо, она бы, возможно, как-либо испортила ему это настроение. Напустила бы на него что-то вроде чесотки или беспамятства или вовсе заставила бы отсидеть двое-трое суток в карцере для самых бестолковых, самых неумелых служанок, чтобы унизить его. Но она не стала этого делать, она решила не замечать его неожиданного самодовольства.
Вместо того чтобы как-то наказать Торла, она осмотрела десятерых оставшихся. Сначала она обратилась к Колотуну:
– Генерал, тоже можешь идти. Я удовлетворена твоей выдержкой и твоей подготовкой.
– Госпожа… – Генерал низко склонился. Кажется, он собирался спорить.
– Я сказала, что довольна тобой. – Она вспомнила, что собиралась повысить его. – Теперь под твоим началом будет весь Орден, все рыцари, послушники, оруженосцы, оружейники, интенданты и остальные, кто там у вас есть. Ты назначаешься гроссмейстером Ордена, и тебе поручается держать его, как всегда, в готовности.
– Госпожа, – теперь он спорить не хотел, – премного благодарю тебя. Я докажу, что достоин этой милости и твоего великодушия.
Вояки так просто устроены, мелькнуло в голове Джарсин, что, если их хоть немного отмечаешь, делаешь чуть выше рангом, чем прежде, они на самом деле испытывают благодарность. Колотун, пятясь задом к двери и кланяясь, вышел, не переставая бормотать благодарности. Наблюдательница осмотрела оставшихся, их было девять.
– Ванда, закрой двери. – Хранца бросилась исполнять приказание едва ли не бегом. – И принимайся за дело, теперь твой черед.
6
Джарсин обратила внимание, насколько эти жесткие, сильные мужчины были выше ее Хранительницы. Кто-то на голову, кто-то и вовсе нависал над ней, словно скала. Рыцарь из орков был, пожалуй, раза в три тяжелее и мощнее, чем ее пифия и управительница замка, а все же… Многие из них смотрели на нее со страхом, и не составляло труда догадаться, кто бы из них победил, случись им сойтись в единоборстве. Разумеется, не на мечах, не состязаясь в силе и обученности поединку, а вообще… Ванда тоже понимала это, она почти улыбалась, вот только с ее-то нелюбовью к мужчинам, к этим глыбам мяса, костей и похоти, она готова была применить самые изощренные испытания.
Впрочем, Джарсин уже догадывалась, что сделает Хранца. На этот раз она обойдется без мучительства, она собиралась проверить их иначе.
– Внимание. – Хранца даже руку подняла, чтобы все девять оставшихся мужиков смотрели на нее. – Мое испытание будет простеньким. – Она даже ухмыльнулась, возможно, чтобы поддержать их, а может быть, чтобы еще сильнее запугать.
И тогда перед внутренним взором каждого из них возник… пасьянс, обычный карточный пасьянс на две колоды, где все карты были разложены в произвольном порядке в восьми столбиках. Слева имелось шесть свободных клеток, куда можно было укладывать по одной карте, а справа были четко выражены восемь других клеточек, куда следовало уложить все восемь мастей, от туза и до короля. Это было довольно необычно, но Джарсин не спешила упрекнуть Ванду.
Она разложила пасьянс сама, вычитав его из сознания Хранцы. Все было просто, но вот какая штука – он решался единственным образом, и так легко было совершить ошибку… По сути, нужно было увидеть и понять комбинацию, где карты следовало как бы перемешать, и лишь тогда, как и было замечено Джарсин, он решался до конца. Она даже пожалела на миг этих дуболомов, потому что ни один из них, как она полагала, не был обучен такому образу мышления и, следовательно, не мог справиться с заданием. И лишь тогда она поняла…
Поняла, что делала Ванда. Она проверяла их на удачливость, на способность даже наобум, не понимая конечного результата, выбирать необходимые действия, совершать поступок, который бы несомненно, пусть и с отклонениями от оптимального варианта, все же приводил к успеху. Это было неглупо, Джарсин стала следить за тем, кто и как справляется с пасьянсом.
Один из воинов сделал несколько ходов, потом передумал, как-то сумел исправить неудачное решение и все же пошел по правильному пути. Вглядываясь в его сознание, Джарсин не видела его внешним образом, не могла оценить даже цвет его глаз, волос, кожи… Она могла видеть лишь, как ворочались его не очень плотные, какие-то порхающие мысли. Другой, восточник, думал более трудно, и мысли у него были тяжелые, словно глыбы камней, почти валуны. Но он был очень удачлив от природы, а потому медленно и в целом верно шел по правильному пути, хотя не очень-то благополучно решил один из столбиков, который выложил. У него могла быть с ним проблема, Джарсин и сама не понимала, как он теперь поступит, но вдруг у него и это ошибочное решение как-то разрешилось, да, удача была на его стороне.
Третий тоже решил свое задание, и даже еще точнее, чем прочие. Джарсин подумала, что он как-то сжульничал, но, оказывается, Ванда предусмотрела и это. Она даже оглянулась на свою Госпожу, но та не протестовала, и Ванда успокоилась. Она была по-прежнему настроена против этих смертных, она почти ненавидела их, но достоинства каждого проявились в этом задании с наглядностью, которая Джарсин понравилась. Решение нашли четверо. И к ним следовало приглядеться особо. Джарсин даже порадовалась, что у нее есть теперь четверо проверенных слуг, которые, возможно, и вправду выполнят то, что она была намерена им поручить. Наконец все стало понятно.
Джарсин избавилась от внутреннего взгляда в сознание этих существ и посмотрела на них внешне. Они были характерными личностями.
Один был на четверть гоблином, на четверть орком, но основой ему служила кровь южных людей или восточных карликов, хотя такое сочетание встречалось очень редко. Впрочем, подумала Джарсин, если орки предпочитают людей поедать, то гоблины иногда воруют человеческих женщин, а бывает, что и оставляют их у себя. Она даже читала когда-то в юности одну почти любовно-эротическую сагу, где некая некрасивая в людском понимании женщина сама пришла в племя гоблинов и нашла там себе мужа, разумеется оставаясь младшей женой в его семье, но все же женой, со всеми правами дележки пищи за столом, крова от непогоды и постели для утех.
Другой был очень сильным на вид демоником с голубоватой, светящейся, как у этих существ часто бывает, кожей. Иногда, как слышала Джарсин, эти смертные умели летать, правда, не высоко и лишь в юности, пока не отяжелеют от прожитых лет. Но в старости у самых умных из них возникала другая особенность: они могли мгновенно переноситься в другое место, что было очень выгодно в схватке с несколькими противниками. Самые продвинутые из них умели перескакивать таким образом шагов на двадцать или двадцать пять, но и прыжок в три-четыре шага считался неплохим результатом. В лице этого демоника, чем-то похожем на морду очень умной и безволосой собаки, читалась обычно несвойственная собакам жестокость.
А вот третий был чистым человеком, удивительно сохранившим особенности своей породы и расы. Даже кожа у него вокруг глаз собралась в морщинки, как бывает с людьми, и лоб от передуманных мыслей сделался морщинистым, и еще пара шрамов у него имелась, должно быть из-за чрезмерной для воина нежности кожи. Но несмотря на то что он принадлежал к самой слабой, по мнению Джарсин, породе смертных, он все же справился с заданиями, и его следовало принимать в расчет. Впрочем, решила Наблюдательница, если она все же решит задействовать только троих, а не четверых своих вояк, именно человека она отошлет в казармы. Не нужен он ей, не хочет она, чтобы он участвовал в ее деле, пусть и прошел испытания.
Четвертый имел в своих жилах немалое количество крови эльфов, но изрядно разбавленной северными, светлыми птицоидами. Это выдавалось в нем густой, русой щетиной на щеках, похожей на легкие перья, таким же странным пухом, покрывающим его остроконечные уши, и сильной нижней челюстью, которой, кажется, можно было колоть кокосовые орехи, превращающей нижнюю часть его лица в подобие клюва. К тому же на руках у него было четыре пальца, которые хоть и сохранили присущую эльфам тонкость, подвижность и чувствительность, но были на редкость сильными, жесткими и оканчивались едва ли не настоящими когтями, как у хищного орла или грифа-падальщика.
Джарсин так увлеклась разглядыванием отобранных четырех рыцарей, что не заметила, как Ванда удалила из зала остальных. Отметив это, Наблюдательница решила продолжать, своим низким для женщины, даже грубоватым голосом она сказала:
– Так, милостивые государи… Теперь представьтесь.
Вперед выступил тот гоблино-орк, которого Джарсин рассматривала первым.
– Меня называют Сухром од-Фасх Переим, Госпожа. – Он склонился в таком глубоком, таком долгом поклоне, что Джарсин даже решила, что он туповат или медлителен, но она помнила, что удача была на его стороне, а потому ждала.
Когда Сухром и как-то там его дальше все же сделал шаг назад, не разгибаясь, выступил северянин-птицоид:
– Оле-Лех Покров, моя Госпожа, к твоим услугам всегда и до смерти. – Он с заметным озорством блеснул глазами. – Еще в казарме меня величают Четырехпалым.
– Иначе быть не может, – кивнула Джарсин Наблюдательница и перевела взгляд на демоника.
– Шоф, Госпожа Верхнего и Нижнего миров, – не сходя с места, представился голубоватый и очень странный рыцарь ее Ордена. – Прозвища не имею, а то, как меня называли в моем племени, не может выговорить ни один из этих… – Он чуть покосился на сослуживцев.
– Понимаю, – кивнула Джарсин. – Вот только у нас-то, как правило, одним именем кличут только слуг.
– Мы все твои слуги, Госпожа. – Он все же склонился в поклоне.
Надменен, решила Джарсин, держится особняком, и именно у него оказалось то самое порхающее мышление, наверное, он и не может иначе, потому что ни к чему не привязан или даже склонен к неверности… Забавно. Она жестко, оценивающе посмотрела на человека. Тот сразу же поклонился:
– Фран Термис Соль, Госпожа моя… Хотя некоторым мое прозвище не нравится.
– Любопытно, рыцарь. – Джарсин было действительно любопытно. – А кто-нибудь объяснял, почему тебя так прозвали?
– У него очень соленый пот, который выступает во время тренировок в изобилии, – чуть насмешливо проговорил Оле-Лех. – И кровь у него имеет солоноватый привкус, впрочем, как у всех людей, Госпожа.
Они над ним привычно насмехаются, решила Джарсин. Но чему тут удивляться, ведь он, несомненно, самый слабый из них. И легко потеет к тому же… На тренировках. И все же она решила спросить:
– Соленый пот… И как вы это почувствовали?
– Во время рукопашного тренинга, – сказал демоник Шоф, – после захватов на наших руках его… жидкость остается, Госпожа. А вот кровь, конечно, попадает на язык при укусах. – Он все же чуть смутился. – У нас бывают очень упорные тренировки по рукопашному бою, Госпожа.
– И довольно жестокие с точки зрения классической борьбы, не так ли?
– У него вообще, – почти пробасил гоблино-орк Сухром с длинным именем, – очень быстро синяки появляются. Чуть сожмешь его, Госпожа, – он уже… чуть не весь лиловый.
– Тебе, как я понимаю, здорово достается от них, Фран Соль, – сказала Джарсин. – А вообще-то я удивлена, что среди моих рыцарей есть человек, почти без примеси крови Старших рас.
– Я умею сражаться, Госпожа, не хуже прочих. Пусть и в синяках, но часто остаюсь победителем.
– Правда? Никогда бы не подумала. Хотя иначе бы тебя тут не было. – Она помолчала и продолжила: – А теперь, рыцари мои, я скажу вам, что от вас требуется…
И вдруг вперед выступил Кнет. Он склонился перед Джарсин в низком, но вовсе не шутовском поклоне и сказал голосом, дрогнувшим от волнения:
– А как же мое испытание, Госпожа? Ты дала возможность Торлу и Ванде доказать свою преданность тебе, но ведь и мне нужно предоставить шанс.
– Тебе? – удивилась Джарси. – Кнет, это вовсе не игра, не шутовство…
– Я понимаю, Госпожа моя. – Шут снова склонился. – Я умоляю тебя… Если тебе не понравится, ты всегда можешь прервать мое испытание этих… Четырех достойнейших рыцарей.
Джарсин была действительно удивлена, это было настолько необычное ощущение, что она согласно кивнула:
– Хорошо, посмотрим, что ты придумал, шут.
И тогда Кнет обернулся к четырем рыцарям.
– Просто смотрите на меня, милостивые государи, – сказал он. – И думайте, как умеете, как получится. – Все же не мог он без подначек.
И вдруг стал, не сходя с места, почти не делая движений, изображать… Да, изображать смертных, во всем множестве рас, видов, пород и внешностей. Это было так неожиданно для испытуемых, что они… Да, решила Джарсин, они увлеклись. Лишь для нее в том, что делал Кнет, не было ничего удивительного, она привыкла к этому его умению, едва ли не мастерству, если бывает хоть гран мастерства в лицедействе, в чем она определенно сомневалась.
А Кнет, ее шут и дурак, вдруг стал представлять смертных, и ему это почему-то тоже нравилось… Он становился острым и злым гоблином, высокородным и пафосным эльфом, крохотным гномом или трудолюбивым и бородатым карликом, тяжелым и мощным циклопом или мечтающим о полетах тархом, то есть птицоидом, становился почти настоящим демоником или вдруг оказался человеком с хрупкими костями и с необъяснимой склонностью к синякам… Определенно, ему это понравилось.
Джарсин снова стала смотреть в сознание рыцарей, почти в их души, в их существо. Фран Соль откровенно любовался, едва ли не восхищался, у него не возникало никакого протеста против того, что делал шут, наоборот, ему хотелось продлить забаву. Гоблино-орк Сухром Переим оторопел, но ослушаться даже шута в этом замке не осмеливался, раз уж на его трюки согласилась Госпожа, а потому честно и прямо пробовал понять, что это значит. Не зря ему дали такое прозвище, решила Джарсин, он тяжеловат на подъем, едва ли не тугодум, всегда следует за другими, и если бы не его удачливость… Оле-Лех эльфо-птицоид откровенно посмеивался, ему вообще очень нравилось быть веселым, насмешливым, шутливым. Он бы без труда сговорился с Кнетом и, не исключено, научил бы его новым шуткам, да и сам бы позаимствовал кое-что из его шутовского арсенала. А вот демоник Шоф был угрюм и спокоен. Он не сразу выделил основные эмоции, но, когда все же нашел их, Джарсин почти с радостью и удовольствием заметила – он ненавидел все то, что ему показывал шут. Он хотел бы только одного – стереть это, уничтожить все создания, которые демонстрировал Кнет, он мог бы с удовольствием пытать и мучить всех этих эльфов, людишек, орков… Он был бы рад их мучению.
И тогда Джарсин поняла, что именно он обрадовался их первому испытанию и именно он восхитился пережитой болью. А еще она поняла, почему даже во время тренировочных рукопашных боев он кусал этого человечишку Франа Соль… Впрочем, многие из ее солдат были, без сомнения, так далеки от человеческих слабостей, что кусали его едва ли не в насмешку, к тому же, наверное, это здорово помогало им в тренировочных поединках против Франа.
– Хватит, – приказала Джарсин жестко. – Довольно, Кнет.
Шут остановился не сразу, он еще по инерции что-то представлял, вызывал в сознании своем и четырех рыцарей, наблюдающих за ним, разные впечатления, еще собирался добавить какие-то новые краски или эффекты, но все же… остановился, замер, потоптался, мигом сделавшись неловким и донельзя уязвимым, склонился, отступил, снова поклонился.
Он тоже увидел все, что Джарсин поняла о своих солдатах посредством высочайшей магической выучки, вот только как-то по-своему, минуя магию, другим образом, о котором Наблюдательница не знала почти ничего. Но теперь у него было довольно полное понимание этих рыцарей, точное и верное представление о том, как будут действовать все эти четыре рыцаря, исполняя ее задание. И он отчетливо не одобрял демоника.
А он все же молодец, подумала Джарсин про голубокожего, нужно будет его оставить при себе, поручить ему выучить анатомию разных смертных получше, чтобы он умел их беспощаднее пытать, и тогда… Нет, пусть пока просто поживет в замке, там решим, что он умеет лучше – сражаться или ненавидеть.
Для нее сильная, безудержная ненависть в ком-то другом, а не в ней самой была такой ценной и действительно редкой, удачной находкой, что она едва ли не восхитилась Шофом… Если бы умела восхищаться кем-либо другим, а не собой и своим магическим умением.
– Шоф просто, как ты представился, – она все же чуть улыбнулась собственному остроумию, – ты можешь идти. Недалеко… Отныне ты будешь жить в замке, там придумаем, чем ты займешься, что у тебя будет лучше получаться. Пока же оставайся поблизости, чтобы я могла тебя в любой момент позвать. Ты понял? Я могу позвать тебя в любой момент.
– Я понял, моя Госпожа. – Демоник снова стал раскланиваться, в его сознании резко и отчетливо разгорелась зависть к этим троим, которые оставались с ней, с Джарсин Наблюдательницей, и она собиралась сообщить им что-то, чего он, может быть, не узнает. – Я только хочу добавить, что тоже предан тебе и хотел бы участвовать в деле, ради которого ты вызвала нас сюда и ради которого испытала…
– Уймись, Шоф, сейчас у меня нет для тебя времени. – Она все же смягчилась, он явно не привык, чтобы с ним так обращались, ничего, придет время – научится. – Твои вещи должны быть в замке к исходу дня. Кто-нибудь из старших слуг покажет тебе комнату, где ты теперь станешь жить. Пока – все, иди обустраивайся.
Демоник снова поклонился, слегка растерянно, что не укрылось от впечатлительного шута, да и остальных тоже, вышел, осторожно прикрыв за собой двери. Тогда Джарсин потянулась в своем кресле, словно сытая кошка, и сказала голосом, который зазвучал, словно сильная труба, которым в прежние годы магических войн, случалось, она разрушала крепостные стены:
– А теперь, смертные, я скажу вам, что от вас требуется. И прошу понять, что малейшее невыполнение моего приказа или даже тень подозрения, что кто-либо из вас выполняет его ненадлежащим образом, тут же приведет к вашему устранению… Разумеется, в таком виде, чтобы провинившийся уже никогда не мог вызвать моего неудовольствия и чтобы он никому не сумел выдать то, что он здесь узнает.
Трое рыцарей поклонились, понимая, что другого пути, кроме подчинения ей, Джарсин Наблюдательнице, и исполнения того, что она задумала, у них уже нет.
7
Пока они втроем ехали по длиннющему мосту, который соединял замок Наблюдательницы и остальную землю, все помалкивали. Тем более что за ними следовала замковая стража на расстоянии шагов тридцати, но и через это расстоянии их можно было отлично услышать… Мост этот был их зоной ответственности, поэтому протестовать или даже удивляться было бы бессмысленно. Хотя Сухром и заворчал пару раз, оглядываясь. Но при этом ему приходилось немного разворачивать и своего коня, а это делало его маневры опасными, потому что мост не имел парапета, а так как ехали они в ряд, то других отжимало к пропасти. Наконец Оле-Лех не выдержал:
– Сухром, спокойнее, старина.
У него в задумчивости возникала вот такая неумеренная дружелюбность, но лишь внешне. Фран, да и сам Сухром, отлично знали вспыльчивый характер этого… гм… брата по Ордену, знали его манеру напуститься на любого чуть не с оружием, если ему что-то не нравилось. Поэтому Сухром отозвался:
– А чего они?..
– Оставь, все равно это на них впечатления не произведет, а нам… – Фран не договорил.
Он хотел добавить, что это может осложнить ситуацию, но понял, что зря, куда уж больше осложнять то положение, в котором они оказались после полученного приказа? Кажется, больше уж некуда… Или все же есть? Или еще будет?
– Не о том нужно думать, – все же досказал Оле-Лех.
Оба других рыцаря согласно промолчали. Они съехали с моста, копыта их коней перестали так невыносимо звонко греметь над тусклой, серой пропастью. Звуки на этом мосту вообще раздавались излишне резко и отчетливо, это была всем известная особенность, чтобы никто, даже самый тренированный смельчак, не мог, предположим, пробраться в замок по мосту по обратной, обращенной вниз стороне.
Стражники Наблюдательницы остались у каменной кромки, дальше рыцари поехали по дороге, впрочем тоже вымощенной плоскими булыжниками, в сторону Слободы. В ней обитало немало народу, разумеется, самого разного. Да настолько немало, что в любой другой стране это скопление домов и прочих строений считали бы городом, лишь тут, где все было неумеренным – либо чрезмерно большим, либо изрядно мелким, – городок этот назывался Слободой.
Орденцы, еще ранее высланные из замка, тут и собрались, в трактире, который встречал всех, кто съезжал с моста, на главной слободской улице, перед небольшой площадью с фонтаном. Их кони топтались у древней, изъеденной ветрами и дождями коновязи, над которой чуть покачивалась на ржавых кольцах дощатая вывеска, изображающая пару рыцарей в белых и черных старинных доспехах, скрестивших свои огромные мечи. Трактир называли по-разному, кто величал его «Два рыцаря», кто – «Бело-черным», кто – «Под крестиком», а кто и просто – «Два дурака», уж очень заметно случалось тут иным орденцам нагрузиться вином и бренди, коротая в общем-то немногие при их службе часы ничегонеделания. Перед трактиром стоял кто-то из рыцарских слуг или оруженосцев, он заметил подъезжающую троицу и тут же умчался внутрь, чтобы доложить своему господину.
– Вообще-то обдумать это дело нужно, – вздохнул Оле-Лех. – Между собой-то нам секретничать ни к чему, верно?
– Я остановился дальше по улице, – сказал Сухром. И добавил, чтобы другим тоже стала понятна его мысль: – Не в этом трактире.
В Нижнем мире когда-то он был сыном очень богатых родителей и здесь тоже проживал не только на деньги, которые выплачивались рыцарям за службу. Собственно, о его богатстве ходили байки не только среди солдат, но и среди рыцарей, которые тоже в часы безделья любили почесать языками. Рассказывали также и о его скуповатости, которая проявлялась самым неожиданным образом.
– Да, секретность, сдержанность, молчание… – протянул со вздохом Фран. – Это было ее главным условием. – Внезапно он оглянулся на замок. – Кстати, вы не чувствуете, она, кажется, следит за нами?
– Я не ощущаю, – помолчав, проговорил Сухром. – Это ты у нас такой чувствительный.
– Сдается мне, теперь мы все время будем у нее под наблюдением, – отозвался Оле-Лех. – Теперь Госпожа нас не выпустит… Или не отпустит.
Из «Двух рыцарей» высыпало немало других орденцев, которые решили посмотреть на тех, кто оставался в замке дольше других. Один из них, огр, спросил, едва разжимая челюсти, которыми он мог, кажется, жевать камни:
– А где же Шоф?
Трое рыцарей ничего ему не ответили, это был нелепый вопрос. Раз уж Госпожа решила его оставить в замке, так это и следовало принять, без вопросов. Но этого почти никто и не заметил, потому что случилось другое. Новый гроссмейстер Ордена Колотун вышел вперед и, кивнув, проговорил:
– Мне приказано следовать вашим распоряжениям, братья. – Он был, кажется, все еще чуть расстроен, что госпожа Джарсин не выбрала его для своего задания, а потому развел руками. – Готов исполнить пожелания любого из вас.
– Мы знаем, – кивнул Фран. – Нам все же требуется передохнуть… Калмет здесь?
Калемиатвель, или в просторечии Калмет, был слугой и оруженосцем Франа, он должен был поджидать своего господина как раз в этом трактире, за столом для оруженосцев. Вперед протолкался Калмет, странный паренек, почти чистокровный эльф на редкость для этого племени небольшого росточка, который единственный из всех орденских оруженосцев ходил в килте и презирал даже самые легкие доспехи, предпочитая старинную кольчугу из очень светлой стали. Еще у него на широком поясе всегда висел мешочек из оленьей замши, в котором он носил свое имущество. На ходу он пробовал натянуть на голову полукруглый шлем с пластинами, закрывающими по бокам его скулы и длинную шею почти до плеч, с переносьем, спускающимся ото лба чуть не до губ.
– Я здесь, господин.
– Расплатись, захвати мои доспехи и вещички, следуй за нами, – приказал Фран. – Да, попутно найди слуг этих… благородных рыцарей.
– И передай, что они нам нужны, – буркнул Сухром.
– Иди уж, – толкнул оруженосца в плечо Колотун. – Я послежу, чтобы трактирщик не посчитал вас должниками. И за слугами благородных рыцарей пошлю кого-нибудь, освобожу уж тебя от этого поручения.
Калмет быстро поклонился, благодаря, и побежал в трактирную конюшню к своему коню и второму коню Франа, на котором тот приволок свои доспехи и пожитки в тюках.
Гостиница, в которой остановился Сухром, была куда лучше трактира, где рыцари собрались после вызова в замок. Тут были даже отдельные укромные комнатки, в которых можно было обсудить разные свои дела, не опасаясь чужих ушей, разумеется не считая магической слежки. Хотя местная хозяйка, тощая и какая-то темнокожая девица уже весьма преклонных лет, утверждала обратное, полагая, что те несколько талеров, которые она заплатила какому-то ярмарочному шаману, надежно оградили ее заведение даже от магии. Шаман этот, разумеется, сделал все, что умел, чтобы навести на гостиницу завесу непроницаемости, но поверили в это немногие, если вообще хоть кто-то поверил.
Встретив трех рыцарей на пороге, она все сразу поняла каким-то таинственным чутьем, свойственным лишь преуспевающим содержателям подобных заведений, провела гостей именно в такую комнату, где стоял большой стол, и тут же стала выговаривать шепотом девицам, чтобы те подали блюда с подходящей для каждого из рыцарей пищей, побольше вина и всего прочего. Сухром и Оле-Лех держались отстраненно, лишь Фран, мельком оглядев помещение, попросил:
– Свечей, хозяйка, да побольше.
– Будет исполнено, мой господин.
Свечи появились почти сразу, как и еда. И с ней хозяйка расстаралась, Сухрому подали мясо, едва-едва обжаренное на вертеле, Оле-Леху достался отличный салатец, сложенный, кажется, из двух десятков разного рода овощей и даже фруктов, редких в Верхнем мире, а также сыры нескольких сортов и чуть солоноватое, светлое вино, сделанное из березового сока, а Франу принесли горшочек неплохого рагу из баранины с грибами, тушенными под сметанкой. Для него и Сухрома также подали тягучее, крепкое вино и вино легкое, чуть розоватое, с запахом вереска.
Все трое расселись молча, каждый сосредоточенно подвинул к себе свою тарелку, налили винца в тяжкие оловянные кубки, Оле-Лех добавил в свой кубок воды, поболтал, чтобы размешать напиток, и выпил не отрываясь. Оказывается, он хотел пить, потом налил еще, но водой больше не разбавлял.
Они посмотрели друг на друга, даже не изучающе, а просто… Прежде они мало знали друг друга, и то, что оказались в одной команде, обернулось для них неожиданностью. Сухром так и сказал.
– Ерунда, – махнул рукой Оле-Лех, – это ненадолго. Госпожа приказала отправляться в путь не мешкая. А это значит…
– Сразу, как только прибудет то самое, на чем нам приказано ехать. Или лететь, – добавил Сухром и вздохнул. – Мне-то дальше вас придется забраться.
– Тебе выпало, – кивнул Фран, – отправиться на восток, в земли… Кажется, они находятся под покровительством Марсии Клин и Сары Хохот.
– Знаю. Вот только ходят про них не очень-то обнадеживающие слухи. Как архимагички они обе немногим уступают нашей Госпоже, а вот характером… И притом следует, как приказано Госпожой, соблюдать таинственность и незаметность. Что бы это значило, а?
– Легче всего, кажется, пришлось мне. Я отправляюсь на север. – Оле-Лех поскреб свою похожую на легкие перья щетину. – А там хозяйствует Рош Скрижаль, как сказывают, книгочей и любитель тишины. Правда, еще есть Нора Поток, а это значит, придется забрести в такие дикие места, где и леса нет… Почти до тундры придется дойти. – Он снова выпил и скривился, долил из стеклянного кувшина в свой кубок бренди, хлебнул уже с удовольствием. – Надо будет здесь запастись этим пойлом, там не достанешь такого ни за какие деньги. – Он посмотрел на Франа. – Но хуже всего придется тебе, друг. Тебе отправляться в самые горячие земли, к Вильтону Песку и Августу Облако. Вильтон всем известный некромант, а про Августа вообще ничего не известно.
– Это может оказаться или очень хорошо, или очень плохо. Вдруг Облако всех, кто в его земли забредает без спроса, в соляные столбы обращает?
– Пугаться-то заранее не следует, – сказал Сухром философски.
Они помолчали, Оле-Лех полез во внутренний карман своего колета, в котором явился на вызов Госпожи, и вытащил мешочек из замши. Вытряхнул из него еще три мешочка поменьше, из одного вытащил странный, причудливый медальон, украшенный камнем с ноготь взрослого человека, играющий в своей глубине ярким фиолетовым отблеском.
– Она еще сказала, что нам следует найти тех… исполнителей, которых мы должны уговорить следовать с нами, как этот вот камешек захочет. И как же это произойдет?
– Вообще-то Госпожа сказала, что поможет медальон, а не камень, – поправил его Сухром.
– Никакой разницы не вижу.
– Не скажи.
Доели, и вряд ли кто-либо из них вообще почувствовал вкус еды, как ни старательно и умело она была приготовлена. Фран тоже выпил светлое вино, налил темного, тоже не понравилось, выплеснул под стол. Налил немного бренди, вот его он стал пробовать, причмокивая.
– Хорошо задание – пойди, не зная куда, найди, не знаю кого… Которые найдут то, чего не знает никто.
– Это не обсуждается, – ответил Франу восточник, нахмурившись. Чувствовалось, что теперь эти оба… компаньона тяготили его.
– Разумеется, – согласился Фран-человек. – Вот только как же этих смертных искать-то? – Он помолчал. – И что значит – найти именно тех, в ком есть искра такого же цвета, что в камне светится?
Не сговариваясь, он и Сухром тоже достали по три медальона. У Сухрома были камни синий, красный и очень светлый, почти бесцветный, с оранжевым отсветом. У Франа в медальонах оказались желтый, очень большой, неприметный серенький, едва ли не как галька на берегу моря, величиной с семечку подсолнечника, похожий даже формой, и коричневатый, кажущийся мягким и совершенно неприглядным. Даже серый камешек, по сравнению с этим коричневым, представлялся чуть ли не благородным.
– И что же в них такое содержится? – решил выразить свое недоумение Сухром.
– Магия, брат, – ответил Оле-Лех.
Он тоже разложил свои медальоны, приглядываясь к ним недоверчиво и в то же время благоговейно. Помимо фиолетового камня в его медальонах имелись зеленый изумруд и голубой топаз. Хотя и от этих благородных камней те, что были вставлены в его медальоны, отличались изрядно. Они были… более яркими, насыщенными некоей силой, казались едва ли не горячими.
– Меня еще вот что озадачило, – продолжил Оле-Лех, снова почесав свою щетину, при этом возникало впечатление, что растительностью этой он изрядно гордится. – Что значат слова Госпожи, мол, если кто-либо из нас не справится, она пошлет других? И притом помогать не станет, иначе это будет очень заметно другим архимагам?
– Да то и значит, что она сказала. Чего ты не понимаешь? – Фран спрятал медальоны, как и Оле-Лех, в нагрудный карман своего длинноватого белоснежного доломана.
– Мы все сами должны решать, вот что, – добавил Сухром, поглядывая на двери. Он определенно ждал своего слугу. – Я расстроился не от этого. А потому, что с собой следует брать только по одному слуге. Как это можно – в дальнем путешествии, почти в походе пользоваться только одним прислужником? В голове не укладывается…
– А у меня всегда один, – пожал плечами Фран, – я привык. Да и справляется мой Калемиатвель, знаете ли, забот у него не слишком много.
– Так то – ты, а я же… – Сухром даже голову повесил, расстроившись. Проговорил, глядя в тарелку с остатками мяса и потеками красного сока: – Что же, я все должен сам делать, так получается?
И словно бы в ответ на его вопросы в комнату осторожно, стараясь не шуметь, вошли трое их оруженосцев и слуг. Их привел все тот же Калемиатвель, который даже немного запыхался, выполняя распоряжение Франа. Он открыл было рот, чтобы доложить, что все исполнено, но посмотрел, как рыцари сидят за столом, и отошел в сторону.
– Датыр, лисий сын, почему тебя не оказалось в «Двух рыцарях»? Ты же должен был там ожидать меня.
– Господин… – Слуга согнулся в несколько преувеличенном поклоне. Когда он выпрямился, стало ясно, что про себя он посмеивается и ничуть не боится суровости Сухрома.
Он был уже пожилым, и возраст сгладил едва ли не все черты, свойственные ему от рождения и предков. В чем-то он был даже более похож на человека, чем это удавалось иным людям. У него были длинные, серые от седины волосы, забранные в длинную косу, которую он иногда свободно запихивал за пояс. Сказывали, что когда-то он был отличным бойцом, но в какой-то осаде, которую уже никто не помнил, получил три стрелы в грудь и живот, чудом выжил и с тех пор поединщиком был не самым выносливым. Про него также ходили слухи, что на короткое время, примерно на четверть минуты, он умел таинственным образом омолаживаться и начинал биться едва ли не лучше, чем умеют голубокожие демоники. К тому же у него в этом измененном состоянии был невероятно сильный удар, как-то он кулаком перешиб ствол бамбука с ногу мужчины толщиной, это Фран сам видел, хотя и не очень-то поверил – трюк этот вполне мог оказаться одной из восточных иллюзий, фокусом, а не боевым мастерством.
Разговаривал Датыр мало, ходили слухи, что он понимает желания и мысли Сухрома без слов. Вот и сейчас он ограничился всего лишь одним словом, которое означало и обращение к его рыцарственному повелителю, и просьбу о прощении, и вопрос, не нужно ли чего еще, помимо того что он явился сюда.
– Ты должен, как и слуга Франа, приготовить мои пожитки, негодяй, – уже потише, хотя по-прежнему сердито, стал распоряжаться Сухром. – Мы отправляемся… В общем, мы уезжаем, по распоряжению Госпожи, понимаешь? И мне наказано взять всего одного из слуг, поэтому я возьму тебя, остальных можешь отослать в казармы. Да, не забудь запастись едой, вином, одеждой… И всем прочим, что мне может понадобиться. – Оказалось, что не только слуга понимал Сухрома без слов, но и Датыр умел объяснить что-то своему господину незаметно для остальных, потому что рыцарь вдруг спросил, глядя на слугу: – Что не так?
– Деньги, господин.
– Ах деньги. Ну ты там поторгуйся, может, сбросят свою цену.
Сухром все же неохотно полез в небольшой кармашек, сделанный в его широком кожаном поясе, и вытащил горсть серебра и пару золотых. Золото он тут же попробовал спрятать в кулаке, хотя и не очень удачно. Датыр взял серебро, взвесил на ладони и остался стоять на месте.
– Что такое? Думаешь, не хватит? – Сухром нахмурился. – Что?! – уже почти с мукой в голосе возопил восточник. – За наш постой тут заплатит Орден, Колотун определенно высказался…
– Нужно заплатить слугам.
– Думаете, у меня монетный двор султана Ахтиапаба? Или полагаете, что служба рыцаря приносит несметные доходы, от которых не знаешь как избавиться?
Вдруг Сухром посмотрел на двух других рыцарей, сидящих с ним за столом, и молча достал большие золотые монеты, но уже из другого кармашка, который находился в голенище его невысоких сапог. Молча положил их на стол и проводил взглядом, когда Датыр неторопливо сгребал их ладонью. Потом слуга поклонился и сказал, перед тем как уйти:
– Через полчаса, господин, все будет готово.
Когда Датыр вышел, Оле-Лех посмотрел на своего Тальду:
– Ты понял?
Тальда был очень сильным, мощным, большим, просто огромным темнокожим орком. Может быть, в нем была и какая-то другая кровь, но внешность этого племени перебила все остальные признаки его предков. Любимым его развлечением было поднимать камни и бревна, которые он потом с удовольствием забрасывал подальше. К Оле-Леху он относился с большим почтением, полагая, что тот всегда высказывает несомненную истину.
– Что? – переспросил он. – Что я должен понять, сахиб?
Голосок у него был нежным, певучим, едва ли не детским, что было странно для такого существа. Но всем было известно, что это – прием маскировки, при желании он умел рычать не хуже самого отпетого орочьего дикаря.
– Мы отправляемся в поход, Тальда, – стал объяснять рыцарь. – И ты должен к нему как следует подготовиться.
– Это слишком общее распоряжение, сахиб. Что я должен делать? – снова едва ли не по-девичьи пропел Тальда, наморщив свой лобешник.
– Еще раз, мы отправляемся в поход, – повторил Оле-Лех. – Поэтому ты должен сделать следующее…
А Фран отвлекся. Он снова налил себе бренди и подумал, что идея Оле-Леха запастись этим напитком здесь не лишена разумности. Вот только денег у него было маловато, но Госпожа сказала, что они получат деньги из ее казны, как и средства передвижения. Вот только что из этого выйдет, когда они перейдут в Нижний мир, он не знал.
Как и никто толком не знал. Бывало, что деньги тут, в Верхнем мире, превращались там в какую-то грязную глину, а отличное вино оборачивалось уксусом. И даже они сами, создания разной природы здесь, становились там… неизвестно кем. Такое при переходе в Нижний мир случалось сплошь и рядом. Зато всегда оставалась надежда, что очень-то существенно ни они сами, ни вещи, с которыми они отправятся туда, не изменятся. Такое тоже частенько происходило. Да, надежда все же оставалась, и приходилось положиться на нее… Согласно полученному распоряжению Госпожи.
8
Первым в путь отправился Сухром. Откуда-то сверху, из той самой серой хмари, которая заменяла в Верхнем мире небо и которой так много внимания уделяла Джарсин Наблюдательница, спустился летучий корабль. Он был красив, хотя изящный и небольшой его корпус висел под странного вида раздутым баллоном. Местные обыватели и раньше видели этот корабль, но нечасто, а потому выбежали на улицы и площади, чтобы получше рассмотреть эдакое диво. Но по мере того как вся эта странно невесомая машина, от которой к тому же веяло несомненной магией, снижалась и замедляла ход, все начинали неуверенно переглядываться, и скоро на улицах не осталось любопытных. Вероятно, они все же следили за тем, что происходит, но осторожно, незаметно, исподволь – интерес к делам Госпожи был слишком рискованным делом, чтобы об этом забыть из-за пустого любопытства.
Корабль завис над главной площадью Слободы, перед собором Джарсин Бело-Черной, и с него кто-то выкинул веревочную лестницу. Она была так длинна, что корабль оставался футах в ста выше шпиля собора. При этом причудливые крылья его взмахивали, удерживая судно на одном месте. Все же вверху гулял ветер, и вот чтобы этот ветер перебарывать, кто-то и отрабатывал корабельными крыльями. И все равно лестница, сброшенная сверху, моталась чуть не по всей площади, пока не зацепилась за непонятную фигуру, украшающую фонтан.
Трое рыцарей со своими оруженосцами во время этих маневров летающего корабля стояли у ворот гостиницы и, задрав головы, как и зеваки незадолго до этого, смотрели вверх. Сухром сказал:
– Наверное, это за мной… Я так думаю. Все же мне дальше всех путешествовать.
– Может, и за мной, – отозвался Оле-Лех. Ему корабль отчетливо понравился, он был не против подняться на борт удивтельного сооружения и отправиться на север, согласно приказу.
По лесенке сноровисто стал спускаться некто в овчинной короткой куртке, когда он прополз половину лестницы, Фран ахнул:
– Тарх, настоящий тарх, разрази меня гром!
– Я не очень-то их жалую, – отозвался внезапно Оле-Лех. – Они со мной почему-то все время ссорятся, приходится пускать в ход кулаки, а у них кости хрупкие, одному я не то что челюсть повредил, но и что-то в шее сдвинул, он потом со мной больше и не разговаривал вовсе.
– Ты же сам из их породы, – покосился на северянина Сухром.
– В том-то и дело, что у меня отдаленное с ними родство, а они презирают тех, кто как бы из их племени, но у кого нет крыльев. – Он помолчал, наблюдая за тархом с корабля. – Вы замечали, что сложнее всего приходится с теми, к кому мы отчетливо принадлежим по роду, но кем не являемся?
– Да, – согласился Сухром, – мне с гоблинами и орками тоже не всегда договориться удавалось. К тому же орки сильнее меня и знаешь как дерутся? Пока меч не вытащишь, ни за что не уступят.
– Даже поговорка есть, – поддакнул им Фран, – упрямый как орк.
– Настоящие упрямцы как раз огры, но орки от них как-то происходят, вот и остались у них такие вот… характерные особенности, – вздохнул Сухром. Он вообще после возвращения из замка Госпожи часто выздыхал.
Тарх спустился, с опаской, застыв лицом и одеревенев телом, ступил в воду фонтана, добрался до края, легко спрыгнул. Оглянулся, дошел до стоящих в дверях гостиницы рыцарей, вытянулся, как хорошо школенный солдат.
– Позволено ли мне будет представиться?.. Виль, капитан этого корабля, именуемого «Раскат», имею честь пригласить рыцаря Сухрома Переима для путешествия, в которое он должен отправиться.
– Наверное, заучил речь, – шепнул Франу на ухо Оле-Лех.
Слова капитана «Раската» и впрямь звучали старательно, возможно, северянин был прав.
– Это я, – прогудел Сухром.
– Твои пожитки следует привязать к веревке, мы их поднимем. Но на корабль тебе придется взойти самому, по лестнице. – Капитан Виль оглянулся. – Мне приказано забрать еще и слугу благородного рыцаря.
Он все же умел говорить, вот только странновато и совсем не так, как привыкли рыцари. По его произношению и даже в конструкции фраз что-то свидетельствовало, что говорит иностранец, у которого иной родной язык.
– Датыр, – протяжно позвал Сухром, обернувшись. – Похоже, мы отбываем.
Пока Сухром, а за ним и оруженосец Датыр неуклюже поднимались по веревочной лестнице, по которой до этого легко, без малейшей задержки взлетел капитан Виль, Оле-Лех покатывался со смеху. Его развеселило и то, как Сухром ругался, промочив ноги в фонтане, и то, как он чуть не свалился пару раз с неровно бьющейся лесенки. И несмотря на высоту, которая, как почему-то казалось, должна была отдалять все звуки, ругань Сухрома разносилась по всей площади.
– Отродье Нижнего мира, презренные собаки, вы можете держать эту штуку потверже?! – орал он. – Если даже я, рыцарь Ордена Бело-Черной, не умею забраться к вам, то как же приходится остальным?! Вы что же, не могли поднять меня, как и мои доспехи?
Тюки рыцаря, как и его доспехи, собранные и уложенные в компактную связку, действительно были легко вздернуты вверх, и хотя раскачивались еще сильнее лестницы, но достигли корабля благополучно.
А потом все как-то быстро кончилось. Калмет с Тальдой отцепили по распоряжению капитана Виля лестницу от статуи над фонтаном, ее быстренько смотали, и под утихающую ругань Сухрома корабль «Раскат» стал уходить широким полукругом куда-то в сторону северных гор, набирая высоту.
– Жаль, не я на нем улетел, – высказался Оле-Лех. – Мне бы понравилось.
– А ты все равно готовься, – ответил ему Фран. – Долго скучать тут Госпожа нас не заставит.
– Верно, – кивнул северянин.
Они вернулись в гостиницу и пошли в комнату, где обедали перед приходом летучего корабля. Оле-Лех тем временем продолжал размышлять вслух:
– Меня что удивляет – корабль этот принадлежит самой Госпоже… А это значит, что дело, по которому мы посланы, достаточно важное, если она свое самое совершенное средство для путешествий Сухрому выделила.
– А я еще заметил, – отозвался Фран, – что на нем нет вензелей Госпожи, которыми он обычно изукрашен. Ну и вымпелов разных… Ты на это обратил внимание?
– Нет, – признался Оле-Лех, усевшись за стол, с которого еще не все блюда были убраны, плеснув себе немного бренди. – Но это тоже интересное замечание. И оно означает, что…
Продолжить разговор и заодно выпить они не успели. Снаружи гостиницы зазвучал рог, да так, что вино из кубков чуть не выплеснулось, он ревел едва ли не сильнее грома с небес. Оба рыцаря, а за ними и их оруженосцы вылетели наружу. По ходу, пробегая большим залом, Фран мельком увидел, что хозяйка гостиницы съежилась у дальних столов, кажется, она была уже не рада, что у нее оказались сегодня такие гости.
А перед гостиницей стояла роскошная черная карета, огромная, как дом на колесах. И в нее были запряжены знаменитые черные кони Джарсин. Про них говорили, что они могут пробегать в сутки до двухсот миль, были бы дороги хорошими. На козлах кареты сидело странное существо, задрапированное в тяжелый, пыльный плащ. На голове его была треугольная шляпа, а руки у него, удерживающие вожжи, были такие, что он мог бы, кажется, взять булыжник и скромно попросить угадать, что же у него в кулаке. А лицо его до потери всех признаков симметрии перекраивали настолько безобразные шрамы, что смотреть на него приходилось, нащупав рукоять меча у пояса или хотя бы сжав в кулаке кинжал.
После недолгого размышления Фран решил, что это франкенштейн. Он был уже не вполне живым, а специально оживленным созданием, скроенным из разных других сущностей, воссоединенных могучей магией Госпожи. Вероятно, только он умел справиться с черными конями, которые так били копытами в гранитную брусчатку, что, если бы карета, запряженная этими зверями, простояла тут подольше, булыжники, без сомнения, обратились в пыль.
Франкенштейн ничего не сказал, лишь указал пальцем с кривым когтем вместо ногтя на Оле-Леха. Северянин усмехнулся:
– А я-то думал, что поеду на чем-нибудь экзотическом.
– Ничего более экзотического для передвижения по миру, чем карета Госпожи, попросту не существует, – отозвался Фран. – И прошу заметить, опять же, что ее гербы сбиты с дверок, и даже возницу запихнули в дорожный плащ. Обычно-то он правит в ливрее с ее цветами и эмблемами.
– Зачем ему плащ, он, наверное, ни дождя, ни ветра не чувствует, – задумчиво ответил Оле-Лех и тут же стал прощаться. Это было разумно, если Госпожа прислала свою карету, пусть и без гербов, значит, следовало поторапливаться.
Расплатившись за свою часть обеда и загрузив свои вещи, доспехи, меч и несколько бочоночков бренди, Оле-Лех с Тальдой забрались в карету, и кони унеслись с громовым топотом прочь. Из-под их копыт даже при свете, который заменял в Верхнем мире день, как показалось Франу, полыхнули искры, выбитые подковами.
Фран проводил Оле-Леха глазами, а потом с интересом стал думать, каким же образом предстояло путешествовать ему? Уже стало очевидно, что Госпожа не поскупилась для своих рыцарей, отдала им собственные, самые совершенные в мире экипажи, обладающие немыслимыми возможностями.
Ждать ему пришлось до вечера, который оказался неожиданно тихим и спокойным. Тишину нарушал лишь шум, доносившийся из «Двух рыцарей». Не составляло труда догадаться, что воины решили расслабиться как следует, если уж Госпожа не выбрала их для своего задания. А может, просто новый гроссмейстер Ордена устроил подчиненным праздник по поводу своего назначения, прежде чем они разъедутся по гарнизонам.
В комнате, где оставались только Фран Соль с Калметом, имелось окошко, рыцарь поднял его и высунулся, прислушиваясь к нестройным песням сослуживцев, а заодно и проветриваясь. Все же вином он нагрузился изрядно… И неожиданно заметил, что проходящие мимо гостиницы обыватели вдруг стали на что-то оглядываться, потом понял, что смотрят они на замок Госпожи, а может, и на мост, который ведет к нему.
И вдруг все побежали, да так быстро, что и спросить было не у кого, что же случилось? Он высунулся еще сильнее, повертел головой, нет, ничего не понял. Замок из этого окна виднелся плохо, его закрывали другие дома, только верхушки далеких башен и торчали над крышами Слободы. А потом стало так тихо, что… Калмет, кажется, стал трезвее, поднялся со стула, добрел до Франа и спросил, чуть слышно икая:
– Г-господин мой, случилось т-там что-то?
– Готовься, – приказал ему Фран. – Что-то приближается, что-то сейчас будет.
И тогда разом смолкли песни и выкрики остальных рыцарей, гулявших в таверне у моста. А потом стало слышно… Это не было громом, какой издавали во время скачки черные кони Госпожи, не было и той смутной тени, которую отбрасывал на землю летучий корабль. Это было… похоже на шипение кипящей воды в чайнике, к которому прибавлялся механический, повторяющийся стук. И еще в этом звуке слышалась некая неотвратимая, превосходящее всякое человеческое разумение сила и упорство.
А потом на улице появился довольно странный… экипаж. Вернее, конечно, это был паланкин, с кожаными занавесками на коробке изрядных размеров, которая висела в сложных перекладинах, которые по четырем углам несли… несли четыре голема.
Они были высотой почти в полтора человеческих роста, у них были все признаки человека – ноги, руки, которыми они придерживали конструкцию из перекладин на уровне пояса, и даже головы с некоторым подобием лиц. Вот только глаза у них горели яростным, красным светом, который странным образом бросал узкие лучи на дорогу, уже слегка потемневшую в сумерках, и на стены домов, и на окна, вспыхивающие отраженными бликами. Всего големов было пять, четверо несли паланкин, а пятый, сделанный из более светлой глины, шел перед самим паланкином в середине и волок что-то вроде треугольника, которым и разворачивал двух передних носильщиков, чтобы вписаться в поворот на улицу, ведущую к гостинице, из окна которой выглядывал Фран.
– Вот что по нашу душу прислали, – выдохнул Калмет.
– Собирайся, – приказал Фран, – это действительно по нашу душу.
Големы бегали быстро и оказались перед гостиницей куда раньше, чем Фран сумел выйти на порог. Владелица гостиницы в этот раз вообще исчезла, так что Калмету пришлось положить деньги на прилавок перед дверью на кухню. Как он считал и сколько монет выложил, Фран не уследил, не до того ему было.
Големы с носилками стояли перед входом на удивление тихо, даже свет, который отбрасывали их глаза, сделался менее ярким. От них отчетливо пахло серой, огнем и каменной пылью. В паланкине что-то завозилось, задвигалось, и из-за тяжелой, плотной занавески вылез Кнет Кокон, шут Госпожи. Он осторожно спустился на землю и обернулся.
– Здорово, рыцарь Фран, – сказал он немного другим голосом, чем разговаривал в замке. Теперь в нем звучали нотки превосходства, если не покровительства. – Отличная штука, ты не находишь?
Он осмотрел еще раз всех пятерых големов, которые неподвижно застыли, будто никогда и не были способны сдвинуться с места.
– Люблю я паланкин этот. – Кнет похлопал по длинной продольной жерди толщиной с хорошее бревно, которая протянулась от переднего правого голема к заднему. – Это я уговорил Госпожу ссудить его тебе. Ты должен быть доволен. Он не знает препятствий, лишь только когда големы утонут совсем, может остановиться. Но и тогда что им сделается?.. Вытащи их, подкорми, прикажи, чтобы ожили, и они опять смогут бежать.
– Приветствую тебя, верный служитель Госпожи, – ответил Фран. Он не знал, как следует обращаться к шуту из замка, никогда с ним раньше не разговаривал. – Ты сказал, что их следует подкармливать?
– В том и дело, что тебе следует объяснить, как с ними обращаться, потому я и вызвался пригнать… паланкин сюда. – Он все же не мог удержаться и принял насмешливо-шутовскую позу лектора, объясняющего что-либо студентам с университетской кафедры. – Запоминай, рыцарь. Големы могут бежать день и ночь, они видят в темноте, сами умеют выбирать дорогу, но… раз в неделю примерно, да ты и сам почувствуешь это, они начинают бежать медленнее, когда голодны… Значит, ты должен накормить их смесью серы, древесного угля и селитры. Смесь эта взрывается, но в принципе достать ее можно где угодно, если поспрашивать аптекарей и углежогов. А на первое время я положил тебе пяток бочоночков с уже приготовленной смесью вот сюда. – Кнет наклонился, отдернул какую-то заслонку из тонких досок под всем устройством, и там оказалось нечто вроде сундучка. – Сюда же ты можешь положить и свои пожитки. Хотя кормежка големов – довольно грязная штука, но, пока бочонки закрыты плотно, вещи не испачкаются.
Рыцарь с интересом посмотрел в углубление, которое показал ему Кнет, и действительно увидел небольшие и плотно сработанные бочонки из темного дуба, которые рядком лежали, пристегнутые кожаными ремнями, чтобы не болтаться во время бега големов.
– А сколько… этого вещества давать? Я имею в виду, сколько им нужно, чтобы они?..
– Полбочонка обычно хватает на всех пятерых в неделю, как было сказано. Реже не стоит, а чаще – не рекомендую. Если их перекормишь, они взрываются. Понимаешь, делать их совсем безопасными почему-то не умеют. Итого, если посчитать, тебе должно хватить этого запаса недель на десять. А за это время они пробегут… Если прикинуть, что за сутки они могут отмахать лиг семьдесят… Это значит, что за неделю ты способен проделать путь без малого в полтысячи лиг, поболе двух тысяч верст. – Шут взглянул на рыцаря с торжеством и необъяснимой радостью. – Здорово, правда?
– Здорово, – уныло сказал Фран. – Вот только… От коня мне придется отказаться, он столько не выдержит даже в поводу.
– Конь тут не главное, друг, – веско проговорил шут. – Теперь – как ими управлять. Ты должен говорить все, что хочешь, только одному из них, вот этому, в центре, мы в замке кличем его Белым. Другие тебя слушать не станут. Зато этот их главный, Белый, умеет даже драться, если ты ему прикажешь кого-нибудь прихлопнуть. Тоже не лишняя способность в дальнем-то путешествии, верно? – Теперь Фран стоял совершенно уже обалдевший и не отвечал, даже не смотрел на шута. Тогда Кнет закончил свое объяснение: – А нести они могут все, что угодно, ограничений по грузоподъемности у них нет. Прикажешь слона нести, они и слона понесут. Вот только… – Он на миг задумался. – В самом паланкине у тебя места хватит лишь на шестерых таких, как ты, но Госпожа считает, что этого довольно. Все, рыцарь, желаю удачи.
– Вот это да-а-а… – выдохнул сзади Калмет, который тоже слушал эту лекцию, оставаясь, по обычаю слуг, незаметным.
– Ох, чуть не забыл, – снова встрепенулся Кнет, – если с одним из них что-либо случится, ты можешь его заменить на Белого, он послушает, хотя и ненадолго. Если его слишком эксплуатировать носильщиком, он начнет тебя хуже понимать, а то и вовсе откажется подчиняться. Может завезти туда, куда тебе и не нужно. Такая уж у него особенность.
Фран стоял, опустив голову. Он-то рассчитывал на что-нибудь знакомое, с чем умел обращаться, а такое средство передвижения ему даже в страшном сне не могло присниться. Он заметно растерялся или даже приуныл. И тогда еще не вполне трезвый Калемиатвель своим звонким голосом полуэльфа спросил:
– Господин, а мне ты разрешишь ими управлять? Или хотя бы кормить их позволишь? – Он обернулся к Кнету, который с улыбкой осматривал весь этот странный и страшноватый своей необычностью экипаж. – Господин Кнет, а сейчас они кормленые?
– Они полны сил и энергии, – отозвался замковый шут. Посмотрел на рыцаря и на его оруженосца. – Эх, не тому я объяснял, оказывается. – Он все же перестал улыбаться, вчитался в сознание Франа, потом еще раз, уже строже посмотрел и на полуэльфа. Кивнул, отвечая собственным мыслям или вопросам, которые у него возникли. – Ничего, ребята, научитесь, это не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Часть II ФРАН ТЕРМИС СЕРЫЙ СТРАХ ВОРОВСТВА
1
Портшез внутри был огромным, даже странно иногда становилось Франу, казалось, что можно вот подняться с этих-то неверных, все время гуляющих под ним, матерчатых подушек и полосок ткани, и если утвердиться на досточках пола как следует, то прямо отправляйся шагать куда-то дальше – за трепещущие стенки или даже вверх… Но это лишь казалось, он знал, что с этими трюками Госпожи шутить не следует, таким боком выйдет, что и не рад будешь. Обычно-то портшез казался шестиместным, два места для сиденья сзади были чуть пошире, чем два места впереди, и еще два места снаружи, но сидеть там, разумеется, было не очень-то приятно. В общем, он расположился лицом к движению, а Калмета посадил перед собой, спиной вперед.
Големы неслись так, что только деревья мелькали за плотными кожаными, как и сиденья, занавесями, но закрывали они разве что от пыли и грязи, ни от мух, ни от жары спасения не было. А жарче становилось чуть не с каждым днем, потому что они уже определенно шли по Нижнему миру.
Сначала Фран этому удивлялся, вроде бы их должны останавливать на дорогах какие-нибудь стражнички местных баронов или мелких владетелей, но вот же – не останавливали, и они летели все дальше и дальше, будто их никто не замечал. Он даже стал думать, что портшез этот был так устроен, что каким-то образом присутствует здесь, в Нижнем мире, а все же и не вмешивается в него, фактически не проявляется в нем… Но все оказалось сложнее и необычнее.
Однажды они должны были переправляться через реку по мостику длиной едва ли в сотню шагов, чуть подождали сбоку, пока на мосту никого не будет, и впереди, с той стороны, никто с ними не столкнется, а потом едва ли не с громовым шагом по доскам моста перебежали одним махом, да так, что и реку внизу Фран не успел рассмотреть, но при этом произошло вот что – стражник, который должен был собирать подать за переправу, очумело застыл, замер на месте со своим бутафорским копьем, даже меч зачем-то стал вытаскивать трясущимися руками и так оглядывался по сторонам, что Франу многое стало понятно.
Стражник этот, бедолага, не видел их, не понимал, что по мосту проносится портшез Госпожи с ними, Франом и Калметом, внутри. Лишь слышал он этот топот каменных ног по доскам, лишь чувствовал, как весь его мост задрожал, лишь какой-то невидимой для него силой пахнуло, ну может, еще ветер от движения его задел…
Вот дорожная пыль големов иной раз выдавала, да и то не всегда. Как это получалось, Фран опять же не знал. Пару раз они топали по дороге, и пыль за ними поднималось, как от доброй сотни тяжелых воинов. А порой они почти так же неслись, так же трясло Франа с оруженосцем, и топот големов он так же отлично слышал, как всегда, но пыли никакой не было. И на звук никто из проходящих мимо крестьян не оборачивался, и никому в голову не приходило посмотреть на невидимое для смертного нечто, что проносилось мимо.
В общем, странно все это было, Фран и разгадывать эту загадку уже не пытался, лишь сначала недоумевал, а потом и удивляться разучился. Если так вот с ним получалось, значит, так и нужно – чему же тут удивляться?
А как-то раз они подошли к реке, через которую одна паромная переправа и была налажена, тогда вышло иначе. Големы отошли в сторону от большака и встали, Фран поднял занавеску, стал смотреть. Паром двигался туда-сюда, как заведенный, и лишь совсем к вечеру стало потише, уже и паромщики – три здоровенных гоблина, подчиняющиеся другому, маленькому и пронырливому гноллу, – вымотанные за день тяжелой работой, стали ленивее, не так налегали на канаты, и путь таким образом расчистился. Фран вылез из портшеза.
И стал для паромщиков виден. Он поправил плащ, белый, со знаком Госпожи, проверил меч и кинжал и дотопал до начальствующего гнолла. Тот сидел на краю своего парома, болтал ногами в светлой воде, отливающей заходящим солнцем, и жевал кусок ржаного хлеба с огурцом, щедро сдобренного солью. Трое его подчиненных гоблинов гоготали на берегу, играя на медные монетки в немудреную игру – кто больше пустит блинчиков по воде плоскими камешками.
Когда Фран шагнул к гноллу, тот даже жевать перестал, замер с выпученными глазами и ощеренными зубастыми челюстями. При этом он негромко зарычал, от неожиданности, должно быть.
– Любезный, – обратился к нему Фран, – переправь-ка меня на ту сторону.
– Одного не повезу, – буркнул гнолл, обернувшись на миг и убедившись, что его трое подручных тоже заметили неизвестно откуда, прямо из воздуха появившегося человека с кинжалом на поясе, без багажа и в плаще с неведомой, незнакомой вышитой эмблемой. – Жди, господин хороший, пока еще кто подойдет. Хотя – гнолл хитро прищурился и смерил невысокое уже солнце, – сегодня, может, и не получится. Поздновато, все честные-то обыватели уже на ночлег устраиваются. Да мы бы и сами ушли, вот только…
Что он хотел добавить, осталось неизвестным, потому что Фран спокойно, будто и впрямь был обычным путешественником, достал кошель и вытащил из него золотой. Это была для местного гнолла незнакомая монета, он взял ее осторожно, будто она могла обжечь его, но все же взял, прикусил клыками. Посмотрел на Франа уважительней, но и немного тверже.
– Вишь, мои ребята устали за день-то, добавить нужно, чтобы…
Фран даже не усмехнулся, достал еще три серебряных сестерция.
– На этом все, торговаться более не станем, принимайся за работу. – Он на миг запнулся, не зная, что еще добавить.
Но Франу помог один из гоблинов, который, увидев в руках хозяина эдакое богатсво, бодро заявил:
– А че, мастер, можно и гребануть на ту сторону-то… Какая разница нам, где ночевать, тут иль там?
– Ладно, – замахал на него руками гнолл, у которого деньги исчезли почти так же легко, как из воздуха и Фран перед ними появился. – Ежели так…
Но вот когда на паром зашли големы, когда паром под ними ощутимо просел, гнолл посерел теперь уже от настоящего ужаса. Франу на миг даже показалось, если бы этот самый гнолл так не ценил свое место, свою работу, бросился бы он бежать куда ноги несут… Вот только бежать ему было некуда. Да и гоблины, ребята покрепче, чем он, или чуть тупее, или более жадные, все же исправно встали к канату и принялись перетягивать паром на другой берег.
На середине реки гнолл, который только делал вид, что помогает своей рабочей троице, а на самом деле лишь бегал от одного к другому и покрикивал на них, вдруг заинтересовался, подошел к Франу и спросил:
– А позволено ли спросить, издалека путь держишь, господин хороший?
– Нет, не позволено.
– Как же так? Проезжие завсегда в разговоры пускаются…
– Вот так. – И для убедительности Фран щелкнул своим висевшим на поясе кинжалом.
До другого берега они дошли как надо, в полной уже тишине, без малейшей заинтересованности от паромщиков. Лишь перед самой высадкой он твердо приказал гноллу:
– Ты вот что, любезный, помалкивай о том, что видел сегодня. А то, не ровен час, мне возвращаться придется и еще разок твоей переправой воспользоваться, можем, встретиться, и если мне покажется, что разговоры тут разные пошли, тогда… Уж не обессудь.
– Дык мы понимаем, – промямлил гнолл.
– И работягам своим скажи.
– Будет исполнено. – Теперь гнолл, хотя и не привык этого делать, все же поклонился, причем с заметно возобновившимся испугом.
– И еще, – не унимался Фран, который заметил, что на подъездной части дороги к парому стоят какие-то телеги, – отгони этих-то, пусть они дадут нам сойти по чести. Иначе опрокинуть их придется… – Фран усмехнулся. – Тем, чего ты не видишь, но что тут есть.
– А как же? Есть, мы-то чувствуем… Будет исполнено, господин.
Но крестьяне или возчики, которые видели, что паром подошел к берегу по виду пустым, все же загородили дорогу телегами. Вот тогда Фран решился, забрался в портшез, который сам-то все время отлично видел, в отличие от паромщиков, и коротко приказал:
– Белый, вперед!
Одну телегу големы опрокинули, а другую растоптали, переломив надвое. И испугали коней, конечно, но на это ни Фран, ни Калмет внимания уже не обратили, они улетели дальше, не оборачиваясь. А Фран еще подумал, жаль, что крестьяне такими тупыми оказались, но пусть думают, что у них телеги сами от старости развалились или поломались на бревнах, которые к парому через мелководье вели…
Этот случай многому научил Франа. Во-первых, решил он, выходить им с Калметом из паланкина следует осторожно, чтобы вокруг никого из возможных свидетелей не оказалось. Пока они двигались по лесным дорогам, в относительно малонаселенных землях, трудностей с этим не было. Они попросту, как нормальные путешественники, отыскивали какой-нибудь придорожный трактир, останавливались где-нибудь в соседней рощице или в овражке, выходили, добредали до трактира и закупали побольше еды. То, что они уносили с собой корзины, полные снеди, и кувшины с вином и водой, для трактирщиков было непонятно, но не слишком, потому что отношение трактирщиков к странностям незнакомых путников зависело лишь от цены на все купленное. А платил Фран, кажется, с большим перехватом местных цен.
А во-вторых, в города Фран решил входить без портшеза. Понадеялся, что там, где ему придется все же показаться перед местными жителями, можно будет загнать големов куда-нибудь в уединенный сарай или даже в конюшню при трактире, поднанять на день-другой лошадок и уже въезжать в людные-то места так, чтобы не привлекать внимания. Но как это могло получиться на деле, он пока не знал.
Они продолжали двигаться все дальше и дальше на юг, и путешествие уже длилось семь дней, но с этим следовало лишь примириться. Как Фран подозревал, это был почти молниеносный бросок, у обычных обитателей Нижнего мира подобный поход занял бы не меньше полутора месяцев. Даже если двигаться налегке, без серьезной поклажи, лишь с оружием, деньгами и на хороших конях. Хотя разумеется, денег для этого потребовалось бы куда как немало.
А потом однажды ночью Фран проснулся с ужасом. Потому что прямо на ночной дороге, которую они выбрали перед закатом и которая куда-то должна была их вывести, на него навалился… звук. Всего одна нота или несколько нот, но слитых воедино. Звук этот был нескончаемым, и от него волосы вставали дыбом, озноб прокатывал по коже, а в костях возникала слабость и холод… Это значило, что они вот так, незаметно, перешли границу владений Госпожи и находились теперь под властью Вильтона Песка. О том, что это окажется так неприятно, так страшно даже, Фран и не догадывался прежде. Даже Калемиатвель стал беспокойным, но он все же был подчиненным и потому лишь немного поскулил, перед тем как снова уснуть.
Под утро звук этот сделался незаметным, но Франу почему-то казалось, что он не проходит, не исчезает, а продолжается, только они к нему привыкли, попросту смирились с ним. На големов, впрочем, это тоже произвело впечатление, они стали бежать чуть медленнее, а еще, когда Фран решился их покормить, потому что первая неделя путешествия подошла к концу, съели куда больше, чем рекомендовал еще в Верхнем мире шут Кнет Кокон.
Они ели и ели, глотали огромные кучи этой самой смеси, и выходило, что бочонков топлива для них хватит на меньший пробег, чем ожидалось. Но Франа это не особенно обеспокоило, как и Калмета.
– Да чего уж там, господин, – говорил его эльф-оруженосец, – может, мы и переборщили с пудрой этой, но ведь тут люди живут, и все, что нужно, можно купить… – Он даже поделился своими знаниями. – А если порошок кончится, мы тут нефтью запасемся, ее с гор привозят сюда под названием каменного масла.
– Откуда ты знаешь, что големы и нефть могут пить? – спросил его с подозрением Фран.
– Так слышал я про големов этих Госпожи нашей, только не думал, что доведется поездить на них. Про нефть мне точно говорили, могут ее пить эти… – Он мотнул головой в сторону, показывая на топочущих рядышком големов. – Я даже подумал, господин, что у господина Оле-Леха будет больше сложностей с теми конями, которые ему достались. Те вовсе, как мне трактирщица сказала, человечиной питаются, а где ее взять, если боя не происходит? Это ведь после хорошего боя трупов разных полно, чтобы ту четверку прокормить, а без сражения – не получится.
– Помолчи, – коротко приказал слуге Фран.
А сам стал думать, что и впрямь, может, у Оле-Леха сложнее будет задача, чем у него. И от этого почему-то все стало казаться чуть проще.
Деревни и даже города во владениях Вильтона оказались совсем другие, чем те, что они видели до сих пор. Тут было больше нелюдей, то есть гоблинов, орков, троллей и всяких прочих. Да и люди тут выглядели иначе, какими-то недокормленными, голодными, костистыми, с темноватой кожей. И одевались они беднее и скуднее, меньше было цветных одежд, все выглядело каким-то серым или бурым, да и оружия из них почти никто не носил при себе.
Но с этим можно было легко примириться, а вот с чем примиряться не хотелось – так с местной едой. Как правило, это была только соленая до невозможности брынза и капуста, которую тут готовили десятком разных способов. Чаще всего ее мелко рубили и жарили на каком-то не очень вкусном животном масле, отчего она делалась такой же бурой, как и одежда местных обывателей.
Но в общем, Франу уже не о местной кухне следовало думать, а о том, чтобы приступить к исполнению задания Госпожи. Вот только он не понимал, как к этому подступиться, не чувствовал, что может что-то сделать. Нет, на самом-то деле, как найти смертного, которого ему не удосужились даже описать и советов по этому поводу никаких не предложили?
Раздумывая над этим, он стал полагать, что големы каким-нибудь способом его сами определят и выведут на нужное место… Но потом сообразил, что все не так, ему, и только ему, следовало догадаться, кого и как найти и вытащить отсюда, чтобы Госпожа была довольна.
Мимо портшеза все так же, как прежде, мелькали деревни, иногда показывались замки странной, резковатой архитектуры. Иногда, но уже куда реже, чем в начале дороги, раскидывались города, но в них Фран еще не входил. Не до того было, или он все же понимал: если начнет в них заглядывать – только потеряет время, которого и так было не слишком много.
Неугомонный Калмет и тут не выдержал, высказался:
– Все же Госпоже нужно было снабдить нас более определенным приказом, чтобы мы могли… ну что-нибудь предвидеть, что ли.
– По зубам захотел, отродье? – взъярился Фран. – Тоже мне, Госпожу учить вздумал!
Калмет, конечно, не испугался, но умолк. И это было неплохо, потому что Фран и сам не знал, что ему делать. Да и взъярился он на оруженосца от ощущения непонятности и собственного бессилия, не иначе.
А потом, уже к исходу второго дня, как они оказались во владениях Вильтона Песка, когда они грохотали, по-прежнему незаметные для местных, по довольно наезженной дороге между полей несжатой ржи, случилось вот что.
Это была девушка, по всей видимости из какой-нибудь близкой деревни, с примесью человечьей крови, но в этом Фран был уже не вполне уверен. Она шла по краю дороги, удерживая в руке васильково-голубой платок, помахивая им на каждом шагу. Она смеялась, чуть закидывая голову, и даже не повернула голову в сторону пронесшихся големов, которые на этот раз так пылили по дороге, что не заметить их было вовсе невозможно. Или посмотрела, но ничего не увидела и почему-то – не удивилась. Просто пошла дальше, смеясь над своей здоровой, молодой радостью.
А потом она свернула вбок и спокойно, будто обычные вихри от чего-то невидимого каждый день проносились мимо нее, пошла по другой дорожке, более узкой, чем прежняя, наезженная. И так же помахивала своим платком, будто скромным, но не менее значимым, чем армейский вымпел, знаком жизни и почти полного довольства этим вот вечером и этой дорогой.
Тогда Фран, высунувшись почти по пояс из передка портшеза, заорал:
– Белый, стой!
Сразу, впрочем, остановиться не удалось, големы так разогнались, что пробежали еще шагов двадцать, прежде чем действительно остановились. А Фран лихорадочно обдумывал свое решение и наконец-то решился:
– Белый, сворачивай на ту дорогу, куда девушка эта пошла, с платком.
Приказ получился не очень внятным, но командир големов понял. Они довольно неуклюже развернулись, причем Франу пришлось держаться за какой-то ремень, свисающий сверху, с деревянной рамы носилок, а Калмет, дурья башка, и вовсе чуть не выпал, и пошли шагом к повороту. Свернули и снова стали разгоняться, поднимая за собой отчетливую пыльную полосу.
Фран попытался снова увидеть эту девушку, но… никого не увидел. Она просто как-то растаяла во ржи, стоящей сбоку от дороги, в пыли, поднятой големами, в мареве солнца, бьющего теперь в глаза Франу. Или он все же ее заметил, но она показалась ему теперь уже не юной и счастливой, а пожившей матроной, едва ли не старухой, и одеяние у нее было не цветастым, а серым, даже тот платочек, который был прежде васильковым, и не улыбка освещала ее лицо, а старила печать скорби и неизбывной муки…
Странно все это было, странней, кажется, и не бывало еще с Франом. И снова потянулись дороги, деревни и их жители, другие повозки – все серое, невыразительное, незнакомое.
Они летели теперь еще быстрее, вот только големов они, как оказалось, перекормили, и стали эти каменно-живые истуканы едва ли не огнедышащими. Однажды, когда Фран с Калметом пошли за ужином в деревенский трактирчик, их истуканы едва не подожгли своим дыханием ближайшую к деревне рощицу. То есть, возвращаясь с корзинами и кувшинами, рыцарь еще издали увидел, что над леском, где он оставил големов с портшезом, поднимается дымок. А потом чуть выше местных деревьев полыхнуло пламенем. Фран и Калмет чуть не бросили свой ужин, чтобы быстрее добежать до экипажа и разобраться, что же там происходит?
Оказалось, големы передрались, и что послужило причиной их ссоры, ни Фран, ни Калмет не стали даже гадать. Все равно эти чуждые живому миру и живым представлениям… произведения магии Госпожи не стали бы с ними объясняться. Впрочем, стычка была довольно серьезной, у одного из големов оказался сколот кусочек уха, или того выступа, который обозначал на их головах ухо, а у другого была заметная трещина поперек пуза. Вот только трещина эта, к немалому облегчению Франа, стала затягиваться и через день сделалась почти незаметной. А ухо, как утверждал Калмет, сделалось чуть меньше, чем прежде, но приняло почти первоначальную форму.
Еще через три дня после того, как им повстречалась та странная девушка, они вылетели к морю. И тогда остановились. Было утро, дождливое, по местным меркам холодное. Море накатывало на высокий, серый берег волнами, на которых вскипали шапки пены. Ветер, сделавшийся тяжелым от дождевых капель, едва не сорвал с Франа дорожный плащ, которым он пробовал укрыться, разглядывая каменный покосившийся указатель, стоящий на развилке дорог перед берегом. С одной стороны было щербатыми буквами обозначено что-то вроде «Ф…фисм», этот указатель был направлен дальше на юг, направо по побережью. А другой, и вовсе сбитый, с оставшимися буквами «…ная Кост», указывал на северо-восток, тоже по берегу, но уже влево от них.
Фран призадумался, и было чему. Он не знал, куда сворачивать на этот раз. Прежде почему-то знал, довольно твердо указывал Белому голему, куда сворачивать и куда бежать, а тут вдруг, как в первые дни их путешествия по владениям Вильтона Песка, снова не знал. И вдруг… Как тогда, на ржаном поле, он увидел, что в этой-то круговерти дождя, ветра и серой, надморской хмари летит птица. Таких птиц Фран прежде не видел, это было что-то на редкость крупное, красивое, ясное и очень точное едва не в каждом своем движении. И альбатрос этот – если это был альбатрос, конечно, – определенно летел налево, вдоль берега, что-то высматривая за серыми тучами, которые на севере клубились.
Фран посмотрел внимательнее в ту сторону. И увидел, что в просветах между клочьями тумана и косыми столбами дождя, гуляющего над морем, лежит гора, единственно синяя во всей этой невыразительной серости, уткнувшись, словно бы мордой, в пенный прибой, как огромный пес, который прилег у воды, чтобы напиться.
И этот цвет, и эта гора, которая снова как-то странно задела у Франа ощущения и даже мысли, пусть и не вполне осознаваемые, решили дело. Он залез в портшез и твердо приказал сворачивать налево, на северо-восток.
Они пролетели по указанной альбатросом дороге одну рыбацкую деревеньку, другую, а потом вдруг оказались в следующей, стоящей на побережье и чем-то снова Франу приглянувшейся. Непогода к тому времени чуть улеглась, и рыбаки высыпали на берег, чтобы посмотреть на свои лодки. Один из старых, но еще довольно крепких местных сидел спокойно на колченогом табурете перед развернутыми сетями и неторопливо чинил их. До него от дороги, на которой теперь оказался портшез, было едва ли с четверть мили. Фран приказал Калмету:
– Ты сходи к деду этому, спроси, что за местность? Узнай, в общем, куда мы прибыли?
Калмет ушел. Вернулся чуть не через час, довольный собой, вот только мокрый от продолжающегося мелкого дождичка, и доложил:
– Деревня называется Каперна, господин. И старик сказал, что впереди, всего-то милях в четырех, лежит город, местная столица, как я понял. Называется Береговая Кость. – Он снова помолчал, по своему обыкновению, чтобы договорить: – Сдается, господин мой, нужно тут коней поднанять, и тогда мы в этом городе будем еще до вечера.
– Тогда так, – согласился Фран. – Садись на переднее сиденье и осторожно скомандуй Белому, чтобы он тут спустился к морю. Найди укромное место, там портшез и оставим. В Каперну эту не пойдем, по дороге четыре мили отшагаем и на своих двоих. – Калмет кивнул и уже раздвинул передние занавеси, чтобы садиться на сиденье спереди, когда Фран решил окончательно: – Подожди-ка, я тут вылезу, а ты, как спрячешь големов, догоняй. – Привесил на всякий случай меч, проверил кинжал и кошель и стал вылезать. Лишь крякнул от неожиданности, когда ему в лицо ударил порыва ветра с дождем. – Береговая Кость, говоришь… И что у них тут за названия такие дурацкие? Посмотрим, стоило ли сюда забираться?
2
Берита разбудили. Без жалости. Как всегда, Гонория, и как всегда, на закате. Такая уж у него была судьба. Но другой он, если по-честному, никогда не искал. Мог бы, конечно, пойти за гроши трудиться, чтобы его еще попутно и ремеслу какому-нибудь обучили, есть же хорошие ремесла… Но он не хотел, не мог себя заставить. А еще вернее, не ждал, что там, куда он пойдет, его скрытые от всех возможности как-то проявятся. Вот и оставался вором. Кто-нибудь мог бы сказать, мол, мелким, бестолковым, у которого нет и не может быть другого конца в будущем, кроме виселицы, но он-то знал… и верил, что все же сумеет заработать на старость, чтобы не попрошайничать на папертях храмов, не околачиваться у въездных ворот города, вымаливая у проезжих купцов и деревенских богатеев грошик на кружку мутного пива и миску похлебки. Иначе зачем все это продолжать? Уж лучше камень привязать и в воду залива прыгнуть подальше от берега или ножик поострее наточить и резануть по шее…
Гонория делала вид, что прибирает в его комнатухе, хотя просто шаталась от стены до стены и ворчала:
– У других-то вон мужик как мужик, дело какое-нибудь ведет, монеты в дом приносит, а ты?
Берит отвернулся лицом к стене, дряхлой, выщербленной, едва прикрытой дурацким, объеденным молью ковриком, только чтобы мордой совсем уж в кирпичи не упираться. А женщина все талдычила:
– Вот Шасля был тоже дурак дураком, а поди ж ты, завел себе кралю, переселился, чтобы с вами, старыми дружками, не встречаться, сейчас в порту какие-то мешки считает, ящики, бочки разные… Говорит, на это можно жить, и краля его недавно новые башмаки справила, со шнуровкой почти до колена.
– Где справила? – хриплым со сна голосом пробурчал Берит. – У Жуха-старьевщика? Тоже мне обнова, он с этих башмаков, поди, и грязь не счистил.
– Так для нее-то – обнова! – почти со слезами в голосе заявила Гонория. – А от тебя – что? Одно только и слышу: вот случится куш, уж тогда я тебя приодену, уж тогда тебе достанется… Как же, жди, достанется от такого. – Она наконец-то замерла посередине комнаты, еще разок осмотрелась. – У самого рубашка стираная-перестираная. Штаны – заплата на заплате, и все одно от тебя никакого проку… Вот выгоню, тогда поймешь, бездельник, каково тебя кормить-поить задарма.
И все же она не уходила. А ведь где-то там внизу, в подвальчике, ждала ее работа, получила заказ от тех, кто может позволить себе новую одежду. Она-то в свое время от матери сумела ремесло получить, шила и перешивала все, что только ей приносили. Чаще, разумеется, это была уже давным-давно не новая одежда, которой просто нужно было хоть какую-то видимость придать, но случались и хорошие заказы, как от того же Жуха-старьевщика. Но это случалось все реже, к сожалению.
Гонория чего-то ждала, а это внушало опасение. Что-то она еще хотела сказать, вот только либо не решалась, либо ей хотелось его еще помучить неизвестностью. Он перевернулся к ней, спросил, хмуро глядя на ее преждевременно расползшуюся фигуру, на ее нечесаные волосы, на ее блеклое, когда-то васильковое платье, ныне ставшее серым от плохого мыла и слишком долгой носки.
– Ты скажи все ж, – попросил он, – что случилось?
Она еще похмурилась, наконец сдалась:
– Падан тебя требует. Приходили, сказали, мол, как только стемнеет, чтобы был. – Она уже внимательно на него смотрела. – Ты пойдешь?
Вот это было скверно. Обычно Берит по прозвищу Гиена обходился сам по себе, иногда в дом к какой-нибудь одинокой старухе залезет, иногда на рынке возле порта что-то прихватит, иногда просто дуркой у кого-нибудь из деревенских выманит, а тем-то долго оставаться в городе не с руки, у них свои дела и заботы, в их деревнях да на хуторах. Вот и получается, что помаются они, когда поймут, что их кинули, потолкуться еще на рынке да и отваливают домой, кляня всех городских на чем свет стоит. А он может тогда снова на рынок заявиться – свои-то не выдадут, за это можно и схлопотать, если сболтнешь лишнего, от кого-нибудь из молодых, из воровской солидарности.
С серьезными ребятами, такими, как Падан, Берит старался не связываться. Не хотелось бока подставлять и рисковать, а в том промысле, какой себе Падан облюбовал – воровство в порту, и уже не кусочничая, а по-серьезному, – за настоящий портовый хабар всякое могло выйти, и ребятам половчее Гиены случалось нарваться или даже всплыть со вспоротым брюхом в бухте.
Но как ни отмазывайся от Падана, как ни бегай, а все же он все знает и сумеет, если надо… пригласить к себе, вот как сейчас.
О-хо-хо, и без того настроение было – не до смехунчиков с Гонорией, а тут еще Падан проявился. Берит сел в кровати, поправил волосы, что за ушами как-то неприятно заламывались, когда он спал.
– Ну и видок у тебя, – неожиданно прыснула Гонория. – И как я с таким чучелом связалась?
Берит и без ее подковырок знал, что не красавец. Что поделаешь, гоблинского в нем много, а уши остренькие, как у эльфов рисуют на вывесках перед их же, эльфийскими, лавочками. Зато клыки и морда узкая да острая, челюсти сильные, он ими любую кость может перекусить, ну почти любую… Конечно, у орка не особенно перекусишь и у циклопа тоже, тролля опять же кусать не рекомендуется… а в остальном зубы – загляденье. И болеть, как у прочих иных, никогда не болят.
Сама-то Гонория тоже не лишена примеси от гоблинов, и морда немного чумкой попорчена, рябая мордочка-то, особенно слева сбоку, где волос почти нет почему-то, а может, потому и нет, что чумкой в детстве переболела. Но она, во-первых, женщина, а они во всех племенах как-то нежнее и округлее, а во-вторых, в ней очень уж чувствительность проявляется, недаром она и белошвейкой стала. Хотя не вполне… Все же швеей, скорее. Белошвейки, говорят, за иную рубашку чуть не до трех сребреников получают, а те, что с кружевами обращаться умеют, и до полукроны золотой. Но чтобы такие деньги зашибать, нужно жить в другом квартале и с Паданом да с Беритом Гиеной не знаться, тогда к тебе и богатейчики разные обращаться захотят.
– Так пойдешь, что ли? – спросила она уже сердито. – А то ведь они-то на меня же насядут, и что мне им отвечать?
– Да пойду я, куда денусь, – отозвался Берит, и тогда Гонория ушла, хлопнув дверью.
Берит натянул штаны, вправил рубаху. И чего она-то на рубаху напустилась, хорошая еще, даже на локтях заплаты есть. И ремешек поясной тоже крепенький, он его, правда, давно уже спер, со сбруи у какого-то олуха срезал, да так ловко, что и железную пряжку прихватил, вот и ремень у него получился… А без ремня ему было трудновато, потому что такие дни иной раз случались, что живот от голода раздувало, тогда его можно было чуток подправить. Гонория-то хоть и кормила его, но тоже – не каждый день, если сама без работы сидела.
Он подошел к окошку. Маленькое это было окошко и низкое, Бериту до бровей только-то доходило, но из него было видно море, пусть не все, но краешек залива виднелся вполне. Сам-то порт, конечно, в стороне оставался, с его кораблями, мачтами, парусами, шумом, гамом, толпами моряков, буйством всяких товаров, привезенных из дальних стран, и со шпилем главной портовой церкви, что на колокольне чуток покосился, когда в него молния в прошлом году шарахнула. Но колоколенка устояла, а это значило, что и шпиль со временем поправят, когда церковники соберут деньжат, получая сколько-то с каждого из кораблей, что в порт заходят. А как же иначе? Морякам есть в чем каяться и за кого молиться, может, еще поболе, чем у тех, кто на берегу обитает.
Разное думал Берит и об этом городе, в котором жил, почитай, всю жизнь, и о тех, с кем приходилось мириться тут, но все же покидать его не хотел. Привык, наверное, к городу этому… Под названием Береговая Кость, или просто – Кость. И не представлял, каково это – пуститься в путь, отправиться в никуда, в дальние земли или по далеким морям, где самые опытные купцы и капитаны путей не знают. И каково это – видеть новые лица? Может, и такие, от которых кровь в жилах стынет, от которых иного и ждать не приходится, кроме как меч в брюхо или нож под лопатку получить. Или просто – петлю на шею да на ближний сук… Нет, оставлять Кость Берит не хотел, лишь подумав об этом, он испытывал тяжесть в животе, и перед глазами становилось темно.
А еще он был уверен, что в другом каком месте его очень быстро поймают, и никто не заступится, хотя и тут, конечно, не заступятся, но все же… Нет-нет, никуда он отсюда не уйдет, только если совсем прижмет.
Хотя в последние дни ему почему-то казалось, что прижимать уже стало. Что-то с ним такое вот происходило, он чувствовал. Смотрел кто-то на него и какие-то планы на нем строил, и вот еще что – не было от этого никакого спасения. А ведь он знал, что умеет это определять наверное, такой у него был дар – если как следует сосредоточиться, подумать, тогда становилось ясно, что и как нужно сделать, чтобы не попасться… Потому он и от Падана бегал, потому что знал: как только с ним свяжется, не сможет этих своих опасений слушать и следовать их тихому голосу, и тут же – прощай головушка, пропадет Берит Гиена как пить дать.
А стражники в Кости были ленивы да глупы, кроме того, никто же в портовом-то городе особенно за воровство не ищет, так уж повелось, как-то все привыкли к этому, и такое положение вещей устраивало Берита Гиену более всего. Хотя… Все же вот Падан его к себе требовал, и, может быть, это было только началом. Началом чего?.. Выяснить это было необходимо. Так и не добившись от Гонории хотя бы куска хлеба с солью, с грустью переведя язычок пряжки от сбруи на одну дырочку теснее, Берит отправился к Падану.
Тот, как всегда, сидел в своем «Неунывае», и вроде кабак, даже еще не в самой грязной части у порта находится, а вот не то что войти в него, но даже пройти мимо не у всякого получится. Да и не ходят те, кому тут делать нечего, знают: если просто попробуешь хотя бы показаться в конце улицы, которую все чаще стали по имени того же кабака называть, тебя тут же три-четыре пары острых глаз срисуют и кому надо доложат, мол, был, стоял, смотрел по сторонам, а чего смотрел – неизвестно, и не надо ли спросить? Может, не сразу, выждут день-другой, а потом, бывало, что и на дом заявятся, да ночью, да с ножичками, да с веревочкой-удавочкой… Вот тогда и крутись, как знаешь.
И если просто так мычать начнешь, якобы случаем забрел, тогда могут и не поверить. Хорошо, если просто бакшиш какой потребуют, чтобы лишний раз не топтался где ни попадя, а то и иначе решат… Полосовать по-серьезному, конечно, не станут, но как-нибудь обязательно отметят, крестиком на щеке или звездочкой на плечике, а то и сломают чего-нибудь. Ходи потом, жалуйся… Даже стражники посмеются, что таким дураком оказался.
Но для Гиены, конечно, это было еще не страшно, его пусть и не уважали, но все ж пропустить должны. Не мог кто-то из шестерок Падана не растрезвонить, что он приглашенный. И все ж неприятно было, когда Берит свернул в этот узкий в своем начале проулок, с почти сходящимися старыми, битыми всеми морскими ветрами домами, почти сросшимися крышами в вышине, у третьих примерно этажей. Тут же заметил, как сбоку колыхнулась какая-то занавесочка, может, старуха древняя коротала свои дни, посматривая в окно, а может, и посерьезней кто… Да и тот шкет, делающий вид, что жрет жареную рыбу из капустного листа, тоже не просто так сидел у давно вросшей в землю коновязи… Хотя какие тут могут быть кони? Тут и осел не пройдет, бока не ободрав, не то что конь, но вот эта деревянная перекладина все же осталась от времен, когда тут еще, наверное, ни «Неунывая», ни Падана не было в помине.
У дверей самого кабака топтались два полуорка, один был с примесью породы карликов, другой повыше, наверное, с гоблинской родословной. Оба посторонились, один, правда, недокарлик, кажется, плюнул вслед, но на это тут обращать внимание – даром только рисковать. Берит спустился по трем выщербленным ступеням, высоким, каждая почти до колена ему, чтобы настоящим оркам было удобнее ногами перешагивать, вдохнул побольше воздуха для смелости и толкнул дверь.
Она отворилась тяжко, срублена была из досок почти в четверть фута, такую и топором можно было только-то поцарапать, а чтобы ее выломать – таран потребовался бы, не меньше. Ступени перешли в подобие настильчика над основным залом, почти на десяток футов ушедшим ниже уровня улицы. И был он выложен массивными каменными блоками, лишь два окошка, забранных фигурными решетками, выходили наружу. Света они, конечно, никакого не давали, зато в центре зала надо всеми столами висело здоровенное колесо, на котором были часто расставлены толщиной в руку свечи.
И народу тут было немало, пара каких-то попрошаек, пяток темных личностей, которые тут и плащи не снимали, пили, правда, шумно, видимо, были довольны, что им тут разрешили остаться, наверное, из окрестных лесов, или из обирал деревенских, или просто дорожные разбойнички. Еще в углу жались с полдюжины каких-то малоодетых девиц, испитые, грубые, как подошва старого сапога, но все крикливые и нахальные. Чем они промышляли, догадаться труда не составляло.
И лишь во второй комнатушке, не самой большой, напротив кухни, сбоку от входа, за столом, уставленным шандалами и разными блюдами, сидел сам Падан. Около него стояло несколько орков, сколько их там было, Берит не видел, но знал, что не меньше шести. Ох, любил Падан орков в подручных держать, потому что тупы они были и сильны, пожалуй, это был самый сильный народ в Береговой Кости. Из закутка Падана веяло такой смертельной тишиной, таким ледяным спокойствием, что даже крикливые девицы, когда поглядывали в ту сторону, затихали.
Берит выдохнул, снова вдохнул. Воздух тут был насыщен массой самых разных запахов, но главных было два – запах сырости и вонь скверного пива. Пожалуй, даже не пива, а какой-то жуткой браги, которую орки уважали поболе пива. Он спустился по лестнице, одернул рубаху, шагнул в сторону от стойки и столов, в тихий закуток.
Падан сидел, склонившись над чем-то, что напоминало небольшую морскую карту. На его ненормально округлой голове уже заметно поубавилось волос и просвечивала чешуйчатая, зеленоватая кожа. Кто был по своей природе Падан, оставалось неизвестно, даже самые прожженные знатоки всех и самых разные помесей рас и народов пасовали, когда разглядывали его. Сказывали, что в молодости, еще до того, как осесть в Кости, он пиратствовал с бесчи, жутковатой породой волосатых недолюдей, которые умели одолевать орков в драке, а прежде бродяжил с нунами, мелкими, но на редкость быстрыми людоедами с южных островов. Вот что у него было до того, не знал никто, да и не следовало этим интересоваться, плохо могло кончиться.
Берит замер, даже выпрямился, ожидая, когда на него обратят внимание. Ясно же, что давно заметили и доложили.
Наконец один из приближенных Падана, орк, особо густо разрисованный татуировками, соизволил поднять своей корявой лапой погнутый шандал, испачканный чем-то, что напоминало кровь, а может, был испачкан соусом от недожаренного мяса… Лучше думать, что соусом, решил Берит и стал еще прямее. Тогда и Падан поднял голову.
Глазки у него оказались на редкость маленькие и заросли вместо ресниц и бровей какими-то кустами волос, отчего делались еще меньше, и еще труднее было угадать их выражение, Берит даже не пытался.
– Ага, – сказал Падан негромко, – явился-таки… Я уж думал, не приволочь ли тебя на аркане? У нас, знаешь, пара кочевников, отбившихся от своих, имеется, они своими арканами действуют лучше, чем Гных кнутом.
Гныхом и был тот орк в татуировках. Он осклабился, показал огромные желто-черные клыки. И посмотрел на Берита так, словно соображал, сразу его сожрать или перед этим побить немножко, чтобы мясо получше кровью напиталось? Но все же страх показывать было нельзя, хотя и дохлая это была защита, но все же следовало выдерживать гонор.
– Ты звал, – уронил Берит и не смог сдержаться, гулко сглотнул набежавшую от ужаса слюну.
– Боишься? – спросил очень низким голосом Гных.
– Не ел еще сегодня, – сказал Берит и все из того же гонора сделал вид, что смотрит на глиняную тарелку, что стояла у локтя Падана. На ней было печеное мясо, почерневшее от слишком сильного огня.
– А ты поешь, – сказал вдруг Падан и подвинул свою тарелку.
Берит удивился, и страх стал еще сильнее, потому что такого от Падана ждать не приходилось… Вернее, такого можно было ждать, только если влип по-серьезному. Но сделал шаг к столу, подвинул табурет, сел и попробовал мясо. Жевать его было невозможно, но с его челюстями почти получалось.
Падан посмотрел на Берита, пробуя придать голосу едва ли не дружелюбие. От этого волосы на спине у Гиены пошли волнами, как под сильным ветром. И кажется, он начинал потеть.
– Нравится наш харч?
– Неплохое мясо, – сказал Гиена, проглотив кусок.
– Прибился бы к нам – всякий бы вечер так шамал. Но ты же у нас одиночка, сам себе атаман… – Падан хмыкнул. Его орки попробовали рассмеяться, хотя больше всего это напоминало грохот катафалка по брусчатке. – Так вот, Гиена, есть у меня для тебя работенка. С твоим умением ползать по стенам – пустяки, мелочовка. Просто никто из моих дуреломов не сумеет, а тебе – плюнуть и забыть. – Падан теперь смотрел на него безжалостно, будто резал барана. – Вползешь в храм Метли Святой и выкрадешь для меня Покрывало Невинности.
Гиена задохнулся, даже жевать забыл. И рот закрыть забыл, лишь опомнился, когда все эти шестеро дураков, что вокруг Падана стояли, загрохотали своим диким смехом, и это было похоже на треск телеги, вывозящей трупы из города во время чумы.
– У церковников-то наших Покрывало это без дела валяется, – пророкотал Падан. – А мне за него южные работорговцы обещали куш отвалить. Ведь есть же байки, что оно может любую шалаву снова к невинности обратить, и очередной ейный хахаль не поймет ничего…
Телохранители теперь грохотали уже так, что остальной шум в кабаке смолк, видимо, там прислушивались, с чего веселье началось? Но Бериту и такого смеха было достаточно, чтобы оглохнуть.
И самое главное, отказывать нельзя, просто невозможно. Иначе он отсюда не выйдет, а вынесут его кусочками… Вот те на, думал он, вот, кажется, и прижало, вот и случилось такое, чего он всегда опасался. Что же теперь, хочешь не хочешь, а в дальние страны придется отправляться? Или все же нет? Ох, не хотелось бы…
– Ну как? Сделаешь?
– А моя доля?
– Доля? – почти зарычал Гных. – Зарываешься, Гиена.
– Спокойно, – утихомирил его Падан. – Пацан правильно ставит вопрос. – Он повернулся к Бериту, даже чуть наклонился к нему через стол. – Покрывало это у них в сокровищнице находится, это точно, этому можешь верить. А там, куда ты залезешь, у них много еще всего, возьмешь себе что-нибудь как свою долю. Я и не спрошу, что ты там надыбаешь, твоим останется.
Берит подумал, оттолкнул тарелку, хотя голод в нем только проснулся по-настоящему от первых-то кусков.
– Ха, да если бы я мог… – начал он. Но Падан был не из тех, кто позволял перечить себе.
– Не сможешь – тебе тут не жить, Гиена, так что выбирай. – Он помолчал, потом осклабился, хотя клыков, как у Гныха, не показывал, лишь губы растянул. – Ты, говорят, умеешь сквозь стены проходить.
– Умел бы… – все же произнес Берит и умолк. Жалко себя стало, ведь если бы он договорил, то непременно получил бы… вон от того, что слева стоял, уже приготовившись. Или от того, что справа. Хотя вернее всего, от обоих. Так бы они им, как мячиком, и поиграли, пока все же не пришлось бы согласиться, хотя бы для видимости.
А Падан, даром что главарь, каким-то чутьем понял, о чем Берит подумал, и так же дружелюбно, как в начале разговора, произнес:
– Гиена, обманывать меня не моги. Тогда уже не ты один в заливе всплывешь, хотя и не опознают тебя, ведь прежде над тобой мои ребятки поработают денек-другой, а как они это умеют, сам знаешь… Если что, и девахе твоей не жить. Или вдруг с ней такое случится, что она о смерти как о милости думать станет, да вот беда – не всегда получается умереть-то вовремя.
Кое-кто из орков опять рассмеялся, но быстро увял. Догадались, что Падану это может не понравиться, он теперь на убедительность давил.
– Думай. Ты сейчас – никто, так, шавка мелкая, гиена и есть. А если сделаешь это, у тебя сразу авторитет будет.
– Так ведь искать меня станут… не знаю даже как! Это же не шутки, не лоха деревенского на рынке ободрать и даже не богатейчика какого в переулке подрезать. Церковники же этого не простят, не забудут.
– Отлежаться тебе мы дадим, никто тебя не сыщет. И даже со жратвой и выпивкой отлеживаться будешь. А потом, глядишь, никому и не нужен ты станешь, как сейчас. Только крале своей, за хабар, что оттуда стянешь. – Падан уже терял терпение. – Ну соглашайся, Гиена. – Все теперь смотрели на него, а он смотрел на тарелку с недоеденным мясом и отчего-то думал, что не нужно было к нему прикасаться. А Падан договорил так: – Ты же нормальный вор, у тебя все получается, вот только… скидывать хабар ты не умеешь.
Гогот орков теперь прозвучал почти как помилование. Продавать хабар он и в самом деле не умел. Иной раз такую штуковину удавалось утырить, что другой какой семье на деньги за нее можно было бы год жить, а у него покупали так, что и на ужин с пивом не хватало. Потому что знали все о нем, знали: если как следует прижать, он согласится на любую монету, лишь бы хоть что-то выручить. Эх, воровская доля…
– Ладно, – уже жестко заговорил Падан, – выбирай, Гиена. Идешь на дело? Или… город без тебя обойдется, даже чище станет. Гных, окажи ему честь, найди капустный лист, пусть он мясо заберет. Все, вали, пока я добрый.
Гиена забрал мясо в грязном зеленом листике, который ему подал орк двумя пальцами с когтями, что только точильным камнем можно было укоротить, и пошел вон. Но у двери неожиданно даже для себя обернулся:
– Падан, слушай, ты вот что?.. Ты сам придумал, чтобы меня на это дело послать? Или подсказал кто?
Падан посмотрел на него и нахмурился. Он не знал, что сказать, или знал, но говорить не хотел. Но Берит и не ждал, что ему ответят, где-то глубоко он уже и сам знал ответ. И он ему очень не понравился, только делать было нечего, на самом деле следовало уходить… Пока Падан добрым оставался.
3
Вечереющее небо висело над городом светлым шатром, хотя земля казалась уже темной и малолюдной. Берит устроился напротив храма Метли, собираясь провести тут немало времени. Сам храм был огромен, собственно, это было одно строение, более похожее на компактную крепость, или на широко раскинувшийся замок, или на монастырь, отчетливо предназначенный для обороны, – такая же надежность и солидность кладки, сторожевые башенки, надстроенные над углами высоких стен, украшенные ниже зубцов горгульями, где стража пряталась в ненастные ночи, и единственные ворота с двумя коновязями по бокам и большими, вычурными державками для факелов, которые горели тут ночи напролет.
Храм считался зажиточным, даже богатым, вот только не из-за каждодневных подношений, а потому что ему принадлежали, кажется, три или четыре деревни неподалеку от города. Среди его прихожан за те несколько веков, что он стоял, бывали весьма богатые и известные даже за пределами города люди, они-то своими пожертвованиями и составили его благополучие. Ныне в него почти вовсе не пускали прихожанок, хотя среди женщин о нем, как и о самой Метле, разговоры ходили постоянно, по большей части прославляющие ее как охранительницу семейного быта и благополучия. Вот только странные это были разговоры, мужчин в них не допускали, а если кто-либо хоть что-то и умел подслушать, то пересуды эти оказывались порой с такими подробностями, что и сутенеры Падана краснели, мялись, не решаясь пересказывать их даже собутыльникам, и, уж конечно, пробовали поскорее забыть, чтобы кошмары ночью не мучили. Страшноватенькой Метля получалась в этих разговорах, мстительной, жестокой даже по меркам Береговой Кости.
Перед самим храмом находилась небольшая площадь, когда-то она считалась респектабельной, и дома тут стояли все больше старые, сделанные на совесть, по мнению многих, красивые и удобные. Да только площадь эту уже давно те, кто жил в городе, обходили стороной, и торговцев тут почти не осталось, лишь пара вывесок болталась на ветру – шорника и какого-то стекольщика, а по виду вывесок можно было без труда понять, что дела у них шли не очень. В общем, угрюмая была площадь.
И снова же непонятно было, почему о ней такое мнение сложилось, ведь перед воротами ясным днем, как правило, два-три стражника болталось, следовательно, можно было чувствовать себя защищенным хотя бы от городских громил. И ночами по стенам храма обходы те же стражники совершали, значит, смотрели все же по сторонам, кого из лихих людишек или из слишком гонористых могли и повязать, если сержант правильно свою службу соблюдал… А вот поди ж ты, не любили это место, эту площадь.
Берит сел в сторонке боком к воротам, чтобы не привлекать к себе внимания тех же стражничков, хотя и не особенно надеялся, что они его не заметят. Все же храмовники были не городские бездельники, и доля от воровской добычи их сержантам почти наверняка не перепадала, как было заведено у портовых архаровцев, а потому они и служили куда как строго. Но делать было нечего, нужно было смотреть, слушать и ждать, пока в голове сложится представление, что тут можно поделать и как следует поступать, чтобы не попасться.
Пока небо еще светлым оставалось, прохожие все же сновали перед Беритом, куда же без этого, ведь на площадь выходило ни много ни мало, а шесть улиц, не всем удавалось миновать ее. Даже два всадника проехали, один был какой-то франт, в расшитом камзоле, хотя пропотевшем да пыльном, словно бы из дальней дороги возвращался. Другой оказался худым, в заморской шапке, но с мечом и в таких наручах, что становилось ясно: связываться с ним – себе дороже. И конь у него был хозяину под стать, хоть костлявым, но при том жилистым и крепким… Ну да это была не его, Берита, забота.
Потом прохожих не стало, Берит сделал вид, что задремал, в стену вжавшись. Вот эта видимость его, кажется, и подвела. Каким бы спокойным ни почитался этот район, а все же Гиену заприметили три каких-то незнакомых и злобных по повадкам дуралея. Один был высоким и тощим, про него сразу становилось понятно, что еще пару недель назад он пас где-нибудь под городом стадо коз или баранов. Второй был толстеньким, даже вальяжным немного, и говорил излишне громко, Берит услышал, как он уговаривал своих подельников – «так это же просто…», «разок хлопнем, а там…».
Ну-ну, думал Берит, примеряясь, как сподручнее выхватить наваху со здоровенным выкидывающимся клинком. Он верил своему ножу и не сомневался, что с тремя-то деревенскими дурнями справится, хотя и не нужно было ему привлекать внимание. Да, они могли все испортить.
Вот третий был самым опасным, жестокий, тупой, сильный и почти наверняка из тролльей породы. Хотя чего уж тут, тролльей крови в нем было едва на восьмую часть, а значит, и с ним можно было справиться, если драться быстро и пронырливо.
Потом они куда-то отвалили, не видно эту троицу стало, может, лениво думал Берит, они ждут, пока стемнеет, или почуяли, что он их заметил, и из осторожности решили не связываться с тем, кто их не испугался, а остается на месте. Всякое в городе бывает, по-разному получается, заранее не скажешь.
Потом последний свет в небе угас окончательно, и стало темно, лишь факелы перед воротами храма-крепости Метли стражники запалили и ушли внутрь, бродить себе по стенам да в кости играть по маленькой, коротая ночь. Вот тогда-то на Берита и накатило. Он вдруг понял, что может проникать своим сознанием в этот храм, может видеть переходы, где тускловато горели слабые, внутренние факелы, может видеть служителей, усевшихся за свой скудноватый ужин, может видеть подземные переходы и даже стражников, совершающих медленные обходы.
Иногда он даже слышал, как они топают по плитам переходов грубыми солдатскими сапогами и как звякают оружием. А вот что они при этом говорили, он не слышал – такая странность с его слухом приключилась. Как, почему, откуда у него была эта особенность – оставаясь в стороне видеть почти все, что происходило в домах и даже, как в данном случае, в храме, окруженном тяжелой и мощной стеной, почти наверняка защищенной магией и молитвами многих и многих людей, которые к этой самой Метле Святой обращались за помощью? – этого он осознавать уже давно не пытался. Это был его талант, дар или проклятье, из-за которого он и стал вором. Талант, который требовал, чтобы он его применял, использовал, едва ли не развивал, который не мог оставаться неиспользованным, неприменяемым, талант, которому Гиена и сам был не рад, но который составлял его особенность, делал его отличным от всех других людей на свете.
Он сосредоточился, хотя и так сидел, утонув в храме Метли, как в небольшом болоте, из которого можно и не выбраться вовсе… постарался и понял, как может проникнуть глубже обычных подземелий храма, потом еще немного дальше… И вот у него уже получилось едва ли не зрительно представить себе коридор, ведущий к хранилищу, с мокрыми от вечной сырости стенами, он разобрал и ступени, такие низкие и щербатые, неверные и истертые, что на них можно ногу сломать, а потом и дверь, которая закрывала доступ в главную камеру. Дверь он изучил внимательно, замок был несложный, такие он и в юности открывал за пару тычков, но что-то было не так… Как ни странно, ему мешала темнота, царящая там, в подземелье, ему бы немного света, хоть от далекого факела, вот тогда бы он…
– Хорошо расселся? – раздался голос.
Берит с трудом выдернул себя из храма, оторвался от исследования запора сокровищницы и попытался вернуться в нормальное состояние. Оказалось, к нему подвалили громилы, один уже уселся рядышком на корточки, привалившись к стене дома, зафиксировал левую руку, это был говорливый коротышка. Второй, длинный пастух, просто наступил ему деревянным башмаком в невероятно вонючих обмотках на правую ладонь. Третий стоял перед ним, поигрывая каким-то тесаком, больше смахивающим на мясницкий нож для разделки туш. И поигрывал-то он им не слишком умело, так, просто перекладывал из ладони в ладонь… Дураки они были, как есть дураки. Если уж решили его порезать, то следовало сразу бить, ногой ли, коленом, или всем сразу навалиться, пока он был еще там, в храме Метли. А теперь… все изменилось, он уже был тут, в своем теле. Берит попробовал вернуть глазам способность видеть, к счастью, темнота в подземных коридорах храма этому немало сейчас способствовала.
– Выкладывай-ка, городской, чего там у тебя заимелось, – просипел третий, тролльей закваски, с тесаком. – И не вздумай сказать, что ничего нет, мы голодны…
Договорить он не успел и стоял далеко, чтобы сразу вмешаться в драку. Берит еще раздумывал, очень уж соблазнительно было освободить именно правую руку, чтобы потом… Но обмотки у пастуха были слишком вонючие, поэтому он сделал иначе. Резко наклонился влево, к коротышке, и куснул его за нос – за самую выдающуюся часть морды. Кровь брызнула на язык и на губы как соленая и неприятная на вкус гадость, но Берит был к этому готов и заранее сказал себе, что это будет ненамного хуже того, что иной раз готовит ему Гонория.
Коротышка с невнятным, но мучительным мычанием отдернулся и покатился по земле, зажимая лицо, пробуя не захлебнуться в собственной крови. А в зубах Берита остался кончик его носа, тоже вонючий, не уступающий обмоткам длинноногого пастуха. Берит выплюнул его и освободившейся левой быстро ударил раскрытой ладонью – чтобы ненароком не промахнуться в темноте – пастуха в колено сбоку. От этого удара в колене что-то затрещало. Попутно он выдернул ладонь, отдавленную деревянным башмаком, но все же не сломанную, и стал почти свободен. Почти… В том смысле, что он-то сидел у стенки, а третий, с тесаком, стоял над ним.
Но этот недотролль промедлил, не ожидал сопротивления, был настроен поглумиться, как многие из деревенских дурней любят, вместо того чтобы действовать, бить и не давать Бериту подняться… И его промедление оказалось довольно долгим… Гиена укатился вбок, за уже орущим во всю глотку толстяком, чтобы оставаться в темноте, в которой вся троица плохо ориентировалась, не разбиралась, что происходит.
В общем, на несколько последующих мгновений катающийся от боли по мостовой толстяк и Берит слились в одну почти неразличимую кучу, и хотя троллевидный ударил своим тесаком, но по тому месту, где Берита уже не было. Плохая, дешевая сталь широкого и длинноватого ножа высекла из стены искры и зазвенела, как показалось Бериту, едва не перекрывая вой укушенного.
Тогда Гиена крутанулся еще раз, почти под ноги главному громиле, и сумел проскочить, даже поднялся на колени, даже ногу одну уже поставил, чтобы встать, вот только… Тот пастух, у которого колено все же хрустнуло, но не сломалось, ударил его ногой, пробуя достать носком своего сабо с обмоткой и не задеть замешкавшегося третьего с ножиком. Он бы сумел, вот только… Опорная его нога вдруг описала какую-то невероятную дугу, длинный пастух вздернулся всем телом в воздух и шлепнулся с таким звуком, словно ком мокрого тряпья кто-то с размаху швырнул на эти камни. Нужно было для дела-то более подходящие башмаки раздобыть, с мстительным удовольствием успел подумать Берит Гиена.
Он сумел защититься от этого удара, силы-то в нем не было, только по рукам досталось. Тогда он все же перекатился еще разок назад и вскочил. Но еще вставая дотянулся до своей навахи.
Когда она с металлическим, сухим, а не звонким щелчком выпустила свое лезвие длинной в половину локтя, изокнутое внутрь, как серп, и острое, третий из нападающих попробовал его опередить, взмахнув все же тесаком после предыдущего, крайне неудачного удара, с далеким выходом вперед, чтобы достать эту неясную тень, на которую они, к своему несчастью, напали… Берит видел этот удар, он отшатнулся немного, а потом попробовал ударить навахой по уходящей сбоку от него руке противника. Удар тоже не получился, Берит для толкового удара еще неправильно стоял, не успел закрепиться на ногах и сгруппироваться, но все же что-то зацепил. Хотя может быть, всего лишь разрезал плотную куртку этого деревенского…
Теперь расклад стычки получался совсем иной. Берит стоял и был отлично вооружен. Противники же были слабее. Толстый коротышка захлебывался кровью и подвывал от боли, хотя уже по злобе что-то бормотал, обещая отомстить, наверное. Длинноногий тоже поднялся, но стоял так, что его повалил бы и слабенький ветерок, к тому же и сабо его никуда не делись, а на брусчатке они скользили, как по гладкому льду. Третий выставил вперед свой тесак, но в нем резко поубавилось решительности. Если уж он не сумел попасть в сидящего на тротуаре, а потом в едва разогнувшегося Берита, то чего же от него требовать, когда противник стоит в полный рост и готов к бою?
Порезать этих олухов, пожалуй, стоило, к тому же, вероятно, удалось бы и разжиться чем-нибудь, вот только… со стены храма кто-то зычно и привычно-командным голосом закричал вниз:
– Эгей, что там у вас внизу?
Со стены увидеть происходящее стражники храма не могли, но они отлично могли собраться всем составом и выйти из калиточки, прорезанной в воротах, под свет двух факелов, а значит, могли увидеть Берита, запомнить его, и впредь все наблюдения за храмом сделались бы невозможными. Гиена задумался, дело не стоило мести.
К тому же, пока троица неудачников топталась перед ним, а он раздумывал, калитка стала со скрипом отрываться. Тогда Берит повернулся и помчался по знакомым улицам в сторону порта. Там тоже будет небезопасно, но это была знакомая с детства и куда более злая для напавшей на него троицы опасность. Он слышал, как все трое попробовали за ним гнаться, но длинноногий пастух был им теперь обузой, потому что бежать он толком не мог. К тому же Берит знал все подворотни, как свою ладонь, и он ушел от них, будто от стоячих.
И вот когда уже все миновало, когда он перешел с бега на шаг, даже наваху спрятал в малозаметный карман штанов, за пояском сзади, он вдруг все понял… Как-то так сложилось, что эта стычка хотя и глупой была, ненужной, мешающей, как ему прежде казалось, но что-то щелкнуло у него в мозгах, и он сразу же представил себе, как нужно идти по коридорам храма, минуя и стражников, и чрезмерно освещенные факелами места, чтобы проникнуть в подвал, и когда это следует сделать, чтобы не столкнуться с караулами, и даже наметилось что-то по поводу того, как следует вскрыть сокровищницу… Да, все у него мигом стало на место, он даже приостановился.
Наверное, возбуждение драки ему помогло быстро все придумать. От этого ему не по себе стало, прежде он так легко ничего не придумывал, иногда по неделе наблюдал за домом обычного обывателя, пока начинал понимать, что и как следует делать. А тут… Но это было, и было верно, он этому плану поверил едва ли не сразу. Хотя и рискованно все же выходило, но могло получиться. И еще как могло!
А забираться в храм придется по мордам горгулий, решил Берит, только бы они не ожили, а то сказывают, что они лишь прикидываются каменными, а на самом-то деле сторожат, заряженные какой-то магией, недаром же их вылепили и по стенам поставили.
4
Сомнения навалились на него дня через три, а вернее, через три ночи, которые Берит помнил очень плохо, потому что провел их как в тумане, больше соображая о своем плане и уточняя его, по сути, провел их больше в храме Метли, чем занимаясь обычными делами в своем мире. Хорошо еще, что Гонория знала это его состояние и не мешала, не лезла со своими упреками, чрезмерным вниманием, разговорами и пересудами. Просто приносила еду и смотрела, как он лежит на своем тюфяке возле стены, уставившись не видящими ничего глазами в потолок.
А он действительно уточнял свои действия, будто бы уже согласился на них… Да ведь, наверное, на самом деле согласился. Если бы не те трое дураков, что на него напали и после драки с которыми он отлично все представил себе, он бы все еще не решался. А теперь он уже знал, что пойдет на это дело, хотя и трудное оно было. Это тебе не в дом залезть к замшелой старушке, которая и ходить-то может только с клюкой и всего на свете опасается, это значило обмануть бдительных охранников, каждый из которых будет только рад его подловить и получить если не повышение, то хотя бы награду какую-нибудь от храма. Это значило совершить нечто такое, о чем в их воровской среде еще долго будут говорить, и даже места станут уступать в кабаках, и угощать попробуют, чтобы от него послушать, как он ловко все провернул… Хотя главного, того, что он все увидел, сидя под стенами храма, а потом продумал еще десяток раз, сидя у себя в мансарде, разумеется, он никому и никогда не скажет, даже под пыткой… Ну смотря под какой именно пыткой: под бичом, положим, покочевряжится, а вот на дыбе, наверное, не выдержит, скажет и еще придумает, чего не было, чтобы к дознавателям подольститься.
Но все же сначала попробует не болтать, потому что это значило бы, что он выдаст свой главный секрет, расскажет, что обладает талантом… За который его либо сразу же кончат, либо начнут так использовать, к таким заданиям приговаривать, что он все равно сгорит, рано или поздно.
В том-то и была загвоздка. Что-то во всем этом просвечивало такое, чего Гиена не понимал, а ведь хотелось понять. Что-то странное было в легкости, с какой он вычитал строение храма, и как он быстро согласился, и даже в том, насколько теперь это дело казалось ему исполнимым, заманчивым даже. Хотя и не было таковым.
Внизу что-то защелкало, потом загремело, потом послышались грубые, тролличьи, кажется, голоса. Нет, скорее гоблинские, а если так, то ему лучше не подниматься, не выспрашивать, мол, кто там?.. Но дверь открылась и без его участия, хотя он ее закрывал на щеколду, вот только щеколдочка эта разлетелась в щепы. Он попробовал вернуться в этот мир, не думать о храме и его сокровищнице и поднял голову.
Это были, определенно, ребята Падана. Один, чистый гоблин, здоровый и жесткий, как бык, другой был человеком, ну почти, и, наверное, говоруном, лечилой, черт бы побрал этих сволочей… Говорун сразу сел на единственный в комнате табурет, сложил руки на груди, ласково так осмотрел Берита с головы до ног, потом с ног до головы.
– Привет, Гиена, – сказал мягким, как перина, голоском. – Тебе привет, сам знаешь от кого, и вот что хочется знать… Ты к делу-то когда приступишь?
– Да чего с ним разговаривать? – удивился гоблин-бык. – Дать по ребрам, чтобы повежливее был, и потом…
– Умолкни, а? – попросил лечила. Снова повернулся к Бериту.
Пришлось Бериту сесть в кровати, даже слегка улыбнуться. А в голове билась одна только мысль – может, еще обойдется? Хотя и знал уже, что почти наверняка – нет, не обойдется.
– Ребята, может, вы пива принесли? А то в глотке пересохло, хочется…
Гоблин все же ударил, несильно, без замаха, в голову. Удар пришелся в плечо, все же успел Берит чуть прикрыться, но его отбросило к стене. Он от стены отклеился и снова уселся прямо, улыбнулся гоблину, чтобы расположить его к себе, если удастся, хотя навряд ли, и чтобы ему свои зубы показать, может, он хотя бы тогда чуток утихомирится?
Вот только получилось наоборот, гоблин лишь разозлился.
– Еще ухмыляешься, отрыжка! – заорал он и снова попытался ударить. Только теперь Берит был настороже, перекатился мягко, удара не получилось.
– Тихо, – снова, не повышая голоса, приказал говорун. – Ему же объяснить нужно, за что ты его… – Он посмотрел теперь на Берита так, что лучше бы было этого объяснения избежать. – Падану надоело ждать, у него заказ, а ты жмешься… Чего ты жмешься, Гиена?
– А он гордый, – прохрипел гоблин и упал на Берита всем телом.
Прижал его к кровати, которая не выдержала и рассыпалась, да так неудачно, что Берит оказался в каком-то провале между обломками и тюфяком и никак не мог выбраться или увернуться. А гоблин принялся его мутузить, с удовольствием ощущая эти удары, жарко и противно дыша прямо в лицо своей жертве. Тогда говорун, подождав, пока гоблин натешится, произнес:
– Ты его бей несильно, он нужен еще, пока не отказался.
– Тогда ладно… – Гоблин поднялся, еще раз пнул Берита, который лежал, не в силах подняться, отошел все же к двери.
Лечила встал, отпихнул табуретку, так что она упала на Берита. Сказал зло:
– Ты урок усвоил, сволочь? Вот и думай быстрее, следующий раз так легко не отделаешься.
Они ушли. Берит покатался по тюфяку, вытирая кровь из носа и пробуя найти положение, когда бы ребра и грудь так сильно не болели, но все же пришлось подняться. Потому что вошла Гонория. Она все увидела и поняла сразу. Помрачнела, поставила табуретку, села пряменько, даже сложила руки на коленях, стервоза.
– Я их сдержать пыталась. Но таких разве удержишь?
Берит все же добрел до умывальной плошки, поплескал в лицо водой, утерся той драной тряпкой, которую использовал вместо нормального полотенца. Тряпка воняла, и уже давно, но Гонория другую не приносила, тоже воспитывала по-своему.
– Ты как? – все же спросила она, теперь уже пытаясь придать голосу озабоченность. А может, и в самом деле волновалась за него, хотя бы немного.
– Нутро отбили, зверюги драные, – просипел Берит.
– Ты бы с ними сошелся, а? – высказалась Гонория. – Они бы тебя так не метелили при каждой встрече, а с уважением…
– Ага, молотили бы с уважением, скажи еще – с реверансами, – рыкнул Берит, согнал с табурета Гонорию, сам сел. Ноги у него дрожали от боли и унижения. И дышать выходило больно, все же изрядно его этот бык гоблинский отделал.
– Ты вот что, посиди пока. Я тебе сейчас рыбки принесу, у меня почти свежая рыбка жареная есть, – смилостивилась вдруг Гонория и умчалась вниз.
Обернулась действительно быстро, поставила на колченогий, обломанный с одного края столик миску с жареной рыбой. Даже хлеба принесла, а потом еще добавила и кружку воды, хорошей, которая почти и не пахла водорослями, наверное, к дальнему фонтану ходила с кувшином, а не к здешнему колодцу.
Берит подумал-подумал и стал есть. Какая это была рыба, он не понял, по вкусу что-то среднее между кефалькой и камбалой. Да и челюсть болела, все же свернул ее этот недоумок и урод… Да и рыба ему вдруг разонравилась, заметил он, что куплена у разносчика, а не приготовлена Гонорией, видно, поленилась она, не захотела сама у плиты стоять. И откуда у нее деньги, ведь самой жарежку устроить – дешевле бы вышло.
И все же он был ей благодарен. Неожиданно для себя обернулся и в упор, требовательно, как и не хотел сам, спросил ее:
– Ты меня-то хоть любишь?
До того, как он спросил, она смотрела на него почти с жалостью, он это чувствовал, а может, и воображал себе, что она – так-то вот с жалостью. Но когда спросил, она в лице переменилась, стала обычной Гонорией, туповатой, вечно злой и агрессивной.
– Тебя любить?.. – протянула она, как и почти все женщины в этом квартале умели. – Ишь чего захотел? – Она резко, словно воровала, выдернула тарелку у него из-под рук, а он и хлеб еще не доел, и спрятать в кулак не успел. Вышла за дверь, но, прежде чем спуститься по шаткой лестнице, обернулась, что-то в ее лице было все же непривычным, не таким, когда она порыкивала на него: – Зачем любить? И за что, за побрякушки? Они того не стоят, ты бы добыл что-то дельное, тогда бы, глядишь… – И вдруг со слезами в голосе, чего никогда не бывало, договорила: – Не нужна тебе любовь, тебе бы только трахаться да жрать!
Под ее тяжкими шагами лестница закачалась так, как раньше никогда не качалась, того и гляди рухнет. Берит осмотрел свою комнатуху, разломанную теперь кровать, разорванный тюфяк, сорванный со стены коврик. Поднялся, ходить уже получалось почти нормально, без хромания, вот только дышалось еще с трудом. Все же умело его бил этот гад, очень умело. И следов почти не осталось, если не считать фингала под глазом и разбитого носа, ну да это в их городе и в их домах за несчастье не считалось.
А потом он понял, что следует все же приниматься за дело. Как ни крути, а все незаметно для него созрело, даже перезрело немного. Прежде всего, он попробовал выкинуть из головы все мысли: и о храме, и о том, что его ждет, если он проколется, и о клятом Падане, и обо всем том, что этим вечером произошло. Мельком посмотрел в окошко, ночь там наливалась чернотой, становилась гуще. Если бы не его способность видеть в темноте, пришлось бы, пожалуй, свечу зажигать. Хотя и была у него всего-то одна свечка, сальная, вонючая, дымная и почти не дающая света, но все же была.
Нет, Берит решил, что свет ему не нужен. Просто дотащился до угла комнаты, поднял доску в полу, пошарил внизу. Достал свою сумку. Это была обычная холщовая сумка, с длинными ручками, чтобы носить через плечо. Выложил на стол туго перевязанную тряпицу, развязал и развернул, в ней были инструменты. Это были не слишком хорошие железки, но когда-то он ими гордился, теперь, правда, следовало бы заказать себе и получше, научился за годы-то ремесла, вот только денег не было, а влезать в долги слесарю он не решался. В общем, пока обходился этими.
Одна отмыкалка была для висячих замков значительного размера, другая поменьше, но тоже для висячих, он ими почти и не пользовался, потому что склады и ворота – не его специальность. Потом два хитрых щупа, которыми можно было через узкую щель просунуться и справиться с засовом, если его не закрывала еще какая-нибудь защелка. А потом последовала его гордость – почти две дюжины мелких крючочков, которыми он умел открыть едва ли не любой дверной замок в городе. Хорошо еще, что у них в Береговой Кости не было чрезмерно искусных умельцев, и замки даже в богатых домах устанавливали несложные, и этими вот железками, как правило, можно было справиться.
Помимо отмычек Гиена достал еще ломик, очень острый стеклорез и стамеску, чтобы бесшумно расширить щель между косяком и дверью, если она бывала слишком узкой. Он протер каждый из инструментов и осмотрел внимательно, чтобы не сломалось что-нибудь на деле. Хотя как бы он поступил, если бы, например, даже на фомке заметил трещину или начавшийся излом, было непонятно. Может, пошел бы к Падану, чтобы подзанять новую, хотя тот и содрал бы с него втридорога за кусок железа… Эх, чем больше теперь Берит думал о своей жизни, тем меньше она ему нравилась.
А ведь раньше он о жизни не задумывался, даже не пытался, даже не предполагал, что такие мысли существуют. Теперь же… Это был еще один тревожный звоночек из тех, которые он слышал последние дни, вот только как следовало поступить, он все равно не знал. Ладно, возьмет он это Покрывало Метли, а там… Может, что-нибудь и переменится к лучшему, потому что куда уж хуже-то?
Он стал спускаться по лестнице и тогда вдруг подумал, что скоро ее нужно будет чинить, укреплять, а ведь раньше он и об этом не думал. Он остановился, снова начал гадать – откуда у него эти вот незнакомые и странные мысли? Будто кто-то незаметно залез к нему в голову и талдычит свое, будто бы он что-то должен сделать, что-то совершить, и не вполне для себя привычное, хотя и сложное… Нет, ничего до конца он не сообразил, подошел к двери, что вела на улицу. Она была заперта на разломанную щеколду, видно, и здесь тот гоблин здоровенный потешился, урод. Обернулся, крикнул, чтобы Гонория в своем подвальчике знала:
– Ухожу я.
Внизу, где Гонория, видимо, сидела, что-то упало, а потом стало так тихо, как и в могиле не бывает. Не хотела она ему ответить, разозлилась, наверное, и на сломанную дверь, и на его вопрос о любви.
Вышел, дверь захлопнул за собой гулко, прошел два шага по знакомому переулочку и вдруг снова остановился. Дышал тяжело и смотрел теперь назад с мукой. Ох, плохо это было – возвращаться, когда на дело уже вышел. Но деваться некуда, рука-то была здорово отбита, когда он пробовал защититься от ударов, не стоило ей сегодня доверять, хотя завтра, не исключено, еще хуже будет. Да, досталось ему не вовремя, но, с другой-то стороны, когда это вовремя бывает?.. И все же развернулся, пошел назад.
Подниматься теперь не стал, зашел в полуподвальчик, где Гонория сидела на довольно широком, но ободранном креслице, склонившись над чем-то мягким и чистым. Видно, какую-то скатерку подрубала, или даже штопала, или вышивку какую-нибудь пускала по ткани, она же мастерица была, на самом-то деле, могла и вышивку сделать, и очень неплохо у нее выходило… Но головы не подняла, спросив угрюмо:
– Чего вернулся?
– У тебя веревка была, где?
– В углу, за комодом, валяется.
Веревка у нее действительно лежала за ящичным комодиком, который достался ей, когда Берит случайно разбогател вдруг и купил комод у столяра с соседней улицы. Ох и гордилась же Гонория подарком, даже пробовала воском натирать, чтоб блестел. Этот комодик она считала теперь обязательной своей вещью, чтобы заказчики видели: пусть она и не богата, но их вещички, над которыми она работает, не просто так окажутся в кучу свалены, а будут уложены аккуратно, как в хороших, хозяйственных домах.
Берит отодвинул комод, за ним увидел нишу со свернутым кольцами куском толстенького шпагата. Он уже и забыл, когда и где его стырил, теперь, когда у него одна рука болела, веревка эта была кстати. Он вытащил ее, отрезал маленьким портновским ножом, который нашел перед Гонорией, два куска локтей по пять длиной, связал, чтобы получились две петли. Сказал неопределенно:
– Это – чтобы отдохнуть, если не найду хорошего уступа. А то рука левая почти не сгибается в локте, и плечо ноет.
– Может, еще фонарь нужен? – спросила вдруг Гонория.
– Нет, если понадобится, я там факел отыщу.
И Берит по прозвищу Гиена окончательно пошел заниматься своим делом.
5
Он стоял перед воротами в храм Метли и смотрел на факелы, которые этой ночью, сухой и на редкость ветреной, выбрасывали в воздух свое пламя, яркое, неровное. Стоял почти на том же месте, на котором произошла драка с тремя деревенскими дурачками, и успокаивался. Как ему начинало казаться, у него даже ребра переставали болеть, даже плечо отпустило. Он снова вникал в здание перед собой, согласовывался с ним, проникал в его архитектуру, в его характер, в строение коридоров, стен, контрфорсов, помещений, и даже еще точнее – в передвижения охранников по стенам и внутри зданий, в свет факелов, который изнутри, через редкие и узкие окна, похожие на бойницы, пробивался наружу…
Где-то мелькнула тень, едва заметным затемнением этого света, еще где-то раздался невнятный звук, то ли бравые охранники затеяли перепалку, а может, просто заспорили о чем-то своем, или монахи дружно и стройно начали молиться, выпевая Метле псалмы, или служки убирались после долгого дня и торговались, кому что делать… Гиене было знать важно, но не слишком. Он и так уже знал, как будет двигаться и куда направится.
Обошел стену, со стороны бухты, невидимо плещущейся за домами, тут было чуть-чуть светлее, все же море еще подсвечивало, хотя это могли различить только его глаза, охранники храма этого наверняка не замечали. Потом присмотрелся к горгульям, они ему не нравились, были слишком выразительными. Он снова, уже в который раз, подумал, может, и стражники не понадобятся, схарчат чудища эти неловкого воришку и не подавятся, лишь поутру под стенами его косточки обглоданные найдут и даже убирать не станут, городские собаки растащат, чтобы в своих укромных углах догрызть.
Какой-то храмовник наверху неуклюже загремел доспехами и коротким копьем проскреб по камням, а может, так-то он боролся со скукой, ленью и собственными мечтами, хотя, с другой стороны, какие мечты у охранника?.. Пиво он и так каждый вечер получает, жратвы ему, по всему, тоже хватало, и даже форму выдают, почитай, дважды в году, а о прочем он и догадаться не умел… Все это было теперь глупо и неправильно со стороны Берита, теперь следовало действовать. И не терять концентрацию.
Как бесшумная тень, почти незаметная в общей темноте, Берит выскочил из щели между домами и оказался под стеной. Отсюда она казалось непомерно высокой и слишком уж гладкой, чтобы по ней можно было взбираться. Но он знал это чувство, его можно было перебороть. Он пополз, вжимаясь в камни, прилипая к ним, как большая, не очень шустрая муха. Щели в кладке от выветренного и вымытого дождями раствора позволяли воткнуть пальцы, хотя бы самыми кончиками, и даже носки мягких сапожек, а впрочем… Зря он их не снял, повесил бы за плечо, тогда бы взбирался на когтях, когти-то у него на ногах были – загляденье, твердые, длинные, ими удавалось почти на любой стене найти опору… Да, зря не разулся, но теперь сожалеть было поздновато.
Берит посмотрел вниз, он добрался уже до середины стены и был локтях в восьми над землей. Горгульи нависали над ним еще ближе. И отбитое плечо вдруг запульсировало такой болью, что Гиена зажмурился, собираясь с силами, чтобы дальше карабкаться. Пополз, и вдруг морда горгульи оказалась совсем рядом – большая, каменная, с ужасающе и чрезмерно натуралистично разинутой пастью, а ее голову прорезали глубокие и частые канавки, обозначающие, по мнению скульптора, то ли волосы, то ли складки кожи. За них удалось зацепиться, и морда, кстати, не ожила, не вцепилась в него… Обычным украшением эта морда оказалась, всего лишь.
Тут Берит не выдержал, скинул с пояса одну петлю, закинул на голову сверху, удачно укрепил ее за каменное ухо чудища, вторую зацепил за клыки в пасти и смог поставить обе ноги в них. Теперь он висел более чем в дюжине локтей над улицей, ползти наверх ему оставалось еще футов десять, не больше. Но он знал: чтобы перебраться через парапет, ему потребуется вся сила рук, и для этого нужно, чтобы боль в плече поутихла. Он настолько обнаглел, что даже попробовал чуток присесть на каменную горгулью, но для его зада она была слишком узкой и неровной, нормального отдыха не получилось еще и потому, что болели ребра на каждом вдохе. Все-таки мудрый он стал, раз уж подготовил эти петли.
Дождавшись, чтобы дыхание снова сделалось бесшумным и глубоким, Берит встал ногами на морду горгульи, осторожно выпрямился и пополз дальше, наконец-то дотянулся руками до края стены. Теперь он стоял совсем спокойно, прислушиваясь: не хватало только перевалить через край стены в объятия задремавшего стражника… Но на стене никого не было, где-то дальше, за висячей настенной башенкой, действительно кто-то негромко переговаривался, но это было далеко, ярдах в сорока от него. Путь же до лестницы и дальше, в одну из пристроек к кухне, был свободен. Гиена перемахнул через стену между зубцами, тут же присел, вжался в каменный парапет, осмотрелся еще раз, еще вернее. Так и есть, можно одним рывком сбежать со стены к этой пристройке главного здания, вот только бы двери в нее оказались незапертыми.
Он пробежал, низко пригибаясь, по стене, потом вниз, по нешироким, но надежным ступеням, добрался до двери. Открыл ее едва на фут, знал по опыту, что скрипит дверь обычно, когда ее открываешь чуть больше. Как он определял то место, где дверь начинала издавать звук, как он умел почувствовать характер каждой петли – он и сам не знал, это умение было в нем, кажется, от рождения. Проскользнул внутрь. Это было хорошо, теперь его было не видно. Снова передохнул.
Так, теперь по коридору вправо и вниз, там должна быть лестница, и что самое замечательное – эти службы пустовали, ни стражников, ни монахов, ни служек тут не имелось, только крысы да тараканы могли ему теперь встретиться. Берит побежал, по-прежнему почти бесшумно, то есть те звуки, которые он все же поневоле создавал, можно было услышать только с расстояния считаных футов, не дальше. Дверь в подвалы оказалась неплохо освещена факелом, вставленным в стенную державку, но поблизости никого не было, и он рискнул. Она была заперта, но всего лишь на обычный засовный замок, грубо отлитый из черной, незвонкой бронзы, он справился с ним минуты за две, приоткрыл дверь, снова едва на три ладони, протиснулся за нее, прикрыл. Запирать, естественно, не стал. Перед ним оказалось подземелье.
И в нем никого не было, оно было почти пусто. Почти… Потому что Гиена отчетливо ощущал: что-то в нем есть, какие-то сигнальные устройства, что-то в высшей степени хитроумное, по мнению строителей храма, а для него – уже семечки, пустяки, воплощенная глупость тех, кто это подземелье строил. Берит двинулся вперед мягко, словно и не был живым существом, а был частью самого храма или летучей мышью, которая не задевает ни пола коридора, ни стен, ни низкого, сводчатого потолка.
Глаза привыкли видеть в полной тьме, едва он дошел до следующих дверей, уже спустившись по узкой лестнице ниже уровня земли, наверное, футов на двадцать. Эти двери были еще массивнее тех, прежних, и повозиться с ними пришлось чуть подольше, зато можно было не опасаться, что кто-то услышит звяканье отмычек. Тут Берит был один-одинешенек и едва ли не отдыхал при этом.
Вот только для замка этого пришлось три отмычки использовать одновременно, уж очень у ключа, который его отпирал, была сложная бородка. Но Гиена и тут сумел. Расправившись и с этой дверью, он собой едва ли не загордился. Преждевременно, конечно, но главное – почему-то у него появилось ощущение уверенности в успехе, он решил, что все у него получится, и это было настолько приятно, настолько вкусно… что пришлось даже ощущение это слегка подавлять, потому что он знал – освобождение от настороженности почти так же мешает выполнению дела, как плохие отмычки.
Дверь чуть скрипнула, но он не торопился, открывал ее едва ли не медленнее, чем трава растет, а потому сразу замер. Все оставалось покойно, скрежет в верхней, кажется, петле никого не насторожил. Берит продвинулся в образовавшуюся щель, придерживая дверь изо всех сил, пришлось и воздух выпустить, и брюхо втянуть, но он все же просунулся. Перед ним снова была лестница вниз, он пошел по ней, оглядывая стены, ступени, потолок… Ловушек пока не было. И наконец-то он оказался перед совсем уж глубоким коридором.
Идти по нему было скользко, вода подтекала тут по стенам тихими, сложными узорами, но и уходила по полу куда-то еще ниже. И когда Берит прошел уже ярдов двадцать, наконец он увидел… Это была «паутинка», ловушка, сотканная из нитей в виде настоящей паутины. Вот только сплели ее не пауки.
Но справляться с такой Гиена научился еще в детстве, мать научила. Она тоже не чуралась в иной чулан залезть, чтобы едой запастись, когда совсем уж голодно становилось. Весь фокус был в том, чтобы подуть на нее, а потом, когда она уже начнет колебаться, разорвать, подув чуть сильнее на некоторые из боковых нитей, ведь бывают же сквозняки, и даже в таких коридорах… Он освободил один из нижних углов, закрытых «паутинкой», сосредоточился, еще раз дунул, чтобы она поднялась, как легкий занавес… И перетек под ней по полу, не обозначив себя кому-то там наверху, кто наверняка за этой системой безопасности послеживал.
Теперь еще нужно было пройти по коридору в определенной последовательности его ответвлений, не тыкаться наобум. Берит это понял, еще когда первый раз изучал подземелье, сидя перед храмом. Это была тоже довольно хитрая ловушка, нужно было миновать сначала левый коридор, потом свернуть направо, снова пройти по коридору, оказаться почти на том же месте, с какого он начинал движение после «паутинки», и лишь потом двигать по центральному проходу, ведущему к сокровищнице. Гиена так и сделал, все было в порядке, он прошел и эту ловушку. И оказался наконец-то перед последней дверью, за которой находилось главное хранилище храма.
Для начала он обследовал ее тщательнее, чем мастеровой, который когда-то ее изготовил. Но вроде бы все было в порядке, не было тут никаких сигналок о том, что дверь открывается. Он не поверил и проверил все еще раз, потом посмотрел на дверь измененным взглядом. Это было непросто, да и само это его изменение было неосторожностью, оно могло вызвать какой-либо магический шум, его вполне мог кто-нибудь заметить там, наверху. Но это было все же необходимо, это была разумная неосторожность, можно сказать, необходимый риск. Но и тогда он ничего не заметил.
Тогда стал открывать замок. А был тот совсем старым, настолько, что поневоле приходили в голову мысли о столетиях, миновавших с того дня, когда этот замок установили здесь. Общую систему Гиена, конечно, понимал, но какие-то хитрости, уже забытые нынешними мастерами, не позволяли с замком справиться. Берит даже разозлился на себя, потому что не ему, Гиене, было тормозить перед таким запором. А потом что-то щелкнуло, и все – дверь качнулась… Всего-то на волос, но она, несомненно, сдалась, и он толкнул ее.
В сокровищнице было не так темно, как в коридоре. Откуда-то пробивался лучик света, вероятно, от лампы, зажженной наверху, отбрасывающей свет по сложной системе вентиляции умело поставленными зеркалами. Храмовники всегда были мастерами на такие штуки. Для привыкшего к подземельной тьме Берита это было неумеренной иллюминацией. А еще тут было сухо и свежо, вовсе не чувствовалось застоявшейся сырости, которая осталась за дверью.
И пахло богатством, пусть и ненужным, едва ли не забытым, но все же богатством, деньгами, драгоценностями, изобилием, добытым трудом многих поколений самых разных существ и рас, живущих в мире.
Берит осторожно прошел вперед по проходу, образованному собранными и выставленными у стены доспехами, богато украшенными золотом, серебром и полудрагоценными каменьями. Потом пошло оружие помельче – узорчатые мечи и булавы странной формы, какие-то арбалеты с расстроенными спусковыми механизмами и разорванной тетивой, другие смертоносные устройства, о действии которых Берит даже не пробовал догадываться. За ними на разных полках находились прочие побрякушки – табакерки, кольца с браслетами, диадемы, даже две совсем потемневшие от времени короны, одна большая, мужская, другая поменьше, может, женская или детская.
Помещение сделало поворот, и пошло все прочее – немалых размеров чаны с самоцветами, но пока не слишком дорогими, хотя за иные из них Берит с Гонорией мог бы безбедно прожить месяц или больше. Было также много тканей, вычурных, драгоценных, вышитых узорами, но толку от них было мало, потому что они уже наверняка сгнили. Были меха с севера, дорогие пояса, какие-то мантии, тиары… И лишь за ними оказались монеты. Их было очень много, но все больше серебра, тусклого и старого, как и все, что здесь хранилось. Совсем у стен стояли бочки, как в винном подвале, только поставленные на донышко, и без крышек, многие из них разваливались от ветхости, а из них на пол просыпались, словно застывшая вода, совсем уж черные бронзовые монетки, но изредка то тут, то там поблескивало золото. Настоящие золотые невиданной формы и незнакомой чеканки… Собрать их нетрудно, хоть целый кошель, но что на них купишь? Первый же трактирщик, увидев такую монету, донесет стражникам, а они-то сообразят… Нет, Берит не знал, что с этим делать.
У дальней глухой стены находились полки с какими-то амулетами, и было их так много, что он даже потряс головой. А еще тут были предметы обихода храмовых служб или подношения богатеев, что-то просивших у Метли, – поставцы, подсвечники, кадила, много ламп и лампадок… снова перемежаемые богатой одеждой для служб, сплошь затканной золотом и украшенной таким количеством уже настоящих, дорогих камней, что Берит едва не зажмурился. И свет здесь опять пробивался по воздуховоду, падая на небольшой ящик, выделяя его, словно бы главную ценность… Может, это был гроб Метли, ее саркофаг, ее хранилище?
Вот только, как Берит точно знал, ее мощи находились наверху, в главном приделе всего этого храма-монастыря. И хранились они под толстой прозрачной крышкой, чтобы все, кто заслуживал такой милости, могли на Метлю посмотреть и помолиться, глядя ей в лик, вернее, в то, что от него осталось, все же жила святая лет семьсот назад, но также рассказывали, что мощи ее оставались нетленными… Еще рассказывали, что те, кто подходил к ее мощам, испытывали благодать, а перед этим ящиком Берит ничего особенного не ощущал… Или все же что-то на него действовало?..
Но не могли же храмовники выставить наверху фальшивку, а здесь оставить настоящую Метлю? Нет, такого быть не могло, ведь ходят же к ней прихожане, и многим она помогает, от чего-то вылечивает или, наоборот, на врагов что-то наводит… Жаль, не силен Берит в религиях, надо было расспросить хотя бы Гонорию, что она знает об этой святой?
Он даже призадумался и лишь потом, очнувшись, вдруг заметил, что на краю этого ящика, в ногах, если это был гроб, лежит тончайшее, почти невидимое даже при свете сверху Покрывальце, конечно, пыльное, но и определенно целенькое, словно бы вчера только вытканное. Сероватое или синее, с легкими золотыми и серебряными нитями по кайме. Вот глядя на это покрывальце, Берит по прозвищу Гиена определенно что-то почувствовал.
Это было нечто нежное, мягкое, уступчивое и в то же время сильное, крепкое, как океанский корабль, только что спущенный со стапеля. Легчайшее, парящее над миром и даже в этом подземелье веселящее все вокруг, но и несминаемое, возобновляющееся постоянно, как трава или волны, как ветер или восход солнца. Теперь Гиена знал, зачем он пришел сюда и что от него требовал Падан, он протянул руку и стянул это Покрывальце со странного ящика, скомкал. Ткани в этом Покрывале оказалось меньше, чем водки в одной рюмке, он бы мог вообще спрятать его в своем ухе, если бы захотел, и оно бы там отлично уместилось… А ведь казалось, пока было расстелено, таким широким и длинным, не меньше, чем зимняя женская шаль.
И тогда в храме что-то изменилось, Гиена почуял это, как вообще привык чуять и оценивать опасность. Тревога, храмовники заметили его, поняли, что он забрался сюда, в сокровищницу, и уже знали, что он похитил эту вот тканинку, Покрывальце это… клятое!
Он дернулся, как будто в него попала тяжелая и острая стрела, пробив насквозь. Он все-таки чего-то не заметил, пропустил какую-то из местных ловушек, и теперь нужно было удирать!
Берит сунул Покрывало за пазуху и побежал назад, к двери, уже не обращая внимания на драгоценности, которые хотел собрать для себя как гонорар за дело… Он бежал и про себя начинал молиться – только бы двери, которые он оставил открытыми, не защелкнулись какой-нибудь магической хитростью, с которой он не успеет справиться, потому что через считаные минуты тут будут стражники… Он слышал обостренным пониманием происходящего, как они где-то над ним топают сапожищами, расставляясь по периметру храма, и даже на стенах, с которых ему еще предстояло спуститься…
6
В город они вошли за несколько минут до того, как стража начала закрывать ворота. Хотя это и необычно было, потому что в некоторых портовых городах, перегруженных работой, как слышал Фран, ворота вообще не закрывали – слишком много нужно было перетащить грузов, приходилось еще и ночами трудиться. Но тут, видимо, привыкли иначе, и сведения Франа, рыцаря Ордена Берты Созидательницы, оказались неточными.
Ворота заперли, едва Фран с Калметом оказались за стенами, они даже посмотрели, как это происходило. Вышло, кстати, довольно шумно, с руганью привратных солдат с крестьянами, которые чего-то не успели – кто не успел выехать, а кто-то не сумел уже въехать. Но так или иначе, а ворота все же закрылись. Привратники, все еще доругиваясь и ворча, выставили с внутренней стороны двух охранников, а потом пошли в караулку – ужинать, по всей видимости. Калемиатвель проговорил:
– Все как обычно, господин, как и у нас бывает.
– Нужно постой найти, – решил Фран, и они отправились искать гостиницу, чтобы поужинать и расположиться на ночь.
Гостиница, в которой они решили остановиться, стояла сбоку от одной из рыночных площадей. Здесь было почище других постоялых заведений, куда они по дороге заглянули, и лица у служанок были чуть веселей, и одеты они оказались чуть побогаче, и выглядели более довольными и сытыми. Называлась она «Четырехлистник», что это значило, ни Фран, ни Калмет не знали, но что-то это все же значило, а как же иначе?
Пока они ужинали, кстати, неплохим жарким из свинины, сыром, довольно ароматным и крепким вином и на редкость хорошими, свежими булочками, которых Калмет съел чуть не целую дюжину, макая их в подливу от жаркого, Фран поговорил с хозяином. Тот, быстренько оглядев зал, присел за стол к самому богатому и знатному, по его мнению, путешественнику и пустился в обычные в таких случаях разговоры.
Тогда и выяснилось, что власть в городе крепка, а времена установились спокойные, слава барону и всему его благородству, даже чумы, что частенько наведывается в портовые-то города побережья, давно не бывало… Но говорить с владельцем «Четырехлистника» оказалось, в общем, скучновато, поэтому, когда он стал повторяться, а есть уже не хотелось, Фран с Калметом посмотрели на комнату, которую им выделили, одну на двоих, но с двумя кроватями, и отправились бродить по улицам.
Хотя Фран и подозревал, что в этом сером, убогом городишке, где слишком тесно, по его представлениям, проживало тысяч под двести разных смертных, смотреть будет не на что. Не могло быть тут ничего слишком-то уж интересного, даже порт, пожалуй, будет таким же унылым, как и все в этих землях, в этих владениях.
Хозяин им вслед прокричал:
– Вы бы осторожнее ходили, гопода хорошие, не ровен час, в портовые кварталы забредете. А там по ночам разное случается, туда даже стражники лишний раз не суются.
Франа это мало беспокоило, он лишь звякнул навершием кинжала о поясную пряжку и ничего не ответил. Неожиданно Калмет решил высказаться:
– Господин, не нравится мне этот трактирщик. Ох не нравится… Видно же, что он бывший солдат, битый и умный, и глаз у него на нашего брата наметанный, он многое понимает.
– Уже понял, – рассеянно отозвался Фран.
– Может, и уже, – согласился оруженосец.
В этом была доля правды, солдата видно и по выправке, и по привычкам. Как ни переодевайся и кем ни представляйся, как ни меняй форму и белым плащом ни прикрывайся, а главное все равно остается. И хорошо ли было в их нынешнем положении, что остается? Пожалуй что, не очень, ведь приказано же Госпожой, чтобы они тишком, незаметненько… Только как тут незаметным останешься?
– Значит, – решил Фран, – нужно все провернуть быстро, чтобы никто ничего не успел против нас предпринять.
И оба подумали, как иногда бывает между тесно живущими и хорошо знающими друг друга людьми, что было бы неплохо, если бы они еще знали, что именно им тут делать?
Они бродили, смотрели на людей, которых становилось по вечернему времени все меньше, напились в фонтане, который подавал воду, а потом ноги сами привели их… куда-то ближе к порту, в некий пограничный район, между относительно зажиточной частью города и кварталами совсем уж бедных, едва ли не нищенствующих обывателей. Как часто случается, это были старые кварталы, с которых город начинался в невообразимо далеком прошлом.
Так и должно быть, решил Фран, богачи могут позволить себе новые дома, а в прежние, ветшающие и потихоньку разваливающиеся, селились те, у кого денег на новое жилье не было. Лишь позже, когда город обретет достаточный статус, когда снова пойдут деньги тех, кто захочет сюда переселиться, центр начнет восстанавливаться, заново отстраиваться, ремонтироваться, и тогда, глядишь, это место вернет респектабельность, станет настоящим украшением города – богатым, привольным и спокойным. Но пока до этого было далеко.
Внезапно Калмет дернул Франа за рукав. На небольшой площади перед строением, которое более всего напоминало Франу рыцарско-храмовое приорство или оборонительный монастырь, с тяжкими башнями, выглядывающими поверх стен, на которых красовались горгульи, мало вязавшиеся с монашеским служением… – на площади шла работа, стучали топоры, и полдюжины плотников сколачивали то, что Фран и Калмет узнали сразу, – над невысоким помостом строили виселицу.
Фран заинтересовался, постоял, посмотрел. И вдруг… Как уже бывало с ним, виселица эта вдруг сделалась такой явственной, такой яркой даже в сгустившейся тьме, что он глаза потер от удивления. Но нет, дело было не в ярких факелах, которые освещали помост и перекладину на двух столбах, и не в том, что Фран слишком долго к виселице этой приглядывался.
Она на самом деле сделалась какой-то… цветной, что ли? Проступила фактура свежерубленого дерева, лезвия топоров заблестели, как бывает только у очень ухоженных инструментов, даже лица плотников стали едва ли не вдохновенными. И еще Фран решил, что неизвестно почему он почти о каждом из этих вот мастеровых может сказать что-то определенное.
Вон у того болен сын, и он о нем волнуется, рассчитывает, если за эту работенку заплатят, он сможет пригласить к нему настоящего доктора, который лекарства продаст. Другой, карлик с окладистой бородой, в которой застряли опилки и мелкие стружки, надеется прикупить подруге новенький браслет, чтобы она была к нему благосклонной… Кажется, и подругу Фран теперь мог представить себе, будто бы по волшебству: она была не карликовой крови, а получеловек-полуфеноя, какое-то из мелких эфирных созданий, которые, случалось, жили в городах, промышляя магией и торговлишкой… Третий был крестьянином, попал в город недавно, но тщился заработать на жизнь здесь, чтобы выписать из деревни семью, потому что очень уж голодно у них в деревне стало. Какой-то из владетелей так устроил хозяйство, чтобы его арендаторы разбегались кто куда, а он бы на освободившейся земле устроил выпасы для тонкорунных редких овец и тогда сделался бы уважаемым торговцем шерстью… А как можно выгнать арендаторов, которые эту землю пахали много поколений? Только голодом, поднимая плату за аренду до небес, отнимая у работяг все, что они могли получить за свою работу. Он-то, этот вот крестьянин, потому и в город подался, чтобы грядущую зиму все же пережить, не сдохнуть от бескормицы…
Фран тряхнул головой, пытаясь сбросить наваждение, вернуться к своим чувствам и мыслям. Для верности обернулся к Калмету:
– Ты ничего не заметил?
– Плохо строят, торопятся, – отозвался оруженосец. – Когда мы однажды осадную башню пробовали строить, тоже торопились, так меня сержант так отделал… А их за такую-то работу он тоже по скулам бы почесал. Плохо строят, для одного дурака какого-нибудь, конечно, хватит, а вот для чего серьезного… Нет, долго не простоит.
– Пойди узнай, в чем дело, – приказал Фран.
Калмет отправился к мастеровым, спросил о чем-то, Фран это видел, как все теперь видел – слишком резко, отчетливо и ясно. Карлик, который оказался главным, подошел к Калмету и о чем-то начал ему горячо рассказывать, Калмет кивал, соглашаясь. Наконец карлик поклонился, Калмет пошел назад.
– Он сказал, что это храм Метли какой-то… Она у них тут святая местная и для женщин многое значит или значила когда-то.
И снова, с той неожиданной ясностью, которой Фран все не мог надивиться, он вспомнил, что имя это ему не совсем незнакомо. Когда он был мальчишкой при орденских казармах, что-то он о Метле слышал… Ведь их там не только мечом махать учили, даже азбуку магий привить пробовали, а если у кого получалось, брали в мальчики для внутренних покоев, и считалось это тогда весьма значительным повышением, ведь это тебе не грязь на плацу месить…
– А почему виселица? – спросил он.
– Виселица? – удивился Калмет. Все же он иногда очень тупым оказывался, не сразу понимал, чего от него хотел Фран, если ему очень подробно и точно не объяснить заранее. – Не знаю, я как-то не спросил об этом.
Фран раздраженно дернул плечом и сам отправился расспрашивать мастеровых. Когда он подошел к карлику, тот согнулся в таком поклоне, что Фран без труда мог бы его принять за один из камней мостовой. Он бросил, пожалуй, резковато для начала разговора:
– Выпрямись, мастер. – Карлик почти выпрямился, но все равно стоял пригнувшись, и что у них тут за порядки такие, если даже мастер плотников не стоит прямо? – Скажи, зачем виселица?
Карлик бессмысленно и трусовато обернулся, словно искал помощи у охранников храма, пара из которых стояла у ворот. Один из охранников наконец-то понял, что какие-то приезжие выказывают слишком большой интерес, лениво и чуть высокомерно зашагал к Франу, за спиной которого маячил Калмет.
– Что происходит? – спросил он зычным голосом, которым, наверное, с успехом умел орать на новобранцев.
– Скажи, служивый, кого тут повесят? – спросил Фран так спокойно, что рука храмового охранника непроизвольно дернулась, чтобы удачнее перехватить алебарду.
Но он все же справился с собой, отозвался уже куда тише и почтительней:
– Да вор один тут у нас, господин, имеется… Знаменитость местная, уже столько украл, что диву даемся. Всю жизнь ворует, а поймали только сейчас. То есть сегодня под утро поймали, значит. И вот ведь, сукин сын, до самого хранилища сумел прокрасться, зато вышел оттуда уже прям нам в руки. – В голосе охранника помимо воли прозвучали едва не одобрительные нотки.
– И что же он пытался украсть на этот раз?
– Сказывают, господин, что на одну из святынь храма нашего благословенного покусился… Покрывало всеблагой Метли, кажись, его даже прихожанам, которые приходят к нам, не показывали, очень уж оно священное… Хотя, – охранник призадумался, – разное рассказывают… Ты бы лучше, господин хороший, кого из сержантов спросил. Или даже капитана нашего, если позволишь, он как раз неподалеку, в караулке, сидит, я его приведу, чтобы он тебе в подробностях все изложил. Тебе-то он расскажет, ты же не из этого… обыденного сброда будешь, господина офицера сразу видно, издалека.
Охранник, оказывается, умел к тому же и подхалимничать, но в меру, это Фран вынужден был признать. Не улыбнувшись даже уголками губ, он кивнул.
– Пожалуй, ты прав. Если возможно, я бы хотел поговорить с тем, кто тут у вас распоряжается. – И добавил, чтобы впредь не томить служивого: – И обращайся ко мне – сэр рыцарь, без прочих разных глупостей.
– Прошу простить, сэр рыцарь, – выпрямившись и твердо глядя в лицо Франу, отчеканил охранник. – Разрешите выполнять?
– Действуй, солдат.
Подхватив по-уставному свою алебарду в левую руку, как полагалось при перестроениях бегом, охранник бросился к воротам. Фран отвернулся, снова попробовал смотреть на виселицу. Сейчас она уже почему-то не казалась ему ярко освещенной факелами, не казалась отчетливой, словно бы окружающая серость ночи – да и ночи ли? – смазывала ее, как и весь город этот под названием Береговая Кость, как и всех здешних обитателей. Все же Фран спросил карлика-мастерового, просто чтобы проверить себя и свою способность видеть этих людей:
– А вот скажи, мастер, тот вон долговязый, должно быть, недавно из деревни? Голодно там, вот он и отправился на отхожий промысел…
– Точно так, господин, он из далеких деревень, там теперь всех крестьян хотят сжить, чтобы овец, значит, поболе развести и шерстью богатеть.
– Далее, мастер, вон у того парня, что сейчас на перекладину лезет, семья тут, в городе? И сын у него, сказывают, болеет чем-то?
– Так ты тут уже бывал, господин хороший? – спросил карлик с опаской. – Или интересовался отчего-то нами?.. А может, для работы какой нас присмотрел? Так мы хорошо работаем, мы-то всегда готовы, если в цене сойдемся и матерьял будет способный… – Он все же сумел ответить на вопрос: – Да, у сына его падучая, скверная болезнь, только за большие деньги вылечить возможно.
Франу вдруг стало едва ли не весело. Он повернулся и посмотрел на карлика в упор, насколько это было возможно при их разнице в росте.
– А браслет для своей подружки ты, мастер, уже присмотрел?
– Какой браслет?.. Ах браслет? Присмотрел. – Он вдруг закусил на миг губу, потом глаза его расширились. – Но я же никому об том не сказывал, откуда же ты, господин, знаешь?
Франа выручил громкий, уверенный и грузный шаг подкованных сапог по мостовой. К ним шел высокий, немного располневший, пожилой, но еще крепкий офицер из охраны храма Метли… Все же с трудом мог Фран назвать эту едва ли не крепость обычным храмом, у него было другое мнение. Охранник семенил за ним, припрыгивая. Офицер смерил Франа суровым, жестким, как палка, взглядом.
– С кем имею честь? – Голос у него был густой, низкий и тяжелый.
– Рыцарь Фран Соль, – чуть поклонился ему Фран.
– А путешествуешь ты, Соль, по каким надобностям?
– Выполняю приказ, офицер, как и всем нам приходится. – Фран решил сменить тему. – Виселица приготовлена…
– Для Берита по прозвищу Гиена, рыцарь. – Офицер храмовой службы чуть смягчился. – Известный в нашем городе воришка, но, кажется, уже отворовался. Попробовал стащить Покрывало Метли, выполнял заказ какого-то скупщика краденого, разумеется, попался и завтра поутру будет повешен. Публично, для острастки прочих таких же негодяев.
– Надо же, – сделал удивленное лицо Фран, – не побоялся с магией связываться?
– Его заставили, рыцарь, или нож в бок, или иди – воруй. Он пошел, да не сумел. – Офицер оглянулся, посмотрел на храм с почтением, продиктованным долгой службой, и с уверенностью в том, что иначе и быть не могло.
– И все же, мне сказали, он добрался до самого хранилища?
– Да, в сокровищницу он забрался, но выйти из нее оказалось ему уже не под силу. Да и Метля, – офицер, а за ним и солдат сделали странный жест, вероятно приписываемый Метле знак благоговейного уважения, – не позволила бы. Ты же сам сказал, с магией связываться – верный путь на эшафот.
Вообще-то ничего подобного Фран не говорил, но поправлять офицера не стал. Он сказал другое:
– Капитан, я хотел бы, в силу некоторых причин, взглянуть на этого Берита.
– Зачем?
– Не могу разглашать поручение, данное мне моей Госпожой… – Фран прикусил язык, называть или хотя бы просто ссылаться на Наблюдательницу было неразумно, особенно в Нижнем мире. Но эта ошибка оказалась удачной, капитан храмовой стражи едва ли не улыбнулся.
– Ты тоже служишь госпоже, как и мы?.. Непросто будет устроить, чтобы ты мог взглянуть на него. Приходи завтра на казнь, тогда и посмотришь.
– Я и сам не уверен, – пробурчал Фран. И попросил, уже почти по-дружески: – А каков он, этот Гиена?
– Я с ним разговаривал, – признался офицер. – Хороший парень, жадный и грубый, такого уговорить на воровство – проще чем чихнуть. Монеты, как всегда, сделали свое дело. – Он даже слегка потер пальцами, что извечно у всех рас и народов всегда обозначало деньги.
И этот жест подсказал Франу его дальнейшее предложение.
– С этим никаких сложностей не будет. Если ты позволишь мне взглянуть на него, тогда… – Он отвел офицера в сторону от его охранника и даже от Калмета. Собственному оруженосцу рыцарь доверял, но нужно было показать офицеру храма, что их сделка заключается в полной тайне. – Золотого будет достаточно, чтобы ты провел меня на него взглянуть?
– Да что тебе в нем? – спросил храмовник, немного насупившись.
– Может статься, что мы его тоже ищем.
– Вот завтра и получит он сполна, уж полнее некуда, – отозвался оцицер, решив, что Берита Гиену выискивают и хотят наказать еще за что-то, совершенное в других землях, в других владениях.
– Тогда чем ты рискуешь, капитан? – спросил Фран вкрадчиво. – А монета ведь всегда пригодится.
– Не положено чужим находиться в храме после захода солнца.
– А два золотых помогут раздобыть разрешение? Хотя бы частным порядком? Ведь сейчас храмовой охраной, насколько я понимаю, командуешь ты?
– Я-то командую, – вздохнул храмовник, усиленно раздумывая. – Да зачем он тебе? Обычный вор, ничего в нем особенного нет, только вот инструменты воровские у него были неплохие, так их уже забрали… Он в железе сидит, за решеткой, в подземелье.
– Ты же все время будешь рядом, – подсказал Фран, уже решительно, но и незаметно доставая кошель. Нащупал золото, не вытягивая руку, вложил монетки офицеру в ладонь. – По-моему, никакого риска тут нет.
– Слугу своего оставишь в караулке, – решился офицер. – А мы – быстренько, иначе мне от служителей достанется.
– Быстренько, – согласился Фран.
Они вдвоем вошли в храмовую дверцу, прорезанную в воротах, быстро протопали по каким-то коридорам и лестницам, прошли небольшой пустой зал, спустились в подземелье, прошли очень узким коридором и оказались в сводчатой квадратной комнате. Тут стояли дыба и стол с кучей пыточных инструментов на нем и еще не остывший горн, в котором тлели угли. А потом попали в низкий коридор, в который выходило четыре забранные решетками ниши. В одной из них и содержался Берит Гиена. Он сидел на полу, прикованный за обе лодыжки к большим черным кольцам, вделанным в стену. Голову он не поднимал и даже не взглянул на тех, кто пришел в узилище.
Фран подошел поближе, света тут было мало, горел только один факел у самой двери, узник казался темной кучей тряпья и отчаяния, заметить которую было едва ли не труднее, чем разглядеть небо через все эти каменные своды.
Почему же виселица была таким знаком, гадал Фран, что связано с этим вот неудачливым воришкой? Пока он ничего не чувствовал, но смотрел и не торопился. Он уже понял, что волшебство Госпожи, если оно присутствовало в его поисках, спешки не терпит.
Смотрел и на этот раз долго, ни о чем не думал, лишь гадал, он – не он? Нет, ничего Фран сейчас не знал об этом Берите, ничего не мог понять, ни на что не мог решиться… А если ошибка? Если ему все это всего лишь привиделось от излишне крепкого вина, которым напоил их с Калметом владелец гостиницы?
Удостовериться можно было лишь одним способом. Он решился, чуть отвернувшись от капитана охраны, достал мешочек с медальонами. Попробовал пальцами через кожу определить, где находится тот, который привел его сюда, и вдруг вздрогнул. Один из медальонов даже через замшу был ощутимо горячим. Фран вытащил серый медальон, и из глубины камня, который был в него вставлен, ясно изливался непонятный, но видимый свет. Фран даже оглянулся на офицера, который скучал под факелом у двери.
Вот так, решил Фран, теперь следует испытать – совместится ли этот горячий медальончик с вором, прозванным Беритом Гиеной. Кто бы мог подумать, что в этом вот несчастном, никчемном недогнолле или каменном гоблине горит серая искра? Одна из тех, что так нужна Госпоже…
Фран повернулся к капитану охраны храма Метли:
– Господин офицер, мы тут одни, поэтому я буду говорить прямо. Ты хотел бы так разбогатеть, чтобы до конца своих дней ни в чем не знал нужды?
– Что? – не понял храмовник.
– Отдай его мне, офицер, – продолжил Фран. – А за это получишь денег столько, что не только тебе не истратить, но и детям твоим останется.
– У меня нет детей.
– Так заведи, – предложил Фран. – С деньгами, которые я тебе могу за вот эту кучу мяса и тряпья заплатить, ты купишь себе землю где-нибудь подальше от города Кость и невесту. А дети… Они сами заведутся.
– Ты шутишь? – спросил офицер, тревожно, но и с видимой жадностью вглядываясь во Франа.
– Ты уже пожил, наверное, повоевал и уж в любом случае – послужил. Пора позаботиться о старости. Не век же носить эти железки да выполнять распоряжения разных дураков, которые только и стараются, чтобы их подчиненным служба медом не казалась?
Офицер вздохнул. И вдруг тоже решился, вероятно, он был все же честным служакой, но магия Госпожи, не исключено, сказывалась сейчас на нем. Или магия медальона, или еще что-то, о чем Фран не хотел и думать.
– Дорого станет, рыцарь, – пробурчал храмовник едва слышно.
– Это хорошо, что дорого, – улыбнулся Фран. – За дешево я бы не согласился, заподозрил бы ловушку, капитан.
7
Было так темно, что Берит удивился, почему он ничего не видит. Раньше-то почти всегда видел, а тут… Только факел у двери давал свет, но при нем отчего-то становилось даже темнее, уж лучше бы его не было. И лишь спустя время, когда Берит как следует очухался, он понял, что глаза у него заплыли от побоев, которыми угостили его стражники, когда поймали и пока вели в эти казематы, и даже тут не вполне успокоились, а пинали и топтали его подкованными сапожищами, пока он не отключился.
Зато сейчас пришел в себя и вот – удивился, отчего света так мало. А его не мало, его глаза не видели. И тело болело, да так, что прежде он и не знал, что может быть так больно. К тому же ему вывихнули правую руку, и, может быть, в двух суставах, в плече и у кисти… Или в локте, кто же при такой боли поймет, где у него суставы выдернуты?
Он сумел поднять левую руку, попробовал раздвинуть веки, нет, прикосновение к глазам поднимало такую болезненную волну, что он и сам не рад был, что левая рука двигалась. Все же зачем-то он поднял ее еще выше и стал царапать стену. Его прочные, сильные когти сумели выскрести из стены несколько камешков. Он надавил сильнее, пока и эта рука не заболела у когтей. Нет, не получится ему ударить хотя бы одного стражника когтем по горлу, когда придут его забирать, слаб он, стражники-то, когда молотили его, знали, что делают. Уж очень сильно били, почти ничего теперь он не мог против них, как ни старайся.
Чутье ему подсказывало, что скоро рассвет, значит, и повесят тоже скоро. Он вдруг понял, что, пока валялся без сознанки, все равно что-то да слышал – вот только нерадостные это были звуки, кажется, где-то рубили дерево. И не составляло особого труда догадаться, это виселицу устанавливали, должно быть, неподалеку. И зачем он только пришел сюда, зачем согласился на предложение Падана?
Но теперь поздно горевать, нужно успокаиваться, несмотря на боль, и ждать. Потому что ничего теперь от него не зависело, он давно знал, что так все с ним и кончится, как сейчас. Он же попал в самую неприятную для себя ситуацию, когда запоры на решетке, что закрывала его нишу, в которой его приковали, и дальше, по коридору, он ни за что не сможет открыть. Хоть все когти обломай, и все же, чтобы отвлечься от боли, он стал эти коридоры считывать, как умел всегда, как пару-тройку дней назад… Дней ли, неужто не столетий?.. Он снова понимал весь храм, все коридоры и стражников, что в них были расставлены.
Вот только бы руки и кости так не болели, и еще голова, и еще бы видеть хоть что-нибудь, несмотря на разбитые глаза и опухшую морду, к которой будто бы привязали какую-то на редкость плотную и тяжелую подушку, возможно набитую опилками, чтобы дышать через нее не всегда получалось… И как он не задохнулся, когда был в отключке? Уж лучше бы задохнулся и ничего не почувствовал…
А потом произошла необычная штука. Дверь в подземелье заскрипела, решительно и уверенно, совсем не так, как он привык двери отворять. Потом звякнул замок на решетке перед его нишей, он даже вздрогнул, не ожидал, что так-то боится смерти. Хотя все же еще рано… Или они предложат ему ужин смертника? Может, у них, хоть они и храмовники, такие порядки, такие вот бла-аго-ородные обычаи? Но нет, он уже знал, это что-то другое. Кто-то низким, но чистым, едва ли не мелодичным голосом удивленно произнес:
– Здорово вы его отделали.
– Что ему будет? – отозвался кто-то другой, резкий и грубый. – Он живучий… – После паузы тот же голос, но уже другим тоном добавил: – Мне нужно, чтобы он утек, пока я буду стражников инструктировать перед завтрашней казнью.
– Сам он не дойдет, – сказал мелодичный.
Теперь Берит отчетливо слышал в его произношении какой-то акцент, не неприятный, наоборот, веселый, будто одуванчик, но все же чужеземный. Хотя если подумать, тут, в портовом городе, каких только чужеземцев не водится, Метля их побери… Да, решил отчего-то Берит, если уж доведется выпутаться, хотя ныне это и кажется невозможным, буду ругаться Метлей, как последним отродьем ада, и неважно, святой ее почитают или как…
– Что делать? – спросил охранник.
– Сначала мы проверим, тот это парень, или мне все привиделось?.. Сделаем кое-что, может, это его немного подбодрит.
Каким-то краем сознания Берит понял, что чужеземец достает что-то из своих карманов, потом зашуршала хорошо выделанная кожа. А Фран достал медльон, который, пока торговался с храмовником, все же спрятал снова на грудь, заботливо упаковав в замшевый мешочек. Теперь достал, взвесил на ладони.
– Что это, сэр рыцарь? – спросил храмовник, Фран ему не ответил.
На одно колено опустился, твердым движением развернул безвольное и бессильное тело Берита к себе. Голова воришки бессильно упала на тощенькую грудь, отливающую темной синевой кровоподтеков. И приложил медальон в ямку между ключиц, где каждому полагалось бы иметь знак своего небесного покровителя. И тогда…
Храмовник даже заныл от прорвавшегося ужаса, не сумел сдержаться… Потому что медальон – словно бы оказался тяжелым камнем на зыбучем песке – стал тонуть в теле Берита, погружаться или истаивать, растворяться в нем. Храмовник прошептал помертвевшими губами:
– Магия, проклятая магия, рыцарь… Ты – маг?
– Как тебе было сказано, я выполняю поручение, храмовник. А приказы бывают разными, даже такими, каким сам удивляешься.
– Что же это за приказы такие? И кто их может отдавать? – Охранник помолчал. – Я бы ни за что не согласился…
– Потому приказ этот не тебе был отдан, – твердо проговорил Фран и толкнул Берита в плечо. – Значит, ты – наш.
Рыцарь изучающе и немного удивленно смотрел на Берита, который лежал, помертвев от ужаса, сознавая, что его клеймили. Как именно клеймили, почему, зачем?.. Этого он не знал, но понял, что это было не обычное клеймение раскаленным железом, это было что-то более опасное, необъяснимое и ужасное. Кажется, это было самое плохое, что он только мог вообразить, а может, и того хуже.
Рыцарь несильно похлопал его ладонью по щеке, спросил, на этот раз не шепотом, а чуть повысив голос:
– Эй, ты как? В себя пришел? – Он все же повернулся к храмовнику, повторил уже произнесенную прежде фразу: – Здорово вы его отделали.
– Ребята горят рвением, рыцарь, – неуверенно промямлил командир храмовой охраны. – Да и пиво вечернее было крепким, вот и получилось…
– Ладно, давай сюда плащ, – приказал ему рыцарь.
А Берит вот тут-то и решил, что уж если рубить кого-нибудь своими великолепными когтями, так именно этого гада, который его клеймил невиданной, невозможной магией. Пусть уж лучше здесь забьют до смерти, но этому вот… магу треклятому придется еще хуже. И он ударил, выставив когти так, чтобы они рассекли у разодетого господчика вены на шее и, может, даже горло, через которое он дышит…
Но он то ли действительно оказался слаб, то ли… В общем, его рука вдруг твердо, будто он по скале бил, замерла, перехваченная чисто вымытыми и ухоженными пальцами рыцаря. Он даже не удивился, просто поймал, как муху ловят или даже что-то более медленное… Но ведь Берит знал, что его удар – не муха, что он когда-то перехватывал стрелу, пущенную в него с двадцати шагов, – было у него такое занятие, когда он еще мальчишкой с бродячими жонглерами выступал. Но против этого рыцаря его реакции и скорости не хватило, и слабость тут была ни при чем, он это сам отлично понял.
– Однако, – чуть слышно прошептал храмовник.
– Значит, очухался, – спокойно, будто ничего и не произошло, сказал рыцарь. – Молодец, – похвалил он Берита. – Вставай, вот тебе плащ. Пойдешь за нами, на расстоянии шагов десяти, ближе не подходи.
– Нет, сэр рыцарь, мы должны все сделать, как договорено. Сейчас я вывожу тебя за стены, потом собираю всех стражников на стенах, якобы обсуждать, кто что будет делать при повешении этого вот… А он тем временем пусть уходит, не раньше. И если даже его перехватит кто-то, тогда, как договаривались, деньги ты мне все же отдашь.
– Ты получил половину, – задумчиво сказал Фран. – Если его перехватят, вторую половину ты не получишь. Это, так сказать, гарантия, что ты не напортачишь… А то ищи потом тебя, чтобы голову открутить.
– Я не напортачу, – хмуро проговорил храмовник.
Ага, почти с удовольствием решил Берит, есть и на этих управа, есть кто посильнее, кто может и вами помыкать… Он все же разлепил губы:
– Цепи нужно снять. – Он посмотрел на несложные замки, которые соединяли половинки оков вокруг ног. – Хотя бы шпильку женскую мне для этого…
– Верно, – подтвердил рыцарь. – Вот я и говорю, чтобы все было как надо, храмовник.
– Ну и воняешь же ты, вор, – сказал храмовник, вздохнул, вытащил из подкладки вязальную спицу, бросил небрежно на пол. Посмотрел на рыцаря, все понял и чуть наклонился к Бериту: – Двери решетки и в коридорах я оставлю отрытыми. Запомни, они плохо смазаны, выходи сторожко. У тебя будет минут пять, сержант у ворот тебя не заметит, он уйдет за новым факелом, а молодого я пошлю обойти стены. Сигналом будет рожок общего сбора, понял?
И оба этих… служаки ушли, но перед тем еще немного постояли у дверей, потому что рыцарь спросил:
– А он знает дорогу к выходу?
– Рыцарь, он тут, наверное, уже все знает, у него, Гиены этого, такая способность есть – определять, куда нужно идти. Про него рассказывают, что он из тех, кто чуть не сквозь стены видит.
– Значит, вы что-то да знаете о тех, кто вас обворовать пробует, – подивился мельком рыцарь. – Ну-ну, значит, не зря свой хлеб с подливой жуете.
Наконец они ушли, причем рыцарь позвякивал своим кинжалом о поясную пряжку, но так спокойно и уверенно, словно он ничего на свете не опасался и каким-то образом имел на это полное право.
Берит освободился от оков, хотя боль от неработающей правой руки изрядно мешала. Сумел подняться на ноги и стал ждать. Свод над ним был довольно высоким. Странно, когда он лежал на соломе, камни над ним казались почему-то близкими. Но эти люди могли выпрямиться, значит…
Все же сознание у него плыло. Но он пробовал оставаться внимательным, чтобы не пропустить звук рожка, который сюда, в подземелье, мог долететь таким слабым, что его и жужжание комара сумело бы заглушить. Но Берит его все же почувствовал, именно – почувствовал, а не услышал. Накинул на плечи плащ, хотя и не сумел застегнуть его грубой фибулой, и пошел. До решетки, затем до полуоткрытой двери, по коридору и вверх по ступеням. Кажется, ничего более трудного в жизни он еще не делал, но все же шел, знал, что это его шанс, выпадающий в жизни лишь однажды. Иначе он будет на рассвете повешен, и к тому же, Гиена не сомневался, капитан стражников, лишившись второй половины денег от рыцаря, уж всяко стесняться не станет, распорядится его так отделать перед казнью, что об этом лучше не думать вовсе.
Берит все же опасался ловушек, дурацкая, впрочем, идея, потому что, если кто-то захотел бы ему устроить ловушку, тогда зачем было его расковывать, вернее, кидать спицу?.. Но привычка и тут сказывалась. Кроме того, он почему-то не очень-то верил, что вывернется на этот раз. Не верил, и все тут. Магическое клеймо в виде медальона не убеждало почему-то…
Он выбрался во двор, глотнул свежего воздуха, ну почти свежего… Неподалеку кто-то настырно бурчал, вероятно, в караулке командир стражников действительно объяснял своим подчиненным, что и как следует делать во время той казни, которая… все же не состоится. Берит еще не верил в это, но уже усмехнулся. Перебежал двор, придерживая вывихнутую руку, прямо к воротам храма. Никогда не думал, что доведется ему вот так открыто и свободно бежать через этот двор. Прижался спиной к стене, отдышался, огляделся.
Ворота с прорезанной в них калиткой были уже близехонько, в неширокую щель пробивался свет наружных факелов, нужно было торопиться, времени у него было маловато, учитывая его состояние. Он нырнул во тьму, что царила под проходом в десяток шагов, почти добрался до спасительной калитки, как вдруг…
Сильная рука подхватила его, да так ловко, что он и пикнуть не успел, а его уже уперли мордой и всем телом в стену. От нее пахло каменной крошкой, дымом сгоревших факелов, которые проносили под этим сводом, и какой-то травой… А может, травой пахло от человека, который сейчас держал Берита за плечо и вывихнутую руку. От боли у него в глазах все помутнело, пусть и нечему было особенно мутнеть в этой темноте.
Рыцарь, который был, оказывается, где-то поблизости, легко проговорил:
– Спокойнее, Калмет, у него рука выбита, не ровен час, еще заорет от боли.
Хватка чуть ослабела, но все равно вывернуться из нее было невозможно. Да Берит и не стал бы пробовать, еще помнил, как легко перехватил его удар рыцарь, неужто у него слуга такому же не обучен?
– Он воняет, господин, – проговорил другой голос, не рыцарский, но еще более мягкий, мелодичный и спокойный. Потом кто-то наклонился к самому уху Берита: – Это хорошо, что у тебя руки не действуют, не сбежишь, связывать не придется.
– Все, пошли скорее, а то стражник скоро из-за стены выйдет. Тащи его, Калмет, если он бежать не сумеет.
– Может, господин, стукуть его, он сомлеет, а я его просто понесу на плече?
– Заорать он может, к тому же сам должен понимать, что теперь ему от нас никуда не деться. Все, пошли.
Калитка на площадь открылась со скрипом, но никого поблизости не было. И они втроем побежали, причем Калмет этот, как мельком заметил Берит, эльф или очень близкий к ним мужичина, действительно почти волок его, при этом, кажется, ничуть не напрягался, с таким же успехом он мог волочь и кочан капусты с рынка.
Они все же едва нырнули в темноту, расстилающуюся за освещенной факелами на ночь виселицей, добротно и даже не без изящества сработанной в центре площади перед храмом Метли, как из-за стены трусцой, дребезжа доспехом и гулко хлопая разношенными сапогами, выбежал тот стражник, которого отослали от ворот. Добежал, покрутил головой, дернул калитку, он не знал, что делать. Он-то думал, что калитка заперта, а ее запереть забыли… Как он, наверное, подумал. Еще разок осмотрелся и ушел внутрь, чтобы требовать второго стражника или доложиться, что все спокойно, хотя он что-то такое необычное слышал.
Рыцарь, слуга Калмет и Берит, невидимые для него, стояли у стены дома в темноте. Калмет мотнул в сторону виселицы:
– Это для тебя, вонючка.
– Он знает, – отозвался рыцарь. – Теперь вот что, без шума двигаем к городским воротам.
– Там нас и прихватят, – обреченно вздохнул Берит, – лучше отсидеться где-нибудь.
– Ты не отсидишься, парень, – сказал ему рыцарь. – Теперь тебя даже дешевый шаман с рынка отыщет минуты за две, по магическому фону. Единственная для тебя возможность не повиснуть на этой перекладине – убраться подальше и как можно скорее.
Они достигли ворот быстро и без помех, время было такое, когда уже никого не было на улицах. К тому же Берит чувствовал, как слабеет с каждым шагом, как боль разливается все новыми и на удивление сильными всплесками по рукам, по телу, особенно плохо почему-то стало с головой, он почти ничего не видел и был, пожалуй, даже рад, что его тащили.
Перед воротами они оказались снова в свете факелов. Впрочем, слуга с Беритом почти в обнимку остались не на самом освещенном месте. Рыцарь спокойно вышел вперед, перед ним оказалось всего-то трое стражников, да еще несколько шумно веселились в караулке, пристроенной к стене сбоку от воротного проема. Один из стражников поднял руку, остальные перехватили свои алебарды поудобнее.
– Стой! Кто таков и что делаешь глухой ночью, когда мирные жители спят?
Рыцарь спокойно протянул ему ладонь, на которой блеснуло золото.
– Достаточно ли этого, друг, чтобы без всяких осложнений выйти из города?
– О чем ты говоришь?.. – удивился стражник. Он все же облизнул губы и оглянулся. Потом посмотрел в сторону караулки.
– Ребята в караулке пьяны, как нетрудно догадаться, – произнес рыцарь. – Помощи от них тебе ждать не приходится. А вас всего трое. – Он чуть помолчал. – Я об этих сложностях.
– На стенах есть арбалетчики.
– Верно, – отозвался рыцарь. Вгляделся во тьму выше факелов. – Их там двое, благодарю, друг, за предупреждение, тогда… – Он легко, словно это было само собой разумеющимся, выложил на ладонь перед собой еще две монеты.
На площадке перед воротами повисла тяжкая пауза, золото горело, почти светилось ярче, чем факелы у стен. Привратный стражник снова облизнул губы.
– Господин, я должен тебя спросить, куда вы идете и зачем? – Он все же сподобился заметить на краю светового круга Калмета и качающегося от слабости и боли Берита в плаще храмовника Метли на плечах.
– Тащим одного друга, как ты сам видишь, стражника храма, к знакомой ворожее, чтобы она… подлечила его. На беду, она живет за стенами.
Этот человек умел убеждать, пожалуй, он мог бы уговорить море расступиться, соблазнил бы солнышко немного передохнуть и не ползти по небосклону, а ростовщика – отложить выплату долга на пару дней.
Стражник еще разок смерил взглядом сторожку со своими сослуживцами, по-прежнему шумевшими за кувшинами доброго вина, взглянул на невидимых для него арбалетчиков, которые что-то зашептали ему сверху, кажется, тоже уговаривали открыть ворота за такой-то куш, и сказал немного осипшим голосом:
– Тогда проходите, но если кто спросит, отвечайте, что вы прошли через другие ворота.
– Конечно, солдат, – проговорил рыцарь, легко передал ему монеты, и они вышли, оказавшись среди домов под наружными стенами.
На прощание стражник даже предупредил гулким шепотом:
– Там дальше наши конники, вы уж им не попадайтесь.
Но рыцарь его больше не слушал. Да и Калмет действовал, будто бы теперь все стало понятно и просто. Они дернули вперед с такой скоростью, что Берит, пробуя успеть за ними, не выдержал темпа и уже через сотню-другую шагов попросту завалился, отключившись от боли.
Пришел он в себя, когда с темного еще неба проливался намек на зарю. Но восход солнца не был виден из-за горы, которая нависала над ними. Рыцарь придерживал Берита, который лежал на мокром и вылизанном волнами до каменной твердости холодном морском песке, а слуга деловито вырубал в соседних кустах какие-то палки.
Но больше всего Берита поразило то, что тут же у моря стояли… каменные истуканы, окружив паланкин огромных размеров. И к тому же, как ни удивительно, через них, через этих каменных… и через паланкин был виден берег и некоторые волны покрупнее прочих, будто через стекло. Берит поморгал, но видение не исчезало, наоборот, наливалось красками, полнотой форм и даже чем-то еще, возможно, своей вещественностью. Опять проклятая магия, решил Гиена, медальон действует…
Рыцарь осторожно и умело ощупывал Бериту плечо, отчего оно заныло еще больше, чем даже в камере. Слуга справился с палками и подошел ближе, срубая своим кинжалом лишние сучки. Огляделся.
– Чем перевязать бы?
– Плащ этот нам больше не нужен, – уронил рыцарь.
Слуга поднял плащ стражника храма Метли, примерился и точными движениями распорол его на несколько длинных полос, закатал их в рулончики, чтобы удобнее потом мотать, видно было, он знает, что делает, и действовал аккуратно, наверное, как привык все исполнять в своей жизни.
– Что у него, господин? – спросил он рыцаря вполне по-дружески.
– Значит, так… Кисть ему не только выбили, но и сломали, кажется, в двух местах, воровать такой рукой он больше не сможет, хотя я и не понимаю ничего в воровском ремесле. А вот плечо вправлять придется нам обоим, там какой-то крученый вывих, лучше будет его придержать. – Он подумал, снова выщупывая что-то в плече Гиены. – Нет, лучше ты, а я только придержу его.
Рыцарь схватил Берита за плечи и торс, а эльф умело, даже с какой-то лихостью дернул руку, и боль тут же, вознесясь под небеса, стала понемногу спадать, хотя шевелить пальцами было еще адски трудно. Слуга стал громоздить на разбитое плечо и руку шины из палок и бинтов, вырезанных из плаща.
– Придется его некоторое время держать на отдельном сиденье, господин мой. Плечо-то вбок выпертым получается.
– Не страшно, места хватает, – непонятно отозвался рыцарь.
С кистью Калмет справился не так ловко, но сквозь жуткие, до тошноты, боли Берит все же слышал, как он говорил своим спокойным, рассудительным тоном:
– Ничего, парень он крепкий, выдержит, наверное. Для верности надо бы его подпоить, господин. А то я не сумею ему и шину наложить как следует, видишь, у него все тут бесформенным получается?
– Ты все же аккуратней, Калмет. Калеки нам ни к чему. А как вернуть теперь медальон, если он от боли или побоев концы отдаст, я не знаю.
– Нутро у него мы тоже подлечим, господин, у меня есть настои разные… Для этого случая сгодятся. Не беспокойся, мы такие вывихи на тренировочной площадке без всяких лекарей сами вправляли. А что о побоях… Так тебя пару раз после турнира и не таким приносили в шатер. И что? Подвел я тебя?
– То – я, Калмет, а то… Он же, ко всему, и недокормленный какой-то.
Потом слуга опять повернул Бериту кости, да так, что тот отключился уже по-настоящему. Пришел в себя, когда за полупрозрачными занавесями уже вовсю полыхало яркое, солнечное утро. Носилки, в которых они теперь сидели на легких матерчатых и деревянных лавках, мерно колыхались. Задняя занавеска была откинута, и в просвет между рыцарем и слугой-эльфом Берит увидел…
Давешние каменные истуканы бежали, легко забирая под ноги расстилающуюся безлюдную дорогу. Звуков при этом почти никаких не было, лишь жердяной каркас паланкина поскрипывал да кожаные занавеси чуть хлопали.
– Он очухался, – заметил слуга. – Теперь, значит, пора ему влить побольше микстуры, которая мигом поставит его на ноги, господин, не сомневайся.
– Я не сомневаюсь, – отозвался рыцарь. – Я наблюдаю и надеюсь на тебя, Калмет.
Полуэльф уверенно раскрыл Бериту рот, влил в него пару глотков какой-то жуткой смеси, от которой все тело вора мгновенно покрылось испариной и дрожь загуляла даже по туго спеленутой руке, до кончиков пальцев, а потом еще сказал:
– Нужно было, господин мой, пока он валялся в отключке, ополоснуть его в море. Уж очень он… духовит.
– Да, пованивает, – согласился рыцарь рассеянно. – Ничего, от города подальше уберемся, сполоснем его где-нибудь. – Он внимательно посмотрел на Берита, пробуя понять, насколько тот пришел в себя. Даже чуть улыбнулся. – Ну вот, вор, а ты говорил, что ворота нам не откроют… Жадные у вас стражники, а это многое упрощает.
Берит с трудом раскрыл пересохшие губы, к тому же они склеились от микстуры эльфа.
– А сейчас меня должны были повесить…
– Забудь об этом, парень, – почти дружески сказал Калмет. – С кем неприятностей не случается? Главное – им не поддаваться.
Все же говорил он очень правильно, хотя и с акцентом, как и его господин. Чувствовалось, что он тоже ходил в школу, был образованным, а не просто так… Ох, думалось Бериту, куда же я попал, во что опять влип? А слуга вдруг словоохотливо продолжил:
– Жадные они, господин, потому что бедные очень. И еще развлечений у них мало. Вот и считают, что удачно продаться – самое то, что нужно.
– Зато у нас их будет много, – неопредленно отозвался рыцарь, чуть улыбнувшись. Он по-прежнему в упор смотрел на Берита. Наконец спросил, выдал гложущее его удивление: – И почему с тобой связываться пришлось? Что в тебе хорошего?
– Не знаю, – отозвался Берит по прозвищу Гиена. – Может, тебе украсть что-нибудь нужно? – Рыцарь молча покачал головой. – Тогда не знаю, – продолжил Гиена. – Наверное, когда-то потом и выяснится.
– Вот и я пока не знаю, – согласился с ним рыцарь. И добавил: – Калемиатвель, раз уж наш приятель умирать не собирается, прикажи големам бежать быстрее. И скажи, что можно топать, если захотят. Главное – убраться как можно дальше от города. – Неожиданно он блеснул глазами, спросив Берита: – Если ты не против, разумеется.
И конечно, Берит по прозвищу Гиена был не против. Даже удивился, что его об этом спросили. Только Гонорию было жаль немного. Но все могло еще получиться неплохо, если он разбогатеет, она сама приедет к нему, куда бы его теперь, под предводительством этого рыцаря, ни занесло.
Часть III ЛЕХ ПОКРОВ ШЕЛЕСТ ГОЛУБОГО ПЕПЛА
1
Темнокожий орк Тальда всегда почему-то спорил с франкенштейном, который сидел на козлах кареты и правил лошадьми. Как это, собственно, происходило, Оле-Лех не понимал, вроде бы все было тихо, но иногда Тальда начинал раздражаться, а потом, высунувшись в окошко, орал на возницу, пробуя перекричать ветер, что бил ему в лицо. Крики его почти всегда бывали об одном – нужно ехать медленнее, а то недолго и в пропасть угодить или о скалы разбиться, что возвышались по бокам этой узенькой и петлистой дороги, по которой они спускались в Нижний мир, или вовсе следовало остановиться, чтобы Тальда мог отползти в кустики, где его выворачивало наизнанку.
Оказалось, что оруженосец и слуга Оле-Леха Покрова плохо переносит рывки и скорость, с какой летели черные кони Госпожи. Он даже пробовал жаловаться Оле-Леху, конечно, в своей угрюмой манере:
– Дурень этот возница, сахиб, он и до Нижнего мира не довезет нас в целости.
И Оле-Лех тогда отзывался, поглядывая на Тальду с разражением:
– Что тебе не нравится? По-моему, быстро, хорошо и удобно.
– В том и штука, что быстрее не бывает.
– Думаю, Сухром еще быстрее летит на своем корабле. Вот если бы нам корабль достался, хуже пришлось бы нам обоим, а так, как мы путешествуем, думаю… Заткнуться тебе следует.
Тальда затыкался, молчал час или два, а потом снова принимался кричать на возницу-франкенштейна:
– Ты, урод недоделанный, да есть ли у тебя хоть капля ума в башке? Ты же нас разобьешь по дури своей немереной!
Оле-Лех смотрел на это, смотрел, а потом как-то и спросил с интересом:
– Тальда, ты с ним разговариваешь, и он понимает тебя как-то… А как ты его понимаешь? – Он чуть помолчал. – Ты что же, его слышишь?
Негр-орк удивился свыше меры:
– Конечно, сахиб, он же почти все время орет на лошадей, и могу добавить, такого ругателя и в наших казармах не сыскать. Если бы ты позволил, я бы его поучил хорошим-то манерам, а то прямо неудобно, что он при тебе такие слова и выражения произносит.
– Как произносит? – снова спросил Оле-Лех вкрадчиво, потому что Тальда смотрел на него подозрительно. – Вот я ничегошеньки не слышу, лишь стук копыт, всхрапы коней и скрип нашей замечательной кареты.
– Слышать его ты должен, он же орет без умолку… Только ему ты почему-то не велишь заткнуться.
Ехали они замечательно быстро, даже тот момент, когда оказались в Нижнем мире, Оле-Лех пропустил, спал вероятно. А может, просто засмотрелся на медальоны. Он ведь не знал, как они будут действовать, вот и приглядывался к ним. Долго смотрел, несколько дней, а как-то поутру, ранним рассветом, когда лишь верхушки леса, через который они скакали, позолотило встающее солнце, посмотрел он в окно, раздернув плотные и темные шторки, и оказалось, что они уже несомненно в мире смертных, а не во владениях Госпожи. Случилось это на четвертый день их поездки.
Утром этим случилось еще одно событие. Они остановились у очень чистенькой речки, звенящей на камнях перед полянкой, которая плавно спускалась от дороги. Тут франкенштейн-возница вдруг распряг лошадей, принялся их поить и даже стал обтирать. Оле-Лех вздумал было заставить Тальду помогать вознице, но орк посмотрел на рыцаря, словно бы тот на его глазах стал каким-то полоумным.
– И не проси, сахиб, и не приказывай… Я к ним и на двадцать шагов сейчас не подойду, пока они распряжены. Ты сам посмотри, вот и франкенштейн наш орет, чтобы я от них подальше держался.
– Он же молчит, как колода, – не понял его рыцарь. – Даже в нашу сторону не смотрит… Или ты дурачить меня вздумал?
– Еще как смотрит, – бурнул оруженосец и отправился к краю поляны чуть выше по течению воды набрать в бурдюки и подсобрать хвороста, чтобы чего-нибудь горячего на костре приготовить.
Оле-Лех опять прислушался, но все равно ничего не понял в этих беззвучных для него переговорах франкенштейна и слуги. А потом возница вдруг вскинулся, достал откуда-то небольшой, но очень тугой на вид арбалет, достал три болта, каждым из которых без труда можно было пробить грудной доспех, и отправился в лес за речку.
Отсутствовал он долго, не менее часа, зато когда появился, то тащил без видимого затруднения на плече небольшую лань, забитую одним из этих болтов в грудь, причем стрела вошла через ее мясо и кости почти до оперения. Возница все так же молча вырезал из своей добычи арбалетный болт, отрубил заднюю ногу лани для рыцаря с оруженосцем, а потом стал разделывать остатки тушки. Вот тогда-то Оле-Лех, кажется, и пожалел, что у Тальды уже получилась какая-то каша и они съели весь котелок на двоих. Потому что смотреть на это было… непросто.
Сначала франкенштейн рассек брюхо лани и вывалил внутренности перед конями. Все четыре черных, как смоль, коня тут же принялись драться за угощение. А затем возница и остальную часть тушки разделал, отдавая коням здоровенные куски, сочащиеся еще теплой кровью, с костями, которые кони тоже с хрустом перемалывали с удовольствием. И не относительно хрупкие ребра или хрящики у позвоночника они сгрызли, а все кости, даже те, что были у лани в ногах, самые прочные и крупные. Для себя франкенштейн тоже, не слишком пользуясь ножом, оторвал голову с еще раскрытыми глазами лани и принялся ее обгладывать, с шумом высасывая мозг, язык и прочие… лакомства. Запил он этот завтрак кровью, которую вычерпывал из распотрошенной животины своими огромными ладонями, с урчанием слизывая пунцовые капли с пальцев.
Оле-Лех засмотрелся на это… пиршество, затем его передернуло, и он почти пожаловался Тальде:
– Чувствую, волки нам не страшны, с такими-то конями.
– Волков поблизости нет, сахиб, разбежались они. У них же нюх, они сразу сообразили, чем эти лошадки кормятся, – рассеянно отозвался слуга.
Он тоже был занят делом, пробовал по-быстрому поджарить доставшуюся им свежатину на огне, поливая ее для вкуса каким-то плотным и темным вином из фляги. Чтобы вино не попадало на угли, он подставлял снизу небольшую квадратную сковороду. Но она раскалилась на огне, и бережливость слуги стала зряшной, потому что вино на этой сковороде кипело и пропадало так же верно, как если бы падало в угли. В общем, ему было не до Оле-Леха, и тот это в общем-то понимал.
А потом, когда и мясо толком не поджарилось, и кони насытились убоиной, и франкенштейн как-то странно стал поглядывать на огонь, а может, и на ту ланью ногу, что он отдал Оле-Леху с Тальдой, оруженосец поднял голову, оглянулся на возницу с заметной опаской и сказал негромко, вот только шепот у него все равно разнесся чуть не на всю поляну:
– Господин мой, он просит хотя бы кружку вина для сытости. А еще твердит, что и его коням хорошо бы поднести по кружке бренди. Он его как-то чувствует в наших бочонках… Разреши?
– Только сам больше половины кружки не пей и этому… другу своему полумертвому тоже больше кружки не давай. Не ровен час, опьянеет и впрямь опрокинет в канаву.
– Тише, сахиб, он же все понимает, вдруг обидится? Это ты для меня – господин, а для него – не очень-то.
– Как так? – не понял Оле-Лех, пробуя с трудом прожевать полусырое мясо. – Он – слуга, слушаться должен.
– Он и слушается, но лишь… Пока все спокойно и тихо. А если разозлится – даже не знаю, на что и способен.
– Ладно, иди налей ему и коням, – разрешил рыцарь и попробовал все же дожарить мясо, пока слуга выполнял просьбу возницы.
После бренди кони повеселели, напились еще воды из речки, и, как только Оле-Лех понял, что больше не сумеет проглотить ни кусочка этой обугленной и не очень-то съедобной свежатины, они снова тронулись в путь. И кони опять понеслись, даже страшно становилось.
Оле-Лех никогда прежде не бывал в Нижнем мире и с интересом ждал, когда же появятся первые жители этих краев, думал, что они как-либо должны отличаться от тех вилланов, которых он привык видеть во владениях Госпожи. Еще он рассчитывал, что путешествовать можно будет удобнее, когда они попадут в обжитые места, ведь есть же у смертных по дорогам трактиры, где можно выспаться, не раскачиваясь в этой карете, как ядрышко в ореховой скорлупе, а на кровати, даже на простынях и под одеялом… И кормиться можно будет не сухой рыбой и сухарями, а нормально приготовленными блюдами.
Но и этот момент он пропустил или почти не обратил на первые трактиры и даже поселения никакого внимания, потому что… Это получилось для него внезапно, он смотрел на ветви деревьев и кустов, мелькающие за окном, пробитые низкими, чуть ли не пологими лучами солнца, как вдруг заметил, что слышит звук, странную ноту, словно бы кто-то очень далеко на лютне тронул струну… Звук был постоянным, не таким, что бывает у музыкантов, которые выдерживают мелодию или хотя бы ритм. Эта нота звучала и звучала постоянно, медленно набирая силу, становясь неслышной лишь временами, когда рыцарь как-либо отвлекался от нее.
Зато потом она снова проявлялась, и тогда Оле-Леху становилось ясно, что она и не затихала, что он слышал ее и прежде, а потом он стал чувствовать ее уже все время. Он зажимал уши, чтобы она не гудела так упорно у него в голове, но это было бесполезно. И уже через пару часов он понял, что если не придумает, как избавиться от этого звука хотя бы на несколько минут, то может повредиться в рассудке…
И когда это стало совсем невыносимо, дорога вдруг сделала поворот, резкий, так что и возница едва справился с ним, хотя в какой-то момент они ехали, кажется, на двух колесах – так накренилась карета, рыцарь неожиданно понял, что больше не слышит этот звук. Да, он его определенно не слышал… И это было чудесно. Хотя при том он почему-то знал, что нужно было бы ехать именно туда, откуда этот звук приходит, вернее, призывает его к себе, может быть, за сотню лиг, указывая единственно верное место, в которое ему и следовало бы попасть.
Лесистые дороги сделались чуть более наезженными, на них стали появляться и путники, и даже телеги, в которых крестьяне везли какую-то свою нехитрую поклажу. Зато и стражников на дорогах стало немало, особенно в узких местах, где плату за проезд удобнее взимать, разумеется, в казну какого-нибудь из здешних барончиков. Это было нормально и вполне увязывалось с представлениями Оле-Леха об этом мире.
Иногда карету видели и пробовали пару раз остановить. А иногда не видели, она летела вперед, ночь и день, без остановки, так что Тальде, а потом и рыцарю приходилось малую нужду справлять, выждав отрезок ровной дороги и вывесившись из дверцы, стоя на приступочке и удерживаясь за поручень, вколоченный, возможно, в борт экипажа именно с этой целью.
В том случае, если их пытались остановить, возница хлопал бичом, кони припускали еще пуще, и тогда экипаж просто пробивал себе дорогу через стражников, по дури заступивших путь, или через другие повозки, скопившиеся впереди, разнося их в щепы. При этом, конечно, удар внутри кареты ощущался так, что Тальда долго потом икал, сжимая свой живот черными руками. Но чрезмерно ругаться на возницу и на способность их экипажа пробивать себе путь все же не решался.
А потом однажды, опять ночью, наступило что-то странное. То есть еще в темноте, едва нарушаемой единственным огоньком, возможно факелом на стене далекого замка, Оле-Лех заметил, что свет этот изливается в мир с трудноуловимой, но все же заметной голубизной. Он даже подумал, что у него со зрением что-то приключилось, хотя это было в высшей степени странно – у эльфов, как известно, зрение до самых почтенных лет остается изумительно острым, точным и надежным. Чтобы эльф хоть немного утратил способность видеть самые малые звезды над головой или просто переставал воспринимать цвета мира – такое и вообразить невозможно. И все же с рыцарем это случилось.
Оле-Лех разбудил Тальду, заставил и его посмотреть на далекий огонь, и тот признался, что видит, на что указывает ему господин, с необычным голубым отсветом. Поутру все окончательно стало понятно.
Все было в этом мире синим, голубым или хотя бы белесо-лазурным. Конечно, за этой вот голубизной угадывались какие-то краски, нормальные цвета мира, какие и полагались окружающему, то есть зеленый, коричневый, красный, желтоватый… Но им, будто бы свету из-под толщи воды, приходилось прорываться через эту нестерпимую и довольно быстро приевшуюся путешественникам синь.
Оле-Лех догадался и вытащил из внутреннего кармана камзола мешочек с медальонами. Оказалось, что голубой медальон светится гораздо ярче остальных, он просто переливался теперь такими отсветами, играл такими бликами, что стало понятно – они оказались в землях Роша Скрижали, где главным цветом искр, устроившихся в смертных, была именно голубизна.
А потом снова появился звук. Но теперь, к величайшему облегчению Оле-Леха, он не раздражал, как прежде, его можно было не замечать. И он теперь не гудел набатным тоном, едва ли не сводя с ума, а просто разливался над этими лесами, над редкими деревушками, над дорогой, по которой они неслись, кажется, почти в правильном направлении, именно туда, куда и нужно было, – на этот звук.
К исходу восьмого дня пути возница стал проявлять беспокойство. Он несколько раз оборачивался и начинал колотить в переднюю стенку кареты, чего-то требуя. Рыцарь, конечно, приказал, чтобы Тальда прислушался к его беззвучным воплям и объяснил, чего же франкенштейн хочет. Но сколько оруженосец и слуга ни делал задумчивое лицо, сколько ни высовывался, чтобы хоть чуть взглянуть на возницу, так ничего и не понял. Зато едва солнышко стало закатываться за верхушки деревьев, карета поехала медленнее, не шагом, конечно, как полагалось бы почтенному и торжественному экипажу, но все же стук их колес сделался не таким быстрым и резким. Пассажиров теперь и качало на поворотах лесной дороги несильно, они почти не стукались об стенки своей коробочки на колесах. Стало понятно, что кони или устали, или снова проголодались, а может, им необходимо было хоть немного поспать.
Дорога снова шла через темный, высокий и, пожалуй, мрачноватый лес. Деревья тут росли плотно и вздымались так высоко, как если бы путники пробирались по узкому ущелью. Все дело было, конечно, в том, что в отличие от каменных ущелий ветви деревьев тут смыкались не только по бокам, но и сверху, над ними, образуя коридор, в котором карета едва протискивалась вперед. Не раз и не два их в этой пусть и сравнительно неспешной скачке так колотило ветками, что оба пассажира невольно оглядывались на этот стук с опаской. Пожалуй, когда они крушили в своем неостановимом беге крестьянские телеги и распугивали лошадей, в них впряженных, или опрокидывали стражников, и то удар получался более терпимым.
– Ты вот что, – сказал рыцарь слуге, – ты скажи франкенштейну, что нужно найти ночлег. – Он зевнул и потянулся, чтобы размять затекающее от вынужденной малоподвижности тело. – Давай для разнообразия остановимся в трактире каком-нибудь или хотя бы в корчме… В первой, какая только попадется по дороге, лишь бы нас накормили.
– Тут места, сахиб, уж больно неказистые, – буркнул Тальда.
– Не спорь, ты делай, что велено.
Тальда высунулся, и его сразу же стукнула по роже одна из веток, из рассеченной губы потекла кровь. Он зажал ее, и – вот ведь франкенштейновское отродье – возница почувствовал запах крови, обернулся, придерживая свой капюшон, который он, оказывается, натянул плотнее на голову, и тогда-то Тальда объяснил ему, что нужно делать. Зато, когда слуга снова уселся напротив рыцаря, оказалось, что франкенштейн не возражает против остановки.
– Он остановится, – сказал оруженосец. – Он сказал, что проголодался и хочет… размяться. Надо же, – удивился темнокожий орк, – а я думал, он вовсе бесчувственный.
– Он же жрал ту лань на поляне, – напомнил ему Оле-Лех.
– Это не значит, что он голодал, – махнул рукой Тальда. – Может, он просто за компанию со своими лошадьми?
Спустя какое-то время они выехали на довольно широкий участок дороги, и самое главное – в сторонке, через полянку, стоял самый настоящий постоялый двор, с таверной и большой конюшней. Это был, конечно, лесной двор, с глухим забором, закрывающим его со всех сторон, и забор этот был не хуже, чем у иного форта, – срубленный из бревен, заостренных вверху. Но перед ним горел факел на шесте, в нескольких шагах от ворот, через которые можно было к основным строениям подъехать. А еще на том же шесте, прямо под факелом, на специально вынесенной к дороге, словно рука, горизонтальной палке болталась деревянная вывеска с изображением какого-то зверя. Карета остановилась, Тальда прислушался.
– Он просит тебя выйти, сахиб, говорит, если тебе тут понравится, то можно и свернуть.
Рыцарь с удовольствием выкатился из кареты и посмотрел на таверну. Она была живой, за частоколом угадывалась жизнь, кто-то кричал не вполне трезвым голосом, требуя к себе какую-то животину, коня или корову, а возможно, что и собаку. Ветви недалеких от частокола деревьев казались голубовато-светлыми, а через полянку от дороги к трактиру вела дорожка, достаточно широкая, чтобы по ней проезжали телеги. Значит, и карета тут могла проехать.
– Сворачиваем, – решил рыцарь, – похоже, что спать сегодня будем в кровати.
Так и сделали. В ворота, впрочем, стучать пришлось долго, но их все же впустили. Хозяин оказался похож на древесного тролля или лесного дикаря, лесовика, как их иногда называли, был он такой же волосатый, и, хотя на нем болтались порты и даже рубаха, под тканью угадывалась густая шерсть, как на медведе.
Он хмуро осмотрел карету, потом покосился на франкенштейна на козлах, на коней, взглянул на Оле-Леха в упор и произнес с таким диким и непривычным выговором, что его едва можно было понять:
– Не-а, господчик, таких бла-ародных тута не быват. Тебе надоть иначе, господчик.
– Что значит – не бывает? – не понял его рыцарь.
– Счас кликну, у меня, на твою везуху, сегодня один из егерей нашего бла-адетеля пропивается. Счас скажу, он тебя с твоими коньми и кареткой в замок отведет, тут близехонько, чрез две мили уж будешь. Там тебе и стол, и кров по твоему бла-ародству подадут.
Оле-Лех нахмурился, обернулся к Тальде, который, казалось, лучше понимал, что происходит. Оруженосец кивнул, выступил вперед и коротко приказал тавернщику:
– Зови егеря, быстро. – И повернулся к рыцарю. – Кажется, нам свезло, сахиб, и впрямь сегодня будем в замке ночевать. А две мили – это не крюк, чтобы хорошенько выспаться.
2
Пошел дождь, он неожиданно застучал по крыше кареты, Оле-Лех непроизвольно поднял взгляд, разумеется, ничего не увидел, кроме мягкой тафты, прибитой гвоздиками с широкими золочеными шляпками к потолку. А он раньше и не замечал их, наверное, не очень-то был внимателен.
Зато он прицелился слухом к тому, как где-то в вышине, над ними, над тем сводом из сучьев и листьев, под которым они проезжали, загулял ветер. Он так трепал деревья, что они едва ли не стонали под его порывами. И складывалось впечатление, что они едут не по землям смертных, а по дну глубокого, темного моря, над которым разыгрался шторм и по поверхности которого ходят огромные, холодные и пенные волны.
Рыцарь высунулся в окошко, посмотрел на егеря, как его представил тавернщик, который бежал впереди кареты с факелом в руке. Огонь вытягивался назад, ронял иногда горящие капли масла и обливал неровным светом деревья и кусты по бокам. Кони от запаха горящего масла, вероятно, чуть приотстали, и возница их не торопил.
Зачем егерю нужно было их провожать, Оле-Лех не знал, ошибиться, судя по дороге, обрамленной такими плотными кустами, что ни одна тропинка не отходила в темные чащобы, было невозможно. Но может, решил рыцарь, он ждет одобрения от своих господ, которые в этой глухомани, конечно, скучают и потому будут рады пусть и незнакомому гостю, рыцарю из благородных эльфов, к тому же еще в карете. А видели ли они когда-нибудь такой великолепный, такой замечательный экипаж? – подумал Оле-Лех и посмотрел на Тальду.
Оруженосец сидел, зажавшись в плотный комок мускулов и нервов, будто бы ему предстояла не удобная ночевка в замке, а опасный бой с заведомо более сильным и умелым противником.
– Ты чего? – спросил его Оле-Лех.
– Не нравится мне это, сахиб, – отозвался чернокожий орк. – Не знаю почему, но… Ох не нравится.
К этому мнению стоило прислушаться, Оле-Лех в том не раз убеждался прежде, и потому он потрогал меч, висевший на крюках на стенке кареты, а потом еще и подвесил его к поясу. Тальда едва ли не с облегчением тут же проделал то же самое со своими клинками. И даже на доспехи рыцаря посмотрел, правда, Оле-Лех все же решил, что натягивать даже кольчугу будет невежливо по отношению к их будущим хозяевам, и отрицательно мотнул головой.
– Это лишнее, Тальда. Оставь.
– Как угодно, сахиб, но я бы на твоем месте не преминул…
– Ты не на моем месте, орк, знай свое место, – проговорил рыцарь.
Но еще разок высунулся из окошка кареты и посмотрел на франкенштейна. Возница был доволен, даже как-то по-особому уселся, едва ли не развалясь, словно бы перед камином в ожидании сытного ужина. О том, что так можно было сидеть на узеньких и трясущихся козлах, рыцарь прежде и не догадывался.
Замок показался неожиданно и выглядел куда как мрачно. Темные, на редкость высокие стены из тесаного камня, с двумя темными башнями по краям фронтальной стены, к тому же отрезанной от дороги и леса на удивление широким рвом. Такой ров было бы трудно переходить даже по каким-нибудь лестницам, а в том, что в темной воде вверх торчат еще и колья, скрытые сейчас наплывами ряски, рыцарь не сомневался ни на мгновение. И хорошо, если только колья, подумал он, а то еще крючья и ножи, затачиваемые так остро, что способны рассадить мускулы до костей у любого незадачливого пловца. Даже странно становилось – зачем замку, стоящему в стороне от дороги, нужны были такие защитные приспособления?
Но Оле-Лех не собирался вдаваться в подробности местных свар и междоусобиц, а потому стал смотреть, как егерь принялся размахивать факелом и зычно орать на местном малопонятном наречии:
– Ех-хой! В замке!.. Я привел гостей, опустите мост!
Он орал довольно долго, даже охрип немного, и опять же Оле-Лех удивился, неужто хозяева полагаются на стены и ров, неужто ни в одной из угловых башен нет наблюдателя, стражника или хотя бы какого-нибудь мальчишки, посланного следить за окрестностями?
К тому же и дождь усилился, и ветер здесь, на площадке перед замковым мостом, получил возможность гулять гораздо сильнее и размашистее, чем под кровом деревьев. Теперь дождь ходил плотными зарядами, то обрушиваясь на карету едва ли не водопадом, то утихая так, что становилось слышно, как звенят удила коней, отряхивающихся от непогоды.
На стене над воротами наконец-то появился кто-то с факелом и зычным голосом проревел:
– Кто здесь? Отзовись!
Егерь подошел к самому рву и стал что-то объяснять, но его слова отнес ветер. Тальда сжал рукоять своего меча так сильно, что у него костяшки пальцев закаменели. Если бы они могли побелеть, они бы сравнялись со светлой бумагой.
Тяжелый дощатый мост, до того закрывающий ворота с наружной стороны, дрогнул и стал опускаться. Оле-Лех так и не заметил, как именно действует подъемный механизм, возможно, он был установлен в угловых башнях или в одной из башен. Когда мост приопустился рыцарь разглядел, что за ним имелись еще и ворота… Да не простые, а подъемные! Но хозяева, решив впустить путника в замок, уже позаботились и об этом – огромная и, вероятно, тяжеленная створка медленно поползла вверх. Лишь теперь, в разрывах между ударами ветра и дождя, Оле-Лех услышал, как скрипит тяжелый ворот на другой башне, что слева. Потому-то в замке и не было надвратной надстроечки, два таких мощных механизма она бы попросту не выдержала.
Наконец мост со скрежетом улегся в ложементы, установленные по эту, лесную, сторону рва, а створка, закрывающая ворота, поднялась достаточно, чтобы пропустить карету, и возница щелкнул бичом. Кони встряхнулись и шагнули вперед, карета качнулась и поехала, оказалось, пока они стояли, ее колеса чуть завязли в грязи, поэтому рывок получился ощутимым.
Потом экипаж прогрохотал под стеной, которая была довольно широкой, пожалуй, оценил Оле-Лех на глазок, в полтора туаза, не меньше. И снова становилось непонятно, зачем такую дорогостоящую постройку нужно было сооружать здесь, в густом лесу, среди деревьев, которые и сами по себе служили защитой почти от любой армии?
Описав полукруг, карета подъехала к высокому крыльцу перед донжоном замка. На нем стояла в простом, деревенски скромном плаще одинокая женская фигура. В руке хозяйка держала факел, подняв его повыше. Оле-Лех присмотрелся к ней, прежде чем вылезти наружу. Женщина была не слишком молода, пожалуй, лет ей было уже за тридцать, волосы у нее, не покрытые капюшоном даже под дождем, отливали белесыми бликами, которые лишь немного портила присутствующая здесь, в землях Роша, синева. Зато лицо у нее было правильным, спокойным, как показалась рыцарю, даже красивым, вот только женщина эта совершенно не подходила замку – она была слишком мирной и даже слегка рассеянной.
– Прошу входить, господа, – предложила хозяйка. – Это замок Титуф, а я, соответственно, его госпожа и владетельница. – Она быстро, цепко, что не вязалось с выражением ее лица, оглядела фигуру рыцаря и черного орка, вылезающего за ним следом. – Братья подойдут чуть позже, они должны будут поднять мост и опустить заслон в воротах.
Говорила она правильно, четко выговаривая каждое слово. Возможно, она опасается, что ее примут за недоученную простолюдинку, потому так и старается, усмехнулся про себя Оле-Лех.
– Благодарю, любезная хозяйка Титуф, – поклонился рыцарь. – А я, в свою очередь, могу представиться как рыцарь Бело-Черного Ордена Оле-Лех Покров. Я и мой оруженосец Тальда будем рады воспользоваться твоим гостеприимством.
Внезапно лицо хозяйки на миг изменилось, по нему проскользнула… какая-то странная, быстрая, резкая и неприятная усмешка. Но она сумела вернуть себе прежнее, безмятежное выражение лица и глаз.
– Думаю, мы скоро поймем, насколько вы рады нашему гостеприимству, рыцарь. Пока же прошу следовать за мной, на твою удачу, сейчас нам подают на стол, ты попал к самому ужину.
Она повернулась и зашагала по широкому коридору в дом, небрежно указав куда-то в сторону.
– Плащи и оружие оставьте здесь, я вижу, вы не промокли, но будет лучше, если вам удастся сразу почувствовать себя удобно. Здесь их никто не тронет.
Рыцарь поднялся по ступеням и оказался под небольшим козырьком, так что на него не падал дождь, посмотрел на Тальду. Тот все слышал, но лишь отрицательно покачал головой, явно не собираясь расставаться со своим мечом и тяжелым поясным кинжалом. И тогда рыцарь тоже решил быть невежливым, по крайней мере, пока не станет понятно, отчего темнокожий орк так странно ведет себя.
Они скинули лишь плащи, и Оле-Лех с удовольствием зашагал дальше. Зал, который открылся за широкими дверями из прихожей, оказался огромным. Он был так высок, что даже свечи, во множестве расставленные везде, где только было возможно, не разгоняли мрак под его сводами. У одной из стен находился длинный, на две дюжины персон, не меньше, стол, за ним чуть дымил огромного размера камин, пожалуй, в него могла въехать их карета. На возвышении в дальнем конце зала стояли кресла. На таких креслах мог бы сидеть циклоп, и он не чувствовал бы себя стесненным.
– Прошу, рыцарь, – указала место хозяйка, устраиваясь во главе стола, – поближе ко мне. Знаешь ли, в этой глуши так хочется иногда о чем-то новом узнать… И конечно, хочется расспросить такого путешественника, как ты, о самом разном, о многом. – Она уселась и принялась с улыбкой рассматривать Оле-Леха. И лишь тогда чуть более певуче, чем прежде, добавила: – А слугу твоего, рыцарь, можно покормить на кухне, там ему будет сподручнее.
– Пусть он, любезная хозяйка, пока остается при мне.
Владетельная госпожа Титуф чуть замялась, но, оценив рыцаря и его решимость быстрым проблеском глаз, произнесла своим певучим голосом:
– Как пожелаешь.
Оле-Лех устроился за столом. И лишь тогда заметил, что он был довольно странно сервирован. Приборы были из серебра, но такие большие, словно хозяева привыкли накладывать себе все блюда разом, не дожидаясь, пока принесут следующую перемену. И кувшины с вином стояли, пожалуй, слишком громоздкие, к тому же, как Оле-Лех заметил, в дальнем конце стола были даже не графинчики, а настоящие глиняные крынки, закрытые чем-то вроде деревянных пробок, залитых темным воском. Если это не специально сваренное пиво, решил рыцарь, тогда уж не знаю, что это такое. Может, какой-то особый местный напиток, жгучий и едкий, как все местечковые самогоны, но и не исключено, что все же достойный, чтобы стоять на господском столе не перелитым из сосуда, в котором набирал силу и крепость, – известно же, что некоторые из этих напитков, по мнению их ценителей, при переливании теряют какую-то часть вкуса и букета… Если, разумеется, этот букет имеется хотя бы в зачатке.
Оле-Лех оглянулся, в глазах его верного Тальды застыл ужас, такого рыцарь никогда не видел прежде, а ведь темнокожий орк, не страшась, сходился в настоящей, а не тренировочной рубке с тремя противниками, и даже тогда он на свой орочий манер улыбался, ему это казалось забавным… А сейчас он отчетливо паниковал, ну почти… Рыцарь повернулся к хозяйке, она к чему-то прислушивалась, пробуя поймать звуки, которые Оле-Лех тоже не слышал, но о которых рассудил по-своему.
– Что же слуги не идут? – спросил он.
– А у нас всего-то один слуга на кухне, – призналась хозяйка. – Он старенький уже, ходит медленно. Да и куда тебе спешить, рыцарь? – И женщина выразительно посмотрела в темные, тяжелые окна, за которыми звенел дождь с ветром. – Лучше расскажи что-нибудь.
– В тех краях, откуда я приехал, мы привыкли рассказывать после доброго ужина, любезная хозяйка Титуф… – Слова замерли у него на губах.
Потому что где-то в дальних и темных углах замка послышались шаги, но они не могли принадлежать ни одному из людей, к роду которых хозяйка, кажется, относилась. Это были тяжкие, натужные шаги, причем кто-то при каждом движении скрипел, словно бы сухой и звонкий щит из грубой, толстой кожи терся о такой же другой щит, или о камень, который почему-то был звонким и твердым, непробиваемым и шершавым, словно валун под жарким солнцем… И еще казалось, что это шуршание издает… что-то живое, что и является таким вот валуном!
– А почему все же у вас так мало слуг? – спросил он, чтобы выиграть время и понять, что может издавать такие звуки.
– Мы живем одиноко, как ты заметил. Но видишь ли, рыцарь, я бы и не хотела жить иначе, – отозвалась хозяйка.
И по мере того как она произносила эти слова, лицо ее менялось. Нос заострился, глаза стали жесткими и холодными, как острия копий, губы только что сложенные в странноватую, но все же дружелюбную усмешку приобрели страшное подобие плотоядной пасти хищника, и даже белесые волосы превратились вдруг едва ли не в старушечьи патлы или космы зверя, изготовившегося к нападению.
Оле-Лех вскочил, нащупывая на поясе меч. Тяжеленный стул, который и сдвинуть было трудно, отлетел назад, задев Тальду, который тоже, не опасаясь уже показаться неучтивым, выдергивал свой меч с характерным звуком и коротко выхватывал кинжал.
– А это – мои братья, – почти закричала хозяйка замка, и голос ее тоже сделался вдруг грубым и необыкновенно сильным, от такого голоса хотелось присесть и зажать уши. В нем было что-то… колдовское, что-то невозможное для обычного смертного.
Но Оле-Лех не был обычным смертным, он лишь моргнул и остался собой – сильным бойцом, твердым солдатом, верным рубакой, каких и воспитывал Орден, которому он себя посвятил.
А на границе света от свечей и пламени камина вдруг зашевелились тени, и из двери, которую Оле-Лех не заметил, появилось… Появилось нечто… Рыцарь даже не знал, что такие существа бывают в этом мире.
По форме это было что-то среднее между огромным человеком и еще более огромным… тараканом. У него была страшная своей чуждостью голова с чудовищными жвалами, с которых капала какая-то сине-фиолетовая слизь, человеческие руки у него выходили только из того, что казалось плечами, а ниже, в разрезах странного кафтана, высовывались какие-то клешни, и они рядом уменьшающихся конечностей уходили вниз, к бедрам этого существа. Зато ноги у чудовища были почти нормальные, человечьи, они были даже затянуты в щегольские кюлоты с чулками и заканчивались большими башмаками с кокетливыми золочеными пряжками.
В левой руке чудовище тащило изрядных размеров дубину, которой можно было, наверное, забивать сваи. Но в лапах этого человеко-таракана она выглядела едва ли не зубочисткой.
– Я тебе солгала, рыцарь, – завизжала хозяйка, сама почему-то срывая платье на груди и животе, под которым оказались вдруг… да, такие же, как у вошедшего чудища, клешни, только чуть более мелкие и светлые. – У нас нет слуги, даже старого. Мы его съели, рыцарь, как собираемся съесть и тебя с твоим черным слугой!
Чудище что-то прорычало, совершенно нечленораздельное, и хозяйка залилась хохотом, в котором уже не было ничего человеческого, даже веселого, как обычно смеялись другие известные Оле-Леху существа. Это было рычание, смешанное с визгом, от него в углах зала прозвучало эхо, будто прямо тут из ниоткуда появилась стая бешеных волков.
– Он говорит, твоего возницу мы съедим не сразу, пусть пока послужит нам. Знаешь ли, поблизости крестьян осталось немного, вот мы и используем твою карету, чтобы привозить их сюда. Но тебя это уже не касается, потому что ты умрешь первым… А вот и мой второй брат – можешь на него полюбоваться.
И из какой-то другой двери в зал ввалилось другое такое же чудовище, вот только чуть поменьше, и, пожалуй, в верхней части торса у него было чуть больше человеческого – почти нормальные плечи, шея и голова, только грубые, как у тролля… Если не бояться обидеть тролля таким сравнением, разумеется. Хозяйка продолжала почти выть на весь зал:
– Он любит мясо сырым, говорит, в нем больше вкуса. Зато умеет варить кровяную брагу. – Женщина снова рассмеялась, хотя лучше бы этого не делала. – Она стоит в тех глиняных кувшинах, на которые ты обратил внимание… Эх, дурень ты, рыцарь, за это и поплатишься теперь!
И она отошла в сторону, жестом приказав братьям – если это действительно были ее братья – расправиться с гостями.
Огромный человеко-таракан вдруг неуловимо быстро ударил своей дубиной, рыцарь поднырнул под этот слишком высокий мах и ответил мечом. Но чудовище только подставило руку… И оказалось, что даже его почти человеческие руки были покрыты твердым хитином, пробить который обычным клинком было невозможно. Тогда Оле-Лех, словно и не был занят тем, что уворачивался от второго удара, отчетливо представил себе, как этой вот обратной стороной твердой, как панцирь, хитиновой кожи этот зверь царапает каменные стены, когда идет по слишком узким для него переходам замка… Этот-то звук они и услышали, к нему-то и прислушивалась хозяйка, когда Оле-Лех не мог понять, что это такое.
Тальда тем временем скрестил клинки со вторым… гм… братом хозяйки, у которого, судя по звону, был отлично кованный двуручный меч, но он им орудовал, словно бы это была тренировочная шпага с весом тростинки. В таком темпе Тальда, несмотря на постоянные тренировки, мог продержаться считаные минуты, потом с ним можно будет делать что угодно. Почему-то в том, что эти чудовища могут драться, почти не уставая, Оле-Лех не сомневался, слишком они были уверены в себе.
– Тальда, уходим! – прокричал Оле-Лех, выбрав момент, чтобы не сбить дыхание.
И увернулся от очередного удара, да так ловко, что дубина противника задела край стола. Столешница, твердая, как железо, в руку человека толщиной, треснула, посуда от удара подпрыгнула и разлетелась в стороны.
– Не порти мебель, – прокричала хозяйка замка, хотя теперь в ее голосе было что-то от обычной женской заботы о чистоте ее обиталища. – И вообще, долго вы с ними возитесь… Нужно было настоять, чтобы они сняли мечи. – Она снова залилась своим визгливым хохотом. – Но они показались такими красавчиками, я думала, как аппетитно они будут смотреться на блюде под соусом…
Блюдо было приготовлено для нас, подумал рыцарь, значит, они догадались, что нас ведут к ним… для ужина. Егерь, решил он, а скорее всего, еще и тавернщик, чтобы не попасть этим… Титуфам на стол, прислуживают, приводя к ним путников. Ну если удастся выбраться отсюда, посмотрим, какого вида у них потроха, может, и они – нелюди, может, и они – той же породы, только помельче, потому и похожи на обычных людей?
Тальда уже добежал до выхода из зала. Оглянулся, едва отбиваясь от наседающего на него младшего брата хозяйки. Чтобы Оле-Лех тоже мог удрать, ему нужно было немного оттеснить противника, но у него не получалось. Рыцарь рванулся в сторону, и, когда человеко-таракан начал поворачиваться, опасаясь какой-нибудь каверзы от рыцаря, оказавшегося все же для него слишком умелым бойцом, он налетел на младшего брата и рубанул его по шее… Но оказалось, что и голова меньшего человека-таракана была сделана из какого-то совсем нечеловеческого материала, меч зазвенел, в разрыве кожи чудовища показалась слизь голубого цвета. Конечно, раной эта царапина считаться не могла, но все же младший брат чуть отступил, рыцарь втиснулся в коридор, ведущий на крыльцо, перед которым должна была стоять их карета…
Они припустили с Тальдой вперед, не оборачиваясь, хотя в сознании Оле-Леха билась одна мысль – а зачем, собственно? Братья Титуф закрыли ворота замка, что можно поделать, если выхода из этого каменного мешка нет? Но они все же бежали, смутно на что-то рассчитывая.
Хозяйка замка орала уже что-то непонятное на неизвестном Оле-Леху языке. Пожалуй, сейчас она визжала так же, как разговаривал и старший человеко-таракан, только чуть более высоким голосом.
Двери были заперты всего лишь на один засов, Тальда отбросил его, створки медленно раскрылись. Карета стояла, франкенштейн сидел на своих козлах, нахохлившись, его, как и прежде, поливал дождь, сыпавшийся с темного неба. Тальда вдруг заорал:
– В карету, сахиб, он говорит, чтобы мы плотнее закрыли ее дверцы!
– Разве это поможет? – удивился рыцарь. – Старший и более толстое дерево ломает дубиной, словно гнилушку… – Но все же побежал за оруженосцем, ощущая всем телом, как за ними неспешно, но неостановимо топают чудовища-тараканы.
Тальда, а за ним Оле-Лех вывалились на крыльцо, забыв плащи на креслах в прихожей. Но возвращаться за ними ни рыцарь, ни тем более его оруженосец не собирались. Тальда каким-то кошачьим движением подскочил к карете и сразу же запрыгнул в нее, рыцарь даже не успел заметить, как и когда он успел открыть дверцу экипажа. Он втиснулся следом за слугой и тогда, еще не поместившись в узком пространстве как следует, услышал, что возница хлопает бичом. Да так, что от этих хлопков можно было оглохнуть, и звук колес сорвавшейся с места кареты был иным, чем они привыкли слышать… Дверцу все же удалось захлопнуть, и сразу же Оле-Лех повернулся назад, чтобы в окошко увидеть, что происходит у него за спиной.
Несмотря на тьму, едва разгоняемую факелом, который теперь, как и с самого начала, держала над собой женщина, он увидел… Оба брата хозяйки двигались к карете, которая совершала бешеный разворот, едва не задев младшего, чуть более быстрого из братьев. Полуобнаженная женщина, со своими грудями и клешнями, торчащими под ее слишком светлыми плечами, с развевающимися волосами, что-то кричала, а старший из братьев-чудовищ примеривался, кажется, бросить свою дубину так, чтобы поломать коням ноги или сбить хотя бы одно из колес кареты… Все безнадежно, подумалось Оле-Леху, их бегство невозможно.
Но возница лучше знал, что делает. Он развернул карету едва не на одном месте, потому что двор замка был все же мал и потому что значительная его часть теперь была опасна из-за чудовищ, которые собирались, как бывало, наверное, у них не один десяток раз, разбить экипаж того, кто к ним заглянул ненастной ночью, а затем вдруг сорвал ее в такую бешеную скачку, что стало ясно – он вознамерился разбить карету о стену или о ворота, которые по прочности от каменных стен в полтора туаза толщиной мало чем отличались…
Но он нахлестывал коней, и даже умудрился еще несколько раз хлопнуть бичом в воздухе, хотя для этого требовалось куда больше времени, чем проскакать на этой безумной скорости короткое расстояние до ворот, он даже зачем-то треснул изо всех сил рукоятью кнута по стенке кареты… А затем случилось что-то непонятное!
Карета, это в общем-то хрупкое сооружение из тоненьких досточек и выделанной кожи, это едва ли не невесомая машина, состоящая из колес, поворотного шарнира, рессор и простой рамы, в которую запрягались четыре лошади… Так вот эта карета ударилась о ворота – с таким звуком, от которого застонали стены замка и его подземелья, словно разом вспомнили все грехи, которые накопили его обитатели! И карета с четырьмя черными лошадьми впереди, словно бы простой лист бумаги… проломила ворота! А затем…
Оле-Лех в этот момент смотрел в окно, как завороженный, не в силах отвести взгляд, и он увидел, что через тьму, через этот ужасный и широкий, заполненный водой ров карета полетела по воздуху, будто бы ее перенес порыв ветра! И полет этот показался ему еще более невозможным, волшебным, небывалым, чем даже пробитые конями и каретой ворота замка… Он длился, и длился, и длился…
И наконец-то колеса с ужасным треском ударились о землю, но… По другую сторону рва, окружающего замок. Потом карета стала скрипеть, на миг рыцарю показалось, что она вот-вот развалится, но она и это выдержала. Она как-то дико качнулась, едва не задев своим бортом мокрую траву и камни сбоку от дороги, потом повалилась в другую сторону, потом, все еще раскачиваясь, побилась о что-то, о чем рыцарь не имел ни малейшего представления, и наконец, выровнявшись, покатила по лесной дороге, откуда они и прибыли сюда, к замку чудовищ.
А Тальда, никогда не теряющий присутствия духа, – кроме одного раза, поправил себя Оле-Лех, когда послышались шаги чудовищ по темным коридорам этого замка Титуф, – его верный оруженосец вытер пот со лба и дрожащими, серыми, как льняное полотно, губами едва слышно произнес:
– Расскажешь кому-нибудь, и не поверят ведь… Лучше и не рассказывать, сахиб, или как ты думаешь?
3
Напряжение понемногу спадало, оказалось, что и Оле-Лех, хорошо тренированный и заслуженный рыцарь Ордена, был мокрым от пота. А Тальда-то вообще так запыхался, будто в полном доспехе пробежал миль пять, не меньше. И глаза у него еще долго были обиженно-жалкими, он испугался по-настоящему, как редкому орку случается испугаться хотя бы раз в жизни. Рыцарь даже прикрикнул на него:
– Ну ты чего? Ты же, наверное, франкенштейна нашего слышал, и он тебе что-то нашептывал, чего так сдрейфил? Вот я – ничего не понимал, и то… – Что он, собственно, хотел добавить, Оле-Лех и сам не знал. Лишь потом для верности спросил: – Ты цел хоть?
– Цел, сахиб. Вот только… Да, напугался. А возницу я почти не слышал, пока мы в замке были, лишь когда наружу выпали, стало понятно, что он один знает, как нас спасти. И заранее все знал, лишь рассчитывал…
– На что рассчитывал?
– Он надеялся, может, мы все же с этими-то справимся, и тогда его кони свежатины поедят, они у него голодны, он целый день об том твердит.
– Да, справишься с такими… К тому же у них было преимущество неожиданности. – Оле-Лех попытался еще разок припомнить, что с ними только что происходило. – Когда этот старший брат в зал ввалился, у меня, кажется, и сердце дрогнуло.
– А по тебе, господин, я бы такого не сказал… – Тальда вдруг обмяк весь, словно тесто в квашне. Спросил шепотом: – Что это было?
– Откуда мне знать? Нужно со знающими людьми потолковать, если возникнет такая охота. А вообще, полагаю, это были метаморфы. Сущности такие, людоеды, разумеется, и принимают вид того, кого поедают.
– Так они что же, тараканами питаются, когда к ним… путники какие-нибудь не забредают? Чего они так выглядели?
– Не знаю, сказал же… Может, и тараканами. Но думаю, что крестьян они окрестных поели, видишь, какие тут пустынные места. Да и сестрица их, кажется, в том призналась ненароком.
Они помолчали, с удовольствием прислушиваясь к мерному перестуку колес, уносящих их от страшного замка. Тальда сел прямее, он приходил в себя.
– А с тавернщиком этим, и особенно с егерем, потолковать следует… по-нашенски. Чтобы впредь не думал с рыцарями Ордена такие штуки учинять. И с оруженосцами орденскими тоже… не смели.
– Мы как раз туда и едем. – Рыцарь уже раздумывал о том, что теперь им следует делать. – Только ты не сразу на них наваливайся, давай хотя бы поужинаем, прежде чем их в ножи возьмем.
Егеря они догнали, когда уже подъезжали к таверне, которая проблескивала мирным светом через ветви деревьев. Он шагал по дороге, довольный собой, а может, и тем, что теперь господа из замка не скоро выйдут на охоту, чтобы его сожрать или кого-нибудь из его близких. Расслышав, что его догоняет карета, он отошел к кустам, но даже прятаться не стал. Так и застыл столбом с факелом в руке, должно быть, не поверил своим глазам.
Оле-Лех отлично увидел его с этим факелом, высунулся в окошко, не обращая внимания на дождь, который под деревьями стал все же немного тише, закричал:
– Эй, егерь, заскакивай на запятки, до корчмы вместе доедем.
Тальда одобрил это маневр кивком. Егерь пропустил мимо карету, потом, ободренный спокойным голосом рыцаря, припустил и прыгнул на запятки. Они доехали до таверны. Когда въехали во двор, окруженный частоколом, егерь даже соскочил и открыл дверцу кареты со стороны Оле-Леха. Склонился, но тут же выпрямился и спросил:
– А я-то думал, господчик бла-ародный, што вы-то тамочки в разговоры всякие ударились. И што теперича вас-то ждать не нужно.
– Разговор не получился, – резковато отозвался рыцарь.
Поправил меч на поясе, смахнул с волос дождь, который тут, на относительно открытом месте, полил гуще.
Возница стал спускаться с козел, одергивая свой плотный балахон. Рыцарь сказал ему:
– Ты не очень-то тут располагайся, может, мы скоро опять тронемся.
Франкенштейн даже не повернул голову и стал все же охаживать коней, позыркав глазами, которые, должно быть, видели все и в темноте, как при белом дне, чтобы отыскать конюшню. Разговаривать с ним было бесполезно. Тальда и не думал подойти к коням, он лишь разглядывал вывеску таверны, и двери, и окошки, за которыми как-то медленно, чрезмерно мирно разливался свет небольших, внутренних факелов или больших лучин.
– Чего ворота не закрыты? – спросил он. – Раньше-то были заперты…
– Меня, должно, поджидали, – ответил егерь и невпопад поклонился еще разок. – Меня-то, значица, ждали, хочут узнать, каково все было-то.
– Ладно, – сказал рыцарь, – пошли, егерь, поедим да об ночлеге договоримся. Тебя тоже за твою заботу угощу.
– Ох, и угости, господчик, и расскажи, как в замке ентом вышло?
Не трус, решил рыцарь, не боится, что я его сразу за… услугу предательскую казнить стану. А пуще всего, кажется, любопытство его дразнит. Хочет он, хочет узнать, как все прошло, и почему мы живы, и что с этими… уродами замковыми произошло.
Они вошли в зал, тут было уже пусто. Подчиняясь незаметному ни для рыцаря, ни для Тальды взгляду егеря, тавернщик в рубахе, под которой топорщилась шерсть, принялся выставлять на столе кувшины местного кисловатого пива, кувшин поменьше с вином, хлеб и большую миску не слишком аппетитно приготовленного мяса. И что это за мясо такое, с внезапной злостью подумал Оле-Лех, может, собачатина?
Устраиваясь за столом, он потребовал себе сначала умывальную миску, чтобы обмакнуть руки, и лишь потом спросил, что за жаркое им подали.
– Тык, это… это ж вепрь, – пробасил тавернщик, кивнув на егеря. – Он и принес, незадолго как стемнело, и потому теперь гуляет тута, не иначе, считает, я ему еще должен буду.
– И будешь, – азартно выкрикнул егерь. Он сидел за другим, соседним столом и ждал, по крестьянской привычке к терпеливости, когда господа насытятся, чтобы все же порасспрашивать их. – Мне энтот вепрь трудово дался, я его и ножом рубил, и дрекольем… Не-э, сначала все ж дрекольем, лишь после ножом.
И умолк вдруг, потому что Тальда так спокойно и трезво посмотрел на него, что больше он ни слова не произнес. Может, стал соображать получше и что-то вроде понимания забрезжило у него в сознании?
Насытившись, Оле-Лех откинулся на стенку, у которой стояла лавка, лениво поковырял ножом в зубах, все ж вепрятина, если тавернщик не соврал, была жилистой и плотной, жевать ее оказалось непросто. Лениво спросил:
– Семья-то есть у тебя, хозяин?
– Нетути никого, бла-ародный. Един, как перст, даже трудноватенько приходится… Думал я бабу завести, штоб на кухне кухарила, да оне все бестолковы. Вот и живу, как самому ндравица.
– А что же у тебя более никого нет из гостей? Когда мы в первый раз подъехали, у тебя шум стоял. Я даже решил, что тут немало народу собралось.
– То плотовики были, оне с лесорубами плоты туточки собирают, штоб вниз по реке, значит, плавить, – вмешался егерь. – Господчикам нашим-то с того главный прибыток идет, и сами плотогоны с рубаками монету имают…
– Разошлись уже, – буркнул волосатый хозяин заведения, – че им рассиживаться? Да и в непогоду немногие тока заходют, вишь ли, господчик, мы на отшибе стоим.
– Чтобы путников в замок провожать, не иначе? – спросил рыцарь, все так же с ленцой и ледяным спокойствием.
– А чего там было-то? – спросил егерь и даже подался вперед.
Тальда вскочил, у него уже сверкал в кулаке кинжал. Тавернщик все сообразил и кинулся назад, но не убегая, а чтобы выдернуть откуда-то из-под высокого стола, на котором стояли кувшины, кружки и стопа деревянных тарелок, видавшую виды дубинку, но не успел, конечно. Оле-Лех одним невероятным прыжком настиг его и рубанул мечом, который словно бы сам оказался у него в руках. Чудовищная рана пересекла всю спину тавернщика, от плеча почти до бедра. Небеленое полотно его рубахи окрасилось кровью, но он был все же здоровый очень, еще стоял, вытянув руку к дубине, которую так и не успел достать для удара или хотя бы для отмашки.
Егерь что-то невнятное замычал и попробовал добежать до дверей. Но удача была не на его стороне. Он споткнулся о какой-то табурет, который не увидел в полутьме, и растянулся на полу. Подняться уже не сумел, Тальда, прижав его коленом, наносил удар за ударом. Кровь егеря брызнула ему на лицо, залила грудь. При этом темнокожий орк что-то рычал, Оле-Лех прислушался.
– Будешь, пес поганый, людей предавать, будешь теперь знать…
Испуг перед метаморфами еще не до конца прошел у него, он мстил и за этот свой страх.
– Все, – приказал ему рыцарь, которому была неприятна эта почти истерика в своем оруженосце, – все, я сказал.
Тальда поднялся, потом наклонился и вытер кинжал о плащ егеря, не удержался и еще пнул мертвое тело сапогом.
– Ты вот что, Тальда, – продолжал распоряжаться рыцарь, – принеси воды, умойся и мне дай рожу сполоснуть.
Он умолк, чувствуя на себе чей-то прямой и тугой, как тетива хорошего лука, взгляд. Медленно, чтобы не пропустить возможную атаку, повернулся, но в дверях стоял их возница. Он смотрел на зал таверны с заметным интересом, и… с одобрением он смотрел.
Кивнул и, больше не обращая внимания ни на Оле-Леха, ни на Тальду, вошел, легко подкинул себе на плечо егеря, а потом захватил за ногу тавернщика и поволок их к выходу. За телом волосатого хозяина заведения оставалась кровавая дорожка, кровь же егеря капала франкенштейну на плащ. Рыцарь повернулся к оруженосцу:
– Чего это он?
– Сказал, что мы правильно решили его коней подкормить. В самый раз будет.
– Он что же, решил человечиной их кормить?
– А они, наверное, человечину пуще всего и любят, – отозвался Тальда, еще разок осмотрелся и пошел искать лохань воды на кухне.
Оле-Лех его подождал, почему-то разглядывая кровавую дорожку, которая осталась от тела зарубленного им тавернщика. И вдруг откуда-то издалека, может из кладовой, донесся крик Тальды:
– Господин, тут такое изобилие окороков всяких, и сухой рыбы, и муки… Да, еще вино есть, много вина. – Потом ненадолго повисло молчание, затем раздался еще один торжествующий вопль: – Ого, господин, тут бренди в бочонке, будет коням нашим пойло, как они любят. – Орк появился в дверях, ведущих на кухню, и что-то уже жевал. – Нам всего и не увезти, – сообщил он радостно.
– Воды, Тальда, – напомнил ему Оле-Лех.
– Ага, да… Сейчас, сахиб. – И он исчез в кухне снова, чтобы принести наконец воды.
Принес он целую лохань, да таких размеров, что и тройка коней могла бы из нее напиться. Поставил на один из столов в темном углу зала. Оле-Лех с удовольствием закатал рукава, опустил руки в воду и тогда только заметил, что на его коже была… Нет, царапиной это назвать было нельзя, это были два полукружия, глубоких и с заметными перерывами. Это был укус! Только не человеческий и не звериный, потому что у людей не бывает таких широких челюстей, а звери кусают, чтобы рвать мясо клыками. Здесь же было что-то иное, Тальда, стоя рядом, дрогнул и снова задышал так часто и громко, что рыцарь посмотрел на него с неодобрением.
– Господин, – сказал Тальда старательно ровным голосом, – ты уверен, что тебя в замке том не куснула эта, как ее… женщина, сестра чудовищ?
Дело-то было серьезней, чем казалось раньше.
– Нет, не уверен, кажется, я протянул к ней руку, когда она завизжала, или когда стала говорить что-то, чего я не понял. – И умолк, пробуя вспомнить, кто и где тогда сидел или стоял в замке, когда появился первый из братьев.
– Как же ты ничего не почувствовал? – спросил орк.
– Она незаметно… Или не до того мне было, – ответил рыцарь, – вот и пропустил. К тому же, знаешь, рана не болит совсем… Она какой-то яд имеет на зубах, чтобы кусать почти безболезненно, что ли? Нет, не вспомню с точностью, она ли это, или кто-то другой.
– Да кто другой-то, сахиб? – почти завыл Тальда. Взял руку рыцаря, подвел его к факелу, подставил ближе к свету, внимательно изучил. – Она это, – вынес заключение, – больше так кусать некому. А те зверюги, с которыми мы рубились, до тебя так близко дотянуться не могли… – Он впился в Оле-Леха взглядом, будто хотел высмотреть в нем какие-то изменения, будто бы рыцарь вот прямо сейчас должен был во что-то страшное и чудовищное превращаться. – Ты что-нибудь чувствуешь в себе необычное? – И вдруг сорвался с места в недавно обнаруженную кладовку. – Погоди, сахиб, сейчас я бренди принесу, польем преобильно, глядишь, и промоется рана.
Бренди был неплох, в нем чувствовался вкус вишни, причудливо смешанный с жестковатостью желудей. Очень необычно это было, но здорово. Рыцарь выпил целый стакан. Тальда, пожалуй, прикладывался к стакану раза три, но при этом он не стеснялся и руку рыцаря поливать над тазом с водой. Наконец рыцарь понял, что большего они не добьются, сказал ровно:
– Если у нее был яд на зубах, то он уже подействовал. Подумай сам, мы ехали, мы сидели и ужинали тут… Слишком много времени прошло.
– А что бывает, если укусит метар… матер… ну то чудище, которое в замке обитает?
– Метаморф, Тальда, запомни, может пригодиться название, когда будешь доктору объяснять или кому-нибудь из наших орденских, что со мной произошло. Если происходить будет… Ну да ты парень смышленый, сам все увидишь и поймешь.
– Не надо, чтобы с тобой что-то произошло, сахиб.
– Сам не хочу, – усмехнулся Оле-Лех. – Ладно, давай грузи в карету все, что нам пригодится, окорока и другие припасы. – Он подхватил бочонок бренди галлона на два, не меньше. – Это я понесу.
Тальда с опаской посмотрел на таз с водой, сдобренной теперь смытой кровью и бренди. Оле-Лех хохотнул про себя, оруженосец отчетливо боялся заразиться ядом, который, возможно, они вымыли из его раны. Раньше-то он обыкновенно даже купался в той воде, которая оставалась после рыцаря в кадушке. Но к этому теперь следовало привыкать, по крайней мере, на некоторое время. Рыцарь вырвал факел покрупнее из державки на одном из столбов и вышел.
Ветер немного поутих, и дождь стал малозаметным, моросящим, но все же в свете пламени капли слетали сверху безостановочно. Пока они с Тальдой волновались из-за укуса владелицы замка Титуф, возница делал свое дело.
Кони рвали тела егеря и тавернщика так, что даже Оле-Леха, который считался крепким как камень солдатом, замутило. Возможно, потому, что тавернщик действительно оказался волосатым, а эльфы к человеческим волосам испытывают стойкое отвращение, и рыцарь сейчас некстати припомнил, что он на три четверти эльф, или на две трети, или еще как-то…
После того как кони наелись и выпили едва не четверть того немалого бочонка бренди, который обнаружился в таверне, да и возница сожрал неожиданно для рыцаря целый окорок, запив его все тем же бренди, а Тальда, беспрерывно что-то жуя, загрузил карету едва не до верха, они тронулись в путь. Кони на этот раз не летели, будто на крыльях, они почти… ступали с нормальной скоростью. Тальда, захмелев и разнежившись от сытости, все же пару раз высунулся в окошко, чтобы посмотреть, что происходит с возницей. Наконец он сообщил:
– Франкенштейн наш говорит, сахиб, что они отяжелели от жратвы.
Оле-Лех уютно дремал в углу кареты, ему на то, с какой скоростью они теперь едут по ночному лесу, было наплевать. Но Тальда не унимался, он снова высунулся в окошко и прокричал вознице:
– Эй, ты там не спишь, приятель? – Снова влез в карету, уселся поудобнее. – Говорит, что задремал лишь немного. Оказывается, ему и спать нужно… Ну да к утру понесут быстрее, спи спокойно, сахиб.
Как будто Оле-Лех возражал против такой неспешной езды… Но под утро действительно кони пошли быстрее. Рыцарь это ощутил по более сильным и резким толчкам, по более частому перестуку колес, по резкому давлению непрекращающегося дождя, который теперь уже не шуршал по крыше, а долбил в переднюю стенку их экипажа. Он протер глаза, выглянул в окошко, рассвет едва занимался, но был хмурым и неверным, как и полагалось ему в дождливый день. Вместо приветствия Тальда проговорил угрюмо, сонным голосом:
– Эх, надо было сжечь ту таверну, а я не догадался!
– Это верно, – согласился Оле-Лех. – Но без тавернщика, возможно, найдутся добрые люди, которые позаботятся о том… Местные-то, я уверен, все знают про обитателей замка и давно уже точат на них ножи, недаром таверна была таким частоколом окружена.
– Господин, а я еще удивился тогда… Чего они все опасаются?
И оруженосец уснул, не обращая внимания на крики и понукания их возницы, которые он, возможно, слышал, в отличие от рыцаря.
Звук вернулся, когда они выехали из леса, и, хотя через пяток миль они снова попали в другой лес, он больше не прекращался. Оле-Лех посчитал это подтверждением, что лес с замком метаморфов был действительно заколдованным, возможно, он стоял даже в каком-то соседнем измерении с нормальной здешней местностью. Оле-Лех слышал, что такое бывает – что-то находится рядом с чем-либо обычным настолько, что порой и смертные могут в него попадать, а могут… и не попадать, тут уж как-то все было сложно. И думать об этом, если честно, не хотелось.
Теперь они катили прямехонько на звук, Оле-Лех подсказывал направление на перепутьях, а Тальда для верности эти приказы на всякий случай повторял вознице, хотя рыцарь и сам видел, что франкенштейн его понимает. Но темнокожий орк был в эти дни неимоверно суетлив и слишком часто приглядывался к своему господину. Лишь к исходу третьего, кажется, дня он спросил:
– Так, значит, сахиб, эта слюна матер… матаформы… ну чудища, все же не подействовала?
– Она же не вампиршей была, – отозвался Оле-Лех рассеянно, потому что слышать усиливающийся звук магического призыва и разговаривать было трудновато. – Хотя не исключено, что когда-то питалась и вампирами… В том лесу, возможно, жили разные сущности, пока не появились эти, которые всех прочих сожрали… Впрочем, я читал, что и не от каждого укуса вампира возникает заражение, иначе бы нормальных сущностей давно не осталось.
– Хорошо, коли так, – не совсем понятно высказался Тальда и заметно повеселел.
Но слюна той мегеры все же на Оле-Леха подействовала, он только не хотел признаваться Тальде. Потому что подействовала довольно необычно, он вдруг стал понимать, как нужно летать, если бы у него были крылья, или хорошо представлял себе змей, когда они клубком греются на горячем от солнышка камне, или как думают люди, если смотрят на него… Это было просто и в то же время очень странно для него. Прежде таких мыслей у него не бывало, прежде у него подобные ощущения и возникнуть не могли.
И еще, все эти новые… впечатления были очень, просто необыкновенно телесны, ощутимы, определенны, едва ли не навязчивы. Но совсем уж неприятными они не были, пожалуй, рыцарь испытывал что-то вроде радости новизны, яркости открытия, когда на него накатывала очередная волна таких вот… переживаний. И с ними вполне можно было примириться, потому что главному они не мешали – Оле-Лех был твердо убежден, что они едут туда, куда им и нужно попасть.
На пятый день, когда и запасы, награбленные в лесной таверне, подошли к концу, и возница, по словам Тальды, уже порыкивал, что неплохо бы снова устроить привал и подкормить коней, они вдруг вырулили на очень широкую дорогу, тут могли разъехаться три экипажа в ряд. По ней беспрерывно топали самые разные смертные, сновали самые разные повозки, встречались даже какие-то арбы с тяжелыми, сплошь деревянными колесами, запряженные волами, и очень часто стали встречаться посты вооруженных стражников, которые иногда брали с обывателей плату за проезд, а иногда просто следили, чтобы непорядка какого-нибудь не случилось.
Ехать тут приходилось чинно и спокойно, не топча людей или телеги, даже и тех, которые, бывало, загораживали путь, потому что карета неожиданно стала видна всем, и слишком многие теперь провожали ее взглядами, порой любопытными, порой равнодушными, как и положено степенным, неторопливым провинциалам. Их возница понял это раньше, чем рыцарь или Тальда, и теперь не гнал коней, хотя пару раз и торопился расчистить путь, ожигая кнутом непонятливых и мешающих ему смертных или запряженных в их телеги и возки коней. Впрочем, все и так спешили уступить дорогу черной карете, которую легко несли не очень-то похожие на обычных лошадей черные кони.
К концу восьмого, кажется, дня после стычки в лесном замке они оказались перед довольно большим городом, стоящим на берегу озера, укрепленным, с флагами на башнях и частыми остроконечными крышами за крепостной стеной. Тут и следовало искать того, кого выбрал медальон, который теперь ярко и сильно светился голубым цветом.
4
Сиверс спокойно, сосредоточенно работал. Все было прекрасно в этом мире, все было на своих местах, и что существенно – он сам, профессор Шомского университета по кафедре географии, тоже был на своем месте. Он отлично выспался, только что сытно позавтракал и сейчас сидел в своем кабинете, куда едва доносился шум города. Наступал день, за который профессору предстояло многое сделать, и он был счастлив.
Перед ним лежала карта, которую он сделал собственноручно, над составлением которой прокорпел последние полгода. Исходя из очертаний нанесенных на нее земель и морей следовало, что северо-западный проход вокруг Дальнего континента возможен. А до сих пор он не находился только из-за слабой постройки кораблей, отправленных в эти походы, из-за трусости команд этих кораблей и, пожалуй, еще из-за неудачного выбора времени года, когда в эти походы корабли отправлялись.
Вот если бы эти поиски северо-западного прохода поручили ему, он бы, несмотря на требования команд, отправился не в летние месяцы, а сразу же после наступления весны, и тогда бы они попадали в дальние моря в очень маленький сезонный промежуток между тем, когда льды ломаются от южных течений и весеннего ветра, и моментом, когда моря снова начинают замерзать. Это время всего-то составляло, по его, профессора Сиверса, представлениям, месяца полтора, а возможно, и того меньше, но за это время вполне возможно было обогнуть северо-западный мыс и выйти на новые, еще не исследованные просторы.
Так, кажется, и поступали в старину отважные васуры, когда еще не забыли, судя по летописям, искусство мореплавания на большие расстояния, когда у них имелась какая-то цивилизация, по неизвестным причинам ныне заглохшая и почти забытая. Но ведь их старые лоции остались, и остались легенды, и даже карта, с которой Сиверс снял очертания мыса, нарисованная едкой краской на отлично выделанной шкуре северного оленя, которую он купил за бешеные деньги у незнакомого моряка, случайно забредшего к нему, чтобы продать этот раритет.
Сиверс еще разок осмотрел карту, она была не просто хороша, она была великолепна. Он перенес на нее приблизительный берег, сняв его с карты на шкуре, обозначил светло-голубым цветом возможное расположение прибрежных льдов и дальше, уже с той стороны мыса, нарисовал прекрасные равнины, на которых могли бы сохраниться остатки северной цивилизации, где она вполне могла бы существовать без атак и постоянного давления южных, более развитых народов родного континента Сиверса.
Он потянулся, все было правильно, все было прекрасно! Завтра, когда он будет читать свой доклад в главном зале университета, станет днем его триумфа, и даже если кто-либо из коллег, а особенно декан Гарв, не поверят ему сразу, он все же будет создателем новой, замечательно продуктивной гипотезы… Нет, он станет создателем теории северо-западных морей, в которой сам-то, разумеется, не сомневается.
Ох уж этот Гарв, старый дурак, бешеный защитник только проверенных и доказанных многими путешественниками сведений, ему бы рыбой торговать на рынке, а не развивать науку, исследуя легенды и древние первобытные карты, сделанные конечно же без соблюдений нынешних, самых новых и совершенных сведений в области сферической геометрии, зато все же обещающих дальнейшее развитие и успех в исследовательских походах… Успех, который, разумеется, сразу же выдвинет и Шомский университет, и его самого, заслуженного профессора географии, едва ли не в ряды первооткрывателей!
Конечно, после этого можно будет наладить отменную типографскую перепечатку этих карт, можно будет продавать их, и тогда его деятельность обернется еще и прибылью и для него лично, и для его родной кафедры географии. А деньги университету нужны, ох как нужны, недаром на завтрашний доклад ректор Субарец вызвал весь попечительский совет, то есть каждого из тех, от кого зависит финансирование: чтобы студенты могли учиться, а профессура, и он лично, Сиверс, получал как минимум четыре раза в год тяжелый кошель, наполненный искусно отчеканенными золотыми маркетами, лишь слегка разбавленными серебряными гривами.
В дверь несильно постучали, это был слуга, старый карлик Дипр, служивший еще его отцу, тоже преподавателю университета, только с кафедры рудоведенья и прикладной химии. Отец Сиверса, ныне покойный профессор Страт, один из знатнейших людей в городе, тоже не боялся мечтать и строить гипотезы, а потому ему и удалось открыть богатое месторождение серебра в восточных горах, что и сделало жизнь его, Сиверса, вполне обеспеченной, безбедной. И даже прекрасной!
Сиверс поднял голову и мельком, пока Дипр входил, посмотрел на книги на полке. Это были старые атласы, карты земель, окружающие Шом, изданные для знающих людей лоции, справочники животных, обитающих едва не по всему их континенту, и прочее, что могло быть интересно географу. Такой отличной библиотеки не было даже в университете, только он сумел собрать их, пользуясь своим богатством и положением в обществе.
– Господин Сиверс, – прогудел Дипр, кланяясь, как профессор требовал от него, если карлик вынужден был к нему обратиться, – там пришел какой-то эльф. С ним странный слуга.
– Посетитель, Дипр, я просил тебя называть тех, кто приходит ко мне, посетителями. Как он выглядит, я его знаю?
– Не думаю, господин, по всему, он из далеких земель прибыл к нам.
Сиверс немного подумал, это было необычно. Это было даже ненормально, чтобы кто-либо из далеких земель прибывал к нему на дом, а не на кафедру в университете. Там принять его было бы пристойнее.
– И что ему нужно?
– Он пришел, чтобы предложить что-то… Вот только я не понял, что именно.
– Предложить? Мне? – Сиверс решился. – Мне ничего не нужно, у меня есть все, что необходимо.
– Слуга у него невиданный, господин Сиверс, темнокожий орк, таких нет, пожалуй, и в твоих книгах.
– Негр-орк? – Профессор задумался. – Как такое возможно?
– Не знаю, господин профессор.
Сиверс никогда прежде не слышал, чтобы в племени орков бывали темнокожие. Возможно, на эдакое диво стоило посмотреть, чтобы упомянуть в какой-нибудь статье. Конечно, походя, будто бы это всем известно, хотя это и было, без сомнения, редкостью… Но это будет очень выигрышно, создаст впечатление, что он, профессор Сиверс из Шомского универа, гораздо более информирован и сведущ в своей науке, чем находит нужным о том писать… Да, это было любопытно, а может, путешественник потому и прибыл к нему, чтобы показать эту диковинку или посоветоваться, что делать, как использовать, помимо того что можно показывать в зверинце либо в цирке.
– Ладно, впусти их, Дипр, но попроси кого-нибудь посторожить с той стороны дверей… Нет, позови всех, кто есть в доме, садовника, лакея и даже горничную – мало ли что?
– Горничная на что нам, сэр? – удивился карлик. – Если уж дойдет до скандала, чем она-то поможет?
– Мы пошлем ее за городской стражей, старый дуралей.
– Пока она добежит, пока стражники дотопают до нас, пройдет много времени, господин профессор, а по виду они – весьма решительные парни… Уж не вызвать ли нам стражников заранее?
Сиверс серьезно, не замечая, что старый Дипр над ним едва не посмеивается, взвесил эту возможность. Покачал головой.
– Они хоть интеллигентно выглядят, как тебе показалось?
– Мечей у них нет, но кинжалы висят на поясах, даже у этого вот орка.
– Так это не дикарь? – удивился Сиверс. – Странно получается… Ладно, впусти их.
– Так они уже сидят внизу, в прихожей, я просил их подождать. Они-то выглядят по-господски, не шушера уличная…
– Проведи их сюда, и… Нет, ничего. Но садовника и лакея все же попроси подождать за дверью.
Посетители, как их решил называть Сиверс, вошли уверенно, спокойно, вполне цивилизованно. Негр-орк, который, как оказалось, держался за своим господином, высоким и очень прямым эльфом-полукровкой, был никакой не дикарь, одежда его выглядела вычурно, но бус из черепов невиданных ящериц или проткнутого костью носа у него не наблюдалось. Он действительно был просто очень темным, но глаза его поблескивали умом.
При появлении гостей Сиверс не поднялся из кресла, счел излишним. Указал на кресло, которое стояло чуть сбоку от его стола:
– Прошу садиться, господин…
– Меня зовут Оле-Лех, – сказал эльф, усаживаясь. – Я рыцарь малоизвестного тут, у вас в Шоме, Ордена, по сути, солдат и… – он чуть заметно усмехнулся, – путешественник.
Он внимательно посмотрел на профессора, у Сиверса сложилось странное впечатление, что этот вот вояка, без сомнения солдафон и, возможно, грубиян, знает о нем, именно о нем, профессоре университета, что-то такое, о чем даже он сам не имеет ни малейшего представления. Это было неприятно, а рыцарь продолжил:
– Я слышал о тебе, Сиверс, и знаю кое-что… Например, что ты богат по местным меркам, что у тебя завтра состоится какой-то важный доклад в университете и что ты, хоть и написал немало статей о морских путешествиях, никогда не покидал Шом. А ведь отсюда до побережья всего-то полсотни миль…
– Господин рыцарь Оле-Лех, если я правильно произношу это странное имя, ты наводил обо мне справки?
– Точно так, – признался орденец, – порасспросил тех, кто тебя знает.
– Зачем?
И вот тут затаенный смех ушел из глаз рыцаря, он стал серьезен, едва ли не трагичен, как будто то, о чем он знал, не доставляло ему никакой радости.
– Меня привело в Шом одно задание, дело, которое должно быть выполнено. – Только сейчас Сиверс заметил, что рыцарь говорил с чуть заметным акцентом, который проявлялся не в произношении слов, а лишь в интонациях, излишне певучих и беглых. – Сначала мы сделаем вот что, – отозвался рыцарь неожиданно и достал из внутреннего кармана камзола какой-то мешочек, смахивающий на кошель.
– О нет, – высказался Сиверс, – деньги меня мало интересуют, сэр рыцарь.
Посетитель озадаченно взглянул на него, еще большее удивление промелькнуло на лице темнокожего орка, который стоял, как изваяние, за спиной своего господина. А ведь мы с ними не справимся, подумал профессор, смешно думать, что их сумеют выставить из дома садовник и лакей, если они начнут на чем-либо настаивать.
– Это не деньги, профессор, это то, что должно подтвердить, что ты – тот, кто нам, собственно, нужен.
И он достал из большого мешочка еще три других, поменьше. Потеребил их, словно это было самое большое богатство на свете, и вытащил… Да, это был медальон, старый, местами даже какой-то обгрызенный, вероятно, там, где его изготавливали, не имели понятия о современных достижениях в ремесле чеканки по серебру.
– Что подтвердить?.. – удивился Сиверс. – Нет, амулеты разных там первобытных племен меня тоже не интересуют, рыцарь…
И внезапно замер, потому что… гм… посетитель спокойно, будто разговаривал не с ним, известным географом, а с каким-нибудь уличным попрошайкой, выставил вперед этот самый амулет и стал смотреть на вставленный в него камень. И что удивительно, камень этот, вопреки всем известным законам оптики, вдруг вспыхнул голубым бликом гораздо ярче, чем должен был, даже ярче алмазов или топазов, будто бы в нем находился источник света, чего быть, конечно, не могло в принципе. От этого блеска даже свет утра, льющий из окна, сделался ненужным, неинтересным и малозаметным. Теперь, Сиверс это чувствовал, хотелось смотреть только на этот вот медальончик, на эту, по сути, грошовую поделку… Или все же не грошовую?
– Это что такое? – спросил профессор внезапно осипшим голосом.
– А на что это похоже? – спросил посетитель, чуть усмехнувшись.
– Я читал в старых рукописях, что когда-то люди верили в магию и магические артефакты…
– Так и есть, профессор, – согласился Оле-Лех. – В этом медальоне больше магии, чем во всем вашем королевстве.
– У нас – торговая республика, рыцарь, – нахмурился в деланом гневе Сиверс. – Наше государство – это демократия честных и порядочных граждан, которые…
– Для тебя, профессор, это уже не имеет значения. – Рыцарь подумал и положил дурацкий амулет, который своими странными свойствами едва ли не испугал Сиверса, на стол. – По той причине, что я… – внезапно рыцарь опять стал очень серьезеным, – имею честь предложить тебе совершить путешествие. – Он даже откинулся на спинку креслица, в котором сидел. – Разумеется, все расходы я беру на себя. А также, – он снова чуть усмехнулся, – предоставляю средство передвижения для этого путешествия.
– Путешествие? – Глаза профессора округлились. – Зачем мне это?
– Чтобы отыскать… Нет, будет лучше, если ты узнаешь о цели и значении нашей экспедиции только тогда, когда мы пустимся в путь.
Тогда Сиверс поднялся во весь свой немаленький рост.
– И не подумаю, рыцарь! – заявил он, как ему показалось, громоподобным голосом. – И никакие тут расходы, как ты изволил выразиться, не имеют значения.
– Равно как я собираюсь предложить тебе весьма значительную сумму в качестве гонорара, – спокойно продолжил Оле-Лех, не спуская с Сиверса взгляда. – Полагаю, сумму можно будет обсудить прямо сейчас. Назови любую цифру, какую ты способен вообразить, и мы ее рассмотрим.
– Ты осмеливаешься предлагать мне деньги?
– Конечно. Тем более что деньги будут такие, что весь остаток жизни ты сможешь жить, как принц, и ни о чем больше не заботиться.
Сиверс возвел глаза к потолку, потом еще раз, для верности, осмотрел свой кабинет, карту на столе перед собой, книги и атласы на полке и даже шандалы со свечами, которые сейчас, понятно, не были зажжены.
– Прошу тебя заметить, что я служу в университете не для того, чтобы кормиться, я служу идее, собираю знания о мире, которые необходимы людям и останутся после меня.
– Не вылезая из кабинета, профессор? – В тоне посетителя прозвучало ехидство.
– Пусть так. В географии возможны гипотезы и теории, которые…
– Теории географии – это ерунда, Сиверс, – сказал Оле-Лех. – Для того чтобы что-то узнать о землях, которые ты наносишь на свои карты, нужно попросту поехать и посмотреть, как в действительности обстоят дела, вот и все. – Он чуть помолчал. – И я предлагаю тебе заняться этим. – Он улыбнулся. – Согласись, что твои доклады будут убедительнее, если о тебе пойдет слава отважного путешественника.
– Вот именно, рыцарь, доклад! – воскликнул географ. – Я должен завтра прочитать доклад, и это не подлежит никаким обсуждениям.
– Отправиться можно и после доклада… – как-то очень уж небрежно отозвался рыцарь, потом вдруг поднялся и посмотрел на карту, над которой Сиверс так долго работал. – Та-ак, поглядим… Нет, вот тут, если это северо-западные земли, неверно, мыс выдается куда западнее, а еще западнее проходит череда островов… Здесь земли протянулись сплошной линией, и этот залив, через который тянется эта вот голубая линия, на самом деле всего лишь озеро, пресноводное, кажется, потому-то оно и замерзает чуть раньше, чем вот эти воды… – Он снова уселся на свое креслице. – Видишь ли, профессор, мне тоже преподавали географию, только, судя по всему, точнее и достовернее.
– Достоверностью в твоих высказываниях, рыцарь, и не пахнет! В этих водах еще никто не бывал.
– Бывали, – по-прежнему рассеянно сказал Оле-Лех, – только не все сведения, как видно, дошли до вас… просвещенной профессуры Шомского университета. – Внезапно он оживился. – Кстати, мы, судя по всему, не покинем нашего континента, и путешествие, может быть, продлится недолго, всего-то пару-тройку месяцев, зато мы объедем, пожалуй, такие земли, о которых ты не имеешь ни малейшего представления.
– Я имею представление обо всех землях, какие известны человечеству, – холодно отозвался Сиверс. Он принял решение.
– Вот то-то и оно, что – человечеству, – непонятно, но от этого не менее обидно хмыкнул рыцарь. – А я предлагаю тебе узнать много другого нового и неожиданного для тебя.
– Прошу тебя, рыцарь, уйти и не мешать мне более, – сказал профессор Сиверс.
– А если так – ты сможешь назвать своим именем какой-нибудь пик среди гор, через которые мы будем переезжать? Или даже горную гряду назовешь именем Шомского университета, или залив какой-либо обозначишь на карте, как… Допустим, как залив имени вашего главного учредителя либо самого ректора Субареца?.. Такое предложение тебя может заинтересовать? Представь, как это будет смотреться, залив Субарец, открытый и описанный…
– Я уже высказал тебе, рыцарь, свое мнение, прошу уйти и не докучать мне.
– Господин, – подал вдруг голос темнокожий орк, – а чего мы с ним разговариваем? Дадим по башке, он и пикнуть не успеет, а потом завернем… хоть в этот вот гобелен, и удерем, нас и догонять никто не станет.
Профессор побелел, даже как-то сжался в своем кресле за столом, а рыцарь посмотрел на своего, судя по всему, слугу и твердо отозвался:
– Тальда, у тебя слишком… бандитские замашки. Не вмешивайся в то, чего не понимаешь.
– Как скажешь, сахиб, – отозвался орк и стал еще прямее, кажется собираясь еще что-то добавить.
– Все! – как ему показалось, заорал Сиверс, но на самом деле он кричал… шепотом, хотя как такое оказалось возможным, оставалось загадкой для всех присутствующих, и в первую очередь для самого профессора. – Уходите, иначе я зову слуг.
– Это тех-то мозгляков, что за дверью топчутся? – спросил темнокожий слуга без малейшего интереса. – Да я один…
– Тальда! – прикрикнул рыцарь.
– Слушаю, сахиб, просто жаль тратить слова на уговоры этого вот…
– Ты мне все портишь.
– Молчу, – вздохнул темнокожий… разбойник, лишь прикинувшийся порядочным слугой.
– Уходите, – снова прошептал профессор, – моя горничная уже наверняка пошла за городскими стражниками, и скоро они будут здесь. Они уже идут сюда, в этом можете быть уверены… А еще, пожалуй, я предлагаю вам обоим покинуть Шом, потому что все, что здесь произошло, будет изложено и стражникам, и моему руководству в университете. Тогда вас, вероятно, отловят и заставят…
– Пошли, Тальда, – со вздохом, пряча медальон в мешочек из замши, сказал рыцарь. – Как ни странно, географ, который должен путешествовать, чтобы хоть что-то понимать в своей науке, не собирается путешествовать. – Оле-Лех поднялся и пошел к двери из кабинета, не попрощавшись с Сиверсом, даже не глядя в его сторону. – Понимаешь, я-то полагал, что стоит ему только предложить…
Они вышли, слуги профессора за дверями, вооруженные кто чем, отшатнулись. Ни рыцарь Оле-Лех, ни Тальда не обратили на них ни малейшего внимания, стали спускаться по лестнице в прихожую. А господин профессор Сиверс прокричал им вслед с облегчением в голосе:
– Вот именно, рыцарь, я не из тех, кто… – Он даже попытался сделать неприличный жест, каким торговки на рынке, как он слышал, отсылают ненавистного покупателя, который пытался надуть их фальшивой монетой. – Пришел с дешевым амулетиком, и давай пускайся с ним в путь, даже не зная куда и зачем?.. Не на того напал, рыцарь! – Он еще раз посмотрел на карту перед собой. И заметил, что руки у него дрожат. – К тому же, зачем? – прошептал он, уже для себя, а не для этих разбойников. – Ты не можешь быть прав, рыцарь, не можешь.
5
Дверь зала собраний распахнулась, будто бы от негромкого взрыва. Одна из створок с тугим деревянным звуком стукнулась об стену, словно не слишком благозвучный гонг. Из проема тут же стали выкатываться волны студентов, их было много, не два-три десятка тех, кто учился на факультете Природных наук, но с остальных трех факультетов. А значит, их было более сотни – горластых, веселых, радующихся тому, что одного из малопопулярных преподавателей задавили. Даненько в стенах почтенного университета не случалось такого скандала, и вот теперь… Почему бы этому не порадоваться со всей отпущенной богами здоровой, молодой силой и бесшабашностью?!
Оле-Лех вышел чуть раньше, и даже не вышел, а выскользнул за дверь, когда разгром, который докладу Сиверса устраивал декан Гарв, еще не набрал самые возвышенные тона, при которых, клянясь верностью науке, декан перешел к почти откровенным оскорблениям профессора. Для этого посещения и осмотра университета рыцарь переоделся в соответствии со своим новым пониманием смертных из Нижнего мира, которое у него появилось после укуса метаморфа. Он догадался, что это может быть весьма важно. Он даже подумывал, что отказ Сиверса отправиться с ним в путешествие был во многом спровоцирован кинжалами, больше смахивающими на короткие, так называемые городские, мечи, которые висели у него с Тальдой на поясах во время вчерашнего посещения. Они слишком откровенно подсказывали, что путешествие может быть опасным, и даже смертельно опасным.
А потому сейчас он был в обычном для этого города строгом серо-синем кафтане, в довольно смешных, с его точки зрения, кюлотах и башмаках с позолоченными пряжками. Вместо кинжала он подвесил к поясу лишь небольшой мешочек, в каких местные книгочеи обычно таскали бумаги и писчие принадлежности. Вот только вместо чернильницы и футлярчика с очиненными перьями сейчас в нем было золото, и мало кто догадывался, что этим набитым металлом мешочком рыцарь мог бы, при необходимости, драться ненамного хуже, чем настоящим оружием. Все-таки совсем не вооружиться он не мог, этого Оле-Лех неспособен был себе представить, это было ему чуждо, он бы скорее согласился ходить по городу в одних чулках без башмаков.
За студенческой толпой почти правильным шествием, с соблюдением всех нюансов негласного протокола, вышли почтенные доны-учредители университета. Те самые, которые любят выпячивать себя, хотя давным-давно уже ничего в университетских делах не понимают, если вообще когда-то понимали, хотя бы когда сами были студентами. За ними чуть менее торжественно вышли профессора, они тоже посмеивались, в зависимости от возраста, конечно, но немало было и таких, кто этот свой статус и возраст забыли – все же приятно было, когда твоего коллегу так-то вот распекает оппонент, чуть не до полного изничтожения, после чего остается только искать другой университет, другое заведение, где можно было хотя бы формально остаться в профессии и статусе. Кажется, именно это и обсуждал один из них, молодой, но с пушистыми усами и румянцем во всю щеку верзила, почти на весь коридор, так что и студенты услышали, приговаривая сквозь смех:
– Да после такого… и не во всякую деревенскую школу возьмут, не то что в приличное учебное заведение!
Другой из них, вышагивая тощими, кривыми ногами рядом, потряхивая чрезмерной, на взгляд Оле-Леха, бородой, козлиным шепотком, который тоже слышали все, кто тут оказался, спросил:
– И как это Гарв решился на такую… критику? Коллеги, назовем это критикой, разумеется подразумевая иные общеупотребимые и более подходящие термины.
Глядя им в спины, Оле-Лех остался у стены. Он понимал, что очень быстро, со всеми вместе он не уйдет. Он будет ждать, пока все, кто стал свидетелем провала Сиверса, его унижений и явного, даже по академическим меркам, поражения, отправятся кто куда. Хотя и на это надежда была слабой.
Коридор на пару минут опустел, затем из дальнего и темного его конца вышел Тальда. Он был чем-то недоволен, но Оле-Лех знал, что своего недовольства верный оруженосец не выскажет. Темнокожий орк, сильный, как и положено солдату, выделяющийся среди всей этой публики повадкой и ростом, подошел к рыцарю:
– Господин, студенты согласились поддержать нас, и сумма в сорок грив их вполне устроила.
– Они не отправятся пропивать их в какой-нибудь кабак?
– Если и отправятся, глава студенческого союза, некто… – Тальда задумался, потом махнул рукой. – А-а, забыл, неважно, впрочем, он мне торжественно поклялся какой-то святой Меканикой и волшебной Рудознатью, что они не оставят его в покое до самой полночи. Даже если он спрячется в своем доме, они обещали устроить гвалт под его окнами, чтобы он слышал.
Оле-Лех чуть улыбнулся, студенческий юмор бывал грубоват, но сейчас это было ему на руку. Организовать заговор с теми монетами, которые имелись в карете, запряженной четверкой страшноватых черных коней, оказалось нетрудно. Раньше рыцарь никогда не прибегал к таким методам, он и не подозревал за собой таких способностей, но сейчас, когда ему неожиданно стали открываться потаенные желания и чаяния самых разных людей, он стал понимать, как следует добиваться своей цели, не применяя силу, но оттого не менее успешно.
Вот и сейчас он спросил, небрежно, будто бы знал ответ. А может, и впрямь знал еще до того, как задал вопрос.
– Тальда, что тебя беспокоит?
Тальда наклонился поближе к уху рыцаря, потому что в коридоре было все-таки чрезмерно гулко, и спросил шепотом:
– Господин, я все же не понимаю… Не проще ли, а заодно и дешевле, было бы поджечь, допустим, его дом? Зачем столько хлопот, все эти встречи с людьми, которых мы не знаем, которые могут подвести при исполнении твоего плана?
– Потеря дома, как ты советуешь, заставила бы его еще сильнее привязаться к этому городу. Потому что ему пришлось бы заново дом отстраивать, заняться денежными делами… Кроме того, если ты сжег его дом, он бы возбуждал жалость, а следовательно, ему бы не отказали в его профессорском месте. А так, как делаем мы, ему ничего не останется, кроме как…
Договорить он не успел, потому что из раскрытой двери в коридор выступили ректор Субарец с деканом Гарвом. Оба выглядели совершенно по-разному. Ректор был краснолицым, с красными же глазками, выдающими давнее пристрастие почтенного ученого к крепким горячительным напиткам. А декан, напротив, был бледен до такой степени, что с цветом его щек мог поспорить только мел. И шли они по-разному, ректор выступал грузно и веско, будто повторял про себя научные теоремы, а декан семенил и подпрыгивал, словно пытался скрыть хромоту на обе ноги разом. Они подошли к рыцарю, который смотрел на них, старательно спрятав усмешку.
– Приветствую, – коротко, на местный университетский манер, поздоровался декан Гарв. – Мы со своей стороны соблюдаем договор, почтенный путешественник.
– Даже чересчур рьяно, – отозвался ректор хорошо поставленным басом, которым в бытность преподавателем заглушал любой гам студенческих аудиторий. – Я и не знал, почтенный декан, что ты умеешь использовать такие выражения, которые применил в своем содокладе профессору Сиверсу. Они, должен тебе заметить, более соответствуют какому-нибудь сквернослову-шкиперу во время шторма, чем научному оппоненту в наших стенах… – Разглагольствовать ректор умел лучше всего и слушал себя с неизменным удовольствем.
– Перейдем, однако, к делу, – заметил рыцарь.
– Да, – тут же согласился декан. Ректор чуть кисло взглянул на него, но тоже согласно кивнул. Декан предложил: – Может быть, пройдем в кабинет, где можно… завершить наш маленький договор без помех?
И в этот момент из зала наконец-то вышел Сиверс. С ним было еще двое каких-то очень профессорских по виду друзей. Они явно утешали провалившегося докладчика, один из них даже тащил свернутую рулончиком карту, ту самую, которую рыцарь видел разложенной на столе географа и которую он назвал неверной. Но сам Сиверс своих спутников не слушал, он шагал с бледным лицом, будто мученик веры на костер. Губы его были сжаты, на скулах вздулись желваки, даже кулаки его, слабые и ухоженные кулаки человека, который никогда не поднимал ничего тяжелее ложки с супом, сжимались, как если бы он собирался драться.
Вся троица прошагала мимо, причем Сиверс заметно отшатнулся от ректора с деканом. А может, подумал Оле-Лех, и от меня он так шарахнулся, в ненависти, в едва подавляемой ярости, с желанием сделать что-то такое… о чем он еще не думал как следует, чего не понимал пока, но что непременно придумает, особенно если ему чуть-чуть это решение подсказать.
Подождав, пока эта троица удалится на достаточное расстояние, ректор снова обратился к Оле-Леху:
– Почтенный путешественник, как было заявлено в докладе декана, назначено расследование всех выводов, предложенных научному совету университета профессором Сиверсом. Если они будут найдены несоответствующими высоким требованиям науки, он будет отстранен от должности, и мы…
– По сути, мы его уволили, как ты и предложил, – быстро договорил за ректора декан Гарв.
– Разумеется, это было сделано в рамках научной честности и поиска безупречной истины, коих мы взыскуем по своим должностям и служению…
– Ему ничего не остается, кроме как доказать свою теорию, как он это назвал, чем-то более весомым, чем самодельной картой каких-то там северных диких мореходов, – снова вмешался декан.
Оле-Лех посмотрел на Тальду, тот все понял, чуть опустил глаза и тут же пошел следом за Сиверсом с его двумя утешителями. Ректор проводил их задумчивым взглядом, а потом спросил вдруг очень коротко:
– Деньги у тебя с собой, сэр рыцарь?
Оле-Лех потянулся к мешочку на поясе, но декан был более разумен, а потому высказался резковато:
– Нет, не здесь. Мы все же в университете, рыцарь, где все обо всем знают и все замечают, и это будет слишком… заметно. Уже завтра о нашей интриге станет известно последней студенческой прачке, если не всему городу. Нам следует пройти в кабинет почтеннейшего ректора.
– А заодно мы сможем и по стаканчику пропустить, чтобы отметить такую жаркую дискуссию, которой стали недавно свидетелями, – заговорил ректор по дороге, и теперь его никто не прерывал, потому что все было решено.
Вот и пришлось Оле-Леху отправиться с обоими почтенными учеными и преподавателями в кабинет ректора Субареца, где он, уже не опасаясь студенческих прачек, выложил на ректорский стол, на редкость обширный, из черного южного дуба и светлой северной березы, мешочек с золотыми. Ректор тут же, не считая, убрал деньги куда-то в ящик этого необъятного стола, причем с замками он возился так долго, что Оле-Лех понял: простому воришке делать с этим столом нечего, он поддастся взлому не легче иного ящика с казной, сделанного из лучшей стали.
Пить с ректором и деканом, которые были счастливы, по-настоящему счастливы тем, что пополнили кассу университета таким простым и бесхлопотным образом, он все же не стал. Ректор уже утомлял его, да и декану Гарву становилось неприятно его видеть как живое напоминание того, что он расправился с коллегой всего лишь за презренные деньги, хотя бы и за значительные деньги, которые позволят ему и ректору получать причитающееся жалованье в течение последующего полугода.
Поэтому рыцарь откланялся и вышел от университетских начальничков, взмахнув руками, словно стряхивал воду, как после значительной мускульной нагрузки. В архитектуре университетских коридоров и переходов, кажущихся бесконечными, он не очень хорошо разбирался, лишь чувствовал направление, куда следует идти, и потому немного заблудился, но все же вышел во внутренний дворик, из которого арочные ворота с какими-то грустными барельефами вывели его на улицу. Тут рыцаря неожиданно поймал какой-то студиозус, который смотрел все время почему-то на левый локоть Оле-Леха, и скороговоркой доложил:
– Этот твой… негр, сэр, передал, чтоб ты шел за мной. Они в кабачке «У трех сестер» засели, я провожу тебя, а потом и наши подтянутся, как договорено.
Он что-то еще говорил, но рыцарь уже не слушал, просто шагал за пареньком, удивляясь тому, как все здешние, даже такие вот недоросли, хорошо, хотя и немного грязновато, одеты, как они небрежно ходят и говорят, словно их никогда никто не воспитывал по-настоящему, как и положено – на плацу, в тренировочном зале, на ристалище, в духе подлинной дисциплины. Пожалуй, из таких вот ребят настоящих солдат получить уже невозможно, они слишком привыкли к свободе и разгильдяйству, необязательности и безответственности. Таким и оружие давать в руки бесполезно, они не поймут, какую это накладывает ответственность.
В кабачок они тем не менее пришли, и действительно, на вывеске были изображены три какие-то длинноволосые фурии, причем их улыбки, тщательно изображенные неведомым художником, больше походили на оскал. Юноша объяснил:
– Я туда пока не войду, сэр, мне приказано подождать наших, чтобы… Ну как твой негр просил, чтобы мы гомонили и продолжали смеяться, да?
Все-таки очень толково с этими ребятами поговорил Тальда, решил Оле-Лех. В кабачке было почти пусто, и были на столах скатерти – удивительнейшая штука, если вдуматься, ведь их нужно было стирать едва не за каждым посетителем, чтобы они не выглядели совсем уж неопрятно. В углу сидели три какие-то дылды с младенческими лицами, за другим столом хлопотала девица в почти белом фартучке, кокетливо обтягивающем ее бедра, но во втором зальчике, под окошком с улицы, сидела вся троица профессоров. Сиверс прятался в углу, ему и выбраться было невозможно, не подняв с лавки одного из своих друзей.
А наискось от них расселся Тальда, с видом бездумного гуляки подливающего себе в роговой стаканчик красное вино из темно-синего глиняного кувшина. Перед ним лежала доска с нарезанным хлебом, а сбоку была вверх донышком перевернута еще одна роговая кружечка. Оле-Лех прошел, уселся перед вторым стаканом, перевернул, налил и выпил с удовольствием. Вино было кислым и резким, северным, едва ли не обжигающим. Но послевкусие возникало приятное, словно бы язык и небо начинали дышать.
– Докладывай, – потребовал рыцарь.
– Все идет, как положено, сахиб. Студиозусы вот-вот подойдут, продолжат громогласно говорить о том, как наш Сиверс опозорился, и хохотать будут до упаду. А эти, – Тальда кивнул в сторону друзей географа, – сейчас должны уговаривать его куда-нибудь на время уехать, чтобы все улеглось, значит.
– Как они пьют?
– Да не то чтобы очень, сэр. Сиверс всего-то пару стаканчиков пригубил, его утешители, – орк хохотнул, показав на миг крупные, желтоватые зубы, – пьют больше, но подливают ему слишком заметно. А в остальном – как ты приказал.
– Хотелось бы, чтобы он не ушел, – пробурчал Оле-Лех.
– Ну и что, если уйдет? Мы за ним отправимся, ведь ты хотел, чтобы его в покое не оставляли.
– И было бы совсем неплохо, если б он напился, – добавил рыцарь.
Служанка, все время пытаясь убрать черную свою прядку с щеки, странно дуя кривовато вытянутыми губами, принесла несколько тарелок, причем некоторые были по-жонглерски поставлены на локти. В них было мясо в густой подливе, крепко заправленное зеленью, еще она принесла глиняную расписную доску с тонкими ломтиками сыра. На этой же доске имелись две большие двузубые вилки, несомненный признак цивилизации, правившей в Шоме свое торжество. Чуть качнув бедрами и все же убрав непокорную прядь пальцами, она произнесла неожиданно густым девчоночьим баском:
– Если господам еще че понадобится, так я тута, только кричите громче, а то у нас на сковородках на кухне шкварчит очень.
Оле-Лех проводил ее взглядом, в котором появилось очень необычное для него выражение. Тальда заметил это и нахмурился, поглядывая, как юбка девчонки покачивается под завязкой ее дурацкого фартучка.
– Наши-то, поди, лучше школены, – сказал оруженосец, макая хлеб в подливу.
Рыцарь тоже попробовал есть, подлива и мясо оказались вкусными и нежными, лишь сильно наперченными. Такое мясо можно было залить только вином, немалым количеством вина.
Оле-Лех ел и с удивлением прислушивался к себе. Все было странно в этом северном городе, и люди, по всем меркам, даже самые неглупые и образованные из них, были в общем-то вульгарны. Но что удивительно, эта их вульгарность, излишняя свобода в отношениях, по мнению Тальды, и даже их некая внутренняя живописность, которую оруженосец пока не замечал, начинали нравиться рыцарю. Он бы мог примириться с этим, мог бы тут жить, для пробы – некоторое время, но не исключено, что и вовсе захотел бы в старости здесь поселиться.
Вино теперь было в самый раз к мясу, они дополняли друг друга, как меч и кинжал, как море и прибой, как солнце и тени на траве. Одно не могло существовать без другого… Оле-Лех даже не заметил, как захмелел, все же следовало вино разбавлять, подумал он запоздало, ему еще предстоял важный разговор с Сиверсом, как он запланировал.
Шум в кабачке стал чрезмерным, это ввалилась компания студентов, краем глаза Оле-Лех заметил, что Сиверс дрогнул, даже попытался подняться, возможно, чтобы уйти, но один из его друзей настоятельно положил ему руку на плечо и заставил сесть. Сыр после мяса под местным соусом показался восхитительным. И Тальда, молодец, догадался, не стал кричать, чтобы не привлекать внимания, а сходил на кухню, и через пару минут все та же служанка с прядью через щечку принесла уже другого, легкого, шипучего вина, от которого голова окончательно могла поплыть.
– Будем надеяться, что Сиверсу подливают еще чаще, – заметил рыцарь.
– И голова у него, поди, не такая крепкая, как у нас, – добавил Тальда.
Вот в этом уже Оле-Лех был не вполне уверен, но все же присмотрелся к географу. Тот раскраснелся, движения у него стали не такими точными, как вначале, и на лице проступила тоска, прежде незаметная. Кажется, момент наступил.
– Ты закажи еще чего-нибудь, – приказал рыцарь слуге и поднялся.
– У них есть пирожки какие-то сладкие, – легко согласился Тальда. – Служанка сказала, если с крепким порто, то – самое оно получится.
Когда он подсел, не выпуская своего стаканчика, к столу профессоров, оба друга Сиверса сообразили, поднялись и куда-то ушли, очень тихо переговариваясь. Оле-Лех присмотрелся к географу, тот был не столько пьян от вина, сколько ослабел от всего пережитого за день. Но как бы ни было ему тоскливо, этот взгляд он почувствовал, поднял голову.
– Это ведь ты все подстроил, рыцарь? – спросил он, не удержался и рыгнул.
– Какая теперь разница, профессор? – отозвался Оле-Лех. – Теперь тебе все равно хорошо бы уехать. Пусть на время, пусть на пару месяцев, не больше, но… этого для всех будет достаточно, и для тебя тоже – достаточно.
– А я-то думал, они меня ценят, – сказал Сиверс.
– Они делают то, что им подсказывает их научная честность.
– Ха, научная честность! – Казалось, во рту географа поселился целый улей пчел, и он только отплеваться от них не мог. – Да если бы у них были мозги вместо киселя… Они бы поняли! А так, как вышло, они доказали только, что они – продажные сутенеры, а не профессура.
Кажется, это было самое сильное ругательство, какое когда-либо почтенный профессор произносил. Он, похоже, даже сам удивился.
– Ну ты даешь, – усмехнулся Оле-Лех. Он положил свою ладонь на руку Сиверсу, ощутив мельком, что та почему-то дрожит или пульсирует от горя. – Профессор, у нас отличная карета и превосходные лошади. И мы действительно увидим земли, какие ты никогда без нас не увидишь. Ты сможешь потом об этом всю жизнь писать статьи или затеешь монографию, и никто не посмеет тебя упрекнуть, что свои теории ты высмотрел из окна кабинета.
– Да, а что еще? Может, они меня снова попросят вернуться в университет?.. – Он нахмурился так, что у него и глаз стало не видно под опущенными бровями. – А я не пойду, слышишь ты? – Он попробовал отчеканить, но у него все равно вышло невнятно: – Не-пой-ду! Вот буду сиднем сидеть, а к ним…
– Я уже обещал тебе, помимо всяческих прочих выплат, что достану тебе подлинную, настоящую карту тех берегов, которые ты сейчас составил неверно, – мягко отозвался Оле-Лех.
И даже сам удивился своей мягкости, возможно, неплохое вино было тому причиной, а может быть, и еще что-то.
– Так мы что же, на северо-запад пойдем? – Глаза у Сиверса округлились.
– Нет, так далеко мы забираться не станем, где-нибудь поближе покружим. Но карту ты все равно получишь.
Сиверс с силой потер лоб и нос, он пробовал протрезветь, но по-настоящему это ему не удалось.
– И ты берешь все расходы на себя? – спросил он. Но тут же спросил о более для себя важном: – И берешься охранять меня во время путешествия?
– И оплачу, и берусь охранять, даже ценой собственной жизни, – усмехнулся Оле-Лех. – А еще, как было сказано, ты получишь карту. И в конце концов ты вернешься героем.
– А что я им-то скажу – где я раздобыл эту карту?
– Объяснять тебе не придется, пусть они строят догадки, ты только предоставишь ее, а потом, когда все окрестные мореплаватели убедятся в ее верности и начнут покупать ее, твое имя зазвучит по всем портам и картографическим мастерским.
– Ха!.. – Он еще пытался спорить, но тут же вспомнил еще об одном условии. – А если мы найдем какое-нибудь неизвестное озеро по дороге или горный кряж?
– Ты дашь ему свое имя, и тогда вовек никто не усомнится в твоем значении… для науки.
Сиверс пьяненько улыбнулся:
– Хорошо, где я должен поставить подпись своей кровью?
– Ничего подписывать не нужно, – легко сказал рыцарь. – И уж тем более – кровью, я не демон преисподней, а тот, кто дает тебе шанс, который у людей твоего склада бывает лишь раз в жизни. – Оле-Лех достал мешочек с заранее приготовленным медальоном, в который был вставлен голубой камень.
Профессор все же уставился на этот медальон, когда тот блеснул на мозолистой ладони рыцаря. Камень горел так, что блики заиграли на сводчатом потолке кабачка под названием «У трех сестер». И словно бы сам воздух вокруг стал холодным, колючим, густым, как только зимой бывает.
– Приложи это к груди, под рубашку.
Профессор все же не спешил взять медальон в руки.
– Какой-то он… А это не больно? – по-детски спросил он.
– Не знаю, что ты почувствуешь.
Сиверс словно бы даже стал меньше ростом.
– Это что-то вроде присяги, которую вы, солдаты, даете своему сюзерену?
– Клятву верности и чести дают не только солдаты, но и некоторые ученые.
– Только врачи, насколько я знаю… Нет, не уверен…
– Подумай о том, какая жизнь теперь тебя ждет там. – Рыцарь кивнул на окно, за которым шумели улицы Шома.
И как бы в подтверждение этому жесту, за длинным столом в другой части кабачка, где сидели студенты, грянул такой взрыв издевательского хохота, что, казалось, даже вино в кружках чуть не расплескалось. И чей-то молодой петушиный дискант пробился через голубоватое сияние камня:
– А еще, он говорит, такими мнениями вымощена дорога глупости…
Сиверс сел прямее, посмотрел в проход, который вел к зальчику, откуда доносились эти звуки, взял подрагивающими пальцами медальон, отчего-то зажмурился и сунул его себе под чуть расстегнутую рубаху, но получилось – почти к горлу.
И вдруг синий огонь в камне ярко вспыхнул и разом угас. Оле-Лех ожидал многого, но того, что этот кусочек неодушевленного металла с голубым камешком вдруг начнет истаивать, а потом и вовсе растворится, словно бы соль в стакане воды, под шеей профессора, даже не мог помыслить. Но так и получилось, а Сиверс открыл глаза, в которых появился какой-то другой, чем ранее, уже не пьяненький блеск, и с удивлением признался:
– Он что-то со мной делает… Это магия?
– Зато наилучшего сорта, профессор, смею заметить, – улыбнулся рыцарь Бело-Черного Ордена Берты, сэр Оле-Лех по прозвищу Покров.
А вот что он при этом сказал про себя, осталось для Сиверса тайной. А подумал он вот что – не такой уж ты, проф, дуралей, каким показался мне сначала. Но разве такое выскажешь?
Часть IV СУХРОМ ПЕРЕИМ КРАСНАЯ ТЕНЬ ОДИНОЧЕСТВА
1
Летучий корабль шел по небу на редкость свободно, тихо, плавно и, пожалуй, мирно, чего Сухром при первом взгляде на него и предположить не мог. Казалось, если положить легчайшее перо на палубу, то и тогда никакой ветерок не сдул бы его. Возможно, ветры были, даже скорее всего были, но «Раскат» им подчинялся, покорялся и следовал со всей массой перемещающегося воздуха, вот и получалось, что относительная скорость ветра почти не давила на тех, кто находился на его борту. А потому и ветер не чувствовался, как не было и неудобств, связанных с качкой.
К тому же крылья корабля, как заметил Сухром, работали очень редко, возможно, потому, что были не слишком нужны настолько опытному судоводителю, как капитан Виль, а может, просто команда корабля была совсем невелика – всего-то шесть тархов и два странных существа, составлявших, как рыцарь понял, послушав их выговор, бескрылую помесь все тех же птицоидов и людей, обитавших где-то в северо-восточных землях континента. Они оказались сильны, выносливы, и именно им доставалась главная работа на рычагах, запускающих сложную систему передач, позволяющую крыльям корабля делать махи в самых неожиданных направлениях и по удивительным со стороны траекториям.
Пятеро птицеподобных матросов капитана Виля держались особняком от своих двух более сильных восточных товарищей, но, как заметил Сухром, подначивали их, иногда даже задирали. Сам Сухром не очень-то понимал их разговоры, да и капитан Виль с помощником, шестым своим подчиненным птицоидом, шкипером Луадом, стоило кому-то из подчиненных разговориться, тут же требовал тишины. Зачем это было нужно, помимо соблюдения каких-то неведомых рыцарю неписаных правил дисциплины на борту корабля, догадаться не удавалось. Возможно, тишина требовалась, например, для правильного соблюдения магической подъемной силы или чтобы внимательнее наблюдать за ветрами, которые помогали «Раскату» выдерживать направление.
Как правило, за странного вида румпелем корабля стоял либо сам капитан, либо шкипер, и почти обязательно два тарха несли вахту, один на самом носу корабля, а второму выпадала доля носиться чуть не по всему необъятному баллону над кораблем, чтобы что-то латать, подтягивать какие-то тросики или исполнять другие, весьма непростые обязанности воздушного матроса.
Через три или четыре дня Сухром решил, что он понял, как они продвигались вперед. Капитан Виль или шпикер Луад поднимали корабль повыше, иногда даже выше облаков, благо что над равниной, над которой они летели, облака ходили невысоко, и затем разгонял корабль, скатывая его, будто санки с горы, используя таинственную силу тяжести и попутный ветер, конечно. То есть управлять такой машиной, какой был «Раскат», оказывалось намного сложнее, чем просто вести морской корабль среди ветров, течений и предательских мелей. Учиться этому искусству, вероятно, приходилось долгие годы, исполненные труда, и уж если птицоидам настоящее мастерство не удавалось постигнуть во всей полноте, то всем бескрылым расам это и вовсе оказывалось не по мере их способностей.
В общем, лететь Сухрому нравилось, даже Датыр, с опаской относившийся сначала к тому, что им придется довериться такому на вид малонадежному средству передвижения, как «Раскат», успокоился и уже не ходил по палубе с таким видом, словно она могла в любой миг под ним провалиться. Единственное, что их угнетало, – компактность, с какой корабль был выстроен.
Сначала, когда капитан Виль привел их в каюту, которую выделил им, со словами о том, что здесь обычно располагается сама Госпожа, если использует корабль для своих целей, рыцарь ему не поверил. Он решил, что они попали в какой-то на редкость тесный и неудобный коридор, чуть больше обычного шкафа, а не в каюту. Но это оказалось именно то место, где им предполагалось обоим жить в течение путешествия.
– Как же я тут размещусь? – гневно удивлялся рыцарь, когда осознал, что это никакой не коридор, а жилое помещение. – Тут же даже разогнуться в рост невозможно, а ведь Госпожа еще выше меня.
– Она обычно располагается здесь, господин, – отозвался капитан. – И часто со своей служанкой, а то бывает, что и с добрым господином Торлом, ее главным советником, ежели она берет его с собой.
– Они тут втроем размещаются? – уже по-настоящему изумился Сухром. – И даже спят с господином Торлом в этом… помещении?
– Нет, спать доброго господина Торла отсылают в мою каюту, но это очень неудобно, потому что мне там приходится работать… Знаете ли, сидеть над картами, читать лоции, прокладывать курсы и вести бортовой журнал, да многое, в общем, приходится делать. Но служанку свою Госпожа оставляет здесь, при себе, так что и тебе, господин рыцарь, не может быть тут слишком уж… – капитан задумался на миг, – совсем уж невместно.
Сухром выпрямился, стукнулся макушкой о палубу над собой, чуть присел и все же, исполненный достоинства и, как ему казалось, праведного негодования, спросил, возвысив голос:
– Ты вообще знаешь, что мы должны будем подобрать еще трех как минимум прочих смертных, чтобы… Ну о том, куда ты их должен будешь доставить, тебе знать не положено. Но это будут, возможно, очень большие существа.
– Не знаю, что и ответить, господин рыцарь, – капитан вполне по-свойски, едва ли не с оскорбительным намеком, с точки зрения Сухрома, почесал затылок, – но, когда они появятся, мы решим эту задачку.
И все, на том разговоры о «вместности» их помещения были закончены. Пришлось смириться, хотя находиться так близко и тесно со своим слугой, пусть это и Датыр, которого Сухром знал столько же, сколько помнил себя, было непросто. Иногда они сталкивались, и тут уж было не до выговоров о том, как полагается вести себя слуге со своим господином, потому что старому оруженосцу действительно некуда было деваться.
Как бы там ни было, но они прижились вдвоем в похожей на шкафчик каютке, хотя иногда, вставая по нужде среди ночи со своей не слишком широкой кровати, Сухром вынужден был наступать на спящего на полу на стеганой кошме Датыра.
Но если с бытовыми удобствами было сложно, то смотреть на землю, проплывающую снизу, оказалось и приятно, и даже полезно, как заметил Сухром через пару дней. Обычно он располагался на палубе перед возвышением в две ступени, на котором безраздельно господствовал тот, кто в этот момент управлял кораблем. Иногда рыцарь просто стоял, придерживаясь за многочисленные ванты, уходящие к баллону над ними, а иногда и садился, подстелив кошму Датыра. И смотрел вниз, причем ограждение палубы было настолько низким, к тому же сделанным из реденьких и даже хлипких на вид стоечек, что видно было все, что рыцарю хотелось рассмотреть.
Лишь два или три раза он спустился в трюм корабля, где среди каких-то тюков и ящичков, сделанных из тоненьких досок, в днище был вделан настоящий световой люк, забранный стеклом. Оно было настолько прозрачно, что почти не мешало смотреть и ничуть не искажало проносящиеся под днищем корабля виды. Поразмыслив, Сухром решил, что это было не столько дорого, сколько по-настоящему необходимо, для того, например, чтобы, как было над Слободой, точно выбросить трап и поднять кого-нибудь на борт.
Но в трюме из-за загроможденности было еще меньше места, чем в его с Датыром каютке, к тому же люк был невелик, только-только под размеры тарха, и потому-то рыцарь предпочитал любоваться полетом и землей, расстилающейся внизу, с палубы.
Земля действительно была с высоты забавным, даже увлекательным зрелищем. Рыцарь со своим превосходным зрением с удовольствием рассматривал ее, почти не замечая времени, случалось, что и про обед забывал, пока Датыр не приносил ему мисочку с каким-то варевом или блюда из риса, в которых тархи тоже оказались мастерами. К тому же забывчивость по поводу еды оказалась кстати, потому что кормили на «Раскате» довольно скудно, и для Сухрома, привыкшего к обильным и изысканным блюдам, это было еще одним малоприятным сюрпризом, с которым тем не менее пришлось смириться.
Равнина под ними была все же странной, иногда она отливала всеми цветами радуги, причем краски оказывались горячее, насыщеннее, чем бывали, как Сухром это отлично помнил, в Верхнем мире. Даже поля казались разноцветно-зелеными, и очень необычно было видеть с высоты, какими разнообразными бывают эти самые оттенки зелени. Тем более что они делились на какие-то квадратики или неправильные четырехугольники, причем один дополнял другой иногда по столь правильным и четким линиям, что оставалось удивляться труду смертных, затраченному на это.
Попадались деревеньки, причем стояли они, как правило, на небольших возвышенностях, которые почему-то почти всегда возникали у небольших рек, похожих с высоты на какие-то разделительные канавы. Но пару раз им случилось пролетать и над большими реками, в которых отражалось небо и которые бесконечными серо-сизыми дорогами уходили так далеко к горизонту, что у Сухрома даже глаза начинали слезиться, если он пытался рассмотреть что-либо в этой безмерной дымчатой дали. Это было даже труднее, решил рыцарь, чем смотреть, например, в пропасть.
В пропасти почему-то всегда угадывается дно, завершение вертикали, а вот завершения этим горизонтам не бывало, наоборот, представлялось, что они длятся, и длятся, и длятся, и… никогда по-настоящему не кончаются. Все равно что смотреть в небо, только не в близкое небо, по которому можно было лететь на таком корабле, как «Раскат», а в высокое, со звездами и такими лишь смутно угадываемыми далями, что и представить все пространства, возникающие за другими пространствами, невозможно. От этого могла бы закружиться голова, если бы Сухром об этом как следует подумал, вот только он был не силен в том, чтобы думать, а значит, и голова у него не кружилась. Лишь иногда ему становилось тоскливо, но тогда он звал Датыра со стаканчиком вина, а отвлекшись на это нехитрое действие, спустя пяток минут уже снова мог смотреть на мир, не опасаясь того, что эта протяженность затянет его в себя, как водоворот затягивает мелкие листья и сучья.
И лишь на пятый день он вдруг вспомнил, что… что в мире Госпожи от Слободы они, кажется, ушли на север, к северным горам, которых он из-за новизны впечатлений полета толком и не заметил. А сейчас… Тогда он подозвал к себе шкипера Луада, который отличался от капитана Виля словоохотливостью и склонностью к объяснениям.
– Шкипер, – обратился он к подошедшему тарху, – вот скажи, мы же должны лететь над миром Госпожи, в котором, как я помню, горы прерываются пропастями, в котором много всяких ландшафтов, кроме… собственно, кроме равнин. А мы все летим и летим над равнинами, как так получается?
– Мы действительно пошли от замка Госпожи к горам, на условный норд, сэр, – кивнул шкипер. – Но сразу попали в главное кольцо перехода, чтобы оказаться в более спокойном воздухе Нижнего мира, господин рыцарь.
Он еще что-то хотел объяснить, но Сухром перебил его:
– Это значит, что мы почти сразу же попали в Нижний мир?
– Так точно, сэр. Госпожа, когда обживала свой мир, называемый тобой миром Верхним, создала ближайшее кольцо перехода очень близко к замку, уж не знаю, из целей безопасности или по другим причинам… – Он даже чуть голову закинул, чтобы выразить свое восхищение Госпожой, хотя мог бы этого не делать, Сухром разговаривал с ним, сидя на палубе, и даже невысокий тарх возвышался над ним почти на голову. – Она была некогда, как я слышал, отличной воздухоплавательницей, могла летать на очень странных предметах, могла даже сама по себе летать, переноситься по воздуху, не соприкасаясь с землей или… с другими поверхностями. Вот и устроила эту штуку для себя.
Сухром почти ничего не понял из этого… гм… объяснения. Зато он уловил главное и спросил напрямик, чтобы больше не путаться:
– Так мы уже в Нижнем мире? Так скоро там оказались, да? А я и не заметил…
– Мы оказались не там, сэр, а тут… И это очень важное различие. Видишь ли, ходить по миру Верхнему нам тяжко, потому что он… Не могу тебе этого объяснить, но он фрагментарный, как пишут в лоциях, состоит из кусков, между которыми простираются бездонные пропасти, одну из которых ты мог бы видеть у замка Госпожи. Или бездонные небеса, то есть те же пропасти, обращенные вверх, но это – одно и то же. Безразлично, куда именно простирается пространство… Так вот, летать между этими землями через пропасти или через те, Верхние, небеса очень трудно, иногда даже невозможно, хотя и не знаю почему. Но попадать туда не рекомендуется, мы можем там попросту все погибнуть. Поэтому мастер Виль выбрал наиболее безопасный путь и вышел сюда, в Нижний мир, и свернул на равнины, которые ты и наблюдаешь. – Почему-то шкипер воодушевился, даже присел рядом с рыцарем и принялся объяснять, уже рисуя что-то пальцем на досках палубы, хотя ничего от линий, которые он обозначал, конечно, не оставалось. – Понимаешь, сэр рыцарь, переходы возможны в тех кольцах, которые неведомо как висят в воздухе, и если в него попадает птица или наш корабль, то меняется и мир, в котором мы находимся…
– Стой! – почти заорал Сухром, который уже понимал едва ли одно слово, произнесенное шкипером, из четырех. Он даже нахмурился, даже лоб собрал морщинами, но и это не очень-то помогало ему разобраться в том, что хотел выразить шкипер. – Ты отвечай на простой вопрос: мы летим, чтобы быть… над восточными землями континента?
– Можно сказать и так, сэр. Только восточных земель, если по правде, в нашем понимании не бывает. Потому что возможности корабля «Раскат»…
– Тихо, – рыцарю отчетливо хотелось задушить этого всезнайку, – следующий мой, – он сделал ударение на этом слове, – вопрос. Мы должны попасть на восток, все же преодолевая… – он сделал неопределенный жест, которым попытался как-то охватить весь мир за бортом корабля, – эти расстояния?
– Конечно, сэр, – почти удивился шкипер. – Ведь расстояния никто не отменял, и если нам нужно попасть куда-то, – он усмехнулся, словно сомневался в законности термина, – предположим на восток, то следует пройти те четыре тысячи лиг, которые отделяют нас от места назначения.
Сухром задумался по-настоящему, он хотел теперь задать хороший, стоящий вопрос, чтобы разобраться хоть в той малости, которую действительно стоило бы выяснить.
– А что же ждет нас впереди, на нашем пути?
– Мастер Виль выбрал наиболее безопасную, хотя и не самую короткую трассу. – Шкипер снова пробовал порисовать пальцем по дереву, создавая подобие невидимой карты, хотя почему он должен был представлять это именно так, рисунком, рыцарь даже не пытался понять. – Он пошел над Великими равнинами, которые мы уже с успехом миновали на половину, и дальше, впереди, у нас будет два… моря. Одно называется морем Разлома, или, если говорить в обозначениях Нижнего мира, оно называется Ломаным морем, хотя, по сути, это очень большое озеро, только соленое, и в него впадает почти двести больших рек, а вот сколько впадает рек малых, не знает никто… Видишь ли, сэр рыцарь, точной карты этих земель не существует. – Луад прервал себя, сообразив, что вдается в чрезмерные детали. – А вот второе море будет уже настоящим, называется море Бату, хотя это всего лишь залив северо-восточного океана, и он является первым признаком восточного Желтого океана. Затем мы должны будем пройти очень высокую горную гряду, кажется, самую высокую здесь, в Нижнем мире, и уже за ней попадем почти туда, куда нам и надо, останется лишь пройти пустыню Шамук, потом выйдем на равнины, где течет великая восточная река Язой, причем течет уже на восток… И все, мы окажемся там, где должны быть.
Сухром сидел, задумчиво глядя на то, что должно было как бы проявиться, проступить на досках палубы. Вот только никак не проявлялось, потому что очень уж много шкипер нарисовал и слишком туманно, по мнению рыцаря, рассказал обо всем, что им предстояло.
– Та-ак, – протянул Сухром. – А потом… – Он не знал, как закончить вопрос, но со шкипером Луадом этого и не требовалось, не нужно было договаривать вопросы, чтобы он попробовал на них ответить.
– А потом, рыцарь, мы спросим уже тебя, что должны делать, куда нам дальше идти и что следует искать в тех странах.
Рыцарь даже оторопел от такого резкого перехода к его персоне, а возможно, и от необычайной для шкипера краткости ответа.
– То есть как это – спросите меня?
– Ну да, – убежденно отозвался шкипер. – Ты же у нас главный на борту относительно того, что мы должны там делать. Капитан должен всего лишь доставить тебя, куда ты прикажешь. А что нам там предстоит – знаешь только ты, и никто другой.
Это было очень необычно для Сухрома, даже слегка путало его, но он по-прежнему хмурился, будто бы и понимал, и соглашался с тем, что только что услышал. Да и как ему было не соглашаться. Все же он осторожно спросил:
– А кто же… Кто капитану Вилю такое приказание отдавал?
– Кто-то из подручных Госпожи, конечно, – пожал в недоумении шкипер плечами, за которыми под специально сшитой накидкой угадывались немалого размера, хотя и плотно прижатые к пояснице, крылья.
Вот с этим было, конечно, не поспорить, что называется. И тогда Сухром задумался уже всерьез, потому что ему захотелось задать по-настоящему, без дураков умный вопрос. Он даже привстал немного от внутреннего напряжения.
– Слушай, шкипер, а почему ты капитана называешь мастером?
– Так все называют капитана, и всегда, и везде, рыцарь. Это, знаешь ли, не обсуждается. Даже теми, кто, как я, может проложить курс корабля или стоять на рулях и нести вахту.
– Хорошо, я больше не держу тебя, – решил рыцарь.
И проводил шкипера рассерженным взглядом, в котором, однако, присутствовала и растерянность. Потому что он почти ничего из услышанного только что не понял, но про себя решил, что впредь постарается с этим вот… интеллигентом разговаривать как можно меньше. Хотя Луад и говорил по-человечьи, то есть на языке, на котором все говорили в мире Госпожи, гораздо лучше, чем остальные тархи, включая самого капитана… мастера Виля.
2
Лететь над водой, то есть над Ломаным морем, как и предсказал шкипер Луад, оказалось не так интересно, как над землей. В море не было городков, которые «Раскат» хоть и обходил стороной, но которые почему-то здорово украшали землю, не было деревенек, похожих на игрушечные изображения настоящей жизни, в которых, однако, угадывалось и что-то более важное, быть может, господство разумности на всех необозримых просторах, видимых с корабля, не было даже полей – свидетельства труда поколений смертных всех рас и разновидностей. Не было коров или овец, смотреть на которые почему-то тоже было интересно, которые выступали как знак присутствия в этом мире порядка и каких-то необходимостей мира и спокойствия, упорядоченности и давних, тысячелетиями проверенных отношений, привычек и традиций.
Лететь над морем почему-то оказалось почти так же нелегко, как преодолевать густые, бесконечные и почти темные леса, жизнь в которых была сумеречной и невидимой, неизвестной и страшноватой, а потому – вызывающей чувство близкой опасности. Море тоже, без сомнений, кипело жизнью, возможно, еще больше, чем даже те населенные равнины, которые они миновали, но это была такая потаенная, малозаметная и внушающая опасения жизнь, что от нее хотелось держаться подальше, тем более что и потоки воздуха тут стали тяжелыми даже для опытного мастера-капитана Виля. Он, как заметил Сухром, поднимал корабль с большим трудом, ругаясь на бездельников-матросов, хотя теперь, над водой, они выходили на вахту не вдвоем, а вчетвером, и частенько получалось, что только капитану и шкиперу удавалось чуть отдохнуть между вахтами. Но их обязанности были куда труднее и требовали большей сосредоточенности, чем работа матросов, им этот отдых, отвлечение от исполнения своей службы были нужнее, более необходимы.
К счастью, соленое Ломаное море, а потом и залив довольно скоро оказались позади, «Раскат» миновал их всего-то за три дня и четыре ночи, а потом они пошли над землями, все более заметно превращающимися в настоящую пустыню. Сначала внизу встречались даже разводы какой-то реденькой травы, но ее становилось все меньше, а промежутки между этими пятнами зелени оказывались все шире, пока всю поверхность не заняли красная глина, желто-серый песок и буро-коричневые солончаки, почему-то белесо сверкающие под солнцем, едва ли не влажным блеском, только воды тут не было, не могло быть.
Местность стала совсем необжитой, даже капитан перестал ворчать, что приходится слишком сложно маневрировать, чтобы уклониться и не пролетать над скоплениями жилищ разных смертных. Их тут попросту не было, как и воды, они совсем исчезли, а вместе с жителями исчезли поля, стада и даже признаки каких-либо дорог, укатанных повозками, и караванных троп. Дороги, как Сухром почему-то заметил только с борта «Раската», имело смысл прокладывать только в цивилизованных районах. Получалось, что в глуши, в этой пустынной дикости, перевозить что-либо, включая и самих смертных, можно было только верхом, не иначе. А для верховых на конях или на верблюдах, как выяснилось, дороги не нужны.
А потом, кажется на восемнадцатый день пути, капитан вдруг вызвал шкипера, поставил его на румпель, а сам долго стоял, всматриваясь в горизонт, который закрывала какая-то пелена, похожая на невысокий, но непроницаемый занавес. Только справа небо оставалось чистым, пронизанным солнцем, а толща воздуха, к которой за последние дни Сухром уже немного пригляделся, даже привык, отливала ясным, будто взгляд ребенка, весельем.
Зато слева, откуда-то с условного северо-востока, на мир наползала тяжесть, какая-то гниль, будто воздух ничем не отличался от кучи лежалых яблок. Наконец, насмотревшись, капитан подошел к рыцарю, который в этот момент сосредоточенно пил чай, приготовленный Датыром, и сообщил подрагивающим от волнения голосом:
– Ты бы сошел в каюту, сэр рыцарь, а то скоро шторм будет, и нам переждать его негде, спуститься тут и укрыться мы не сумеем.
Сухром изобразил презрительное спокойствие, лишь потер щеки, на которых наросла щетина, и остался на той кошме, на которой расположился привычно и вполне привольно… А оказалось, что зря, капитан не просто так, не из вредности советовал ему спрятаться.
Сначала он увидел, как обычная воздушная толща вдруг налилась фиолетовыми грозовыми тучами, и между ними мутновато засверкали зарницы, еще не упираясь в землю, не касаясь ее. А потом вдруг и в землю стали бить молнии, причем такие, что воздух от них вздрагивал, но тогда гром еще показался чем-то отдельным от грозы, слишком было велико расстояние между ними и грозовым фронтом, проходило много времени.
Зато когда гроза все же настигла «Раскат», стало понятно, что так просто от непогоды не уйти. Капитан попробовал поднять корабль как можно выше и поднял, да настолько, что баллон над ними раздулся чуть не вдвое, и даже сильный ветер, который уже порывами стал их настигать, не гонял, как бывало прежде, по нему какие-то неясные, но видимые глазом волны. Мастер Виль нервничал, и его настроение неуверенности передалось экипажу. Они еще немного поднялись, но, как ни махал своими крылышками «Раскат», как ни раздували баллон подъемный газ и волшебство, большего они достичь не смогли никакими средствами. А они-то при этом едва-едва поднялись до половины грозовых, темных, тяжелых, обещающих бурю туч.
Тогда капитан встал к румпелю в помощь шкиперу Луаду. Но, поборовшись с ветрами с четверть часа, он оставил его одного и сходил вниз, под палубу, в ту часть корабля, где работали на рычагах два полутарха. Впрочем, им помогали уже и все остальные тархи-матросы, вот только – каким-то образом Сухром это и сам понял – они все равно не выгребали, кораблю требовалось больше сил в отчаянно машущих крыльях.
Когда капитан снова поднялся на палубу, он твердым шагом подошел к Сухрому, около которого стоял верный Датыр, и тоном, не терпящим возражения, едва ли не приказал:
– Сэр рыцарь и ты, оруженосец, придется вам помочь ребятам на крыльях. Если не выгребем… Нет, об этом не следует думать.
Пришлось рыцарю и Датыру встать к двум большим рычагам, которые надо было крутить плавными жестами, чтобы они, подобно веслам, загребали за бортами летающего корабля воздух. Вроде бы это было не слишком трудно, Сухрому показалось, что он справится с этим без труда. Зато когда и гром стал звучать особенно часто и близко, ворочать этими рычагами, ходившими еще совсем недавно легко и без сопротивления, сделалось на редкость тяжело. Они стояли вдвоем с Датыром, и каждый у своего борта сражался – действительно сражался, не иначе – со своими рычагами, глядя в спины четырех хлипких птицоидов, которые тоже что-то пытались сделать с рычагами попроще, вот только им это удавалось еще хуже, чем орденцам, хотя они и расположились по двое на каждом из устройств. Труднее всего, без сомнения, было штатным гребцам корабля, полутархам, которые встали к передней паре рычагов и работали так, что по их спинам тек пот, а мускулы вздувались такими узлами, что Сухром даже подивился. Он не видел таких силачей очень давно, пожалуй, им могли позавидовать и завзятые бойцы, может быть, даже большая часть рыцарей Бело-Черного Ордена.
И все-таки они не справлялись. Корабль трепало так, что не раз, и даже не десяток раз начинало казаться, что он рассыпается. «Раскат» скрипел, трещал и бился своими частями, будто от него и впрямь отламывались куски. Удары воздуха в баллон наверху стали звонкими, будто бы кто-то колотил в огромный бубен. Качка пошла такая, что и рыцаря, и его Датыра вдруг укачало, чего на летучем корабле не бывало прежде, и вывернуло наизнанку, но от рычагов они отойти не посмели, потому что кто-то из гребцов корабля – полутарх – встал к ним лицом и начал рычать что-то на своем непонятном языке, но смысл-то был ясен, оставить сейчас, именно сейчас рычаги корабля было невозможно.
Это был уже какой-то кошмар. Вдобавок неожиданно стал лить дождь, настоящая вода, редкими косами бросаемая ветром сбоку, обтекая баллон над кораблем, пробивалась и в трюм. Или они стали так крениться на порывах ветра, что дождь доставал их, падая, как ему положено, почти отвесно.
А работа уже стала изматывающе-непрекращаемой, она длилась и длилась, и не было видно конца этой буре… Внезапно около рыцаря оказался шкипер Луад, он прокричал, пробуя переорать звон гондолы над кораблем и удары грома:
– Придется снять двух матросов, что-то не в порядке наверху, мы теряем высоту… Хуже нам редко доставалось, сэр.
– Успокоил, бес ему в ребро, – проворчал Датыр негромко, но Сухром его услышал и вынужден был с ним согласиться.
Невысоких и легоньких тархов, оставшихся на каждом из рычагов в одиночку, стало так болтать, что создавалось впечатление – не столько они крутят свои рукояти, сколько сами крутятся с ними заодно.
А потом один из передних гребцов упал, он попросту не мог больше работать, и это было понятно. Перед глазами у Сухрома тоже стояла пелена, будто бы его в полном доспехе заставили бежать двадцатимильный марш или переплыть море… тоже в доспехе, да еще с мечом за спиной.
Корабль некоторое время стало бить чрезвычайно сильно, все прежние удары, которые он выдерживал, показались в эти минуты ласковым поглаживанием, и из-за этого у Сухрома сломалась система его рычагов… То есть что-то треснуло, потом громко раскололось, и дерево под его рукой прошила длинная трещина, о край которой он тут же занозил себе ладонь изрядной щепкой. А ручка, похожая на весельную, стала вращаться совсем свободно, он не ощущал ответного давления, он чуть не упал от этого, но удержался на ногах именно потому, что держался за рычаг…
И тотчас второй из гребцов-полутархов стал махать ему и что-то орать на своем невнятном языке. Один из настоящих, маленьких птицоидов повернулся и попытался перевести… Сухром почти ничего не услышал, но все же понял, что тот ему пытался передать:
– Переи-йти… пер-днее… …сло!
Сухром кивнул, мол, понял, на ватных ногах протопал в нос гребного отделения, чуть не завалившись на особенно сильных качаниях палубы, хотя и падать в этой тесной, забитой рычагами и живыми гребцами коробке было почти некуда, встал к тому… веслу, которое до него крутил выдохшийся полутарх.
Работать на этом механизме было еще труднее, чем на его прежнем. Эта работа потребовала от него всех сил, которых и так было уже не слишком много. Но он все же старался, работал и давил, крутил, проворачивая невыносимо тяжкую рукоять… А упавший гребец тем временем лежал в крохотном закутке в самом носу их кораблика и почти бессмысленно смотрел на вставшего на его место рыцаря. Сухром уже видел этот взгляд, правда, у других существ. Он означал, что тот, кто так вот смотрит, попросту надорвался. И почти всегда это заканчивалось одним – такое вот уже даже не вполне разумное существо некоторое время болело, затем неизбежно умирало…
Но этот дикарь оказался не таким, он все же поднялся, постоял, покачиваясь, а затем… снова встал к рукояти, которую до этого крутил один из матросов-птицоидов. А тот перешел в помощь своему товарищу, чтобы работать вдвоем. Трудно сказать, помогло ли это, или удары непогоды в корабль стали слабее, но почему-то после этого показалось, что буря стихает, по крайней мере, становится вполне переносимой.
А потом непогода и впрямь стала смиряться, становилась тише, правда, не так быстро, как хотелось бы… Но все же она явно уходила в сторону, вернее, корабль вырвался из ее плена и уходил в более спокойные небеса. Хотя поработать пришлось еще не час, и даже не до конца ночи… Но когда утро все же поднялось в своей свежести после бури над теми землями, над которыми пролетал «Раскат», откуда-то сверху донесся крик, и тогда… Да, тогда тот полутарх, который не падал, который всю бурю простоял на своем весле и даже сумел ими всеми командовать, бросил свой рычаг и тоже сполз по борту на палубу. Теперь рычагами могли работать, как ни странно, только два тарха-матроса, которые разбили свою пару и встали к передним веслам.
А Сухром, поддерживая Тальду, который тоже устал и выглядел, будто тень себя прежнего, поднялись на палубу. Они увидели солнышко и пелену непогоды еще неподалеку, но все же – сзади. А на рулях корабля стоял почерневший от усталости Луад, все же он был помоложе, и уважение к капитану заставило его не оставлять пост, давая отдых мастеру Вилю.
Сам Виль сидел на палубе и смотрел через столбики ограждения на поднимающееся солнце. Заприметив, что к нему идет рыцарь со слугой, он поднялся на подрагивающие от слабости ноги и с еще более диким, чем обычно, выговором оповестил:
– Мы не разбились, сэр… Хотя вынужден признать, я пару раз думал, что мы не увидим рассвета.
Сухром осмотрелся: крыло с левого борта, которое, вероятно, крутил он и которое сломалось, висело, бессильно уронив свою плоскость к земле, трепыхаясь, как обыкновенная тряпка; сама земля была близко, они шли настолько невысоко, что она не сливалась в общую поверхность, при желании можно было рассмотреть отдельные кустики пустынной колючки либо некрупные камни; баллон наверху сморщился, он тоже казался усталым, будто бы его долго мяли, да так и не расправили.
– Одного из матросов сдуло ветром, – сказал капитан Виль. – Не знаю уж, успел он выдернуть из-под пелерины крылья, если нет, то… Мы были невысоко, сэр, у него оставалось мало времени. Эх, следовало бы заставить их работать хотя бы голыми по пояс, но я понадеялся… Впрочем, тут все равно пустыня на сотню лиг в любую сторону, вряд ли у него достанет сил дойти до края без воды.
– Как так – без воды? – спросил Сухром и не узнал своего голоса. – Дождь же был…
– Сэр, этот дождь успевает тут высохнуть, прежде чем упадет на поверхность. Посмотрите сами, воды на этой земле нет, может, и не бывало никогда.
Сухром посмотрел на пустыню за бортом. Она выглядела… гм… Действительно, она выглядела так, будто никогда дождь не выпадал на эти пески и разводы глины. Она была отчаянно сухой, само упоминание воды казалось тут невозможным. А капитан Виль тем временем продолжил:
– Еще одному матросу перебило руку, он зазевался, а стропа дернулась, и удар пришелся по руке… Не знаю, срастется ли кость, ее ведь передавило так, что рука болтается на одной коже.
– Где он?
– Лежит в кубрике, сэр. Я отослал его, вот чуть отдохну, попробую отрезать ее совсем, чтобы не загнила. Может, удастся его спасти, хотя… Кому нужен однорукий? Но не выбрасывать же его за борт? Он был хорошим матросом, не слишком смышленым, но правильным, и я знаю его мать…
Отвлекшись от собственных ощущений, капитан сейчас был хмурым, усталым донельзя, злым даже, но он уже думал о том, каково придется его кораблю без двух матросов. И он соображал, кажется, где находились хирургические инструменты, которые следовало вскоре использовать, чтобы спасти раненому жизнь, хотя бы жизнь, если уж не повезло спасти ему руку.
– Пожалуй, сэр, я приготовлю завтрак, – предложил Датыр, несильно подвигав плечами, чтобы Сухром отпустил его. – На всех, – добавил он и тряхнул седой головой. – Все же команде следует подкрепиться.
– Было бы неплохо, – кивнул капитан, – прежде чем они займутся ремонтом крыльев. – И тогда он повернулся к рыцарю. – А ты, господин рыцарь, иди к себе, попробуй уснуть, если хочешь. Ведь теперь, – он попытался неумело улыбнуться, – все будет хорошо. Все будет…
– Что тебя беспокоит, капитан? – Рыцарь все же уловил какое-то опасение мастера Виля. – Еще одна буря?
– Вряд ли, сэр, они тут не так часто приходят… Та, что мы сегодня ночью пережили, скорее редкость, чем правило. – Он все же взглянул на Сухрома запавшими глазами, под которыми расплывались синяки величиной с добрый кулак. – Просто нас отнесло непогодой в ту сторону, куда все лоции советуют не забираться. Никогда, ни при каких обстоятельствах.
3
Проснувшись, Сухром поднялся на палубу, Датыра почему-то не было поблизости. На рулях стоял, заметно покачиваясь на слабых ногах, шкипер Луад. Рыцарь подошел к нему, сладко потягиваясь.
– Где капитан? – спросил он.
– Мастер спит, измучился за ночь, – отозвался Луад. И почти пожаловался: – Он не молод, ему нужно сил набраться, чтобы вахты стоять.
– А ты сам-то как?
– В мои-то годы мастер по трое суток не спал, как он говорит.
Рыцарь подумал, что одно дело рассказывать подчиненным разные байки, а совсем другое – на деле исполнять то, о чем говоришь… Но это была не его забота, не следовало подрывать веру в капитана, и все же он ухмыльнулся, потому что шкипер добавил:
– Он на самом деле очень выносливый и нас так приучил… У нас же команда большой быть не может, сэр рыцарь, сам понимаешь. Вот и приходится… – Что приходится, он не добавил. – Ничего, вот вахту отстою и завалюсь-ка спать часов на восемь кряду.
– Датыр где? – спросил Сухром.
– На камбузе обед готовит, чтобы, значит, матросы тоже отдохнули. – Неожиданно шкипер воодушевился. – Ты вот что, сэр рыцарь, не мог бы его за это не укорять? Он будет готовить, тогда мы в общем-то справимся, пока не дойдем до приличного места, где команду можно пополнить, и все снова будет нормально.
– Из твоих матросов больше никто готовить не умеет?
– Умеют, конечно, матрос должен быть на все руки мастер, но… у твоего человека получается вкуснее. Даже из наших продуктов, которые не всегда свежими бывают.
Рыцарь задумал было поговорить о том, что это его удивляет. На настоящем корабле, когда все продукты приходится на долгие месяцы запасать, скудость корабельного рациона понятна и простительна, но ведь они почти всегда могли приспуститься и закупить продукты посвежее, а следовательно, у них не может кормежка быть такой уж сложной проблемой, но не успел… потому что глаза шкипера вдруг округлились, хотя и так были от недосыпания как плошки, и он прошептал что-то на своем языке, да так выразительно, что рыцарь обернулся.
Они шли над не очень понятной местностью. Это было горное плато, покрытое редким леском, прерываемым значительными песчано-каменистыми проплешинами. Почти строго под ними протекала речка, неглубокая, но чистая и прозрачная. Справа по курсу, правда, далеко, милях в тридцати, если не больше, выступали горы неровной линией, голубые и с белыми, сверкающими вершинами, размазанные кое-где пятнами облаков. Слева виднелся лес погуще, сырой и едва ли не сплошной, вида совсем незнакомого для рыцаря. Этот лес был другим, более высоким, плотным, диким, и широкие листья его деревьев глянцево поблескивали, отражая невысокое небо над ними. В общем, странноватая была местность, но ничего слишком подозрительного в ней Сухром не обнаруживал.
И тем не менее шкипер Луад отчего-то едва ли не шипел. У него даже губы побелели и руки вцепились в румпель летучего корабля так, словно он хотел этими вот пальцами переломить толстое и прочное дерево.
– Что такое? – мирно спросил рыцарь.
Шкипер будто бы очнулся и зашептал жарко:
– Рыцарь, скорее поднимай капитана, мы без него не справимся… И торкни комаду, прикажи – все руки наверх.
Дальше он заговорил по-своему, но Сухром и так уже сообразил, что дело серьезное, пусть он и не понимает пока, в чем опасность.
Капитан поднялся легко и, хотя заметно не выспался, все же вышел, завязывая поясок своего длиннополого халата на ходу. А вот команда заворчала, особенно заметно взрыкнули полутархи, но рыцарь привык к неповиновению подчиненных, а потому сволок одного из гамака на палубу, хотя ногой гребного матроса не пнул, пожалел, потому что это был тот самый парень, который упал во время ночного шторма без сил.
Зато когда все выбрались на палубу и капитан, разглядев горизонт, что-то сказал матросам, те забегали как угорелые. Они определенно к чему-то готовились.
Рыцарь с интересом отошел к носу их кораблика и принялся рассматривать, как команда носится, подтягивая какие-то стропы, что-то меняя в рулях и крыльях, которые до того бессильно висели по бортам «Раската», и даже… Рыцарь едва поверил своим глазам, потому что тархи вытащили откуда-то несколько арбалетов и мешок с тяжелыми, едва ли не на треть металлическими болтами для них.
Он так увлекся разглядыванием, что и не заметил, как к нему подошел Датыр, который облизывал ложку и непонимающе крутил головой.
– Господин мой, – он чуть поклонился, хотя это движение походило едва ли не на фамильярный кивок, – что-то происходит?
– Не знаю. Ты чего это задумал готовкой заниматься?
– Всегда любил это дело, – признался Датыр. – А тут такая ситуация, что у них некому поручить, да и не умеют они по-настоящему кухарить, вот и решил, господин… Ты же не против, делать все равно нечего, а путешествие наше, похоже, затягивается. Капитан сказал, буря нас в сторону отнесла… А что тут случилось?
– Не знаю, – признался рыцарь. – Но что-то явно происходит, не для баловства же они эти штуки вынесли. – Он кивнул на арбалеты.
А потом снова стал осматриваться. Ничего по-прежнему было непонятно, небо оставалось чистым, лес вдали, правда, выглядел слегка угрожающе, но он и раньше был таким, горы казались далекими… Нет, ничегошеньки особо опасного рыцарь не видел.
А вот капитан полагал иначе. Он сам встал к рулям, даже не спустился, чтобы переодеться, видимо, время было дорого. Луад принялся командовать, подготавливая команду к чему-то… Датыр постоял рядом да и пошел в каюту. А когда вышел, на нем был боевой нагрудник, а в руках он тащил три клинка – меч Сухрома, свой меч и укороченный леворучный меч, который в некоторых боях рыцарь применял вместо щита.
Капитан Виль увидел это и руками замахал.
– Нет, господа, если у вас имеются луки… – Дальше шло что-то непонятное. Потом он образумился и прокричал уже по-людски: – Лучше наши дротики из трюма принесите, если вы мастера их использовать.
– Ну от мечей-то под рукой вреда тоже не будет, – высказался Датыр.
Передал мечи рыцарю, который тут же перекинул перевязь через плечо, а с другой стороны приспособил к поясу и леворучник. Потом оруженосец и сам вооружился и лишь после этого спросил у шкипера, где он может найти дротики, о которых говорил капитан.
Дротики он и вправду скоро принес, было их штук двадцать, они были легковаты, по мнению Сухрома, изготовлены под другую руку, не под его, причем, как у старинного пилума, листовидное жало прикреплялось к древку длинным, чуть не в три ладони, металлическим стержнем. Вот только у пилума это было сделано, чтобы невозможно было отрубить наконечник, а на дротиках казалось излишеством. Зато от этого стержня дротик становился тяжелее и, возможно, имел неплохую пробивную способность. Хотя Дытыр, проверив острия, сокрушенно покачал головой:
– У нас бы за такую заточку иной сержант зубы кулаком пересчитал.
– Они не солдаты, Датыр, они… – Как назвать матросов воздушного корабля, Сухром и сам не знал. – Ты понимаешь, что происходит?
Но оруженосец тоже пока ничего не понимал. К тому же все как-то успокоилось, двоих матросов-тархов капитан вооружил арбалетами и отправил на верх баллона, двое загребных по его приказу спустились вниз, и крылья корабля заскрипели, заработали. А сам мастер Виль налег на рули, и корабль тяжеловато развернулся к горам. Шпипер тем временем что-то делал с гибкими шлангами, раздувающими баллон, рыцарь сообразил, что он пробует поднять «Раскат».
Впрочем, высоту он по-настоящему не сумел набрать, в этой местности и так дышалось нелегко, а когда корабль пошел вверх, это стало и вовсе трудно. Зато шкипер, выполнив свою часть работы, замер у левого борта, напряженно всматриваясь в лес.
Установилось относительное безделье, хотя спокойным его назвать было нельзя. Всем своим опытом бойца рыцарь понял: это не спокойствие, а, быть может, ожидание атаки. Он подошел к шкиперу:
– Кто на нас нападает?
– Тихо, сэр рыцарь, – прошептал шкипер Луад. – Они сейчас слушают нас, кажется, уже поняли, что мы где-то близко.
– Да кто они-то?
И вдруг Сухром сам увидел. Сначала это были какие-то тени, неясные, трудноуловимые на фоне глянцевых листьев тех джунглей, которые оказались теперь у корабля за кормой. Темные пятна, неопределенные и странные, но они действовали разумно, это было ясно сразу. Сначала пять или шесть этих теней выплыли из разрывов между деревьями, а может, и с опушки леса и покружили сообща на малой высоте, значительно ниже «Раската». Потом они стали подниматься кругами, к ним присоединились и другие такие же… Сухром во все глаза смотрел на первую стаю, взмывающую уверенно, сильно и быстро, куда быстрее, чем их летучий корабль.
– Все, – прошептал капитан Виль, и по его лицу, по поту, выступившему у него на лбу, рыцарь понял, что он боится куда больше, чем во время шторма. – Теперь не уйти… А знаешь, рыцарь, я не слышал, чтобы кому-то из наших удавалось с ними справиться.
– Откуда же ты тогда знаешь, что они тут обитают?
– Иногда удавалось убежать, уйти… Они далеко от своих гнездовищ не улетают, поэтому… – Капитан с затаенной надеждой посмотрел на пространство перед собой, в сторону гор. – Нет, не успеть, придется драться, сэр рыцарь.
Сухром задумался, ему казалось, что драться – это что-то привычное, хотя, оглядевшись вокруг, он понял, что драться придется так, как он еще никогда не сражался. Он даже не представлял себе, что тут можно сделать, какой тактики придерживаться.
И вдруг неизвестные существа сразу оказались довольно близко и стали видны в подробностях. Сначала рыцарь принял их за уродливых ящериц – зубастые, длинные, как у всех летающих тварей, клювы, маленькие головы с большими и совершенно невыразительными плоскими глазами, широкие кожистые крылья, забирающие под себя воздух куда уверенней и точнее, чем их корабль. Они были способны даже резко разворачиваться в полете, выставляя вперед ноги с кривыми, здоровенными когтями, каждый из которых был способен убивать и раздирать добычу, не говоря уж о том, что они легко могли пробить их надувной баллон из тонкой ткани… А если подъемная подушка над кораблем будет пробита, тогда и надеяться не на что – это было понятно сразу.
На земле, на открытой и ровной местности, они, эти летучие ящерицы – а может, и настоящие маленькие драконы, – сделают с ними, что захотят. От умелых атак с воздуха, атак голодных и злых хищников защищаться станет невозможно. Сухром почесал шею, потом вспомнил, что он без шлема, и покорябал затылок, но от этого легче не стало, положение становилось действительно сложным… Но рыцарь знал еще вот что – сдаваться нельзя, если враг как-либо внушил тебе, что положение безнадежно, тогда дело будет проиграно еще до того, как, собственно, и начнется.
Пытаясь оставаться спокойным, Сухром поднялся к капитану на возвышеньице, где он ворочал румпель, осведомился ровным тоном:
– Они нас видят? Или… как они ориентируются?
– Мне говорили, – капитан был едва ли не жалок в приступе ужаса, который его одолевал, – они летят на запах.
Рыцарь снова поразмыслил, ничего он не мог сейчас предвидеть, все их попытки сопротивления представлялись беспомощными, тогда он снова спросил:
– А может, мне подняться на баллон этот? Скорее всего, они попробуют туда ударить.
– Нет, сэр рыцарь, они баллон не чувствуют, их наш корабль приманивает… Да и послал я туда двоих матросов, у них крылья, если их даже и сбросят, они смогут попробовать долететь до корабля, догнать нас… А ты камнем вниз полетишь.
Тоже верно, решил Сухром, лететь вниз – этого бы, конечно, не хотелось. Но и в то, что кто-либо из маленьких, слабых тархов сумеет догнать «Раскат» по воздуху, он тоже не верил. Передние крылья корабля сейчас работали, как огромные весла, они придавали кораблю такой ход, такую скорость, какой рыцарь у него, кажется, еще не видел. И все равно тени, превратившиеся в жутких кожистых ящериц, легко летающих и на большей высоте, чем корабль сумел подняться, догоняли его так же верно, как если бы «Раскат» стоял на месте.
Вот только приближались хищники не по прямой, а кругами и словно бы на ощупь или действительно – по запаху. Они кружили, будто осенние листья в порывах ветра, только не падали, а поднимались. И в этом движении была какая-то жуткая животная точность, умелость, едва ли не методичность, нетрудно было догадаться, что они непременно обнаружат корабль, пусть не сразу, но отыщут его на этом воздушном просторе, а когда прольется кровь, решил рыцарь, тогда «Раскату» и наступит конец, окончательный и несомненный…
Потому что такие вот существа хорошо чувствуют кровь на расстоянии и способны отыскать ее куда вернее, чем тот запах, который остается от их «Раската». Все же, пробуя оставаться хладнокровным, он поинтересовался:
– А как вы, тархи, этих тварей называете?
– Птеросами мы их зовем, господин… Но ты все же потише говори.
Хорошо, решил Сухром, значит, птеросы. Он спустился с капитанского возвышения, подошел к Датыру. Зачем-то оповестил его:
– Они называются птеросами.
Датыр едва ли не лениво кивнул. Он осматривал маленький в его-то ручищах и кажущийся почти бесполезным арбалет птицоидов.
– Господин, чтобы мне в драке сподручнее было, дозволь сейчас разок выстрелить из этого… приспособления?
Рыцарь промолчал. Оруженосец зарядил арбалет, он оказался хоть и легкий, но с каким-то сложным рычагом, перезаряжался, взводился и выводил очередную стрелу на тетиву. Всего болтов в одной зарядке было пять, еще один, шестой, можно было приготовить заранее.
Датыр опробовал систему, легко и умело приложил приклад к плечу, прицелился. Птеросов вокруг них было уже четыре, еще три штуки кружили чуть дальше, наверное, им казалось, что с той стороны запах гуще и там они быстрее отыщут свою добычу… Один из ящеров пролетел совсем близко, саженях в пятидесяти, не дальше, Датыр проводил его взведенным арбалетом, но не выстрелил.
– Чего ждешь? – спросил Сухром.
И ведь зря спросил, оруженосец и сам знал, что следует делать, но после этого вопроса выстрелил, получилось, что раньше, чем следовало. Стрела прошла едва не в десятке саженей ниже той твари, в которую Датыр метился.
Он опустил арбалетик, вздохнул:
– Совсем слабая штуковина, даже не знаю, будет ли от нее прок.
– Других-то, потяжелее, все равно нет, – отозвался рыцарь и попробовал арбалетик у Датыра забрать, но тот не отдал.
– Тебе, господин мой, лучше будет все же дротиками их отгонять. А уж я арбалетиком. Больше не промахнусь, знаю, на что он способен и как целить.
Теперь все птеросы оказались в полусотне саженей за кормой, как раз для прицельного выстрела, хотя для броска дротиком – далековато, главным образом потому, что они летели все же повыше корабля, и бросать пришлось бы совсем не так, как рыцарь привык на земле, поэтому дротики казались тоже не самым надежным оружием.
И вот тут, как ни было занято внимание рыцаря Сухрома, он вдруг увидел такое, что застало его врасплох и заставило бы еще больше испугаться, если бы он с детства не умел контролировать страх, перебарывать его, не поддаваться ему ни при каких обстоятельствах. Из легкой, едва ли не прозрачной рощицы на земле, которая проплывала под ними, выступил… Да, вот это была уже не ящерица, это был – ящер. Огромный, даже с той высоты, на которой они летели, он выглядел чудовищным. Под шершавой, складчатой шкурой его гуляли такие глыбы мускулов, что и настоящим драконам, каких Сухром видел на шпалерах или о которых читал, с ним не удалось бы просто так справиться, и хвост у него заканчивался, как показалось рыцарю, чем-то блестящим, вроде жала. А на голове имелось три рога, а это значило… Внизу, оказывается, водились такие чудовища, от которых следовало держаться подальше, то есть, даже спустись корабль на землю, пробуя переждать птеросов, его экипаж попал бы под атаку других ящеров, и, возможно, еще более грозных и опасных.
От этого, конечно, становилось не легче, зато служило подтверждением необходимости сражаться изо всех сил и возможностей… Как будто до того, как Сухром увидел чудовище внизу, было иначе – от этой мысли он усмехнулся, не мог сдержаться. Датыр покосился на него.
– Ты чего, господин?
Рыцарь еще разок взвесил в руке легковатый дротик. И тогда решился:
– Датыр, ты не помнишь, нет у нас в трюмах чего-нибудь пахучего? – Оруженосец не понимал, пришлось пояснить: – Помнишь, на учениях, если уходишь от собак, то следует присыпать свои следы перцем? Вот я и вспомнил…
– Есть бренди, господин, может, вылить его?
– Нет, эта штука не поможет, скорее наоборот, лишь привлечет…
– А и впрямь! – вдруг отозвался близкий голос.
Это был шкипер Луад, он был бледнее перьев на своих крыльях, которые освободил, раздевшись до пояса, должно быть рассчитывая в случае чего искать спасения внизу, на земле. В руках он держал еще один арбалетик тархов, но в отличие от Датыра в слабых и маленьких его руках оружие казалось мощным, едва ли не грозным.
– О чем ты? – поинтересовался рыцарь.
– У нас есть мешков семь очень острого перца, мы его привезли с южных островов, он на севере дорого стоит, вот и решили, выполняя задания Госпожи, попутно немного заработать. – Шкипер опасливо поглядел на капитана. – Только мастер Виль не даст, очень уж он дорог, даже там, где произрастает, а тут, на востоке и вовсе целое состояние за эти-то мешки можно выручить.
– Тащи перец, шкипер, – решил Сухром, – попробуем. Может, подействует.
– Я должен сначала с мастером поговорить…
Огромная тень от пролетевшего уже совсем близко птероса на миг закрыла Луада от лучей солнца, уже склоняющегося к горизонту и потому высвечивающего каждую мелочь на корабле, во всем подробностях. Шкипер пискнул и бросился в трюм, смешно отставив в сторону взведенный арбалет со стрелой.
А спустя пару минут, показавшихся рыцарю и Датыру, да и всем остальным, наверное, очень долгими, с покряхтываниями выволок на палубу огромный мешок. Рыцарь отложил дротики, мешок оказался нетяжелым, его объем составляли лишь пустотелые стручки. Тем более что за время, пока «Раскат» летел с ними с южных островов, они еще и подсохли либо были высушены там же, где капитан Виль их покупал. Одним движением кинжала рыцарь вспорол веревку, затягивающую горловину, и высыпал несколько перцев на руку. Они были черно-красные, очень пахучие и чуть сморщенные. Рыцарь сжал их в кулаке, не очень толстая шкурка лопнула, и ему в руку просыпались какие-то жутко пахнущие семена, довольно мелкие, но острые, злые и покрытые к тому же каким-то маслицем. Они тут же прилипли к коже ладони, и уже через несколько мгновений рыцарь понял, что избавиться от жжения, возникшего между пальцами, будет непросто.
– Значит, так, – начал приказывать он, – потопчите мешок как следует и высыпайте все за борт, только попробуйте, чтобы эти вот… семена пошире рассыпались по ветру.
– Тогда лучше будет выбрасывать их перед лопастями, – подсказал Луад. – Тогда их еще и воздушные струи с крыльев пошире разбросают.
Топтать мешок было не так уж легко, потому что его дерюжка не позволяла стручкам ломаться и на твердой палубе. К тому же и Луад был легковат. Рыцарь подумал было помочь, но места для его ноги, а в большей степени для его плеч над мешком не нашлось, поэтому он еще разок осмотрел корабль и летучих тварей. Теперь они приближались с кормы, вынюхивая корабль по запаху, который был, конечно, крепче за кормой. Тогда Сухром пошел на рулевое возвышение к капитану.
Виль, конечно, видел все, что происходит, но впал в какой-то ступор, не мог даже повернуть голову к подошедшему рыцарю, лишь следил страшно налитыми кровью глазами за кружащими крылатыми ящерицами-птеросами.
– Наверное, потребуется весь перец, который ты, капитан, незаконно везешь на корабле Госпожи с южных островов.
Капитан дернулся, слегка покривился, перевел взгляд на шкипера, вытер пот страха со лба и вдруг – заупрямился!
– Осмелюсь спросить, сэр, кто возместит мне и моей команде убытки?
– Ты еще отказываешься? – удивился Сухром.
Снова, как и в разговоре со шкипером, огромная тень от крыльев летучей твари накрыла их на миг. Только теперь она пронеслась уже так близко, что было слышно, как скрипит ветер под кожистыми складками, как на взмахах этих крыльев что-то хлопает, несильно, будто бы плотный плащ на ветру у путника, но и этого оказалось недостаточно.
– Мы все вложили в этот перец деньги, собранные за многие годы, рыцарь, – пробурчал капитан Виль.
– Ты использовал «Раскат» в целях своего обогащения, капитан, не спрашивая разрешения у владелицы, нашей Госпожи. Если я доложу ей об этом, то одним увольнением со службы ты вряд ли отделаешься. А если корабль погибнет из-за твоей жадности, тогда… Вряд ли даже семья твоя уцелеет, а может, и весь твой род. Госпожа умеет мстить, ты это должен знать, не можешь не знать.
– Я предлагаю другое, сэр рыцарь, ведь Госпожа, да продлятся ее дни вечно, наверняка выдала тебе некоторую сумму для того, чтобы ты мог совершить свое путешествие, не так ли?.. Вот из этой суммы я прошу выделить мне ту часть, которая покроет убытки.
Сверху, с надувного баллона летучего корабля, вдруг сорвался один из матросов. Он падал недолго, а так как был обнажен по пояс, то раскрыл свои слабенькие, показавшиеся в низком солнце почти прозрачные крылышки и попытался остановить падение. Но он при этом кричал, а вот этого делать уже не следовало. Потому что одна из летучих тварей почти тут же изменила направление полета, рванулась вбок, и уже через пару махов, которые все же тарху удалось сделать, страшные длинные челюсти сомкнулись на бедном летучем птицоиде, и кровь, ошметки и перышки из его крыльев разлетелись в разные стороны. Два или три других птероса тут же напали на ту, что пожирала несчастного матроса в воздухе, они сцепились, но падали общим комком недолго, когда перед землей они распались, каждая держала в зубах что-то, на что даже закаленному рыцарю Бело-Черного Ордена не хотелось смотреть. Они разорвали свою жертву на части, в куски, и почти ничего не падало вниз, лишь какое-то мутное облачко образовалось в воздухе, бывшее еще недавно живым и чувствующим мир тархом.
Капитан и рыцарь досмотрели все же этот кровавый спектакль, и тогда капитан произнес задумчиво:
– Рыцарь, я согласен на ту сумму, которую заплатил за перец на островах. Больше мне не надо, но это – прошу вернуть, иначе мы окажемся совсем нищими.
– Я не говорю, что согласен, но… может быть, – быстро проговорил рыцарь и бросился назад, потому что больше ждать уже было невозможно. – Потом решим, капитан, после…
Он схватил истоптанный мешок с перцем и попытался выйти на самую носовую оконечность кораблика, потому что загребные, как им и положено, работали главным образом передними крыльями, а идея Луада использовать их для распыления семян показалась удачной. Он даже высунулся чуть не по пояс дальше носового украшения, которое у них на «Раскате», оказывается, имелось, и заставил Датыра держать себя за пояс и перевязь с мечом.
Он не очень-то и прицеливался, это было бесполезно, потому что птеросы кружили уже везде, были повсюду, куда ни посмотри. Он чуть потряс мешок… И легкие маслянистые семена южного растения разлетелись… почти в нос и в легкие самому рыцарю.
И Сухром, вдохнув это остро пахнущее облачко, согнулся в приступе неудержимого кашля – горло у него тут же загорелось, будто в него залили расплавленный свинец, нос потек, глаза перестали что-либо видеть… Более неудачной попытки распылить эту специю трудно было представить.
А потом ему стало так худо, что его начало трясти, будто бы он был укушен самой отвратительной, самой ядовитой змеей на свете. Кажется, Датыр все же отволок его с носа на палубу и тут же сам взялся за мешок. Это было правильно, это было необходимо, только теперь, после глупой попытки рассыпать перец с носа, они сделали все правильно и высыпали содержимое мешка с кормы, чуть потеснив капитана, который, конечно, с рулей уйти не мог. Вот только Сухром этого уже не видел, он не мог этого видеть, потому что впал в полубессознательное состояние.
В себя сколько-нибудь он пришел только ночью, когда в снастях, удерживающих баллон над кораблем, мирно сверкали звезды. Оказывается, его оставили лежать на палубе, потому что в каютах маленького кораблика было, конечно, гораздо меньше воздуха, пригодного для дыхания. Над ним сидел его оруженосец, он был молчалив и спокоен, он ждал, что его господину пошлет судьба.
Почему-то Сухром сразу же понял, что Датыр готов ко всему. Умрет он, рыцарь Ордена, следовательно, избежать этого было невозможно, останется в живых – еще лучше, можно будет продолжить путешествие и выполнить распоряжения Госпожи, которые, разумеется, следовало исполнять до конца, чего бы это ни стоило.
Сначала рыцарь попросил пить. Тут же у его губ появилась плошка с водой, он глотнул, но вкус во рту у него стоял такой, что он скорчился, будто бы ему предложили не чистую воду, а все тот же перечный отвар. Как ни трудно ему было глотать, он все же выпил почти половину плошки, прежде чем кивнул, чтобы оруженосец отставил ее.
– Как я понимаю… птеросы убрались? – спросил он, с трудом шевеля губами и языком.
И закашлялся, потому что говорить было трудно, он слишком много вдохнул этой перцовой гадости в легкие, они тоже горели ядовитым пламенем.
– Да, господин, они кружили вокруг нас, но подлетать опасались. Ты здорово придумал, чем их можно вот так отпугивать. Все говорят, что нам необыкновенно повезло.
– Повезло нам в том… что перец этот… оказался на корабле.
Датыр немного помолчал, согласно кивнул:
– Да, это большая удача. Капитан сказал, что нужно оповестить старейшин его народа, как следует спасаться от летающих ящеров, и теперь можно будет спрямить иные маршруты их летающих кораблей. Оказывается, у них давняя война идет… – Он снова умолк, всматриваясь в лицо рыцаря. – А я-то прежде думал, что такой летучий корабль один и только Госпоже принадлежит…
– Как ты считаешь, я довольно сильно… траванулся?
– Сильно. Мы даже думали, что ты не очнешься. Луад сказал, что один стручок этого перца может использовать вся семья чуть не в течение полугода, и совсем не от жадности, а потому что если его переложить, то любое кушанье станет несъедобным. А ты вдохнул столько, что… Но теперь это неважно, ты приходишь в себя, господин. И глаза у тебя уже не туманные, и говоришь ты разумно, а раньше-то все бредил.
Вот тут-то рыцарь и догадался. Он спросил:
– Датыр, а сколько я был… в отключке?
– Да почитай, неделю, мы уже давно и ту пустыню миновали, и горы прошли, и до новых долетели, господин.
– Неделю?
Ответить Датыр не успел, потому что к лежащему на кошме рыцарю подошел шкипер. Он улыбался, и не из одной вежливости, видно было, что он доволен, что рыцарь не умер. Это же заметил и оруженосец. Он посмотрел на шкипера, потом высказался – уж лучше бы промолчал:
– Они с капитаном опасались, господин, если ты умрешь, им за перец никто не заплатит, просто не с кого будет эти деньги стребовать.
Ага, решил Сухром, разумно. И вполне в духе этих вот… смертных.
– Ну не только… Еще я рад, что изобретатель такого отличного способа справляться с птеросами остался в живых, не погиб, – добавил шкипер Луад. – От имени моего народа, издавна страдающего от этих хищников, выражаю тебе свое восхищение, рыцарь.
– Да, разумеется, – согласился Сухром. И все же сумел спросить: – А куда же вы летели, пока меня?.. Пока я не мог?..
– Ты еще не очень-то крепок, рыцарь, но завтра сам все увидишь. Мы приближаемся наконец-то к тому месту, с которого нам следует спрашивать только тебя о направлении и подчиняться твоим приказаниям.
Сухром кивнул. Луад довольно неожиданно, но вполне торжественно поклонился и хотел было уйти, но рыцарь сумел хоть и негромко, слабо, но все же окликнуть его:
– Шкипер, значит, мы их победили?
Не то чтобы он не поверил Датыру. Просто ему еще раз хотелось услышать, что они победили. Вот только ответ шкипера вышел не совсем такой, какого рыцарь ожидал. Луад отозвался:
– Безмозглых и жадных птеросов мы отогнали, сэр рыцарь, так будет вернее сказать… Но мастер Виль заметил, что с демониками, например, которые тоже умеют летать и нападают, случается, на наши транспорты, так бы не получилось. – Он потоптался в темноте, разгоняемой лишь слабым светом звезд и огоньками на юте «Раската». – Не говоря уж о пегасах или мантикорах… – Но эти слова он произнес уже себе под нос так негромко, что его не расслышал даже Датыр.
4
Крепа по прозвищу Скала сидела на башенном наблюдательном пункте, как это называл полусотник Н’рх, карлик, командир их гарнизона, и посматривала вокруг, как и полагалось на этом посту. Смотреть было не на что, она изучила окрестности за три года, что провела в этом отдаленном, грубо построенном форте на краю земли, как свою ладонь. Форт, именуемый Трехгорным, потому что стоял между тремя горами, вообще-то считался даже крепостью и закрывал единственный на сотни верст перевал через хребет Малого Ледника. Да только тут никогда ничего не случалось, и зачем форт тут находился, кроме как для взимания какой-нибудь платы за переход в земли герцогства Шье, сказать было невозможно. Скорее всего, по картам всяких там офицеров и генералов получалось, что тут положено было иметь хоть какое-то укрепление, чтобы обезопаситься от орд кочующих горных нимов, почти таких же грязных карликов, как и Н’рх.
А этот самый Н’рх, как было каждому в форте известно, присвоил себе звание полусотника незаконно, потому что по чину был всего лишь фельдфебелем, а не корнетом, но лет ему было, пожалуй, под сто, для нормального корнета уже поздновато, любой сколько-то разумный служака давно бы вышел в подротмистры, а то и в ротмистры, то есть командовал бы ротой или большой ротой, имея в своих подчиненных целых три полусотника, и не корнетов каких-то задрипанных, а пожалуй что, и прапорщиков, одного фельдфебеля и кучу сержантов. Но Н’рх оказался слишком тупым, зло думала Крепа, вот и оставили его тут сторожить тень от трех горок с тремя десятками бездельников, которые и составляли этот забытый всеми богами гарнизон.
Сама-то она, если бы все сложилось как надо, давно бы уже вышла в капралы, а то и в сержанты, да не повезло ей… Не любила Крепа думать об этой истории, хотя, чего уж греха таить, на башне бывало настолько скучно, что воспоминания, а то и мечты свои глупые, почти такие же, какими баловалась в детстве, когда жизни и службы еще не знала, не нюхала, не понимала, – мечты эти сами забредали ей в голову, и в последнее время она не знала, что с ними делать.
Крепа Скала поднялась, прошла по прогибающимся под ее ступнями не очень прочным, а местами и гниловатым доскам настила. Над ней возвышался какой-никакой, хотя скорее именно что – никакой, навес, устроенный на четырех столбах, сложенных по углам башни, достаточно мощно увязанных двумя тяжеленными балками, уложенными крестом, и четырьмя здоровенными лесинами, образующими квадрат. Ввысь конструкция поднималась треугольными стропилами, на которые были почти аккуратно уложены черепицы из тонко и плоско расколотых местных светлых камней. Вся конструкция выдерживала не только собственный вес, но и вес снегов, которые наметали на крепость зимние метели и снегопады. А дуло тут гораздо сильнее, чем внизу, у земли, в квадрате фортовых стен, и потому те, кто тут слишком долго оставался на посту, неизменно простужались. Как и она сейчас простудилась, но никому до этого не было дела.
А все потому, что она этого вот Малтуска, тупого и мнящего о себе слишком много лестригона, на место поставила, когда он вдруг решил за ней приударить и пристать с нескромными предложениями… Нет, она не жалела, что тогда треснула его по плечу так, что сломала ключицу, как потом стало известно, так что этот грубиян и нахал с полмесяца ходил в тугой повязке, зло поглядывая на Крепу красноватыми глазками. Но Малтуск был любимчиком Н’рха, а это означало, что самозваный полусотник сослал ее на этот пост в почти бессменное дежурство. Лишь иногда, когда ей и вправду становилось невтерпеж, она обязана была кричать кому-нибудь, кто дежурил в тот момент на стенах, чтобы он смотрел вокруг внимательнее, и спускалась вниз, чтобы оправиться или поесть. Выходило, что ее наказали еще и этой унизительной для нее-то, для девушки, пусть и циклопы по роду и происхождению, обязанностью, когда все знали, куда и зачем она направляется.
Что же, тому, кто служил в армии достаточно долго, такие вот подлости мелких командирчиков хорошо известны, они для того и служили, и дышали, кажется, чтобы делать службу подчиненных как можно более унизительной и мерзкой. Она к этому привыкла, но решила когда-нибудь поквитаться с Н’рхом и с Малтуском, да так, чтобы им мало не показалось и чтоб они прокляли тот день, когда с ней, с Крепой, выпало им оказаться в одном гарнизоне.
Эх-хо-хо, жизнь солдатская… А ведь когда она решила убежать из дома и позже, когда пошла в армию, ни о чем подобном и не подозревала. Ну предположим, убежала она правильно, иначе бы выдали ее замуж за старого и грязного циклопа Воту, у которого и без того уже было три жены, вечно озирающиеся, неуверенные и какие-то больные от беспрерывных родов, которых Вота настолько забил-затюкал, что их имена-то даже соседи не знали, называли по возрасту – старшая, средняя и младшая… Кажется, младшей доставалось больше всех, ее шпыняли, иногда довольно жестоко, не только сам Вота, но и остальные жены, а когда отец Крепы согласился, чтобы этот старик женился и на ней тоже, когда она представила себе, что начнет вот так же, как и эти три несчастные, беспрерывно рожать нелюбимых детей, которых тоже будут дразнить и мучить дети от старших жен Воты, когда она это себе хорошенько уяснила… И куда ей после этого было деваться, если не бежать?
Кстати, род-то у них был хороший, и отец пользовался в общине уважением, и две его жены были достаточно милые женщины, было время, когда Крепа их обеих называла мамами, и детей у них в семье было не слишком много, как раз столько, чтобы всем хватало еды зимой, да вот Крепа-то оказалась младшей из пяти остальных своих братьев и сестер… А значит, когда Вота предложил взять ее в жены, отец даже пытался Крепе объяснить, что ей повезло, обычно-то младших девчонок не в жены брали, а в служанки, хотя и пользовались как женами вполне своеобычно, так что им и рожать приходилось, хотя дети их оказывались бастардами, которым в некоторых злых семьях и вовсе жизни не было.
А как было бы славно, порой думала Крепа, завести себе мужа, найти или выкопать уютную милую пещерку, чтобы огонь пылал в очаге все время, согревая воздух, и чтобы на нем бараньи тушки жарились, завести ребятишек, хотя она это весьма смутно себе представляла, не вполне понимала, что для этого нужно, но если есть мужчина, тогда, конечно, можно и детей получить как-либо… Они, то есть мужчины, знают, что для этого полагается делать.
Да, это было бы хорошо, и чтобы выход из пещерки был к югу, к морю, которое клубилось бы водой, туманами, блеском и свежестью, как у них на южном побережье бывает. И чтобы было у них сотен пять-шесть овец и барашков на мясо и шкуры, и можно было бы стричь шерсть, и чтобы сеть у мужа была надежной, из тех, что не рвутся, если крупная рыбина попадется, и кормиться можно было бы всласть, не опасаясь зимнего голода, и соседи попались бы добродушные, с которыми можно обсудить свадьбы детей, конечно, когда они в возраст войдут, и похороны стариков, а мужчины могли бы иногда, подвыпив, соревноваться в силе, а если понадобится, собраться в ватажку, чтобы отбить для себя, для общины еще кусочек берега у лестригонов, извечных и самых непримиримых врагов циклопов еще с тех пор, когда мир стал таким, каким стал…
Но вот оказалась она тут, в этой грязной крепости, под началом тупого и дурного фельдфебеля, который величает себя полусотником, то есть полуротмистром, если брать линейные войска, и просвета в ее жизни нет никакого. Ни малейшей надежды в этом ее положении. К тому же и Малтуск этот, скотина и настырный нахал… Ведь ниже ее на голову и кидать камни не умеет ни руками, ни пращой, и два глаза у него, а туда же – давай за ней волочиться! Еще неизвестно, какие дети у них от этого будут, а то вдруг получатся уроды с двумя глазами и без того главного чувства, которое суждено циклопам от древних богов… Чувства понимания всего вокруг происходящего, даже того, чего не увидишь глазами, не услышишь ушами и не поймешь на ощупь.
Это был дар их рода, их расы. Это было то самое, что, по рассказам стариков, позволило циклопам не просто выжить в трудной войне с остальными древними расами, но и победить, создать свой мир на южных берегах континента. Хотя некоторые говорили, что теперь-то слишком многое изменилось, и циклопы стали все реже встречаться в других землях, на других берегах, а континентальные, которые и моря-то никогда не видели, прежде довольно многочисленные, все куда-то ушли, или их согнали с обжитых мест всякие прочие, мелкие, которые своей многочисленностью были еще хуже, чем лестригоны. А возможно, настоящие циклопы все умерли с голоду или от холода, с которым плохо умели справляться без обильной и жирной еды.
Хотя бойцами циклопы всегда считались очень хорошими, надежными, верными. Среди тех, кто уходил служить в армию, рассказывали, что бывали времена, когда циклопы не боялись даже с боевыми слонами схватиться и летучих пегасов сбивали метко брошенным камнем, и даже мантикор с самых южных островов удавалось раздавить в рукопашной… Да, были циклопы в прежние времена, не то, что ныне, решила Крепа, и тут же ей подумалось, что вот за это ей и приходится страдать, мучиться в этой крепости, терпеть обиды и наказания… Измельчала как-то незаметно их порода, уменьшилась в росте, иссякла в подлинной силе, осталась только память, которая у них, у циклопов, всегда была на диво хороша – сама Крепа не считалась в их роду умной, но и то могла бы без запинки назвать всех предков своих за последние два десятка поколений, а это, что ни говори, четыре тысячи обычных лет. Для каких-нибудь короткоживущих, вроде людишек, поколений за сотню, не меньше… Впрочем, считать она тоже как следует не умела, а сколько жили люди – вообще оставалось для нее загадкой. На поле боя они, как правило, умирали быстро и бесполезно, кстати, она сама много раз была тому причиной…
Крепа попробовала присесть, чтобы ноги отдохнули, но потом все же прошлась по скрипучему настилу башни. Она могла без ошибок сказать, как скрипит каждая из досок, ведь у каждой был свой голос, своя слабина и треск под ногами… От безделья, от скуки можно было продлить внимание до семьи оленей, которые бродили на южном склоне северной горы, подсмотреть, как двое молодых оленят ощипывали кусты, все время удерживая в поле зрения хвост оленихи. Но этим Крепа тоже устала развлекаться. Можно было обратиться на северный склон дальней горки перевала, там обитала семья жуткого черного борова, иногда Н’рх отряжал команду, чтобы забить их всех на мясо, но старый и умный кабан уходил от охотников своих свиней с приплодом, оставляя преследователям только следы… Вот если бы она пошла на охоту, она бы непременно кабана обманула как-нибудь, а может, и не стала бы, пусть себе живет и плодит свое семейство. Зачем его забивать, ведь еду-то им привозят на подводах из долины, не всегда это была свежая и вкусная еда, но зато ее было много.
И вдруг что-то изменилось в мире вокруг, как Крепе на миг показалось, в самом воздухе. Она подошла к краю башни, даже вперед немного подалась, хотя обычное ограждение тут было едва ей по колени, и очень легко можно было слететь вниз, а это означало для нее конец, при ее-то массе она даже с такой в общем-то не очень значительной высоты разбилась бы… Но там, где-то очень далеко, возможно за сотни миль от их крепости, что-то сдвинулось – это было точно. Вернее, если бы Скале хватило слов на том языке, на каком разговаривали местные коротышки, с которыми приходилось служить, она бы попробовала им объяснить, что сдвинулась вся структура местности, что-то неизвестное прежде довольно сильно повредило состояние гор и лесов, вторглось в их жизнь. Она даже попробовала подумать, как это могло быть, что же такое случилось, чтобы настолько заметно все вокруг переродилось? Но ничего не придумала и все же обеспокоилась.
Да и было от чего беспокоиться, ведь странным, свойственным только циклопам чувством она твердо знала – это как-то касается их крепости и, может быть, даже затронет и ее, циклопу Крепу Скалу… Но этого быть не могло, потому что уж очень далеко это случилось. Эта мелкота, карлики или гноллы, не умеют ощущать что-либо на таком расстоянии, для этого нужно быть очень хорошим дальновидцем, даже не всякий циклоп ощутил бы это изменение, а лишь лучшие и самые опытные из них.
Вот-вот, решила она, эта-то дальновидность ее и подвела, когда она, убежав из дому, решила прибиться к армии герцога Шье, или как его там с соблюдением всех титулов на самом деле зовут? Кажется, герцог Лу-Кром дук Мас ле Шье, и еще как-то вдобавок… Это неважно, его все равно все называли старый Шье, и никак иначе.
Спору нет, герцог он был неплохой, заботился о том, чтобы всем своим соседям, а их было немало, не менее полудюжины, хотя бы раз в три-четыре года объявлять очередную междоусобную войну. И армию содержал неплохо, и поручики с капитанами у него оказались толковые, все драки почти выигрывали, с кем бы ни пришлось воевать… Но вот из-за того, что воевать приходилось часто, прибивался к нему порой разный сброд, какой в армии, часто теряющей бойцов, как-то сам собой незаметно накапливается.
А у герцога была одна странность: не любил он, когда его солдаты дерутся, вообще, полагал, что если он кому-то платит, значит служивый принадлежит ему со всеми потрохами, пусть он и самый отпетый бандит, а не служака, а все равно принадлежит, и якобы он, герцог Шье, найдет ему достойное применение для чего бы то ни было… Вот тогда-то и вступил в их отряд, собранный из самых крупных и сильных солдат, один лесной тролль, очень скверный был парень, задиристый, а хуже всего в нем было то, что он своих от чужих не отличал, да и не собирался отличать. Всех под одну меру мерил, если ты хоть чуть ниже его, значит, должен ему подчиняться и слушать. Для Крепы так и осталось загадкой, чего он на нее взъелся и стал к ней придираться.
Она терпела недолго, а потом как-то раз высказалась в том смысле, что всяким желторотикам, едва научившимся с боевой дубиной обращаться, как положено солдату, не следует чрезмерно-то заноситься… Ну и нашлись наушники, передали троллю этому ее слова, ее насмешку. Другой бы стерпел или вызвал на честный поединок, чтобы выяснить, кто чего может с дубиной в руках, может, и впрямь биться один на один с ней не у каждого получится. А этот решил ее опозорить! Подговорил дружков, чтобы они все вместе на нее навалились, и… Дальше Крепа Скала не очень понимала, что они с ней удумали сделать, да и не далась она им. Трех его каких-то не очень крепких гоблинов раскидала, как кегли, сказывают, у слабаков есть такая игра, по правилам и для удовольствия. Одному из орков, который в эту банду затесался, скулу своротила, да так, что он себе язык откусил, так и остался немым, как она позже узнала от кого-то.
И с самим этим лесным дикарем вышла у нее неурядица. Разозлилась она на него очень и вовремя не остановилась, схватила один из камней, что ей подвернулся в той свалке, и выбила из черепа тролля мозги. То есть потом-то у него череп как-то зарос, даже кое-где волосы снова стали пробиваться, но сделался он вовсе дураком, даже не понимал, что с ним и где он находится. Его потом за руку водить приходилось и даже кормить, сам он не мог уже похлебку из миски вылакать.
Герцог как узнал об этом, так и взбеленился. Хотели сначала Крепу сечь, но солдаты отговорили, у них же в войсках и другие женщины были, из троллей тех же, из орков немало девушек имелось, опять же одна полуразумная дракониха служила у них, и все они бы после этого непременно из герцогской армии стали утекать, это Крепе тоже сказали потом, после уже, когда она в герцогском замке на цепи сидела…
В общем, от явной смерти ее спасли, но отослали сюда, чтобы неповадно было здоровых солдат своего господина и командира портить и калечить. Так она оказалась в этой крепости, да еще с приказом – держать ее в строгости, потачки ни в чем не давать, а если провинится, то тут же по камандованию докладывать… Чем урод Н’рх и пользовался, иной раз и приписывал ей то, чего она не совершала. Как-то неизвестно кто съел только что присланную вяленую рыбу с воза в одном из обозов, которую полагалось только для сухого пайка держать, а может, интенданты украли да в бумагах написали, что выслали, мол, без обмана… Или сам же Н’рх эту рыбу украл, а деньги присвоил, а потом на нее все и свалил. В общем, рыбы не оказалось, все и решили, что это она, ведь известно, что циклопы без рыбы не обходятся, что рыба у них порой вместо хлеба идет. Тогда Крепу на половинный паек посадили и вечерней кружки пива лишили… А когда она ворота поломала, ее и вовсе бессменно на самый нудный и скучный пост отправили, на башню эту клятую.
С воротами ведь как вышло. Ворота давно в починке нуждались. Их решили все же отремонтировать, прислали даже артель каких-то плотников, они делали-делали новые створки, только их наладили, как стало ясно, что переборщили они с деревом, слишком взяли тугое и тяжелое. Навесить эти створки было не по силам никому из их гарнизона. Плотники-то решили, что следует эти вот створки поднять на каких-то блоках, подвести к месту, в петли поймать и опустить, чтобы они как надо повисли. Но Н’рх решил, что солдаты это и руками сумеют сделать. Объявили аврал, как это у моряков называется, всех собрали в кучу, одну створку подняли… И повесили, ну фельдфебель этот решил, что все в порядке, и даже дух перевести не позволил, приказал вторую также установить.
Они воротину эту поднять-то подняли, и вот тогда кто-то из них, опять же по злобе и нерассуждающей зависти к ней, к Крепе по прозвищу Скала, или по глупости, решил позабавиться. Почти все сделали вид, что створку держат, а на самом деле руками только касались, но не держали. И весь вес этой штуки на циклопу пришелся. Она бы, может, и удержала, но еще кто-то ее в этот момент локтем в живот ткнул, хотел куда понежнее попасть, но она как-то сумела развернуться, даже успела понять, что это – один из приспешников Малтуска, мелкий такой гнолл, Крепа и имени-то его не помнила… В общем, она тогда взяла и тоже створку эту отпустила, прямо на голову этого дурака.
Когда того вытащили, у него грудь оказалась раздавленной, а она разве виновата, что другие-то не держали, как оказалось, створку ворот этих? Нет же, Н’рх во всем ее обвинил и в том, что еще и солдата, считай, потеряли, потому что с проломанной-то грудиной он для службы уже не годился, конечно. Но самое интересное, что и ворота сбоку треснули, и ведь не очень-то сильно треснули, но все равно кому они были с трещиной нужны? Пришлось их по новой переделывать, а это – новые расходы, которые решили списать с нее, с Крепы, и выходило, что ей почти два года теперь придется служить без денежного довольствия, без этих обязательных мешочков с серебром, которые они получали четырежды в год, перед каждым новым сезоном… В общем, скотина он был, этот Н’рх, и Малтуск тоже – скотина, и вообще, служить с такими рядом не хотелось. Была бы какая-нибудь война или хотя бы простой поход, еще можно было бы вытерпеть, но вот так – без денег, без дела, без добычи и у злобных уродов двуглазых в подчинении – нет, она так не хотела. Хотя все ж приходилось еще пока…
От этих размышлений ее отвлек скрип ступеней на шаткой деревянной лестнице – кто-то к ней поднимался. Она прислушалась, это было необычно, но куда необычней было, что этот кто-то был легким, наверное, даже из мелкоты местной. Может, служанка какая, подумала Крепа, но особенно гадать не собиралась, и так все станет ясно через полминуты.
Крышка в полу откинулась, в люке показался сначала шишастый шлем, потом крепенькая короткопалая рука поставила на пол башни холстину, и, позвякивая едва не полным вооружением, к ней наконец поднялся сам самозваный полусотник, фельдфебель Н’рх, командир гарнизона Трехгорной крепостишки. Он был суров, деловит, и лишь в его маленьких, злых глазенках блестело затаенное удовлетворение своей ролью и властью. Таким он был всегда, хотя примешивалось что-то еще, Крепа не могла сразу распознать – что же именно его так радовало?.. Да и радовало ли?
Он отряхнулся, оправил ремень, на котором висел короткий, карличий меч, больше похожий на обычный плоский кинжал, каким, сказывают, в прежние-то времена фалангисты любили драться, чтобы строй фаланги не нарушать.
– Ты как тут, не соскучилась? – Он улыбнулся, лучше бы этого не делал, потому что зубы у него были плохими, стертыми, выдающими истинный возраст карлика. Поскольку Крепа молчала, он добавил, оглядываясь по сторонам: – А я вот решил самолично посты обойти.
Карлики обычно не выносят высоты, это было всем известно. И то, что Н’рх поднялся сюда, было необычно, поэтому Крепа и на это ничего не ответила. Самозваный полусотник пнул ногой мешок, который принес с собой:
– Тут тебе еда на три дня.
Он осторожно, будто по тонкому льду, подошел к краю башни, выглянул во двор их форта, тут же быстренько отступил в центр площадки, сделал вид, что изучает склоны всех трех гор, но особенно долго присматривался к дороге с перевала, той дороге, которую они, собственно, обязаны были охранять.
– А вода? – спросила Крепа.
Выговор у нее был не очень, она и сама знала про свой акцент, но все же разговаривать по-местному умела. Про других циклопов рассказывали байки, что они вовсе бессловесными остаются, лишь команды и научаются разбирать. Кажется, отсюда и пошла байка об их тупости, хотя очень-то глупых Крепа среди них не встречала, не были они тупыми, как тролли, например, и все тут.
– Воду я забыл, – с фальшивым сожалением признал карлик. И стал ждать, как она отреагирует на его очередной укус.
Крепа заглянула в люк, никого с Н’рхом не было, он действительно пришел один. Это было ей на руку.
– Опять негодничаешь, фельдфебель? – спросила она, пока еще мирным тоном.
– Ты как?.. Я тебе командир, какой бы чин ни носил, солдат. Ты не очень-то задирайся, а то я могу…
– Ничего ты не можешь, коротышка. Если бы мог, давно бы сделал… И ведь сделал же, во всем меня обвиняешь в докладах своих. Вот только хуже дыры, чем Трехгорная эта, куда бы меня отослать, даже офицерью в штабах придумать не получается.
Циклопа отошла в сторону, хотела по пути толкнуть Н’рха, чтобы он в угол площадки отлетел, но потом не стала – еще свалится с башни, вот тогда ее точно сечь бы решили.
– Крепа, ну отчего ты такая, а? – вдруг почти заныл карлик.
Он и сам заметил, что она его чуть не толкнула, поэтому отступил на пару шагов, если бы с ними был кто-нибудь еще, он бы на нее орать начал, обязательно начал, а вот один на один он решил крик не поднимать. А может, он меня попросту боится, вдруг подумала Крепа и от этой мысли, такой согревающей и простой, едва не рассмеялась.
– А кто мне кровь тут вознамерился портить придирками да жалобами по начальству? И еще спрашивает потом – отчего такая?.. – Она смотрела на него уже откровенно зло, приступ веселья прошел, будто его и вовсе не было.
– Вы, все ваше племя одноглазое – все вы злые и бесчувственные!
– Дурак ты, – почти рассудительно отозвалась она. – А хуже всего, что ты дурак и дела у тебя нет, чтобы об этом хоть изредка забывать. Вот и бесишься, вот и придумываешь, чем бы другим досадить. При нормальной-то службе таких, как ты, разок поколотят, если не подействует, еще поколотят, глядишь, они и становятся нормальными. А тут… – Она вдруг решилась задать ему вопрос, который давно ее дразнил. – Ты хоть однажды в настоящем-то бою бывал? Или иначе спрошу: ты в какой войне свой чин выслужил, карлик?
И оказалось, что это было его самое больное место. Наверное, потому, что нигде он особенно не прославился. Зато сама-то Крепа была, вернее, когда-то считалась ветераном. И кинжал у нее был именной, наградой от все того же герцога Шью за взятие Сурны, было там дело лет пять назад, она там в одиночку от целого копья кентавров отбивалась и, хотя получила три раны, все же позицию удержала. А еще у нее было два золотых медальончика, один за взятие какого-то огромного обоза, только давно уже, лет семь или больше тому назад, а второй за поимку какого-то очень важного для герцога офицера из армии барона Сумли, с тем тоже когда-то воевали, пока он не принес вассальную присягу герцогу, но она тогда еще совсем молодой была, даже гордилась этой наградой, хотя и пропила ее позже в одном из кабаков все той же Сурны, потому что потери там случились огромные, а она все же выжила.
– Да знаю я, что ты у нас – легенда среди прочих из твоего племени. Но мне-то что до того? – ответил Н’рх зло, но и нерешительно. – У меня своя служба, не тебе меня спрашивать. Есть другие, кому об том думать следует и кому мною командовать.
Тогда Крепа вдруг почувствовала, что голодна. Подошла к мешку, взвесила, опять на кухне половину пайки выделили, не все, что ей полагалось бы как нормальной циклопе. Раскрутила веревочку, которой была завязана горловина, заглянула внутрь. Хлеб был с червоточиной, и не хлеб уже, а так – сухарь величиной с буханку, рыба протухла, не очень большой кусок мяса был пережарен на огне, а ведь всем известно, что она любила, чтобы мясо еще чуть сочилось соком. Пара небольших луковиц оказалась тоже побита и начинала гнить.
– Мне на три дня три буханки хлеба положены, – буркнула она.
– Там внизу гречневые лепешки с салом, как повар сказал.
– Врет он все, твой повар. Хорошо если в прошлом году ту сковороду, на которой он лепешки пек, хотя бы разок смазали. Сказал тоже, с салом… – Подняла голову, посмотрела на Н’рха с прищуром. – Пива вечернего, как полагаю, я все еще лишена?
– А воду, – не отвечая на вопрос, отозвался карлик, – поднимешь сама. Кувшин на веревке спустишь, покричишь, и кто-нибудь наполнит из колодца.
И тогда она с удовольствием произнесла то, что давно думала и что давно хотела сказать:
– Гад ты все же, Н’рх, и жмот, каких мало, совсем, видать, заворовался. – Подождала, наслаждаясь эффектом, а карлик и в самом деле начал краснеть от злости, от обиды и от оскорбления, конечно. – Такой хавчик лишь для нормального солдата, и то – мало окажется. Легионеры, к слову сказать, в мирное время больше получают.
– А мы не легионеры, и ты – не легионер уже!.. – выкрикнул карлик и лишь тогда решил образумиться. Выпрямился, стал суше и тверже лицом, даже бороденку свою пригладил, чтобы начальственность в кулак собрать. – И у нас мир пока, как ты могла заметить.
– Мир?.. Ну-ну, – неопределенно промямлила Скрепа и решила про свои ощущения о том, что кто-то к ним направляется, командиру не говорить.
Как он с ней, так и она с ним, с ними всеми. Пусть потом сами крутятся, как хотят.
И уже снизу, опустившись на землю, Н’рх прокричал:
– Знаешь, Скала, я тебя тут, пожалуй, запру.
– Эгей, – тут же заорала она в ответ, – а как же мне по нужде?
– Тут внизу места тебе хватит, а потом как-нибудь вынесешь, чего нагадишь.
И он ее действительно запер, Крепа слышала, да небось еще навесил такой замок, что и ей, пожалуй, было его непросто вышибить. Впрочем, она рассчитывала, что до этого не дойдет. К тому же, кажется, только на это карлик и рассчитывал, чтобы отправить еще одно донесение о том, что она уже двери ломает и форт стала крушить-разламывать… Но вот с водой было худо. Крепа даже подумала, что какой-нибудь из этих гадов, тот же Малтуск например, если она к кому-то обратится за помощью, может кувшин ее и разбить, якобы ненароком. В общем, как ни удивительно, она приготовилась сидеть тут, словно бы в осаде, а что еще она могла? В таком вот положении оказалась и подозревала, что оно может сделаться еще хуже.
5
С водой вышло совсем плохо. Остолопы гарнизонные, зная, что их сварливый и не умеющий прощать командир не очень-то жалует Крепу, отнюдь не спешили ей на помощь. Один раз она почти отчаялась, выкрикивая, как какая-нибудь кукушка, со своей башни проходивших мимо солдат, которые – ведь видно было – попросту маялись от безделья, но на кувшин, который она спустила на веревке, внимания не обращали.
А пить все же хотелось, несмотря на холод, который из-за ветров, порой очень свежих, как и должно быть в горах, начинал донимать ее особенно под утро, когда воздух еще и влагой напитывался, то ли от росы, то ли спускался с ледников, которые венчали не такие уж далекие вершины западного хребта.
В общем, пришлось ей не раз и не два даже угрожать кому-то из самых молодых и потому послушных, чтобы они все же наполнили ей кувшинчик из колодца, объяснив, что не век же она будет тут сидеть, а вот когда спустится, тогда… Это подействовало раз, второй, а потом в дело вмешался Малтуск – отродье гнилой рыбы. Он как-то отодрал одного из самых забитых и потому трусоватых новобранцев за ухо, чтобы тот не лез, куда не просят. Такой уж он был, этот лестригон, всегда демонстрировал свою силу на самых слабых. Подонистый в общем-то трюк, но это, к сожалению, действовало.
И еда, которую Н’рх принес на три дня, закончилась уже к исходу дня второго, и весь третий день Крепа просидела голодной. При этом у нее еще и мысли появились о том, что ведь «забудет» ей новый паек этот грязный карлик принести, может и пару-тройку дней об этом не «вспоминать», а потом сделает удивленные глаза, разведет руками, мол, виноват, но это и не очень-то важно, у него ведь есть дела поважнее… Скотина он и сволочь, думала Скала, прикидывая, когда можно будет попробовать выломать дверь, чтобы совсем уж дурой не оказаться.
Вот в этих размышлениях и прошел третий день, и никто ей, конечно, новый мешок, хотя бы с теми сухими лепешками и парой луковиц для вкуса, не принес. А под вечер, когда она уже и сама заметила, что стала слабеть от голода, вдруг над горизонтом всплыло… ощущение направленности на них, исходящее от чего-то малопонятного, незнакомого, но от этого еще более сильного, как ей показалось.
Крепа стала следить за этим вторжением, даже попробовала подсмотреть за тем, что к ним приближалось, как когда-то в детстве умела сосредоточиться, как-то по-особенному задуматься, закрыть глаза, представить что-то знакомое, например родную пещеру, и тогда… Ей становилось видно, будто бы нарисовано, что делают те, кто в этом месте находится, во что они одеты, даже иногда удавалось подслушать, о чем они говорят.
Конечно, дело это было непростое, порой так ее изматывало, что она и сама не рада была, если слишком уж долго этим дальноглядством занималась, но сейчас-то делать ей было все равно нечего… К тому же это вполне могли оказаться какие-нибудь враги, вот Крепа и постаралась от души. Представила себе горы, через которые эта штука, похоже, переносилась прямо по воздуху, представила окрестные холмы с запада, лесистые и покатые, дорогу представила, которая с той точки, где этот непонятный объект сейчас находился, еще поднималась к перевалу, петляя сложными изгибами.
Их форта даже с высоты еще не видно, его закрывала самая высокая из трех горок, но его уже скоро можно было рассмотреть… как и этого летуна, который к ним приближался. Это было странно все же, что эта штука летела по воздуху, но Крепу еще больше озадачивало, что она летит к ним, а может быть, подумалось ей, как и в первый момент, когда она только заметила это изменение за много сотен верст от их Трехгорной крепостишки, летит именно к ней. И кому это понадобилось, кому она могла потребоваться до такой степени, что за ней, возможно, выслали специальную команду и такую вот совершенную и малоизвестную в этой части мира летучую сложную машину?
А когда солнце еще не зашло за западные горы, когда до темноты оставалось еще немало времени, пожалуй часа четыре, вдруг Крепа поняла, что они видят крепость. И совершенно тому не удивляются. Эти вот летатели прошли над перевалом, из-за высоты гор они сейчас оказались над землей всего-то в полусотне локтей, почти ползли на брюхе, при какой-нибудь неловкости вполне могли задеть и высокую сосну. Но во-первых, на перевале такие здоровые лесины давно вырубили, чтобы они не мешали проложить торный путь, а во-вторых, там здоровые сосны расти не могли, уж очень каменистой была эта земля, даже невысокий кустарник там едва удерживался корнями, это Крепа знала точно, не раз патрулировала, провожала караваны или даже на посту стояла, когда вокруг неспокойно бывало – всяких бродяг, желающих через перевал просочиться без положенной подати, всегда было достаточно.
Она стала возвращаться в свое тело, к своему зрению. Удалось ей это не сразу, бывало с ней такое, когда она очень уж слишком увлекалась дальновидением. Но все же вернулась, и как раз вовремя, чтобы рассмотреть… сначала точку на залитом солнцем небосклоне, потом уже какой-то предмет, пожалуй что и… Да, это несомненно был летучий корабль, поднимаемый над землей силой магии и инженерной хитростью, она про такие слышала, вот только они очень уж редкими были, видеть такую летающую лодку Крепе никогда прежде не доводилось. Зато сейчас довелось, но это ее не обрадовало.
Потому что она ей показалась угрожающей… хотя и хрупкой при том, даже удивительно, что есть какие-то существа, которые решаются на таких вот скорлупках в воздух подниматься и не боятся разбиться, сверзившись с высоты.
И все же, Крепа Скала должна была это признать, корабль – а это был именно корабль, а не лодка – оказался красивым, точно и как-то на удивление правильно сделанным, едва ли не одушевленным. Она даже на миг подумала, что было бы неплохо на нем прокатиться, но потом решила, что с ее весом это все же невозможно… В любом случае следовало от этой машины держаться подальше, не ровен час, еще развалится от какого-нибудь ее неловкого движения, или, того хуже, выпадет она из него, ведь было видно, что он рассчитан на коротышек, которые ей едва до пояса достают, она бы там себя почувствовала еще хуже, чем на этой башне.
Корабль плавно вышел в уходящий в нижние долины распадок между горами, потом замедлил свой ход, крылья, навешанные на него по бокам, и спереди, и сзади, стали выделывать какие-то непонятные движения, но уж Крепа-то знала, что так на море табанят веслами, когда хотят лодку, предположим, на одном месте развернуть… Вот и тут было что-то похожее. Странным образом это знакомое и угаданное движение, это действие успокоили ее, значит, решила она, это все же не враги, они оказались тут, потому что им что-то нужно… Если бы они хотели напасть на крепость, они бы не сбрасывали скорость, действовали бы сразу, пока внизу все были ошеломлены появлением неизвестной машины в воздухе.
Корабль замер над крепостью. Снизу, где собрался гарнизон, кто-то стал кричать, требуя кого-нибудь из прибывших летателей. Потом все же обычная солдатская выучка взяла верх, Н’рх стал орать, распоряжаться, разгонять солдат по постам, как будто на их Трехгорную нападали… Может, это было правильно. Солдаты все же разбежались, вооружились, застыли по своим расписанным местам, вот только головы, конечно, все же не опускали, смотрели на невиданное прежде чудо во все глаза.
А корабль как-то неловко, как показалось сначала, бочком вдруг продвинулся немного и… скрылся от Крепы за навесом, который прикрывал башню. То есть он завис прямехонько над ней, если бы кто-то плюнул из лодки, подвешенной под огромным сигарообразным и раздутым баллоном, удерживающим всю конструкцию в воздухе, то плевок, без сомнения, упал бы прямиком в ту точку, где сходились все четыре выложенные колотыми камнями плоскости воедино.
Корабль повис надолго, он не двигался ни вперед, ни вбок, крылья его лишь чуть шевелились, чтобы удерживать его на этом месте, не позволяя ветру сбивать его с этого положения. Вот тогда-то Н’рх и решил тоже покричать, вдруг кто-нибудь сверху отзовется:
– Эй, на корабле, или как ваша штука называется!.. Есть кто живой?
Понятно, почему он решил кричать – до летательного аппарата, прибывшего к ним в Трехгорную крепость, было едва ли с полсотни шагов, практически он оказался ближе, чем от главных ворот было до наблюдательной башни, в которой теперь безвылазно сидела Крепа.
Молчание длилось, как показалось всем в крепости, довольно долго. От любопытства Крепа, забыв о высоте, которую всегда недолюбливала, высунулась через ограждение башенки, удерживаясь рукой за один из самых крепких на вид столбов, чтобы все же иметь возможность увидеть своими глазами, что происходит и что будет происходить с летучей машиной.
Она рассмотрела сложный набор днища кораблика, потом попробовала разобрать, что же нарисовано на крыльях, но они находились под таким углом, что это ей не удалось. А потом вдруг с одного из бортов летательной лодочки высунулась голова… Это был какой-то из восточных орков, да к тому же помесь с гоблином, длинномордый, безбородый полугоблин, у которого клыки чуть поднимали верхнюю губу.
– Я рыцарь Бело-Черного Ордена, Сухром од-Фасх по прозвищу Переим, – высказался тот, кто находился на корабле. – Прошу разрешения спуститься в крепость, чтобы обсудить… кое-что, что касается одного из здешних вояк. Обещаю, что прибыли мы с миром.
Ха, усмехнулась про себя Крепа, потому что ощущение, что она ни в коем случае не окажется в стороне от всего происходящего, только крепло, наливалось уверенностью, становилось незыблемым, как и ее дар дальновидения.
– И сколько же вас спустится? – поинтересовался карлик-командир Н’рх. Умным его вопрос назвать было сложно, да он и сам это сообразил. – Хотя много-то вас там быть не может?
– Нас будет двое, – отозвался рыцарь Сухром. – Я и мой оруженосец.
– Я требую, чтобы вы спустились без оружия, – высказался вдруг Н’рх и снова, как и в предыдущей фразочке, оказался дурнем, потому что оружие тех, кто хотел спуститься, когда у них тут имелось такое подкрепление кораблем, способным сбрасывать, например, горящие бочки с маслом, не могло иметь никакого значения.
– Разоружаться ни я, ни мой оруженосец не будем, – твердо, даже как-то буднично и сварливо отозвался рыцарь. – Полагаю, моего слова в том, что мы прибыли с миром, достаточно. Если же нет… Давайте устроим встречу за пределами вашей… крепости.
На последних словах он так осмотрелся вокруг, так окинул Трехгорный форт взглядом, что становилось ясно: он попросту не понимает, как назвать эту груду домишек и относительно невысокие стены, срубленные из старых, уже гниловатых лесин. И лишь из нежелания заранее портить отношения решил назвать ее «крепостью».
Н’рх опустил голову, видимо, его короткая шея и привычный для его черепушки тяжелый шлем не позволяли ему смотреть слишком долго вверх над собой. Но рыцарь над ними ждал, и тогда горе-командиру все же удалось сообразить: если они будут встречаться на поляне перед фортом, именно он окажется в опасности, потому что гарнизон должен оставаться в крепости.
– Ладно, как вас там… Спускайтесь, но с одним оруженосцем, не больше, – проорал карлик. И тут же, повернувшись куда-то вбок, отыскав взглядом Малтуска, который тут же с готовностью подбежал к нему, проговорил потише: – Проводи-ка этих вот… в кордегардию, будем с ними там разговаривать. И прикажи принести какого-нибудь вина, угостить их придется, чтобы показаться вежливыми, ад их всех забери.
– Ключи, командир, нужны для этого, от твоей каморки…
– Нечего, пусть отведают той бурды, которую мы в большой бочке храним.
Большой называлась бочка, которая находилась в их пивном подвале и из которой полагалось наливать наградную чарку всем солдатам гарнизона, если они как-либо геройски проявят себя в предполагаемых боевых столкновениях либо по большим праздникам. Вино это было так себе, кислятина, без настоящего цвета, вкуса и запаха, иногда Н’рх, расщедрившись сверх меры, подносил его каким-либо купцам, которые платили за проезд через перевал. Но если купцы бывали по-настоящему богаты и мзда получалась значительной, он иногда приказывал принести и хорошего вина, которое хранил в своей каморке, не доверяя ключи от нее никому другому, даже Малтуску, который исполнял должность гарнизонного каптенармуса.
– Командир, это же настоящий рыцарь, не из бедных, раз путешествует на таком корабле… – начал было спорить лестригон, возвышаясь над Н’рхом как дерево над травой.
– Исполняй, – рявкнул Н’рх.
В самой деланой его свирепости была видна растерянность. Крепа даже ухмыльнулась, довольная его бестолковостью. Малтуск тут же убежал, на ходу сдергивая с пояса ключи на большом кованом кольце. Впрочем, лестригон скоро появился снова около командира, видимо, ключи передал кому-то еще из своих доверенных любимчиков.
С корабля тем временем сбросили веревочную лестницу, и по ней неуклюже стал спускаться сначала… Крепа и глазам своим не поверила, это был почти вовсе старый, битый жизнью и службой – это было видно по всем статьям – мужичок, с изрядной долей человеческой крови. Он даже за веревки между перекладинами хватался неуверенно, по-стариковски. Зато за ним стал спускаться уже настоящий вояка, грозный и умный, как решила Крепа. Под командованием такого служить было бы надежно.
Они спустились, стало видно, что старик припадает на обе ноги, зато рыцарь спрыгнул, подергал зачем-то лестницу, и она уползла наверх, кажется, они так договорились с командой летающей лодки, чтобы чего не вышло… Но оказалось, что летатели не опасались неожиданного штурма, просто лестнице свисать было опасно, корабль все же подрагивал от ветра, его сносило, и лестница могла за что-нибудь зацепиться.
Разглядывая, как корабль отошел сначала за квадрат стен форта, а потом и вовсе сдрейфовал куда-то в сторону самой малой из трех горок, Крепа заскучала. В форте такие дела происходят, а она – сиди тут сычихой на сосне… Впрочем, даже если бы она была внизу, ничего бы она не знала, ничего не понимала, как и остальные рядовые служаки. Но они непременно сошлись бы перекинуться парой слов, от этого стало бы легче и интересней. Все ж не каждый день в Трехгорную прилетают такие необычные путешественники.
А потом случилось вот что. Снизу загремел замок, запирающий башню. Крепа даже подняла люк, присмотрелась, действительно, в шестидесяти футах под ней дверь со скрипом раскрылась, и вошел Малтуск, задрал голову и заорал, будто бы она, Скала, находилась перед крепостью у опушки, например:
– Крепа, тебя в кордегардию командир требует. Спускайся.
– Зачем я ему? – поинтересовалась циклопа.
– Откуда я знаю?.. Кажись, эти вот, прибывшие, о тебе заговорили.
Ого, подумала Крепа, что-то готовится. И такова уж была ее природа, что сейчас, когда ее вызывали для раговора, она взяла и… засомневалась, почти оробела. Неловко ей стало от такой неожиданности и оттого, что придется отвечать на какие-то вопросы. Только что хотела знать побольше и еще смеялась над Н’рхом, а теперь – сама же дрогнула.
Но делать было нечего, какие бы у них с командиром-карликом ни сложились отношения, приказание следовало выполнять. Она стала спускаться, пробуя каждую ступень ногой, прежде чем на нее шагнуть. Малтуск тем временем мстительно проговорил:
– Ох и воняет же у тебя здесь.
– Посмотрела бы я, как от тебя завоняло, если бы тебя на недели запирали, – отозвалась она, с удовольствием ступив наконец на твердую землю. И почему-то тут же спросила: – А кто на башне будет, пока я?..
– Меня вместо тебя поставил командир, буду вместо тебя ворон пугать.
Этого она спустить лестригону не могла, отозвалась уже у двери:
– Ты там осторожнее, пол местами вот-вот обвалится. Я-то половые доски выучила, знаю, куда ступать не следует, а ты в этом простофиля… В общем, опасайся, парень, мы же с тобой почти одного веса.
Лестригон полез наверх, а Крепа с удовольствием подумала, что теперь-то он будет стоять как истукан, боясь шевельнуться. Если уж она, попривыкнув к высоте башни, и то иногда вздрагивала от прогибающегося настила, то ему-то будет вдвойне… напряженно. И уже совсем весело отправилась через двор в кордегардию, где принимал рыцаря их славный командир, век бы его не видеть.
6
В кордегардии было тихо, когда Крепа вошла, она ощутила эту тишину, как какую-то невыносимую тяжесть, да и было от чего – все сидели понурые. Крепа выпрямилась для порядка, строго посмотрела на Н’рха, каким бы гадом он ни был, но все же был командир, и ему при прочих следовало выказать должную степень подчинения.
Все же, как опытный солдат, краем глаза она посмотрела и на рыцаря, тот, единственный из всех, сидел на том табурете, грубо сколоченном из не очень старательно обструганных лесин, который выдерживал и ее, и Малтуска, не разваливался сразу же, стоило на нем лишь чуть поерзать.
Рыцарь был по виду спокоен, даже слишком спокоен, за этим угадывалось желание вообще не проявлять никаких эмоций, а главное – не демонстрировать раздражения или разочарования. Так же, краем глаза, Крепа покосилась и на оруженосца-старика. Тот, в отличие от своего господина, был чуток красен, и лоб у него почему-то был в испарине, но пахло от него не злостью, а какой-то задумчивостью, хотя и непонятно, о чем именно.
– Мы тут собрались, – хриплым, незнакомым голосом оповестил ее карлик, – чтобы обсудить одно дельце с тобой, солдат.
Крепа стала еще прямее, хотя потолки тут были невысокими, можно было и макушку ободрать, но все же между ее темечком и сводом оставалось место, чтобы пролезал кулак, – давно и многократно во время долгих дежурств проверено от скуки.
– Слушаю, командир, – рявкнула она по-уставному.
– Молодец, – ухмыльнулся слуга, по-прежнему о чем-то раздумывая, а может, просто приглядываясь к ней.
Хотя чем она могла его обрадовать, Крепа не догадывалась, может, он был один из тех, кто пристает ко всем женщинам подряд, особенно если они были крупнее его? Она слышала, что у людишек такое бывает сплошь и рядом, сладострастники они, хотя, по ее-то мнению, на них все же наговаривали, они ни в чем не могли быть молодцами, оставалось им только врать, какие они герои, а то с ними бы и вовсе не считались.
– Вот этот господин… прибывший к нам рыцарь хочет тебя чем-то проверить.
Крепа приподняла бровь, даже не подумала, что это может выглядеть как какое-нибудь кокетство. Вот этого у нее не было, так что… Хотя с незнакомыми, особенно с людишками, по-всякому могло выйти. Полуорк-полугоблин, то бишь сам рыцарь, оставался по-прежнему спокойным, циклопе показалось, он даже как-то внутренне был молчалив, это было в его пользу, значит, умел правильно медитировать, что для настоящего воина, разумеется, необходимо.
Хотя все на него в этот момент смотрели, рыцарь медленно достал из мешочка, который, оказывается, был туго и весьма сложным узлом привязан у него к поясу, еще три каких-то мешочка из замши. А Крепа тем временем обратила внимание, что под камзолом у него оказалась кольчужка, которая во время движений слабо позвякивала хорошо кованным металлом. Возможно, такая внешне не очень представительная защита могла стоить едва ли не больше, чем вся эта крепость, со всем гарнизоном. Может, даже Крепе не удалось бы ее пробить, предположим, кинжалом, с одного удара, хотя от боевой дубины, конечно, кольчужка бы рыцаря не спасла.
Тем временем он взвесил свои три мешочка и из одного уверенным движением достал странный медальон. Издалека он показался Крепе слишком простым для драгоценности какой-нибудь или для награды, кусочком металла, в который тем не менее довольно искусно был вправлен какой-то камешек… красный, сверкающий так, что от него, могло показаться, даже блики пошли по своду потолка кордегардии, циклопа никогда таких не видела, даже рубины, которые она, бывало, видела на парадном оружии герцога Шью, были темными, больше похожими на загустевшую кровь, а этот был веселым камнем, ярким, едва ли не оранжевым.
Рыцарь направил этот медальон на Крепу и удовлетворенно кивнул, повернулся почему-то к оруженосцу, который стоял за его плечом, и отозвался гулким, не привыкшим к шепоту голосом:
– Это она.
– И что из этого следует? – спросил Н’рх. – Что дальше?
– А дальше вот что. – Рыцарь даже приподнялся на ноги, но передумал, снова уселся, стал привязывать свой кошель с двумя другими замшевыми мешочками к поясу. – Я предлагаю тебе передать мне эту вот… Этого солдата под мое командование.
– С разрешения герцога, конечно? – спросил Н’рх.
Не составляло труда догадаться, что он спросил не без умысла. Если бы рыцарь ответил утвердительно, он бы потребовал какую-нибудь бумагу, письменное распоряжение или еще что-то в этом роде… Но рыцарь помотал головой:
– Нет, я предлагаю тебе сделать это… так сказать, частным порядком.
– Что значит – частным? – не понял Н’рх. – Я не могу торговать солдатами, будто скотом. Ты ошибаешься, если подумал, что наша крепость…
– Солдатами всегда и всюду торговали и торговать будут, хотя… – рыцарь чуть усмехнулся, – и в самом деле – не как скотом. – Он чуть наклонил голову к карлику. – Ведь бывает же у тебя какая-то убыль в подчиненных? От стычек с бандитами или иначе как-нибудь?
– У нас тут нет бандитов, по крайней мере поблизости. А что касается убыли – так на это приходится составлять донесение.
Вот тогда-то Крепа и решилась. Она произнесла своим низким, грудным и на редкость женственным голосом, хотя сама о том, насколько он может быть музыкальным для мужчин, конечно, даже не догадывалась:
– Знаем мы твои донесения. Лишь о сломанных дверях да утопленных в колодце ведрах и доносишь… Больше-то не о чем.
– Молчать! – рявкнул карлик.
Она сказала это лишь потому, что решила: этих ребят чураться не стоило, они прилетели, они и улетят. То есть, в некотором роде, можно было чувствовать себя так же, как она привыкла с Н’рхом говорить, когда они бывали наедине. Уж очень он ей не нравился, и сейчас – еще сильнее, чем обычно.
Рыцарь взял в руки простой оловянный стаканчик, в который, как оказалось, Н’рх из вежливости налил ему гарнизонного пойла. Повертел, поднял голову, посмотрел на Крепу отчего-то улыбающимися глазами:
– Значит, любишь, фельдфебель, донесения писать? А ты, солдат, не сдерживайся, говори, что думаешь.
– Тебе не по чину, рыцарь, так вести себя здесь… – начал было Н’рх сварливо, но договорить не сумел.
– Что-то ты не очень умытой выглядишь, милая, – сказанул вдруг человечек-оруженосец.
– Так не могу себе позволить, сэр, – отозвалась Крепа, тоже начиная непонятно отчего веселиться. И кивнула на карлика-командира: – Он меня на башне держит, почитай, уже не одну неделю, нижнюю дверь запирает, даже воду для питья в кувшине приходится как милостыню вымаливать у тех, кто по двору шляется. – Она помолчала. – И не все решаются на это.
Рыцарь кивнул и повернулся всем телом к карлику, который вдруг сделался еще меньше и начал переминаться с ноги на ногу. Взгляд же рыцаря стал вдруг давящим, сильным, глухим, как каменная стена, за ним ничего невозможно было прочитать.
– Значит, так, командир, я предлагаю тебе, скажем, двадцать золотых, и эта циклопа летит с нами. – Он повертел рассеянно медальон с красным камешком в ладони, будто бы взвешивал его. – Двадцать золотом – это немалые деньги, ты таких и за три года не получишь тут.
Карлик задумался, но сразу сдаваться не хотел, ох и любил он торговаться, причем всегда что-нибудь при этом выгадывал – таким он был в этом деле мастером. Обычно прямодушной и не склонной к спорам Крепе это казалось едва ли не чудом, а Н’рх представлялся одновременно и сволочью, и едва ли не волшебником.
– Такое не дозволяется, – буркнул Н’рх и опустил голову. Бросил себе под ноги: – Семьдесят, и пусть катится с вами ко всем чертям.
– Ого! – обрадовался оруженосец. – Дело-то можно сладить, кажется.
– Тридцать, – предложил рыцарь, – и деньги сейчас. – Он глянул в неширокое оконце, оно выходило на запад, из него виднелась часть двора и стена со стороны самой большой из трех горок. Солнышко только собиралось заходить, висело еще над дальним лесом, сбоку от перевала. – Мы еще сегодня улетим, тем более что вино у тебя – дрянь, должен заметить.
– Шестьдесят, господин, и чтобы о нашем договоре в штабе ни одна мышь не узнала, – высказался Н’рх. – А вино получше я сейчас пошлю кого-нибудь принести.
– Оно почти наверняка окажется таким же гадким, – ответил рыцарь, не отводя глаз от окошка и, как показалось Крепе, от нее. Молодец он был все же, умел смотреть в две стороны одновременно. – Сорок, и ни грошом больше, командир.
– Нет, так не пойдет, чтобы вы улетели от меня без доброй выпивки… Пятьдесят, и только для тебя, сэр рыцарь.
– Пятьдесят, так пусть и будет, – сказал рыцарь. И хотел было подняться, но вдруг Н’рх решил, что продешевил.
– И еще вот какое условие. Пусть кто-нибудь из моих людей с тобой сразится. Если победа будет за мной, придется тебе заплатить, но она… Крепа, все же останется, уж очень я переживаю, что мне придется об этом донесение по начальству подавать. Не получится, чтобы никто об этом ничего не прознал, а тогда мне, сам понимаешь, головы не сносить. Ушлют в какой-нибудь и вовсе медвежий угол и еще разжалуют.
– Да уж куда дальше-то тебя ссылать? – удивился оруженосец.
– Сразиться? – переспросил рыцарь. Хмыкнул, да так выразительно, что хитрый Н’рх сразу все понял. Не было у них такого рубаки, чтобы рыцаря в справедливом поединке одолеть.
– Я еще подумал, – брякнул карлик тут же, – что негоже тебе с моими дуреломами драться, не по чину им, да и тебе нечего честь свою в нашей пыли марать… Пусть вот хоть твой оруженосец с нашими посоревнуется.
А ведь он изначально к этому вел все дело, ахнула про себя Крепа. Вот ведь гад, не видать, кажется, ей новой службы и воли… Хотя если вспомнить, каким ненадежным выглядит этот летучий корабль, может, оно и к лучшему?
– М-да? – Рыцарь смотрел на карлика так, что становилось ясно: он подумывает, не проще ли ему прямо тут же врезать Н’рху, и, пока он будет в себя приходить, он с оруженосцем и Крепой попробует удрать.
Но ему не вполне ясна была позиция Крепы, пусть она жалуется, но вдруг не решится уходить из гарнизона, где ее все же кормят, неизвестно с кем… Да и не сумеют они без прямого указания Н’рха из крепости вырваться без боя, корабль-то в сторону отлетел, в общем, эту идею он отверг, Крепа это очень хорошо видела.
– А чтобы не было какого случайного смертоубийства, пусть они, – кажется, Н’рх уже обо всем подумал, – переталкивают друг дружку бревном. Есть у нас, сэр рыцарь, такая забава, мы ее у местных горцев подсмотрели, ну я и сам не прочь, чтобы мои-то орлы так себе силу подкачивали.
– И кого же ты выставишь против Датыра? – спросил рыцарь. И тем временем, осознав, что быстро дело устроить не удается, стал прятать медальон в положенный ему мешочек.
– Погоди-ка, господин, – снова вмешался седой оруженосец. Спросил у Крепы, будто командиров вовсе тут не было: – А ты что думаешь по поводу похода с нами?
– Похода… Зачем?
– Тебе потом объяснят, но дело стоящее, – туманно отозвался Датыр, как оруженосца, оказывается, звали. – И в общем, от тебя ничего очень сложного не потребуется.
– А сколько я за это получу? – спросила тогда Крепа.
– Это тоже пока не стоит… разглашать, – ухмыльнулся рыцарь, мельком поглядев на карлика.
– Я требую столько же, сколько и он. – Она кивнула на Н’рха.
Тот только крякнул, потому что, как он думал, одно дело – командир, начальство какое ни на есть. А другое – наемник, солдат, мясо для войны, и не больше. Получить такой же куш обычной циклопе было невозможно, даже если бы ей посчастливилось оказаться в рядах армии, захватившей богатый город, отданный на три дня для разграбления. Но в общем, она знала, что делает, торговаться не умела, так пусть эту работу за нее выполнил Н’рх.
– Еще пятьдесят? – для верности переспросил рыцарь. И вздохнул.
– И деньги вперед, – сказанул вдобавок карлик.
– Ты еще не выиграл, – отозвался оруженосец Датыр.
Н’рх согласно кивнул:
– Ладно. Ты, сэр рыцарь, спросил, кто будет от нас с твоим человеком биться, то есть толкаться. Так вот, я подумал, что с моей стороны не будет очень уж нечестно, если я выставлю… Есть у меня тут один лестригон. Ты его видел, он сейчас должен быть на башне.
Вот и все, решила Крепа Скала. Если бы выставили меня, я бы, конечно, даже этому старикашке сумела поддаться, но Н’рх был не дурак, все понимал.
– Видел я его, – снова отчего-то вздохнул рыцарь. – И ты предлагаешь его против Датыра?.. А если лестригон победит, тогда мы не получим Крепу?
Он уже знает, как меня зовут, с гордостью подумала циклопа. И тут же поняла, насколько это нелепо, потому что выиграть старому оруженосцу у Малтуска было невозможно. Она-то помнила это бревно, оно лежало у них перед конюшней, иногда они и в самом деле играли «в толчки», как это называлось на гарнизонном языке. Датыру и поднять-то свой конец бревна будет не по силам.
– Да, предлагаю. – Кажется, впервые карлик посмотрел на рыцаря в упор, словно бы на подчиненного. – И деньги вперед, как было сказано.
– Нет уж, если лестригон проиграет, она летит с нами, а ты ни грошика из этих денег не получаешь. По-моему, это справедливо.
Карлик сделал вид, что размышляет, но на самом-то деле все было понятно. Крепа даже расстроилась, почему-то ей вдруг захотелось, чтобы эти вот нездешние, веселые и неглупые люди не проиграли. Она была согласна с ними даже лететь неизвестно для чего, пусть только не проиграют… Уж очень ей тут обрыдло, и просвета впереди не было. Может, это их предложение и было просветом, но он закрылся, даже не разгоревшись как следует.
Дальше все пошло быстро и слаженно, как и положено в гарнизоне крепости. Солдаты уже каким-то образом обо всем прознали, даже стали собираться у конюшни, хотя к командиру и рыцарю с оруженосцем не приближались. Кто знает, как Н’рх на это посмотрит, все же они разошлись со стен, куда он их расставил, когда прилетел корабль. Но явного нападения не было, корабль оказался обычным мимопроходящим путником, – ну и что, что он летучий и не торговый, им-то какое дело? И наверное, командиру было чем другим интересным заняться, чем гонять служак без толку, особенно потому, что они это и сами знают…
В общем, Крепа оглянулась и увидела почти всех, даже тех, кого видеть не хотела. Малтуск, огромный, как ей почему-то сейчас казалось, очень мощный, ростом за десять футов, с мускулами, которые поигрывали под поросшей рыжим волосом красноватой кожей, наверное, такая кожа на юге приобретает ни с чем не сравнимый коричневый цвет, но здесь-то был, к сожалению не юг, решила она. Он разминался, делал наклоны, растягивал мускулы и связки, чтобы они не подвели, а впрочем, он был в себе и без того уверен, поглядывал на сухопарого старичка презрительно и что-то отвечал Н’рху, который ходил вокруг него на расстоянии шагов пяти – семи, чтобы получше видеть эту груду мяса, костей и врожденной, непреходящей злости на всех, кроме командиров, конечно, иначе бы его и в армии не потерпели.
А старичок-оруженосец тоже разделся по пояс, и тело у него оказалось… вполне ничего себе, видно стало, что когда-то он многое мог, пожалуй, побольше, чем обычно людишки могут, руки были крепкими, с хорошо выраженными бицепсами, плечи, казавшиеся в его храмовой хламиде не очень широкими, были развернутыми, грудь – крепкой и совсем не впалой, хранящей таинственность объема легких, живот был плоским, и почти каждый мускул на нем был виден, когда оруженосец решил энергично подышать. А самое удивительное было то, что он тоже вполне серьезно готовился к этой схватке.
Циклопа даже засмотрелась на него, почему-то он ей стал казаться едва ли не красивым, хотя прежде она себя в любовании мужской грацией не замечала и вообще к людям относилась настороженно, странными все же они были. Размявшись по всем правилам воинского искусства, старик собрал свои седые волосы в подобие конского хвоста, перевязав кожаной ленточкой, и вдруг… Крепа не поверила своим глазам, потому что оруженосец вдруг изменился. Он стал моложе, выразительнее, как боец в кругу для рукопашки, у него даже лицо просветлело, и очень хорошо стало видно, что он доволен, что так-то все получилось, он был готов наслаждаться поединком!
Крепа и сама была бы довольна зрелищем, если бы для нее от исхода этого спора так много не зависело. Она даже слегка присела, чтобы видеть все происходящее на том же уровне, на каком был и оруженосец, ее боец, как она сама решила.
Лестригон и непонятный старичок подошли к бревну. Н’рх стал кричать, приказал кому-то из новобранцев, которых тоже было вокруг полно, очертить круг сапогами в мягкой почве. Сразу трое из молодых стали вырисовывать этот круг, по мнению циклопы – слишком маленький. На что она продолжала надеяться, ей и самой было непонятно. Ведь лестригон такой огромный, а этот человек… О нем тут вообще и разговора быть не могло. А размеры круга были важны, если бы он оказался пошире, у старичка еще были бы какие-то шансы не сразу проиграть, а хоть немного посопротивляться, но так, как его обозначил проклятый карлик, – нет, никаких иллюзий даже на достойный проигрыш питать не стоило, это было изначально безнадежно. Или все же?..
Они сошлись. Лестригон ухмылялся такой противной рожей, что по ней хотелось стукнуть, человечек был вежлив и спокоен, почти равнодушен. Хотя в нем что-то изменилось, это Крепа видела очень хорошо. Малтуск ощерился, взрыкнул, да так, что со стен у ворот снялись лесные грачи. Человечек суховато, очень по-военному поклонился и… еще на одну дырочку поджал свой широкий пояс.
– Беритесь за бревнышко! – заорал Н’рх, который вздумал командовать поединком.
– Ишь, еще и издевается, – зашумели солдаты, но негромко, понимали, что слишком-то иноземцев поддерживать не следовало.
А потом, как Крепа заметила краем глаза, стали передавать мелкие монетки, затеяли ставки, а значит, и на человека кто-то понадеялся. Вот только кто держал банк, она не стала рассматривать, не до того ей было. Почему-то казалось, что сейчас решается ее судьба… Про себя она сказала так: Матушка Зжеть, защитница всех циклопов на этой земле, и отец Море! Если человек победит, что же, хоть и непонятно, что из этого выйдет, но я пойду с ними и буду почитать этого рыцаря как командира, а оруженосец его станет мне товарищем, только бы уйти отсюда, да побыстрее!..
Лестригон наклонился над бревном и поднял свой конец легко, развлекаясь. Человечек наклонился, стала видна его чистая спина, обхватил бревно, руки его напряглись, но разогнулся он не сразу. Со стороны солдат послышались смешки. А потом… Что-то мигом изменилось, даже тихо стало, как бывает исключительно тихо, когда очень много собравшихся воедино грубоватых и говорливых зрителей вдруг затаивают дыхание, в такие моменты даже собаки не решаются гавкать, даже гром в небе не прогрохочет, даже лес под ветром перестает шуметь…
На миг все же Крепе показалось, что Малтуск играючи поднимет это бревно повыше, оторвет человечка от земли, чтобы он вдобавок к поражению еще и унизительно махал бессильными ногами в воздухе, такое он перед циклопой как-то проделал с двуми новичками. Но человечек держался за свою часть бревна жестко, цепко, уверенно, и лестригону его попытка не удалась. Он лишь чуть изменил хват и попробовал еще раз, и тогда… Все кончилось.
Человек, растянувшись в одну на редкость крепкую и красивую… каплю мускулов и силы, почти горизонтально назад подал ноги, навалился и выбил лестригона из круга! Да так, что тот, почти не соображая, уже не столько толкал бревно, а удерживался за него, чтобы не опрокинуться на спину.
Оруженосец еще немного додавил противника, а когда тот отошел от круга шагов уже на пять, едва ли не равнодушно положил свой край толкательного бревна на землю, выпрямился и суховато, как и перед поединком, поклонился. Повернулся и пошел к своему господину, который тоже стоял с лицом спокойным, будто небо на рассвете, держал кафтан оруженосца. Только тогда Крепа поняла, что она все же отомстила Н’рху, она получит его деньги, а он останется без единой из тех золотых монет, которые уже полагал своими.
Правда, ей придется отправиться с этим полуорком и его человеком в путешествие, но теперь и это ее не страшило, с такими, как эти, стоило иметь дело. Они умеют постоять за себя и за тех, кто им служит. Они, вероятно, как это ни удивительно, даже и не думали о другом исходе спора, они были в себе уверены.
Оруженосец стал одеваться, приняв от своего рыцаря рубашку и спокойно заправляя ее в штаны, пока рыцарь держал его камзол. Кольчуги у оруженосца не было, лишь второй, верхний пояс с широким кинжалом, который надевается поверх прочих одежд, уже поблескивал у него в руках, замедляя его движения, мешая ему. А ведь правильно, решила Крепа, воин сначала возьмет в руки оружие, лишь после займется остальным, пусть это не так удобно, как если бы обе руки были свободны, но оружие никогда не мешает, чаще, наоборот, его не хватает, когда приходит в нем надобность… Она подошла к своим новым командирам с опаской.
– Здорово, – выдохнула она. – Ничего подобного прежде не видела.
Оруженосец вблизи вдруг стал уже не таким красивым и выразительным, как еще минуту назад, издалека, он стал обычным, хотя таким и не был, как теперь было всем ясно. Он застегнул свой камзол, подпоясался наружным ремнем и посмотрел на Крепу слегка раскосыми, восточными и улыбающимися глазами. Рыцарь тоже окинул ее взглядом, но уже внимательнее, чем в кордегардии.
– Как понимаю, ты согласна отправиться с нами? – спросил он.
– Я дала слово… – И она чуть сбивчиво, чуть неуверенно вначале, но потом все тверже объяснила, что почему-то решила дать обет своим небесным и земным покровителям, что выполнит все, от нее зависящее. – Если вы потом отпустите меня, – добавила она. И спохватилась: – И еще, конечно, заплатите те пятьдесят монет, на которых сошлись с… карликом.
Теперь-то Н’рх был ей никакой не командир, он был просто карликом, с которым ей довелось когда-то прежде служить. К несчастью, пришлось, но это окончилось, раз и навсегда, как можно было надеяться.
– Это хорошо, – рассудительно произнес рыцарь, поправил что-то в одежде Датыра, хлопнул его несильно, ободряюще по плечу. Запустил руку в свой нагрудный карман, а не в кошель на поясе, достал замшевый мешочек, взвесил на ладони.
Краем слуха Крепа слышала, как распекал Н’рх лестригона, который от разочарования так и не поднялся с земли, сидел в пыли и слушал, что о нем говорят. А ведь теперь он не сможет по-прежнему всеми помыкать, хмыкнула Крепа, теперь его мнение и ругань, прежде подкрепленные мнением о его непобедимости, всегда будут разбиваться о воспоминания о том, что здесь и сейчас произошло. Рыцарь достал медальон.
– Примерь-ка, – предложил он твердо.
– Тут нет цепочки, – ответила Крепа.
Взяла медальон, он был… едва ли не горячим, и еще он был почему-то ей знаком, словно бы она видела его во снах, вот только сейчас об этом вспомнила, но это все было ерундой, чепуховиной, не стоящей обсуждения. Она подержала его на ладони, он уже не казался ей маленьким или некрасивым. В нем было что-то большее, чем просто красота или искусность выделки. В нем была сила и еще… какая-то притягательность. Она чуть распахнула ворот и приложила его к коже, будто примеряла, будто бы он и без цепочки должен был что-то в ней самой приукрасить или выявить…
И произошла странная, даже пугающая немного штука – медальон вдруг стал исчезать, а потом и вовсе растаял под пальцами Крепы, утонул в ее коже, так тонет, допустим, намокшее дерево в не слишком соленой воде, как циклопа где-то слышала. Но чтобы такое происходило с металлами и красными камешками на живой циклопе – даже не догадывалась. Но это произошло, это было правдой, потому что случилось именно с ней.
Н’рх подбежал к ним, он решил каким-нибудь образом переиграть ситуацию, взять реванш если уж не в споре, то иначе.
– Рыцарь, – яростно полузашипел и полузавизжал он, как это было ни удивительно слышать одновременно, – я требую свои пятьдесят…
– Ты проиграл, – отозвался рыцарь. – А договор был…
– Плевать мне на договор! – взвизгнул карлик. – У нас не было свидетелей, кроме нас четырех, а вы улетаете…
– Не совсем так, – вдруг отозвался оруженосец. – Не знаю, как у тебя в крепости обстоит дело с наушничеством, но ведь они, – он мотнул головой в сторону солдат, – как-то о нашем договоре и споре узнали.
– Значит, – добавил рыцарь, – нас там было не четверо, а больше. И если ты сейчас попробуешь отдавать им приказы, чтобы не выпустить нас из этого… гм… сооружения крепостного типа, они тебя, мне сдается, не послушают. Потому что воевать за господина, который их содержит и которому присягали, они, может быть, и согласны. Но помогать тебе отдуваться за проигрыш… – Он покачал головой. – Дуралей ты, командир, вот что я могу тебе заметить.
– Нужно было деньги брать, – договорил их мнение и Датыр, – а не устраивать цирк, ведь клоуном-то ты оказался.
– Да я… Да вот сейчас…
– Молчать, – негромко, но очень резко и внушительно приказал рыцарь. – Стой смирно, когда с тобой рыцарь Ордена разговаривает. – Н’рх, даром что служака, почему-то выпрямился и спорить, кажется, больше не собирался. – Ты проиграл, карлик. И придется тебе условиям спора подчиниться. Хоть грызи теперь это бревно зубами, а денег не получишь. – Он оглянулся на Датыра, потом на Крепу. – Тебе долго собираться?
– Так, вещички в казарме захватить, а дубина всегда со мной. – Циклопа потрясла своей боевой дубинкой, отличной, кстати, окованной тремя металлическими полосами, чтобы ее невозможно было перерубить.
– Давай быстро, солдат, – тем же приказным тоном высказал циклопе рыцарь. – Мы поможем. А ты… – он повернулся к карлику Н’рху, – все же прикажи открыть ворота, чтобы мы дошли до нашего корабля. Сдается мне, что ты не захочешь, чтобы мы поднимались на борт нашего «Раската» из этого твоего… курятника. У тебя есть чем тут заняться, может, многие месяцы теперь будешь расхлебывать, что тут своим спором наделал.
– Я… – Самозваный полусотник-карлик вдруг опустил голову. И почти покорно произнес: – Слушаю, господин. Вот только, тогда уж… пусть начальство ничего об этом не узнает.
– От нас не узнают, я обещаю. – И рыцарь огляделся вокруг. – Но у тебя тут так немного друзей, что командиров все равно скоро поставят в известность, ведь не один ты тут писать умеешь. Так что, парень, я бы на твоем месте готовился к тому, что… скоро тебя переведут куда-нибудь. И как ты сам справедливо заметил, может быть, с понижением звания.
Вот тогда Крепа и отомстила Н’рху окончательно. Так, будто бы он был какой-нибудь собачонкой, она отодвинула его ногой, чтобы он не загораживал ей дорогу к солдатским казармам. Это у нее получилось просто, ведь он доходил ей всего лишь до бедра. А теперь-то, как стало казаться, стал и того ниже.
А может, медальон грел ей грудь, и даже глубже – согревал ей сердце. Хотя она это отлично понимала, теплоту эту, эту уверенность, которую он ей придавал, следовало еще заслужить. Но с этими воинами, которые прибыли в Трехгорную крепость за ней, по ее душу, это было ей вполне по силам. Она в этом почему-то мало сомневалась, а вернее, вовсе не сомневалась. Хотя это тоже следовало заслужить.


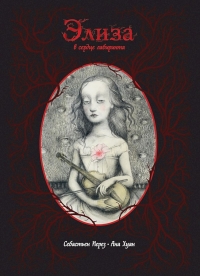

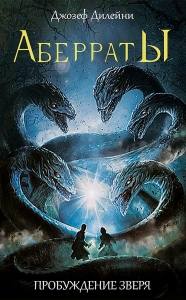

Комментарии к книге «Магия Неведомого», Николай Владленович Басов
Всего 0 комментариев