...Если сопутник мой он, из огня мы горящего оба
К вам возвратимся...
(Илиада. X, 246; Диомед об Одиссее).Когда я вернусь, я пойду в тог единственный дом...
А. ГаличНе сравнивайте былое с грядущим, вход с выходом, смертного с вечным и рождение с тризной — иначе быть вам тогда подобным Фемиде Неподкупной, дочери Урановой, что добровольно отказалась от зрения телесного, получив взамен беспристрастие судьбы, ибо суждено зрячим судьям ослепление красотой и уродством, мольбой и гневом, отвагой и трусостью; слепым же — никогда, и в том отличие судьи от судьбы.
Не сравнивайте былое с былым, вход со входом, смертного со смертным и рождение с рождением — иначе быть вам тогда подобным Линкею Афариду, герою-прозрителю, чей взор легко проникал сквозь землю и камень, дерево и кость, воду и металл; лишь собственная участь была тем-, на для остроглазого Линкея, как темен день завтрашний для дня нынешнего, и гибель усмехалась, стоя рядом.
Не сравнивайте былое со входом, смертного с тризной, грядущее с вечным и выход с рождением — иначе быть вам тогда подобным Аргусу Золотые Ресницы, звездному титану, чья неисчислимость взглядов находила рыбью чешуйку в водах Океана и пушинку в просторах эфира, но уже таится под фригийским колпачком серп из адаманта, вот-вот блеснет исподтишка: украшать отныне мириадам ваших глаз — суетную прелесть хвостов павлиньих.
Не сравнивайте былое с рождением, грядущее с тризной, не сравнивайте входы, открытые смертным, с выходами для вечных — иначе быть вам тогда подобным вещунье Кассандре, видевшей приближенье бед, слышавшей шелест их горестных крыльев; но слепцами становились люди рядом с Кассандрой, и тщетно было взывать к слепцам.
Не сравнивайте ничего с ничем — и быть вам тогда подобным самому себе, ибо вас тоже ни с чем не сравнят.
А иначе были вы — все равно что не были...
ИТАКА, Западный склон горы этос;
дворцовая терраса (Кифаредический ном[3])
Я войду в дома просторные,
Сердце встречами обрадую
И забуду годы черные,
Проведенные с Палладою.
И. Гумилев, «Возвращение Одиссея»Я вернусь. Слышите?..
Они смеются в ответ. Все. Деревья за перилами — каждым листом, каждой каплей ночной росы на этом листе. Птицы на ветвях — каждым озябшим перышком. Небо над птицами — наимельчайшей искоркой во тьме. Смеются. Небо, звезды, птицы, деревья. Море бьется о скалы — хохочет. Скалы безмолвно стынут над морем — ухмыляются. Я не осуждаю их. Есть ли у меня право на осуждение, если я и сам-то едва сдерживаю смех: страшный, холодный, как ползущая с алтаря змея?
Улыбка сушит губы.
Я вернусь.
Я, Одиссей, сын Лаэрта-Садовника и Антиклеи, лучшей из матерей. Одиссей, внук Автолика Гермесида, по сей день щедро осыпанного хвалой и хулой, — и Аркесия-островитянина, забытого едва ли не сразу после его смерти. Правнук молнии и кадуцея.[4] Сокрушитель крепкостенной Трои; убийца дерзких женихов. Муж, преисполненный козней различных и мудрых советов. Скиталец Одиссей. Герой Одиссей. Хитрец Одиссей. Я! Я...
Вон их сколько, этих "я". И все хотят вернуться. Возвратившись для других, ощутив под ногами каменистую твердь Итаки, теперь они хотят вернуться по-настоящему: для себя. Иначе возвращению суждено обернуться самой долгой и беспощадной из всех разлук. Небо! звезды! птицы и деревья... — смейтесь над нами! Глумитесь! Но ответьте: может ли случиться иначе?!
Нет.
Не может.
Над западными утесами болтается неприкаянная звезда. Все прочие звезды оставили ее, бросили на произвол судьбы во тьме полуночи, и зеленый глаз отчаянно подмигивает мне: эй! тля-однодневка! видишь ли?! Вижу. Подмигиваю в ответ. Ты постарела, звезда. Истрепалась. Бахрома лучей вытерлась, будто кисти ветхого пояса, обреченного истлевать в недрах сундука. Блеск потускнел. Эй, тля-однодневка! — Да-да, это я тебе, моя звезда... И нечего моргать. Ты же видишь: я молод! прекрасен! силен! Конечно, ты видишь. Просто не в силах понять: это сегодня превратилось во вчера, или просто тьма морочит твой колючий взгляд?
Не тьма. Я морочу. Я вернулся, звезда.
Я вернусь.
Так не бывает, моргаешь ты. Бывает. Если ты там, а я здесь — значит, бывает. Глупо расплескивать мрак удивлением. Еще глупее, чем висеть без смысла над утесами.
Со стороны моря — тишина. Лишь горестный вздох прибоя: шшшли-пришшшли... Спрашиваю: вышли? Вы-шшшли, раболепно соглашается прибой. Врет, ясное дело. Кличи смолкли, луженые глотки навеки онемели, хлебнув из Леты. Тысяча врагов убита давным-давно. Тысячи врагов; десятки тысяч. Может быть, даже сотни. Некому горланить: «Я! убью!..», ибо тысяча друзей убита тоже. Одинокий колос посреди сжатой нивы, я качаюсь у перил, опьяненный кислым хмелем возвращения.
Хочешь, я сорву тебя, звезда? Вот сейчас подымусь на небо, шлепая босыми пятками, и сорву? Тысячу звезд; десятки тысяч. Может быть, даже сотни. Боишься? Правильно делаешь.
Ладно, свети пока.
Мне двадцать с небольшим, и я скучный человек. Повторяю, как заклинание: я! скучный! человек!.. Слова теряют смысл, рассыпая его вдоль дороги хлебными крошками, и недоуменно переглядываются. Что значит "Я"?! Что значит «Скучный»?!
Что значит: «Человек»?!
— ...вы неправильно начинали. Дело не в силе. Дело не в мастерстве. Дело совсем в другом; в малом. Просто надо очень любить этот лук...
Роговой наконечник скользнул в ушко тетивы сам собой.
— ... очень любить эту стрелу... Тетива, скрипя, поползла назад, к плечу.
— ...надо очень любить свою родину, этот забытый богами остров на самой окраине...
Медное жало вопросительно уставилось на красавчика-Антиноя: ты понял? не понял? жаль...
— ...надо очень, очень любить свою жену... своего сына...
Мне понравилось убивать. К чему лгать самому себе? — Понравилось. Я плохо помню, как это происходило; вернее, я вовсе ничего не помню. Но главное осталось: удовольствие. На войне убивают иначе. По-человечески. В спину, исподтишка; как получится. А вчера я убивал, как бог. У себя дома. Смеясь. «Радуйся!» — приветствовали родные стены, мерцая копотью; «Радуйся!» — приветствовала чужая смерть. Я радовался. Дом и бойня слились воедино, перепутались, словно два локона на одной подушке: рыжий и... рыжий. Мой спутник! друг детства! мой буян Эврилох, мечтавший о заветной тысяче и пошедший на корм лупоглазым рыбам — ты бы оценил. Жаль, не дожил. И нечего пялиться из дальнего угла, обиженно дергая щекой.
Вокруг меня — царство мертвых. Я в Аиде.
Тени смутной толпой бродят по террасе. Ждут. Вон тщеславный забияка Агамемнон, надгробный памятник державе Пелопидов от эфиопов до гипербореев. Голый, только что из ванной; шея рассечена секирой до ключицы. Вон малыш Лигерон: пузырится черной, ядовитой кровью. Как и Парис-троянец: в смерти Не-Вскормленный-Грудыо и Петух Мужей сделались похожи больше, чем близнецы. Вон Аякс-Большой: меч смешно торчит из подмышки. Мама. Отвернись, мама! Пожалуйста... Ладно, я отвернусь вместо тебя. Измочаленный Паламед лежит грудой падали; чудом сохранилась кисть правой руки. Блеск перстней режет глаза. Рядом тихо плачет Эней Анхизид. Он всегда плачет: в бою, на пиру, при смерти. Сколько помню, всегда.
Мы звали его — Дакриостат.
Плакса.
Мне больно вспоминать. Их несуразно много вокруг — теней. Ждущих. Жаждущих. Грядущим аэдам, этим ангелам-пройдохам, придется тяжко: слушатели не запомнят даже половины имен. Слушатели будут браниться. Вместо ломтя свинины швырнут черствую корку. Запутаются в нити чужой жизни, в нитях, в клубке, в паутине, сетях, тенетах...
Меня это беспокоит?
Ни капельки.
Черная овца моей памяти блеет в испуге, предчувствуя ласку бронзы. Был корабль, стала — овца. Было море, острова, ветер и небо — теперь овца. Жертва. Скоро отворятся жилы, и воспоминания густой струей брызнут наружу. Жизнь за память. Я буду поить вас, друзья мои, враги мои, я буду гнать одних и привечать других, по своему выбору поднося чашу со странным, чудовищным, умопомрачительным напитком: кровью памяти Одиссея. Хитреца Одиссея. Героя Одиссея. Ах да, я уже говорил...
Чтобы вернуться, я должен был уйти.
Теперь, чтобы вернуться, мне надо вернуться.
— Боги, за что караете ?
Раньше так взывали чуть слышно, подразумевая меня. Скоро будут взывать громко, опять-таки подразумевая меня. Раньше — это значит давно, когда мир был большим, а я маленьким. Мир, собственно, и тогда был мал. Итака — вот и весь тебе мир, окруженный кипящим пределом моря. Но для рыжего сорванца ничего большего не представлялось. Скоро — это значит близко, на пороге, когда мир станет маленьким, а я большим.
Сейчас — это значит сейчас. Между «раньше» и «скоро».
Между движущимися скалами Симплегадами.
Вот-вот сомкнутся.
— Дядя Одиссей, мне надоело играть, — говорил малыш Лигерон, прежде чем отречься от гнева и надеть новый доспех. — Я устал, дядя Одиссей. Я боюсь, что выиграю.
— Не бойся, — отвечал я.
— Дядя Одиссей, мне надоело играть, — он повторяет это вновь и вновь, тенью отступая в седую мглу, едва я подымаю на него взгляд. — Здесь скучно. Это плохая игра. Можно, я поиграю во что-нибудь другое? Например, буду пахарем? Или рыбаком?
— Поиграй в царя мертвецов, — отвечаю я. Зная, что это жестоко, но не в силах поступить иначе.
— Ладно. Только недолго, хорошо?
— Хорошо.
Навсегда — это ведь недолго, правда?
Вчера они клялись, что воздвигнут храм Одиссея Возвращающегося. Я испугался. Я не знал, что делать. Я и сейчас не знаю.
Пока еще не знаю.
Я вижу его, этот храм. Пустынный, каменистый распадок, и среди щебня — алтарь, с которого ползут змеи. Одинокий алтарь; многие змеи. Свиваются в клубки, остро пахнущие мускусом, визгливо шипят, переплетают гибкие тела. Трепещут раздвоенными язычками. И после каждого моления змей становится больше. Хватит на сотни жезлов-кадуцеев. Какой бы храм ни воздвигли, на самом деле он будет таким. Папа, ты говорил, что гранатовую яблоньку из земель хабирру надо укреплять таинственным змием...
Не мной ли?
— У тебя хорошая жена, — ворчал носатый зазнайка Агамемнон, недовольный ласками очередной пленницы. — Моя стерва, дай ей волю... А у тебя — хорошая. Ты всегда умел устраиваться.
— Поэтому я здесь, — соглашался я. — Моя жена там, а я здесь. Устроился.
Агамемнон раздраженно глядел на меня, ища подвох. _ Тебя ждут. — Помню, голос его вдруг перестал быть брюзгливым. И лицо изменилось. Резче обозначились мешки под глазами, даже знаменитый нос перестал торчать стенобитный тараном. — Тебе есть, куда возвращаться. Хитрюга, ты и здесь устроился: тебя ждут. А я уже и не знаю, зачем пришел под Трою.
— За победой, — напоминал я.
— Победа... — Агамемнон повторил это слово, словно забыв, что оно означает. — Моя стерва... а у тебя — иначе.
Я до сих пор плохо понимаю, что он хотел сказать.
Иногда кажется: мы все погибли под Троей. Все. Победители, кто на обратном пути утонул близ Эвбеи, обманувшись Каферейскими лже-огнями, или пошел на дно под угрюмым Теносом. Братья по оружию, в запале позабывшие, что войне конец, — и павшие от братской руки. Смертные, неся смерть во все пределы, куда бы ни двинулись.
И Глубокоуважаемые, чья западня оказалась столь вместительна, что в ней хватило места и для добычи, и для ловца.
Год за годом осколки поколения обреченных бросаются к оракулам. С одним-единственным вопросом: где безопасно жить? Где поселиться, чтобы не испытывать вечного страха?! И оракулы честно отвечают: там, где падающее небо не причинит вам вреда. Многие понимают это буквально: берут семьи, имущество и переезжают, например, в Херсонес Карийский, окруженный горами со всех сторон. Мне смешно. Мне постоянно мерещится:
Олимпийская Дюжина вопрошает и получает ответ — живите там, где вам не повредит падающее небо! После чего Глубокоуважаемые с семьями и имуществом переезжают в Херсонес.
Когда земля грозит разверзнуться, она поглощает живущих на ней. Когда проваливается небо, синева топит в себе горстку небожителей. Когда-то, давным-давно, небо упало на землю, буйный Уран покрыл зрелую Гею — и родились первые дети. Где они сейчас? Кто умер в те дни, ложась перегноем под новые зерна? Оскопленное небо молчит, хмуря седые брови облаков, и молчит земля, баюкая во тьме усталую утробу.
Море пахнет гнилым обещанием покоя.
Мы погибли под Троей.
— ...вы неправильно начинали. Дело не в силе. Дело не в мастерстве. Дело совсем в другом: в малом. Просто надо очень любить этот лук...
Роговой наконечник скользнул в ушко тетивы сам собой.
— ...очень любить эту стрелу... Тетива, скрипя, поползла назад, к плечу.
Тела убитых уже убрали из мегарона. Часть для погребения вывезли рыдающие отцы, остальных я распорядился сжечь утром с подобающими почестями. Жаль, забыл уточнить — с какими именно. Могут неправильно понять. Из дюжины петель вынули дюжину рабынь, еще недавно через край полных кипящей жизни, а теперь годных лишь на корм воронам. Виновных в том, что любили заезжих женихов больше, чем следовало бы. Тринадцатая, самая дерзкая, оправдав свое имя — Черноцвет[5], — вчера родила сына. Надеюсь, крики совпали: первый детский и последний отцовский, когда стрела пронзила его грудь. Эвриклея велела закопать дитя вместе с матерью; я не стал возражать.
Падающее небо уже не причинит мне вреда. Во всяком случае, больше, чем причинило.
Я вернулся, но я еще вернусь.
Остров Заката Манит покоем, Ручьями плещет. Не пей, о странник, из тех ручьев. Покой опасен, Покой обманчив, Покой — покойным. Ты жив, мой странник, спеши уйти...Мне бы хотелось свести тени с тенями. Как сводят счеты. Убитых женихов — с погибшими в долине Скамандра. И пусть одни жалуются на неудачную смерть, а другие хвастаются удачной гибелью. Пусть меряются славой и бесславием. Наверное, я бы мог это сделать. Но знаю: пройдет миг, другой, и мне станет скучно. Лук и жизнь — одно; лук и смерть — одно.[6] Сын Гектора, сброшенный со Скейской башни, един с сыном рабыни, умерщвленным в день своего рождения. Дочери Приама, заколотые на могилах ахейцев, — и мои любвеобильные красотки, развешанные на столбах. Приам-троянец, кощунственно убитый у алтаря Зевса Оградного — женихи моей супруги тоже пытались прибегнуть к защите родового очага...
Озноб крадется вдоль хребта.
Если все повторить, я бы снова натянул лук. Лук Аполлона, с некоторых пор — лук Одиссея. Тайный голос убеждает меня в этом, и, разучившийся бояться, я боюсь, что он прав.
Остров Восхода Манит лавиной, Прельщает бурей. Беги, о странник, Не жди обвала. Жизнь человека посередине, На тонкой нити Между покоем И ураганом...В последнее время, когда я вслушиваюсь в детский плач у предела, мне часто приходят на ум удивительные песни. Приходят и исчезают, расплываются утренней дымкой. Я забываю их почти сразу. Что-то подсказывает изнутри: эти песни запретны. Надеюсь, рано или поздно они забудут дорожку к Одиссею, сыну Лаэрта.
Но не сейчас.
Сейчас — это значит сейчас. Между «раньше» и «скоро». Блей, овца моей памяти! Дрожи в ужасе! Литься крови — густой, черной! Пейте, тени... вспоминайте...
Я буду пить с вами, судорожно глотая память.
Я вернусь.
ПЕСНЬ ПЕРВАЯ ВРЕМЯ КУСАЕТ СВОЙ ХВОСТ
Не нам гадать о греческом Эребе,
Для женщин воск, что для мужчины медь.
Нам только в битвах выпадает жребий,
А им дано, гадая, умереть.
О. МандельштамСТРОФА-1 Шли-пришли-вышли...
Море обрушивалось на берег всей тяжестью, словно насильник-сатир — на застигнутую врасплох нимфу. Сгребало пригоршни грязного песка, вздымалось вверх, на дыбы, к бурлящей мути небес; злорадно медлило, прежде чем снова рухнуть на Авлиду, швырнув краденый песок в лицо Большой Земле. Тесно было морю в узости Эвбейского залива; хотелось простора. Обезумевшие чайки взахлеб орали над скалами, моля птичьих богов о милости; упрямые альбатросы молчали. От вони мокрых лент, намотанных на зубцы утесов, спирало дыхание. Случались бури посильнее, бывали куда более грозные штормы, но эта непогода, проигрывая в мощи, брала другим.
Грязь, дрянь, пакость.
— Корабль!. Смотрите, корабль!
— «Пенелопа»! Клянусь грудью. Амфитриты, «Пенелопа»!
— Радуйтесь!
Ветер на лету подхватил крики, рванул с треском. Понес клочья в ярящуюся даль. Туда, где кренились набок три мачты, заблаговременно лишенные парусов, где надрывались гребцы и гнулись тростинками весла; где рождался из бури смоленый корпус «Пенелопы». Вернулось на крыльях ветра, удивительно ясное:
Вздымает море Валы-громады, Любая — чудо, Любая-воин...
— Безумец! — в восторге захлебнулся кто-то. — Слава Многокорабельному!
...Лазурноруки, Пеннокудрявы, Драконьи шлемы, Тритоньи гребни...
Старый гимн кормчих вдохнул в толпу на берегу новые силы. Едва корабль достиг отмели, люди ринулись в воду. Сбитые с ног, вдосталь наглотавшись соленой воды, они цеплялись друг за друга, руки тянулись к крутым бортам, тащили судно вперед, на спасительную сушу — и волны стихали вокруг, изумленные порывом смертных.
Вскоре корабль был в безопасности.
И почти сразу, словно уставшее проказничать дитя, заснула буря, подложив под чумазую щеку кулачок Авлиды.
Сколько досягал взгляд, берег усеивали шатры. Дымились кострища, даруя тепло, готовя еду и высушивая мокрую насквозь одежду. Отдыхали измученные суда, прикорнув на ясеневых катках. Солнце, изредка являясь в прорехах облаков, дивилось: великая армада, недавно отправившаяся под Трою добывать величия и подвигов, сейчас смотрелась блудным сыном, сполна вкусившим побоев. Песен не пели; явись в лагерь бродяга-аэд, прибили бы со зла. Больше молчали, недружелюбно поглядывая на соседа. В бедах всегда славно кого-нибудь обвинить. Почему не его, соседа?
Одиссей сидел в сторонке, возле «Пенелопы».
Хотелось лечь и сдохнуть, но сдохнуть было нельзя. Хотелось встать и уйти куда глаза глядят, но вокруг... глаза б не глядели! Хотелось, чтоб ничего не хотелось, но тогда не стоило бы так упрямо вырываться из цепких объятий моря. На дне покой, на дне тишина. Игра слов горше морской воды: на дне не надо заботиться о дне грядущем.
Все тело ломило, старый гимн кормчих застрял в глотке войлочным кляпом. Наверное, так чувствуют себя победители.
— С возвращеньицем! — насмешливо поздравил его проходящий мимо воин, голый по пояс. Латный запон[7] блестел влажными бляхами, напоминая яблоко в росе. — Подобру ли, поздорову?!
Рыжий поднял голову.
Воина он не узнал. Зато узнал тень воина на песке. Не так много в Ахайе взрослых людей, за которыми волочится тень ребенка.
— Протесилай? Из Филаки?
— Смотри-ка, запомнил! А я уж думал: богатый буду... Он собрался было шлепать дальше, но обернулся напоследок:
— Ты чего на меня вылупился, рыжий? Не нравлюсь?!
— Нравишься... Ты мертвый, да?
Воин озадаченно почесал волосатую грудь. Ниже ключиц волосы начали седеть, битые инеем лет. Большинство в недоумении чешут затылок; Протесилай же обычно скреб грудь — давняя привычка. Впрочем, затылок у него мощный, бугристый, что твоя грудь. Вон, бросил чесаться.
Буркнул, раздражаясь:
— Чтоб тебя!.. Зацепил на свою голову!
— Нет, ты мертвый?
— Ну конечно, мертвый! Только с костра! Оглядись: сплошной Аид!
Одиссей не принял шутки. Сидел, горбил широченные плечи, отчего казался много ниже ростом, чем был на самом деле. Исподлобья разглядывал грузного фила-кийца — еще один памятник смертельной усталости. Вот он, пред тобой: Иолай-Копейщик, бывший возница Геракла. Почему же вместо вопросов, о каких мечталось, рождается хрипло:
— Тебя убили. Сам видел!
— Где?
— Под Троей! Или не под Троей, кто тут разберет... Протесилай помрачнел. Хотя казалось: больше некуда. Плюхнулся рядом на песок — Одиссей даже не успел растянуть на двоих край подстилки. На щеке филакийца красовался свежий кровоподтек; нижняя губа была прокушена.
— Ты сколько дней сюда плыл? — вместо брани спросил он еле слышно.
Теперь настал черед мрачнеть рыжему.
— День. Один день.
— Или больше?
— Или меньше.
— Бред какой-то... — выдохнул Протесилай, куснув раненую губу и зашипев от боли. — Бред, чушь!..
— Бред, — вяло согласился Одиссей.
— Нет, ты не понимаешь! — Филакиец сорвался на крик, поперхнулся: вроде бы хотел добавить свое обычное «мальчик», но раздумал. — Гидра тебя заешь, ты ничего не понимаешь! День он плыл... А я — неделю. Треть кораблей растерял; гребцы ладони до кости стерли! И вот на тебе: я сегодня вернулся, на рассвете, а ты — тоже сегодня, только под вечер! Теперь понимаешь?!
— А ты? — в свою очередь поинтересовался рыжий, тщательно просеивая мокрый песок сквозь пальцы. Можно было подумать, от этого зависел грядущий военный успех. Тучи издевательски клубились над головой, вертя из себя кукиши. Песок слипался в комки, отказываясь сеяться. Словно само Время, влажное от пота и крови, упрямо застревало в песочных часах.
— И я, — был странный ответ. — Может, навоевались, а? Может, все?! Сплавали разок, и хватит?
... Тень ребенка корчилась на песке, что-то доказывая моему Старику. Дергала плечами, мотала головой. Никакого уважения к неподвижному хозяину. Старик молчал, зябко горбясь. Щупал ладонью потную лысину, хмурился. Наверное, ему тоже хотелось сдохнуть.
Безнадежно.
— А тебе вообще разговаривать не положено. — Одиссей с трудом оторвал взгляд от беззвучного разговора теней. — И кричать на меня не положено. Убили тебя, значит, убили. Молчи теперь.
Протесилай скривился: будто поджившую рану зацепил, содрал корочку.
— Молчу теперь, — согласился он.
— Клялся ведь? В Спарте?
— Ну, клялся. Успел, на свою беду. А что? Все клялись, и я тоже...
— Вот и воюй, как все.
— По-человечески?
Обеими руками Одиссей взлохматил мокрый пожар шевелюры. Добавил тихо, с нажимом:
— По-человечески. Слушай, у тебя выпить не найдется?
— Крепкого?
— Ага.
%%%
Если верить моим собственным ощущениям, первый раз мы отплыли из Авлиды под Трою дней пять тому назад. Это если верить. Когда все взывает: не верь! Погода и тогда была гнусней гнусного: «мряка», как шутили острые на язык феспроты. Ох, и словечко... ох, и погода!
Уж лучше шторм.
Калхант-прорицатель плыл со мной на «Пенелопе». Моргал совиными глазами, утробно икал. Злился. На его месте я бы тоже злился: знамения хором обещали ветер в спину и солнышко в небе. О чем Калхант, руководя общевойсковым жертвоприношением, имел неосторожность возвестить. Небось сейчас народ честит пророка на чем свет стоит — в Бездну Вихрей, в Тартар, в Эреба корни!..
Вот и икается.
Набухшая простыня болталась над головой. На ней спал капризный, страдающий недержанием ребенок: желто-серая гадость струилась по лицу, вызывая приступы тошноты. Ни день, ни ночь: ублюдок без названия. Лиловое море пенилось под эскадрами, но видимость была никудышная. Казалось, «Пенелопа» идет в гордом одиночестве. А плеск, отдаленные выкрики и хлопанье парусов — морок. Гребцы пробовали петь: впустую. Любой гимн глох на середине.
— Удружили... — брюзгливо каркнул Калхант.
— Кому?
Я действительно не понял, о ком говорит прорицатель.
— Аэдам. Нас воспеть — язык сотрется. Пока каждого восхвалишь, да список кораблей, да кто откуда... Слушатели черствыми корками забросают.
Задрав голову к небу, я задумался: с чего бы Калханту беспокоиться судьбами грядущих певцов? Блик солнца, медовой каплей сверкнув на излете, походил на осеннюю луну: пористый, щербатый. Вечерний. По левую руку тучи лопнули, разошлись, и в прореху высунулись утесы, увенчанные дворцом.
Знакомый силуэт.
— Скирос?!
Калхант встал, обогнул судовой алтарь. Подошел ближе к борту:
— Похоже...
Уж кому, как не мне, было знать: до Скироса еще по меньшей мере два дня пути. И все-таки — Скирос. Ну, не сошел же я с ума!.. То есть, сошел, конечно, но не до такой же степени! Вон там, на пляже, мы приманивали женщин безделушками, вон лестница, по которой гремел вниз голый Патрокл... Я даже не успел удивиться другому: почему мы так близко к острову, когда намечалось идти северней, мимо лемносских берегов, — и почему мерзкая погода позволяет видеть дворец с предельной отчетливостью? Как на ладони: верхняя терраса, у перил замер муравей, блестя спинкой, алой с чернью. Плащ, наверное. Кто-то из басилейского семейства.
Или гость?
Второй муравей тайком выполз из дверного проема. Приблизился к первому, хищно дернул усиками.
— А-а-ах!
Клянусь, это не я. Это Калхант. А я вообще ни словечка! Ни звука! Только смотрел, как первый муравей — ало-черный зигзаг! — летит с террасы на клыки рифов, чтобы сразу скрыться под водой.
Минуту спустя весь остров исчез в густом киселе тумана.
— Цвета Афин, — бросил внезапно осипший Калхант.
— Что?
— Алый с черным. Афинские, говорю, цвета. Такой плащ был у Тезея, когда его изгнали. Последняя память.
Я слышал историю о предательском убийстве Тезея-Афинянина. Сброшенного с дворцовой террасы здесь, на Скиросе, ныне царствующим басилеем. Все знали, все слышали, но доказательств не было. Да никто особо и не рвался доказывать (а значит, вступаться!) за мятежного героя, выпущенного из преисподней могучим Гераклом вопреки воле темных владык. Изгнанник, руки по локоть в крови... святотатец!..
— Я тогда еще в саду игрался, — говорить было трудно: саднило горло. Будто соленой воды наглотался. — За ограду только с няней... А ты?
— Я уже за ограду, — непонятно ответил прорицатель. — Мама рассказывала: кричал ночами. Меня как раз накрыло... Видел, но не понимал: что?!
Он осекся. Чудно сверкнул глазами: брызнули желтые искры на сером. Уставился поверх моего плеча.
Добавил чуть погодя:
— Вот как сейчас: не понимаю... Просто боюсь. Я обернулся. Там, где еще минуту назад торчали скалы Скироса — выше, между липкими медузами туч, — скользили пять птиц. Крупных. Три торопились, две догоняли. На замызганном фоне плохо получалось что-нибудь разобрать, но преследователи больше походили на крылатых людей, чем на обычных альбатросов или орланов. Да и преследуемая троица... Не бывает у чаек женских голов.
— Гарпии меня раздери!
— Вот-вот, — согласился Калхант и замолчал надолго. Наверное, пытался по полету гарпий, или кто там летал, предсказать будущее. Судя по выражению его лица, меня такое будущее не устраивало.
Ни капельки.
Рыжий, рыжий, конопатый, На плече несет лопату! Не лопату, а весло — Чтобы мимо пронесло!
Глупая дразнилка прицепилась хуже репья. Мы шли Лиловым морем на Трою, а я отчетливо слышал: дразнятся. Не поймешь, кто, но сволочь. Поймаю — удавлю. Гребцы стали оглядываться на меня: тоже небось услыхали. А я-то надеялся: видение... в смысле, обман слуха. Фигушки, как любил говаривать друг-Ментор. Мы шли Лиловым морем на Трою. Сперва раздались вопли испуга с других кораблей. Потом я заорал сам. Заорешь тут — когда он шел Лиловым морем из-под Трои. На запад. Или куда там он шел: огромный, больше горы, с выжженными глазами. По пояс в волнах; темечком под облака.
Рядом с мосластым ухом болталась звезда: верный пес гиганта.
Волна толкнула нас в бок, а когда гребцы выровняли судно, он скрылся из виду.
%%%
...Протесилай кивнул. Опустевший на две трети бурдюк валялся рядом, неприятно напоминая дохлую, распухшую по жаре козу. Захватить чаши филакиец не сподобился; глотали крепкое вино по очереди, прямо из мохнатого горлышка.
Забрызгались по уши; измазались в песке.
— Я его видел, — сказал филакиец. — Здоровенный такой. Слепой. Знаешь, когда я с мальчиками... с Гераклом... Антей-ливиец тоже был сыном Посейдона. И тоже — большой.
— Ты хотел бы вернуть те времена? — вдруг спросил Одиссей.
Наверное, вино ударило в голову. Иначе откуда бы такой вопрос?
— Нет, — ни минуты не колеблясь, ответил Протесилай. — Вернуть времена? Нет.
Он встал. В ту же минуту встал Старик. Шагнув раз, другой, стараясь не наступить на детскую тень, приблизился к бывшему вознице Геракла. Рыжий обратил внимание: они похожи. Тяжкорукие, крепко сбитые; маловыразительные черты. Смущало другое: лицо Старика, обычно бесстрастное, сейчас пылало гордостью. Можно сказать, гордыней. С таким лицом штурмуют Олимп.
— Скажи, рыжий, — буднично сказал Протесилай, сделавшись древним-древним, едва ли не ровесником Старика. — Ты действительно видел, как меня убили? Там, под Троей?
И, не отворачиваясь, дождался ответа.
ТРОАДА.
Гераклов Вал. Долина Скамандра (Трагедия[8])
— Земля!
И почти сразу, отовсюду наслоившись на первый выкрик:
— Троада!
...а ребенок у предела, счастливый, смеялся и хлопал в ладоши.
Этого не могло быть. Даже к Лемносу мы должны были подойти через сутки. На месте Калханта впору сетовать, посыпая голову пеплом: наверняка грядущие аэды припишут нам незнание морских дорог в Трою.
— Земля! Троада! — надрывался сигнальщик, опасно качаясь в «вороньем гнезде». Словно испугавшись его воплей, тучи дрогнули, смешались... Я еще успел подумать: как он вообще разглядел берег?! — а простор уже стремительно светлел. Клок голубизны бесстыже выпятился из дерюги, словно шелковистое бедро красотки в разрезе дешевого хитона; миг, другой — и голубизна катится во все стороны, срывая одежду, обнажаясь с ловкостью страстной любовницы...
Нет, я все-таки кобель.
Солнце ударило наотмашь, ослепив, наполнив глаза слезами — я плакал от чудовищной радости, встретив наконец войну лицом к лицу; слезы текли, блестели, смывая накипь дурацких видений, и взору открылось: берег, Гераклов Вал, остатки давних укреплений, дальше сверкает зеленью русло Скамандра... угловые башни города, Скейские ворота — когда-то нас туда внесли на руках... еще дальше — лесистая вершина Иды, а удивление явилось гораздо позже: «Пенелопа» шла отнюдь не в первой эскадре, но мне было видно все, до мельчайших подробностей — впору равнять себя с Аргусом Золотые Ресницы, да я бы и равнял, жаль, радость сменилась запоздалым ужасом: вот она, война, лицом к лицу... одно мое лицо — к тысячам, десяткам тысяч...
Никогда не думал, что защитников Трои окажется так много.
... о ребенок у предела, счастливый, смеялся...
Толпясь на берегу, они выкрикивали оскорбления, раскручивали над головами пращи и готовили дротики; слезы вновь брызнули из глаз — так сверкали доспехи, а «Пенелопа» вдруг оказалась очень близко к берегу («О-о!» — восторг на смуглом лице какого-то копейщика, явно самого шустрого); столь же резко берег отдалился, надвинулся, окружил, выгибаясь блудливой сукой... высадка срывалась, под ливнем дротиков, под дождем камней, под ослепительно-синим небом, похожим на чей-то взгляд, только я забыл в суете — чей?.. «Дядя Диомед! — взвилось от эскадры мирмидонцев. — Дядя Диомед! я! пусти меня!..», и в ответ медным приказом аргосского ванакта:
«По вождям! Бейте по вождям!» Кинув через голову перевязь колчана, я ринулся наверх, в «воронье гнездо», едва не вышвырнув сигнальщика прямо в воду, а лук счастливо прыгнул в ладонь, тепло, по-домашнему, и ядовитое жало стрелы само нащупало высокого троянца в богатых доспехах: едва он упал, люди вокруг перестали швыряться дротиками, один поднял с земли откатившийся шлем, замер и вдруг горестней завыл по-волчьи; я слышал этот гимн отчаянию, я раздавал стрелы легко и празднично, превращая крик в хор, а часть кораблей уже затопила берег, и Протесилай-филакиец первым убил и первым умер, когда копье Гектора Приамида вонзилось ему в бок, только это не имело значения, ибо малыш Лигерон дорвался наконец до заветной игры — плоть Не-Вскормленного-Грудыо расступалась и смыкалась под ударами, как расступались троянцы перед неуязвимым мальчишкой; он прорвал! прошиб! пробил живую стену, кому не досталось удара, тем достался страх, защитники города пятились под прикрытие мощных стен; «Бей по вождям!» — мы били, вознесенные над людьми, и Тевкр Теламонид соперничал со мной в меткости, а мне все чудилось: мы стреляем, стоя бок о бок в небесах, хотя мы находились на разных кораблях; и я видел, когда нельзя было видеть, попадал, когда можно было лишь промахнуться, и судорожно пытался понять, зная, что понимать — не для меня...
...а ребенок у предела, счастливый...
На плечах отступающих врагов мы врывались в Трою, беря победу голыми руками; я стрелял из «вороньего гнезда», я бежал в первых рядах атакующих, и это казалось правильным, единственно верным, даже если мои стрелы падали рядом со мной, прикрывая меня от подлого удара огрызающихся троянцев... Малыш Лигерон бушевал в Скейских воротах, сметая стражу, но город вдруг отпрыгнул назад, город-оборотень, берег-оборотень, бой-оборотень; город стал иным, стены изменили очертания, исчезли знакомые башни, лесистую вершину Иды смыло с горизонта, река-змея взвилась на хвосте, из Скамандра превращаясь в Каик (откуда я знаю, что это именно Каик?!), ворота оказались надежно заперты, и вместо Гектора со стены орал незнакомый детина, припадая на левую ногу и потрясая кулаком. «Предатели! Изменники! — надрывался он. — За что?!»
И тогда мы бросились к кораблям: бежать в бурю, явившуюся за нами — слепцами.
...а ребенок у предела...
%%%
От влажного песка тянуло сыростью. Шустрый краб вперевалочку шмыгнул под камень и угрожающе высунул клешню, притворяясь пергамским копейщиком. Подставь палец — не обрадуешься. Чайки над головой ссорились из-за куска чистого неба: самая жирная туча лопнула по шву, открыв птицам часть подкладки из крашенного синькой холста. Гуляй, пока дают.
— Ага, — сказал Протесилай. — Значит, все-таки Гектор. Ты уверен?
— Уверен. Я его раньше видел, Гектора. Когда в посольство ездил, познакомился.
— Понятно. Вот и я: познакомился.
И филакиец принялся драть зудевший бок ногтями: зло, с остервенением. Смутился, заметив косой взгляд Одиссея. Зашелся хохотом:
— Долго жить буду! Ох, и долго!
Одиссей не видел в этом ничего смешного.
— Здесь уже все знают, — утирая слезы, заявил филакиец. — В Мисии мы высадились. Тамошняя столица — Пергам, тезка троянского акрополя. И речка между берегом и городом. Знать бы другое: как мы вообще там очутились? Словно глаза отвели... У мисийцев в басилеях Телеф Гераклид, наш союзник. Теперь, наверное, бывший союзник. Позор...
— А я на обратном пути отца видел, — невпопад заявил рыжий.
— Отца?!
— Только молодого. Мы плывем, вокруг буря, а из нее — пентеконтера. На носу — статуя Афины, ниже надпись: «Арго». И папа у кормила стоит. Я его сразу узнал. Кричал, кричал... не услышали.
— Бывает.
— Что бывает?! Что бывает, я тебя спрашиваю?!
— Все бывает. Слушай, а почему, когда ты рассказываешь — мне хочется верить и соглашаться?!
Ну, это Протесилай уж совсем загнул. Ни на какую голову.
А он вдруг оказался совсем рядом. Горячий, большой. Нагнулся вперед, правой ладонью ухватил затылок рыжего. Притянул к себе; уперся лбом в лоб, будто предлагал бодаться. Пальцы левой руки сжали предплечье: кузнечные клещи на заготовке. Опытная, борцовская повадка не несла ничего угрожающего, только подумалось; захочет — сломает.
Мысль явилась спокойно и тепло. Как спокойно и тепло было затылку в ладони бывшего возницы Геракла.
— Живи долго, мальчик, — жаркой просьбой дохнул филакиец прямо в лицо. — Ладно?
— Вместе с тобой?
Его глаза... На самом донце, за темно-карими глубинами, растворившими в себе даже черноту зрачка, все длился, не стихал вечный бой, до ужаса похожий на высадку под лже-Троей; и в гуще свалки пожилой воин, беззвучно крича, вздымал над головой тяжелое колесо. Золотая стрела наискось перечеркнула видение, Протесилай моргнул, и бой исчез.
Глаза как глаза.
Смотрят.
— Вместе со мной не надо. Живи долго просто так. Сам по себе.
— А ты?
— И я, мальчик. Я тоже — где-то рядом...
...Я не сразу заметил: мой Старик подошел вплотную к нам обоим. Улыбается. Светло и печально. Нагнул плечи, опустил подбородок; слегка присел. Вот сейчас, сейчас: лоб в лоб. Взгляд во взгляд; тень в тень. Если этот прихватит, возьмет затылок в ладонь — пожалуй, не хуже филакийской сноровки выйдет. Или лучше.
Так думать было приятно.
И чуть-чуть страшно.
АНТИСТРОФА-1
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте!..
Снова замаячили быль, боль,
Снова рвутся мальчики в пыль, в бой,
Вы их не путайте, не отваживайте -
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте!..
А. ГаличДурацкая, но справедливая шутка: после наших сборов-отплытий-возвращений каменистая Авлида станет плодородной. Соседка-Беотия, жирней жирного, от зависти лопнет. Наверное, поэтому я велел моим свинопасам: ставьте лагерь на отшибе. Где сандалию есть куда поставить. Тут за дальними отмелями — мысок не мысок, загогулина смешная; вот мы и расположились. Суда быстренько перегнали, лежим-кукуем. Ждем у моря погоды. Отсюда в ясный день, говорят, эвбейский берег виден. Милый друг Паламед за сегодня дважды приходил, смотрел в сторону родины. Тоскует небось. Или меня, стервеца, проверяет: не готовлю ли какую пакость?
Ясное дело, готовлю. Не нужен мне берег эвбейский. Наше дело маленькое: руку под ухо сунул, вот тебе и тайные каверзы. А на спине мне хуже спится. Храпеть начинаю. Давно заметил: лучший способ обидеть родного человечка — обмануть ожидания. Яму на пути вырыли — обойти десятой дорогой; кубок из-под вороватой лапы вовремя убрать.
Ох, обижаются!.. Злыми словами за спиной бранятся... Он же, Паламедушка, мне и про малыша нашего, Грудью-Не-Вскормленного, все-все сплетни, какие есть, на ушко перешептал. Любят его дышащие бранью ахейцы; так любят, что вскормить готовы. Баб-авлидянок днем с огнем не сыщешь, поселяне жен с дочерьми в погреба запрятали. Одни старухи по деревням — у героев сердца кипят, а малыш Лигерон просто не малыш, а чистое умов смущенье. Рыжий, гладкий. Глазищи доверчивые, кроткие. Моргнет девичьими ресницами, народ аж дуреет. Патрокл-нянька троих изувечил сгоряча — нет, лезут и лезут, как мухи на мед.
— А я? — спрашиваю от скуки. — Я тоже рыжий. Паламед кольцами сверкнул. Потер пухлые ладошки:
— И ты, дружок, рыжий. Да не гладкий. Шершавый ты, и кротости во взоре ни на шекель хеттийский. К тебе подкатись, об углы обломаешься. Я б, например, поостерегся. Мне, например, твоя любовь по ночам не снится.
Это он правильно. А то рожу я ему мальчика. Хлопот полон рот, и весь без зубов.
Настроение у меня сложилось — лучше некуда. Дерганое такое, липкое веселье. Хихикаю беспрестанно. Нежусь в объятиях великой блудницы: войны. Смута ожидания, дурные чудеса по дороге; вонь Авлиды — отхожей ямы, куда справляют великую нужду десятки тысяч медноблещущих героев. Почему-то раньше ни разу не слыхал, чтоб певец дерьмо солдатское восхвалял-описывал. Все большей частью гром, молния и бурнокипящие деяния. То ли певцы меж собой сговорились, то ли мне в жизни не повезло.
На неправильную войну угодил.
Вон, к вождю вождей Агамемнону, к самому носатому вызвали, а я хихикаю, как дурак. Иду помаленьку, хромаю от большой преисполненности мудрыми советами — и хихикаю. Хуже икоты.
Ты, гонец, на меня брось коситься. Не играй бровями.
Герою смех к лицу.
%%%
В шатре микенский ванакт был не один. На скамеечке в углу прикидывался совиным чучелом Калхант: моргал, куцую бороденку пощипывал. Небось оттого и куцая, что все время щиплет. Хмельной Гелиос шалил с тканью шатра, и взгляд терялся среди хаотического мелькания бликов. Очень хотелось сплюнуть: по дороге, стараниями забияки-ветра, наглотался песка вдоволь. Но не плевать же в шатре под ноги богоравному хозяину!
От этой мысли плюнуть хотелось вдвое больше.
— Радуйся, Лаэртид! — поднялся навстречу Агамемнон; сверкнуло золото скипетра, с которым ванакт и дневал, похоже, и ночевал. А с лица-то спал, осунулся, желтизна в щеки брызнула. От недосыпа, должно быть. От дум державных.
— Как доплыл? Когда вернулся?
Не водилось за ним раньше подобного участия. За царственным нашим. И в глаза не смотрел. Сам беседу ведет, а глядит мимо уха. Или поверх темечка — если на целую голову выше, оно хорошо получается. Вроде как вдаль. Вроде как нету тебя рядом, муха ты, шмель, сорока-стрекотуха, а ванакт сам с собой умные мысли из пустого в порожнее переливает. Зато нынче в упор видит: кивает, кривит тонкие губы в улыбке.
Скоро лобызаться полезет.
А Калхант наоборот: в углу горбится. Улыбку съел-проглотил; вместо рта — стянул шрам ниточкой. Не иначе, вчера стрижи поперек неба летали, а ласточки вдоль: разгадывай, коль зорок!
— Радуйся, Атрид. Доплыли без потерь, все корабли со мной. Позавчера пристали, уже в сумерках.
А что еще ему рассказывать? Не об «Арго» же встреченном?!
— Позавчера? А я пятый день здесь торчу... — задумчиво бормотнул Агамемнон. И скипетром эдак помахал: со значением. Ага, он — пятый. Протесилай — третий, зато почти неделю плыл. А некий сумасшедший Одиссей, сын Лаэрта, тоже третий день разменял. Плыл же — всего-ничего.
Впору радоваться: когда у всех башка набекрень, родное безумие мудростью обернется.
— Твои людишки как, не ропщут? Еще раз под Трою пойдут?
— А что, есть выбор?
Обидно резануло: «людишки»...
— Ну и славно. А то некоторые по домам засобирались. К хозяйкам под бочок. Ну ничего, это моя забота, — Агамемнон прошелся по шатру, вертя в руках скипетр. Будто примеривался: кого бы огреть? — Значит, можешь оставить своих без присмотра? Не разбегутся?
Ответ был бы лишним.
— Тогда не в службу, а в дружбу: езжай в Микены. Туда-сюда, через Истм... дней за десять обернешься. Или лучше морем?
— Хуже. Ветер дрянной, придется на веслах, да еще и крюк здоровенный: вокруг Аттики. Только гребцов умучаю...
Вспомнилось: у Сумийского мыса островок есть, Елена называется. Застрянем по пути: будем Елену Сумийскую вместо Елены Прекрасной освобождать!
— Хорошо, я тебе доверяю. Глашатая своего в попутчики дам. Вот, возьми еще перстень — чтоб не сомневались. Потом себе оставишь, перстень: он дорогой. Привези ты мне...
По желтому лицу Агамемнона скользнула тень, и ванакт поспешил отвернуться. Вряд ли это было связано с глашатаем или с перстнем. Даже прорицатель в углу натянулся струной. Ждет ванактского слова, золотого, будто скипетр. Да что вы все? Сдурели?!
— ...привези мне дочку, — вдруг попросил Агамемнон. Тихо, угрюмо, словно ожидал отказа. — Дочка у меня в Микенах... Я тебя очень прошу, Лаэртид: привези ты ее, ладно?! Должником твоим буду... Привезешь?!
— Э-э... я, конечно... Я с радостью! — Откашляться удалось не сразу. И не до конца: изрядная доля недоумения осталась, явственно сквозя в словах. — Только, богоравный, не сочти за дерзость: зачем тебе дочка на войне? Или мы уже не собираемся плыть под Трою?
— Собираемся, — отрезал Агамемнон, быстро становясь прежним. Подошел вплотную, навис горным кряжем. — Калханту знамение было: вскорости грядет удача...
Ясно. Оттого и в лицо не глядит, пророк наш. Его знамения — известное дело. На этот раз небось вместо Трои на Кипре высадимся, штурмовать сослепу станем. Там муравейников много, примем мурашей за троянцев, всех раздавим. Надо будет сандалиями запастись.
— .. .пойми: дочку я сдуру Лигерону пообещал. В невесты. Ты ж его знаешь, блажного: если приспичило, вынь да положь! Обручим детишек и сразу выступим. Поторопись, Лаэртид, а? Воины ропщут... еще месяц — разбегутся...
Ванакт замолчал. Густые брови тучами сошлись над знаменитым носом: сейчас громыхнет!
— Сделаю, богоравный. Пришли глашатая к моему шатру, я буду ждать.
Странно: Калхант так ни словечка и не проронил.
На обратном пути вспомнились удивительные слова филакийца: «Слушай, а почему, когда ты рассказываешь — мне хочется верить и соглашаться?!» Когда говорил Агамемнон, вождь вождей, верить не хотелось. И соглашаться. Хотелось подчиняться. Слепо. Без рассуждений. Раньше такого и в мыслях не было, а сейчас — поди ж ты!
Одиссей сам себе дивился.
%%%
Долгие сборы — пустые хлопоты. Еда в котомке. Переодеться: льняная эксомида[9] для жары, «геройский плащ» на ночь. Шляпа из войлока, с широкими полями — от солнца. Колесницу микенец свою дал, не пожалел. Я послал к Диомеду: пусть даст две дюжины верховых куре-тов. Не дал, синеглазый. Без объяснений. Он еще со Скиросской потехи дуется. Ну и ладно: возьмем свинопасов, бывалых — они, если надо, в ходьбе злые. Все.
Эврилох, остаешься за старшего. Глашатай по имени Талфибий явился вовремя: орлиный взор, орлиный нос, царственная стать. Обзавидуешься. Фригийский колпак с загнутым вперед хохолком только усиливал сходство с царем птиц. Ростом орел выше меня на добрый локоть — вот пусть и правит лошадьми. Все польза. Кстати: если от Мисии в Авлиду за день доплыли, может, Микены теперь вообще рядом? Вон за тем холмом, к примеру? Нет, морские безобразия на суше закончились. Во всяком случае, никаких Микен за холмом не обнаружилось. Ветер одежду рвет, пыль смерчиками закручивает, деревья треплет — хорошо! Глядишь, пока ездим, войска сами разбегутся. Был поход, да сплыл.
«Клятва-а-а!» — мигом напомнил ветер, угрожающе , свистнув в ушах.
Ладно, ладно. Помню. Сам же эту проклятую клятву и придумал: «...никто не поднимет оружия на мужа дочери моей, но придет на помощь ему в трудный час, не жалея сил, крови и самой жизни!..» Расхлебывай, муж, преисполненный козней различных. Приходи, не жалея. Откажемся, оставим красавицу Елену на произвол судьбы — самый произвол и начнется. У Глубокоуважаемых развяжутся руки: клятвопреступников, как известно, боги сурово карают. Шарахнет молнией — кто там после разбираться станет: был ты в Спарте, не был, клялся, не клялся... А у меня еще и вторая клятва за плечами висит. Как козел, когда на бревне с пастухами... Пылит дорогой колесница. Стучат дробно конские копыта. Шлепают подошвы. Ветер шустрит в кронах. И еще: далеко, на самом краю слышимости, обиженно хнычет ребенок. Пока не плачет. А под лже-Троей и вовсе смеялся. Но чувствуется: вот-вот. Раньше не задумывался, а сейчас вдруг ударило молнией: что, если это я, прошлый, так себя, будущего, слышу?!
Предупредить пытаюсь, а крик тот детским плачем доходит?..
%%%
Пение мы не сразу расслышали. Думали: мерещится. А едва дорога из-за утеса вывернулась, на равнину пыльной речкой плеснула — тут и услышали, и увидели. Наряды праздничные на зеленом лугу. В глазах рябит. Дудки дудят, тимпаны гремят-брякают, свирели разоряются. Кто-то поперек всего в рог дунул — от полноты чувств, должно быть. Радуются добрые поселяне, хороводы водят. И дымок над кострами курится. Небось сейчас отпоют-отпляшут — пировать засядут.
У нас в каждом селе свои праздники. Однако уж больно с размахом гуляют...
Вот и Талфибию тоже стало интересно. А глотка у микенского глашатая оказалась: ого-го! Над дудками-тимпанами, над песнями-гиканьем:
— Радуйтесь, авлидяне! Пусть будут благосклонны к вам боги, пусть внемлют они вашим мольбам! Скажите: что за праздник?!
Дюжина человек взялась махать нам руками: присоединяйтесь! Остальные решили посрамить глашатая дружным хором — естественно, ничего путного в их криках разобрать не удалось. Наконец добрые поселяне выдохлись, и к нам был отряжен самый быстроногий парнишка.
Талфибий придержал коней. Вскоре запыхавшийся посланец остановился возле колесницы.
— Радуйтесь! — выдохнул он и умолк, судорожно глотая ртом воздух. Будто вынырнул с изрядной глубины; мокрые волосы и капли пота, стекавшие по лицу, лишь усиливали впечатление. — Староста Холмищ-Геройских приглашает вас разделить с нами праздничный пир!
— Благодарим за честь, но мы торопимся. — Я мимо воли улыбнулся взопревшему «гонцу». В ответ на угреватом лице паренька радостно просияли глаза: большие, серые. — Кому жертву приносите? Кого нам по пути восхвалять?
— Как — кого?! — изумился парнишка. — Сегодня же Амнистии [10]! Дни Прощения! Вы что, с неба свалились?!
Мы с Талфибием переглянулись. С неба, не с неба...
— Местный обычай? — предположил глашатай.
В ответ нас захлестнуло потоком мудрых суждений. Нет ничего выше сыновней любви и отеческого всепрощения; а также наоборот. Великие боги нам в том порука и пример. Ибо, исполнившись кротости, Зевс-Добросердечный, некогда свергший отца в Тартар, ныне даровал родителю амнистию, позволив оставить место заточения. И воцарился Крон-Временщик, в свое время оскопивший родного папу по просьбе родной мамы (последнее вызвало у «гонца» искренний восторг: даже притопнул босой ногой...), на Островах Блаженства — даруя смертным радость его восхвалять.
Вот, значит, восхваляем.
По мере сил.
— И давно?
Талфибий развязал ленточки у подбородка. Снял колпак: из уважения к древнему божеству. Э, друг-глашатай, да ты лысый!.. Я последовал его примеру, сбив шляпу на спину. Ремешок больно врезался в кадык, словно меня пытались исподтишка задушить.
Дурацкое сравнение.
— Давно! Я еще маленький был, когда Амнистии учредили. Пойдемте, а? Сейчас пир начнется. Мы уже Кривого Антифа с братом в жертву принесли, но Гуней-шорник сказал, что ради хороших людей готов на алтарь вне очереди! Вы не подумайте, он-с радостью! Ведь прямо к великому Крону попадет, на Острова Блаженства! Идемте!
Парнишка попался языкатый и убедительный, но мы спешили. Да и смотреть, как счастливца-добровольца отправят на Острова Блаженства... Я покосился на моего Старика, но тот угрюмо дырявил взглядом землю.
— Увы, прекрасный отрок! По приезде в Микены мы почтим Крона Уранида должной жертвой. Радуйтесь! — и глашатай хлестнул коней.
Позже Талфибий буркнет обиженно:
— А врать-то зачем? Давно, мол, празднуем, маленький он был... надо было враля — стрекалом. Я пожал плечами.
%%%
Ночевали в какой-то дыре. Родная небось сестра Холмищ-Геройских. Жирный староста суетился, не в силах уразуметь: бояться ему или радоваться? Кровяной похлебки наварил, с солью и уксусом; пифос винца откопал, вполне приличного. Дочку все вперед выталкивал или внучку, но тоже ничего. Круп, как корма у «Пенелопы»: на любую пристань въедет. А вот спать в доме я отказался: душно. Пусть горожанин Талфибий в четырех стенах парится, а мне на сене куда как вольготнее!
Итакийская глушь приучила.
Опять же: взбредет, к примеру, хозяйской дочке-внучке в голову проведать дорогого гостя...
Небо, если глядеть из-под плетеного навеса, — серое, замызганное одеяло. Скрылись от досужих взглядов звезды. Где ты, моя зеленая? Прячешься?! Духота одолевает даже на сеновале, хотя здесь ее чуточку скрашивает густой, пряный аромат умирающей травы. Сейчас, с моей сегодняшней террасы возвращения, когда от моря тянет сыростью, остужая разгоряченное лицо, мне очень трудно вернуться туда, в душный морок ночи, сгинувшей в бездне лет. Жара прошлого морочит, выскальзывает из захвата влажной ладошкой, хихикает далеким детским смехом на самом краю сознания, я злюсь... и вдруг (кубарем! кувырком!..) вновь оказываюсь на сеновале былого.
Мысли бродят в голове отвязавшимися козами. Пастух отлучился по нужде, вот козы и норовят забраться в чужой огород, где им совсем не место. Они-то уверены в обратном: самое что ни на есть место! Глодай, не хочу!
...И вкус запретно-странно-непривычен...
Куда сгинула Сова? Услышь, синеглазая! Сколько раз ты приходила ко мне — вот так, среди ночи, где-нибудь на Большой Земле... Я скучаю по тебе, богиня моя! Почему ты не даешь весточки? С тобой что-то случилось? Беда? Опасность?! И почему я думаю о тебе, когда должен думать об оставшейся дома жене? Потому что ты, моя сова, олива и крепость, в силах ко мне прийти, а Пенелопа — нет?!
«...и Ангел сгинул, — хрустит краденой репой мысль-коза. — То на каждом шагу подворачивается, а теперь — днем с огнем, ночью с факелом! Эй! Куда вы все запропастились?!»
Грязное одеяло все ниже, ниже... Вором лезет под навес. Но, вместо того чтобы накрыть с головой, забивая дух сена, оно выгибается, словно от резкого удара кулаком (это я ударил? нет, правда — я?!), и с треском рвется! Черный бархат озарен мерцанием звезд, дышит запредельной прохладой. Я вскакиваю! Иду! Спешу в знобящую даль, обитель покоя, где нет проклятья духоты, и влажной испарины, и безумного бреда... ожидания, страха, радости, предвкушения, разочарования!..
И вдруг понимаю: там нет ничего!
Но разве мне дано: понимать? И разве я хочу — туда?!
Беспомощно оглядываюсь. Вокруг давешнее одеяло. Свернулось туманом обочины, легло под ноги смутной дорогой. Я не один на этой дороге. Вереница теней бредет следом; еще шаг, другой — и, обернувшись, я смогу разглядеть их лица: провалы глаз, бледность щек... Не сметь! Оглохни, ослепни! Есть встречи — не для живых. Не для людей.
А я? Кто — я?
Одиссей, сын Лаэрта — кто?!
На миг удается увидеть себя со стороны. Это кажется, или я на самом деле стал выше ростом? Стройнее? В руках у меня драгоценный лук: отчего он увит змеями? Змеи шипят, извиваются, но они добры, эти милые твари, они всего лишь хотят помочь господину: напоить ядом его не знающие промаха стрелы...
— А-а-а!..
...резко сажусь. Тень качается передо мной во мраке ночи. Остаток кошмара?
— Старик, ты?!
Он не отвечает. Усаживается рядом, на расстоянии вытянутой руки, смотрит с тайной грустью. Даже не пытается заглянуть в глаза — просто смотрит, изучает взглядом. Словно вдруг увидел впервые.
— Я спал. Старик? Ты не знаешь, Сова не приходила? Она ушла навсегда?! Впрочем, ты ведь все равно не ответишь. Ты никогда не отвечаешь. Ты молчишь.
— Молчу, — приходит внезапный ответ. — Ты изменился. Перестал задавать вопросы. Вот я и молчу. Знаешь, я ведь никогда не навязывался.
— Нет, ты просто ходишь следом, — пытаюсь поддеть его. — Кто говорил, что ответы — убийцы вопросов? Тебя спрашивай, не спрашивай...
— Я говорил про ответы, а не про вопросы, — грусть в глазах Старика тает ледышкой на солнцепеке. Он хитро щурится, будто собираясь подмигнуть. Нет, раздумал. — Спрашивать надо обязательно. Сердящий Богов. Даже если убежден, что ответа не получишь; в особенности когда убежден. Спрашивай! Задавай вопросы мне, задавай их самому себе, первому встречному... Хороший вопрос, он как старое вино: задал — а потом на языке катаешь, на вкус пробуешь. Удивляешься: почему раньше горчинки не замечал? Аромата? Распробуешь всерьез — и тогда ответ покажется тебе пустяком, дешевой безделушкой... Здесь иная беда: перестал ты спрашивать. Может быть, ты уже знаешь все на свете?
Лежу я, как дурак, пялюсь на него, все козы-мысли в голове разбежались. Вроде бы пастух явился, кнутом щелкнул. Хочу спросить что-нибудь мудрое (давно Старика таким разговорчивым не помню, самое время...) — а на ум, как назло, ничего не приходит. Про ерунду ведь спрашивать, лишь бы спросить — стыдно. В голове пусто стало и еще: спокойно.
— Спасибо, Старик, — само вырвалось. А он улыбается в ответ. Словно я спросил, а он ответил.
Дальше не помню. Заснул. Снилась жена: варенье1 варила. Любимое мое, из кизила. Я с сыном шалаш ольховый строил, все ждал, пока пенка в котелке подойдет. Люблю я их: и пенку — сиреневую, рыхлую! — и жену, и сына. Смешно? Да, смешно. Ну и катитесь с вашими кислыми рожами куда подальше! А я пенку есть стану. Сладкую. Перемажусь по уши, еще смешней выйдет.
При варке варенья вместо сахара использовался старый мед.
%%%
После дорога была — чисто тебе вырванные годы. Скучища. Облака в небе: клочьями. Деревья от ветра: растрепы. Даже утесы истмийские, знаменитые — будто вчера их обтесали, и то на скорую руку. Нарочно для нас. На закате всякий раз полнеба кровью заливало. Знамение? Так ведь Итака моя, родимая, — на закате, западней некуда...
Еще дважды видели, как народ Амнистии справляет. Оказалось, празднества эти: на две недели кувырком! Как раз к последнему дню в Микены прибудем.
Оставшиеся ночи спал я, как убитый. Сова не пришла; и дочки хозяйские постеснялись. И никто не приходил. Только проснусь перед рассветом — а рядом Старик сидит. Ждет, что я его спрашивать начну. Или не ждет. Просто зарей любуется. Поди пойми! А я у него до самых Микен так ничего и не спросил. Или все-таки спросил? Еще тогда, в первую ночь? На сеновале?!
СТРОФА-II
Кромов котел и внучка Возмездия
Похоже, в златообильных Микенах забыли напрочь, что закон гостеприимства освящен Зевсом-Кротким. Такое бывает, и чаще всего именно от обилия злата. Ворота оказались заперты столь надежно, будто с минуты на минуту ожидался приступ. На требовательный стук никто не отозвался. Хор изголодавшихся свинопасов под чутким руководством хорега-глашатая тоже канул в Лету микенского безразличия. Две львицы с барельефа косились, не пряча издевки: кто вас ждал? Кто вам рад?!
Выходило, что никто.
Наконец угловая башенка разродилась заспанным бурчанием:
— И кого это кентавры несут в такую рань?! Добрые люди — микенцы. Спросили. А могли ведь и Дротиком...
— Открывай, соня! — надсаживаясь, рявкнул снизу рыжий басилей. — Я Одиссей, сын Лаэрта, а со мной — мои люди. Имею срочное поручение к ванактиссе Клитемнестре от ее мужа, богоравного ванакта Агамемнона!
— Молоденек ты, крикун, для сына Лаэрта, — с сомнением протянула другая, южная башенка. — И брехать горазд: наш ванакт далече!.. Наш ванакт Трою берет-берет, никак не доберет...
— В Авлиде ваш ванакт, тупицы! Отворяйте! Или боитесь, что мы сейчас возьмем ваши Микены приступом?!
Вместо Трои?!
Разговаривать с задранной головой, еле сдерживая раздражение, было унизительно. Давила мощь микенских стен, равнодушная, слепая мощь, пред которой чувствуешь себя козявкой. Казалось, что с тобой на самом деле разговаривают не люди, а башни, кладка исполинских плит, весь город — разбуженное на заре чудовище! — и меньше всего хотелось унижаться дальше: показывать именной перстень, требовать, настаивать. Хотелось другого: встать вровень с каменным драконом, от земли к небу, потянуться за верным луком, дать прозвенеть тетиве...
— У нас, горлопан, боялки отсохли! Эй, Полифем[11], ты боишься?
— Не-а... давай спать, что ли?
Но тут вмешался лично Талфибий. Не пожалел ораторского искусства. Вопль глашатая громыхнул над тишиной дремотного города так, что Одиссей невольно вжал голову в плечи. Уж не сам ли Дий-Громовержец вещает чужими устами?! Не может быть у человека такой глотки, хоть наизнанку вывернись! Еще по дороге, на Амнистиях этих, заметил...
— Что, Полифем, и меня не признал?! Плетей возжаждали, хлебоеды?!
— Б-е-б-е... б-бе-е-е... — заблеяла в ответ первая башня, удушливо перхая.
— Б-бегу, б-богоравные!..
Судя по доносившимся из-за стен звукам, кто-то уже несся сломя голову вниз, по щербатым ступеням лестницы. Бранил «слеподырых недотеп», возилсяс засовом: жалуясь, скрипели медные петли.
— Н-не ждали! Н-не гадали!.. Радость, радость-то какая!..
Створки ворот разъехались в стороны, открывая кучку ошалелых стражей во главе с перепуганным десятником Полифемом. Шлем последнего от запоздалого рвения съехал набок, заставляя хозяина взирать на мир одним глазом, наподобие циклопа. Миг, и десятник бухнулся на колени:
— Милости, богоравные! Не извольте гневаться! А тебе, славный Талфибий, покровитель ахейских глашатаев, мы сегодня же принесем обильные жертвы! Виноваты: туман, помрачение взора...
— Жертвы? — Талфибий внезапно охрип. Налился дурной кровью. — Мне?!
— Вам! Вам обоим! — неправильно понял вопрос десятник. И, преданно моргая зрячим оком, заблажил в смертной тоске:
Я ль позабыл Одиссея, бессмертным подобного мужа. Столь отличенного в сонме людей и умом, и усердным. Жертв приношеньем богам, беспредельного неба владыкам?! Нет!
— Лучше не забудь отправить гонца во дворец, — Одиссей поспешил перебить новоявленного восхвалителя. Густой дух чеснока вперемешку с кислятиной перегара, шибая от многоречивого десятника, был способен отравить любой гимн на свете. — Пусть доложит о нашем прибытии.
— Ну да, ну да, богоравный! Бегу, лечу... И впрямь: очень хотелось бежать. Лететь. Куда — неважно, лишь бы подальше. Даже мысль о том, что стражники еще не проспались или уже пьяны, не дарила успокоения. А еще молчал ребенок у предела. Готовясь засмеяться — или расплакаться?! Кстати, шумели и торопились зря. Гонец сбегал-вернулся, сказал: ведено обождать. Пока богоравная ванактисса Клитемнестра изволят закончить омовение.
%%%
Глухие улочки, высокие заборы. Пыль на листьях олив, любопытные глаза в щелях: блестят слизнями вослед. Огромный водонос на всякий случай пятится в тень, бьет поклоны. Город сам по себе, микенский акрополь на возвышении — сам по себе. Напади враг, в акрополе можно длительный срок держать осаду, благоразумно отдав прочих горожан на разграбление. Вспоминается услышанный в портовой харчевне спор. Микенец хвастался: «Наши сокровищницы! Наше золото!» А когда критский моряк удивился: «Твое? Ты-то здесь при чем?! У тебя отродясь медяшки ломаной...», микенец возразил с негодованием:
«Но я ведь рядом живу! На соседней улице!» Наверное, в чем-то он был прав: родившийся в златообильных Микенах и впрямь не чета рожденному на продуваемой всеми ветрами Итаке. Раньше не замечал, что здесь даже дышится по-другому — с опаской, будто можешь случайно вдохнуть чужого воздуха.
Потом с хозяином за всю жизнь не расплатишься. Дерзай, ванакт микенский! Твори державу Пелопидов — великую, вселенскую, кафолическую От эфиопов до гипербореев каждому так задышится: с опаской, с оглядкой. Зато: наше золото! наши сокровища! наша гордость! — рядом ведь живем, за углом...
— Одиссей, ты давно был у нас? — Знаменитый бас «покровителя ахейских глашатаев» гудит откровенной растерянностью.
— Перед отбытием в посольство... А в чем дело?
— Глянь направо. Или боги помутили мой разум, или... Видишь храм?
— Конечно, вижу... Постой! Откуда он взялся?! Площадь помню, портик на углу — тоже...
Колесница замедляет ход, проезжая мимо храма. Мрамор коринфских колонн — серый с золотистыми прожилками. Резьба капителей в виде чаш из двойных листьев аканта. Широкие ступени; дверь слегка отворена, и внутри мерцает огонь, безмолвно приглашая войти.
Одиссей обернулся к десятнику, вызвавшемуся сопровождать «долгожданных гостей»:
— Чей это храм?
— О, господин мой! Это храм Крона Уранида! — конский хвост на гребне шлема, изрядно траченый молью, кивает в такт речи десятника, словно свидетель на суде, подтверждая правоту истца. — Весной достроили.
Смотреть на храм приятно. Увенчанное двускатной крышей, стройное здание красиво само по себе, но дело в другом. Глядя на святилище Крона Уранида, которого здесь не было прежде и не могло оказаться сейчас (не было: храма? бога?!), чувствуешь, как тонет, скрывается в глубине души иное смятение. Глухие улочки, высокие заборы, глаза зевак в щелях — всю дорогу, пока ехали во дворец, Одиссей пытался избавиться от дурацкого ощущения чуждости себя и города. Нет, иначе: себя в городе. Микены казались старыми, а рыжий итакиец — молодым. Боги! Чистая правда: город действительно очень стар, а рыжий итакиец действительно очень молод, но...
Такие мысли граничат с безумием.
Значит, это свои, родные мысли?
Спрыгивая на землю и разминая ноги, Одиссей подмигнул глашатаю:
— Заглянем?
...Младший жрец, в серой с золотыми нитями хламиде, встретил у входа. Отделился от колонны, словно был частью здания:
— Благоговейте![12] Поспешите, уважаемые! Амнистии на исходе, но, хвала Крону, у вас еще есть время...
Фраза прозвучала двусмысленно.
Внутри — сумрак, мешающий толком рассмотреть убранство храма. Отверстие в центре крыши, расположенное над алтарем, света не дает, хотя на дворе день. Задрав голову. Одиссей увидел там пригоршню звезд во тьме. Проморгался: нет, звезды никуда не делись. Наверное, роспись. Возле алтаря ярко горит огонь под жертвенным треножником. Обычная картина. Разве что бронзовый котел, установленный на треножнике, куда больше обычного. Да еще: высокая клепсидра[13] на алтаре, забытая невесть кем и невесть зачем.
Набухает капля за каплей. Впитывает янтарь огня, сумрачную пыль, тишину, серость мрамора, золото прожилок; миг за мигом, мир за миром. Падает из верхней чаши клепсидры в нижнюю.
Как не бывало,
Пламя бросает на стены масленые, жирные отсветы.
В их колыхании чудится: смутные фигуры ведут таинственный хоровод, будто тени из царства Гадеса чествуют древнего сына Уранова. Тянет присоединиться, возглавить, повести лихой пляской из прошлого в будущее, не видя, что всего-навсего замыкаешь кольцо.
— Ну что же вы, уважаемые? Кронов котел еще кипит, но скоро покажется дно, и будет поздно!
Бурлит кипяток. От огня пышет жаром, пузыри на воде лопаются со змеиным шипением. Золотое запястье с россыпью топазов, ранее украшавшее руку итакийца, булькнув, уходит на дно котла. Словно кто-то подтолкнул: давай! бросай! Жертвую тебе, Владыка Времени!.. Подскажи лишь, намекни: о чем тебя следует просить?!
Дорогой перстень со среднего пальца Талфибия отправляется следом.
Жертвую...
Интересно: чего просит глашатай? О чем говорит, беззвучно шевеля губами, с Кроном-Временщиком?!
Амнистии на дворе. Скоро, говорят, закончатся.
Скоро будет поздно.
Воды в котле осталось совсем на донышке. Вот-вот выкипит досуха.
Принята Кроном-владыкой жертва благая от чистого сердца! Радуйтесь вместе со мною, великое чудо узрев!
Сумрак рождает второго жреца. Вдвоем они торжественно поднимают котел с треножника (голыми руками!); нарочито медленно переворачивают над огнем вверх дном.
Пусто!
Ничто не выпало из котла, не звякнуло, не взметнуло из пламени сноп искр. Лишь эхом выкипевшей воды отдалось шипение с алтаря: большая змея, возникнув на месте странной клепсидры, приподняла плоскую голову. Дрогнула жалом и сползла прочь, в тень. Одиссея пробрал озноб: перед отплытием из Авлиды на алтаре после приношения объявилась точно такая же змея. Забравшись на растущий рядом платан, она опустошила птичье гнездо, сожрав не то девять птенцов, не то десять. Калхант тогда объявил: смысл знамения благоприятен — каждый ахеец убьет десять врагов.
Многие расстроились.
Они хотели убить тысячу.
...Тогда еще прорицатель подошел ко мне, после обрядов.
— Слушай, — спросил. — Может, хоть ты запомнил: сколько на самом деле птенцов было?
Я пожал плечами:
— Поди-разбери... Говорят, десять. Или вовсе дюжина. А что?
— Да ничего. Я вот хожу, думаю: один к десяти или все-таки к дюжине?! Или вообще?.. Как получится...
Странный он человек, Калхант. Из Трои к нам переметнулся, загадками говорит.
Ясновидец, одним словом.
%%%
На ночной террасе, во тьме многозвездной, сидел он, думою тяжкой объятый... Ненавижу змей. Пряная вонь мускуса, гибкие тела. Знающие люди говорят: змеи сухие и шершавые — а я все равно убежден, что липкие и скользкие. В последнее время мне часто снится кошмар, впервые накрывший меня по пути из Авлиды в Микены: смутная дорога, по обочинам столбы из тумана, вереница теней, и я впереди — с золотым луком, обвитым двумя змеями. В любой миг готов сорвать одну из тварей и, ощутив, как она затвердевает в пальцах, послать вперед вместо стрелы.
Во сне мне чудится: это правильно. Это хорошо.
Если сделаю так, дойду до конца.
Но в уши врывается горячий шепот: «Дурак! дурак...» — и я останавливаюсь, ожидая Далеко Разящего. Я уверен: сейчас он подойдет ко мне, курчавый лучник, и мы покинем эту смутную дорогу. Вместе. Я даже готов подарить ему драгоценный лук со змеями, только знаю: он не возьмет.
Это же твой лук, скажет он. Хочешь, выбрось. Здесь я обычно просыпаюсь.
Микены, авореи
(Мелодрама)
Мелодрама— греч. «действо, сопровождаемое музыкой». Второе значение: действо с повышенной эмоциональностью.
— Ну конечно! Вас прислал, а сам и не подумал явиться! Пропадает, значит, у Пифона на рогах, а теперь за чужие спины прячется, муженек богоравный! Да еще дочку ему подавай! Вот прямо вынь да положь! Под первого встречного...
Клитемнестра бушевала долго и с удовольствием. А я все смотрел на госпожу ванактиссу, не отрываясь, рискуя вызвать гнев на себя. Нет, еще в Спарте ясно было: Тиндареева дочурка — стерва завидная. Удружил спартанский басилей зятю, подложил свинью. На брачное ложе. Но ведь виделись же недавно — когда я в Микены на совет, как в афедрон раненый, примчался. (Хотя почему «как»? Взаправду ранили...) Другой она была! Да, стерва — но хороша, не отнимешь.
А сейчас?
Обрюзгла. Осунулась, с лица спала. А на самом лице — белила, румяна, пудра критская в три слоя... Жаль, морщинки все равно видны, и мешки под глазами набрякли. Шея в складках. Или по мужу истосковалась? Кто их, баб, поймет? — может, это она перед нами разоряется, а по ночам втихомолку слезы льет?
Сесть нам с Талфибием, ясное дело, предложить забыли. Ну что ж, ванактисса в своем праве. Стоим, переминаемся с ноги на ногу.
Внимаем.
— ...Герои! Винопийцы псообразные! Это ж как глаза залить надо было: вместо Трои в Мисию угодить! Теперь явились, не запылились. Дочку им! Бочку им!..
Ф-фу, кажется, выдохлась. Умолкла. Искоса поглядывает в серебряное зеркальце: не слишком ли вспотела? Румяна не плывут?! Родинка под левым веком: черная слезинка. Нижняя губа брезгливо оттопырена: все, что вы знаете, я давно забыла!
Интересно, ей-то откуда про Мисию известно?
— Укроти гнев, богоравная! Мы лишь уста твоего царственного мужа, — успокаивающе загудел Талфибий, притворяясь гонгом. — Грех бить по устам, они безвинны. И речь идет не о свадьбе, а о малом обручении. Посему не медли, ибо ведено нам доставить юную Ифигению...
Ага, значит, вот как дочку зовут! А то я даже спросить не удосужился.
— ...без промедления. Ибо ждет нас под Троей исполнение клятвы. Ныне боги явят милость — прорицателям было знамение...
— Знамение! — презрительно фыркнула Клитемнестра.
Наверняка готовилась разразиться новой обвинительной речью. Но в этот момент из боковой дверцы в мегарон выбежала девчушка лет пяти — гиматий крыльями, нитка бирюзы на шее — и вприпрыжку ринулась прямиком к ванактиссе. Хорошенькая такая малышка: румянец, глазенки живые, радость ключом бьет — не хочешь, а заулыбаешься...
Богоравная осеклась на полуслове. Дальше все происходило в мертвой тишине. Я едва успевал отлавливать взгляды: подобные стрелам, они перечеркивали пространство зала. Первый взгляд-выстрел госпожи ванактиссы бьет в девочку, но та его попросту не замечает. ...мимо!
Короткий скрип невидимой тетивы — и второй взгляд ударяет в смазливого щеголя из свиты, стоящего ближе других к пустующему трону.[14] Щеголь дергается, словно его действительно навылет пронзила стрела. ...есть!
Масленые глазки красавчика испуганно бегают из стороны в сторону. Нашел. Пара молчаливых слуг скучает у очага. Сразу две стрелы поражают мишени. Без промаха. И слуги оказались ушлыми: козьим скачком настигают смешно топочущую по залу девочку. Подхватывают под руки, что-то шепчут в оба уха.
До меня долетают лишь скудные обрывки:
— ...занята... важные дяди... покажем собачку!..
Лицо малышки — сплошная обида. Вот-вот разревется. Когда радость внезапно перегорает, становясь грязной золой, трудно придумать боль горячее. Однако заплакать (по крайней мере, на виду у всех) она не успевает. Слуги расторопны, и боковая дверца захлопывается с виноватым лязгом.
Мне кажется, я слышу отдаленный плач. Струйка пота затекает под веко, обжигая. Все. Представление окончено. Тихо склоняюсь к глашатаю:
— Это и есть Ифигения?
Дочери Агамемнона и Клитемнестры должно быть года два. Не больше. Но после знакомства с Не-Вскормленным-Грудью я разучился удивляться. Каков жених, такова невеста!
— Нет. Я ее впервые вижу. Даже так? Выступаю вперед:
— Мы ждем, богоравная. Надеюсь, твоему царственному супругу не придется самому являться в Микены за дочерью. Ванакт был бы весьма раздосадован, случись ему, бросив войска, спешить сюда...
Задохнулась от возмущения. Побагровела — под белилами видно. Уж больно напоказ возмущается. И щеголь-красавчик на меня волком смотрит. Эй, уважаемые: что у вас за девочки по дворцовому мегарону, как по родному дому, шныряют?! И, главное — чьи девочки? Ох, досадовать ванакту, заявись он домой невпопад...
Плохо стреляешь, Одиссей. Мажешь. Девочке-то лет пять-шесть. Может, дочь местного дамата? Нет, даматыши — они скромные, тише воды.
— ...волю своего супруга. Ифигения поедет с вами. Ждите — я прикажу слугам собрать ее в дорогу.
Киваю в ответ. Заберем, кого дадут, — и обратно, в Авлиду. Не ждут дома хозяина, не ждут и боятся. Чует сердце: пока мы лже-Трою брали, ванакт микенский Минотавром сделался.
Берегись, троянцы, — забодаю!
%%%
— Богоравная Ифигения, дочь ванакта Агамемнона! Это не Талфибий объявил. Другой глашатай. Вроде и громко, и торжественно, а все ж-не то. Понятно теперь, отчего Талфибия «покровителем ахейских глашатаев» зовут. Ну что ж, давно пора — ждем тут, ждем...
Обернулся я ко входу.
Увидел,
...Маленькая женщина, вся в голубом, золото волос на плечи льется. И тут меня ударило. Наотмашь. Ослеп я, оглох, умер. Стою мертвый. Беспамятный. Лет триста мне, не меньше. Руки ходуном ходят, поджилки трясутся, в глазах — толченый хрусталь. Не вижу я Елены. Женихи в сто глоток: «А-а-а-ах!» — а у меня дыханье сперло.
— Радуйся, прекрасная! — издали, сквозь туман, сквозь боль и память. — Нас послал твой отец, ванакт...
Тень маленькой женщины сперва на ступенях лежала, складками — поднялась. За Еленой встала. Женщина маленькая, тень большая. Женщина светлая, тень темная. Хуже моего эфиопа. Старуха. Крылья за спиной кожистые, злые...
Очнулся.
Стою, головой мотаю, будто по темечку приложили.
А она уже рядом совсем. Резь в глазах унялась, попустила. Взглянул. Нет, не Елена, конечно. Но похожа! Гарпии меня раздери, как похожа! Золото кудрей собрано на затылке в сетку с жемчугом... пояс аграфом схвачен, тоже золотым, под цвет волос: бабочка с синей эмалью. У Елены, помню, тоже бабочка...
Стою, моргаю — а губы мои с языком за хозяина отдуваются:
— Радуйся, прекрасная! Я — Одиссей, сын Лаэрта.
— Ой, Одиссейчик! — В ладоши захлопала, брызнула смехом. — А ты правда самый хитренький?!
Нет, не Елена. И улыбка другая. И голос писклявый. Откуда у микенского зазнайки дочка на выданье? Ни в мать, ни в отца... Самому-то Агамемнону двадцать пять сравнялось!
В девять лет отличился?!
— ...ой, а я уже все знаю! Все-все! Папочка хочет обручить меня с Лигерончиком! А ты его видел, Лигерончика моего? Какой он? Красивый?
Ага, киваю. Красивый.
%%%
Мамаша богоравная даже проститься с дочкой не вышла. Усадили мы деточку нашу в колесницу, Талфибий Править взялся. Это он молодец: я, во-первых, басилей, а во-вторых, колесничий из меня... И в-третьих, очень уж хотелось поболтать с лже-Еленой. А с вожжами в руках только на дороге колдобины выискивать.
Насчет поболтать все в лучшем виде оказалось. То ли дома ей рот затыкали, то ли еще что, но щебетала без умолку. Вопросы градом. Я отвечать, а она до конца не дослушает — и ну опять расспрашивать. Или о своем трещать. Скучать дорогой не пришлось.
Мне эти дни вечностью показались. Пустой такой вечностью, трескучей.
Ах, Лигерончик — великий герой?! Ах, самый сильный? Самый ловкий? Самый-самый?! Поддакиваю: самый-рассамый. Самее некуда. Ой, как это папочка здорово придумал! Ой, хочу замуж, прямо из пеплоса выпрыгиваю! А почему — помолвка? Почему не сразу свадьба? Да-а, гадкие, вы ведь еще когда-а-а из-под Трои вернетесь... А мне сидеть-куковать! А вы меня с собой возьмите! Мы с Лигерончиком среди бурной битвы возьмем да и поженимся! Ой, прелестно! Заодно и мамочку увижу, как Трою возьмете. Вы ее освободите, она мне на свадьбу колечко подарит, и бусики...
Приехали!
— Как это: мамочку? Как это: освободите?! Твоя мать в Микенах царствует, зачем нам ее освобождать?!
А у самого красавчик-щеголь из головы нейдет. Тайный захват власти?
Почему тогда госпожа ванактисса знака не подала?!
— А-а, — беззаботный взмах изящной ручки мигом разрушает мои опасения. — Клитемнестрочка-душенька — это моя приемная мамочка. И папочка у меня приемный. Мой настоящий папочка со скалы упал. Его Тезейчиком звали, моего настоящего папочку. Он еще буку рогатенького убил, да я забыла, кого именно. Этот рога-тенький деток кушал. А мамочка живая, только ее вечно крадут! Отвернешься — раз, и нету!
Наш возница чуть вожжи не выпустил. Раскатилось над дорогой, по-глашатайски:
— Боги! Так ты... дочь Тезея-Афинянина и Елены?! Выходит, и от него скрывали?
— Ну да! — Девица удивленно захлопала ресницами. — Я думала, Одиссейчик, раз ты самый хитренький, ты все-все на свете знаешь... Мой родной папочка мою родную мамочку тоже похитил. Потом дяденьки -Диоскурики заругались, драться стали... Отобрали мамочку обратно. А позже я родилась.
На миг почудилось: за спиной глупышки Ифигении встает с земли беспощадная черная тень. Простирает крылья: кожистые, злые. Где-то далеко — надрывный детский крик. Кыш, проклятая! Сгинь! Сколько же тебе лет на самом деле, щебетунья-златовласка? Двадцать пять? Тридцать? Когда Тезей похищал Елену?.. Нет, не вспомню. Мы едем по смутной дороге, столбы из тумана дразнятся, маяча вдоль обочин, а за нами на драконьей упряжке, распугивая вереницу теней, замыкая кольцо, мчится из прошлого в настоящее спартанская бойня. Небывшая — желая быть. Лучше поздно, чем никогда.
Ответь мне, внучка Возмездия: может, я просто мнителен?
...мы ехали по смутной дороге...
%%%
Тихонько смеюсь на ночной террасе. Сонмище мужчин, мы были слепы и наивны, подобно юной девице, попавшейся в чаще лихому сатиру. Глядя на растущий живот, она бормочет в ответ на упреки матушки: «Обойдется... сквозняком надуло!.. Съела гнилую смокву — пучит!..»
Бормотали и мы.
«Как это вас угораздило промахнуться мимо Трои?» — спрашивали меня. «Заблудились!» — зло огрызался я, не замечая, не зная и не задумываясь: откуда берется стоголосое эхо? Вскоре многие уверенно пересказывали друг дружке: «Заблудились! Ты понимаешь, брат: бывает...» — а какой-нибудь сволочной аэд уже скрипел стилосом, врезая не царапинами в воск, клеймом на века: «Не зная морского пути в Трою, воины пристали к берегам Мисии и опустошили ее...» — «Как опустошили? — терзали меня докучные. — Союзников?!» — «А кого ж еще, если не союзников? — шутка получалась мало смешной, но на смешную не хватало сил. — Врагов, парни, опустошать хлопотно. И потом, смотришь: ну вылитый троянец! Смотришь, рубишь, грабишь — троянец и троянец! Оглянешься: мисиец!.. А извиняться поздно — опустошил!»
Аэд-невидимка! Ангел мой, ты дописываешь, да?! «...И опустошили ее, приняв за Трою». Кто из нас больше преуспел в помрачении умов? Кто из нас больше виноват: ты или я?! «Я!» — издевательским приговором откликается эхо. Сонмище мужчин, мы были слепы и наивны, как однажды были слепы и наивны Глубокоуважаемые (тогда еще не очень уважаемые и не столь глубоко...), затевая большую войну, путаясь, промахиваясь и опустошая — чтобы в будущем промахи с ошибками нарекли подвигами и едва ли не сотворением мира. Живот рос, приближая время разрешения от тягости; корабль обрастал ракушками, приближая время стоянки на берегу. «Тебе наряд к лицу», — сказал слепой слепцу...
И змеи ползли с алтарей.
АНТИСТРОФА-II
Но нас не помчат паруса на Итаку
Но нас не помчат паруса на Итаку -
В наш век на Итаку везут по этапу...
А. ГаличЧеловек бежал издалека. Была в его беге какая-то несообразность, но определиться не получалось: бегун поминутно скрывался за утесами, чтобы вскоре вынырнуть и припустить дальше по каменистой тропе.
Скоро встретимся, тогда и разберемся.
По левую руку курились дымки. Сизые, облизывали небо: вдруг просветлеет? Вкусно тянуло жареным луком. Здесь, на южной окраине лагеря, растянутого на многие стадии, обосновались триккийцы, а эти без лука дня не проживут. Утверждают, что от ста болячек. Ладно, пусть их... лишь бы морду в сторону воротили. Доберемся до микенской стоянки, сдадим златовласку отцу нашему Агамемнону с рук на руки — то-то радости! Насмерть небось отчима заговорит, вот и не придется плыть воевать.
Все польза.
Бегун неожиданно вывернулся совсем рядом: из-за приземистой скалы, похожей на черепаху.
— Ой, какой хорошенький! — это златовласка.
— Лигерон! — ахнул Одиссей, признав.
Малыш Лигерон был обнажен, если не считать повязки на чреслах. Да, теперь уж точно не считать, потому что свалилась. А малышу нипочем: подбежал, остановился. Дыхание ровное, размеренное. Пламя кудрей по плечам: даже не вспотел. Словно мгновением раньше выйдя из шатра, с хрустом потянулся — затрещали молодые косточки...
— Дядя Одиссей! Дядя Одиссей — это она?! Не скрываясь, заржали в двадцать глоток свинопасы. По-мужски, одобряя. Неймется парню. Вон, даже видно: до чего неймется. Жениховское дело святое. Дядя Одиссей и тот понимает: святое. Иначе б на привале!.. Ох, этот дядя Одиссей, он у нас рыжей рыжего, жениха женихас-тей...
— Она, малыш.
— Моя?!
Ну как тут не улыбнуться?
— Твоя, твоя... Ты чего вперед побежал? Женихам положено в нарядах, со свитой...
Не дослушал. Перебил, глядя исподлобья:
— Дядя Одиссей... а ты ее мне привез?!
— Тебе, тебе. Кому ж еще, если не тебе? Влажный Лигеронов взгляд полыхнул благодарностью. И еще: темным, смоляным облегчением. Лишь сейчас Одиссей ощутил с опозданием: ответь он по-другому, отшутись или уклонись от прямого согласия — малыш бросился бы на них. Как есть, голый, безоружный — против всех.
Быть беде.
Откуда? почему?! — А дитя издалека всхлипывает: быть...
— Взаправду мне? Не Носачу?!
Носачом малыш с самого начала звал Агамемнона. За глаза, а случалось, что и в глаза. На совете, например, с удовольствием вертя в руках жезл, дающий право слова. Микенский ванакт морщился, но прощал. Считал ниже себя гневаться на обиженного умишком. Только и платил, что всегда именовал малыша Ахиллом, забывая имя «Лигерон» — Не-Вскормленный-Грудыо терпеть не мог своего прозвища, мигом закипая.
Сошлись вода с огнем...
— Лигерончик! Миленький мой! — вмешалась Ифигения, спрыгивая наземь трепетной ланью. Ничуть не стесняясь, подошла близко-близко; обожгла вопросом:
— Пошли к тебе, ладно?! В шатер? Аж жарко всем стало. Дочь Елены Прекрасной и сын Фетиды Глубинной. Вот они, оба: серебряная кровь.
— Стой! Стой, дурак! Куда?!
Вскинул Лигерон златовласку на плечо: моя! Грянул окрест боевым кличем: моя! никому! И только пыль взвилась из-под босых ног. ..люди так не бегают. Молнию вслед — отстанет.
А за триккийским лагерем, на подъездах к эонянам — налетели, завертели. Окружили. Свинопасы вокруг колесницы сломя голову кинулись. Встала живая стена, копья наперевес: брось шалить, дуроломы! Пылища столбом, будто толпа Лигеронов разбегалась; копыта, гривы, плащи меховые. Отовсюду: «Кур-р-р!» Ну, раз «Кур-р-р!», раз плащи по жаре, значит, все в порядке.
— Опустите копья! Я кому сказал! Свои! И рядом, глашатайским праздничком:
— Радуйся, Диомед, сын Тидея!
Куреты-верховые (сотни полторы, не меньше!) смешались. В ушах ковыряются. Назад сдали, вертятся в седлах. Один вместо «назад» — вперед. С седла птицей:
— Где она?!
И едва ли не за грудки норовит.
Слез я с колесницы. Вплотную подошел: как невеста к жениху. Да в шатер проситься раздумал: злой он, Диомед. Неласковый. Как в Микены за девкой ехать, так куретов шиш допросишься. А как из Микен с девкой встречать, так целым войском скачет.
— А пожелать мне радоваться? — спрашиваю. Он желваки по скулам пустил. Каменные.
— Радуйся, — так врагу скорой тризны желают. — Я спрашиваю: где она?!
Он спрашивает, значит. Хотел я в ответ спросить: ты за что на меня взъелся, синеглазый? Вместо этого другое сложилось:
— Кто — она? Колесница? Вот стоит, целехонька. Хочешь, подарю?
Зря, конечно. Диомед и вовсе взвился:
— Ты... ты!..
— Ну, я, — отвечаю. — Вы тут что, белены объелись? Меня за троянскую стену приняли? Штурмовать охота?! Сперва Лигерончик за невестой нагишом метется, потом ты, Тидид, как ужаленный...
— Он ее забрал? Забрал, да?!
— Ну, забрал. Ты ж его знаешь, оглашенного, — ведь не силой отбивать?
— Силой! Силой! Проклятье! Ах ты, рыжий Любимчик!..
А теперь он — зря. Какой из меня Любимчик? Чей Любимчик?! Сам себе удивляюсь: с чего б обижаться? — нет, обиделся. Словно подменили нас. Были друзья, а сейчас грызться станем. Серебро в крови продавать, барыш делить поровну. И куреты нахохлились в седлах, «Кур-р-р...» хрипят; и свинопасы мои дорогие теснее сбились, хмурятся искоса.
Обошлось. Полоснул он меня глазищами: наискосок. Сплюнул под ноги. Выругался — и обратно в седло. Да не по тропе, а вдоль берега...
Брызнула галька из-под копыт.
Обернулся я к Талфибию. Плечами пожал. Встречают нас, дескать, с любовью и почетом. Еще стадию проедем — Золотые Щиты явятся, гвардейцы Атридовы. Вовсе сандалиями затопчут. Зачем куда-то плыть? Назначим Авлиду Троей, глаза себе повыкалываем, устроим вслепую потешные битвы.
Кто кого? — Все всех.
Глашатай орлиным носом шмыгнул по-детски. Тряхнул вожжами. А я пешочком побрел, от тоски. За эонийским станом и набрел. Точно, Золотые Щиты. Издалека видно. И микенский ванакт во главе, со скипетром. Следом: критские плащи, желтые с черным, колпаки аркадян, льняные хитоны спартанцев... мечи, дротики, шлемы с гребнями. Навстречу гурьбой валят, глотки дерут.
«Веселая свадьба выходит», — подумалось.
Всласть напляшемся.
%%%
...Память ты, моя память! — струись в чашу черным молоком. Здравствуй, прорицатель Калхант, внук Аполлонов. Отворачиваешься? Я очень прошу тебя: поговори со мной... Мне нужна сейчас ясность твоих совиных глаз, осмысленность узкого лица, изрезанного ножом не возраста — ясновидения. Сейчас я понимаю, каково тебе жить: зная заранее. Помнишь, ты первый прыгнул к нам в колесницу. А я следом — пока не затоптали. Остальные даже расспросить толком поленились: украл? жених невесту?! да какой он, к приапу, жених?!
И с воплями двинули к стану мирмидонцев: где шатер Лигеронов?!
Мы оказались в ядре людского кома. Катясь с горы, обрастая новыми крикунами, плыли «оком урагана» — временным затишьем в сердцевине бури. Я дивился тебе, Калхант: обычно спокойный, ты плевался словами, будто хотел оправдаться за прошлое молчание в шатре. Говори, я слушаю — вчера и сегодня, я слушаю. Хотя ванакт запретил тебе посвящать рыжего итакийца в тайну замысла. Наверное, на его месте я бы тоже запретил.
Меньше знаешь — легче едешь.
Авлида, микенский лагерь (Аргумент)[15]
На рассвете воины взбунтовались. Сперва горячие афиняне, во всем видящие умаление славы предков, за ними бедные, но гордые саламинцы Аякса-Большого, куреты Заречья, гораздые драть глотку по поводу и без;
а там пошло полыхать. Зачинщиком мятежа, как ни странно, оказался мой замечательный Эврилох — успев растрепать направо и налево о нашей поездке. «Обручение?! — надрывалась разъяренная толпа у шатра микен-ского ванакта. — За что кровь проливали?! По домам!» Конечно, большинство осталось у палаток: чесать бока да отсыпаться впрок! Многие вообще из-за удаления не расслышали дерзких призывов. Но даже двух тысяч буянов, в большинстве своем мелких вождей с родичами, оказалось вполне достаточно. Озлобленные неудачей первого похода, в смятении от темных чудес, видя вокруг себя соратников, павших под стенами лже-Трои (рядом же! дротик под ребро!..), чтобы вскоре живехонькими вернуться в Авлиду — для пожара хватило искры.
Вышел к людям Агамемнон — чуть камнями не закидали.
Но, по словам Калханта, случилось дивное: микенец вдруг воздел к небу золотой скипетр, зарницы сорвались с драгоценного металла, и буяны захлебнулись. Грозовая туча?! Нет, просто ветер раздул косматый плащ на плечах Атрида. Леденящий взгляд Медузы?! Нет, просто лик-страшилище с эгиды панциря оскалился в лица мятежников: это тишина? нет, я спрашиваю?! ...А вот это уже тишина.
Мертвая.
Ванакт сдвинул брови:
— И это лучшие из лучших?!
Вопрос заметался меж собравшимися. Вопрос и сам толком не знал, к кому обращен, поэтому хватал за полы одежд всех подряд. «Вы слышите? Внемлете? С открытым сердцем?!» — лучшие из лучших стали исподтишка переглядываться, чувствуя, как языки присохли к гортаням, но в сердце тлеет огонек удовольствия: кто лучший, если не мы? Кто?!
Того мы подвесим вверх ногами между небом и землей.
— Скорбь переполняет мое сердце, — продолжил вождь.
Минутой позже толпа ахнула. Восхищенная. Смиренная. Потрясенная величием микенца: помолвка — всего лишь уловка, дабы не смущать семью ванакта раньше времени. Ибо боги испытывают сердца человеков большим испытанием: ради удачи похода Агамемнону велено принести на алтарь жизнь единственной дочери.
— Вот алтарь! — Скипетр размашисто указал на жертвенник, имевшийся в каждом лагере; сверкнул новым пучком молний. — А дочь...
Слеза вовремя блеснула из-под насупленных бровей. Быть кликам восторга, кипеть страстям, когда б не малыш Лигерон. Прежде стоя в задних рядах, возле опоздавшего к началу бунта «дяди Диомеда», Не-Вскормленный-Грудью просочился сквозь людскую массу, как кипяток — сквозь поздний сугроб.
— Слово! — закричал малыш, от возбуждения растеряв все, что хотел сказать.
— Ты просишь слова? — с отеческой лаской повернулся к нему Агамемнон.
— Слово! Слово ванакта!
И напоследок, уж совсем по-детски:
— Мое!!!
Как ни странно, большинство поняло гнев малыша. А кое-кто даже разделил святое возмущение: обещал дочь в невесты герою — отдавай! Слово ванакта! Последних поддержал Диомед, бешеный в своей ненависти к человеческим жертвам. Зато многие куреты внезапно пошли наперекор синеглазому: «Пусть режет! Дочку режет, да! Маму режет, да! Жену, да! Своя семья, хочу — режу, да?!» Сторонников малыша было меньше, из числа тайно мечтавших о возвращении домой, но вполне хватило для долгих разбирательств... огнем пылал скипетр, тучей ярился плащ, тесней сжимались кулаки.
И никто не обратил внимания, что Не-Вскормленный-Грудью успел исчезнуть.
%%%
Знать бы еще, почему вдруг вспомнился папа? Словно живой: лысый, плотный. Насмешливый. Не у кормила «Арго», в буре — призраком. Не на борту одного из «вепрей», в Лиловом море — ужасом троянского флота. В саду, у грядки. Весной. «А вот это. Одиссей, такая травка... называется „антропос“[16]. Сама чахлая, тоненькая, а корешок (видишь?!) длинный. Вот корешком и цепляется. Топчут ее, топчут...» И мама рядом, на скамеечке. Плащ штопает.
А Пенелопы нет. Наверное, дома, с маленьким.
%%%
...Муравейник. Огромный муравейник, куда злой шутник ткнул горящей веткой. Недаром говорят, что мирмидонцы — превращенные Зевсом в людей муравьи! Глухие шлемы с прорезями лоснятся, выпячиваются бронзой нащечников-челюстей, увеличивая сходство. Но сейчас здесь далеко не одни мирмидонцы[17]. Решили не дожидаться Трои, Глубокоуважаемые? Муравьи из одного жилища друг с другом не дерутся; зато люди...
Знать бы: почему мне все чаще, когда думаю о других людях, на ум приходят — муравьи?!
Звенят мечи, копья гулко ударяют в щиты, взлетает к равнодушным небесам чей-то отчаянный вопль — чтобы упасть сбитой влет птицей. Колесница останавливается, едва не наехав на труп с разрубленной головой. Мы с Калхантом спешиваемся. Орел-глашатай спрыгнул еще раньше; присоединился к своему господину. Мы на самую малость опередили их. Отсюда, с пригорка, лагерь — как на ладони.
— Жертва! Жертва! — несется снизу. А в ответ:
— Слово! Слово ванакта!
Похоже, малыша его люди не поддержали... зато поддержали не его люди.
Бурлить людскому морю. Лязгать бронзовым челюстям, скалиться клыкам жал копейных. Диким пламенем полыхать на солнце (хотя — какое солнце?! Гелиос за тучи спрятался, лика не кажет...). Травка «антропос» сама себя корчует! Вскипает Кронов котел, сыплются в густой пар драгоценные жизни... Скоро ль выкипим без остатка? Грядет ли амнистия?!
У шатра Лигерона схватка вспыхивает с особенной яростью. Часть муравьев отшатывается, бежит прочь, теряя жуткое единство озверевшей толпы, превращаясь в отдельных испуганных существ. Они только что видели, как сражается он — Не-Вскормленный-Грудыо, сын Пелея-Счастливчика и Фетиды Глубинной. Как убивает, играя. Как плоть его расступается под лезвием, чтобы, издеваясь, вновь сомкнуться, не оставив даже шрама. Впрочем, последнее могло ускользнуть от бедняг: малыш сейчас в доспехе. Ясное дело: у всех взрослых дядей панцири-шлемы, поножи-наручи — а у меня?!. То, что морскому оборотню броня лишь в тягость, его не заботит: герой без доспеха, что дом без крыши! А я разве не герой?!
Болтают, ему по просьбе мамочки латы сам Зевс подарил...
Это еще не бойня. Так, преддверие — хотя первая жатва уже собрана торопливыми жнецами. Вон они, поборники нерушимости слова и поборники жертвы во искупление. Вместе, по собственной воле взошли на алтарь. Лежат вповалку там, где застигла их смерть. А сторонники Лигерона перестраиваются в боевой порядок, вперед выдвигают щитоносцев... Ага, это малыш распоряжается. Ничего, вполне толково для трехлетки.
Еще бы: такая игра!.. Дай только время!
Если Крон-Временщик заодно с Глубокоуважаемыми — время будет. А как же иначе! Сколько надо, столько и будет...
Сверху на лагерь валится подоспевшая толпа: Агамемнон со товарищи. Ага, и Диомед здесь, и оба Аякса, и Нестор-хитрюга... Глядеть надо: затопчут! Ф-фу, остановились. Шум, лязг, крики; что орут — не разобрать. Внизу тоже орут. И глохнут, когда над столпотворением — громом Зевесовым, горным обвалом! — призыв:
— Остановись, сын Пелея! Устами глашатая говорит с тобой Атрид Агамемнон, ванакт богоравный. Дочь подвластна воле отца; смертный — воле Олимпа. Смирись, прибереги гнев для врагов!
Мгновение над полем висит звенящая тишина. Или это после глашатайского баса у меня в ушах звенит? Однако ответ Лигерона не заставляет себя долго ждать:
— Слово ванакта! Ты обещал. Носач! И неумолимым итогом:
— Мое!!!
Голос малыша срывается, «пускает петуха» — куда ему до Талфибия! — однако и Лигерона слышно всем. Что за чудеса?!
Нет, не договорятся. Для малыша это — игра! И война, и обручение с дочкой ванакта. А подлый Носач решил сыграть против правил! Поманил новой игрушкой — обманул. Фигушки ему! Играть — так по-честному! Мое!!! А станет Носач дальше жадничать, малыш с удовольствием поиграет с большими дядями в войну.
Какая ему, ребенку-убийце из пророчества, разница: ахейцы, троянцы?
Вот она, упряжка драконья. Примчалась из-под Спарты; вовремя поспела. Вздыбились драконы над пропастью, глаза бешенством горят, а над ними — над нами! — злые крылья Немезиды. Карающий бич Возмездия. На морском берегу, вдалеке от вожделенной Трои; на продуваемом всеми ветрами клочке родной земли под названием Авлида.
...И женщины вина, а не богов, что сгинут и герои, и вожди...
Пучком стрел я засел в каждом: я во всех, все во мне. Люди-муравьи, люди-драконы, люди-игрушки... Люди, забывшие, что они просто — люди! Ведь это же просто! Так просто! Детский плач рвет небосвод в клочья. Вскипает адское варево в Кроновом (Гадесовом? Ареевом? Моем?!) котле; крышку вот-вот сорвет, и кипяток выплеснется наружу, затопив чашу земли. Даже если я останусь жив — моему Номосу не выдержать взрыва. Нет спасительных слов, нет единения моря, песка и неба, любви, безумия и скуки; и предел гремит набатным гонгом, больше похожим на хохот. Он повсюду, отрезая пути в тишину. Некуда бежать, нечем успокоить заходящегося криком ребенка.
Впервые — нечем.
Лишь одно помогает удержаться на грани идущего трещинами Мироздания, удержаться — и удержать его в себе, не дать развалиться окончательно.
Я вернусь.
А раз так, мне должно быть куда возвращаться.
Ослепительная белизна вспыхивает внутри котла, и зрение на миг предает меня. Знакомая резь под веками, звон в ушах, детский плач становится нестерпимым.
Нет, не плач — смех!
Все-таки смех!
Но отчего же от этого смеха мне страшнее, чем от недавнего плача? Или я, безумец, заново схожу с ума?
— ...Не надо ссориться. Не надо драться. Слышишь, Лигерончик? Слышишь, папочка? Я согласная! Приносите меня в жертву. Вот, я новый пеплос надела, беленький, чистенький — богам понравится! Только сделайте все красиво! Где жрецы? Почему не поют гимны? Да что ж вы на меня так смотрите? Я согласная! Зовите жрецов...
Зрение возвращается неохотно, хозяином на пепелище родного дома. Видно плохо. Потому что — слезы. Вам бы толченого хрусталя в глаза сыпануть: зарыдали бы! Кровавыми слезами... Молчи, глупая! Внучка Возмездия, молчи! Ты сама не понимаешь, что говоришь! Боги, неужели она всерьез? Неужели взбалмошная дура вот так, с улыбкой, готова уйти в царство теней ради... ради чего? Чтобы мы сейчас не перерезали друг друга?! Чтобы доплыли до Трои — резать других?! Не верю! Она просто не понимает...
Поздно. Драконы увидели возницу! Как тогда, в Спарте — Елену.
— Назад! Мое!!! — безумствует Не-Вскормленный-Грудью.
Шутники бросили в муравейник большеглазую стрекозу. Э-гей, мураши, что делать будем? Добыча, говорите? А чья добыча?.. Ведь вы не усатые твари, вы — герои богоравные! То-то же, давайте, деритесь!
— Замолчи! — К малышу подлетает воин в иссеченном доспехе; кажется, из недавних сторонников Лигерона. — Она сама! В жертву!..
— Мое!!!
Копье пробило воина насквозь; удар отшвырнул несчастного прямо на лагерный алтарь, мгновенно окрасив камень свежей кровью.
— ...Ну и зря, Лигерончик. Ты, наверное, не понял, да? Это меня надо в жертву, а не его!.. Вот, смотри, какой пеплос! Нравится?..
О боги, заберите отсюда эту дурищу! Куда угодно — в Киммерию, в Гиперборею, на край света, к берегам седого Океана...
И сердце зашлось восторгом: вот оно! Есть выход! Есть дорога в тишину. Есть способ угомонить истерику ребенка там, у предела, оборвать дикий смех, раздирающий мне уши хуже любого плача! Нам нужно чудо. Нам всем необходимо чудо! Ведь сейчас чудеса стали обыденностью, мы видим их по сто раз на дню, забывая изумляться; ну пожалуйста! — маленькое, крошечное, пустяковое чудо: пусть Ифигения сгинет отсюда на веки вечные!..
Просьба? Приказ?!
Шепот? Внутри или вовне?!
Какая разница, если я кричу, кричу во всю глотку — и меня слышат! меня слушают! мне верят! сотни душ подхватывают, делая своим, выстраданным:
— Сгинь! исчезни! На край света! В Гиперборею!.. К эфиопам! В Киммерию!..
Раскрылись в беззвучном вопле: микенский ванакт, тайком проклиная свою затею, побратимы-Аяксы, машет пухлыми ручками добряк-Паламед, вечно притворяющийся стариком Нестор забыл о «кашле» и слабом горле, вспухли жилы на лбу Диомеда...
И Номос раскрылся!
Впервые я увидел его целиком, со стороны — может быть, так видят высоко парящие птицы или Глубокоуважаемые из заоблачных высей эфира. Я видел воды древнего Океана, омывающего края земной чаши, — и там, за этими водами, не было ничего! Я видел причудливо изрезанные берега Большой Земли, опухоль Пелопоннеса, зеленое пятнышко родной Итаки, троянский берег, где ждал меня самый шустрый пергамский копейщик, — и дальше, дальше: восток киммерийских степей, блаженные края эфиопов и гиперборейцев. Край Заката, где начинается царство мертвой жизни...
Одиссей, сын Лаэрта — нас стало двое.
Всего лишь двое.
Один рыжий басилей вместе с остальными, разинув рот, смотрел, как вокруг девушки в ослепительно-белом пеплосе сгущается темное облако; как, заключив в себя внучку Немезиды, морок взмывает ввысь, к затянутому тучами куполу небес, и стремительно уносится на восток.
А другой рыжий басилей тем временем наблюдал из горних высей, как растерянно улыбающаяся Ифигения несется через простор Номоса, перечеркивая его невиданной стрелой — и, лишь самую малость не дотянув до пределов Океана, валится буквально на головы каким-то людям, собравшимся у жертвенника в далекой Киммерии!
Нас было двое — стал один.
Авлида. Лагерь мирмидонцев (Хор)
— Боги! Великие боги! Ее забрала Артемида!
— Афина!
— Зевс-Громовержец, отец благой, внемли с высот эфира...
— Лань! Лань на алтаре!
— Медведица!
— Жертва принята!!!
— Знамение!
И, итогом корифея:
— Вперед, на Трою!..
%%%
Может, кому-то и довелось лицезреть лань Артемиды на обагренном кровью жертвеннике, с которого уже успели стащить убитого малышом воина. Лань, медведицу, светлое копье Афины Паллады или одобрительный кивок Громовержца...
Мне же открылось другое.
Большая, аспидно-черная змея с шипением сползла с алтаря. Оглянулась на меня, дрожа раздвоенным жалом, и разом втянулась в какую-то щель. Обернувшись, я встретился взглядом с Калхантом. Желтые искры на сером фоне. Золото в грязи; волнение на дне бесстрастности. Долго, очень долго мы молча смотрели в глаза друг другу; потом едва заметно кивнули. Нам явилось одно и то же; жаль, я не прорицатель.
Я даже не герой.
ЭПОД
ИТАКА. Западный склон горы Этос;
Дворцовая терраса (Сфрагида) [18]
...Истекаю памятью. Пурпур с серебром.
Раны заживают быстро. Чистые раны вообще заживают быстро: стягиваются края, унимается кровотечение, прошедшее давно приникает к прошедшему недавно, бывшее со мной — к услышанному между делом... Тени жалобно скулят, прячась по углам. Они не хотят пить. Они не хотят вспоминать. Встретить бы того шутника, кто придумал для них (для нас?!) эту вечную, неугодную жажду! — уж он бы у меня напился вдосталь...
Только одна тень всегда рядом.
Мой Старик.
Знаешь, вечный спутник, до рассвета мне надо успеть вернуться. Иначе утром я выйду к ним: к утомленному годами отцу, жене со взрослым сыном, к моим долготерпеливым соотечественникам — я выйду, они увидят меня такого, какой я есть, и возвращение навсегда превратится в ложь.
Ложь под названием: «храм Одиссея Возвращающегося».
Ветер ловит светляков в кронах тополей. Взвизгивает, порезавшись острым краем листа; дует на рану и снова бросается в погоню. Зеленая звезда, берегись — поймает. В бухте пенится вода, курчавясь от удовольствия. В Гроте Наяд летают праздничные кольца, танцуя над призраками нагих дев. Ожидая любящей стрелы — насквозь. Не лги, мой Старик, я же вижу: ты счастлив. Ты знаешь что-то, чего я еще не знаю.
Всему свой срок.
Мне еще только плыть под Трою... мне еще...
%%%
Из Авлиды в числе первых эскадр отбыло чуть больше половины войск. Под командованием мрачного Диомеда, хотя публично лавагетом был провозглашен малыш Лигерон. Он был счастлив. Каверзный Носач решил загладить вину; взамен пропавшей игрушки дал другую. Это по правилам. Вот: скипетр лавагета, и приветственные клики воинов, и венок на кудрявой голове.
Все честно, играем дальше.
Сам микенский ванакт задержался на неделю. Собрать последние силы, дождаться тех, кого время попутало не в пример остальным (ошалелые симейцы с гиртонянами вернулись в Авлиду лишь назавтра после мятежа!).
— Дядя Одиссей, я теперь самый главный? — спросил меня малыш, когда я уже готов был велеть поднимать якоря.
Он нахмурил лоб, став чудовищно похожим на рыжую девицу, каким я видел его на пляже Скироса и честно поправился:
— Ну, почти самый? Да?
— Да.
Лигерон просиял. Ударил меня по плечу от избытка чувств; забыв о титуле лавагета, прошелся колесом — мои свинопасы с одобрением цокнули языками. Никто из них не сумел бы повторить подвиг малыша, будучи в полном доспехе.
— Дядя Одиссей, мне надоело играть. Я устал. Я боюсь, что выиграю.
— Не бойся.
— Дядя Одиссей, здесь скучно. Это плохая игра. Можно, я поиграю во что-нибудь другое?
— Поиграй в царя мертвецов...
Погода была изумительная. Добрый ветер, чистое море и никаких знамений-видений. Любой из гребцов то и дело задирал голову, вглядывался и многозначительно хмыкал. Тревоги с несчастьями остались позади, впереди ждали троянские сокровища, вечная слава и заветная тысяча убитых врагов. Даже мне передалось общее возбуждение. Я радовался, когда мы вовремя миновали Скирос, когда в свой срок по левому борту возникли утесы Лемноса — в сизой, голубиной дымке, на рубеже Фракийского моря; просто и тихо я радовался, не сталкиваясь с буйным «Арго», не видя полета гарпий и трагической смерти Тезея-Афинянина, опрокинутой из вчера в сегодня.
Мой Старик, тогда ты был хмур, сидя на кормовой полупалубе, а я радовался. Сейчас ты радуешься, а я хмурюсь. Мы оба узнали вечную истину. Сунули ее за щеку, словно мальчонка — красивый камешек, подобранный на берегу. Надо уметь радоваться просто так, не заглядывая поминутно вперед и не оборачиваясь через плечо. Иначе в чашу чистого вина щедро сыплется песок предчувствий и глина надежд. Горечь и несбыточность вперемешку. Хлебнешь — зайдешься кашлем. Лучше сначала выпить вино, а глину с песком насыпать потом, в опустевшую чашу.
Ведь это же очень просто?
Первая стычка произошла на малом островке Тенедосе, у самых берегов Троады. Скорее всего, сторожевая застава не успела удрать домой с вестью о нашем приближении. Или не захотела удирать, ибо при виде ахейских парусов у них взыграло сердце. Со скал градом посыпались камни и дротики, пришлось высаживаться — не оставлять же за спиной эту заразу? Позже сказали: тенедосцами комановал родной сын Аполлона. Скорее всего, так оно и было, потому что Не-Вскормленный-Грудью безошибочно отыскал предводителя в гуще рукопашной. И, не тратя времени на других защитников острова, всадил меч ему в грудь.
Мне всегда казалось: у малыша чутье на серебро в чужой крови.
Он, помнится, был единственный, кто обрадовался очередной змее. Заплясал, стал смеяться. В ладоши захлопал. А мы все молча глядели на алтарь, еще не остывший от жертвы. Чешуйчатое тело свилось малым критским узлом поверх освященного камня; откуда явилась змея, никто не успел заметить. «Ужалила! ужалила!..» — не вынеся гнета тишины, завопил какой-то жирный олизонец, жутким диссонансом наслоившись на хохот малыша. Позже этот олизонец спрятался в скалах, угрожая пристрелить всякого, кто потащит его на «проклятую войну».
— Люди боятся, — буркнул Диомед, проходя мимо. — Трусливая скотина утверждает, будто у него — лук и стрелы Геракла. Кому охота подставлять задницу под Лернейский яд?
— Никому, — согласился я. — А у него на самом деле Геракловы стрелы?
— Да вроде бы. Перед смертью подарил, что ли?.. За услугу.
— За какую услугу?
— Костер помог разжечь. Погребальный. Руки чесались выволочь олизонца из укрытия. Но нас ждала Троя. Я спрашивал многих: они ничего не помнили. Высадка на мисийском берегу, который мы приняли за долину Скамандра, начисто выветрилась из памяти большинства. А жаль. Потому что, когда мы подошли к берегам Троады, все случилось именно так, как я предчувствовал.
Как уже было однажды.
...высадка срывалась, под ливнем дротиков, под дождем камней, под ослепительно-синим небом, похожим на чей-то взгляд, только я забыл в суете — чей?.. «Дядя Диомед! — взвилось от эскадры мирмидонцев. — Дядя Диомед! Я! Пусти меня!..», и почти сразу, медным приказом аргосского ванакта: «По вождям! Бейте по вождям!» — кинув через голову перевязь колчана, я ринулся наверх, в «воронье гнездо»...
Змеи на алтарях. Клубятся, плетут сети. Где хвост? Где голова? Не разобрать...
...Я раздавал стрелы легко и празднично, превращая крик в хор, а часть кораблей уже затопила берег, и Протесилай-филакиец первым убил и первым умер, когда копье лавагета Гектора Приамида вонзилось ему в бок, только это не имело значения, ибо малыш Лигерон дорвался наконец до заветной игры...
Кипит вода в Кроновом котле. Варятся щедрые приношения. Где вода? где дары? Не разобрать...
..."Бей по вождям!" — мы били, вознесенные над людьми, и Тевкр Теламонид соперничал со мной в меткости, а мне все казалось: мы стреляем, стоя бок о бок в небесах, хотя мы находились на разных кораблях, и я видел, когда нельзя было видеть, попадал, когда можно было лишь промахнуться, и судорожно пытался понять, зная, что понимать — не для меня...
Вода в котле. Змеи на алтарях. Мы под троянскими стенами. Амнистия скоро кончится.
%%%
Есть места, куда страшно возвращаться. Родные, знакомые места — страшно. До жути, до ледяного кома в животе. Но стократ страшней высадки под Троей, прожитой дважды в мелочах, во всех подробностях, — возвращение в лагерь мирмидонцев, за миг до исчезновения девушки в белом пеплосе. Ведь тогда мне казалось, что есть еще один выход: простой, обыденный, лежащий на поверхности — только протяни руку за иным чудом!
Я едва не протянул руку.
Чтобы взять лук.
...Я, Одиссей, сын Лаэрта.
Я вернусь.
ПЕСНЬ ВТОРАЯ Я НАУЧУ ВАС ВОЕВАТЬ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ!
Одиссей не странствовал по свету
Он всю жизнь просидел в окопах.
Шла война, гремели залпы где-то,
Ожидала мужа Пенелопа...
Ф. КривичСТРОФА-1 Общий у смертных Арей...
Дождь смывал людское непотребство. Дубовые листья шелестели под лаской капель, отдавая впитавшиеся за день крики, стоны и брань. Кроны могучих патриархов вновь становились зелеными, избавясь от суетной пыли, а вода в болотистом Ксанфе[19] как была испокон веку бурой, оправдывая название реки2, так и осталась — тут уж ни убавить, ни прибавить, хоть алой крови плесни, хоть серебряного ихора. В чащах Идских предгорий блуждало затравленное эхо, слабея с каждым новым отзвуком: память битвы искала место для ночлега. Воронье опасливыми струйками дымилось в небе, коптило облака, круто просоленные испарениями моря и боевыми кличами. Птицы боялись поверить в удачу: слишком много людей внизу. Слишком — и мертвых, и живых. Вон, ходят... собирают друг дружку. Плащи на копья, тела на плащи, ношу на плечи — и неси, пока силы есть! Наверное, сами решили пир на весь мир устроить, а бедным воронам опять мотайся в поисках пропитания!..
Окутанный сумерками. Одиссей брел к ахейскому лагерю. Нога за ногу, никуда не спеша. Со стороны Трои. Если лишний раз не озираться, портя себе желчь, можно даже сказать: домой из гостей. Сытый, слегка пьяный; ужасно хотелось спать. Предлагали колесницу — отказался. Пешком, значит, пройдусь; с ветром в обнимку.
Менелай с Калхантом-пророком выбрали колесницу.
Гнушались бить ноги, а вернее сказать: хмель ударил в головы.
Отличная война. Чудесная война. Замечательная. Если кто до высадки опоздал в полной мере ощутить себя героем от роду-веку — ощутил. Выпятил грудь, расправил плечи: я! богоравный! Время от времени грозит кулаком на восток: взойдет назавтра солнце — испугается. Играет в жилах серебришко наследственного ихора, бренчит-пенится. Кипит пузырями. Правда, троянцы благополучно успели запереться в городе, но это пустяки. Возведенные богами стены неприступны, но это тоже пустяки. Приятно воевать с понимающим врагом. Вот, явились послами, кленовыми ветвями махнули — встретили, как родных. Открыли ворота; не дожидаясь глашатайских воплей, собрались на площади перед храмом Афины-Промысли-тельницы. Да, конечно, два дня перемирия. Кто спорит?! Да, разумеется, тела погибших всенепременно надо предать огненной тризне, а души — успокоить поминками. Убитые прежде всего. Мало ли кого убьют завтра? — мы должны быть уверены в светлом будущем наших теней!
Менелай так расчувствовался, что даже предложил покончить дело миром:
— Верните жену, и я все прощу!
Пока готовилась обильная трапеза, обсудили идею. Всячески одобрили: худой мир лучше доброй ссоры. Но беглую супругу не вернули — Парис, знаете ли, возражает, да и вообще. Понимаешь, дружище: теперь-то какой смысл? Не срывать же такую чудесную, превосходную, архизамечательную войну?! Кое-кто даже сгоряча, от всей хлебосольной души, выдвинул ответное предложение: казнить послов по окончании торжественного пира. На всякий случай, дабы ахейцы уж наверняка никуда не делись. К идее упреждающей казни возвращались не раз: под соловьиные языки, под фазанов в сметане. Смеялись. Тыкали пальцами в весельчака: ишь, удумал! казнили их, брат, уже! а чего вышло?! Одиссей смеялся вместе со всеми. Рядом на скамье ерзало ощущение собственного бессмертия, подливая в чашу: налей-ка, братец, вина мне в кубок, пока мы живы, помянем мертвых...
— Дарю! — и драгоценный кубок сменил владельца: седого на рыжего.
Местные рапсоды драли струны и глотки, воспевая силу Трои. Отдали дань союзникам: ликийцам в волчьих плащах, копейщикам-пеласгам, пеонским лучникам. Не забыли и досточтимых гостей (раз перемирие, значит, покамест — гостей). Помянули мощь Аякса-Большого, неукротимость малыша Лигерона, воинское мастерство Диомеда-аргосца. Одиссеево хитроумие прославлялось в паузах: общим числом — трижды. Кругом сидели люди, чьих братьев, родичей, друзей сегодня днем настигали отравленные стрелы сына Лаэрта. И никто! Ни словечком!.. Ни единым косым взглядом!..
Отличная война. Прекрасная. Душевная.
Лучше не бывает.
%%%
Это сейчас я умный. Пусть даже я заблуждаюсь, и на самом деле сейчас я полный дурак, преисполненный козней различных, — все равно. Вороном в небе, сиренью вечерних облаков я парю над собой: маленькая фигурка бредет от Скейских ворот к бухте, где ждут корабли. Мы разделены и в то же время едины: Одиссей, сын Лаэрта, и Одиссей, сын Лаэрта. Наши ожидания обмануты — война оказалась милейшей подружкой. Совсем не старой, крутобедрой, полногрудой: люби, не хочу. Наши стрелы бьют без промаха. Наш удар неотразим. Наши враги обаятельны и предупредительны.
Мы едва не взяли город с первой попытки.
Проклятое слово «едва» мерзко скрипит на зубах. Я иду домой: корабельная стоянка теперь — мой дом. Я парю в небесах: почему бы и нет? Я вспоминаю; я живу заново. Жду бранного праздника: два дня перемирия — малый срок ожидания. «Славно, славно...» — бормочу себе под нос, начиная задумчиво хромать. Действительно славно. Вокруг славы — хоть лопатой греби.
Вокруг герои собирают героев: каждый — своих.
Чужих подберут другие герои.
«...герои выигрывают битвы, но не войны. Думаете, почему великого Геракла наголову разгромили Элиде»
Да, дядя Алким. Я помню.
«...и Геракл отступил; впрочем, как я полагаю, ненадолго, ибо с некоторых пор он все большечел6век и все Меньше — герой».
Да, дядя Алким, я знаю. Веришь, меня однажды сравнивали с ним! — нет, ты взаправду веришь? или только делаешь вид?
«...даже если собрать целую армию героев, каждый из них будет сражаться сам по себе. Это не будет настоящая армия; это будет толпа героев-одиночек. Жуткое, если задуматься, и совершенно небоеспособное образование...»
Да, мудрый дамат. Я вижу.
Ты был прав: чтобы участвовать в Троянской войне, тебе вовсе необязательно размахивать копьем с колесницы. Тебе даже жить для этого необязательно.
"Вот и славно, мой басилей..,
ТРОАДА. Сигейская Бухта. Гераклов Вал
(ХОЭФОРИЯ) [20]
У Гераклова Вала Одиссей замедлил шаги. Сборщики тел сюда еще не добрались, предусмотрительно решив начать издалека, от городскихстен, но здесь и не было много убитых. Так, первенцы кровавой свадьбы. Предчувствие сдавило сердце косматой лапой; гулко застучало в висках. Хмель выветрился, оставив после себя пустоту; и там, в дышащей холодом бездне, начали роиться трезвые страхи. Смерть без имени — не смерть. Ребенок радуется повести о гибели армий, но заходится в рыданиях над могилой родной бабушки.
Вот смерть.
А вот имя: Протесилай из Филаки.
— Ты чего на меня вылупился, рыжий? Не нравлюсь?!
— Нравишься... Ты мертвый, да?
Филакиец лежал на краю полуобвалившегося рва. Скорчился по-детски; поджал колени к груди. Словно пытаясь удержать последние крупицы живого тепла. Так спят на рассвете, когда одеяло сползло на пол, а от залива тянет рыбьим одиночеством — только спящих на рассвете не перечеркивает обреченность копейного древка. Ближе к насыпи валялся, наполовину втоптан в песок, знакомый щит: зеленая звезда на фоне ночного неба. Этот щит прикрывал сбоку лотос-кархесий[21] на мачте «Пенелопы»; во время высадки я сорвал его и, плохо соображая, что делаю, швырнул вниз, под ноги бешеному филакийцу. Кажется, я даже что-то кричал, — надсаживая горло. Может быть, хотелось помочь Протесилаю: свой собственный щит он впопыхах забыл на корабле. Или думалось обмануть воинское суеверие: первая жертва — тот, кто первым коснется вражеской земли. Пусть же под ногами Протесилая окажется не земля — мой щит!
Обмануть не вышло. Иолай Первый, он и здесь оправдал имя.
Иолай-Копейщик — и здесь.
Пожалуй, мой Старик поступил верно, обогнав меня. Я пошел следом за вечным спутником, чувствуя, как время закручивается хороводом одержимых менад: Троада, Гераклов Вал, вечер, бывший возница Геракла с копьем в боку... Зажмурился на ходу, отсчитывая десяток шагов. Еще с детства загадывал: не споткнусь — значит, все будет хорошо.
Споткнулся.
На седьмом.
Убить гидру, крушить амазонок, спускаться в преисподнюю и подниматься в эфир; быть другом и родичем эпохи, могучей эпохи, превратившейся сперва в костистого старика, в плач на окраине Калидона, а потом в дым костра (р-радуйтесь, сволочи!..) — чтобы лечь из-за проклятой бабы и проклятой клятвы на никому не нужном берегу... «Живи долго, мальчик!» — двойное напутствие. «Буду жить долго», — молча поклялся я, открывая глаза. И споткнулся еще раз, потому что увидел: копье торчит рядом с недвижным Протесилаем. Из насыпи.
...не задевая тела.
Ноги превратились в ременные плети. Затаив дыхание, я до рези под веками вглядывался: правда? правда! Кто-то другой уже несся бы слушать сердце, звать подмогу-я медлил, не двигаясь. Живые лежат иначе. Живые стонут. И еще: была в происходящем тайная несообразность, червоточинка, мешавшая действовать вслепую.
Вон, даже Старик ближе не подходит.
Топчется, морщит брови.
— Ты чего на меня вылупился, рыжий? Не нравлюсь?!
Детская тень задергалась на земле. Сперва Одиссей решил, что виновато солнце, моргающее на западе, прежде чем свалиться в седую купель Океана. Но вскоре стало ясно: солнце ни при чем. Тень ребенка пыталась двигаться. Пронзенная дважды — копьем и тенью копья, — она хотела оторваться от недвижного хозяина, прекрасно сознавая всю тщету своего желания. Дети часто поступают так: упрямо, капризно, повторяя обреченную на провал попытку раз за разом...
«...кто первым коснется вражеской земли...»
Это счастье, когда тебе судьбой не дано понимать. Истинное счастье. Ведь тогда ты можешь тихонько засмеяться, подойти и совершить чудовищно глупый поступок. Если хотите, подвиг. Ну скажи на милость, хитроумный Одиссей, зачем тебе понадобилось выдергивать из насыпи копье? Не знаешь?! Правильно делаешь. Просто выдерни и выбрось. Без смысла, без раздумий и колебаний.
Отброшенное в сторону копье упало мягко, еле слышно.
...А тень копья осталась. Тень копья, и пронзенная ею тень ребенка, отбрасываемая взрослым мужчиной.
Почти отброшенная; как и копье — прочь.
— Ты мертвый, да?
Вот тогда-то мой Старик подошел, взялся обеими руками — и, откинувшись назад всем мощным телом, выдернул тень из тени.
Копье из мальчишки.
%%%
Память ты, моя память. Лучше бы мне все это приснилось. Странный человек, впервые встреченный в Спарте, ничего не значил для меня. Мать, отец, жена, сын, друзья и случайные попутчики... нет. Не из моей жизни; из другой, где гидры. Я его даже попутчиком затруднюсь назвать: филакиец торил свой путь, давний, скользкий, и на этом пути мне отводилось мало места, как ему — на моем. Иногда кажется: сон, бред... темная греза.
Сон о детской тени и тени копья в руке моего Старика.
Бред о малом кенотафе, который я выстроил тут же, на щите с зеленой звездой вместо фундамента. Сбегал к излучине Скамандра за водой, накопал жирной глины; камешков вокруг и без того навалом...
Темная греза о тризне, когда я отпел убитого Иолая, трижды назвав его по имени, — и на третий раз дитя-тень доползло до рукотворной гробницы. Встало сперва на коленки, затем во весь свой малый рост... исчезло.
Чувствуя себя мокрой тряпкой, я обернулся.
— Ты чего на меня вылупился, рыжий? Не нравлюсь?!
— Нравишься... Ты мертвый, да?
Филакиец уже не лежал. Сидел, потирая левый бок. Насмешливо глядел на меня, только насмешка его была... Фальшивая подделка. Нас, безумцев, не проведешь. А по обе стороны Протесилая, уже безо, всякой насмешки, истинной или ложной, смотрели они; мой Старик и тощий бродяга-Ангел.
Вопрос без ответа и ответ без вопроса.
А я вдруг захихикал. Нет, ну смешно ведь: словно в два бронзовых зеркала гляжусь... в два кривых зеркальца... смешно!
— Ты посмейся, — разрешая, сказал Ангел. Почесал хрящеватый нос и кивнул своим мыслям. — Посмейся, а потом иди спать. Ничего не было. Ничего ты не видел. Понял?
— Нет. Не понял.
Ангел резко встал; шагнул ко мне. «Стой! Зачем?!» — толкнулось вслед предостережение воскресшего филакийца, но Ангел остановился сам.
Правая рука его удлинилась.
Змеи с жезла зашлись яростным шипением. А я, дурак дураком, стою на смутной дороге; хихикаю. Нет, ну смешно ведь: змеи! шипят! то с алтаря лезут, то на жезле вьются! Чистый гадюшник! Зачем-то потянулся домой, на Итаку; взял лук. Мне его любимый дедушка подарил. Повертел-повертел, даже тетиву натягивать не стал. Обратно бросил.
«Нарушивший клятву черными водами Стикса бог на год погружается в мертвый сон и на девять лет изгоняется из мира живой жизни. Никто и никогда не слыхал о клятвопреступниках, вернувшихся после отбытия срока наказания...»
— Ничего не было, — с нажимом повторил Ангел, бледнея. — Ничего ты не видел. Понял?
— Нет.
— Почему?
— Я не умею понимать. Извини. . Исчезли змеи, исчез жезл. Синие глаза Ангела мерцали странно; удивленно мерцали они и еще чуть-чуть опасливо. Словно хорек-самец увидел хореныша с ядовитыми клыками. Гордиться бы, да не получается.
— А что ты умеешь?
— Слышать умею. Видеть. Чувствовать и делать.
— Меня слышишь?
— Да.
— Нас видишь?
— Да.
— Что чувствуешь?
— Спать хочу.
— Что собираешься делать?
— Не знаю.
— А когда узнаешь?
Я зевнул во весь рот. Ответил:
— Когда сделаю.
И едва удержался от смеха, глядя" как Ангел в растерянности разводит руками, оборачиваясь к довольному Старику. Потом они ушли — двое. Ангел и филакиец. А тени у филакийца больше не было.
Совсем.
Потом ушли и мы со Стариком.
Спать.
...ответы — убийцы вопросов. Я молодец. Я их всех перебил.
Ахейцы обустраивались на берегу.
Основательно, надолго.
Будто приплыли сюда навеки поселиться, а не взять с ходу коварный город — мысль эта, шустрей любого копейщика, ткнулась в печень шипом ядовитого ската. Дядя Алким говорил, бывают такие копья: с шипами вместо наконечника. И исцеления от нанесенных ими ран нет. Кое-где еще чадят погребальные костры. Едкий дым стелется по земле: помните? помните нас?! Нет, не помнят. Живым — живое: скорбь вчерашней тризны уступила место будням войны. Стук топоров, хлопанье полотнищ; от сложенных наспех очагов вкусно тянет бараньей похлебкой. В ответ чмокают голодные лопаты — вокруг лагеря, под веселую брань, копается ров. Пахнет разрытым курганом. Сырость щекочет ноздри. В рыхлых пластах копошатся личинки; перерубленные пополам, дождевые черви с философским спокойствием живут дальше.
— Дурость! — презрительно цыкает сквозь зубы Аякс-Большой. Обнаженный по пояс, играет умопомрачительными мышцами. — Пустая работа! Мы сюда что, окапываться приехали?!
И, по-бычьи раздув ноздри:
— Я герой или крот?!
Верные Аяксовы прихлебатели кидаются воспевать мудрость Большого. Добросовестно, с закатыванием глаз. Ясное дело, герой. Ясное дело, никак не крот. Не мышь, не землеройка. Не червяк дождевой. Лучше бы воспевали силу... ага, и до силы добрались. Сравнивают с Гераклом — не в пользу последнего. Поднатужась, расхваленный вдребезги Аякс рожает идею: по-быстрому укрепить остатки Гераклова Вала. До сих пор сохранился, значит, крепок старик. Проходя мимо. Одиссей предлагает великолепному Аяксу облачиться в доспех его тезки, Аякса Малого.
— Так лопнет же! — растерянно несется вслед. И много позже, сердитым рыком:
— Копайте, сожри вас Цербер!
Из буковой рощи ползет вереница телег, доверху груженных бревнами для будущего частокола. Насколько помнится, вчера роща казалась заметно гуще. Так через неделю в округе все гамадриады сдохнут! А ведь надо и харчами озаботиться. Запасы подъедают — за ушами трещит! Впрочем, если по справедливости, голова в первую очередь должна болеть у милого друга, Диомеда Тидида. У лошадей и ванактов головы большие, есть чему разболеться. Кто у нас главный, до прибытия микенских кораблей?! — Скажете, горе-лавагет в лице малыша Лигерона?
Глупость скажете: этому лишь бы мечом вдоволь помахать...
В третий раз обходя лагерь, рыжий итакиец с удовольствием отмечает: сказано — сделано. Вон, в самом Гамадриады— древесные нимфы, рождающиеся вместе с деревом и умирающие с его гибелью. Просто дриады — нимфы-покровительницы деревьев; от жизни конкретного дерева их жизнь не зависела. В центре: будущая площадь народных собраний — ее сейчас как раз утрамбовывают. А рядышком: Одиссеев шатер.
Молодцы свинопасы... как и воткнули-то, в теснотище?!
Стан ахейцев блудливой псицей выгнут вдоль побережья. На многие десятки стадий. Хвост свернулся калачиком вокруг южных дюн Сигейской бухты; морда ткнулась в вечно мокрые скалы Ройтейона, на северо-востоке. У псицы как раз течка: устье Скамандра, впадающего в море, рассекает лагерь на две неравные части. В самом интересном месте: ближе к бухте. Здесь вовсю суетятся мирмидонцы, под злобный звон науськанного троянцами комарья. Ищут броды, налаживают через реку дощатую гать для колесниц. Рядом с ними, по обе стороны реки. Одиссей, к собственному удивлению, обнаруживает аргосцев. Почему ставка временного командующего не в центре?! — Мудрит что-то синеглазый Диомед...
Или тылы себе обеспечивает, про запас?
— Наддай! Еще раз!
— Бревна! Бревна волоки!..
— А пошел ты...
Одиссей спешит повернуть обратно, едва сдерживая желание зажать уши ладонями. Или грозно прикрикнуть на человеческий табор: цыц! языки оборву! Странно. Шум и толкотня неизбежны при обустройстве лагеря — откуда раздражение? Налет брезгливости?! В конце концов, люди делом заняты, за что их бранить? Испуганной гадюкой злоба ползет прочь. Оставив мускусный, дрянной осадок.
Между живыми бродят тени убитых, чьи тела еще не успели предать огню. Некоторые, плохо сознавая свою скорбную участь, подсаживаются к очагам. Заглядывают живым в лица, пытаются завести разговор. Созерцание душ вчерашних соратников не вызывает в собственной душе ничего. Совсем ничего. Ни сострадания, ни жалости — разве что легкая, едва уловимая грусть мимоходом коснется плеча, чтобы облачком унестись вдаль. Привык. Если с детства видишь их перед собой — поневоле привыкнешь.
И все-таки... равнодушие пугает.
Пара гулящих покойничков увязывается было следом, но Старик начеку. Одного его сурового взгляда из-под насупленных бровей хватает: отстали. Топчутся на месте. А для верности Старик грозит вслед тенью копья.
На северном фланге рыжий задерживается: проведать своих. А дальше, у Ройтейонских скал, чуть не падает, споткнувшись на ровном месте: отсюда видно стоянку саламинцев Аякса-Большого. Не крота, не землеройки; героя из героев. Видимо, насмешка оказалась кстати: прониклись. Ровные, в ниточку, ряды палаток, ров с валом и частоколом уже готов, дозорные бдят, а прихлебатели вовсю копают малые канавы под корабельными днищами.
Скоро закончат.
— Эй, богоравный! Рыжий, кому кричу — иди к нам обедать!
Зная гостеприимство Большого, Одиссей притворяется глухим. Аякс ведь пока не накормит до отвала и не напоит допьяна — не отпустит. Тратить остаток дня на пирушку? Жалко. До темноты надо успеть оглядеться.
Взобравшись на вал. Одиссей садится на корточки, вольно или невольно подражая Стариковой привычке. Сам не заметил, как пришла она: скука. Шелест песчаной осыпи. Взгляд Далеко Разящего — змеиный, обманчиво-небрежный. Так скользит в траве гибкое тело: мимо. Сухость во рту; ледяная бритва вместо рассудка. Рыжий успел слегка подзабыть это состояние, и сейчас скупо улыбается старой знакомой — скуке.
Троя желанной красавицей возвышается впереди. Елена с кожистыми крыльями, она горделиво оседлала спины рабов-холмов: пологие спереди, по краям холмы белеют меловыми отвесами. Отсюда, с расстояния в добрых тридцать стадий, возведенные богами стены не кажутся столь уж высокими, а кручи, охраняющие Трою с боков — столь уж непреодолимыми. Но вблизи это выглядит иначе.
Любой посол всегда чуть-чуть лазутчик.
Хочешь — не хочешь, а брать город придется по-геройски: в лоб. Наступая через гостеприимную западню долины — иначе не подойти. Хорошо было на Итаке штурмовать Семивратные Фивы: отвлекающий маневр, ложный приступ, удар в тыл... Может, и здесь удастся? Пехота двинется обходными тропами; да и куреты на их злющих лошадках... Зато колесницы — никак. Не говоря о том, чтобы тащить через горы осадные лестницы... На юге, за руслом Скамандра, начинаются лесистые утесы Иды, вплоть до Гаргарской вершины, где в свое время обретался петушок-пастушок Парис.
С севера тоже особо не развернешься: холмы. Умный город Троя. Как на ладони, а кулак сожмешь — вопьется ядовитой занозой. Вот оно, раздолье для толпы героев! Приманка для серебряного ихора в алой крови. Меч из ножен — и вперед, только вперед, на стены! Сам Зевс меня не остановит!..
— ...Герой Капаней из Аргоса так и сделал. Ого-го, и на стенку...
— Ну и как?
— Похоронили героя Капанея...
Да, дядя Алким. Я вижу. Знаешь, это работа для нас — научить героев воевать по-человечески. Спросишь: «Почему?» Не спросишь? И правильно сделаешь. Потому что больше некому. Потому что работа — грязная.
Потому что им все равно, а мне надо вернуться.
Меня ждут.
АНТИСТРОФА-1 Есть страшное чудовище, Ахилл...
Есть страшное чудовище, Ахилл, -
Жестокое Забвенье. Собирает
Все подвиги в суму седое Время,
Чтоб их бросать в прожорливую пасть...
В. Шекспир, «Троил и Крессида», монолог ОдиссеяУ одного из костров бродячий аэд вовсю потешал собравшийся народ. Глумился над ротозеями-троянцами, похабничал:
...жены ни одной между тем не найдя, Приам сокрушался, стеная. А жены, за стражами спящими бдя, Бежали в лесок, мокрый после дождя, Где их уже ждали данаи...Воины ржали молодыми жеребцами, напрочь позабыв, у кого на самом деле увели жену и из-за чего все они собрались под этими стенами.
Одиссей присел на огрызок бревна. Перед глазами маячила тощая спина Ангела: бугры позвонков выпирали рыбьей хребтиной. Вернулся, никуда не делся. И даже песню новую состряпал — знает, что мужикам после боя по вкусу... Интересно, а где сейчас Протесилай? Даже самому себе рыжий боялся признаться: судьба воскресшего филакийца здесь ни при чем. Если хорошенько попросить (умолить?! пасть в ноги?! назвать прадедом?!) Ангела, то, может быть, удастся переслать весточку ей: приходи, пожалуйста... мне плохо без тебя, крепость, сова и олива! — приходи...
Аэд грянул завершающий припев, роскошно обыграв созвучие «Приам-приап». И под восторженные клики удалился, прихватив честно заработанную баранью ляжку. Как ни странно, никто из слушателей не пытался удержать его, требуя песен.
— Эй, Ангел! — Рыжий шагнул следом.
Аэд дернулся, словно от толчка в спину. Медленно повернулся: волчьей повадкой, всем телом. Никогда раньше Одиссей не видел Ангела испуганным. По-настоящему испуганным.
Как сейчас.
— Это ты мне? — неприятным голосом осведомился певец.
Очертания его колыхнулись, взялись туманом по краям... отвердели снова. Смешные дела: никакой бабочки на носу у Ангела нет, а все равно чудится — сидит. На самой переносице. Растопырила цветную слюду крылышек, затопила весь мир половодьем красок. Это как же устрашиться надо, чтобы весь мир в глазах — цветной, яркий, а некий Одиссей, сын Лаэрта, в тех же глазах — наоборот.
Черное с белым.
— Ты видишь рядом еще одного Ангела?
— А ты? Видишь?!
Аэд затравленно огляделся. Несколько человек повернули головы в их сторону. «Давай еще! Про баб!» — Красавчик-афинянин вдруг осекся. Мотнул головой, будто докучливую муху отгонял... снова вперился в Одиссея с певцом...
Когда Ангел кинулся бежать, рыжий не стал его останавливать.
Рядом, опираясь на копье, стоял Старик. Глаза Старика блестели зорко и с необычным для него интересом — как перед этим у самого Одиссея.
...Война для меня — в первую очередь люди. И во вторую — тоже. Не оружие, кони, деревья, башни города: люди. Остальное проходит краем, не привлекая внимания; не задевая души. Война вытаскивает наружу подлинное естество. Благородство или подлость, отвагу или трусость: умножая втрое. Вдесятеро. Естество, когда оно снаружи, дурно пахнет; особенно — подлинное. Да, люди. Наверное, потому сейчас вокруг меня полным-полно теней. Словно Одиссей, сын Лаэрта, в одиночестве стоит под тысячами, мириадами солнц, на смутной дороге. Знай я заранее...
А что толку?
%%%
Утро ворвалось в шатер криками чаек, ленивой, беззлобной руганью соседей по лагерю, отдаленным шумом прибоя. Говорите, конец перемирию?! Ждет поле брани, говорите?! — и нечего галдеть спозаранок: троянцы вон тоже не очень-то спешат за стены.
Десятый сон досматривают.
Если честно, воевать хотелось еще меньше, чем вылезать из-под нагретого за ночь одеяла. Детская греза: нет под одеялом войн-битв, бед-напастей, главное, носа наружу не казать. А уж из шатра соваться... Только где оно, милое детство? Сунулся. И первое, что увидел: добрых три, если не четыре эскадры отчаливают от берега. Последние остатки дремы мигом выдуло из головы: уходят! Кто допустил?!
И сразу, отчаянным ребячьим взвизгом: клятва! Моя клятва!
«...клянусь всем, что мне дорого: не позволить ахейцам уйти из-под стен Трои до конца! До самого конца, каким бы он ни был!..»
К счастью, Эврилох попался мне раньше, чем Диомед, в ставку которого я мчался — не разбирая дороги, полуголый, провожаемый сочувственными взглядами: небось хитроумие в башку треснуло!
— Радуйся, басилей! Ты куда?
Вцепился я в земляка, будто утопающий — в обломок мачты. Не отодрать. Сорванным дыханием, кровью сердца в ответ:
— ...суда уходят! Люди уходят!..
— Ну?
— Что «ну»?! Бежим к Диомеду!
— Так это... — а он все моргает и пялится на меня искоса, как Персей на Горгону Медузу. — Их Диомед и отправил.
— Кого «их»?! Куда отправил?!
— Лигерона с мирмидонцами. Гульнуть вдоль побережья, союзничков троянских тряхнуть. Провиантом запасутся — и обратно. Мы-то скоро зубы на полку...
Приятель по детским играм рассказывал не торопясь. С расстановкой, со знанием дела, смакуя каждое слово. Вот кто был рожден воевать под Троей. Вот кому здесь нравилось. Нравились байки о подвигах, блеск меди и бронзы, грубые солдатские шутки. Нравилось удачное начало войны: ведь высадились, несмотря ни на что?! Ну, не взяли город с лету: еще лучше! Повоюем всласть — иначе как он, веселый Эврилох, убьет обещанную тысячу врагов и стяжает себе вечную славу? За один-то день замахаешься столько народу укладывать... А сейчас ему доставляло искреннее удовольствие просвещать своего басилея: ведь он, проворный Эврилох, уже все-все узнать успел — кто отплывает? куда? зачем?! — а друг-басилей, вишь, почивать изволят.
Вот и откроем ему заспанные глазки: не. бегай, как угорелый, по лагерю! Сам с ума не сходи и народ не будоражь!
...Спасибо тебе, Эврилох Клисфенид, друг мой. Румяный, шумный жизнелюб, ты пировал на развалинах Трои, ты убил свою тысячу врагов — пусть будет тысяча, ты так этого хотел... Я хотел вернуться, .а ты — убить. Ананка-Неотвратимостъ справедлива, воплощая мечты в жизнь: мы получили, чего желали. Вся Итака будет оплакивать тебя. Наверное, в твоей гибели есть и моя вина: прости, если можешь. Пей вволю кровь моей памяти, другдетства, пока есть время до рассвета...
— Эх, незадача! Я с ними просился, а меня к тебе, за разрешением! А ты спишь! А теперь — поздно!..
Он тараторил без умолку. А внутри меня угасал раскаленный горн вулкана. Еще плевался в небеса облаками, пепла, еще шипели, вздымая клубы пара, сползающие в море остатки лавы (я никогда не видел извержения: откуда такая яркость?!) — но буйство огня уже шло на убыль. Ахейцы и не думают возвращаться домой. Просто малыш Лигерон весело отправляется грабить побережье.
Все в порядке.
Моя клятва остается в силе. Я не нарушил ее.
%%%
Отплывали мирмидонцы долгов то ли ветер боковой мешал, то ли на мель сесть боялись. Смотришь из-под руки в сторону Ройтейона — плывут. Вот-вот за мыс завернут, из глаз скроются.
Завернули.
А чуть погодя еще разок в ту сторону взгляд бросишь: снова они за мыс заворачивают! С третьего-четвертого раза шепотки по стану загуляли: знамение! Чудо! Вот только к худу, к добру ли?! Угрюмого, как ночь, Калханта достали вконец. Отмалчивался ясновидец. В конце концов, корабли скрылись за мысом окончательно, и народ вздохнул с неясным облегчением.
Рано вздохнули.
«Тревога! — запели с вала флейты дозорных. — Враг в поле!» И завертелось: рвут глотку глашатаи Диомеда, трубят рога, спешат к переправе через Скамандр колесницы и афинская пехота (уйдя в поход, мирмидонцы оголили , почти весь южный фланг). А вот Диомедовых куретов не видать; гетайры тоже скучают. Бережет свое войско аргосец. И Одиссей побережет. Без нас управятся: троянцы не валом валят. Так, походя силу пробуют, а мы уж все пальцы в один кулак! Вон, Аякс Теламонвд в поле бушует, не терпится Большому! — пускай отведет широкую душу.
Одиссей издалека видел богатырскую фигуру Аякса. Облаченный в сверкающий золотом доспех, наглухо закрытый щитом-исполином, поднять который не достало бы сил ни у кого. Большой походил на ожившую башню. Страшен, медлительно-неистов. Вдохновленные примером вождя, его бойцы тоже не ударили в грязь лицом. Троянцы дрогнули, попятились, — и тут из-за дальних холмов, с многоголосым воем и гиканьем, выплеснулась полноводная людская река.
Киконы, как потом скажет Калхант. Союзники Трои.
Другого он не скажет, пророк: откуда взялись?! Ведь не было там ни души!..
Дальше стало не до раздумий. Аяксовы саламинцы спешно отступали, сам Большой, воздев утыканный дротиками щит, прикрывал отход — но долго им не продержаться. Зудели флейты, разнося приказы, дружины пилоссцев и спартанцев двузубым копьем выдвигались на равнину — и, одолевая вал, протягивая руку на Итаку, где в нетерпеливом предчувствии трепетал его лук. Одиссей мельком оглянулся.
В залив входили корабли. Много кораблей. Неужели отъезд Лаэрта-Садовника «в деревню» пошел прахом, и могучий троянский флот все-таки ударил в тыл с моря? В следующий миг над передовой триаконтерой взвились две львицы на голубом: стяг микенского ванакта!
Хвала носатому!
Опустевшая утром стоянка мирмидонцев принимала суда, будто изжаждавшаяся пустыня — дождь. По сходням грохотали сотни пар ног: люди Агамемнона прямо от весел шли в бой.
С воды — в огонь.
— Бей по вождям! — взлетел над полем вечный клич Диомеда.
Значит, путь домой очень прост: надо бить по вождям.
%%%
— ...Вы неправильно начинали. Дело не в силе. Дело не в
мастерстве. Дело совсем в другом; в малом. Просто надо очень любить этот лук...
Роговой наконечник скользнул в ушко тетивы сам собой.
— ... Очень любить эту стрелу...
...О да! Просто надо очень любить этот лук! Плавный, но мощный изгиб, тепло костяных накладок, отдающихся ласке пальцев, упругую силу тетивы, прямое древко стрелы с бронзовым жалом на конце — гладкое, любовно отполированное мастером, созданное, как птица, для полета! Надо всем сердцем любить своего врага, связанного с тобой шелковой нитью полета стрелы: ведь ты даришь ему наиценнейший дар — блаженную эвтаназию, легкую смерть! Враг, друг, любимый мой, ты даже не заметишь... Они не замечали.
Спотыкались посреди боя. Валились наземь скошенной травой. Запоздало понимали: да, все... Счастливцы, им от рождения было дано: понимать. Один, другой, третий... лица проступали сквозь забрала шлемов: рыжий стрелок ясно видел эти лица — размазанные по бронзе, ставшей вдруг прозрачной. Кривые зеркала: рты распялены криком, мешки под глазами, желваки на скулах. Только глаз почему-то не было. Только глаз. Лицо всплывало из пучины шлема, а вместо взгляда так и оставалось — щель прорезей.
Острое, будто нож в печени, упоение пронизало рыжего. Светлое и губительное, как восход солнца в пустыне. Азарт охотника, который не оставлял места для любви — к луку ли, к стреле, к добыче... К добыче?!
— Это твой лук. Его даже украсть нельзя — хозяин руку протянет...
— А что еще он может ?!
— ...А еще он может из хозяина раба сделать.
Рука с луком упала осенним листом. Выскользнула из пальцев, тщетно мечтая о полете, очередная стрела. И сразу, оказавшись ближе других, бородач-кикон в иссеченном панцире обернулся к рыжему — словно в спину его кто толкнул!
Верные свинопасы не оплошали. Брошенное копье отбили двумя щитами; но из орущего, звенящего месива уже выламывались другие, спеша к стрелку, отказавшемуся стрелять.
Одиссей очнулся.
Где-то далеко заливалось безумным смехом дитя его Номоса. Запрокидывались к небу края земли, гудя под сандалиями киконов: рыжий видел эту землю-чашу глазами бородача, чью шею навылет пронзила стрела, все-таки дорвавшись до вожделенной цели. Да, он стрелял: без радости, без любви, даже без азарта — на одной скуке, ледяной необходимости. Он стрелял, хохотало дитя, и в детском смехе Одиссею слышались отзвуки недавней одержимости убийством. Удержать этот смех в отдалении! не пустить в себя! — откуда-то рыжий знал, что этого делать нельзя, как нельзя было отвечать Ламии-упырихе в давней" почти забытой, едва ли не прошлой жизни. Стоит лишь ответить, впустить — и ты погиб, ты больше не принадлежишь себе, Ламия затопчет тебя ослиной ногой с медным копытом и выпьет всю кровь...
— Кажись, отбились...
Голос у плеча сорвал с глаз багровую пелену. Швырнул обратно в «здесь» и «сейчас» — Одиссей обнаружил, что стоит на чужой колеснице, впившись белыми пальцами в костяную накладку лука. Оба колчана были пусты, а впереди лежала вспаханная нива, выбросив Наискось в небо пернатые ростки стрел.
Славные всходы..
— ...Вы неправильно начинали. Дело не в силе. Дело не в мастерстве. Дело совсем в другом; в малом. Просто надо очень любить этот лук...
Бывалые свинопасы, косясь на неподвижного басилея, шли трудиться: раздевать убитых. Собирать урожай.
%%%
Осиное гнездо, не лагерь. Но гневный голос Агамемнона слышен издалека: громом над жужжанием. «Порядок наводит», — дернул щекой Одиссей, пересекая площадь народных собраний.
— ...За год! за год!! за целый год!!! Один несчастный городишко взять не смогли! Ров они выкопали — сатирам на смех! Вал они насыпали, труженики! Где добыча, я тебя спрашиваю?! Где жена моего брата?! Пока мы... в жестоких боях... все западное побережье... хвала богам — троянский флот как корова языком!..
От сердца малость отлегло. Знаем мы этих богов.
Знаем мы эту корову.
— А вы туг... что вы тут?! Диомед, я не с молокососа Пелида спрошу! Я с тебя, красавца, спрошу! Уже спрашиваю!..
Одиссей обогнул спешно устанавливаемый шатер микенского ванакта. И узрел Агамемнона во всей его красе и гневе. Синеглазый Диомед, грязный, как не знаю кто, торчал столбом напротив старшего Атрида: в двух шагах. Хмурился исподлобья, молчал. Но и взгляда не отводил.
Что еще больше распаляло праведный гнев носатого.
«Какой год? Что он городит?..» — Мелькнуло в голове.
...Вру сам себе. Да понял я уже все, понял! Не умею понимать, а понял. Чего там! Быстрей мне шевелиться надо. Быстрей кипеть, быстрей булькать...
Мелькнуло — ушло. Но, видимо, у дураков мысли сходятся: один из соратников Диомеда (все вылетало, как звать: плечистый такой, белокурый!) не сдержался.
Шагнул вперед:
— Хоть ты и вождь вождей, Атрид, да только...
На плечо белокурому тяжко рушится Диомедова рука; разворачивает плечистого лицом к сыну Тидея-Нечестивца. Всего два слова, которых Одиссей не расслышал, и белокурый, гневно пыхтя. Отходит. Агамемнон с презрением косится на обоих; делает вид, что ничего не случилось.
Суета ниже достоинства вождя вождей.
Жаль, не всем оказалось так легко заткнуть рот. К примеру, Аяксу-Большому. Вкусившему битвы и потому гордому по самое темечко. Этот на всех ванактов (да хоть и на самого Громовержца! — подумалось невпопад) чихал с присвистом!
— У тебя, дружище, видать, в пути голову напекло, — басит Большой. — Окунись в море, остынь! Попробуй-ка сам за...
Шевеля вывороченными губами, Аякс начинает загибать пальцы:
— ...За четыре дня Трою взять! Ты их стены видел, Атрид?! И хватит заливать: в жестоких, понимаешь, боях! Небось островок вшивый по дороге разграбили...
— У меня голову напекло?! — обычно бледное, лицо Агамемнона наливается дурной кровью. — У меня?!!
Кажется, ванакта микенского сейчас хватит удар. Однако пока не хватает. Крепок носатый. Ишь выпрямился:
— Хоть и невместно ванакту Микен препираться с иными, кто ниже и родом, и честью, — все же взгляни, о Аякс меднолобый, на эти суда боевые, с коих сгружают и горы добычи на берег, и пленников толпы сгоняют! Глянь, прикуси свой язык, дерзновенный, не знающий истинной славы!
Вот это да! Вот это заговорил! Отродясь за носатым красноречия не водилось: где и награбил-то, по дороге? Даже Аякс не полез сразу драться, как следовало ожидать, а подобрал отвисшую челюсть и послушно уставился в предложенном направлении. Трудно сказать по части всего остального, но насчет «гор добычи и толп пленников» ванакт ничуть не преувеличил! Под охраной микенцев на берегу уже сгрудилась не одна сотня испуганных рабов, а свободные от караула воины споро таскали из трюмов какие-то мешки, тюки, сундуки, пифосы...
— Вшивый островок, значит? — прищурился Агамемнон, крайне довольный произведенным впечатлением. — Четыре дня, значит?
И неслыханное дело: Аякс прикусил язык. Жаль, миг «истинной славы» всегда кто-нибудь да испортит: посреди общего замешательства, чесания в затылках и дерганья бород к Агамемнону подбежал один из его гвардейцев. Шепнул на ухо: так, мол, и так.
Старший Атрид слушал, и лицо его снова бледнело изломом мрамора.
— Кажется, я слегка погорячился, — наконец с неохотой произнес вождь вождей, соизволяя вновь заметить бессловесного Диомеда. — Вы тут, смотрю, тоже не совсем... не зря...
Истолковать смысл неожиданного поворота в речах ванакта Одиссей даже не пытался. Не его это дело: истолковывать. Его дело: видеть, откуда прибежал ретивый гвардеец, и тихонько уйти с площади...
%%%
Со стороны Идских предгорий идут люди.
Много людей.
Без оружия, без доспехов; зато обремененные тяжелой поклажей. Пленные. Следом, мыча, блея и взмекивая, пылят нескончаемые отары овец, стада коз и коров; круторогие быки — по бокам. Все это изобилие медленно, но верно приближается к ахейскому стану в сопровождении бдительной стражи. Сомнений нет: возвращаются мирмидонцы, долго и нудно отплывавшие с утра!
Рыжий прибавляет шагу. Вокруг — родина.
Вокруг — безумие.
Ближе, еще ближе. Порыв ветра относит в сторону облако пыли, поднятой множеством ног, и вот перед изумленным Одиссеем предстают усталые, закаленные в сражениях ветераны. Победа и добыча сопутствуют героям; на лицах мимо воли проступают улыбки.
— Радуйтесь, славные воины!
— Радуйся и ты, — с достоинством отвечает вислоусый игумен. Говорить ему трудно: мешает свежий шрам на щеке.
— Долго добирались?
Вопрос родился сам. Из плеска волн далекого моря любви, из сухого шелеста песка скуки, из чуть слышного детского... смеха? плача? — не разобрать.
— Да с неделю тащимся. Обоз не котомка, за плечо не кинешь!
— Лигерон послал?
— Кто ж еще... Едва первый город с налета взяли — он и скомандуй: возвращайтесь. Мол, наши там без жратвы небось загибаются. Мы и пошли. Будто в спину кто толкал, торопил. Как тут у вас? С голодухи еще не мрете?!
— Живы пока. Вовремя вы...
Игумен— «глава ряда», воинское звание, примерно соответствующее пятидесятнику.
Одиссей молча идет рядом со счастливыми мирмидонцами.
Огромный медный котел кипит на огне. Вот в него падает ахейский флот: куском парной говядины — на дно, на побережье Троады. Шумовкой снимается пена: уходит в небо дым погребальных костров, бредут прочь тени по смутной дороге. Чужая уверенная рука сыплет в пар и кипенье орду киконов — горсть соли в похлебку. Эй, повар, спохватись: лук забыл! Лук и жизнь, понимаешь, одно! Нашлась и связка ядреных луковиц: подходят к берегу эскадры Агамемнона. А это что за юркая рыбка норовит выпрыгнуть из варева? Суда малыша Лигерона? Вернуть!.. Ага, рыбка успела вцепиться зубами в другого малька — добро, и его туда же: пылит через горы отряд мирмидонцев, спешит, гонит стада, табуны, пленных. Опоздать в котел боится. Кипит, пузырится варево, само Время мясным наваром бурлит, исходит паром, утекает водой меж пальцев — на то и Кронов котел, чтоб временем истекать.
Много ли кипяточку осталось? Пока похлебка досуха не выкипит, пока дно не обнажится?!
%%%
Когда на закате из-за Ройтейона показались новые эскадры, сил удивляться уже ни у кого не осталось. Малыш Лигерон возвращался с добычей, в блеске воинской славы.
Народ вяло потянулся к берегу: глазеть на разгрузку.
И силы нашлись-таки. Не просто удивились. Ахнули взахлеб: с флагмана эскадры сошел бородатый герой в пурпуре и золоте. Багряные крылья плаща, самоцветы в розетках витой диадемы, вспышки перстней: топаз, агат, аметист... Так ребенок хвастается обновкой перед сверстниками и взрослыми.
— Дядя Одиссей!
А хватка у малыша еще крепче стала...
Огненная борода местами бита осторожной сединой. Кожа обветрилась, слегка шелушится. Первые борозды еще плохо заметных, особенно в сумерках, морщин. От уголков глаз разбегаются смешные трещинки... А сами глаза: прежние. Девичьи. Звезды.
— Дядя Одиссей! Как вы тут? Трою взяли?! Нет?!! Как же это вы...
Действительно. Как же это мы?
Поставь любого из вождей, не считая Нестора, рядом с малышом — за старшего брата малыш любому сойдет.
— А я и Фивы взял (у них тут тоже Фивы есть!), и этот... как его? — В хрипловатом, взрослом голосе Лигерона звучит неприкрытая гордость. — А вы: частокол, и все? А я Фивы взял... Ты чего такой грустный, дядя Одиссей?! Это даже хорошо, что у вас не вышло: я хотел сам, да все опоздать боялся...
Искренность детской улыбки озарила бородатое лицо:
— Успел!
Этот день тянулся куском мокрой сыромяти. Не день — вечность.
СТРОФА-II
Время разбрасывать камни
— Это не война, — сказал Калхант, утирая пот с лица.
— А что это? — спросил рыжий. Снятые с убитого копейщика поножи были впору, но с ремнями следовало повозиться. Распустить, переставить витые пряжки...
— Не знаю. Но это не война.
Прорицатель встал за спиной. С интересом глядел, как Одиссей, ободрав ноготь и выругавшись, ковыряет ножом язычок пряжки. Лучше б птичек разглядывал, болтун. Вон, микенский ванакт который раз его распекает прилюдно: почему не извещает заранее, откуда грянет беда?! Кто у нас пророк, в конце концов?! Меньше всего рыжему сейчас хотелось обсуждать с Калхантом: война, не война, и если нет, то как называется?! В душе бурлило, затихая после боя, новое ощущение. Алое, будто хлещущая из жил кровь; серебряное, словно ихор, хлещущий из жил.
Из одних и тех же жил: твоих.
Еще со вчерашней стычки с меонами рыжий остро чувствовал людское месиво — пузырями в котле. Каждый пузырь — Номос. Отдельный, самодостаточный:
земля под ногами, небо над головой, отец с матерью, семья, друзья... боги, которым веришь!.. люди, которым веришь... не веришь? — что ж, твое дело, но изменит ли это хоть малую долю в тебе самом?.. Вряд ли. Одиссею мучительно не хватало слов, чтобы облечь чувства в ясный и яркий наряд, но это было именно так.
Котел на огне — кипящий Космос.
Пузыри на воде — люди Номоса.
Вспухают (рождение?), мечутся (жизнь?!), сталкиваются со смыслом и без. Два пузыря слиплись в один: земля под ногами, небо над головой — в целое. Лопнули. Ушли жарким паром в никуда; студеной росой упали обратно — крошечной, не сознающей себя частью бывшего целого: друзья, которым веришь, боги, которым веришь... или не веришь. Скоро родиться на свет новому пузырю. Двум. Трем. Многим.
На наш век пузырей хватит.
«А если нет?» — оперся на тень-копье Старик.
— Это не война, — упрямо повторил ясновидец. И наклонился из-за плеча: близко-близко. Сверкнули совиные глаза — желтое на сером. Одиссей задохнулся: там, в глубине, кипел на огне котел-великан, и золотые искры сталкивались друг с дружкой.
— Ты ведь местный? — невпопад спросил рыжий, моргая.
— Да. Был. Пока не сбежал. Теперь я предатель.
— Ну и ладно. Ты вот лучше скажи мне: позавчера — кто был?
— Пафлагонцы.
...Память ты, моя память! Я пересыпаю их песком в горсти — пять дней ожившей сказки. Или шесть?.. Нет, все-таки пять. Самая лучшая в мире сказка: про войну. Не верите? — спросите любого мальчишку. Сказка, басня, детская возня в саду («А за меня ручной циклоп!..») — и глупо требовать разумных объяснений: откуда взяться циклопу и почему он ручной? Таковы правила детства: не разум бездействия, а увлечение игры. Мы играли в самую лучшую на свете сказку. В великую войну. Счастливые дети, мы даже перестали пороть дозорных за нерадивость. Убедились: будь ты Аргусом-тысячеглазом, тебе ни за что не отследить явление троянских союзников. Все чисто, из-за холмов — ни пылинки, и вдруг: как снег на голову. Какие-нибудь пафлагонцы на запряженных лошаками колесницах или толпа вопящих пращников со стороны Гигейского озера. Умом понимаешь, что это невозможно — хорошо вооруженное подкрепление не собрать за одну ночь, не успеть перебросить на помощь осажденному городу! — но разве дети делят сказку на «возможное» и «невозможное»?
Герои, мы играли взахлеб, ежедневно выигрывая битву за битвой.
Ведь настоящие герои выигрывают битвы, а не войны.
— Крепко дрались. Хорошо, малыш подоспел... опрокинул.
— У нас говорили...
Прорицатель закусил губу. Видно, вспомнил собственное: «Теперь я предатель». И твердо закончил:
— У нас говорили: «Упрямство лошака и упорство пафлагонца — одной породы». Ты прав: малыш подоспел вовремя. Его грудью не корми, дай повоевать...
Злая шутка, пророк. Впрочем, твое дело.
Пряжка наконец поддалась. Скрипнула, двинулась вдоль по ремню. Одиссей вздохнул с облегчением. Славные поножи, дорогие: с железными щитками в виде жутких рож. Очень страшно, если упавшему с земли смотреть.
Если сверху — не так.
— Ты хорошо стреляешь из лука, — сказал Калхант, часто-часто моргая. — Лучше всех. Наверное, лучше Тевкра Теламонида. Кто тебя учил?
Одиссей хотел ответить, но раздумал. Ясновидец, мастер вопросов, меньше всего нуждался в ответе. Просто дал понять: он видел, как рыжий бьет из лука, вскочив на чью-нибудь колесницу. Он видел, странноглазый Калхант, а больше — никто. Итакиец уже успел заметить: бьешься копьем — всем видно, рубишься мечом — всем ясно, камни мечешь-тоже...
Берешь в руки лук — отрезало. Удивляются: стрелял? этот, рыжий? что, правда?!
— Ты хорошо стреляешь, — повторил Калхант. Он сегодня все время повторял: скажет и повторит. Не разговор, а чистое тебе эхо в горах. Будто думает о другом и, едва произнеся, забывает собственные слова. — Ты стреляешь, как дышишь. Как любишь. Кто тебя учил? И почти сразу, быстрым шепотом:
— Не надо! Молчи... Я вижу. О да, я вижу!..
— Туда смотри, — Одиссей ткнул пальцем наискосок вверх. — Там птички летают. И видь себе, сколько влезет. А мне поножи надо чинить. Мои вчера совсем... а, чтоб тебя! Порезался из-за болтовни твоей дурацкой!..
— Помнишь, ты на меня кинулся? — спросил Калхант, обжигая дыханием затылок. — При первой нашей встрече?
— Да помню, помню... Твоя охрана еще котомку у меня сперла. И сандалии. На медной, между прочим, подошве.
Улыбка примерзла к сухим губам пророка.
Впиталась в каждую трещинку.
— Нет, ты иначе вспомни. Вот я еду, вот ты — невесть откуда, внезапно; потом — драка, и мои солдаты, в синяках, но гордые, удаляются. Ничего не напоминает?
— Ничего. Слушай, дай закончить! Тебе что, больше поговорить не с кем?!
— Не с,кем. Ты и сам прекрасно знаешь: не с кем. Сплошные герои.
— А мы с тобой? Не герои?!
— Мы — нет. Я пророк-предатель. Ты — дурак. Одиссей хотел было обидеться: шумно, напоказ. В ухо дать. Послать к Ехидне. Только — «Дурак! Дурак!..» — отдалось в сказанном Калхантом знакомой насмешкой. Как он только что шептал, ясновидец?
«Не надо! Молчи... Я вижу. О да, я вижу!..»
— Ходил к Патроклу, — продолжил Калхант, словно не замечая творившегося с рыжим. — Думал: он изгнанник, как я... не герой — спутник героя. Думал, поймет.
— Ну и как?
— Никак. Почти понял.
— Как мы почти взяли Трою?
— Ага. Вот и выходит, что народу тьма, а поговорить не с кем. Ты все-таки вспомни, ладно? Вот я еду, вот ты — внезапно...
...Вчера внезапно свалились меоны. Закидали камнями, до подхода основных сил вступили в резню с пилосскими дружинами; потом успели нырнуть в Трою, под защитой башенных лучников. Позавчера — пафлагонцы. Долина вскипела колесницами, чуть позже малыш опомнился: налетел, смял, опрокинул... Остатки пафлагонцев втянулись в город, отдав неистовому оборотню на откуп раненых и отставших.
Перед тем: ликийцы. Волчий вой, кривые ножи... один гад, раненый, укусил меня за ногу: сзади, под коленкой.
Перед ликийцами: варвары-кары.
И всякий раз мы, в синяках, но гордые очередной победой, возвращались в лагерь. Растаскивали добро из чужих котомок, обували сандалии на медной подошве, хорошие сандалии, удобные... и телегами возили бревна из лысеющих рощ — для погребальных костров.
Выигрывая битву за битвой.
Проигрывая войну.
Уходили дымом в лазурь сыновья Геракла, Истребителя Чудовищ. Внуки Персея-Горгоноубийцы и Беллерофонта, победителя Химеры. Племянники Тезея Афинского, потомки аргонавтов. Полубоги, боги на треть, на четверть, на восьмушку, на одну десятую...
Беда, говорят, пахнет дымом.
А победа?
Весь ужас был в другом: мне начинало нравиться так воевать. Быть лучником-невидимкой, пузырем среди пузырей, сильным среди слабых. Заставлять других лопаться и уходить паром в небеса, отчего чувство собственного бессмертия становилось остро-жгучим, вырываясь боевым кличем!.. Я — приношением! — кипел в Кроновом котле, а чужое серебро кипело в моей крови, выжигая алый, бренный рассвет.
Еще чуть-чуть, и я не смогу отказаться. Пять дней я ни разу не вспоминал о жене. Даже ночью. О сыне. Папа, о тебе я не вспоминал тоже. Мама, прости меня; пожалуйста, брось сердиться. Дядя Алким — память ты, моя память!.. — ты единственный, кто поймет. Не моя вина. Не моя война.
— Это не война, — сказал Калхант.
И ушел.
Одиссей не стал его останавливать. И догонять не стал.
Зачем, если он прав? — это не война.
%%%
А ночью случился дождь. Слепой. Да знаю, без вас знаю: это он днем слепой. Когда капли и солнце с ясного неба. А ночью? Когда капли — и звезды: влажные, страстные?! Месяц на боку?! — Вот я и говорю: слепой.
Нечего придираться.
Лежу я в шатре. Слепой. Темнотища, ни звезд, ни месяца, один шелест по ткани, только я все равно их вижу: всех. Вместе. И отдельно: зеленую, яркую, над Идой. У меня на Итаке ее сестричка болталась, за утесы падала. Помню.
Помню...
Помню, медной вас наковальней!
Вру я, если честно. Забываю. Сжался мой Номос в горошину: хоть внутри, хоть снаружи. Было море без берегов, стала вода в котелке. Был целый мир в медном панцире, стал крутой кипяток. Лежит великое войско в Троаде — слепое. При красном солнышке, при желтом месяце. Валяется лепешкой в пыли дорожной, а его (ее?!) с краев подгрызают. Изо дня в день. Кому не лень, да не лень-то много кому. Народу валом: с востока подойдут, с запада, с юга-севера — а лепешка одна. Что бедной-обгры-зенной делать? Как спасаться?!
Не иначе, самой зубы отрастить.
Я представил себе эту красоту: ужаснулся. Скачет в пыли чудо-лепешка — грязь броневой коростой налипла, не подступишься, пасть клацает, слюна течет... Люди врассыпную. А лепешка за ними: к-куда?! загрызу!
Вот и лежи, думай: как из толпы героев зубастую лепешку сделать? С чего начать? С кого?!
Лежу. Думаю.
— ...Стой! — снаружи. Задушенно так, чтоб лагерь не всполошить. — Стой, кому говорю! Клеад, держи заразу! И шипящим всхлипом:
— Моя не зараз! Моя не держи!
— Твоя?! Клеад, веревку!
— Моя к хитромудрыя Диссей! В-ва!.. Не бить моя в ухо!..
Привстал я на локте:
— Что у вас там?!
ТРОАДА.
Ахейский лагерь, угол площади для народных собраний, Одиссеев шатер (Стихомифия) [22]
— Моя бить больно-больно! За что?!
— Клеад, заткни ему рот!
Плавает огонек: ломтик света в малой лампадке. У входа, скрученный дозорными свинопасами в три погибели, стоит на коленях юркий человечек. Волчья шкура вместо плаща, шлем из грубой кожи, с длинными, ниже плеч, наушниками. От человечка кисло воняет конюшней.
— Говорить будешь тихо. Понял? И только когда тебя спрашивают.
— Да-да-да! Моя тихо-тихо! Моя только-только!
— Кто ты? Убийца? Зачем крадешься ночью?!
— Да-да-да! Моя — добрый убийца! Добрый-добрый!
— Тебя подослали убить меня?
— Нет-нет-нет! Моя — убийца не твой!. Чужой!
— Дальше!
— Моя — фракийца-лазутчик! Да-да-да! К хитромудрыя Диссей от лучший друзья хитромудрыя Диссей!
— Дальше!
— Дальше с глаз на глаз... надо-надо с глаз на глаз!
— Клеад?
— Да, мой басилей? Заткнуть поганцу рот?
— Нет. Оставь нас.
— Мой басилей...
— Ты полагаешь, сын Лаэрта нуждается в няньке? В шатре — двое. Слышно, как недовольный Клеад снаружи распекает стражу: чтоб мышь! — и вообще... Человечек шустро ползет к ложу; замирает на середине пути, вжав затылок в плечи. Сдергивает шлем. Его лицо раскрашено полосами: охра и грязь. Голова брита наголо, лишь густой чуб падает на ухо.
Вонь конюшни становится гуще.
— Говори.
— Хитромудрыя Диссей любить золото?
— У тебя есть золото?
— Быть золото. Мешок. Теперь золото быть у злой-злой гадюка Клеад...
— Эй, Клеад!
Понятливый свинопас мигом возвращается. Матерый пират, в прошлом гроза трех побережий, в руке он держит увесистый мешочек. На виду. Брякает, потряхивая, добычей.
— Вот, мой басилей! Только что сыскали, за шатром. Выронил, должно быть, скотина вонючая...
— Сам скотин! Сам-сам вонючая! Да-да-да!
— Оставь нас, Клеад. А ты продолжай.
— Хитромудрыя Диссей любить жизнь?
— Любить. А еще, больше золота и жизни, хитромудрыя Диссей любить мучить болтливых лазутчиков. Мучить да-да-да?
— Нет-нет-нет! Лазутчик — язык друзья! Нет-нет-нет мучить язык друзья! Лазутчик — жизнь и золото!
— Чего ты хочешь?
— Фракийца-убийца — бояться великий боги, дружить великий Троя! Хитромудрыя Диссей бояться великий боги?
— Бояться. Очень. Дальше!
— Хитромудрыя Диссей дружить великий Троя? Он дружить — золото! Он дружить — жизнь!
100
— Против кого дружить станем?
— Великий Троя бояться страшный Не-Ел-Сиська! Хитромудрыя Диссей в оба глаз смотреть: где Не-Ел-Сиська? Шептать моя, моя шептать великий Троя!
— Ты шутишь?
— Нет-нет-нет! Друзья говорить: Хитромудрыя Диссей сказать да-да-да! Большой голова, все понимать! Жить хотеть очень да-да-да!
Одиссей встает. Человечек утыкается раскрашенным лицом в ковер. Так они и остаются в темном, ночном Номосе: один стоит, головой под рукотворное небо шатра, другой юлит на четвереньках, пряча взгляд.
Червь у ног божества.
Моля о предательстве.
%%%
...Отращивать зубы лепешка должна начинать с себя. Со своего краешка. Выдавливать героя по капле — с себя. Брать Трою — с себя самого.
Скучно. Холодно.
Спокойно.
Что сделал бы на моем месте Геракл, предложи ему грязный фракиец измену? Разгневался бы; придушил мерзавца. Назавтра бы даже не вспомнил. Это по геройски. Значит, гневаться не станем; не станем и душить. Пузырь в кипятке, я медленно плыву вокруг другого пузыря: жалкого, ждущего лишь мига, чтобы лопнуть. Троянцам позарез надо знать заранее: на каком участке боя возникнет неуязвимый малыш Лигерон? Похоже, они это знают и без меня. Потому что: позарез. В прямом смысле. Но лишний наушник не помешает. За это от съеденной лепешки в конце оставят две-три крошки: черстветь до старости.
В награду.
...Начинать воевать по-человечески — с себя. Подло. Грязно. Белые крылья победы с изнанки воняют конюшней. Это хорошо, что лазутчик омерзителен, — так будет легче. Так будет: сразу. И никаких белых крыльев. Согласиться?! Взять золото?! И начать снабжать «великий Троя» ложными сведениями... День, два, может, неделя — и обман раскроется.
Ключ к победе, ключ к предательству, ключ ко всему — малыш Лигерон в поле. Жаль, еще не нашелся замок к этому ключу.
Найдется.
Скука окутывает меня ледяной броней. Лед искрится, топорщится острыми иглами... наконечниками стрел. Я вдруг ощутил с, ясной отчетливостью, что люблю этого жалкого фракийца — который, заплати ему, ни на минуту бы не задумался, всаживая мне нож в спину. Я люблю его за чистую, как слеза, подлость не-героя; я люблю его за смешную уверенность в родственной подлости всех остальных. Он ведь искренне верит, что я — такой же; а я истово хочу стать таким же, потому что иначе мне не вернуться. Вот он, предо мной, на четвереньках, грязным лицом в пол — мой очередной недосягаемый идеал. Дома ждут три жены, самая младшая опять в тягости, живот огурцом, значит, мальчишка, а бабка каркает, что роды будут трудными, и сосед угнал из табуна лучшего жеребца, надо идти резать соседа, только ножей не хватит, их надо купить, ножи и руки, значит, нужно золото: эта война — чистый клад, разбогатею, вернусь, зарежу соседа, угоню весь его табун, младшая жена родит мальчишку — будем пить-гулять, пойдем в набег, ночью, ночью лучше всего...
Фракиец дернулся, замер.
Это я велел ему замереть. Без слов. Господин — рабу? Хозяин — псу? Нет, иначе. Так человек велит не двигаться собственной руке: даже не замечая, что велит. Пузырь коснулся пузыря, и в месте касания двое срослись в одно. Иголочки скуки протянулись, надорвали тонкий слой; стрелы любви впились в цель. Я никогда не чувствовал это так, но скука не позволяла удивляться.
«Слушай, а почему, когда ты рассказываешь — мне хочется верить и соглашаться?!»
...начинать — с себя.
— Кто тебя послал на самом деле?
— Паламеда. Моя честно-честно: Паламеда.
Да. Это честно. Сейчас он не может обманывать меня.
Не хочет. Может и хочет совсем другое: верить и соглашаться, отвечать правду, только правду, ничего, кроме правды, — или ничего, кроме лжи, которую я велю назвать правдой. Даже не заметив, что уже велю. Что со мной? Что с ним?!
Какая разница, если отращивать зубы надо начинать с себя...
— Мой любимый шурин Паламед Навплид служит троянцам?
— Да-да-да! Любимая шурин посылай брехать: хитромудрыя Диссей служить тоже! Жизнь! Золото!
Золото... Нет, не продался бы эвбеец за золото. Своего навалом. А вот жизнь — другое дело. Вполне по-человечески: покупать свою жизнь за жизни других. Если при этом еще и золотишко перепадет — что ж, тем лучше. Паламед-лепешка отрастил себе зубы раньше меня. Он хочет жить; хочет вернуться.
Неужели он хочет вернуться больше меня?!
— Троя большой стенка! Высокий! Стенка боги ставил; человек пальцем нет-нет-нет ломай! Троя враг режь-режь, в море топи-топи. Троя друг золото давай! Домой плыви, золото вези — да-да-да?!
— А почему мой любимый шурин Паламед не пришел ко мне сам? Почему прислал тебя?
Ни один герой никогда не стал бы задавать лазутчику подобные вопросы. Да еще и рассчитывать на правдивый ответ — без пытки. Впрочем, за пытками, если понадобится, дело не станет...
Что со мной? Что?!
И все-таки: неужели Паламед хочет вернуться сильнее, чем я?!
Страшная штука: ревность.
— Х-ха! Паламеда хитрый делишка делать! Сейчас к Агамем-ванака ходи, да-да-да!
— Зачем?
— В волосатый ухо плюй-шепчи: хитромудрыя Диссей — измена! Великий Троя помогай, про Не-Ел-Сиська болтай-болтай! Золото давай — золото бери. Агамем-ванака сюда бегом беги, воины беги, много-много. Моя сюда видеть, золото видеть, хитромудрыя Диссей бей-убивай — да-да-да! Паламеда хитрый, сильно-сильно. Меня потом отпускай, золото давай!..
Я спрашиваю — он отвечает.
Преданно и честно.
Сейчас он просто не способен врать, раскрашенный фракиец, от которого несет конюшней и которому очень нужно золото Паламеда. Что-то творится со мной, что-то болезненное, острое, раздирающее душу, словно десны, в кровавые клочья, — наверное, растут зубы.
...начинаю — с себя. С себя.
— Ты пришел один?
— Х-ха! Зачем один? Целый ладонь брат-фракийца рядом жди! Вся ладонь криком кричи: «Да-да-да! Мы троян-золото хитромудрыя Диссей неси! Хитромудрыя Диссей — измена!»
— Сейчас ты их позовешь.
— Да-да-да! Я зови! Я...
— Замолчи. Позовешь, когда я скажу. Откидываю полог шатра:
— Клеад!..
Без потерь не обошлось. Фракийцы отбивались, как бешеные крысы. Одного мои свинопасы сгоряча зарубили, да еще Клеада пришлось перевязывать: плечо рассекли и щеку. Ладно, что ни делается — к лучшему. С трупом и раненым все будет выглядеть куда убедительней. Раскрашенного лазутчика связали за компанию: он вертелся, помогал вязать... руки подставлял.
Приказав стеречь пленных, я направился к шатру
Агамемнона.
Спасибо тебе, Паламед, за этот урок. За последний твой урок.
— Теперь ты будешь меня ненавидеть?
— Нет. Я буду тебя любить. Как раньше. Я умею только любить.
— Наверное, ты действительно сумасшедший...
Наверное. Я не держу на тебя зла, я люблю тебя, мой шурин: ты показал мне, что и как надо делать, если действительно хочешь вернуться. По-настоящему. Спасибо тебе. Я — хороший ученик, я отплачу учителю по достоинству: его же золотом. Будь хитрее хитрого, будь подлее подлого, обрати ловушку против ловца — только тогда сможешь победить: подло и грязно.
По-человечески.
...Начинать надо — с себя. Ты начал, эвбеец. Ты показал свои новые зубы — теперь мой черед.
%%%
Я встретил их на полпути. Словно домой вернулся, на Итаку, когда они ждали меня, безумца, внизу: оба Атри-да, притвора Нестор... зато Аяксов тогда не было и микенских гвардейцев.
И Паламед сейчас не держал в руках моего сына.
— Горе, ванакт! — кричу издалека, вместо исконного пожелания радоваться. — Горе! Измена в лагере!
Нет, любимый шурин. Я не дам тебе вставить ни словечка. Дергайся, разевай рот выброшенной на берег рыбиной...
— Верный Паламед уже сообщил нам об измене! — Сквозь высокомерие в голосе Агамемнона пробивается растерянность. Лицо микенского ванакта — золотая маска с прорезями для глаз. Маска бросает масляные блики в отсветах факелов, и кажется: она шевелит губами. Но это только иллюзия. В Микенах такие маски кладут на лица умерших правителей, прежде чем отправить тело на погребальный костер. Ты уже умер, Агамемнон? Это твоя тень говорит со мной?
Но даже если ты — всего лишь тень ванакта, я отвечу тебе.
— Проклятый Парис тоже приезжал гостем, а не вором! Скорее, вожди! Скорее! И мой шурин срывается:
— Не верьте лгуну! Он заманивает вас в ловушку! Лучше спросите его о фракийцах, о троянском золоте — я видел, я все видел!
...начинать — с себя.
Ты кричишь, мой любимый шурин. Ты гневаешься, значит, ты не прав. Я ведь еще не назвал твоего имени, а ты уже кричишь, хрипишь, брызжешь слюной. Смотри: ты теряешь лицо. Мало-помалу исчезают губы, нос, брови, глаза — словно морская волна, накат за накатом, стирает с прибрежного песка детский рисунок. Я люблю тебя, Паламед, человек без лица. Я забираю твое лицо, забираю и делаю своим, а тебе суждено безликим сойти в Аид.
Видишь, какой бывает настоящая любовь? Тебе бы моего сына на руки, Паламед. И обнаженный меч. Кровь бьется в висках. Или это взахлеб смеется дитя у предела?..
— Кто громче всех кричит: «Держите вора!»? — ни к кому не обращаясь, кашляет в бороду Нестор. И добавляет равнодушно: — Неужели богоравный ванакт Агамемнон страшится пройти лишнюю стадию? По собственному лагерю?!
%%%
Память ты, моя память...
Нестор Пилосский, седой лжестарик. Он поседел в ранней юности, узнав об истреблении всей своей семьи Гераклом. И занял опустевший трон Пилоса, первым делом воздвигнув храм Гераклу Мстящему; занял надолго. Многие из нас годились Нестору в сыновья; двадцатилетние — сорокалетнему. Почему бы и нет? В конце концов, большинство из нас погибло, как и сыновья этого седого, вечно кашляющего, согбенного и до сих пор живого пилосца. Я помню, он всегда старался не подходить близко к малышу Лигерону. На площади собраний, во время совета, в бою, в шатре — чем дальше, тем лучше. Умница: если твой родной брат был таким же морским оборотнем, как Не-Вскормленный-Грудыо, а Гераклы редко оказываются под рукой в нужный момент...
Что ж, у каждой лепешки — свои зубы.
Главное — вернуться.
%%%
— Этих фракийцев схватили мои люди. Один погиб при сопротивлении. Начальник моей охраны Клеад ранен... Меня слушают. Внимают каждому слову. Я не есть все, но я есть во всем... во всех.
— Вот это нашли у лазутчиков. — Срываю завязки с кожаного мешочка. Золотой дождь, весело звеня, сыплется под ноги собравшимся. Смешно: хеттийские шекели, те самые «деньги», которые якобы придумал эвбеец. — Паламед обвинил меня в измене. Это худшее оскорбление, какое я знаю. Поэтому по праву оскорбленного я прошу у тебя, Атрид Агамемнон, дозволения задавать вопросы. Если ты сочтешь, что я спрашиваю не о том и не так, — можешь прервать меня в любое мгновение. Польщенный Агамемнон благосклонно кивает:
— Я дозволяю. Одиссей. Спрашивай. А мы послушаем.
— Ты. Да, ты, раскрашенный! Отвечай: кто послал вас сюда? Кто дал вам золото?
Лук и жизнь — одно. Два пузыря в кипятке — одно. Два Номоса — одно.
— Паламеда.
Дружный, изумленный вздох за спиной,
— Ты уверен? Ты знаешь его в лицо? Здесь ли он?
— Да-да-да!
— Если здесь — покажи!
Нет, я не заставляю фракийца лгать. Я даже не заставляю его говорить правду: он говорит ее сам, как если бы рассказывал все самому себе. Или мне. Для него больше нет разницы.
— Паламеда! Да-да-да! — лазутчик обеими связанными руками указывает на эвбейца, невольно отступающего назад.
— Зачем он послал вас ко мне?
— Наша давай-давай хитромудрыя Диссей золото! Говори про страшный Не-Ел-Сиська! Долго-долго говори! Паламеда к Агамем-ванака бегом беги, кричи: измена!
— Ложь! Он подкупил их!.. Он давно меня ненавидит, он...
Ничего подобного. Я люблю тебя, мой шурин. Я не умею ненавидеть.
— Замолчи, Паламед. Я сам их спрошу. На фракийцев надвигается золотая маска мертвеца. В прорезях глазниц полощутся отсветы огней Эреба.
— Отвечай, червь: Одиссей поддался на ваши уговоры?
— Нет-нет-нет, отец-ванака! Он велеть гадюка Клеад: бей в ухо! Вяжи!
— Я еще раз спрашиваю у всех, — Агамемнон обводит фракийцев грозным взглядом. — Говорите правду! Кто послал вас к Одиссею и дал золото? Паламед?!
...Когда говорил Агамемнон, ванакт микенский, вождь вождей, — верить не хотелось. И соглашаться. Хотелось подчиняться. Слепо. Без рассуждений.
— Паламеда! — нестройно выдохнули фракийцы. Агамемнон навис надо мной горным кряжем:
— Прости нас, Одиссей Лаэртид, честнейший из ахеян. Прости за то, что усомнились в тебе. Завтра, при дележе добычи, ты можешь трижды попросить себе, что пожелаешь, сверх своей доли. Слово микенского ванакта: тебе не будет отказа ни в чем! Вожди! Воины! Какой участи заслуживает коварный изменник?!
На границе хрупкого круга света, отбрасываемого костром и факелами, качнулась людская стена. Там уже долгое время собирались воины, наблюдая за происходящим.
Большинство — микенцы.
— Смерть! Смерть! — казалось, сама ночь откликнулась на призыв ванакта.
— Смерть!
Вокруг Паламеда разом образовалась пустота. Как вокруг прокаженного. Лопнувший пузырь, он остался один в освещенном круге, а кругом звучал, гремел, эхом отдавался безжалостный приговор:
— Смерть!
— Забить камнями!
И первый камень ударил в спину эвбейца. Паламед затравленно охнул:
— Несчастные! Вас обманули! Истина умерла раньше ме...
Следующий камень вбил крик ему в глотку вместе с передними зубами. Я не выдержал, отвернулся. Начинать надо с себя. Я вернусь. Воевать надо по-человечески. И все же, все же...
И все же я сделал это.
А если понадобится, сделаю еще и еще раз!
%%%
Когда груда окровавленных камней перестала шевелиться, я подошел к Агамемнону:
— Ты обещал мне три любые награды при дележе добычи. Слово ванакта?
— Слово.
— Завтра уже настало. Вот мое первое желание: я хочу получить одного пленника-фракийца. Вон того, с раскрашенным лицом.
— Бери. Он твой, — пожал плечами Агамемнон.
— И еще. Что ты прикажешь делать с телом изменника?
— Отдать воронам. Собаке — собачья смерть.
— Ну и зря! — прогудел Аякс-Большой, возникая из-за плеча микенца. Из подмышки Большого торчал меч, пробив панцирь и войдя в бок по самую рукоятку, но Аякс не обращал на это никакого внимания. Ну, торчит себе — и пусть торчит. Мешает, что ли?
Я моргнул, и видение исчезло.
— Зря, говорю. Над телом глумиться — последнее дело. Похоронить его надо. По-человечески.
— Нет! — сухо отрезал микенец.
— Да, ванакт, — я поднял голову, потому что иначе мне было не заглянуть ему в лицо. — По-человечески. Паламеда похоронят, как подобает. Таково мое второе желание: отдай мне тело казненного. Твое слово, ванакт!
...Когда тень Паламеда шагнула ко мне, мой Старик встал у нее на пути. С копьем в руках.
АНТИСТРОФА-II
Гнев, Богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...
ИТАКА. Западный склон горы Этос; дворцовая терраса (Монолог[1])
Вокруг меня бродят тени. Я отбрасываю их, словно нахожусь не в ночи, а в ореоле тысячи бродячих солнц; опытный борец, я отбрасываю их (...прочь! во тьму!..), но они возвращаются. Мне недостает сил, а им... — о, им уже не хватает места на террасе. Безутешный, невнятный шепот входит в мои уши шелестом листвы, ворчанием моря входит он, стрекотом цикад растекается во мраке. Каждое дуновение ветра — прохлада их рук, от которой озноб вдруг пробирает до костей; они — всюду. Ждут в теснине прошлого: убийственная долина Скамандра, волны Фароса, горький песок общины лотофагов, рощи Лация, мегарон моего собственного дома. Толпятся у хрупких перил настоящего, грозя сломать ненадежную ограду. И, наверное, искренне надеются остаться со мной в будущем.
Навсегда.
Мой Старик, рядом с ними ты выглядишь живым, — это всего лишь значит, что ты бессилен перед тенями теней. Перед моими неупокоенными воспоминаниями: дождусь ли покоя? дождутся ли покоя они?! Бессильно копье — тень копья, выдернутая тобой из тени ребенка: с тех пор ты повсюду таскаешь за собой призрачное оружие... Увы, только я могу дать им вволю напиться жертвенной крови, вернуть на миг жалкое подобие жизни или силой загнать в самый дальний закуток внутреннего Эреба, — чтобы не видеть, не слышать, не чувствовать и не делать.
Иногда это удается. Иногда — нет. Так кто же над кем властен?! Вопрос, достойный безумца, каковым я и являюсь. Какая разница, если все они — часть моего Номоса?.. Но эти тени сводят меня с ума.
Смешно!
Можно ли свести с ума того, кто безумен от рождения?
Наверное, можно. Дважды безумец, тогда я при жизни стану рабом жаждущих теней. Заложником вечности. Может быть, перекроив правду на сотни ладов, вместо меня в мир придет иной Одиссей: богоравный герой, убийца и хитрец?! — судьба не хуже прочих...
Жаль, это чужая судьба.
Я улыбаюсь сам себе кривой ухмылкой идиота, и тени в испуге отшатываются. Не бойтесь. Есть еще время до рассвета. Есть еще возможность вернуться, вспомнить, пережить заново, поймать за хвост лукавых змей, ранее ускользнувших с наших алтарей.
Есть еще время!
Время-кипение, время-пар, время-трясина, в котором мы увязли под Троей. Незримая крышка Кронова котла захлопнулась над головами юнцов, мнящих себя мужчинами: о да, я помню. Пейте, тени! Оживайте! Я, Одиссей, сын Лаэрта, добровольно отворяю жилы для вас...
Многие лета![2]
Пейте же кровь души моей!
%%%
— Доля родосцев! Девятикорабельный жребий!
— Я, Тлиполем Гераклид, басилей родосский, прошу сверх доли в личное владенье ларь из душистого кедра! Инкрустации перламутром с яшмовыми вставками, углы окованы серебром!
Думают вожди. Переглядываются. Может, еще кому заветный сундук глянулся? Хотя, с другой стороны: грех Тлиполему Родосскому отказывать. Наш человек. Еще в юности дядю отцовского, двоюродного дедушку Ликимния, пришиб сгоряча. Все потомки Геракловы на коне. клялись: поймаем кровника, зарежем, как собаку! Не поймали. Да и не очень-то ловили, если честно.
Ладно, пусть берет ларь: добродетели складывать.
— Да не будет тебе отказа, богоравный Тлиполем!
— Доля триккийцев! Тридцатикорабельный жребий!
— Мы, Подалирий и Махаон Асклепиады, просим сверх доли дюжину юных эритрянок по выбору богоравных вождей!
Думают вожди. Лбы морщат. На двоих дюжина лишних пленниц? Обученных сладкой неге в храмах Афродиты Эритрейской?! Не переусердствовали бы братья-Асклепиады! Мы и сами б... по полдюжины лишних на рыло! То бишь не на рыло, а совсем наоборот. Хотя, с другой стороны, ранят тебя завтра в оное рыло или в «совсем наоборот» — к кому побежишь, ежели сил хватит? А не хватит — к кому тебя, страдальца, понесут? К ним и понесут, к Махаону с Подалирием, сыновьям земного бога врачеванья!
Пусть их. Раз по нашему богоравному выбору — пусть.
Мы им выберем: юных.
— Да не будет вам отказа, богоравные Асклепиады!
— Доля симийцев! Трехкорабельный жребий!
— Я, Нирей Харопид, наследник басилевии Сима, прошу сверх доли сей дивный шлем с рогами бычьими, искусно кованными, и султаном из хвоста белой кобылицы!
Думают вожди. Хорош собой Нирей Харопид. Гибок, мягок. Покладист. Еще на днях отдали бы шлем, не глядя — за утеху тайную. А сейчас, когда пленниц нагих табунами гоняем...
— Не дано будет дивного шлема Нирею Симийскому! Ибо шлемы — мужественным!
Обидится симиец. Ну и Пан с ним — обижайся, сколько влезет. А влезет едва-едва. Не на трех кораблишках обиды возить. Вон, на дивный шлем уже Менелай Атрид косится. Губы кусает, головой белобрысой вертит: будто Заранее примеряет. Ему и дадим. С рогами бычьими, искусно кованными.
По заслугам.
— Доля магнетов! Сорокакорабельный жребий!
— Я, Профоой Тендредонид... Думают вожди.
Смотрю я на них. Молчу. Скучно мне. Как перед первым ударом.
%%%
...Хорошо было бы сказать: волнения ночи закончились казнью эвбейца. Ничего подобного. Ночь длилась, пытаясь уподобиться своей знаменитой, тезке, когда Зевс явился зачинать Геракла — соединив три ночи в одну. Иначе, видно, никак не зачать было могучего. Вот и сейчас: тьма, ни зги. Везде: внутри, снаружи, в глазах, в душе. Сунулся в шатер верный Клеад: раненый, спросил не о себе. Зажечь ли лампадку, спросил. Постоял, подождал, исчез.
Рыжий сидел на ковре, поджав ноги; бесформенный камень в храме Далеко Разящего. О такой легко споткнуться, сломать себе шею. Война началась. С себя. Надо привыкать. Мысли текли спокойно, с густой тяжестью, будто смоляной вар из опрокинутого набок котла.
Сны бродили вокруг, боясь приблизиться, — вещие, лживые, всякие.
— Стой! Кто идет?!
— Это я, Калхант. Басилей бодрствует?
— Да, прорицатель. А кто с тобой?
— Патрокл Менетид.
— Пустите! — по-прежнему не шевелясь, крикнул Одиссей.
И всерьез, без малейшего намека на шутку, едва ночные гости откинули полог:
— Золото принесли?
— Какое золото? — так же серьезно спросил Калхант. За спиной пророка валились в море гибнущие звезды, заходясь последним, истошным воплем света; человеческая фигура в их мерцании казалась утесом на берегу.
— Меня подкупать. Меня сегодня все подкупают.
— Нет у нас никакого золота, — Калхант прошел внутрь, и следом за ним, грузно ступая, возник другой утес: Патрокл.
«Поздравить явились? Или упрекнуть?!» — Одиссей сам подивился собственной дурости. Предупредил:
— Свет зажигать не буду. Глаза болят.
— В темноте посидим, — низкий голос Патрокла наполнил шатер гулом. — Так даже лучше.
Посидели в темноте. Молча. Видя лишь силуэты друг друга. Слыша дыхание. «Заговорщики», — беззвучно
хмыкнул рыжий. В том смысле, что ждем: кто первый заговорит?
— Калхант, скажи ему, — словно подслушав, буркнул Патрокл.
И ясновидец сказал.
— Доля ферийцев! Одиннадцатикорабельный жребий!
— Я, Эвмел Адметид, прошу сверх доли двух фригийских жеребцов, чалого и каурого, годных возить мою колесницу!..
— Да не будет тебе отказа, богоравный Эвмел...
Скука, любовь и безумие сидели в темном шатре.
Безумие — это был я.
Скука — Калхант. Всегда подозревал, что прорицателю временами бывает так же скучно, как и мне. Когда душа остывает до синего блеска. Тронь: порежешься. Он видел то, что я предполагал; он видел то, что я предчувствовал;
то, что я старался предвидеть, он просто — видел. «Ведь это же очень просто!» — знакомо сказал Калхант, и я кивнул, когда во мраке наши взгляды скрестились.
В полете птиц, в шелесте листьев, в движении солнца ясновидцу являлось: наша общая гибель под Троей. Развод земли и неба. Серебряную порчу — каленой бронзой; отныне и навеки. Если Калхант пытался прозреть иное будущее — в полете птиц, в шелесте листьев, в движении солнца вставало навстречу: руины Трои, и люди, как боги, над этими руинами.
«Что это значит?» — спросил я.
«Ужас Титаномахии[23] покажется детским лепетом», — ответил ясновидец, и я поверил ему без лишних слов.
Когда же Калхант, насилуя тайный дар, рвался в обход двух своих прозрений, он неизменно видел: рыжий подросток стоит на обочине дороги. Одиссей, сын Лаэрта. Наша первая встреча.
«Что это значит?» — спросил я.
«Хотел бы я знать... — ответил ясновидец. — Патрокл, теперь твой черед».
«Да, — медным гонгом рокотнуло из угла. — Я люблю его. Одиссей. Люблю этого ребенка. Наверное, тебе меня не понять... но я все-таки попробую».
— Доля пилосцев! Девяностокорабельный жребий!
— Я, Нестор Нелид, конник геренский, старейший меж вами, прошу сверх доли двудонный кубок из золота, посеребренный внутри, с пластинами и голубками!
— Да не будет тебе отказа, богоравный Нестор...
Скука, любовь и безумие сидели в темном шатре. Любовь — это был Патрокл.
Сын одного из аргонавтов, двоюродный брат Пелея-Несчастливца, позднее ставшего Счастливчиком, — судьба Патрокла была обычной для поколения обреченных. Случайное убийство родича, бегство в Фессалию, участие в трех войнах, развязанных Пелеем в тщетных поисках счастья... и наконец: малыш Лигерон. Спутник отца, Патрокл стал тенью сына.
«Он умирает. Одиссей!.. Мы все живем, хорошо, плохо ли, а он — умирает! Ты видишь, на кого он похож? Уже сейчас я выгляжу его ровесником... Да, он — оборотень! Да — убийца! Но я люблю его. Одиссей! Тебе не понять...»
«Почему? — спросил я, и Патрокл сбился. — Впрочем, ты прав. Мне дано любить, а не понимать. Продолжай...»
«Ты не видел, что творила с ним — с маленьким! — эта сука, холодная тварь с рыбьей душонкой!..»
По-моему, имелась в виду Фетида Глубинная, древняя титанида.
«Огонь, вода черная... Ему выжгли сердце! В бою он убивает всех... слышишь?! Всех, кто рядом! Без разбора. Не различая своих и чужих. Рядом могу находиться только я: меня малыш обходит. Когда мы грабили побережье, часть мирмидонцев не сразу заметила это... мир их праху! Я уже предупредил, кого мог... глупцы, они радуются! Они думают, достаточно не приближаться — и боевая слепота Не-Вскормленного-Грудью минует их, обрушась на головы врагов. В бою он убивает всех: в упоении, взахлеб, вдохновенно! Но с каждым новым боем ему все трудней возвращаться. Одиссей! Однажды он не вернется совсем. И тогда мы...»
Патрокл долго молчал.
Я ждал во тьме.
«...и тогда вы обречены».
«Потому что тебя он обходит?»
«Да. Я люблю его. Одиссей. Больше всего на свете я хочу, чтобы малыш тихо и счастливо дожил отпущенный ему срок. Но если когда-нибудь он не вернется из своей кровавой игры — единственный, кто будет в безопасности, я попытаюсь убить его. В спину, как угодно. Если малыш перестанет быть собой, став тем, кем его делала эта тварь!.. Я схожу с ума, Одиссей!.. Тебе не понять...»
О небо! — Как же я смеялся!
До слез.
— Доля Аргоса! Восьмидесятикорабельный жребий!
— Я, Диомед Тидид, ванакт аргосский... сверх доли... колесницу адрамитской работы и технита-хламидурга из числа рабов...
Технит-хламидург-ремесленник-портной, специализирующийся на изготовлении плащей.
На пороге рассвета мы уже знали, как будем воевать дальше.
Трое — против Трои.
%%%
— Доля Великих Микен! Стокорабельный жребий!
— Я, Агамемнон Атрид, ванакт микенский, прошу сверх доли темноволосую пленницу-фиванку, стоящую отдельно от иных!
— Да не будет тебе...
И, поперек, знакомым воплем негодования:
— Мое!
Очнувшись от раздумий, Одиссей сорвался с места. Начал проталкиваться вперед. Меньше всего он предполагал, что случай подвернется так быстро: обсуждая детали «войны по-человечески» с Калхантом и Патроклом, рыжий никак не рассчитывал на подарки судьбы. Но, если дают, предлагают, умоляют, прямо в руки...
— Я, Агамемнон Атрид, повторяю...
— Мое! Мое!!!
— Тише, богоравные! К чему браниться из-за смуглой девки?!
Бедная пленница жалась к подругам по несчастью, тайком проклиная выбор гордого микенца. Румянец заполошными пятнами горел на щеках. Вцепятся ведь с двух сторон — разорвут. Не Елена, конечно, но когда такие люди спорят! Ссорятся!..
— Мое!
— Я! Вождь вождей! Ванакт Микен!..
— Мое!
— ...впервые попросил! И какой-то мальчишка...
— Я обещал!
— Даже не басилей!..
— Я обещал! Я слово дал!
Мало-помалу становилось ясно: нашла коса на камень. Надменный Агамемнон стоял живым памятником собственному величию. Лишь билась синяя жилка на виске; и в такт трепетало левое веко, выдавая буйство страстей. Дело уже было не в пленнице, а в принципе. Это значит, завтра ахейцы станут блудливо сплетничать, что при дележе добычи отказали в просьбе двоим: трехкорабельному симийцу-мужеложцу и ему, богоравному Атриду, со дня на день владыке вселенской державы Пелопидов?! И все только потому, что Не-Вскормленный-Грудью — этот... этот!.. этот!!! — успел опрометчиво пообещать отцу пленницы вернуть дочь?!
— Я повторяю... в последний раз... прошу сверх доли...
— Мое! Не по правилам!
— Я повторяю...
— А я обещал! Честное слово!
— Мальчишка! Как ты смел раздавать обещания до дележа?!
— Мое!
Краем глаза Одиссей заметил: бугристая ладонь малыша легла на рукоять меча. Сжались пальцы; волна мускулов вспенилась от плеча к запястью... улеглась. Шелестя змеей, спешащей прочь с алтаря, лезвие до середины выползло из окованных серебром ножен. Блеск солнца на черной бронзе: ласковый, шаловливый. Словно вопрос: мы играем? нет, правда, мы уже играем? В последние дни малыш обычному ксифосу[24] предпочитал «лакедемонский серп» — круто изогнутую махайру, похожую на кривые фракийские клинки. Было что-то женственное в изгибе металла, предназначенного для убийства, чарующая тайна, недосказанность, завораживающая взгляд до той самой минуты, которая становилась последней.
Надо спешить.
Иначе счастливый случай вывернется наизнанку, став любимой затеей богоравных: резней.
...у женщины вина, а не богов...
— Дядя Одиссей! Ну хоть ты Носачу скажи!
— Щенок!
Лезвие — опытной шлюхой — обнажилось на две трети. Залоснилось в ожидании: кажется, играем... Рядом с малышом стремительно образовался Патрокл: щека к щеке, дружески приобнял за плечи. Зашептал в ухо. Ударил быстрым взглядом в рыжего: ты что-то задумал? давай!
И напоследок: долго не удержу... торопись. Встав перед дылдой-микенцем. Одиссей дал ванакту насладиться преимуществами роста: сверху вниз, из-под набрякших век — так смотреть, что .венец примерять. Успокаивающе развел руками:
— Полно ссориться, шлемоблещущие! Сейчас я все устрою. Ответь, о великий Агамемнон: не ты ли пообещал мне три просьбы при дележе?
На лбу микенца вспухли синие жилы.
— Не ты ли сказал: да не будет отказа Одиссею Лаэртиду?!
— Ну, сказал... Ты это к чему? — подозрительно осведомился Агамемнон, забывшись и шмыгая знаменитым носом.
— Дважды я просил, и ты дал. У меня осталась третья просьба. И больше всего на свете я хочу проверить: впрямь ли слово ванакта — золотое слово?!
— Слово ванакта! — Малыш Лигерон ничего не понял, но глядел на самого хитрого в мире «дядю Одиссея» с восторгом. «Слово ванакта!..» — эхом в ущелье отдалось вдоль площади народных собраний. Вдоль, поперек, наискосок; жадно, напряженно ждали симийцы и эоняне, мирмидонцы и аргосцы, Спарта и Трикка, весь «Конский Союз» — ну же?! Взгляды скрещивались, опутывали. Вопрошали. Молили. Требовали. И в каждом: карем, сером, голубом, зеленом — играло солнце.
Словно на тысячах полуобнаженных клинков.
Микенец сдался:
— Хоть я и не понимаю... Впрочем, ладно. Проси!
— Я, Одиссей Лаэртид, басилей Итаки, согласно обещанию вождя вождей, прошу себе сверх доли... Рыжий Набрал полную грудь воздуха:
— ...пленницу-фиванку, из-за которой случился раздор! Тишина. Молчат вожди. Языки проглотили. Что скажет отец народов, гордец Агамемнон?!
%%%
...Тихонько улыбаюсь на ночной террасе. Вокруг ночь, а у меня в душе — день. Жаркий, пыльный день. Вокруг — сегодня; а у меня в душе — вчера. Я очень рисковал, я просто нарывался, прилюдно вынуждая микенского ванакта отдать пленницу мне. Помню, бледное лицо Агамемнона долго оставалось каменным. Наконец легкий румянец выступил на щеках, а в глазах мелькнула слабая тень понимания. Да, надо отдать. Слово ванакта — золотое слово. Все увидят и убедятся. Кроме того, так удастся сохранить лицо, не ввязываясь в безнадежную драку с неуязвимым оборотнем.
Да, хитрый итакиец правильно придумал. Если бы он знал, что я придумал на самом деле, — велел бы Золотым Щитам незамедлительно поднять хитрого итакийца на копья. Потому что вокруг толпились сплошные герои, а я уже начал воевать по-человечески. Потому что, выслушав утвердительный ответ и рассыпавшись в благодарностях, я отнюдь не поспешил увести пленницу к себе в шатер.
«Слово ванакта — воистину золотое слово», — сказал я. «Но и слово богоравного Лигерона Пелида на вес золота», — сказал я.
«Забирай свою пленницу, малыш, и выполняй обещание», — сказал я.
Стоя на волосок от смерти по имени Агамемнон. Еще миг, и микенец все-таки приказал бы гвардейцам-наемникам сделать мою жену вдовой, а сына — сиротой, Еще миг... Меня спас малыш: по его виду было отчетливо ясно, что всякий, поднявший руку на дорогого и любимого «дядю Одиссея», сойдет в Аид быстрее, чем разит перун Громовержца. Опять же спасибо умнице Калханту: пророк, выбежав перед толпой, разразился бурей прорицаний. В основном благоприятных для меня и зловещих для Агамемнона.
И вместо смертоубийства вышел скандал. Грандиозный, потрясающий, богоравный скандал, достойный увековечивания в чеканных строках. Микенец, напрочь забыв о необходимости сохранять лицо, сыпал отборной портовой бранью: я стал «крысиным дерьмом», недостойным даже вонять близ шатров, малыш превратился в «трусливого засранца», а наш замечательный ясновидец — в «заику-вещуна», радостно каркающего над мертвечиной. Вожди ахали, охали, втайне наслаждаясь позорищем; мы с Патроклом в четыре руки и два языка удерживали малыша от драки, объясняя ему, что не по правилам отвечать на слова мечом, — спасибо Патроклу, он уже понял суть моего замысла. И когда малыш прилюдно заявил, что не намерен больше играть на стороне подлого Носача, пока микенец на коленках не приползет к нему молить о прощении, мы удовлетворенно переглянулись.
Еще через час я велел Клеаду привести ко мне раскрашенного фракийца.
— Свобода да-да-да? — спросил я.
Фракиец отчаянно закивал.
— Тогда ночью уйдешь в Трою. Скажешь от моего имени: страшный Не-Ел-Сиська больше не выйдет в поле.
Вообще. Пусть сражаются без опасений.
И был вознагражден восторженной хвалой «хитромудрыя Диссей».
«...Если когда-нибудь он не вернется из своей кровавой игры...» Да, мой Патрокл. Но, с другой стороны: если малыш не станет больше играть в кровавые игры, значит, у него не станет и необходимости возвращаться. А.троян-цам не понадобится укрываться от морского оборотня за несокрушимыми стенами города.
Да-да-да?!
А ночью приснилось:
...Гнев, богиня, воспой, и любовь, и надежду, и ярость.
Злую тоску по ночам, горький смех и веселье души.
Что же еще воспевать в этом мире, когда не мгновенья порывов,
Тех, что бессмертья взамен смертным в награду даны?!
СТРОФА-III
Но знаешь: небо становится ближе...
Б.Гребенщиков— ...Нет меж ахеян другого такого героя!
— Нет! И не будет!
— Разве сумеем врагов без него одолеть?
— Нет! Никогда!..
— Смертным дано ль сокрушить ту твердыню, что строили боги Олимпа?
— Нет! Не дано!
Что за вопли? Неужто треклятый Ангел собрал из ахейцев хор и разучивает новый гимн? Хотя нет, не ангельский напев: хоть по голосу, хоть по слогу... Гляди-ка, поддакивают. Верней, поднекивают. А голос все-таки знакомый.
Вспомнить бы еще — чей?
— ...так не лучше ли будет всем нам по домам возвратиться? Славы лишимся, добычи, однако же жизнь сохраним?!
— Лучше! Жизнь!
— По кораблям!
— Отплываем!
— Гори она, эта Троя!..
Топот ног, крики. Ничего себе денек начинается! Кажется, у меня уже начинает входить в привычку: ни свет ни заря голышом выскакивать из шатра, куда-то нестись... В прошлый раз обошлось: Лигерон отплывал за провиантом.
А сейчас?
Судя по творившемуся в лагере безобразию, отплывать решили все. И отнюдь не за пищей телесной: по домам. «Вот и конец Троянской войне! — обрадовался спросонья. — Ошибочка вышла, Глубокоуважаемые...» И сразу, обухом по затылку: клятва! Добро бы одна-две
И голоса тех богов, что верят в тебя, Еще звучат, хотя ты тяжел на подъем. Но знаешь: небо становится ближе..., Слышишь? — небо становится ближе... Смотри! — небо становится ближе С каждым днем.
Клятвы! Былая, спартанская, и моя, предвоенная. Что, рыжий, на попятный?
Забыл, с кого двойной спрос?!
— Куда?! — хватаю за плечо ближайшего триккийца, сломя голову бегущего к корабельной стоянке. Два выпученных глаза тупо пялятся на меня, мерцают белками в кровавых прожилках. Губы выплевывают:
— Домой! Навоевались!
— Кто подбил?! Какая сволочь?!!
— Ванакт Агамемнон! — Лицо триккийца расплывается в щербатой ухмылке, отчего клочковатая борода топорщится зимним буреломом. В придачу ужасно воняет луком. — Самолично! А ты что, уши воском залепил? Сирены петь станут — не услышишь!..
Священный экстаз полощется в крике беглеца. Я разрываюсь на части, готовый присоединиться, всем сердцем, всей душой... не могу, нельзя мне... Нельзя!
— Давай, глухарь, собирайся: бери доспех, плывем домой...
Оборачиваюсь.
Словно в спину камнем швырнули.
Посреди площади в полной растерянности возвышается микенский ванакт. Беззвучно, по-рыбьи, разевает рот. Вождь вождей с утра пораньше облачен в боевой доспех: кипрская работа. Только мастера-киприоты украшают панцири с боков радужными змеями. На руке овальный щит грозит ликом Медузы; на поясе — меч в серебряных ножнах. Атрид Агамемнон, в блеске и славе, с воодушевлением призывает народ к повальному бегству?! Не верю! Но ведь собственными ушами слышал! Пусть спросонья, пусть!.. Конечно же: это был голос Агамемнона!
Или микенец совсем от обиды ума лишился?!
...Кипит варево в Кроновом котле. Из-под крышки лезет. Того и гляди, сбежит, выплеснется на угли. Что тогда? Да ничего. Зашипит, уйдет паром в небесную синь. Даже облачка не останется. А если все сбежит? Все и пропадет. Надо бы холодной водички подлить, остудить варево, если уж огонь убавить не судьба.
...Собирается пена пузырек к пузырьку. Слипается воедино. Уже и отдельных пузырьков не разглядеть: несутся гурьбой к медному обрыву. Неужели они хотят вернуться больше, чем я? Паламед тоже хотел — где он теперь?! И прочим брести по смутной дороге, если не пойдут за легконогим поводырем: за мной! Я не есть все, но я есть во всем. Я застрял в вас: тем человеческим, что осталось в испуганных душах, страстным желанием выжить, сохранить маленький уязвимый мирок... Только мое желание — сильнее. Потому что вы всего лишь хотите вернуться, а я вернусь. И еще я знаю: чтобы вернуться, надо остаться. Здесь и сейчас. Вы слышите меня, люди? Это говорю в вас я. Одиссей, сын Лаэрта!
Далеко в вышине, по ту сторону меднокованного купола небес, невидимое дитя зашлось радостным смехом — и на миг мне стало страшно.
Но только на миг.
%%%
— Стойте, ахеяне!
Летят невидимые стрелы. Без промаха. Тайные нити, привязанные у самого оперенья, рассекают воздух. Натягиваются. Звенят. Вынуждают людей застыть на бегу: оглянуться, прислушаться. Вот он, миг тишины, когда люди внимают гласу свыше.
...свыше?
— Стойте, ахеяне! Неужели вы покинете этот берег, оставив вероломных троянцев злорадствовать над вами?! Я уже вижу, как они бахвалятся своими подвигами, называя вас не иначе как трусливыми ахейскими собаками!
Кто-то еще продолжает судорожно карабкаться на борт не готовых к отплытию, вытащенных на берег кораблей. Мечется между сложенными мачтами; надсаживаясь, тащит к судам. Но большинство остановилось: хрупкая грань между бегством и возвращением.
— Неужели вы хотите, чтобы вас постигла участь басилея Менелая, подло обворованного Парисом?! Откажись мы сегодня продолжать битву — завтра троянцы сами явятся к нам! Кто сможет тогда поручиться за ваших жен, за ваше имущество?
Пузырьки сошлись краями: наши жены? наше имущество?
Мое, мое, мое... множество «мое» значит: «наше». Слиплись.
— Неужели вы оставите без отмщения погибших братьев?! Откажетесь от великих сокровищ, сокрытых за стенами Трои? От тысяч молодых троянок и троянцев, которые станут вашими рабами, выполняя любую прихоть господина? Где ваша гордость, мужи брани? Ваша честь, ваше мужество?! Где ваша клятва?!
Летит стрела: в стане эонян надрывается Калхант, пророча скорую победу. Летит другая: южнее, ближе к устью Скамандра, синеглазый Диомед отгоняет от кораблей своих аргосцев. Летит третья: мечется по берегу лжестарик Нестор, забывая хромать и хвататься за поясницу — стойте! Куда?! Грозит кулаком трусам Аякс-Большой; размахивает мечом белобрысый Менелай... Патрокл примчался от безучастной стоянки мирмидонцев, трясет кого-то за грудки...
Летят стрелы.
Тянутся нити.
— А что нам твоя клятва, басилей?!
Перед Одиссеем возникает плюгавый человечишка: скособоченный, с птичьим прищуром. Макушка топорщится редким пухом. Тьфу, позорище! Хоть бы шлемом прикрыл, что ли?
— Не мы давали, не нам блюсти! И так львиная доля добычи вам достается — хоть всю заберите! Нам-то за что кровь проливать? За вашу бабу? За вашу прихоть?! За свары ваши?..
Чем-то они похожи: рыжий басилей и наглый плюгавец..
До озноба.
Потом Одиссей даже вспомнить не сумеет: откуда взялся в руках басилейский скипетр. Когда и зачем прихватил с собой, выскакивая из шатра? Не иначе, предчувствовал.
— Кровь, говоришь, проливал? Н-на! Словно самого себя бьешь: без пощады. Первый удар приходится по хребту плюгавого. Второй — наискось, по щеке. Острый край скипетра рассекает кожу, и с лица человечишки весело брызжут в пыль алые капли.
— Вот теперь можешь говорить по праву, что. проливал кровь под Троей!
Дружный хохот отвечает насмешке итакийца. Только что спасавшиеся бегством, ахейцы захлебываются, хохочут до слез, указывая пальцами на посрамленного злопыхателя, — и бредут обратно, в сторону шатров. Никто больше никуда не собирается. Все оказалось просто. Все оказалось очень просто. Слишком просто. Мысль эта занозой торчит в мозгу, мешая расслабиться, насладиться триумфом собственного красноречия, — и тут Одиссея от души хлопают по плечу.
Над рыжим нависает улыбающийся и чуточку смущенный Агамемнон. Таким микенского ванакта Одиссей видит впервые.
— Ну ты орел, Лаэртид! Силен! Сам Гермий лучше б не справился! Снова я у тебя в долгу... это ведь, понимаешь, я оплошал...
Микенец отводит взгляд. Тяжко признаваться в ошибках. Ставит к ноге щит: вдоль ремня вьется сизый дракон-треглавец.
Скоро такие с алтарей поползут: птенцов жрать в три пасти.
— ...Понимаешь, я проверить их вздумал. Плохо, говорю, будет без Лигерона воевать. Может, ну его, гаденыша? Может, домой поплывем? Думал, они возмутятся, духом преисполнятся... а они, хлебоеды, — сразу к кораблям! «По домам!» — кричат. Когда б не ты, Лаэртид...
Выходит, и у него — просто? Слишком просто?!
Сказал наобум, а они сразу...
— Да чего уж там, — через силу улыбается рыжий. — Одно ведь дело делаем; одну войну воюем. Сочтемся славой.
— Сочтемся, — Агамемнон еще продолжает светиться, но лицо микенца меняется. Насупились брови, резче обозначились складки у крыльев длинного носа. Не лицо: лик. — Давай покамест я тебя хоть угощу, что ли? На сытый желудок и драться веселей. Засиделись мы тут, под троянскими стенами...
Вот с чем с чем, а с последним грех спорить.
Чуть поодаль утирается плюгавый человечишка. Ладонь в крови, в песке; мелкая пыль въедается в рану, и человечишка скрипит зубами от боли. Морщится, но уходить не спешит. Во взгляде избитого плюгавца — ненависть. Чистая, серебряная.
Без смертной, алой примеси.
— Тебя как зовут? — спрашивает рыжий. Внутри что-то мерзко жжет, саднит, будто испачканный грязной ладонью порез.
— Совесть, — злобно отвечает человечишка. — Что, герой, запомнить хочешь? Чтобы потом найти?!
Солнце вприсядку пляшет на опустевшей площади.
%%%
Троянский посол прибыл в стан к концу трапезы.
— Благородный Парис Приамид, прозванный Александром, предлагает честный поединок и вызывает любого из вождей-ахейцев, кто согласится сойтись с ним в поле!
— Я, Менелай Атрид, басилей спартанский, принимаю вызов Париса! — Обманутый муж вскочил... нет, взлетел на ноги. Опрокинул серебряный кубок с вином. Алая кровь прамнейской лозы разлилась по полотну, усеянному остатками пиршества. Алая кровь, серебряный ихор кубка, остатки, останки, обглоданные кости... — Но я требую: пусть этот поединок решит исход войны! Срази меня Парис в бою — быть ему законным мужем Елены, и ахейцы покинут Троаду. Но если мое копье окажется острее — я получу назад свою жену и выкуп за бранные труды, после чего будет заключен почетный мир. Пусть Парис и его отец поклянутся в этом на алтарях, и мы с моим братом, верховным вождем ахейского войска, принесем такую же клятву!
Сижу, слушаю.
Хрущу... хрустю? — короче, похрустываю зажаренной корочкой.
А вот это уже не просто. Люди так не говорят. В гневе, в раздражении или возбуждении; в горе и радости — люди говорят иначе. Проще, грубее. Особенно белобрысый рогоносец, всегда бывший чуть-чуть косноязычным. Да и братец его, ходячий храм самому себе... Мы же мальчишки! юные отцы, молодые мужья! младшие братья! — откуда эта геройская, божественная, чудовищная напыщенность?! В последнее время каждый второй стал не докладывать, а вещать, не отвечать, а изрекать, не спрашивать, а вопрошать. Надо торопиться. Бегом бежать: малыша устранили, врага тайком известили... теперь бы, чтоб совсем по-человечески... Горелый край корочки больно оцарапал десну. На языке возник медный привкус крови: моей.
Если троянцы согласятся на предложение Менелая, то безумен не я, а они.
— Я передам твои слова басилею Приаму и его сыну, богоравный Менелай. — Посол склонился низко-низко, словно перед разгневанным богом. Сверкнул лысиной в обрамлении венка из левкоев. — Ждите скорого ответа.
Через час пришел ответ: да. Урожай обоюдных клятв превзошел все ожидания.
Хорошая сказка.
Хорошая война. Красивая и благородная. Со счастливым концом. Причем для меня конец окажется счастливым в любом случае. Кто кого ни убей, я вправе буду вернуться. Одиссей, сын Лаэрта, обещал Глубокоуважаемым удерживать ахейцев под Троей до самого конца, каким бы он ни был.
Одиссей сдержал слово!
Незачем больше поливать Троаду кровью: красной с серебром. Кто захочет: плыви домой. Кто захочет: продолжай поход с Агамемноном. Ведь старший Атрид не отступится от мечты о державе потомков Пелопса-лжеца. Но что мешает ему, заключив военный союз с недавними противниками-троянцами, вместе обрушиться, к примеру, на тех же хеттов, чье «покровительство» гордой Трое — кость в горле? Это выйдет еще лучшая война: чужая. Не моя. К тому времени я буду дома, на Итаке... Да, красивая сказка. Добрая. Одна беда: рыжий мальчишка вырос, из басиленка стал басилеем, женился, у него родился сын — и он перестал верить в сказки.
Жаль.
%%%
Честный бой — штука долгая и невыносимо нудная. Особенно когда тебя единогласно выдвигают в представители. Сперва мы с Гектором, по самое темечко преисполненным важностью момента, обсуждали место. Сошлись на окрестностях Ватиейского холма, близ дубовой рощи.
— Почему именно Ватиея? — спросил я, чтобы спросить хоть что-то. Предложи Гектор берег Скамандра или склон Иды, я все равно спросил бы, задумчиво морща лоб: почему?
Надо поддерживать репутацию.
— Святое место. Там курган знаменитой амазонки Мирины.
— И чем она знаменита?
— А Пан ее знает! — пожал плечами честный Гектор. В серых глазах троянского лавагета плескалось уважение к традициям, но желания вникать там не плескалось абсолютно.
Я решил тоже пожать плечами. Курган так курган.
Пусть Гектору будет приятно.
Потом нам принесли кипу ремней из бычьей шкуры, и мы стали вымерять пространство будущего боя. Вымерили; вбили ясеневые колышки. Натянули ремни на два пальца от земли. Слегка поспорили: считать выход за границу поражением или досадной случайностью? Я настаивал, чтобы «поражением», потому что так сперва предложил троянец; Гектор — чтобы «случайностью», потому что так сперва предложил я.
Благородство подступало к горлу, вызывая отрыжку.
Знакомый привкус меди.
Далее стал подтягиваться народ. Из всех я единственный оказался в боевом доспехе, да еще с колчаном, полным стрел. В меня издалека тыкали пальцами, шепотом сочувствовали: по жаре! А куда денешься — долг, знаете ли, требует... В конце концов я плюнул и снял доспех. Сложил грудой на землю, у корней ближайшего дуба. Как раз вожди начали резать жертвенных баранов в подтверждение клятв. Наш носатый мясник зарезал сразу, можно даже сказать, лихо зарезал, а у Приама-басилея (прикатил-таки! на колеснице!..) тряслись руки. Слабее, чем в мой первый приезд, но баранам от этого не легче. Кстати, по завершению обряда Приам аккуратно сложил всю баранину (нашу забрал тоже!) к себе в колесницу. И поехал обратно в город, сказав, что обедать у него силы есть, а взирать на смертоубийство — нет. Я возражать не стал: пусть. Его, хворого, жены ждут. Все глаза проглядели.
Один сынок погибнет — он трех других сделает. Не помню, у кого возникла грандиозная идея: жребием решить право первого копейного броска. Помню только общее восхищение. Приветственные клики, хлопанье в ладоши. Весьма пригодился мой шлем: в него бросили жребии — две бляхи, оторванные от моего же латного пояса, с наспех выцарапанными именами бойцов. Трясти шлем доверили хитроумному мужу Одиссею Лаэртиду — остальные герои, надо полагать, не справились бы. Стою. Трясу. Медь гремит о медь, жребии пляшут пьяными менадами. Век бы так стоял.
Право первого броска досталось троянскому петушку. Поединщики в свою очередь не ударили лицом в грязь. Готовились долго, обстоятельно; со знанием дела. Перед Менелаем, сбегав наскоро в лагерь, вывалили целую груду: панцири, наручи, поножи, шлемы с гребнями и без... Младший Атрид битый час придирчиво копался в этом добре. Не потомок Пелопса, а портовый скупщик на разгрузке «пенного сбора». Хмурился, сопел. Примерял то одно, то другое; откладывал в сторону и снова начинал рыться.
...Вру я все. Ерничаю. Белобрысый муж Елены-беглянки сейчас куда больше походил на урожденного героя, чем его надменный братец. Взгляд, разворот плеч; губы в ниточку. На руках мышцы — змеями. Совсем другой человек!
...Человек?!
Напротив, менее чем в полустадии, вокруг Париса суетились земляки петушка. Советами небось умучили. Вон барсову шкуру приволокли: поверх доспеха накинуть. Красивая штука, с хвостом. Мне б такой хвост, я б ни на какую войну не ходил. Те, у кого чесались языки — и местные, и наши, — развлекались поношением противной стороны и превознесением своего поединщика. Поношение преобладало: вчистую. Я даже почерпнул для себя кое-что новое, вроде «приапоглавых едоков навоза» и «отродья сколопендры и осла».
Не помню уж, про кого это было сказано. Кажется, про меня.
Хорошо, что обернулся вовремя: пока слушал да запоминал, от троянцев к моему доспеху успел подобраться прыткий малый. Морда клятая-мятая, в прыщах, аж смотреть тошно. Зубки реденькие, растут вкривь и вкось. Чистый хорек: вцепился в чужое имущество, вот-вот стащит!
— Куда?! — кричу. — А ну, положи на место! Он и ухом не повел. Давай оправдываться: дескать, ихнему Парису издалека очень глянулось. Решил примерить; вот его, смуглого, и послали.
— Перебьетесь вы с вашим Парисом, — говорю. — Свои доспехи иметь надо. И жен — своих. Самые шустрые, да?
— Ага, — отвечает. — Шустрые самые. У меня и копье есть: свое. Острое.
А сам, подлец, все на мой правый бок косится. Где печенка. Плюнул я в сердцах; послал хорька по-критски, тройным морским с борта на борт, и отвернулся. Только он не сразу ушел. Торчал рядом, бухтел, что его, значит, Соком зовут. Соком Гиппасидом, сыном укротителя коней. Чтоб, значит, я запомнил. И брат у него, значит, есть, тоже сын укротителя.И у брата — копье.
Острое.
Да запомнил я, говорю, запомнил. Вали отсюда.
Наконец герои облачились подобающим образом. Возгласили анафему[25] богам-покровителям. Перебрали по доброй дюжине копий: слишком короткое! Наконечник не бронзовый, а медный! Древко плохо остругано!.. Этак они и до вечера не начнут! Впереди ведь еще щиты, мечи! Только хотел что-нибудь вслух заметить... Сдуло с меня веселье. И злобу, что под весельем пряталась, как живое тело под чешуйчатой, змеиной кожей, сдуло. И по голому, по кровавому — ядом. На днях мне стукнет двадцать лет, в сущности, я — скучный человек, у меня есть жена и сын, храни нас Глубокоуважаемые, храни нас моя эфирная покровительница...
Страшная штука — ревность.
Огненная.
TPOAДA,
Подножие Ватиейского холма, близ могильного кургана амазонки Мирины (Лирика) [26]
В данном случае игра слов: Автолик (греч. «Волк-Одиночка»), дед Одиссея — и Ликия (Волчья Страна), союзная Трое родина знаменитого лучника Пандара Ликаонида, позднее убитого Диомедом.
...Сова моя!
...Олива и крепость!
...Ты ли?! На окраине толпы, сгрудившейся вокруг смазливого дружка-Парисика; синеглазая, рядом с ли-кийцем в волчьем плаще, моим ровесником — малорослым, широкоплечим... Ах, он еще и прихрамывает! Может быть, он еще и сумасшедший в придачу?! Может быть, он — это я, только я пока ничего об этом не знаю?! Ты склонилась к ликийцу, сова моя, олива и крепость, ты шепчешь ему на ухо, улыбаясь светло и обольстительно, ты жжешь ему щеку своим дыханием, а ликиец судорожно кивает, дергая кадыком, и гордыня чертит у него на лице горящие письмена — видать, не каждый день являются...
Не каждый, брат.
И ко мне, веришь ли, — не каждый.
Ты ведь тоже лучник, я вижу. Знакомые руки, тетивой обласканы до шрамов. И лук за спиной: из рогов серны, с позолотой. Хороший лук, правильный, наверное, любимый волк-дедушка2 подарил или сам сделал, нарочно для войны, прекрасной войны, чудесной войны, справедливой и замечательной войны, которая сейчас что-то шепчет в ухо лучнику из страны волков и дедушек... Только как же я все это вижу, враг мой, брат мой?! Пусть и не очень далеко, но — кадык, понимаешь, кожа от тетивы в рубцах... Или ревность меня в провидцы определила, в острозоркие Линкеи?! Олива и крепость, на меня, на рыжего посмотри!.. Молю тебя!.. Посмотрела.
Мельком, наскоро — и взгляд поскорее отвела. Что ж ты так, синеглазая...
Обиделся, рыжий? Да, обиделся. Отвернулся с показным небрежением: эка невидаль! — крепость, сова и олива. Ерунда. Буду в другую сторону смотреть. Или вовсе — по сторонам. Глазеть буду, ворон ловить. Только взгляд мой, подлый, крючком цепляется, вместо ворон совсем иное ловит. Иные крылья, иные клювы.
Могучий бородач: космы бровей клочьями морской пены нависли над маленькими, пронзительными глазками. Статный воин: закован в черненый доспех, в руке копье, вьется конский хвост над глухим шлемом. Пышная красотка, на которой одежды: пена с бровей бородатого слетела — вот и вся одежда. Не в моем вкусе; по мне уж лучше такие, как... Ладно, проплыли.
Ну, Ангел, ты вообще не в счет — старый знакомый.
Неужто вся Дюжина собралась?! Кто среди троянцев затесался, кто среди наших. Бродят, хмурятся. Ах, что за сказка складывалась, добрая, со счастливым концом, и всех тот конец устраивал: ахейцев, троянцев... Одних Глубокоуважаемых в суматохе спросить забыли: хороша ли сказка?
Хорош ли конец?
— Ты — Одиссей. Конец лирике.
%%%
Не спросил — изрек. Приговором. На меня ему смотреть, ясное дело, зазорно: мимо щурится, поверх головы. Губы кривит с усталым презрением: надоело все презирать, а куда денешься? Скулы высокие, переносицы нет: прямой нос в одну линию со лбом. Кудри до плеч, плечи вразлет, осиная талия, узкие бедра — загляденье.
Кифара и лук, лавр и дельфин.
Верно говорят: красив, как Аполлон.
Стою я рядом: потный, жалкий. Раскоряка рыжая. День и ночь. Разные, а похожие... знать бы, в чем? Может, просто оба — лучники? Вряд ли. Ликиец, подлец, тоже лучник, а не похож ни капельки. Вот если меня слегка вытянуть, а его, лавра и дельфина, наоборот: малость приплюснуть... Нет, все равно. Не получится из нас близнецов.
— Радуйся, Сияющий. Ты разишь без промаха: да, я Одиссей.
Дернулись прекрасные губы. Сплюнули:
— Говорят, ты стрелок? Не из худших? Похвалил дяденька мальца голопузого...
— Пред тобой ли хвастаться, сын Латоны?! Ишь ты, понравилось!.. Кивнул. На всю оставшуюся жизнь одарил. Не будь я зол, не ревнуй синеглазую, от счастья сдох бы на месте.
— Хорошо, — еще один скупой кивок: уже себе, не мне. — Лук у тебя надежный?
— Не жалуюсь. И троянцы до сих пор не жаловались.
Хотели губы у него по новой дернуться — расхотели. Сотворили некое подобие улыбки:
— Ну тогда приготовь его. Париса видишь?
— Вижу, Открывающий Двери.
— Если троянец начнет брать верх, убей его. Надеюсь, ты не промахнешься?
— Не промахнусь, Блистатель, — забыв дослушать, он поворачивается, чтобы уйти.
И тогда я по-человечески, в спину ему:
— Потому что я не буду стрелять.
— Ты осмеливаешься противоречить мне? Вот теперь, кифара и лук, лавр и дельфин, мы с тобой куда как похожи. И приплюснуть не надо, и вытягивать ни к чему.
— Противоречу? Я?! Ничуть. Я просто не верю своим ушам. Разве может ясный Феб призывать к подлости?! — Нет, не может. Значит, я просто ослышался. Значит, просто испачкал земной грязью сказанное богом. Если я не прав, убей меня, Стрелок.
Слова слетали с моих губ — потрескавшихся, сухих — хлопьями серого пепла.
— Семья клялась не посягать на твою жалкую жизнь. Я был против, но отец упрям: если что-то вобьет в голову... Жаль. Да, Семья клялась...
Он снова глядит мимо. Вдаль. Туда, где у нор плещут черные воды Стикса, а у лица проплывают облака. Где сидит на престоле упрямый отец-самодур, которого давно пора бы образумить, да жаль: не выстоять золотой стреле против громового перуна.
— ...Но в клятве ничего не говорилось о твоей жене.
О твоем сыне. Матери. Сейчас настали смутные времена, рыжий упрямец. Так ты будешь стрелять?
И он впервые взглянул мне в глаза.
Как равный — равному.
— Я буду стрелять, Предводитель Муз.
— Тебе помочь? Чтоб не промахнулся? Или ты сам?
— Благодарю за заботу, Кифаред. Я уж как-нибудь сам.
Хотелось спросить: не подскажешь ли, дельфин и лавр, что шептала олива и крепость лучнику-ликийцу? «Если увидишь, что ахеец берет верх...»
Мир вывернулся наизнанку. Сошел с ума. В то время как неуязвимый малыш Лигерон кладет врагов сотнями, герои устраивают честные поединки, а враждующие стороны обмениваются послами, соревнуясь в благородстве — Глубокоуважаемые бьют в спину и требуют от смертных нарушения обетов, угрожая смертью заложников. Люди воюют, как боги. Боги воюют, как люди. О, герои и храбрецы, пурпур с серебром, как же мне научить вас воевать так, как научилась воевать серебряная Семья?! Что-то меняется в мире. Что-то меняется во всех нас: смертных, бессмертных...
Что-то меняется во мне.
Что-то меняется.
%%%
Начало поединка я проморгал. Когда очнулся: кошмар! Копья уже вовсю гремят о щиты, а два воина в сверкающих латах без устали (впрочем, и без особого успеха) разят друг дружку. Я даже не сразу уразумел, кто из них кто. Братцы, в кого стрелять, в случае чего?! Ага, разобрался. По шлему: у нашего шлем с рогами, искусно кованными. При дележе, помнится, выпросил. Да и сложением наш покрепче будет, отъелся на спартанских харчах.
На пустом ложе отдохнул.
Бьются герои. Славно бьются: пыль столбом, звону — до небес, доспехи блещут, копья молниями горят. Красотища! А мне от той красоты волком выть хочется. На луну. Благо нет ее сейчас — иначе завыл бы. ...Проклятье!
Парисово копье, хитро взметнувшись над плечом, сносит с головы Менелая рогатый шлем. Левый рог с мягким чмоканьем втыкается в землю; белобрысый отступает, спотыкается о край гребня... Под гром приветствий копье радостно возносится для завершения благого дела. Лук сам прыгнул ко мне в руки: с Итаки. Тетива, скрипя, двинулась к уху, готовясь отправить в полет змею-стрелу с ядовитым жалом. Я люблю тебя, Пенелопа. Я люблю тебя, Телемах. Я люблю тебя, папа. Мама, прости, если сможешь, — я...
Хвала рогоносцам: крепкоголовы, не отнимешь. Мало кому, ошеломленному, суметь закрыться щитом в последний миг. Уже вожделевшее крови копье скрежещет по выпуклым бляхам Менелаева щита. Хруст ясеневого древка; плоский наконечник скручивается сухим осенним листом. Ответный удар ахейца поистине страшен: его копье прошибает Парисов щит, будто сделанный из полотна, насквозь и входит... нет, не в бок! Гибкий соблазнитель чужих жен успевает изогнуться внутри широченного кожаного плаща-доспеха. В руках у Менелая — меч. Тяжелый, расширяющийся к концу клинка. Давай, белобрысый! Рази! Мы с тобой, Атрид!
— А-а-а-ах!
Хороший у троянца шлем. Без рогов, а хороший. Зато меч у нашего дрянь: в куски. Летят осколки, сверкают на солнце перьями из крыльев Ники-Победы. Была победа, летела, спешила, да попалась воронью на полдороге: растрепали крылатую, пустили пухом по ветру... беда, не победа.
— Зе-е-евс! будь ты проклят!!!
Кощунственный вопль ахейца, казалось, сотряс небо и землю. Сейчас, сейчас громовой перун разразит святотатца...
— Проклятие тебе. Олимпиец! Защитник подлых! В мертвой тишине, оглушенный ударом ли, криком ли, Парис медленно валится на колени. Овца, пред алтарем: миг, другой — и поползут змеи, шурша чешуей... Горло! Горло режь, пока он не в себе! У тебя в руке эфес с обломком лезвия: режь, дурак!.. Не слышит. Зазорно белобрысому слышать; зазорно резать. Ищет вечной славы, когда надо искать другого. Бросил сломанный меч (все видели?! вот я каков!), ухватил троянца за шлем. К нам тащит. Волоком. В плен, значит, беру! По-геройски! Подшлемный ремень туго впился петушку в шею, хрипит петушок, корчится. Кукарекает. Хоть бы задохся по дороге ненароком, скотина...
Краем глаза успеваю заметить: собственное отражение в троянских рядах. Волчий плащ, лук из рогов серны.
Только тетива — к груди, не к уху.
— Менелай!!! Он обернулся.
Я до сих пор горжусь этим своим криком.
Стрела, нацеленная в сердце, вошла младшему Атриду в левую руку. Над локтем. У него же — кровь! порченая... он же истечет!..
Где лекари?
— Где?! — эхом ревет Менелай, вырывая из раны стрелу и топча ее каблуками боевых caпог [27].
Глазами он ищет Париса, но петушка больше нет здесь. Лишь черное облако клубится под ногами. Черное, смешное облако. Однажды я уже видел такое: когда девушка в белом пеплосе летела через эфир, прочь от авлидского алтаря.
— Где эта тру сливая собака?! Я победил его! Я победил! Клятва! Отдайте Елену! Оставьте себе выкуп, все оставьте — Елену отдайте! Вы клялись!
— Слово басилея Приама! — башней выступает вперед старший Атрид, поддерживая брата.
— Клятва! Верните! — орут уже все. И я, кажется, тоже.
Троянцы, затравленно озираясь, начинают медленно пятиться. . — Подлые трусы! Выкормыши Ехидны!
— Клятвопреступники!
— Месть!
А народ-то: без лат, без оружия... смотреть народ пришел, по-честному...
%%%
Когда меньше чем через час два войска сходились на Фимбрийской равнине, сыпля проклятиями, рядом с Одиссеем случайно оказался Махаон-лекарь. Кругленький, румяный. На боку, рядом с ножнами, сумка примостилась: снадобья таскать.
— Как там наш? — окликнул его рыжий.
— Не поверишь! — В глазах лекаря светилось искреннее изумление. — Заросло, как на собаке! Даже перевязывать не пришлось. Святая кровь! Серебряная!..
Тогда Одиссей не успел осознать подлинный смысл этих слов.
Не успел даже удивиться в ответ. Потому что началось долгожданное: война по-человечески.
Эпод
ИТАКА. Западный склон горы Этос; дворцовая терраса
(Сфрагида)
Старая смоковница склоняется ко мне. Тянет сухие, узловатые руки, будто хочет обнять. Ты одряхлела, смоковница. Скрипишь на ветру, роняешь сухие листья, когда подруги еще вовсю щеголяют зеленью нарядов. У тебя недостает многих ветвей: пошли на растопку, взвились в небеса сизым дымом. Ты напоминаешь мне мою милую нянюшку. Эвриклея так же ждала меня, старилась, скрипела под ветром, теряя ветви и листья, — но держалась. До последнего.
Вот он, последний — я.
Порыв ветра приносит целую волну запахов: горечь миндаля, аромат лаванды, пряность цветущего персика (хотя персики давно отцвели!) — и вонь подгорающего на углях мяса. Эй, кто там, ротозеи! Переверните быстрей: сгорит ведь!
Так пахнет ночь на Итаке. Дома. Больше нигде ночь не пахнет так: всем сразу. Поют ступени под тяжелыми шагами. Знакомая тень перечеркивает рассохшиеся доски. Правильная тень: плоская, как и положено. Черная. Лежит на полу террасы, а не бродит вокруг, вздыхая безмолвно.
— Поднимайся, Диомед, — говорю я тени. — У меня вино осталось. Кислое, правда. Хочешь?
— Хочу, — откликается ночь, насквозь пронизанная лунным серебром. В следующий миг света на террасе становится больше. Тень удлиняется, ложится мне под ноги, а над ней завис ее хозяин: Диомед, сын Тидея.
Живой.
— Не спишь? — Он садится рядом. Берет у меня кувшин, делает несколько глотков прямо из горлышка.
— Да вот...
— Ну и ладно. Бывает.
Говорим ни о чем. Умолкаем. Ветер тайком прошмыгивает вдоль террасы, и вновь ноздри щекочет удивительный, неправильный, невозможный в это время года аромат цветущего персика. Хотя мне ли говорить о невозможном? Всю короткую жизнь я только тем и занимался, что пытался сделать невозможное возможным, а там — и единственно существующим.
Иногда получалось.
— У тебя хорошо, рыжий. Виноград, оливы. Тихо. Только море шумит. Что, снова мы вдвоем? Ночью, с глазу на глаз?! Может быть, мне опять попробовать убить тебя?..
Это он так шутит. В последнее время у него такие шутки.
Я ведь помню, Тидид. Я все помню...
%%%
...Сумерки лиловым покрывалом валились на Троаду. Падали, рушились, обрывались — и никак не могли упасть окончательно. В поле, в той стороне, где невидимкой притаилась Троя, загорались огни: десятки, сотни!
Костры.
Впервые троянцы не втянулись с темнотой в город, заночевав в поле. Сон бежал от Одиссея; от его шатра вражеский лагерь был неразличим, вот рыжий и взобрался на вал. Там и присел: на корточки.
Смотреть на кусочек будущей победы.
Росток возвращения.
Издали доносились переливы свирелей, вскрики цевниц, молодецкое гиканье. Значит, раскрашенный фракиец оказался проворен: дошел. Веселись, крепкостенная Троя! Не бывать больше в чистом поле страшному Не-Ел-Сиська! Сегодня ахейцев потеснили, завтра вообще в море скинем — хвала богам, вразумили, как воевать надо!
Радуйтесь, троянцы... — Лаэрти-и-ид!
Вот тебе и раз! Кто ж это шастает на ночь глядя? Неужто няня Эвриклея с Итаки приплыла: звать ужинать? Нет, не няня.
Жаль.
...Они ведь сначала ко мне пришли. В разведку отправить. Ты, говорят, Диомед, храбрец из храбрецов. Куда как богоравен: и Феба в бегство обратил, и Киприду — копьем, и Эниалия — копьем, и самого Громовержца — тройным загибом, потому как копьем не достать... Иди, разведай. Тут я тебя, рыжий, в спутники и затребовал".
«У нас с тобой много общего». — Я отобрал у Диомеда булькающий кувшин; хлебнул, как и он, прямо из горлышка. Пролил, конечно. Ну и ладно.
«В смысле, что вместе под Троей дрались?»
«Нет. Все там дрались».
«Оба выжили?»
«Нет».
«Тогда в чем же?!»
«Мы оба собирались убить друг друга. И не убили. Вот это — наиредчайшая редкость в нашей богами хранимой Ахайе. Это сближает. Не находишь?..»
— ...не меня случаем ищете, богоравные?.
— Лаэртид!
— Ты зачем туда забрался?
— Давай, спускайся сюда! Носит его, преисполненного...
Делать нечего: спускаюсь. Куда ж деваться, если вон сколько вождей рыжего ищет. Тут другое интересно: что они по ту сторону рва забыли?
Ну, перебрался через ров. Подошел. А у Агамемнона лицо так и сияет:
— Храбрейший из нас, Диомед, сын Тидея, в разведку с собою тебя, Одиссей хитроумный, взять пожелал! Если, говорит, сопутник мой он, из огня мы горящего оба к вам возвратимся! Давайте, возвращайтесь!
Ох, взяла меня досада! Опять носатый вещать принялся... Хотя разведка — дело правильное. Человеческое. Герои в разведку не ходят: все больше напролом. Другое озадачило: не понравилось, как Диомед на будущего спутника глядел, с которым из огня да в полымя.
По-геройски глядел, синеглазый.
Искоса.
— Польщен доверием, — говорю. — Готов оправдать.
Жаль только, оружия с собой не взял...
— А это мы мигом! — радостно заявляет Аякс-Большой. — Эй, богоравные! скинемся!
Вот ведь, бычара, помешал отвертеться.... Разоблачаются наши богоравные. Суетятся. Нестор с сыном факелами светят, чтоб мне, значит, видно было — а я примеряю. Полегче беру: в легком бегать-ползать способнее. Зато шлему я порадовался! Нет худа без добра: Мерион-критянин мне сперва меч одолжил, а после шлем дает. На ухо шепчет:
— Дарю. Насовсем. Я давно тебе отдать хотел, да все случая не было. Деда это твоего шлем, Автолика.
Я прямо онемел! Знаменитая штука: слыхать слыхал, а видеть не приходилось. Кожа вытерлась, но еще крепкая. Кабаньи клыки поверх растопырились устрашающе: не подходи, хуже будет! Вспомнилось: склоны Парнаса, крик: «Кабан! Кабан!..» Ладно, проплыли.
Надеваю шлем, кошусь на Диомеда: смотрит. Как я с вала — на троянские костры. И в уши снова: «Каба-а-ан»
Их, аргосский клич.
...когда мы вместе удалялись от лагеря, из дальней рощи ветер принес удивительный, неправильный, невозможный в это время года аромат цветущего персика.
«Знаешь, дружище... Я ведь нутром чуял: зачем, ты потащил меня в эту дурацкую разведку...» «Знаю».
Берег Скамандра, обычно пологий, здесь выгибался какой-то немыслимой кручей. Чтобы почти сразу опасть склоном, удовлетворив гордыню, к рощице корявых олив. Трава посвистывала под ногами, обжигаясь о края подошв; от далеких костров ржали кони. Диомед шел медленно, отставал, более всего напоминая не лазутчика, а случайного прохожего. Тяжкая дума томила аргосца, вот и горбился.
Наконец Одиссей не выдержал.
Обогнал, нарочито хрустя стеблями, пошел впереди. Подставив острию синего взгляда спину: незащищенную, открытую. Будто ладонь для рукопожатия. Понятное дело, это было глупей глупого и опасней опасного, но пусть понимают другие.
Шаг.
Шаг-декат[28].
Шаг-гекатост[29].
В безумии поступка крылась тишина и молчание ребенка, в последние дни капризного до умопомрачения. Так надо. После вчерашнего боя, когда Диомед, сын Тидея-Нечестивца, сражал богов и обменивался дарами с врагом: так надо. Он не ударит. Не сможет.
Звезды путались в ледяной росе.
— Я не могу, — мрачно сказал Диомед, обгоняя рыжего и останавливаясь.
Одиссей ждал.
— Я не могу бить в спину. Так было бы лучше, но я не могу. Погоди, дай мне убить тебя по-настоящему.
Короткий, обоюдоострый нож впитал свет луны, выглянувшей на миг. Сверкнул желтой уверенностью: по-настоящему я обязательно смогу. Один на один, лицом к лицу: обязательно.
— Ты предатель. — Одиссей даже не прикоснулся к своему мечу, полученному от щедрого критянина. Слова били беспощаднее. Наповал. Оплеуха порой надежней удара кулаком.
...Бей рабов!
Диомед задохнулся. Отступил на шаг — сто первый, решающий:
— Я? Ты говоришь это мне?!
— Я говорю это тебе. Ты — герой. Ты — раб собственной чести [30], и значит, предатель.
Даже в скудном мерцании звезд было видно: кровь бросилась аргосцу в лицо. Став похожим на эфиопа, Диомед поднял нож. В ушах, мороча, загремел водопад реки, низвергающейся с обрыва: прыгни — сгинешь.
Озарение: река — это его, Диомедов, гонг, панцирь и ребенок.
Вниз головой с обрыва.
— Нет, рыжий. Не дождешься. Сперва я скажу тебе все. Это ты подбил нерешительных и уговорил сомневающихся. Это ты лизал зад Семье, разоряясь на всех площадях. Это ты ездил в посольство, сделав войну неизбежной; это ты вовлек Не-Вскормленного-Грудью в его кровавые игры, помешав мне убить чудовище еще там, на скиросском пляже.
— Знаешь, ты все-таки герой, — устало бросил Одиссей. — Сперва говоришь, а потом бьешь. Если силы останутся.
— Заткнись! Ты подставил несчастного эвбейца! Ты рассорил Агамемнона с малышом, и теперь троянцы не боятся выходить... да что там выходить! — они не боятся ночевать в поле, без защиты стен! И последнее: во время поединка я видел лук в твоих руках. Если бы не выстрелил ликиец, выстрелил бы ты! В кого? В Париса — или в Менелая?!
Нож пойманной бабочкой бился в ладони аргосца.
— Рыжий хитрец, ты всегда был себе на уме! Что тебе пообещали. Любимчик? Жизнь?! Я заберу ее у тебя!
— Не кричи, — попросил Одиссей. — Троянцы услышат.
«...Если бы ты не сказал этого, я бы ударил. — Диомед повертел кувшин с вином, сделал глоток. Отер рот тыльной стороной ладони. — Я бы точно ударил. Ты хоть понимал, что говоришь?»
«Нет. Я не умею понимать».
Сонная рыба плеснула в реке. Звук неожиданно вознесся до небес: чутко шевельнулся Волопас, Плеяды разбежались к горизонту. Прервался хор цикад, и хриплое дыхание Диомеда вплелось в шорох листвы.
Комар сидел на лбу рыжего итакийца, безнаказанно жируя.
— А теперь скажу я. Потом, если захочешь, попробуй убить меня. Как угодно: по-настоящему, в спину, в лицо... если сможешь. Это ты собирал войска и являл собой пример истинного военачальника. Это ты беспрекословно отдал носатому жезл главнокомандующего, подчиняясь его идиотским приказам. Когда малыш стал лавагетом — смешным, наивным, ничего не смыслящим в искусстве стратегии! — именно ты поддержал его, приняв на себя бремя руководства. Это ты день за днем шел под троянские стены, прекрасно видя, что нас перемалывают в жерновах — а ты шел! Снова! Опять! Ты умеешь идти только по прямой, да?!
Синий взгляд блестит дорогим, дороже золота, железом. Каленым в святом огне ярости. Как же он похож на свою мать, Диомед Тидид, герой без страха и упрека!
От этого только труднее.
— Вчера началась настоящая война. Наша, человеческая; не для славы — для победы. И что делает великий герой Диомед? Он штурмует Трою?! Нет, он взахлеб сражает ненавистных богов, а вокруг рукоплещут глупцы, забыв о распахнутых настежь воротах. Как же, герой! Богоравный! Сойдясь в бою с вражеским вождем, ты вдруг начинаешь с ним лобызаться, вопя о побратимстве! Ясное дело: наш дедушка с его дедушкой сто лет назад вино хлестал... И все смотрят! Приветствуют! А троянцы тайком перестраиваются, укрывая раненых в тылу. Мы уже в воротах, мы на стенах, но Гектор предлагает очередной честный поединок — кто лезет на рожон первым? Кто страдает во всеуслышанье, что жребий пал на Аякса?! И наконец: кто отводит войска назад, дабы не мешать святому бою?!
Вот сейчас: он или ударит, или...
Последние слова: наотмашь.
— Диомед, вчера мы могли взять Трою. И опять не взяли. Надо говорить: почему?
%%%
От моря тянуло дальней дорогой. Смолеными бортами, кожаной оплеткой канатов. Пляской дельфинов. Тени жались к перилам, боясь шевельнуться, искоса поглядывая на сурового Старика. Я сидел один, горбясь, не слыша шагов Диомеда; зная лишь, что сейчас он спускается вниз, к морю. К дальней дороге, ждущей малого толчка — рассвета.
Друг мой, я очень боялся тогда, что ты все-таки сорвешься со своего обрыва, в пенное безумие. Герой убивает предателя — это так красиво! Аэды слюной изойдут... К счастью, тебе было дано увидеть слюнявую ложь этой красоты. Ты молчал, вслушиваясь в рокот невидимой реки без берегов, как я вслушивался в тишину у предела; ты долго молчал, идя вместе со мной от лагеря родного к лагерю вражескому. Учился подкрадываться? Не знаю. Но когда мы изловили встречного лазутчика, ты первым предложил ему легкую смерть в обмен на сведения; получасом раньше, наверное, ты бы предложил ему свободу. И позже, когда ты в тишине резал спящих фракийских пелтастов[31] — дюжину? больше?! — пока я отгонял табун... Нас встречали, как героев, я глубокомысленно кивал, принимая хвалы, а тебя (помню!) все разбирал странный хохот, больше похожий на клекот орла над добычей. Едва Нестор, кряхтя и шумно восторгаясь крадеными конями, заявил, что нас обоих одинаково любит великая дочь Громовержца, Афина Паллада, — ты и вовсе заржал, состязаясь с вожаком-жеребцом. Я люблю тебя, Диомед, сын Тидея; мы, безумцы, должны держаться друг друга, если хотим, чтобы уцелел наш безумный, безумный, безумный мир.
Нас было трое против Трои; стало — четверо.
Не так красиво звучит, зато надежней.
Я вернусь.
ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ АНТРОПОМАХИЯ [32]
Запели жрецы, распахнулись врата — восхищенный
Пал на колени народ:
Чудовищный конь, с расписной головой, золоченый,
В солнечном блеске грядет.
Горе тебе, Илион! Многолюдный, могучий, великий,
Горе тебе, Илион!
Ревом жрецов и народными кликами дикий
Голос Кассандры — пророческий вопль — заглушен!
И. БунинСТРОФА-1 День, когда кричал малыш
Память ты, моя память!.. Кипящая кровь на руках.
Из покоя ночной террасы — в огонь. ...Грохот удара. Треск сдавшихся насилию ворот. Битва захлебывается рычанием; на миг вслушивается, с пеной на губах, чтобы взреветь с удесятеренной силой. Круша буковые доски, огромный камень расшвыривает защитников, а следом в проломе возникает светящийся от гордости Гектор. Мать-Ехидна! — он ведь и правда светится! Сквозь доспех! Боевой клич: до небес. В разбитые ворота: толпа. Навстречу ей: щетина копий — дыбом. Это гвардейцы-наемники Агамемнона. Это их строй: «вепрь». С кораблей и со стены градом сыплются стрелы, дротики, свистят камни, вылетая из пращей, — и кожей, сердцем, комом в глотке и ледышкой в животе Одиссей чует: все идет как надо. По-человечески. Главное: дождаться. Не упустить. Вовремя сжать пальцы, едва" победа опрометчивой мухой падет в ладонь. Превратить ладонь в кулак. Ударить наотмашь. «Все идет как надо, — шепчет рыжий последнюю молитву, заклиная судьбу. — Мы отступаем, еще немного, и они будут у кораблей... еще капельку, еще чуть-чуть!.. Все идет как надо...»
Нет.
Это я промахнулся.
И все-таки: Одиссей, сын Лаэрта, как же тебе трудно сюда возвращаться!..
%%%
Убедить ахейцев в необходимости укрепить лагерь оказалось проще простого. Когда надо, я бываю очень убедительным. Особенно в последнее время. Диомед же вовсе не мудрствовал: нахмурился (вылитый дедушка-Зевс!), рявкнул на своих — и работа закипела. Патроклу вообще хватило намека: дуреющие от вынужденного безделья мирмидонцы вспыхнули муравьиным, прадедовским задором. Ров углубить? Вал поднять? Вместо частокола — стену?! С радостью!
Хоть какое-то дело!
Хитрюга Нестор все понял с полуслова. Ясновидец наш даже очередное знамение ему до конца истолковать не успел. Закряхтел, старичина, раскашлялся: враг в поле, совсем обнаглел! Вот-вот на нас грянут — все за работу, кому жизнь дорога! Оказалось: дорога много кому. Повозки к Идским лесам журавлями полетели. Словно не быков — ветер запрягли. А едва Аякс-Большой, надрывно зевая, обнаружил, что его участок обороны уже далеко не лучший... Гром, молния! Раненых и тех на вал выгнал. Верных прихлебателей — пинками. И сам живым примером: в одиночку такие бревна ворочал, что и впятером пуп надорвешь!
Редкий случай, когда геройство на пользу. Трудятся богоравные. Бревенчатые стены пуще каменных: к небесам поднимают. Во рву колья прорезались, растут драконьими клыками. Башни, как грибы после дождя. Диву даюсь: солнце едва за полдень перевалило, а вдоль берега целая крепость выросла, насколько глаз хватает. Небось Посейдон с Аполлоном — и те дольше строили!
Кстати, о великом: последним очнулся вождь вождей. Выбрался из шатра, сверкнул орлиным взором. Протер глаза; еще раз сверкнул. Носом длинным туда-сюда повел. Хотел было возмутиться: кто приказал?! Да, видать, раздумал... Нет, возмутился-таки: почему это у ванакта микенского стена ниже других? Почему без башен?! Навались, Тартар вас в душу!
...Тише мыши подкрался Калхант: «Знаешь, Лаэртид... а ведь забыли». Что забыли, спрашиваю. «Моленье на удачу строительства. Жертвы богам. Освященье забыли». — «Эх, пророк! — говорю. — Что ж ты?!» А он губами бледными пожевал, и шепотом, от которого мороз по коже: «Знаешь... может, оно и к лучшему...»
Вот она, красавица: война наизнанку. Не мы снаружи — враг. Не они внутри — мы. Не нам карабкаться, не им сверху бить на выбор. И подкрепления троянские корова языком слизала. Зачем подкреплять, делиться славой, когда вот-вот, и растопчем! Завертелась мельница в обратную сторону. Герои учатся воевать по-человечески, как младенцы учатся ходить: спотыкаясь, разбивая лоб. Спасибо тебе, дядя Алким. Побудь еще немного со мной:
здесь, под Троей. Ты ведь так хотел потрогать войну руками. Спасибо и тебе, Паламед-эвбеец. За науку обращать ловушку против ловца. Глубокоуважаемые желают, чтобы поколение обреченных никуда не ушло отсюда? Чудесно. Мы никуда не уходим. Всем видно? С земли?! С неба?! Давайте, любезные, ваша очередь: ого-го, и на стенку. Забыв про защиту. Вслепую. Нет в поле неуязвимого Лигерона. Есть построенная наспех деревянная пустяковина: шлемами закидаем! Ощутите на губах сладостный вкус отравы: близкой победы. Рвитесь вперед, не считаясь с потерями. Лезьте на башни, падайте в ров на острия кольев, гибните под убийственным ливнем. Как еще вчера лезли, падали и гибли — мы. Война навыворот. Пришедшие нападать, мы будем обороняться. Сколько понадобится. Зажав озверевших от нетерпения троянцев в теснине холмов. Изматывая. Перемалывая. И выжидая: он наступит, заветный миг, когда один из четырех подаст условленный знак...
%%%
— А-а-а!
Строй микенцев прорван. Пал «вепрь», рвут добычу псы войны. Упавших втаптывают в песок, черно-багровый от крови. А мне все чудится: не кровь — расплавленное серебро хлещет из ран. Вскипает на песке, смертным паром уходит ввысь. Развод Земли и Неба. Приданое должно быть возвращено. Серебристый ихор вернется в чертоги Олимпа, Глубокоуважаемые вздохнут с облегчением и навсегда отгородятся от смертных куполом небес.
Плоской нам мнится земля, меднокованным кажется небо...
Что еще нам мнится? Что кажется?!
В центре копейщики-дарданы под водительством яростного Гектора достигли кораблей. Чтобы из-за бортов, с установленных заблаговременно мачт, из укрытых щитами «вороньих гнезд» им на головы рухнул новый град стрел! Осиным роем, стаей хищных птиц смерть врывается в дарданские ряды, кося всех без разбора.
Подавать сигнал?
Нет, рано...
К гвардейцам-наемникам Агамемнона, держащимся на честном слове и верности долгу, бегут пилосцы Нестора. Выравнивают строй; начинается тупое топтание на месте. Бронза скрежещет о медь, ноги взрывают мелкую гальку, тысячи глоток изрыгают проклятия и богохульства. Хула простительна. Оправдана. Здесь люди дерутся за собственную жизнь. Люди убивают людей. Как могут. По-человечески. И богам здесь нет места.
— Мы разбиты.
Оборачиваемся, как по команде. Одновременно: я и Диомед. Держусь за бок: на два пальца глубже, и привет печени от шустрого копейщика! Диомед морщится, припадает на правую ногу. Это уже Парис стрелой расстарался... Перед нами — вождь вождей. Агамемнон тоже ранен: левая рука покоится на груди, из-под повязки сочится алое серебро. Ванакт микенский чернее тучи — словно блаженный эфиоп... Нет, иначе: словно обугленная головешка. На сожженном лице рдеют, подергиваясь седым пеплом, багряные угли глаз. Знаю, что это причуды моего безумия, а остальные видят просто осунувшегося и хмурого Атрида — но ничего не могу с собой поделать.
Восставший с костра мертвец стоит предо мной.
Позади маячат еще люди. Тени. Сквозь них видно море, корабли, наседающих троянцев... Лишь Нестор выглядит однозначно живым: из-под сивых косм и морщин, как из-под воды, проступает хитрое молодое лицо. Этот всех переживет! В последние дни я плохо различаю живых и мертвых. Убивать время есть. Хоронить — некогда. Беспокойные души бродят в толчее резни, пропитываясь боевой яростью, как лепешка — бараньим жиром. Хоть пифосами из Леты забвенье черпай: не вытравить. Вчера, в дикой свалке на подступах к лагерю, мой Старик сорвался: воздел копье, и во главе ринувшихся за ним призраков наголову разбил отряд фракийцев. Живых или мертвых — не помню. Не до того было. А сам Старик после сумасшедшего боя куда-то исчез до самого рассвета.
Прятался.
От стыда, наверное.
— Мы разбиты. Я отдаю приказ спускать корабли на воду.
Сгорел вождь. Совсем. Одни глаза остались, да и те вот-вот угаснут. Прах; пепел. И костер погребальный не нужен. Вот только мне вместе с ним на костер — нельзя.
Мне надо вернуться.
...Косо взглянув на него, возгласил Одиссей многоумный:
«Слово какое, властитель, из уст у тебя излетело? Пагубный! Лучше другим бы каким-либо воинством робким Ты предводил...»
Когда я вспоминаю день битвы у кораблей, аэд-невидимка начинает ехидно бубнить мне в уши всякую чушь. Хотя насчет «косо взглянув» — чистая правда. А все остальное... Даже сейчас краснею, едва всплывает: что я сказал носатому. Стыдно. Будто мама по губам надавала.
А он не по губам. Погас он. До конца.
— Дрянной из меня вождь, — шепчет. — Ты прав, Лаэртид. Кругом прав. Я сделал все, что мог. Кто сделает лучше?
— Я.
Да, Диомед, сын Тидея. Вот он, твой час! В синих глазах аргосца торжество. Перехват командования — ключевая часть нашего замысла. «Еще рано», — шепчу я одними губами, боясь заразы геройства, но Диомед и сам это понимает, как никто другой.
— Идоменей! Бери критян, кто остался, ударите на левом фланге. Гонца к Аяксу Теламониду: саламинцы остаются в резерве. Но сам он пусть возьмет на себя Гектора. Остановить, не убивая. Любой ценой!..
Это по-нашему. Любой ценой — это по-человечески. Аякс-Малый (что, и он здесь?) смерчем срывается с места. Миг — и сгинул.
А синеглазый ко мне оборачивается:
— Я знаю, что рано, рыжий. Надо выманить всех:
%%%
Мы выманивали троянцев целую неделю. Неделю кровавой круговерти. Краткие перемирия, когда одни хоронили, кого успевали, а другие спешно достраивали укрепления — и снова медный грохот копий о щиты. Едкая пыль застилает поле боя. Набивается в рот, в нос, в глаза, но некогда проморгаться, утереть с лица грязь. Пот и пыль — это грязь. Война и люди: грязь. Земля и небо, возжелавшие развода... Глупо играть словами, когда играешь жизнью. Надо делать простое: стрелять, колоть, рубить, уворачиваться и снова — стрелять, колоть, рубить... Очень простое дело. Мы медленно пятились к лагерю, не вводя в бой резерв, мы убивали и умирали, и Глубокоуважаемые наверняка пребывали в умилении, глядя на нас.
Издалека.
После того как впавший в боевое неистовство Диомед поднял руку на Семью, я не видел на поле боя посторонних.
Намеренно придерживая самых ретивых, мы отходили там, где могли б удержаться. Жертва за жертвой — и тро-янцы наконец поверили! В нас. В себя. В победу. Тогда, в угаре беспрерывной бойни, мне казалось: благословен будь их промах! Теперь они наши! Я ослеп от пыли войны. Я точно так же промахнулся, уверовав в собственную непогрешимость.
«Дурак! Дурак!» — насмешливое уханье совы доносится до меня эхом голоса Далеко Разящего.
«Ага, дурак», — согласно киваю я. Зеленая звезда с удивлением косится сверху; подмигиваю в ответ. Только дурак верит в собственную мудрость. В блудницу-удачу, готовую изменить тебе с первым встречным. Только дурак мог с упоением окунуться в засасывающий омут войны, и война снисходительно похлопывала дурака по плечу: молодец, рыжий. Давай-убивай, отступай-побеждай. С меня причитается.
Копье в печень.
Все-таки я везучий. Достал меня хорек этот, Сок Ги-пассид. Как обещал. В печенку и целил, зараза. Да в запале вскользь саданул. Или это я сам вывернулся? Теперь уж не вспомнить. Другое помню: боль в боку. Рвущая, страшная. И разом пелена с глаз: долой. Вокруг — трупы, пыль с кровью смешалась. Наши прочь бегут. Один я остался, один в поле, воин-не-воин, а напротив сволочь эта злорадствует. Вторым копьем замахивается. Наконечник хороший такой: широкий, бронзовый, слева чуть щербатый.
Приплыли, рыжий. Вернуться собирался, говоришь?
Сразу вся злость, ярость, отчаяние — сгинули. И ребенок мой заткнулся, перестал плакать-смеяться, и все звуки исчезли куда-то.
Одна любовь осталась. Ничего больше.
Не хорька я перед собой видел. Жену видел. Рыжую мою. Сына, молоком перемазанного. Отца, как он в саду копается. Маму за штопкой... Няню. Я люблю вас всех. А больше всех — тебя, мой несостоявшийся убийца. За удар твой люблю. За то, что меня мне вернул. Вот он я. Снова: Одиссей, сын Лаэрта. Я люблю тебя, хорек, и брата твоего люблю, когда он взвыл над твоим мертвым телом и кинулся мстить... это так по-человечески, спасибо вам обоим...
Успели наши. Вернулись, прикрыли. А то у меня от большой любви в глазах темнеть начало. Махаон-лекарь потом, когда повязку накладывал, сказал: кровищи из тебя, рыжий, вытекло — любой другой помер бы давно. А я глаза скосил, гляжу: руки у лекаря прозрачные. Из хрусталя. И внутри искорки танцуют: золотистые. От тех искорок кровь моя мигом схватывается.
Коркой серебряной.
— Как битва-то? — спрашиваю.
— Лупят нас, Лаэртид. В хвост и в гриву. К самому рву подступили.
А у меня в ответ — улыбка на лицо выползает. Змеей на алтарь.
— ...Тысяча гарпий ему в печенку!!!
— Кому?
— Аяксу! Большому. Дубина этакая! Гектора камнем зашиб!
— Насмерть?!
— Да нет, к счастью...
Диомед вот-вот начнет метать громы и молнии, и я отодвигаюсь подальше. Плохо дело. Без Гектора троянцам — как нам без малыша. Вон: пятиться начали. Рано, Ламия их заешь! Рано! Весь наш замечательный, подлый и хитроумный замысел летит псу под хвост. Но, оказывается, Диомед уже взял себя в руки.
Плюется короткими, резкими приказами.
— Может, оно и к лучшему, — последний гонец уносится прочь, вздымая фонтанчики песка, и синеглазый вновь оборачивается ко мне. — Оклемается Гектор, снова драться полезет. И остальных погонит: взашей. Знаю я его. Пускай еще раз через ров суются, в ворота ломятся: больше положим. Есть еще время.
Ага, киваю. Есть.
Навалом.
%%%
Память ты, моя память!.. Дай передышку. Угомонись, жертва и палач. Позволь хоть чуточку отдохнуть от войны, назойливой любовницы, преследующей меня по пятам. Даймон палевом плече, даже на Итаку явилась. За обещанной сгоряча гекатомбой. Я ведь мог не убивать. А вышло, будто не мог. Я привык убивать, смерть стала моим ремеслом, будничной работой, которую я выполнял по-разному: с отвращением, с равнодушием или скукой, с любовью...
А иногда — с удовольствием.
Это значит, что я еще не вернулся. Ты молчишь, мой Старик. Смотришь на меня и молчишь. О чем ты молчишь, Старик ? О последнем выборе ? Узнаю; я выберу. Позже. У меня еще есть время. Посидеть на террасе, слушая вечный дуэт ветра и моря. Отхлебнуть прямо из горлышка терпкую кислятину с папиного виноградника. Перестать резать черную овцу, угощая кровью толпы теней. На миг забыть обо всем: отступить за бытие, за грань... просто забыть. Ведь это очень просто! — быть самим собой.
Сегодняшним.
Уже без вчера; еще без завтра.
— Гектор! Гектор и Троя! Это снаружи.
— Очухался, — кривая ухмылка Диомеда. — Живуч, зараза. Ты готов, рыжий?
— Да, Тидид.
В следующий миг кое-как укрепленные заново ворота летят наземь. Пылающий ушибленным величием Гектор готов разбиться в лепешку, но оправдаться за стыд поражения. В лицо атакующим: стрелы, дротики, камни. С мачт, с кораблей. Ведь это было, это все уже было однажды: наша самая первая высадка. Змея на алтаре свилась кольцом. Вцепилась в собственный хвост. Так и кажется: сейчас малыш вернется к прерванной игре. Взорвется эхом давнего крика: «Дядя Диомед! Я! Пусти меня!..»
И, ринувшись за морским оборотнем, мы отшвырнем врага прочь.
Но на этот раз...
— Гонец от Патрокла! Патрокл спрашивает: пора?!
— Рано. Пусть ждет.
Море кипит вокруг кораблей. Людской шторм. Аякс-Большой, вскочив на борт и перепрыгивая с одного корабля на другой, впал в буйство. Отбивается причальным шестом — а в нем ведь двадцать два локтя длины! Медью окован! Убийственный шест буквально расшвыривает дарданов с пеласгами, и в гуще толчеи волчком вертится Аякс-Малый. Успевая везде, где требуется быстрая смерть. О, скорее туда, к ним, в кипенье бури... Натыкаюсь на острый, как игла, взгляд Старика. Трезвею. Мое место — здесь. Моя война: ждать. Не хуже, не лучше любой другой войны. Рана тут ни при чем.
Вот и факел.
Пора.
Бегать, оказывается, можно и с дыркой в боку. Если очень припечет: можно. До корабля Протесилая, замершего на ясеневых катках, сотня шагов. Добегу. Доползу. Прости, филакиец, но тебе корабль больше не понадобится. А нам: да. Если бы ты знал, для чего — я уверен, ты бы первым схватил факел.
Добежал.
Перед глазами: радуга. Взбесилась, цветная. Сердце, кулачный боец, частит короткими, болезненными тычками. Под ребра. В горло. В пятки. Размахиваюсь, рискуя вывихнуть плечо. Факел, описав короткую дымную Дугу, ныряет через борт. Смолой и маслом озаботились загодя: обшивка вспыхивает без раздумий.
Сигнал подан.
Мгновения сгорают на ветру одно за другим, как полыхает сейчас насквозь просмоленный корабль Протесилая. Ликуй, Троя! Горят ахейские суда! Вперед!
— Троя и Гектор!
И, львиным ревом против овечьего блеяния, громом Зевесовым, штормовым девятым валом, воздев к небесам обидную кличку, словно знамя, от речного берега обрушивается:
— ...Ахилл! Ахилл с нами!..
Прислушалась война. Замерла. Не почудилось ли?
Нет.
Не почудилось!
Благословен миг, когда в поле вылетает знакомая колесница, запряженная гнедым и белым жеребцами, когда все, кто еще не ослеп, могут наконец лицезреть наводящую ужас фигуру в знакомом доспехе и глухом, гривастом шлеме...
— Вернулся!
— Ахилл с нами!..
Ликование. Ярость. Экстаз обретения. Волна накрывает меня с головой. Если бы не рана, я бы тоже, захле-г бываясь воплем, ринулся туда, где сейчас решался исход сражения. Помешала боль в боку. Остановила, отрезвила. Кое-как доковылял к Диомеду, встал рядом. Зато носатый куда-то пропал. Небось не выдержал, в бой полез, однорукий наш.
— Бей!..
Отсюда хорошо видно, как с южного фланга, следуя через гати за колесницей Лигерона, в бухтуМуравьиной рекой вливаются мирмидонцы. И вместе с ними — фила-кийцы, которых привел с собой под Трою Протесилай, Без малого пять тысяч свежих, сильных, истомленных ожиданием бойцов! С севера, из-под скалистых круч Ройтейона, катятся саламинцы Аякса-Болыдого: второй резерв. А с кораблей, возле которых замешкалась часть испуганных дарданов, прямо им на головы начинают сыпаться таившиеся в трюмах мои свинопасы.
В тесноте: для пастырей абордажа лучше не придумать.
— Ахилл!
— А-а-ах!..
Всего лишь пятеро знают правду. Мы с Диомедом, Калхант, Патрокл — и малыш Лигерон, изнывающий сейчас вдали от битвы. Да, ему очень хотелось доиграть любимую игру, но он дал слово. Пока зазнайка Носач сам не явится к нему, умолять на коленях... Малыш держит свое слово. Он привык играть по правилам. И это чудесно. Потому что мне страшно подумать, что было бы, вступи Не-Вскормленный-Грудью в бой!
«Ему выжгли сердце! в бою он убивает всех... слышишь? Всех, кто рядом?..»
Я слышу, Патрокл.
Слышишь ли ты?! — одетый в доспех малыша, скрыв лицо под забралом шлема. Рано поседевший изгнанник, неистовая, убийственная любовь с копьем в руке — мой Патрокл, ты ведь знаешь: фланговые «клещи», явление неуязвимого оборотня, ложь в панцире ослепляющей правды... Мы оба знаем: главное — другое. Вот они, два великих полководца: Ужас и Восторг.
Наш восторг и их ужас.
%%%
...Почему так?
...Почему именно избитый, отчаявшийся, умирающий, загнанный в угол и прижатый к стенке, едва завидев мчащееся от поворота дороги спасение, ощутив в руке твердость ясеневого древка, вместо затхлого дыхания обреченности вдохнув хмельной глоток надежды...
...Почему он становится опасней Гидры и смертоносней Медузы, и в его еще недавно тусклых глазах: крылья победы?!
Ответы — убийцы вопросов.
%%%
Это уже случалось с Одиссеем. Совсем недавно: целую вечность назад, в Авлиде. Когда черное облако окутало дуреху Ифигению, и рыжий басилей вдруг раздвоился. Сейчас памятное ощущение вернулось, сильно качнув землю под ногами. Битва давно откатилась от искореженных укреплений, в лагере остались мертвецы да раненые. Первых было много, очень много, особенно дарданов, пеласгов, ликийцев... странно: язык не поворачивался назвать их врагами. Вторых — куда меньше. Но убирать трупы или заботиться о собственной ущербной плоти никто не спешил. Взобравшись на вал, все смотрели туда, где пыльное облако, взблескивая сполохами металла, неотвратимо двигалось к замершей на холмах Трое. Моргали, терли глаза, густо налитые кровью: там, в глазах, щедро проливая алое с серебром, билось отражение боя. Исход близился.
Бок дергал гнилым зубом. Мучил. Издевался. Чувствуя себя Прометеем [33] в час явления коршуна-палача, Одиссей скрипел зубами. Не в силах разобрать подробности, рыжий видел лишь, что защитники города в панике отступают, бегут, бросая оружие, а ахейцы гонят их к Скейским воротам. Будто итакийские овчарки — овец. Сбивая в кучу. Направляя. Безнаказанно и сосредоточенно. Почти сразу взгляд сделался чужим, Далеко Разящим, влюбленным в битву, приближая ее вплотную. Рывком. Так разбегаются жарким днем: взлететь над краем скалы и, вздымая тучу брызг, окунуться в соленую прохладу моря. Рыжий прометей знал, что по-прежнему стоит на валу рядом с Диомедом, но все его чувства кричали о другом.
...В лицо падают Скейские ворота. Нараспашку. Под ногами бьется в падучей колесница. Буйствует возничий. Терзает стрекалом взмыленных, одуревших коней, готовых рвать врагов зубами, подобно бистонским жеребцам-людоедам. И человек, которого уже нельзя назвать человеком, как нельзя сопротивляться судьбе, разит копьем направо и налево. Ну же, Патрокл! Давай! Ворвись внутрь, остальные устремятся следом — и война захлебнется! Словно в ответ беззвучному призыву, с неба рушится златая смерть. Чума с проказой, слитые воедино и посланные в полет. Не глядя, Патрокл закрывается щитом, и смерть надрывно визжит, скользя по гладким бляхам.
Вон он, на стене, прямо над воротами: старый знакомый.
Лавр и дельфин.
«Неужели Патрокл сумел отбить стрелу Аполлона?!» — с опозданием вздрагивает рыжий. Что-то страшное закипает в душе. Рвется наружу. Пеной из котла: прочь. Велит потянуться домой, на Итаку, встать напротив прекрасного бога, лучником против лучника... Закушенная губа отрезвляет. Теперь лишь слизнуть соленую капельку крови, и все. А Патрокл, прянув с колесницы наземь и замахиваясь копьем, взбирается... нет, просто взбегает на стену!
Ведь это просто: на общем восхищении, словно на крыльях.
С земли — в небо.
— Куда?! Стой! Оставь бога! Скорее в ворота... скорее!..
Тщетно. Одиссей нем; Патрокл глух. Вот он уже на самом верху стены. В глазах прекрасного стрелка, лавра и дельфина, брезгливость сменяется досадой. Нога, обутая в драгоценную сандалию, пинает ничтожество, смертного, тварь дрожащую в щит, и Патрокл кубарем летит со стены.
Пятьдесят локтей.
Это значит: насмерть.
Жаль, смертный сейчас не знает, что это значит и значит ли хоть что-то. Смертный встает. Подбирает оброненное в падении копье. Каждое движение сквозит скрытой и оттого стократ более опасной угрозой. А вокруг единым вздохом трепещут враги с друзьями, глядя, как поднимается с земли неуязвимый оборотень.
— ...Ахилл! Ахиллес!
Под хор выкриков троянцы спешно втягивались в ворота.
— Оставь его! Оставь бога, дурак! Герой!..
Казалось, зубы сотрутся от скрипучего отчаяния. Бессильный Одиссей смотрел, как трижды взбегает на стену
Патрокл — и трижды, опрокинутый ударом бога, падает, чтобы снова встать.
На четвертый раз путь ему преградил Гектор. Сверкнули молнии копий. Удар. Еще удар. Еще. Гектор пятился, тяжело дыша. Величайший герой Трои ничего не мог поделать с Патроклом. Потому что сейчас перед ним был не Патрокл — иной. Неуязвимый боец, Не-Вскормленный-Грудью, трижды поднявший руку на бога и оставшийся в живых...
Да, Гектор. Ты отступил еще на шаг.
— А-хилл! А-хил-лес!
Светящаяся тень (разве тени дано светиться?!) скользнула со стены вниз.
— Патрокл! Сзади!
Нет. Не слышит. Взмах руки бога, и глухой шлем летит прочь с головы бойца.
Лопнули ремешки доспеха.
— Это не он! Не Ахилл! Это... — кругами от брошенного в воду камня покатилось вокруг.
Разом лишившись сил, Патрокл рванул превратившийся в оковы доспех, пытаясь высвободиться. Но какой-то ретивый троянец уже замахнулся копьем, коротко ткнул в спину — и почти одновременно копье Гектора вонзилось лже-Ахиллу в низ живота. Крик Патрокла был страшен.
Заставив отшатнуться и Гектора, и ретивого копейщика, и даже бога.
— Проклятье тебе, Феб, бьющий в спину! Подлец! Если б не ты, я бы сразил десять... двадцать таких, как Гектор! Прокля...
...Говорят, в Лидии есть такие паучихи, которые после близости пожирают обессиленных самцов. Лидийцы зовут их «ночными блудницами». Я не знаю, что хотят этим сказать лидийцы. Но иногда мне кажется, что победа — не женщина с крыльями. Победа — прожорливая пау-чиха, чья близость губительна. Ночная блудница. Не Ника[34] — Никто[35].
Сойдись с ней накоротке, и имя тебе: никто.
АНТИСТРОФА-1
Не загоняйте крыс в угол
Разом накатила усталость. Безразличие. Слабость. Все погибло. Замысел рухнул, погребая под собой хитроумных глупцов. Рядом охнул Диомед: схватился за раненую ногу и сел, почти упал. Остатки гаснущего прозрения мерцали под плотно сомкнутыми веками: упоенный победой Гектор спешит завладеть доспехами убитого... безвольно опустив руки, пятятся назад ахейцы... словно сквозь воду, сквозь сонное забытье, сквозь текучую вязкость смолы, преодолевая путы слабости и отчаяния, к телу Патрокла рвутся трое: оба Аякса и белобрысый Менелай...
Пыльная пелена.
Слепота.
У рыжего закружилась голова, ион поспешил опуститься на песок рядом с аргосским ванактом. Чуть в стороне обнаружился ванакт микенский: тоже сидел на песке, уставясь пустыми глазами в одному ему ведомую даль. Или глубину. Или, если начистоту: бездну. Рана открылась, повязка насквозь промокла, но не телесная боль терзала сейчас гордого Атрида.
— Все.
Слово получилось маленьким и горьким. Завязь, раздумавшая становиться плодом. Диомед в ответ лишь молча кивнул.
Не удивился.
Ничего не спросил.
От речных гатей вырвалась колесница. Возничий мучил коней стрекалом, гоня их к валу. Без доспеха, без шлема, бесстыдно нагой, словно в день появления на свет, зато с «лакедемонским серпом» в руке — малыш Лигерон сейчас был невменяем.
Вот он. Здесь.
Спрыгнул на ходу; опередив коней, схватил под уздцы, останавливая. Рванул так, что едва не завалил всю упряжку. Отчетливо хрустнуло дышло.
— Где Патрокл?!! Дядя Одиссей, ты... ты же обещал!.. И, забыв или боясь дождаться ответа, выбежал на самый гребень.
Замер, всматриваясь.
Когда Не-Вскормленный-Грудью наконец повернулся и обвел взглядом растерзанный лагерь. Одиссей торопливо уставился в землю. Отчего-то казалось, что лицо малыша в этот миг должно быть подобно лику Медузы Горгоны[36], обращавшей людей в камень. Дядя Алким рассказывал; Прекраснейшая стала чудовищем от отчаяния, изнасилованная Колебателем Земли...
За спиной раздался тихий, хриплый голос вождя вождей. Бывшего вождя вождей:
— Я помню твою клятву, сын Пелея. Я... У старшего Атрида не хватило сил. Выдохнул только:
— ...Вот. На коленях. Перед тобой. И еще, одним горлом:
— ...спаси нас.
Одиссей наконец отважился взглянуть на малыша. Сын Пелея-Счастливчика и Фетиды Глубинной не слушал былого обидчика. Торжество? Упоение? Нет. Пади сейчас небо на колени: тщетно. Малыш уходил от долгожданного покаяния, повернувшись спиной, уходил прочь, без движения стоя на валу и глядя в поле, где другие люди бились за тело убитого друга — брата! наставника! возлюбленного!.. — он стоял, а мнилось, что уходит вверх.
Просто вверх.
Внизу безраздельно царила война. Убивая, умирая и вновь возвращаясь. Малыш стоял долго. Он стоял вечно, а потом закричал. Небо действительно упало на колени. Раскололось. Брызнуло ужасом. Одиссей мгновенно оглох, сидевший рядом Диомед зажал руками уши, в тщетной попытке уберечь их от жуткого, нелюдского вопля боли, ярости и ненависти.
Тщетно.
Крик рушился отовсюду.
И эхом откликалось дитя у предела, плача и смеясь.
— Дядя Одиссей, мне надоело играть. Я устал. Я боюсь, что выиграю.
— Не бойся.
— Дядя Одиссей, здесь скучно. Это плохая игра. Можно, я поиграю во что-нибудь другое?
— Поиграй в царя мертвецов...
Одиссей вскочил. Пошатнулся. С трудом устоял на ногах. Превратившись в малого идола пред великим кумиром, рыжий смотрел, как валятся замертво, пораженные криком Лигерона, бегущие в первых рядах троянцы, как ветер гонит назад уцелевших, наполняя сердца священным ужасом. Мрачное облако сошло на нагую фигуру малыша, подсвеченное изнутри, будто туча, пожравшая закат; боевой эгидой пал на плечи белый огонь и затвердел сияющим доспехом — шлем скрыл лицо, пожаром мерцая из глазных прорезей, а руку отяготил щит, где были и земля, и небо, и звезды, и народы, враждующие меж собой. Словно неуязвимость оборотня вскипала страшной пеной, вырываясь наружу; словно истинная сущность выдавливалась изо всех пор смертного тела, творя чудо.
Впервые Одиссей видел, как человек становится богом.
По полю к сыну Пелея уже мчалась его колесница — пустая, без возницы. То ли кони сами учуяли хозяина, то ли... Не важно. Сейчас это было уже не важно.
Неуязвимый Ахилл, новый бог Войны, вновь вышел в поле.
И мы вцепились в войну зубами.
Троада.
Долина Скамандра (Меносический гимн)
«Воспевание ярости» (греч.) Ср. «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...» (Илиада. I, 1.)
...Серые плащи, шкуры, мех дыбом от ярости. Стелятся над землей хищным туманом, клацают медными челюстями шлемов. Кривые, желтые клыки; кривые, желтые (золотые?) ножи. Ликийские волки. Дичь охоты, переливы утробного воя — озноб терзает плоть когтями страха. Налетают, рвут, валятся на плечи. Полосатый рой критских ос клубится над стаей. Жалит насмерть, гибнет, путается в густой шерсти: осы? волки? люди?
Рев, скрежет, жужжание.
И над всем — чудовищный крик малыша.
...Дрожит Ватиейский холм. Что за титан мучит земную плоть? Корявые пальцы рвут, терзают, мечут во все стороны неподъемные глыбы. Каменный ливень. Двое троянцев, бившихся плечом к плечу, погребены под одним валуном. Рухнул с неба, пал надгробьем: лишь рука наружу торчит, скребет грязь. А дождь не кончается. А титан не качается. А холм плачет мутными ручьями.
Свирепствует Аякс-Большой, Аякс-Опоясанный[37]. И над его буйством — дикий крик малыша.
...Невидимкой, призраком — в небо. Плывет под ногами колесница без возничего. Убит возничий. Плывет под ногами колесница без лошадей. Убиты лошади. Обрезаны постромки: наспех, как попало. Стою? Мчусь? Лечу?!. Ползут змеи из колчана: лук-алтарь велит. Нет змеям конца, нет начала. Чужие взгляды скользят мимо, не задевая. Рыжий? Какой рыжий? никакого рыжего... Только лук, только змеи. Только дар легкой смерти шипит в полете. Ведь это просто! Это очень просто! Прочь, тени, прочь! По смутной дороге... Одиссей, сын Лаэрта, дождит стрелами. И над моим дождем — взахлеб кричит малыш. Не-Вскормленный-Грудью, дитя мое невозможное, ты ли взорвался у предела?
...Бык. Огромный, бешеный. Врассыпную — волки. Извернулись, повисли на боках; опали поздней листвой. Под копыта. На рога. В клочья. К лохмотьям облаков, зайдясь визгом. Глянец шкуры, утробное мычание: пляшет земля вприсядку. Содрогается твердь до самого Аида, вот-вот треснет. Откроет взглядам исподнее: преисподнюю. Громит бык ликийскую стаю. Топчет. Спасает родных ос.
Идоменей-критянин из рода древних Миносов, наварх[38] корабельный, себя забыл. Племянник Минотавра: по-бычьи.
И — крик малыша поверх.
Вопль новорожденного.
...Запруженная трупами, восстала река. Из берегов. Из русла. В пенной броне, в кипящем доспехе. Бежит малыш Лигерон, легок на ногу, а по пятам она: река. Крутит, вертит... остановился малыш. Не малыш, не воин-герой, даже не оборотень морской — пламя во плоти. Сошелся жар с холодом, вода с огнем. Столкнулись. Бурлит Кронов котел, заходится пузырями. Кончается время, скоро все выйдет. Листья на ивах: пепел. Тина у берега: сушь. Обваренные фракийцы корчатся в лозняке. Таращат рыбьи глаза. А огонь не спадает, ярится.
Смирись, вода!
Если Патрокл убит, кто меня остановит?
...Взвыла от боли война. Наотмашь врага — копьем. У нее, у войны, копий много: все в одном сошлись. Все панцири в одну эгиду, все шлемы в один: глухой, коне-гривый. Лишь угли в прорезях пылают. Ударила война человека, а человек — войну. Чем было: камнем. Большим, ребристым; черным. Не камень, межа на границе земли и неба. Пала война наземь, хрипит. Расползается бранью. Одно копье снова многими стало, один шлем — шлемами, одна эгида — тысячами.
Говорят, Афина Паллада всегда Арея-Мужегубца сильнее. Не знаю. Не видел. Не было там совы, не было оливы, и крепости тоже не было. Диомед был, сын Тидея. Это видел. А малыш все кричал. Знаете, что он кричал?
— Мое-е-е!..
Словно жизнь забрали, а он в чужих смертях роется, ищет. Не найдет никак.
%%%
Тишина скучно бродит по ночной террасе. Словно губка, впитала в пористую сердцевину: вопли, лязг, ржание. Прошлое — в настоящее. Даже сейчас, в тишине и безопасности вспоминая этот безумный день, я вздрагиваю. В настоящем — по-настоящему. Проще всего уверить себя: померещилось. В горячке, в запале. Критянин, обернувшийся быком: морок. Малыш-огонь, пожирающий живую реку: бред. Люди-волки, змеи-стрелы: чушь. Ливень из камней, содрогания тверди, собственная невидимость... Почудилось, пригрезилось; никогда не происходило.
Выпить вина, пожать плечами.
Забыть.
Встаю, иду к перилам. Под пальцами — резная крепость дерева; под ногами — еле слышная песня досок. Не кормовой настил: родина. Прорицатель Калхант, ты сказал мне однажды, в такой же ночной тиши: «Руины Трои, и люди, как боги, над этими руинами». Я спросил, что это значит, и ты ответил так, что я поверил без лишних вопросов. «Ужас Титаномахии покажется детским лепетом», — ответил ты.
В день, когда кричал малыш, ощутив себя богами, мы не перешли последний предел. А могли.
...Молния бьет в клубящийся ком мрака. — Мое-е-е!
Почти сразу, диким надрывом многоголосья:
— Гектор! Гектора убили!
Скейские ворота были открыты. И Дарданские ворота были открыты. И троянцы пеной вливались в город, подставляя беззащитные спины. Но малыш Лигерон уже мчался на колеснице к ахейскому лагерю, волоча по земле бездыханное тело, привязанное за ноги, — и следом, с кличами радости, бежали люди как боги, забыв о воротах, врагах и победе, только что давшейся им в руки.
Ведь Гектор убит!
Победа тихонько просачивалась сквозь пальцы.
Смеюсь в ночи.
Одержимый, я бежал тогда вместе с остальными, захлебываясь счастьем.
%%%
Волны ласково вылизывали измученный берег. Лишь самую малость не дотянувшись до корабельных бортов, спешили обратно. В воде плескались звезды. Позади затихал праздничный, пьяный лагерь. Одиссей брел вдоль Сигейской бухты: один. В сандалиях хлюпало, сырость крутила щиколотки, намекая на скользкое удовольствие судороги. Время от времени рыжий заходил в воду поглубже, до пояса, набирал полные ладони и плескал себе в лицо.
Щеки горели, будто у потерявшей невинность девицы.
А вот бок больше не болел. Совсем. Рана затянулась без следа. Белесый, еле заметный рубец — пустяки. И у Диомеда тоже. И у старшего Атрида... у младшего...
Ближе к мысу он остановился. Там, где притихший Скамандр вливался в море, смиряя бег речных коней в диком Посейдоновом табуне, сидела женщина. Рыжая. Зеленоглазая. Прямо на песке. Месяц, ухмыляясь застывшим оскалом безумца, вдруг позволил увидеть все до мельчайших подробностей. Да, женщина. Да, рыжая.
Да, звездная, слезная зелень взгляда.
«Пенелопа?..»
Обожгло; схлынуло. На вид женщине было около сорока, да и сходство с далекой женой, если приглядеться, выходило поверхностным. Случайным. Правда всегда острее и жестче; правда — нож. Особенно когда рядом с тайной плакальщицей рыжий увидел тень. Мужскую тень. С навсегда седыми висками.
— О, мой Патрокл! — слабый стон. «Не плачь...» — молчала тень.
— Я убил его, Патрокл! Я отдал его тело псам!.. «Не плачь, малыш...» — молчала тень.
— Нас похоронят вместе! О, мой Патрокл! Я велю им — вместе... под одним курганом...
«Не плачь, малыш. Не надо. Хорошо, пускай вместе...»
Не в силах оторваться от жуткой беседы слепого с немым, Одиссей прикипел к месту. Дрожь вошла в ноги. Мокрый подол хитона обвис свинцовым листом, взятым с ледника. Рядом молчал Старик, опираясь на копье. Лицо Старика было суровым; беспощадным оно было, это лицо. Как всегда, когда вечный спутник смотрел на неприкаянные души. А малыш Лигерон, морской оборотень, ничего не видя, не замечая, оплакивал погибшего возлюбленного. Навзрыд. У моря под небом — на земле.
Пока еще на земле.
— Оставь его, — сказали за спиной у Одиссея. Рыжий обернулся.
— Радуйся, Ангел, — ответил невпопад. Сегодня аэд-бродяга раздумал притворяться. Сгинул тощий балагур, язвительный насмешник, жертва взыскательных слушателей с большой дороги. Стройный юноша стоял перед Одиссеем, опершись на кадуцей со змеями, и трепет слюдяных крылышек осенял его сандалии.
— Мы похожи, — бросил рыжий, и опять невпопад.
— К сожалению, да, — кивнул Ангел.
— А почему не пришла она?
— Боится.
— Кого?
— Тебя. Говорит, ты станешь ругаться. Одиссей оглядел Ангела с головы до ног, и тот понял. Он ведь умел понимать. Дернул щекой:
— Ну, не только тебя. Еще отца боится. Все-таки молния...
— А ты?
— И я боюсь. Затем и пришел. Поговорить надо.
— О чем?
— О войне, — сказал Ангел. — О нашей с тобой войне. Давай-ка отойдем подальше...
Двусмысленность сказанного задрожала струной кифары. О нашей с тобой... о войне. Легкое движение жезла, и воздух пронизали стеклистые нити. Клубясь, сплетаясь, они звали, манили шагнуть туда, где нет войны, нашей, вашей, общей и ничьей, нет ночного одинокого плача, погребальных костров и Трои, которая подобна блуднице, открывшей свое лоно скопцу. Рыжий отвернулся, чувствуя, как в глазницах отвердевает знакомый, ледяной, любящий — змеиный! — взгляд Далеко Разящего:
— Нет. Тайные пути нужны, когда не любишь. Когда любишь, просто идешь. Здесь говорить будем.
— Ну давай хоть сядем!
— Садись, если хочешь. А я постою. Песок сырой... Звезды бились в волнах, словно рыбы на крючке.
Память ты, моя память!..
Есть места, куда легко возвращаться. Легко вспоминать. Как легко мне сейчас вернуться к нашему разговору с Ангелом. Приятно? радостно? — ничуть. Просто легко.
Стоит только смежить веки.
«Ты знаешь, что трупы противятся тлению?» — спросил он.
«Чьи трупы?»
Ангел укоризненно моргнул:
«Плохое время для шуток, рыжий. Ваши трупы. Тело убитого Патрокла. Тело убитого Гектора. Вокруг троянского лавагета воют псы. Их науськивали, пинали, но они отказываются терзать покойника».
«Собаки вообще умнее людей, — сказал я. — Знаешь, у меня был пес...»
«Перестань. Я пришел к тебе, как пришел бы к самому себе, будь у меня такая возможность. Вдобавок ты защищен клятвой Семьи. И последнее: не сумев понять, ты хотя бы будешь слушать».
Рядом одобрительно кивнул мой Старик.
"Там, на поле, — Ангел зачем-то уставился в небо, будто надеялся увидеть над головой отражение поля битвы, — ваши мертвые лежат, как живые. Вот-вот встанут.
Не все, далеко не все, но многие. Собрав вас здесь. Семья совершила большую глупость. Может быть, последнюю глупость. Таких, как мы, нельзя прижимать к стенке". «Таких, как вы?»
«Таких, как мы, — с нажимом повторил он. — Я с самого начала был против. Вот, посмотри... у тебя есть нож?»
«Я давно перестал быть маленьким, Ангел. Я вырос. У меня есть нож».
Взяв протянутый нож, он властно сжал мое запястье.
Я ждал.
«Смотри, рыжий...»
Острие кольнуло в ладонь. Больно не было. Совсем. Бросив кадуцей на песок (обиженное шипение змей...), Ангел рассеянно ткнул ножом себя. Тоже в ладонь, в мясистую часть под большим пальцем. Мы стояли друг напротив друга, держа на ладонях по капле крови. Серебряный слиток — у меня. Алый лепесток шиповника — у него. И темнота не была помехой для зрения.
Я чувствовал, как мне становится скучно.
«Вы мечете утесы, пылаете огнем и сражаете врагов сотнями. — Ангел сжал кулак: тесно-тесно. До костяной белизны. — Становитесь нетленными. Ваши крики сотрясают землю. Я испугался еще тогда, в Авлиде, когда вы закинули эту дуру на край света».
Слова падали размеренно и тяжко, каплями в клепсидре. Была такая клепсидра, в микенском храме Крона, ставшая позднее змеей на алтаре. Были такие слова...
«Ты, рыжий, способен убедить кого угодно в чем угодно. Стреляя, ты невидим, и для этого тебе не нужен древний шлем-хтоний.[39] Старший Атрид обрел дар подчинять, могучий сын Теламона скоро будет вырывать горы с корнем. Диомед, сын Тидея, в бою неукротим. Лигерон Пелид... о нем я вообще не хочу говорить. Он хуже, чем ошибка. Он — убийственный промах». Ангел замолчал, кусая губы.
Было слышно, как поодаль стонет неуязвимый оборотень, оплакивая мертвеца.
«Говори, — сказал я. Скука обволакивала меня влажным одеялом, делая голову ясной; молчал ребенок у предела, и любовь шуршала прибоем у ног. — Раз пришел, говори».
«Рыжий, это уже было однажды! Слабые, прижатые к стенке безысходности, пожранные Кроновым котлом... Нас нельзя прижимать к стенке! Мы начинаем меняться! В тот раз сильные пали, а слабые возвысились, и Семья поднялась над древностью титанов! Все повторяется, рыжий!»
«Не кричи, — попросил я. — Пожалуйста».
«Мы — крысы, рыжий. Все. Одной крови, одного племени. И нам не выбраться из котла без грызни. Я пробовал... не выходит. Как только оказываешься снаружи, все твое естество тянет тебя обратно. Противиться выше сил. Устанавливая котел на огонь, дед-Временщик попросил Семью собраться в Троаде: дескать, так ему будет легче. Словно в старое, доброе время, сказал дед. И подмигнул. Я даже сейчас вижу эту гримасу... закрою глаза и вижу. Западня на добычу и на ловца. Месть в личине одолжения. Мы — крысы, но вы — крысиные волки. Завтра Аякс подымет над головой Идский кряж, и вы возьмете Трою: как боги. Завтра Ахиллес...»
Он назвал малыша ненавистной кличкой, но презрения не вышло. Вышел страх.
«Завтра Ахиллес станет убивать не сотнями — тысячами, и вы возьмете Трою: как боги. Завтра ты подойдешь к Скейским воротам, просто скажешь: „Откройте!“ — и вы возьмете Трою: как боги! И тогда...»
«Что — тогда?»
«Бог не может укрыться от бога. Мы увидим друг друга над развалинами Трои. Вы увидите нас, какие мы есть; мы увидим вас, какими вы стали. Так уже было однажды. Я не знаю исхода, но, скорее всего, тебе с этого момента будет некуда возвращаться. Или ты просто не захочешь: возвращаться. Забудешь, что это значит. Мы ведь похожи, рыжий... знаешь, я-не вернулся».
%%%
Одиссей зашел поглубже в море. Зачерпнул воды, но умываться раздумал. Просто смотрел на влажные звезды, на живое серебро в ладонях.
— Задача для безумца. — Смех вышел искренним, и Ангел за спиной поднял с песка кадуцей, словно для защиты. — Удерживать крыс в смертельно опасном углу, в то же время не позволяя им стать волками. Потому что драка волков в крысиной норе разрушит нору. Ты прав: мы похожи больше, чем хотелось бы. Если я утром скажу Аяксу, что его запредельная мощь пагубна, он рассмеется мне в лицо. О хитрый Ангел, ты нашел единственно нужные слова: если мы перейдем межу, я не смогу вернуться. Скажи еще: взятие города по-божески — это последний предел?
— Нет. Последний предел — победа над равным. Я обокрал Семью, и родичи не сумели отыскать похищенное. Еще я обманул деда, заставив Атланта принять на плечи небо. Но это я... кража, ложь в одеждах правды. Хитрость.
Бог на побегушках. Пустышка. Остальные для победы убивали. Так им было проще.
Он осекся. Глухо поправился:
— Так нам проще. Так мы понимаем ее: победу. Именно поэтому мы обязательно вцепимся друг другу в глотки. С вечным боевым кличем: «Любой ценой!» И проклятый Ахиллес наконец сыграет в предназначенную ему до рождения игру: разрушение миропорядка. Сыграет от земли до неба: убивать себе подобных. Без разбора. Всех, кто рядом; кто хочет играть, и кто не хочет играть. А Сторукие на сей раз не придут на помощь гибнущему Номосу. Не смогут оставить Тартар без охраны. И кто бы ни победил...
Растопырив пальцы, Одиссей смотрел, как текут серебряные нити.
— Это очень просто, — задумчиво обронил он. — Проще простого. Потому что лук и жизнь — одно. Ангел, если ты передашь Семье, что я. Одиссей, сын Лаэрта, берусь убить любого из ахейцев, кто вплотную приблизится к рубежу изменения, — мне помогут ненадолго добраться до Тенедоса?
— Ты безумней, чем я полагал. Обещать убить любого нового бога...
— До сих пор я выполнял все свои обещания. Ну как?
— Хорошо. Значит, Тенедос? Этот островок на самой границе котла... Да, думаю, ты доберешься. И что: вкусив свободы, вернешься обратно под Трою?
Рыжий улыбнулся:
— Я вернусь.
%%%
...Серебро предало меня! Мое серебро в моей крови. Наше — в нашей. Проклятый Ангел сказал ровно столько, сколько требовалось. Чтобы нельзя было понять, но можно видеть и делать. О, представляю, как хихикал на Островах Блаженства старый бог, получивший амнистию в обмен на Кронов котел! Потирал ладошки, вспоминая угрюмые бездны Тартара, ухмылялся в усы, если они у него есть. Сыщется ли наслаждение выше, острее и яростней: дети, низвергнувшие тебя с высот, как ты прежде низверг своего отца, повторяют роковую ошибку?!
И просят тебя, старый бог, хитрый бог, о помощи... Воюя по-человечески, я бежал наперегонки с серебром в собственной крови. Козни, ложь, западня, удар в спину — и чудеса, совершаемые день за днем. Чудо, чудовище. Деды, отцы, сыновья. Одной крови: серебро росы в бутоне шиповника. Одной сути: любой ценой! Не хочешь быть героем? — будешь мертвецом. Или нетленным владыкой эфира. Царство нам небесное. Таких, как мы, нельзя прижимать к стенке: мы можем уйти в небо. Уйти без возврата, без надежды хотя бы выкрикнуть, обернувшись через плечо: «Я вернусь!» — ибо если и вернемся, то вернемся уже не мы. С детства видя невиданное, я путал тени с богами, чтобы однажды узнать в убийственном прозрении: они и впрямь похожи. Те и другие никогда не возвращаются. Прежними — никогда.
Да, мой Старик? Ну что же ты? Хихикни, потри ладони!
«Ты сердишься, значит, ты не прав. — Старик сел рядом на корточки, примостив на коленях тень копья. — Иди спать. Завтра много дел».
И я пошел спать. Долго ворочался, скрипел зубами. А потом увидел два сна: злой и добрый. В злом сне я был на Итаке. Моя жена не любила — она обожала меня. Отец изнасиловал любимый сад, чтобы осыпать цветами следы моих ног. Мама вместе с нянюшкой по вечерам пели мне гимны вместо колыбельной. Мой сын завидовал мне смертельной завистью, мечтая стать таким же. Если для этого понадобится оскопить родителя или сбросить в бездну: пусть. Ведь последний предел: победа над равным. Я был на Итаке, но это уже ничего не значило. Я навсегда потерял дом; корабль остался без якоря. И в рабынях у меня была сова, и олива, и крепость.
В добром сне она любила меня: крепость, сова и олива. Пришла во тьму шатра, тихонько легла рядом. Была нежна и томительно-покорна. Молчала. Я благодарен тебе за твое молчание, синеглазая, я никогда не встречусь с тобой в небе, чтобы сравнить крепость твоего копья с любовью моей стрелы!.. Молчи, пожалуйста, молчи...
Жаль, она все-таки заговорила.
— Папа кивнул, сдвинув брови, — сказала она за миг до исчезновения. — Если ты выполнишь обещанное, благодарность Семьи превысит все ожидания.
— Не сомневаюсь, — ответил я. И змеи ползли с алтарей. Было только очень жаль доброго сна, оказавшегося на поверку злой явью.
Наутро Одиссей велел готовить «Пенелопу» к отплытию.
СТРОФА-II
Человек выше смертного смотрит...
Еврипид, «Вакханки».Море прихорашивалось, строя небесам глазки. Есть такие нардовые румяна, с блестками: искрилась каждая волна. Кружево пены соперничало белизной с первым снегом. Разбежаться, махнуть через борт... рухнуть плашмя в жгучие брызги, огласив простор воплем счастья. Чаек распугать: вдребезги. Одиссей стоял на носу, скучно глядя перед собой. Скука спасала от лишних мыслей. За спиной крякали гребцы, без особого воодушевления проклиная полный штиль, и пустовала на корме будка кибернетиса[40]: править кораблем было ни к чему.
Ангел сдержал слово.
Уже знакомые стеклистые нити, еле различимые в брызгах пены, клубились перед «Пенелопой». Временами сплетались в странный узор: сотня луков, связанных тетивами меж собой, или прожилки на листьях оливы, рассеченные зигзагами молний. Плохо видно. Гребцам не видно вовсе. Или притворяются, хитрюги. Вон, песню затянули:
Остров Заката Манит покоем, Ручьями плещет. Не пей, о странник, Из тех ручьев. Покой опасен, Покой обманчив...Зыбкое марево колыхнулось, встревоженное песней. И снова пошло плести тенета, увлекая корабль за собой. К малому, ничем не примечательному островку по имени Тенедос. На самой границе котла. На самой... Словно тысяча рук вцепилась в одежду. Тысяча когтей — в кожу. Тысяча криков — в душу. Тысяча недоубитых врагов: эй! куда?! Лишь сейчас рыжий в полной мере ощутил, что хотел сказать Ангел, произнося: «Как только оказываешься снаружи, все твое естество тянет тебя обратно. Противиться нет сил...» Одиссей еще не оказался снаружи. Но уже: тянуло. Вернись! — покинутой женой голосила тоскующая Троя. Вернись!.. — взывала оставленная на произвол судьбы война. Вернись, молю! — надрывно пели берега Скамандра, и серебро в крови плавилось, сжигая сердце.
Никогда раньше Одиссею не хотелось так вернуться домой, как сейчас — обратно под троянские неприступные стены. Что звало? Тайная западня? Или дорога в небо, где люди как боги и боги как люди?!
Какая разница, если ответы — убийцы вопросов... Гребцов рыжий подбирал лично. Вглядываясь в каждого свинопаса: вспоминал, прикидывал. Не самых сильных. Не самых верных. Самых тугоухих и корявых душой. Угадал: кряхтят, морщатся, но держатся. Их ведь тоже: тянет. Зовет. Милые, продержитесь еще чуточку! Очень надо... очень...
— Быстрей! — властно крикнул рыжий. — Нажми! И ощутил: пузыри сошлись краями. Срослись. Каждый пузырь — Номос. Каждый гребец — Номос. И его, Одиссея, приказ увлекает россыпь пузырьков к краю. Я не есть все, но я есть во всем. Обождите лопаться! Рано...
Калхант уверял, что сумеет правильно объяснить вождям «Конского союза» причину временного отъезда сына Лаэрта. Талдычил какую-то ахинею о знамениях и пророчествах, умолял поторопиться. Обернуться хотя бы до конца перемирия, заключенного на двенадцать дней. Одиссей не стал ему объяснять, что до Тенедоса пути — день от
силы. И правильно не стал. Ясновидцу виднее. Раз просит, надо прислушаться.
День, два — в кипении Кронова котла эти понятия теряли смысл. И все равно: надо успеть хотя бы к разбору алтарей. А, вон и скалы на горизонте.
Приплыли.
%%%
Помню, пришлось очень долго бродить в ущельях. Островку цена — сушеная маслина, а забредешь поглубже, утонешь в каменных осыпях, и кажется: пропал пропадом. Не выйти. Трижды обошел бывшую заставу тро-янцев, вырезанную нами еще перед высадкой. Вьюнок, ядовитый плющ: некому восстанавливать, да и незачем. Кричал. Что кричал? — что все, то и я. «Эй! — кричал. — Отзовись!» Эхо кривлялось, передразнивая. Гребцов я оставил на берегу, приказав ждать. К вечеру вернулся: поужинали, переночевали, укутавшись в плащи, и с рассветом я вновь принялся мерить остров.
— Эй!
Тишина. Одни горлицы булькают в шевелюре можжевельника.
— Отзовись!
Как же, отозвались. Дождешься тут.
Лишь на третьи сутки мне удалось найти его. Того самого жирного олизонца, которого мы оставили здесь. Труса, укрывшегося в скалах. Беглеца с прекрасной, чудесной, замечательной войны, где алое становится серебряным и наоборот. Дезертир лежал близ растерзанного непогодой шалаша: косматый, исхудавший, голова в парше. Козья шкура в ногах. Без сознания или спящий? — неясно. Но, к счастью, живой.
Иначе я не был уверен, что отыщу нужную мне вещь. Взяв несчастного на руки (он оказался легкий-легкий, будто ребенок), я пошел было к кораблю. Но на пятом или шестом шаге олизонец очнулся.
— А-а-а!
С силой, рожденной ужасом, он рванулся прочь. Я споткнулся, с размаху уселся на острые зубы щебня; шипя от боли, проводил олизонца взглядом. Скачет, как коза. Нырнул за одинокий валун, вокруг которого не росло ни былинки, начал судорожно рыться в щели под камнем. Я ожидал: брызнут муравьи, зашуршат вспугнутые мокрицы... ну хоть уж-птицеед, на худой конец, блеснет чешуей, уползая. Нет. Валун был средоточием мертвого покоя. Оазис пустыни среди буйства жизни. Лишь руки: шарят, ищут.
— П-прочь! Не п-п... п-подходи!
Бедный заика. Он синел, дергал кадыком, в муках рожая каждое слово. Но руки его не заикались. Быстрые, жадные руки. Наверное, будь на моем месте кто другой, и знай этот другой, что достал перепуганный трус из-под камня, — бежал бы без оглядки.
Лавр и дельфин: бежал бы.
Олива и крепость: во весь дух.
Молния.
А я вот сижу. Моргаю.
— Уб-б-б... Убью!
Он даже не потрудился схватить лук. Или у него давно не было лука. Как не было жизни: одно прозябание на необитаемом островке. Но стрелы — остались. Знакомые со времен моего бегства в эпигоны. Пытаясь обмануть войну и угрожая всем страшной смертью — о да, олизонец не соврал нам. . Память ты, моя память!
...Но другое я запомнил навсегда. В сундуке, аккуратно завернутый в свиную шкуру, лежал колчан со стрелами. Наверное, когда придет час умирать, я бестрепетно встречу приход Таната-Железносердого. Я рассмеюсь ему в лицо, ибо видел смерть, способную убить смерть, несмотря на все ее бессмертие.
Я видел стрелы, омоченные в яде Лернейской гидры.
— Уб-бью!
— Зачем? — спросил я, садясь поудобнее. Безумный вопрос. Но иначе его было не остановить. Мы, безумцы, умеем ладить друг с другом.
— Убью! — Он еще раз взмахнул стрелой, держа ее у оперения, как странный и хрупкий меч. Затем огляделся. Без перехода спросил: — У тебя с-с-с!.. с-с!.. с-сыр есть?
— Есть. На корабле.
— 0-в-в... овечий?!
— Ага. Соленый.
Слюна потекла из его рта, путаясь в колтуне бороды.
— С-соленый... забери меня отсюда. Я д-да!.. д-д-да!.. давно хотел — сам... с-сам!.. б-боялся только...
Глядя на стрелу, дрожащую в грязной руке, я внезапно догадался, чего давно хотел олизонец. Чего боялся. Я бы на его месте тоже боялся. Кем бы он ни был, в его крови наверняка пенилась толика проклятого серебра. Троя звала его, как звала сейчас меня. Могучая прелесть войны влекла олизонца к себе, с границы котла в сердцевину, в кипень судьбы, страшила и влекла, пугала и тянула, но дезертир потерял возможность покинуть островок. Зато обрел возможность потерять рассудок.
От страха потерять жизнь.
— Вот! В-в-вот!..
Он пал на колени. Вновь сунулся в щель под мертвым камнем.
— 3-з-за!.. За-а-а...
Вытащил полусгнивший колчан. С медным, до сих пор целым, только зеленым дном. Вдруг совершенно перестал заикаться:
— Забери! Забери себе! Забери меня — отсюда! Больше ничего нет, только это... Я буду хорошей тенью! послушной! тихой!.. не могу сам — страшно...
Хорошо, что у нашего разговора не оказалось слушателей. Точно рехнулись бы. Так вот за кого ты меня принял, бедолага! Вот за кем готов идти — по смутной дороге! И между нами двумя незримо стоял третий безумец: осколок эпохи героев, костистый старик по имени Геракл. Плач на окраине Калидона. Самоубийца, оставивший жирному олизонцу ужасное наследство — за последнюю услугу.
— Пошли, — сказал я, вставая.
%%%
На корабле, едва «Пенелопа» отчалила, несчастный сразу забился в будку кибернетиса. Будто пес в конуру. При попытке извлечь его оттуда, чтобы накормить, стал буйствовать. Наконец хищно схватил предложенный круг сыра; набил рот и, брызжа слюной, начал истово дергать канаты. Одиссей пригляделся: олизонец пытался править на Трою. Никогда в жизни не стоявший у кормила, он тем не менее каким-то чутьем угадывал нужные действия.
— Давай лучше я? — ласково предложил рыжий. Вожделенный колчан уже покоился в сундуке, укрытый от посторонних глаз.
— Д-да... д-давай! — внезапно согласился олизонец, громко чавкая. — Ты л-л-лу!.. л-лу!... ч-ч-ч...
— Лучник?
— Д-да! Ты лучше. Ты лучше всех. Одиссей шагнул в будку, вытесняя несчастного дезертира наружу.
Взялся за кормило.
— Эй! — заорали сверху, из «вороньего гнезда». — Там лодка!
...Память ты, моя память! Ведь мне не понадобилось лезть на мачту, чтобы увидеть. Я, наоборот, зажмурился. И явилось само: на юго-западе, вне границы котла (рубеж ощущался с предельной, почти животной остротой!) мельтешит лодка-кимба. Ходит по строго очерченной дуге, глупо плещет парусом. Словно кутенок: тычется носом в равнодушную суку, путается в шерсти.
Никак не отыщет сосцов.
Даже сейчас мои руки непроизвольно дергаются. Как дернулись тогда, вышвырнув олизонца из будки и направив «Пенелопу» прочь от Трои. Вопреки властному зову. Вопреки тысяче криков, когтей, пальцев; вопреки тысяче недоубитых врагов. Откуда я знал, что сумею хотя бы на миг прорвать тайный занавес?! — Нет, я не знал. Я видел, чувствовал и делал.
«Надо!» — кричал ребенок у предела.
«Надо...» — шептала скука, и тихо вторила ей любовь.
Надо... и стеклистое марево послушно ринулось впереди корабля, убежденное беззвучным воплем души. Открывая смутную дорогу. Лодка на грани вдруг остановилась. Завертелась волчком, вспенивая воду; тоже двинулась навстречу. Похоже, люди в лодке лишь сейчас увидели «Пенелопу». Возникший на пустом месте ветер обезумел: мы шли под туго натянувшимися парусами, и малый парус на лодке также наполнился попутным дыханием. Под истошные протесты олизонца — двое гребцов скрутили его, пытавшегося остановить, развернуть обратно, на Трою — пентеконтера и кимба, корабль и лодка сближались, разрывая паутину границы.
Быстрее!.. Еще быстрее!
И меньше получаса спустя, когда на борт «Пенелопы» поднялись мужчина, женщина и юноша...
%%%
— Ты чего на меня вылупился, рыжий? Не нравлюсь?!
— Нравишься... Ты мертвый, да? Он засмеялся. Счастливо, радостно. Протесилай из Филаки.
...На вид ему было под шестьдесят. И тень его выглядела вполне обычной.
%%%
Когда Ангел, которого филакиец упрямо именовал Пустышкой — не вкладывая, впрочем, в прозвище никакого оскорбительного смысла, и даже напротив...
Нет. , Надо иначе.
На обратном пути, занявшем отчего-то больше недели, Одиссею постоянно снился один и тот же сон. Навязчивый, неотступный. Рыжий бежал, бежал, бежал по смутной дороге, а вокруг царили поминки, похожие на праздник, и праздник, похожий на состязания, и состязания, подобные войне, и война, подобная бреду. Ободряющие возгласы, мираж победы впереди, победы со злыми, кожистыми крыльями, вожделенный приз, расплывающийся призраком; и он бежал, бежал вместе с Другими — по смутной дороге, сплошь заваленной вонючим калом скота, влекомого на убой. Было очень важно не вступить в одну из этих лепешек, не дать ноге, обутой в беговой башмак с открытыми пальцами, поскользнуться;
Одиссей слышал хриплое дыхание соперников, их проклятия, когда, забрызганные бычьим дерьмом, они падали в грязь, выбывая из гонки. «Зелена Одиссеева старость!» — надрываясь, кричал кто-то издалека, и недоставало сил возмутиться: какая старость? чья?! — рыжий мчался, прыгал, огибая скользкие, мерзкие ловушки, а кругом царили лишь брызги и брань: вот упал один, второй, третий...
И где-то рядом (в небе?..), обуянные боевой слепотой, бились на перунах копий синеглазый Диомед и Аякс-Большой.
Здесь Одиссей обычно просыпался.
%%%
А вот теперь можно и по-прежнему.
Когда Ангел, которого филакиец упрямо именовал Пустышкой — не вкладывая, впрочем, в прозвище никакого оскорбительного смысла, и даже напротив, — когда Ангел провел лже-убитого тайными путями в родную Фессалию... Сперва Протесилаю показалось, что все-таки можно дважды войти в одну реку. Провинциальная Филака, ивы над рекой, блеянье овец. Дом. Но бывшего возницу Геракла никто не узнавал. Пожимали плечами. Втихомолку посмеивались; смеяться громко боялись. Дом оказался западней, волчьей ямой, на дне которой приглашающе скалились острые колья чужбины. Да и собственно в дом — памятный, обжитый сверху донизу! — его не пустили. Объявили самозванцем, пригрозили натравить собак.
Жена, сильно постаревшая, смотрела на вернувшегося мужа без малейшей тени узнавания.
— Ты понимаешь, рыжий, они воздвигли мне храм! Храм Иолая-Первого! Я зашел, а там, гидра ее сожри, статуя... И что самое гнусное: ведь не похожа! Ни капельки!
Перед вернувшимся Протесилаем замаячил выбор. Раздвоенный, наподобие змеиного жала. Взять родину силой, будто девку-упрямицу, устроить бойню, мечом подтвердив свое право. Или тихо уйти. Исчезнуть. Перестать быть здесь и сейчас, что означало: перестать быть самим собой. По рассказу филакийца становилось ясно: подобный выбор ему не в новинку. Неизвестно, что бывший возница Геракла выбрал в первый раз, но сейчас он колебался. Слишком любил жену, чтобы уйти; слишком не любил пустую кровь, чтобы остаться.
— Ночью я пробрался к ней в спальню. Тайком. Представляешь, рыжий: к собственной жене! Как вор! Как бог...
Увиденное потрясло филакийца. В спальне находилась еще одна статуя: дерево и воск. В постели у супруги. Украшенная лентами, насквозь пропахшая дымом жертвенника. И дурман Лиссы[41] клубился в увядших глазах, когда женщина смотрела на мертвое подобие мужа.
Он не выдержал. Сбросил идола на пол. Растоптал. Долго, истово, с острым наслаждением давил подошвами обломки кумира, нагло занявшего чужое место, и, только увидев сияющий, знакомый, любимый взгляд жены, только услышав ее сдавленный стон: «Ты?! Вернулся...», понял, что действительно вернулся.
Утром дом перетрясли сверху донизу.
Искали.
Вопили.
А двое уходили на юг. Пешком. Двое немолодых людей, по-юношески обняв друг друга за плечи.
%%%
— ...Из города в город. И все ближе, ближе!.. Рыжий, ты представить не можешь, что со мной творилось. Будто сердце здесь оставил, в Троаде. Рассказывали: ночью вставал, спящий, и сюда шел. Ловили, связывали, я веревки рвал... я ведь бешеный. Жена со мной намучилась. Говорят, мой храм там, в Филаке, разрушили... сперва не знал. Но чувствую: дряхлеть начал. Кашляю все время. Зубы выпадают, сволочи. А мне нельзя... на кого я ее оставлю?..
Протесилай сгорбился. Перевел дух. Старый, еще крепкий, но уже видно: на исходе. Жена филакийца молча сидела на носовой полупалубе. Штопала ношеную хламиду, достав из котомки. Закончив, принялась вшивать в полы плаща свинцовые шарики. В разговор не вмешивалась. Зато юноша, явившийся вместе с супружеской четой, жадно ловил каждое слово.
На юношу Одиссей старался не смотреть.
Было жутко.
— Наконец не выдержал. Хоть так сдохну, хоть так: впервой, что ли? Ее хотел оставить, договорился уже... Куда там! Сказала, если оставлю, повесится на поясе. Ладно, думаю. На торговой эйкосоре доплыли до Скироса, там купили лодку. Вот этого подобрали, — филакиец кивнул на юношу. — Он из дому сбежал, на войну. Сперва я брать отказался, так он за лодкой два часа плыл... утонул бы, дурачок!..
— И ничего не утонул бы! — возмутился юнец. — Я как рыба! Я и сам бы... на войну!
Живое прошлое в облике юного беглеца сидело перед Одиссеем. Прошлое, раздвоенное, словно жало змеи; словно выбор Протесилая. Юноша, напомнивший сыну Лаэрта самого себя, бегущего в эпигоны, был рыжей рыжего. Карие, очень темные глаза. Тонкая кость. Порывистая угловатость движений. Огонь и вода, сплетенные в единую, тугую косу.
— Как тебя зовут? — опросил Одиссей, хотя мог бы не спрашивать.
— Пирр.
Ну да, конечно. Пирр. Рыжий.
Как же еще?
— Пирр, сын Лигерона, — поправился юноша, моргая. Он попытался сказать это с очевидным достоинством, даже с гордостью, но вышло жалко. Так, вытирая зареванное лицо, грозят соседскому мальчишке, который тебя старше, приходом самого сильного на свете папы. — Я внук скиросского басилея и сын величайшего из героев. Во мне его кровь.
— Серебряная? Драгоценная кровь?!
Вскипев, он выхватил из-за пазухи короткий нож. Железный. Знакомый жест, и в порезе на ладони зацвел алый бутон. Славно, славно... Мальчик, ты ведь еще не воевал под Троей. Не огрызался, зажатый в угол. Крысенок, ты еще только хочешь этого. Порченая кровь для тебя — тайна за семью печатями. И ты уязвим, наследник морского оборотня из древнего пророчества. Иное поколение.
Некий итакиец лишь чуть-чуть старше тебя: на целую вечность.
— Сколько же тебе лет, сын моего лучшего друга Лигерона? Два года? пять?!
Конечно, он принял сказанное за насмешку.
— Четырнадцать. Мне уже четырнадцать, а я еще ничего не совершил. Они хотели, чтобы я скис на их вшивом острове! А я всех обманул. Я — герой, а не баба.
— И ты хочешь убить тысячу врагов?
— Хочу? Нет, не хочу. Я их убью. Если успею.
«...Ему действительно два года. И одна из басилейских дочерей беременна от него. А я... я люблю его. Одиссей. Люблю этого ребенка. Наверное, тебе меня не понять...»
Одиссей смотрел на сына, рожденного малышом Ли-героном. На страстную мечту стать героем, достойным отца. Так смотрят на собственное дитя, оказавшееся чудовищем. Достойным отца. Четырнадцать лет. О небеса! — целых четырнадцать лет... Я вернусь, пообещал себе итакиец в сотый раз. Я все равно вернусь. Я буду очень спешить. И пусть никто не становится между мной и возвращением. Человек, бог, надменное время или сама Ананка-Неотвратимость, сойди она на землю и прегради дорогу, — никто.
Но все-таки: четырнадцать лет. Пенелопа, я люблю тебя. Мы же не виноваты...
%%%
Мы опоздали к разбору алтарей. Кажется, Временщик решил в очередной раз подшутить над нами. Или просто перемирие закончилось раньше? Впрочем, какая разница — если берег Сигейской бухты проступил из утреннего тумана, взорвавшись далеким боем под стенами Трои. Не помню, как я оказался в «вороньем гнезде», куда подевался впередсмотрящий и когда на плечи псом-волкодавом рухнуло знакомое раздвоение души. Помню лишь: белые барашки волн стремительно уносятся назад. Помню берег. Холмы. Долину Скамандра, словно я сам вдруг превратился в стрелу, летящую к цели, — и битва распахнулась внизу.
Будто и не уплывал никуда.
Вот: вскипают пеной прибоя тысячи малых пузырьков-Номосов. Лопаются; уходят паром. Человеческие валы один за другим накатываются на каменный утес Трои, грозя захлестнуть неприступную твердыню — и спешат обратно, не в силах сокрушить возведенные богами стены. Люди посягают на невозможное, бросая вызов Глубокоуважаемым.
И невозможное творилось в небе над Троей.
Малыша я узнал без колебаний. Да, он стоял ко мне спиной, но стоял — не на земле. Вровень с крепостными зубцами, попирая зияющую пустоту. И ослепительное сияние исходило от его чудесной брони: воплощения неуязвимости. Так смотришь на облако, подсвеченное солнцем: щурясь. Утирая слезы. Поэтому я не сразу сумел определить, кто воздвигся напротив малыша, прямо на Скейской башне. В глазах двоилось. Фигура златокудрого атлета-лучника распадалась на две, чтобы вновь слиться в одну, и знакомый прищур змеи сменялся яростным огнем в очах гневного бога — и вновь, и снова...
Феб? Парис?
...Оба?!
Малыш стоял на криках. На бешенстве. На упоении боем. А бог — на башне. Малыш — на обожании и восторге. На ужасе. А бог — просто на башне. Малыш попирал воздух, которым дышала война и который сам был войной; малыш стоял на войне, а бог — просто на башне, но дороги не уступал.
Копье вознеслось для броска.
Тетива лука ушла к плечу.
Скоро будет поздно. Скоро время выкипит досуха. Мне даже не пришлось тянуться на Итаку: мой лук силой втиснулся в руку. Он пел от возбуждения — и древняя, окончательная и абсолютная смерть, способная принудить бессмертие отправиться босиком в преисподнюю, покинула колчан с медным дном.
Стрела нагого старика по имени Геракл. Лернейский ужас на острие.
Я люблю тебя, малыш. Мы похожи больше, чем кажется на первый взгляд. Рыжие безумцы с порченым серебром в крови. Только ты еще более несчастен. Тебя рожали не из любви — для цели и вопреки пророчеству. Тебе некуда возвращаться, некуда и незачем, хотя в этом меньше всего твоей вины. А мне есть куда. Есть. Я люблю тебя. Сейчас ты перестанешь быть самим собой, наивным трехлетним мальчишкой, стареющим быстрее удара молнии. Безвинным убийцей всех, кто рядом. Земной бог, стремящийся в эфир, потому что тебе не оставили иной дороги, сейчас ты перестанешь — быть. Это просто. Это очень просто, Я не могу позволить тебе дар последнего шага. Ради всех, кого я люблю. Ради тебя самого. Ради Патрокла, которому я дал слово.
Уходящий, прости меня, возвращающегося. Пожалуйста.
Сейчас, сидя на ночной террасе, я уже не могу точно вспомнить, что и впрямь успело втиснуться в короткое, как жизнь, мгновение, когда луки сладострастно выгибались, готовясь извергнуть смерть. Сколько ни режь память, мертвая рана плохо кровоточит. Наверное, смешной бродяга, я наполняю для себя этот миг бурей чувств и мыслей, которые испытал! хотел испытать! надеялся испытать тогда. А может быть, ничего я не успел и ничего-не испытал. Может быть, все пришло позже. Оправданием. Успокоительной ложью. Ведь я не знал, что окажется первым: стрела земная, стрела небесная или копье малыша, замершее между небом и землей.
Ангел сказал: «Последний предел — победа над равным».
«Тебе помочь? Или ты сам?» — спросил меня однажды Стреловержец.
И я ответил: «Благодарю за заботу, Кифаред. Я уж как-нибудь сам».
Мой черед, Сребролукий. Ты был уверен во мне. Мне бы хоть толику твоей уверенности. Знаешь, я не стану спрашивать: «Тебе помочь?» Во-первых, на это нет времени. Выкипело. А во-вторых...
Даже если у тебя, лавр и дельфин, все получится — лучше я это сделаю сам.
%%%
...Золотая стрела впилась в щит малыша, и щит вспыхнул ярче тысячи солнц. Огонь Сияющего, пламя дельфина и лавра с остервенелым шипением вгрызалось в водное зеркало щита. Щит кипел. Кипели земля, и небо, и звезды, и народы, враждующие меж собой: отражение Номоса в седых струях Океана. Малыш окутался облаком пара, скрывшим его фигуру, но приступ слабости миновал. Последняя вспышка золота... угасание... тьма.
Грязная клякса на щите Лигерона Пелида, морского оборотня.
Пора.
Ни одна стрела не долетит с мачты входящей в бухту «Пенелопы» до стен Трои. Но об этом я подумал уже после выстрела. Когда жало, отравленное ядом лернейского кошмара, вонзилось сзади в правую икру малыша. Между ремнями поножей. Крик раненого был страшен. Даже страшнее, чем в час гибели Патрокла. Брошенное копье бессильно скрежетнуло по стене рядом с богом; и война опрокинулась под малышом.
Наземь.
Впервые я видел, как убивает яд, рожденный даже не прошлой — позапрошлой эпохой. Наверное, любой другой умер бы мгновенно. Но Не-Вскормленный-Грудью еще жил. Тело его сотрясали судороги, выворачивая руки и ноги, словно ребенок издевался над ненавистной тряпичной куклой. На губах выступила кровавая пена, мгновенно посиневшее лицо становилось то женским, то мужским, одновременно старея на глазах, покрываясь складками, морщинами, струпьями. Отпущенное малышу время потоком хлынуло из разбитой клепсидры, последние капли жадно впитывались в иссушенную почву Троады, вместе с черной — черной!.. — кровью, которая толчками выплескивалась из раны.
Усилие, достойное титана, — и лицо раненого на мгновение приобрело осмысленное выражение. Это было лицо сорокалетнего мужчины, но искаженное гримасой нечеловеческого страдания. Вечные узники преисподней! Тантал-лгун! Иксион-бунтарь! Исполин-Титий[42], Завидуйте! — ваши муки есть прах и тщета... Вы просто счастливчики — ведь это просто! очень просто!..
— ...Все умрете! — прохрипел малыш. — Все! Я буду мстить вам и после смерти! Я... вы...
До сих пор не знаю, кого он имел в виду.
— Парис! Слава Парису! Парис сразил Ахилла! — ликовали внизу троянцы, но мне было не до них. Прости, малыш. Ладно? Слезы застилали взор, все виделось, как в тумане. Лишь одно отчетливо вставало навстречу: двое на башне. Да, теперь их было двое. Парис и Аполлон.
И тот из них, кто был богом, накладывал на тетиву вторую стрелу.
— Ты?!!
Единственное, что произнес Стреловержец. Прежде чем задохнуться от гнева. Бога обошли! Обманули! Сделали за бога его работу! Сразили того, кого не сумел сразить убийца чудовищного Пифона! И кто? Смертный выскочка, басилеишка с занюханного островка, чьего и названия-то никто не помнит! Но в ответ гневу я сделался серебряным зеркалом. Холодным. Скучным. Любящим.
Отразил и отразился.
«А ты думал: только силой!.. Ах, Стрелок!.. Зря ты так думал... надо просто очень любить этот лук...»
Лучник против лучника.
Лук против лука. Жизнь против жизни.
Золотая смерть — против смерти Лернейскрй.
Взгляды скрестились, и мы с Фебом стали единым целым.
АНТИСТРОФА-П
Не стать богом
Мне опасно возвращаться туда. Даже в воспоминаниях. Потому что: тянет. Ведь «последний предел — победа над равным». Помешав шагнуть малышу, я сам занял исходный рубеж. Убил Не-Вскормленного-Грудью — земного бога. Теперь оставалось убить бога-олимпийца и занять следующее место под солнцем. Святое место. Пустое место.
Перестав быть собой.
Потеряв надежду вернуться.
Качка прекратилась. Я не ощущал под ногами скрипучих досок «вороньего гнезда». Я вообще не чувствовал никакой опоры. Ведь это просто: стоять, непоколебимей скалы! Расстояния исчезли: корабль? небо? — пространство не имело никакого значения. Время не имело значения. Зеркало расплавилось. Потекло. Смолк детский плач у предела. Умер безумный смех на задворках сознания. Развеялась скука. Пала ниц, закрывая лицо, любовь.
Я был выше мирской чепухи!
...бог. Могу сотрясти твердь или погасить солнце. Но хочу одного: освободить смутную дорогу. Убрать препятствие. И последнее, что еще сохранялось от былого Одиссея, сына Лаэрта, нашло в себе силы ужаснуться. Потому что ему — нет! мне, стоящему напротив! — тоже было страшно. Клятва богов! Великая клятва черными водами Стикса: «...никогда и нигде, на земле, и под землей, и в заоблачных высях, не посягать на жизнь смертного по имени Одиссей Лаэртид!» Я улыбнулся. Не смешно ли? Я могу убить бога, этого ли, другого, а бог меня — нет!
Смейтесь, в Тартар вас!
Хохот, больше похожий на грохот лавины, возник отовсюду. Некуда было бежать, некуда стремиться, чтобы заставить его смолкнуть. Но почему я медлю?
И почему медлит он?!
Голова Стреловержца дрогнула. Начала старчески клониться на грудь. Взор погас, ослабла натянутая тетива: бог засыпал стоя. Откуда-то издалека долетел глухой, монотонный плеск волн. Но это был не пенный прибой и не море любви, которое, бывало, затапливало мою чашу до краев. Тайным знанием я знал: это открывается вход в Аидову мглистую область. Это рокот древней подземной реки достиг моих ушей. Смертный сон сковывал Феба. Кара, постигающая всякого из бессмертных, если он попытается нарушить клятву водами Стикса. Первая часть кары, и далеко не самая худшая...
Он посягнул!
Еще — или уже?!
Стрела рвалась с тетивы. Стрела с ядом Лернейской гидры. Лук сделался живым существом, единым со мной, взывая к рукам и пальцам, удерживавшим смерть на тетиве:
«Стреляй! Убей гордеца! Семья бессильна пред тобой. Они клялись, а ты — нет! Обладатель права безнаказанно убивать бессмертных, у тебя есть оружие против них! У тебя развязаны руки!»
«Нет! Я не хочу становиться таким же!» «Ты уже — такой. Стреляй!»
"Врешь! Я — Одиссей! я вернусь... меня ждут дома.
Жена... как ее зовут?.. Я ведь люблю ее! Я помню! Помню..."
Память отказывала. Скверная девка, она вертела подолом, готовая удрать в любую минуту. Слово «любовь» выглядело смешным. Нелепым. Как и другие слова. Жена? Сын? Отец? Мама? С трудом я вспомнил имя своего отца. Кажется, его зовут Лаэрт. Да, точно: Лаэрт. Я — Одиссей, сын Лаэрта. Пустой набор бессмысленных звуков. Зачем мне куда-то возвращаться? Ведь я больше не помню ни лиц, ни имен... прошло столько лет...
Аполлон с усилием открыл глаза. Опустил лук, и мерный плеск волн Стикса затих в отдалении. В следующий миг башня опустела. В глазах медленно прояснялось, уши впитывали гул оживающей войны. Нет, врешь. Это все еще я, Одиссей, сын Лаэрта! Одиссей, сын Лаэрта-Садовника и Антиклеи, лучшей из матерей. Одиссей, внук Автолика Гермесида, по сей день щедро осыпанного хвалой и хулой, — и Аркесия-островитянина, забытого едва ли не сразу после его смерти. Одиссей, владыка Итаки, груды соленого камня на самых задворках Ионического моря. Муж заплаканной женщины, спавшей в тишине у меня за спиной; отец младенца, ворочавшегося в колыбели. Герой Одиссей. Хитрец Одиссей. Я! Я... Вон их сколько, этих "я". И все хотят вернуться.
...я вернусь.
Размахнувшись, Одиссей с силой швырнул лук обратно, на Итаку. Спасибо тебе, Сребролукий. Мне не пришлось стрелять в тебя: благодарю. Я объявляю тебе анафему! Когда все закончится, я принесу жертву Аполлону Разумному. Великую жертву! Гекатомбу... В крови неохотно успокаивалось проклятое серебро. Как же близко рыжий подошел к грани, из-за которой нет возврата! Как же трудно иногда бывает не стать богом!
Еще шаг...
...В следующий миг Одиссею пришлось отбивать щитом направленный в грудь удар копья. Как он, шагнув с мачты «Пенелопы», оказался под стенами Трои? Откуда щит? Откуда в правой руке — знакомый железный меч? Откуда — дедовский шлем, подарок Мериона-критянина?! Но думать было некогда. Вновь став самим собой, сын Лаэрта не думал: видел, чувствовал и делал. В этом:
спасение. От чего? От нацеленного в грудь копья? От взлетающей над головой двойной секиры-лабриссы? Или от чего-то большего?
Ответы — убийцы... убийцы!..
— Рыжий, прикрой!
Это Аякс-Большой. Ворочается ожившим утесом в гуще наседающих ликийцев. Вздымает над головой oгромный валун. Хрясь! Враги — врассыпную. Близко подойти боятся. Тычут издалека копьями, швыряют дротики — а Аяксу все нипочем. И мнится рыжему: бьет в Теламонида хищная бронза, а в ответ не искры, не брызги крови, не клочья кожи — каменное крошево от ударов летит. Будто в скалу киркой молотят.
Нет, почудилось. Видно: вон кровь на плече.
— Держись! Я иду!..
Рыжий не глядя отбил очередной удар.
— Прочь с дороги, собаки!
Он прорубился к Аяксу на удивление легко. Одного короткого взгляда вполне хватило; вернее, двух. Один — на тело Лигерона, распростертое у ног Большого. Теламонид прав: нельзя оставлять малыша троянцам. Вторым взглядом-стрелой они обменялись с Аяксом. Гранитный утес и рыжее пламя.
«Прикроешь, Лаэртид? Я понесу его».
«Хорошо, Большой».
Отступали долго. Бой длился целую вечность. Одиссей делал привычное, скучное дело: бил рабов. Рабов тщеславия, рабов желания заполучить великий трофей, рабов потребности отличиться — да, он бил рабов, прикрывая щитом и себя, и Аякса. Надо было успевать за двоих, значит, он успевал. Просто так было надо. Очень просто. Поэтому рыжий не сразу заметил, что рубить уже, в общем-то, некого и закрываться не от кого: вокруг — аргосцы Диомеда, посланные на выручку, а троянцы наконец отстали. Вон, бранятся в отдалении.
Позже Одиссею скажут, что в горячке он зарубил кого-то из своих.
Они с Аяксом вдвоем брели в лагерь, Аякс нес на руках малыша, и встречные воины спешили отвести глаза...
%%%
Сейчас, возвращаясь в последние дни Троянской войны, как возвращаются в памяти к ложу умирающего, я нынешний отчетливо вижу: именно с этого времени слово «возвращение» стало терять для меня смысл. Незаметно. Исподволь. Наверное, я слишком долго повторял его, превратив тайный стержень в пустое чередование звуков. Вот: я уплывал за Геракловыми стрелами, я вернулся — и никто ничего не заметил. Даже я сам изредка задумывался: не сон ли? Люди напоминали гусениц. Люди увлеченно обматывали себя драгоценными нитями, безразличием ко всему, кроме предчувствия изменения. Герои готовились там, в глубине кокона, раскрыться пестрыми бабочками. Уплывал? Да, наверное. Вчера. Или сегодня. Или завтра. Этот рыжий вечно куда-то плавает.
Вернулся? — очень хорошо.
Моему собственному кокону, пожалуй, суждено было сделаться много плотнее, чем у других. Но я надеялся вовремя разорвать его. Выйти наружу — прежней гусеницей. Первая проба на разрыв: переход границы котла ради лодки с Протесилаем. Бессмысленый поступок. Думаю, я что-то нарушил в искусственном Номосе Кроновой западни. Эфемерную завесу, чей треск был плохо различим и для гусениц, закостеневших в смутном ожидании, и для бабочек, испуганно доживающих свой вечный день.
— Тебя видели, — заявил мне Калхант, едва приблизясь.
— Ясное дело...
Не знаю, что я хотел этим сказать. А он вдруг обиделся. Побагровел. Раздул ноздри утиного носа. Он очень изменился, пророк. Пока мы были вдали друг от друга, стал другим. Далеким. Отвердел лицом, при ходьбе больше не размахивал руками. Вообще. Руки мертвыми плетьми висели вдоль тела, не шевелясь, как если бы Калхант пытался научиться жить без рук, пользуясь ими лишь в случае крайней нужды.
Знать бы: насколько изменился я, если смотреть со стороны?
— Тебя видели, — с нажимом повторил он. Эта его старая привычка: повторять. Будто борец, однообразно, голой силой, дожимающий соперника к утоптанной площадке палестры. — Здесь. Даже на похоронах Патрокла видели.
Я слушал молча. Оказывается, я никуда не плавал. Торчал здесь, на виду у любого, желающего увидеть и даже потрогать Одиссея Лаэртида, дабы удостовериться в его присутствии. Давал мудрые советы. Лез затычкой в любую дыру. На похоронах Патрокла, когда были устроены поминальные состязания, вышел бороться с Аяксом-Большим.
— Я? С Большим?! Я, конечно, безумец, но не до такой же степени...
Мы вдвоем стояли на берегу. Вечернее море кипело сиренью, а я недоумевал: что не так? Потом понял: впервые в жизни я равнодушно смотрел на море. Понял, ужаснулся — и ужаснулся вдвойне: впервые в жизни я, не умеющий понимать, понял. Рассудок был чист и холоден, но скука опаздывала, и опаздывала любовь, и молчал ребенок у предела, готовясь обратно стать гонгом, и панцирем, и скорлупой. Коконом.
Пора заканчивать эту проклятую войну. Давно пора.
— Да, — дернул кадыком Калхант. Будто не говорил, а сглатывал. — Ты боролся с Большим. Никто не рискнул, кроме тебя.
— И он меня убил. Разорвал на сотню маленьких Одис-сейчиков. Стер в порошок.
— Нет. Была ничья.
— Ничья?!
— Ты дал Аяксу подножку. Вы упали оба, но ты упал сверху, и судьи сочли, что это ничья. Боялись: иначе вы убьете друг друга. А еще ты победил в беге.
...Рыжий мчался, прыгал, огибая скользкие, мерзкие ловушки, а кругом царили лишь брызги и брань: вот упал один, второй, третий...
— Да, — снова повторил мрачный ясновидец. — Все было именно так. Аякс-Малый, догоняя тебя, поскользнулся на коровьей лепешке. Наглотался дряни, извозился...
И добавил, пасмурней ночи:
— Все очень смеялись.
— Я тебе ничего не сказал, — рыжий сдвинул брови и сделался очень, очень бледным. — Я тебе ничего не сказал: про лепешки, про бег. Я молчал. Вспоминал свой сон. А ты: ответил.
— Ну и что? — поднял брови Калхант.
Позже, сидя на шершавом валуне, Одиссей долго слушал пророка. Не перебивая. У каждого своя война. У каждого своя тропа наверх. Если верить Калханту, с недавних пор ясновидец начал слышать (видеть? ощущать?!) собратьев по прозрению. «Я превратился в пчелу», — туманно объяснил он. Сперва Калхант испугался; вскоре — привык. И настал день, когда он услыхал: его зовут по имени.
— Это был Гелен, — сказал пророк. И добавил, видя, что Одиссей тускл и безразличен: — Гелен Приамид, брат Кассандры. Кстати, бедная девочка окончательно спятила. Ее запирают и ставят глухих стражей, чтоб не слышали воплей. Мне тоже было очень трудно отгородиться. Наверное, ее дар слишком велик для слабого женского рассудка. Жаль...
Калхант замолчал, думая о чем-то своем, и рыжий не торопил пророка.
— В Трое часть уважаемых людей считает, что продолжать войну опасно, — наконец сверкнули совиные глаза. — Гелен умница. Он готов тайно сдать город на определенных условиях. Если мы обеспечим безопасность тем, о ком договоримся заранее. В первую очередь: дарданской ветви династии.
— И ты передал его предложение нашим героям, — сказал рыжий. — Почему ты еще жив?! Ясновидец зевнул:
— Это ты — безумец. А я, к сожалению, еще в своем уме. Пока был жив малыш, он зарезал бы всякого, кто помешал бы ему мстить за Патрокла. Аякс-Большой за одну идею союза с врагами скрутит шею Зевсу, явись Громовержец с таким советом. Младший Атрид... рога мешают ему думать. Только — бодаться. Старший уже сгорел. С ним бессмысленно разговаривать. А единственный, кто способен понять и оценить... Нет, Диомед в одиночку не пойдет против «Конского Союза». Во всяком случае, не пойдет открыто.
У ног прибой бормотал вечное: шшшли-при-шшшли-вышшшли. Куда шли? К чему пришли? Разве вышли?! Хотелось удавить прибой за его издевку. Ужас состоял в том, что еще день, два, неделя — и невозможное станет возможным. Удавить прибой. Расколоть небо. Взять Трою.
Что дальше?!
— Гелен тоже боится, — подслушав чужие мысли, бросил ясновидец. — В городе народ влюблен в Париса. На руках носит. Старый басилей со дня на день отречется: в пользу петушка. Раньше смеялись, дразнили трусом, а теперь: жизнь готовы... Он ведь тоже меняется, наш петушок. Соблазнитель, он привлекает души. Обещает скорую победу. Кто поразил неуязвимого оборотня? — Парис. Люди сравнивают его с Аполлоном. Он даже стреляет теперь, влюбляя в свою стрелу: жертва сама подставляет жалу уязвимые места. С наслаждением. Представляешь, Лаэртид?
— Представляю.
Одиссей произнес это так, что пророк вскинул малоподвижные руки к лицу. Защититься? Закрыться? Ладони коснулись впалых щек, на миг задержались, остужая, и снова пали вниз, на колени.
— Завтра, на этом же месте, — слова ложились серебряными слитками в волны. Без брызг. На дно. — Приходи, Калхант. Мне надо побыть одному: до завтра. Пора заканчивать эту войну.
Лунная дорожка метнулась по воде. Лунная, смутная дорога к самому краю.
— ...Да, вот еще, — уходя, через плечо бросил человек, превратившийся в пчелу. — Аякс-Большой требует, чтобы доспех покойного малыша отдали ему. Зовет себя преемником.
— Жаль бычка, — тихо пробормотал Одиссей. А пророк остановился. И сипло так:
— Знаешь, рыжий... Я попробую не спешить. Чтоб не до конца. Чтобы тебе не пришлось убивать и меня. Прибой заискивающе повизгивал у ног. Одиссей еще не знал, что при любом молении, у ахейцев ли, у троянцев, случается одно и то же знамение. О чем бы ни просили; к кому бы ни взывали. С неба падает орел и хватает когтями змею, возникающую на алтаре. Всякий раз змея становится больше; всякий раз орел становится величественней. Хлопанье крыльев, яростное шипение, кольца, клюв, жало, гортанный клекот... Погибают оба. Всегда. И в миг общей смерти орел со змеей
Превращаются в кипяток, быстро впитываясь в жадную землю.
Последнее время народ перестал молиться: на всякий случай.
%%%
...Костер умирал. Он начал умирать, едва разгоревшись: когда возложенное на штабель дров тело вдруг растеклось водой. Пламя отпрянуло, зашипело в изумлении, но, быстро опомнившись, отовсюду накинулось на свою извечную врагиню. Вода вскипела, судорожно брызнула паром: смешавшись с дымом, пар сложился в смутные фигуры — колышется султан шлема, превращаясь в хлебную ниву... женщина и мужчина сплелись в объятии, перетекая друг в друга... юное, безглазое лицо струится, дряхлея с каждым мигом... Я смотрел. Вместо погребального костра я видел огромный котел, в котором кипения осталось: на донышке.
Пора.
Иначе опустевший Номос начнет раскаляться добела. Не вода в котле — сам котел потечет огненной струей металла, сжигая все вокруг себя и переставая быть собой.
Время на исходе.
Мертвая тишина царила вокруг. Прерываемая лишь треском горящего дерева. Да еще тихо плакало море, впервые не стыдясь слабости. Люди стояли, понурившись. Глядя в землю. Беззвучная, странная тризна. Я уже заметил: все оживали только в бою, шаг за шагом приближаясь к заветной черте. В остальное время бродили тенями, погруженными в предчувствие. Ждали. Почти не разговаривали. Идея состязаний в честь павшего Лигерона провалилась с треском. Как трещат сейчас дрова в пламени, проваливаясь в золу. Никто не хотел участвовать. Никого не привлекала слава победителя; дары за победу виделись пустыми безделицами.
Ведь это была не та победа.
Не тот дар.
Рядом с холодным, девственно чистым жертвенни— ком (страх вечного знамения пересилил обычай...) тоскливо ожидала урна из золота. Вопреки закону она не была пустой. Кости Патрокла тоже ждали: вместе с живыми. На драгоценном ложе. Томясь от любви. Когда мне сказали, что малыш предупредил заранее: хоронить его рядом с павшим возлюбленным! прах к праху! вперемешку!.. — меня пронизала острая дрожь. Насквозь, стрелой из темноты. Тогда, на ночном берегу, слушая плач безутешного оборотня, я все-таки полагал, что... Выходит, он знал. Предвидел собственную гибель. Готовился к ней, торил смутную дорогу во мглу Аида, продолжая одновременно уходить — в небо.
Может быть, он знал также, кто будет его убийцей? Может быть.
Жаль, я этого никогда не узнаю.
— А можно... можно, я теперь за тебя буду, дядя Одиссей? Ты же сам сказал: рыжие друг дружке — подмога!
— Можно. И дядя Диомед за нас будет.
— Здорово/А когда поедем? Прямо сейчас?..
За спиной вспыхнул сочувственный шепоток: плачет! Скорбит... святое сердце!.. Хотелось заткнуть глотки, прикончить молву в зародыше. Больше, чем хочется убить палача, мучающего твое тело. Палач хоть на душу не посягает. Тяжелая рука ободряюще легла на плечо; я машинально попытался стряхнуть ее и не смог. Каменная, Сизифова ноша.
Холодком тянет. Будто мраморный идол сзади подкрался. Оборачиваюсь.
— Ты это, Лаэртид... ты брось, брось!.. Не вернешь парня...
Наверное, было бы стократ легче, если бы с сочувствием подошел кто-нибудь другой. Да кто угодно, кроме Большого! Аякс стоял, набычась, крупные капли пота текли по его лбу, и маленькие глазки лучились пониманием.
— Не вернешь, говорю. Полно горевать.
Да, Аякс. Не вернешь. Стрелы не вернешь. Клятвы не вернешь.
Зато я — вернусь. Любой ценой.
Пожалуйста, Аякс. Не надо. Прошу тебя. Молю. Хочешь, на колени встану: если поможет. Вот и костер угас. Вот и пепел (влажный! сырой!..) собрали в урну. Унесли к месту будущего кургана. Вот и расходиться начали помаленьку. Косясь на доспех малыша, торжественно разложенный поверх бычьей шкуры. Зачем разложили? — А кто его знает! Просто так. Дабы все видели. Дабы в полной мере ощутили горечь утраты. Не надо, Аякс!..
— Мое!!!
За миг до знакомого клича Одиссей еще надеялся.
%%%
Почему второй всегда жаждет стать первым? Последнему все равно: далеко, бессмысленно, зряшное дело — тянуться. Только пуп надорвешь. Последнему хорошо. Да и третьему, четвертому: прикинешь, молча пожмешь плечами. Не достать. Зато второму, ближайшему... В свое время могучий Аяксов отец, Теламон Эакид, родной брат Пелея-Счастливчика, полжизни провел в тени друга-соратника. Полжизни: второй после Геракла. Так и ушел в забвение: вторым.
Хоть и наречен был в честь Небодержателя[43], а не выдержал.
И вот снова: двоюродные братья. Лигерон Пелид — и Аякс Теламонид.
Первый ушел. Радуйся, новый первый!
— Мое!!!
...Почему никто не видит?! Ему ведь не доспех нужен. Ему преемственность нужна. Последний толчок. Последний рывок. Чтобы из человека-горы — в гору-человека. А там и просто: в гору. Вверх. Эй, вы! герои! — увидьте! поймите! вам же дано понимать... Чтобы рыжему безумцу не пришлось: делать. Откажите!
Да минет меня чаша сия...
И в третий раз, обвалом:
— Мое!!!
Сошлись пузырьки. Замерла пена: на краю. Вот-вот низринется. На угли. Костер еще только остывает. Еще светятся багряные искры, готовые полыхнуть в любой момент. Спасибо тебе, скука моя. Спасибо, родная. Холодная, как Аяксова рука. Могучая, как Аяксова рука. Утешительная — как она. Не оставляющая выбора, разящая наповал спокойным, тихим шепотом: «Надо...» — более властным, чем оглушительное: «Мое!!!»
Никому не позволено перейти границу. Цель оправдывает средства. И все-таки: я попробую. Не убивать.
— Если корабль везет товары, а кормчий направляет судно, спасая его от рифов и мелей, от злых ветров и ураганов — кто достоин доли в будущей выручке? Корабль или кормчий?!
Сошлись пузырьки. Я не есть все, но я есть во всем. Словами, сказанными вполголоса. Произнесенными так, чтобы лица повернулись ко мне. Даже знатные троянцы-пленники, приведенные для пущего величия похорон, очнулись от горестного забытья.
Я — ребенок у предела.
Слушайте мой плач; слушайте мой смех.
Я — Одиссей, сын Лаэрта.
— Если бык тянет груженую повозку, а возница оберегает груз, выбирая безопасную дорогу, — кто достоин награды? Бык или возница?!
Все ближе и ближе. К краю. Не они — я. Но это лучше, чем убивать.
— Если могучий Аякс Теламонид выносит из боя тело погибшего героя, а Одиссей Лаэртид крушит врагов, расчищая путь и оберегая могучего с его ношей, — кто достоин обрести доспех убитого?
Теперь выждать.
Пока зазубренные наконечники плотно зацепятся за каждого.
Пора.
— Я, Одиссей, сын Лаэрта, говорю пред вами, вожди: мое!
%%%
Мне не нужен доспех малыша. Совершенно. И все же: когда было единогласно решено-отдать его в награду хитроумному Одиссею... Лук Аполлона, стрелы Геракла и доспех Ахилла: как я вам нравлюсь. Глубокоуважаемые? Туча и молния, лавр и дельфин, сова и олива — как?!
...боль и восторг: жгучая смесь.
Не смотри так, мой Старик. Отвернись.
TPOAДA.
Ахейский лагерь, кручи Ройтейона.
Ламикаские пастбища (Эпитафия)
Стемнело рано. Тучи плотно укрыли небо, закутав созвездия в шерстяную мантию. Серп месяца изредка рассекал тьму, чтобы высунуться рогатой бестией, вдохнуть свежего, напоенного морской прохладой воздуха — и вновь нырнуть под одеяло. Редкие костры светили чахло, задыхаясь. Далеко, в Идских предгорьях, надрывалась ночная птица: оплакивала сгоревший день.
У береговых скал, невидимый во мраке, ждал Калхант.
Время встречи.
— ...они завидуют... все!.. я — самый сильный... . Наверное, если бы не это глухое бормотанье. Одиссей проскочил бы мимо.
— ...Малыш... один малыш был... братик!.. убили. Теперь я... я вместо! Самый сильный... обманули... ничего...
Поблизости заворочалась, сойдя с ума, каменная глыба. Рыжий невольно попятился. Неужто кто-то из древних титанов исхитрился восстать из бездн Тартара?! Или родное безумие шутки шутит? Под тяжкой поступью явственно содрогнулась земля. И еще раз, ближе. Бледный серп месяца в очередной раз прорвался сквозь дыру в хламиде облаков, и Одиссей наконец увидел. Человек-гора приподнимал ногу для очередного шага. С бедер осыпался щебень; глаза у человека-горы были из мела. Белые, слепые. Шершавые валуны мускулов. Лишайник волос на предплечьях, грубо вытесанное лицо. В ущелье рта мечется пойманный ветер:
— ...обманули... забрали... Мое! Они... Не замечая Одиссея, человек-гора двигался в сторону центральных шатров.
— ...Я их... всех! Я — сильный. Я самый... я всех... Убью. Хорошо будет. Трою возьму. Сам. Без них. Мешают только... обманули...
Рыжий оторопело глядел вслед уходящей во мрак горе. Пойманной рыбой, отчаянно билась одна-единственная мысль: «Надо было отдать ему проклятый доспех. Надо было отдать! Надо было...» Очнись! — велела скука. Приди в себя, глупец! Отдать — и что дальше?! Что изменилось бы?! Аякс всегда хотел быть первым. Когда погиб малыш, он им стал. Какая теперь разница: в доспехе, без?
— ...Всех убью. Всех!.. Это они мне... не давали!..
Одиссей... Агамемнон... Диомед... и этот... как его... Всех убью!..
Второй сделался первым. Божество Силы требовало жертв.
Рука сама собой потянулась за луком. Вспыхнула уверенность: отравленная стрела также явится, только позови. Лишь в последний миг рыжему невероятным усилием удалось остановиться. Нет! Опомнись, Большой! Не заставляй меня делать это! Не вынуждай любить тебя так, как я любил малыша!..
— ...убью...
И удаляющаяся дрожь земли.
Хорошо, Аякс. Попробуем иначе. У меня не получилось с доспехом. Я попытаюсь еще раз: не убивать. Шатер Менелая был уже близко, когда Одиссей догнал каменного мстителя. Забежал вперед. Встал на пути, загораживая дорогу. Черной тенью на фоне рыжего пламени костра.
Человек-гора врос в землю.
— Да, это я! Одиссей, сын Лаэрта! Ведь это я тебе нужен?
— ...убью... обманул!..
Земля встала на дыбы. Если бы не привычка удерживать равновесие: на скользких бревнах, на качающейся скорлупке корабля, в «вороньем гнезде»... Одиссей увернулся от страшных объятий. Прыгнул в сторону, оглянулся: здесь ли Аякс? Не потерял ли врага из виду? А убедившись, легко и неторопливо, чтобы преследователь не отстал, побежал в темноту. Туда, где таились скалистые кручи Ройтейона. Прочь от лагеря.
Несколько раз рыжий останавливался. Поджидал человека-гору, всем телом ощущая сотрясения тверди. Слыша приближающееся неразборчивое бормотанье:
— ...трус... бежишь? Я самый сильный!.. Завидуете... все завидуете... мое...
Одиссей бежал долго. Огни лагеря давно исчезли за утесами. Месяц утонул в тучах. А за спиной по-прежнему тряслась земля под шагами новорожденного титана. Этот не отступится. Скорее уж быстроногий сын Лаэрта упадет без сил, чем человек-гора оставит преследование.
— ...убью... всех!.. обманули...
Каким чудом Одиссей не наступил ни на одну из коровьих лепешек, щедро разбросанных по лугу, он и сам не знал. Повезло, наверное. Вспомнился давешний сон: бег по смутной дороге, надрыв безумного состязания, а весь путь завален бычьим дерьмом, и очень важно обогнуть, не поскользнуться...
Сразу пришло: здесь.
Рыжий остановился.
Вокруг простиралось пастбище. Сгустками тьмы, более густой, чем ночь, угадывались туши спящих коров и быков.
— ...Мое... догоню... Трясется земля.
Грудь престарелой блудницы во время противоестественного соития.
Я умел быть очень убедительным. Научился. Когда я говорил, хотелось верить. Все же лучше, чем стрелять...
— Я здесь, Аякс. Одиссей, сын Лаэрта. Мы все перед тобой: Диомед, братья-Атриды, Нестор... Все, кто мешал тебе. Обманывал тебя. Не давал стать первым. Смотри: это мы!
— ...не уйдете... убью! Всех убью...
Рыжий тенью скользнул в сторону. Припал к траве. Перед самым носом вонючая лепешка. Еще чуть-чуть, и был бы весь в дерьме. Еще чуть-чуть, и взялся бы за лук. Чудовищная нога сотрясла землю совсем рядом, на поллоктя уйдя в мягкую почву.
— ...Мое!
Отчаянное мычание. Хруст костей.
Дальше рыжий смотреть не стал.
%%%
Тело Аякса принесли в лагерь ближе к полудню. Когда из левой подмышки с трудом извлекли собственный меч Большого, я отважился подойти ближе. Конец лезвия был обломан, а края — выщерблены и иззубрены. Словно Аякс, пытаясь покончить с собой, долго искал на теле место, куда можно было бы вонзить острую бронзу.
И не находил, всякий раз натыкаясь на каменную броню. ...Нашел.
Я знаю: ты никогда не простишь меня, Аякс Теламонид. Единственный, ты отказываешься подойти ко мне, когда я предлагаю теням кровь моей памяти. Мне остается только гадать, что произошло там, на ночном пастбище. Ты убил их, убил голыми руками — более дюжины быков. Думая, что убиваешь ахейских вождей, врагов и завистников. Возможно, закончив убивать, ты ненадолго стал прежним. Увидел во тьме разбросанные тела. Ужаснулся делу рук своих. Опьяненный моим дурманом, так и не сумел разобрать: кого убил на самом деле.
И достал меч.
А может, все было иначе. Я никогда не узнаю правды, а ты никогда не простишь меня, Аякс. Надеясь обойтись без убийства, я снова ошибся.
Моя вина; мой промах.
— Договаривайся с кем угодно. — Одиссей сел рядом с ясновидцем. Ровно на сутки позже, чем условливались. Все время мерещилось: сейчас из темноты шагнет гора. Сбивчивое бормотание: «...они завидуют... все!.. я — самый сильный...»
Но царила тишина.
— С Троей, с Геленом. С Олимпом! С Тартаром!.. Договаривайся!
Рыжий полагал, что кричит. На самом деле его голос звучал скучно.
— А Парис? Пока он жив...
— Парис — это будет просто. Убивать врагов вообще просто. Но войну пора заканчивать. Иначе я не выдержу.
— Я тоже, — спокойно ответил пророк. — Я тоже, Одиссей. Ты прав. Войну надо заканчивать.
Эпод
ИТАКА.
Западный склон горы Этос; дворцовая терраса (Сфрагида)
Откинувшись на спинку кресла, закрываю глаза. Я дома. Я в доме. Дом — во мне. Чтобы обойти его, мне не требуется вставать, шлепать босыми пятками, слышать пение половиц. Я иду по дому, как по себе самому. Дом выстраивается во мне: здание по имени Одиссей. Я обнесен снаружи высокой зубчатой стеной. Стена настолько широка, что по ней способен ходить взрослый человек. Я настежь открыт друзьям и заперт на засов от недоброжелателей — ага, конечно же, это ворота. Каменные скамейки по обе стороны: здесь беседуют мужчины, когда солнце щадит наши головы. Двор за воротами: сараи, хлевы, жилища челяди. Кладовые. Чуть дальше: просторная баня. На ладони я держу вереницу крытых портиков, от ворот до фасада. Комнаты для гостей дверьми выходят в преддомье[44]; рядом — спальня моего сына. Моего взрослого сына. Не останавливаясь, только улыбнувшись на ходу, спешу мимо.
Здесь же, во дворе: столб и конус. Оба щедро позолочены. Украшены резьбой. Конус — это Аполлон-Агиэй[45]. Столб — Гермий-Психопомп. Их поставили в мое отсутствие. Словно чувствовали. Знали, что надо ставить. Зато алтарь Зевса-Прадеда куда-то делся... Из преддомья широким коридором — в мегарон. Эти двери я делал сам. Порожек из ясеня; косяки из кипариса. Слабый, ни с чем не сравнимый запах. Сосновые балки потолка. Три ряда деревянных колонн. Галерея на задней стене.
...Точно такая галерея была в мужском зале у Гелена-прорицателя. Я отсиживался там, парясь в доспехе. Ждал ночи. Рядом дремал Диомед: завидую его способности спать где угодно и когда угодно, просыпаясь мгновенно. С ясным взглядом. Мне так не дано. Мне проще вообще не спать. Перебирать мысли, будто шероховатые бусины на суровой нити. Три дня назад я застрелил Париса. Это действительно оказалось просто. Взял и застрелил. Правда, мне отчего-то померещилось, что я совершаю самоубийство. Но к вечеру прошло.
Троянский прорицатель, в чьем доме укрылась часть нашего тайного отряда, рассказывал: Парис умирал долго. Много дольше малыша. Люди боялись его: распухшего, почерневшего. Лернейский яд шел у него горлом, но Парис еще жил. У петушка даже хватило сил уйти в Идские леса, где прошла беспризорная юность подкидыша. Кричал, что какая-то нимфа должна простить его, подлеца, что она излечит любимого тайными травами. Но, похоже, нимфа оказалась злопамятна: тело соблазнителя нашли мирмидонцы. Тайно ждавшие в чаще, когда мы ночью откроем им Скейские ворота. Дабы держать вход свободным до высадки основных сил.
Впрочем, об этом я узнал позже.
— Где вы вообще откопали этого Париса?! — в сердцах бросил я Гелену. Да, я был не прав. Нашел, на ком зло срывать.
— Не спрашивай, — наскоро оглядевшись, шепнул ясновидящий сын Приама, бледней извести. — Пожалуйста, не спрашивай.
Я пожал плечами. Ждать оставалось целый вечер.
%%%
Дом разворачивается во мне.
Верхний этаж. Из мегарона сюда ведет отдельная лестница. Здесь дверь особая: крепкая, с двумя замками. Рядом висит колотушка, окованная медью. Мне не нужно стучать; открывать замки тоже ни к чему. Просто — иду.
Оставаясь телом на ночной террасе.
Все-таки бывают минуты, когда возвращаться приятно.
Комнаты служанок. Наша спальня. Нет, заходить рано. Зеленая звезда еще висит над утесами. Еще бродят тени по террасе, и кровь памяти моей струится по ножу.
Я лучше выйду на балкон... вот: занавесь откидывается, шурша... Стою, глядя в небо. Вон Плеяды: бегут, летят, спасаются от сумасшедшего Ориона-охотника. Вон Волопас. Дальше выгнулся Посейдонов Жеребец. Машет гривой.
На одной из наших осадных башен был похожий навес.
В виде конской головы.
...Башню мы оставили на Фимбрийской равнине. Бросили. Когда троянцы обнаружили на рассвете опустевший лагерь, они обезумели. Следы бегства — хуже дурмана. Вместо того чтобы проверить, убедиться, распахнули ворота настежь. Бросились в поле: толпами. Мужчины, дети. Старики. Женщины. Многие воины без оружия. Кого-то затоптали в суматохе. Выбежав на берег, грозили кулаками в сторону моря, сыпали проклятиями. Камни швыряли.
Будто насмерть обиделись за наше отплытие. Или больше всего на свете хотели довоевать. Как пьяница, уже на грани беспамятства, жаждет допить последний кувшин.
Я не видел этого. Тоже рассказали: потом. А помню так, словно видел. В башне с конской головой раздался крик, и вскоре наружу извлекли связанного человека. Начали бить, выпуская пар досады; опомнились. Учинили допрос.
Этого человека я отобрал сам.
Опытный свинопас, он был мне родичем по деду Автолику. Троюродный брат получался. Язык что бритва. Когда надо было прощупать портовых крыс, укрывателей «пенного сбора», запускали его. Под личиной, всегда разной. Врал, не краснея, и крысы верили. Откликались. В свою очередь принимались трепаться напропалую. Да, я правильно сделал, выбрав именно его. Родича по деду. Подобие себя самого; просто мне нельзя было. Позже я спрашивал: что врал? чем привел горожан в экстаз?! — а он отмалчивался.
Забыл, отвечал. Трещал как сорока, а о чем — забыл.
Зато Елена плясала вокруг пустой башни, нагая, и выкрикивала наши имена на разные голоса. Дразнилась. И нагота Прекрасной вызывала отвращение, смешанное с похотью.
Смешно: еще прошлой ночью люди Гелена тайком провели нас в город. Спрятали по домам. А могли бы и не проводить. Не прятать. Когда троянцы швырялись камнями в море, а потом ликовали вокруг лагеря, можно было въехать в Трою на колесницах. В строю. С песнями. И никто не заметил бы, опьяненный вином победы. Возможно, я преувеличиваю. Возможно, приуменьшаю. Страшная вещь: победа. Я знал это, когда клал перья из ее белых крыльев приманкой в западню.
Нам нельзя было — в строю, на колесницах. С песнями: нельзя.
Нам надо было иначе.
По-человечески.
Тайный отряд, чьей задачей было открыть ночью ворота мирмидонцам, я тоже собирал лично. Всех, у кого серебро шло горлом. Героев на грани. Синеглазый Диомед. Аякс-Малый. Идоменей-критянин из рода древних Миносов. Юный сын малыша — на всякий случай.
Я сам.
В первую очередь.
Чтобы искупаться в человеческой подлости по самые уши. Отмыться алым водопадом от лишнего серебра. Тщетная надежда, но все-таки...
Когда троянцы устроили праздничное жертвоприношение, с алтаря поползли змеи. Огромные. Жадные. Какого-то Аполлонова жреца с сыновьями задушили сразу; многих напугали. Говорят, в небе кружились орлы-гиганты, но ниже опускаться не торопились. Почему-то все сочли происходящее благим знамением. В дурмане победы. Или жреца этого терпеть не могли.
Гелен рассказывал: зануда он...
Еще Гелен рассказывал: часть союзников после гибели жреца спешно удалилась восвояси. Дескать, война закончена, мы больше ни к чему. Благодарности не надо. Ушли мизийцы, которых возглавлял птицегадатель Эн-номос — удаляясь, он все поглядывал на небо и кусал губы. Покинули городские пределы, быстро уходя на восток, терейцы с апезянами: у этих в вождях числились сыновья прославленного ясновидца Меропа Терейского. Еще кое-кто живо засобирался...
Здешние махнули им вслед рукой и продолжили торжество.
%%%
Дом тих. Устал. Дремотная тишина бродит рядом со мной. Я снова на террасе. Будто и не уходил никуда. Я на самом деле не уходил, но это пустяки. Важно другое: треск в моих ушах. Треск пожара. Гул пламени, пожирающего Трою. Совсем другая ночь. И зеленая звезда в ужасе прянула за вершину Гаргара, когда мы взяли город за горло. Подкравшись со спины.
Дядя Алким, ты был бы доволен.
Счастлив.
Это я договорился, чтобы нашу долю добычи нам выдали заранее. И сложили в укромных, заблаговременно отведенных местах. Иначе многие заупрямились бы. А так: условия выполнялись честно. Все помеченные дома дарданов и тех троянцев, о ком условливались, брались под охрану. Аргосцами Диомеда. Критянами Идоменея. Моими свинопасами. Люди знали: грабить ни к чему. Насиловать ни к чему. Можно честно охранять. Добыча и пленницы подождут, где надо.
Впрочем, вру. Моих свинопасов в охрану не ставили. Под видом пленных и добычи они выводили к нашим кораблям спасаемых горожан вместе с имуществом.
Утром узнал: сын малыша успел стяжать великую славу. За одну ночь — как за десять лет. Торопился мальчик; спешил. Это он зарезал басилея Приама, искавшего укрытия у Зевесова алтаря. Это он принес младшую из Приамовых дочерей в жертву погибшему отцу. Это он вырвал младенца-Гекторида из рук матери и разбил ребенку голову об угол стены. Изнасиловал жену Гектора и забрал ее себе: невольницей. Это он...
Возможно, я закончил войну слишком рано.
Убийца отца, лучше бы я стал убийцей сына.
...Иногда чудится: меня обманули. Хитрый Ангел нарочно затеял памятный разговор, после которого я взял в руки Лернейскую смерть. Костистый старик по имени Геракл, мне говорили, что мы с тобой похожи. Я огрызался. Спорил. Втайне гордился. Но мы действительно похожи. Ты убивал чудовищ, пред кем отступали олимпийцы. И я убивал чудовищ. Пред кем отступали...
Неужели Семья всерьез предполагала напоследок одарить меня, одинокий колос на пустой ниве, лестницей в небо?!
Как и тебя, костистый старик.
«Я вернусь! — шептал я белыми губами в ночь пожара Трои. — Одиссей, сын Лаэрта, я вернусь! Я уже возвращаюсь!»
— Не спеши... — спел в ответ ветер ангельским голосом. Согласно ахнула сова в лесу. Качнула ветвями олива. Лавр и лань, туча и прибой, конегривый шлем, кузнечный молот и домашний очаг, пояс, сотканный из вожделения, и желтая нива, и мрак небытия — промолчали.
— О Лаэртид, многохитростный муж, Одиссей благородный, иль и тобой, злополучный, судьба непреклонно играет, так же, как мной под лучами всезрящего солнца играла?..
Замолчи, аэд.
Мой дом засыпает во мне. Я еще не здесь. Не до конца.
Тс-с-с...
ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ ИСКУС ЗОЛОТОГО ЛОТОСА
Не все ль равно, что этот старый храм,
Что на мысу — забытый портик Феба!
Запомнил я лишь ряд колонн да небо.
Дым облаков курился по горам,
Пустынный мыс был схоже ковригой хлеба.
Я жил во сне. Богов творил я сам.
И. БунинСТРОФА-1 Остров Заката манит покоем...
Четыре приземистые ладьи из Айгюптоса, напоследок оскалясь мордами львиц с носовых таранов, исчезли давно. До полудня. Зато финикийцы не отставали. Воздев над водой конские головы (намек?..) и ухмыляясь ликами Афродиты Выныривающей[46], три хищные тени пластались за «Пенелопой», как на привязи. Черные паруса добавляли в погоню мерзкий привкус траура. Расстояние выглядело безопасным — два десятка стадий, не меньше. Но веревка эта скорее сокращалась, нежели растягивалась. Плохо, что ветер скис. Море лазурь в золото переплавляет, больно смотреть. Внутренность раковины: играет-смеется перламутром бликов. На небе хоть бы облачко. Купол выгорел весь; даже Гелиос от собственного жара одурел, тащится еле-еле. Приходится бежать на веслах.
Блестят от пота спины гребцов. На ладонях лопаются волдыри, пятная рукояти весел сукровицей. Сменив резкие оклики дудки, монотонно рокочет на корме барабан. Дотянем до вечера — уйдем. Финикийцам в темноте ходить — хуже рожна. Свернем на север, к Кипру или Пафосу. Только когда он, этот вечер... Есть, конечно, слабая надежда, что псы Благодатного Полумесяца сломаются раньше. Им ведь тоже несладко приходится. За время, пролетевшее снаружи Кронова котла, корабли «вонючих сидонцев» изменились: боевая палуба-катастрома со сплошным ограждением-плетнем, два ряда гребцов... Один подводный таран чего стоит. Для драки: самое оно. -Это еще во время Фаросского сражения оценили: на собственной шкуре. Зато для погони, когда кормчий с бойцами наверху, а гребцы со вторым рулевым — внизу... Эй, отстанете?!
И все-таки под ветром «Пенелопе» было бы легче. Глупо мечтать о том, над чем ты не властен. Можно, к примеру, пожелать, чтобы настырные финикийцы исчезли. Провалились в мглистое царство Аида. В Тартар.
В Бездну Вихрей. Или еще куда подальше — хотя дальше уже, кажется, некуда...
Одиссей в очередной раз оглянулся на преследователей. И невольно протер глаза. Конские головы сгинули! На их месте таяло, исходило зыбкой дрожью чудо-марево; но вот исчезло и оно. Море позади было чистым до самого горизонта, куда ни кинь взгляд. Разве что горизонт стал заметно ближе. Создавалось впечатление, что именно он, этот рывком приблизившийся горизонт, и поглотил детей Благодатного Полумесяца, следивших за Троянской войной с Солимских высот.
Наваждение?!
— Земля!
До сих пор берег неторопливо уползал назад, на запад: далекой серой линией по правому борту. А тут вдруг зайцем прыгнул навстречу. Гостеприимно распахнул тихую лагуну с прозрачной до самого дна водой. Любуйся, если хочешь: пестрые рыбки снуют в ветвях диковинных садов-кораллов. Не хочешь? Гляди прямо: пологие дюны золотятся бархатом песка. Над кораблем закружили чайки; их крики звучали торжественным гимном. Неправдоподобно четкие силуэты пальм прорезали небо, налившееся густой синевой; даже жара как будто опомнилась, улеглась.
«Где пальмы, там пресная вода. Жизнь. Отдых. О небо, как нам нужен глоток воды и хоть час для сна!..»
Одиссей еще раз оглянулся, силясь пронзить взглядом близкий горизонт. Чисто. Сколько ни вглядывайся: никого.
— К берегу!
%%%
Никто не подкарауливал гостей в тени пальм, в лагуне не оказалось рифов или предательских мелей. Лишь в полустадии от берега увиделась мерзкая подробность: остовы двух кораблей. Верней, это от одного остался лишь костяк — ребрами чудовищного гиппокампа из песка проступали трухлявые балки каркаса. Определить, что это была за посудина, не представлялось возможным. Скорее всего, дарданы: традиционные медные щиты с кормы сохранились в целости, только сплошь покрылись ядовитой зеленью. Зато второй корабль выглядел сравнительно целым. Критский «торговец»-одномачтовик. Он простоял на катках, глубоко ушедших в мягкую плоть дюны, года два-три. Забытый, одинокий; пес, брошенный хозяевами.
Остро кольнуло в груди. Где команды? Ушли? Погибли?! Скелетов и черепов вокруг видно не было, хотя они вполне могли таиться под слоем песка. Но не поворачивать же назад?
«Пенелопа» ткнулась носом в отмель.
— Корабль на берег не вытаскивать! — распорядился Одиссей, облачаясь в легкий кожаный панцирь. Ножны с мечом оттянули пояс. — Быть готовыми к отплытию. Со мной пойдут...
Откуда появились люди?
Возникли между волосатыми стволами пальм — а откуда, как? Подкрались? Нет. Не выскочили сзади, отрезая путь к отступлению. Не набросились из засады. У них и оружия-то не было никакого. Даже ножей. Всей одежды: набедренные повязки из грубой ткани. Зато в руках — большие блюда, подносы, кувшины... Напоказ. Запах миролюбия опасней кипрских благовоний, когда блудница заманивает простака в портовые трущобы. В чужую доброжелательность верится плохо: после беспрерывных боев, крови, бегства, висящей на хвосте смерти... Одиссей поднял левую руку: стойте!
Убрать правую ладонь с рукояти меча оказалось куда трудней.
Увидев, что пришельцы остановились, люди переглянулись. И степенно двинулись навстречу. На блюдах и подносах красовались рдеющие в разломах гранаты, сизые грозди винограда, вовсе неведомые плоды (до сих пор сын Лаэрта думал, что всего насмотрелся в отцовском саду!), плачущие от жары круги сыра, стопки румяных лепешек... И все это вперемешку с крупными золотистыми цветами на мясистых стеблях. «Лотос!» — припомнил наконец рыжий. И с удивлением отметил, когда встречающие подошли ближе: глаза у местных — янтарно-желтые. Яркие, блестящие.
— Мы рады приветствовать вас, чужеземцы. Будьте нашими гостями. Можете не опасаться преследователей: им заказан путь сюда. Да будет отдых ваш тих и радостен!
Круглое улыбчивое лицо. Гладкое, без морщин. Смешной нос слегка приплюснут. Взгляд загадочно мерцает в тени и вспыхивает расплавленным золотом, едва на лицо человека падает солнце. Гладкое, подобно лицу, слегка начинающее заплывать жирком тело. И спокойная уверенность — нет, иначе: благожелательность! благость! — которой дышит желтоглазый. Впрочем, они тут все желтоглазые. И все — люди без возраста! Сколько лет круглолицему? Тридцать? Сорок? Пятьдесят?! С остальными ничуть не легче: глянешь искоса — юноши, приглядишься — средних лет, всмотришься по новой...
Круглолицый обратился к морякам по-ахейски, хотя на спартанца или аргоссца походил меньше всего. Откуда ему известно про погоню? Почему финикийцам закрыт путь сюда? Словам желтоглазого хотелось верить. Одиссей знал такое за самим собой, поэтому внутри отчаянно колотился зародыш недоверия. Уж лучше бы их встретили настороженно, с оружием в руках: было бы легче. Надо решаться. Гребцам нужен отдых. И если его преподносят на блюде...
Низкий поклон. Ладонь прижимается к сердцу:
— Радуйся, господин мой! Зевс любит щедрых гостеприимцев! Ибо Куда чаще гостей встречают бранью и копьями. Мы с удовольствием примем приглашение твоих соплеменников, не злоупотребляя вашей добротой. Стеснять хозяев пагубно...
— Вежливые речи слаще меда! — замахал руками круглолицый. — Оставайтесь, сколько вам будет угодно! Зовите своих людей, кто остался на корабле, и мы проводим вас в общину.
Осведомленность круглолицего не понравилась рыжему. Но, с другой стороны, если уж местные прекрасно знают, что гости приплыли на судне, то сообразить, что часть команды осталась на борту... И все-таки: откуда им известно про погоню? Увидели с берега? Вряд ли. С верхушки пальмы?!
Вопросы, вопросы... убить бы вас, каверзных.
Одиссей послал гонцов к кораблю, шепнув на ухо:
«Оставьте на „Пенелопе“ охрану!» Тем временем хозяева разложили дары перед гостями и стали усаживаться прямо на песке, напротив. Измученные бегством моряки недолго думая последовали примеру местных. Руки жадно потянулись к фруктам и сыру, но еще раньше — к кувшинам, во чреве которых соблазнительно булькало.
— Позволено ли мне будет узнать, как называется сие благословенное место? И как мне величать гостеприимных хозяев? — осведомился Одиссей, наполняя деревянный кубок. В кувшине, против ожидания, вместо вина оказалась родниковая вода.
Холодная, будто только что с ледника.
— Лотофаги мы. Блаженный народ, — с тайной гордостью ответствовал круглолицый, разламывая лепешку. — Что же касается имен... Когда-то меня звали Собек-о. Но это было давно, очень давно...
Странные глаза Собек-о на миг заволокло дымкой нахлынувших воспоминаний. Так бывает: мушки в янтаре. Без движения, тенями.
— А теперь в общине меня зовут Далет. Просто Далет[47]. — Он минуту молчал, словно раздумывая: сказать гостю что-то еще или не стоит?
Видимо, решил, что стоит.
— И ты зови меня так. Одиссей, сын Лаэрта, — сказал просто Далет, раньше Собек-о.
— Откуда ты знаешь мое имя?! Круглолицый вздернул реденькие бровки:
— Кто же не знает великого героя Одиссеюшку, сокрушителя Трои?! Впрочем, к чему лгать друзьям: мы узнали о вас не совсем обычненьким способом. Брось тревожиться, милый. Позже все расскажу, без утайки. Сам видел: вас-то мы пустили, а финикийцев — нет.
Уклончивые слова лотофага были на первый взгляд, искренними. Но странными. Захоти гости вырезать дружелюбных хозяев — стоит лишь мигнуть... Пустили, значит?
Но могли не пустить?!
— А это что? Для красоты? — вертясь на песке, беспокойный приятель Эврилох с интересом крутил в пальцах цветок на длинном стебле.
— И для красоты тоже, — широко улыбнулся Далет. — Есть ли что красивее чистого отдохновения души? Есть ли что лучше у блаженного народа лотофагов, нежели золотой лотос? Пробуй, хороший человек, без страха. Доверься своему сердцу.
Хороший человек Эврилох, не спеша доверяться сердцу, осмотрел цветок со всех сторон. Понюхал. Чихнул. Осторожно надкусил краешек стебля: у самого среза...
— Ух ты! вкуснятина! — возвестил он мгновением позже. — Чисто липовый мед, зато пахнет лучше! И увлеченно захрустел цветком.
Часть моряков последовала примеру Эврилоха, а хозяева с умилением наблюдали, как гости поглощают «лучшее, что есть у блаженного народа лотофагов». Сам Одиссей ничего не имел против сладкого, но сейчас, после бегства, палящего зноя, внезапного спасения и целого букета загадок, преподнесенного лотофагами, больше хотелось пить. Ну, закусить слегка. Посидеть, собраться с мыслями.
Сладкое — потом. Может быть.
%%%
Наконец вернулись посланные на судно гонцы, вместе с частью команды. Одиссей отметил, что Протесилая с ними нет, и обрадовался про себя: если филакиец взялся за охрану корабля, о «Пенелопе» можно не беспокоиться. Пора было идти в общину, и рыжий, который больше пил, чем ел, легко поднялся на ноги. Остальные замешкались. Сонно вздрогнули, с трудом встали сперва на колени: усталость брала свое.
«Быстро их разморило», — подумал Одиссей, следуя за Далетом и оглядываясь на своих.
Община оказалась — горькие слезы. Десятка два травяных хижин, вперемешку с шалашами. Хоть бы одно каменное или глинобитное строение! А площадь, площадь-то — сатирам на смех. Именно здесь, прямо на земле, на плетеных циновках, было выставлено очередное угощение. Лепешки, сыр... И опять: золотые цветы лотоса.
Надо будет попробовать...
Лотофагов оказалось меньше сотни. Сплошь мужчины. Женщин — шестеро. А детей не было совсем. Ни одного. «Похоже, нас все-таки опасаются, — удовлетворенно решил рыжий. — Баб с ребятишками вон попрятали». От этой мысли тревога угомонилась. Именно так и должны поступать правильные люди, когда к берегу причаливает неизвестно чей корабль неизвестно с какими намерениями. А дары, угощение — это мудро. Если хозяева чувствуют свою слабость и хотят упредить лишние заботы.
Погоди, рыжий. Как это: неизвестно чей корабль? Ведь сразу выяснилось: известно. Твой.
Героя Одиссеюшки.
Ладно. Успеется. Сказал же круглолицый: «Позже расскажу».
Смеркалось. Моряки оживленно переговаривались, расспрашивали лотофагов о пустяках, уминая за обе щеки щедрый ужин. Кое-кого, включая Эврилоха, успел сморить сон, и они захрапели прямо здесь, на свободных циновках — благо теплынь, и глупо утруждать себя поисками крыши над головой. Одиссей привалился спиной К сухому и упругому стволу пальмы, росшей на краю площади. Глубоко вздохнул. Напряжение дня стекало в бездны Тартара. Глохли опасения. Лишь пальцы правой руки, держа лотос, прихваченный с блюда, жили своей собственной жизнью, лениво вращая цветок за стебель. Лиловые сумерки.
В небе проступают серебряные россыпи звезд. Глубокие тени от пальм чертят песок: полосы на шкуре диковинного зверя. С моря налетает легкий бриз. Ерошит волосы, бросает в лицо пригоршню соленых запахов. Эхо стихающего разговора, трапеза на свежем воздухе. Аромат лотоса. Игра теней. Все окружающее вдруг показалось нереальным. Это сон, сладостная греза о вожделенном мире и покое — но просыпаться было бы слишком больно! Не стремись, рыжий, домой, на Итаку... домой... не стремись...
Гляжу с террасы на себя, дремлющего под деревом, на берегу лотофагов. Жаль, взгляд не в силах удержаться: скользит дальше, в глубь прошлого. Сюда легко возвращаться, но очень трудно задержаться здесь, в этом сне внутри сна, воспоминании внутри воспоминания. Нет якоря, нет опоры, не за что зацепиться, и течение влечет меня вспять, к берегам Троады. Что ж, глупо противиться. Сегодня в моей короткой жизни царит вторая ночь возвращений. Наверное, так выглядит обреченность: возвращаться раз за разом, переживая все заново, чтобы под утро вернуться окончательно. Я вернусь! Но сейчас: Троя.
ТРОАДА
Лиловое, Критское и Айгюптосское моря;
проливы близ острова Фарос (Мнемодия) «Песнь памяти».
...Память ты, моя память! Распахнутые настежь ворота. Не только Скейские — все, какие есть. Заходите, люди Добрые, берите, что хотите! Заходили. Брали. Над городом метались крики, остро пахло бедой: медным ароматом крови, хлещущей из жил. Временами ноздри забивала гарь вместе с жирными хлопьями копоти. Впрочем, могло быть хуже. Много хуже. Резня шла вялая, словно по обязанности. Лишь сын малыша, рыжий Пирр, разошелся не на шутку: наверстывал упущенное, отыгрывался за всю войну. Лез в герои.
Над мальчишкой беззлобно посмеивались. Дома горели, но, опять же, без особого рвения. Если местные пытались гасить пожары, им не мешали. Наиболее рьяных погромщиков аккуратно придерживали критяне и аргосцы Диомеда. Спешили угостить троянским же вином, быстренько упаивая до поросячьего визга. Да, трупы. Да, насилие, поджоги и грабеж. По-человечески. Лучше, чем ужасный призрак Титаномахии, чем предсмертная дрожь тверди.
«Лучше! — твердил я сам себе. — Лучше!» Слово теряло смысл с каждым новым повторением. Когда вспыхнул басилейский дворец, где успел вволю порезвиться Лигеронов сынок, стало ясно: все. Конец. Победа. И вместе с этим знанием на плечи, гончим псом на холку загнанного оленя, разом свалилась многодневная тупая усталость. Победа вдруг показалась бессмысленной, никчемной и глупой; какой она, собственно, и была. Добыча — пустяк. Радость — гнилье.
Усталость и опустошенность. Больше ничего. А еще я подумал, что теперь-то наконец смогу отплыть домой. На Итаку. Завтра или послезавтра. Подумал и сам себе не поверил. Ничто не отозвалось в душе, не задрожало от сладостного предвкушения. Не толкнуло в спину: скорей! На корабль! Плыви домой, рыжий, ты ведь этого хотел, этого ждал, ради этого ты... Успеется. Завтра. Или послезавтра.
Вечером устроили пир. Натужную, вымученную попойку. Я еще подумал, засыпая, что ночью троянцы запросто могут вырезать спящих победителей. Никто даже не почешется. А стражу выставить наверняка забыли. Подумал отстранение, с полным безразличием. Но то ли уцелевшие жители старались держаться от нас подальше, то ли дуракам везет — наутро все проснулись живые.
Если не считать смертельного, жесточайшего похмелья.
Помню: вставая, я наступил босой ногой на оброненный нож. Порезался. И едва не закричал. Не от боли — от счастья. Моя кровь была красной. Никакого серебра!.. Но снаружи закаркали трубы, я отвлекся, а через пару часов мы с Диомедом и Менелаем (микенский ванакт идти отказался наотрез) вышли встречать хеттийского посла.
Посол был черноволос. Черноглаз, Горбонос. Впалые щеки сплошь изъедены странными угольными крапинками. Поры на коже? Песок сыплется?! Так ведь не стар еще. Белоснежные полотна одежд, когда хеттиец при беседе размахивал руками (а он это делал без перерыва!), колыхались не в такт взмахам, отчего фигура посла странно искажалась, приобретая совершенно нечеловеческие очертания.
Хеттиец улыбался.
Складывал ручки на животе, быстро-быстро перебирая пальчиками.
По-птичьи склонял голову набок — и говорил, лопотал, тараторил без умолку. Умудряясь, несмотря на жесты и ужимки, держаться с огромным достоинством. А из многословной его речи следовал вполне однозначный и недвусмысленный вывод: пошалили, пора и честь знать. То есть, конечно, большое спасибо, что поставили на место строптивицу-Трою: хеттийского данника. Совсем эти гадкие троянцы в последнее время от рук отбились. Жен чужих воруют: полбеды. Дань зажимают — вот где собака зарыта. Ясное дело, уважаемые победители хотят кушать. Здесь хотят, и дома тоже захотят. Двух дней для сбора добычи вполне хватит. И если через двое суток досточтимые ахейцы уберутся восвояси — он, посол, запоет от счастья соловьем. А хеттийские Золотые Щиты, вдвое превышающие численностью досточтимых, хотя и слегка утомленных ахейцев, радостно помашут кораблям с берега. Они тут рядышком, у западной излучины реки Сакарьи. Ждут. Чтобы в случае чего успеть помахать. Это был ультиматум.
Менелай, который, заполучив обратно Елену, возомнил себя покорителем народов, собрался было выпячивать грудь. Но мы с Диомедом быстро оттерли белобрысого в сторону. Заткнули рот. И заверили хетта, что и так, мол, собирались отплывать. Воодушевленные и удовлетворенные. Два — не два, а дня через три-четыре покинем Троаду. Кажется, ответ устроил хеттийца. А нам удалось даже отчасти сохранить лицо. На чем мы с послом расстались, и я мигом направился к берегу: распорядиться насчет отплытия.
И тут же обнаружил на берегу Сигейской бухты какого-то ушлого купчишку. По виду: уроженец знойного Биб-ла. Серая шерстяная хламида обтрепана у подола, зато пальцы сплошь в перстнях. Дубленая шкура, жесткие складки у рта. Клочковатая борода обильно присолена. И хитрый, цепкий взгляд голубых льдинок, глубоко засевших под кустистыми бровями. Библосец приценивался к нашей добыче. Ему требовались молодые невольницы. Впрочем, от сильных мужчин-рабов он бы тоже не отказался. Чем намерен расплачиваться? Можно — долговыми поручительствами от серьезных людей. Можно серебром. Клейменые слитки Дома Мурашу устроят богоравного героя? Где плата? Разумеется, с собой! Вон мое судно ждет, час назад причалили. Сейчас, когда Лаэрт-Пират баламутит море у самых рубежей Айгюптоса, плавать здесь стало спокойнее. «Пенный сбор»— скинули на треть, а если задержишь, беда невелика...
Лаэрт-Пират! Папа...
— Рассказывай!
Наверное, я порядком изменился в лице. Во всяком случае, библосец сделал шаг назад. Его интересовали рабы и рабыни. Он собирался прицениваться и торговаться, а отнюдь не пересказывать слухи — но, когда надо, я умею быть очень убедительным.
И убеждать можно не только словами.
Библосец понял. Развязал язык. И в итоге, совершенно сбитый с толку, получил всех причитавшихся мне рабов по бросовой, едва ли не половинной цене. Купец долго еще смотрел мне вслед. Хмыкал в бороду. Затылок чесал.
А я забыл о нем сразу.
Папа!.. Ты держал Лиловое море в кулаке. От Пропонтиды до Кикладов, от Пролива Геллы до древнего Крита. Знаменитый флот троянцев вотще пыжился ударить в спину твоему блудному сыну. Загнанный в глухие бухточки, кипел бессильной яростью. Все эти годы... годы! годы!.. будь проклят Кронов котел!.. Непрерывные бои. Засады. Свалка абордажа. Обломки на воде. Стремительные исчезновения, чтобы вскоре объявиться невесть где и невесть когда. Заключение новых союзов. Буйство «пенного братства», забывшего про выгоду и вспомнившего про честь дарованной серьги. И все время под ногами — бездонная пучина. Ненадежная палуба утлой скорлупки, гордо именуемой «кораблем». Лаэрт-Пират, ты выстоял. Несмотря на возраст, потери, сошедшие с ума дни, обернувшиеся даже не месяцами. Несмотря ни на что. Титан Атлант держал небо; папа, ты держал море. Ничуть не легче. Но всякой силе, везению, удаче, умению, упорству — всему есть предел. Раздраженный пиратским произволом Айгюптос вспенил море своими эскадрами. А следом за Черной Землей — финикийцы-союзники. И Лаэрт-Пират отправился в последний, безнадежный поход. Спина сына должна быть закрыта. Любой ценой. Папа, ты ведь еще не знал, что война окончена и можно разжать побелевший, каменный кулак...
По словам библосца, «пенное братство» сейчас маневрировало в окружении, на расстоянии полутора дневных переходов от побережья Черной Земли. Сколько продержатся? А кто его знает?!
Это покамест у богов на коленях.
Я должен был успеть. Почти два десятилетия ты был моим щитом, Лаэрт, сын Аркесия, внук Громовержца. Едва ли не весь срок доставшейся мне жизни. Сейчас твоему сыну двадцать, и я, в сущности, скучный человек. Пора платить долги. А потом мы вместе вернемся домой. Мне нужны люди и корабли. Чем больше, тем лучше. Плевать, как я их раздобуду — как человек, как герой, как бог...
Папа! Потерпи чуть-чуть.
Одиссей, сын Лаэрта, я уже иду.
...Когда навстречу попался хмурый Менелай, что-то отозвалось у меня внутри. Плеснула волна из моря любви? Захныкал ребенок? С шелестом осыпался песок скуки? Само небо посылало мне младшего Атрида. С его людьми и кораблями, с теми, кто перешел к Менелаю от старшего брата, живого мертвеца, сгоревшего на войне.
А белобрысый, похоже, сам искал меня.
Заговорил первым:
— Нам нельзя возвращаться в Спарту, Одиссей. — Понурый, он был убедителен, как никогда. Почти как я.
— Нам?
— Мне с Еленой. Ей не простят. Слизняки, кто раньше целовал следы ее ног, молился Прекрасной... Сейчас храмы осквернены, алтари опрокинуты и статуи разбиты. Да Тартар с ними, со статуями! Ненависть людей страшней разрушенных храмов. Спартанцы злопамятней прочих. Она... она старится. Одиссей! И я бессилен помочь. Ей нужна любовь. Я люблю ее, люблю до сих пор, вопреки всему, но ей мало только любви мужа. Мне нужна новая басилевия. Где Елену будут любить. По-настоящему. Где мне взять новое царство. Одиссей? Подскажи?! Ты ведь такой хитрый...
Бедняга Менелай. Вчера ты был опьянен вновь обретенным счастьем. Сегодня — день похмелья. Ты все верно рассудил. Но лучше бы ты прошел мимо. Потому что я с радостью помогу тебе и, если понадобится, — без раздумий погублю тебя. Как отправил по смутной дороге Паламеда, малыша. Большого и петушка-соблазнителя. Я должен успеть. Прости меня, Менелай. Надеюсь, у твоей песни будет счастливый конец. Вы с Еленой вернетесь в Спарту, вы будете жить долго и счастливо, как и мы с Пенелопой на Итаке; мы станем ездить друг к другу в гости... Но если судьба повернется иначе, прости заранее.
Ты сам подошел ко мне.
— Я помогу тебе собрать войско, Менелай. Ты завоюешь себе царство. Мы поплывем к берегам Черной Земли: сейчас Айгюптос ослаблен набегами с моря, и ты сможешь отхватить достойный кусок. А Елена... Думаю, я найду способ заставить людей полюбить ее снова. В храмы вернут статуи и опять зажгут жертвенники.
— Ты друг! Одиссей, ты настоящий друг! Единственный! Сделай это, и я — твой должник до конца дней!
В моих глазницах плескался ласковый, змеиный взгляд Далеко Разящего.
— Хорошо, я сделаю это. Ради тебя.
%%%
Лиловые тени стали заметно гуще. Налились глубиной. Серебро звезд разгорелось, вспыхнуло факельным шествием. Вышел предводитель-месяц. Качнул рогами: кш-ш, блудницы! Разговоры угасли окончательно, все вокруг спали: моя команда, гостеприимые хозяева-лото-фаги. Лишь двое или трое еще сидели на песке. Блаженно хрустели лотосом. Можно успокоиться, забыться. Крутануть в пальцах золотистый цветок, любуясь живой красотой. И вот такую прелесть съесть? Хотя... Но прежде чем варварски расправиться с цветком, приобщившись таким образом к блаженным лотофагам, пока рука медленно подносила лотос к губам, память, извернувшись, вновь метнулась назад. Туда, откуда рыжий странник прибыл к этим благословенным берегам...
Молва ширилась. Пожаром охватывала все новые толпы людей. Войско за войском, племя за племенем, прибывающие корабли и невесть откуда объявившиеся караваны. Бравые ветераны Троянской войны, рьяно торгуясь с купцами в надежде срубить высокий барыш, не забывали при этом сообщить:
— Елена! Ха!.. А ведь Елены-то здесь и не было!
— Ври больше! — Купцы моргали, постыдно допуская ошибки в расчетах. — А из-за кого вы столько лет вшей кормили?!
— Пауков из башки повымети, дружок! Надо же: «столько лет»!.. Из-за нее, значит. Из-за Прекрасной. Мы здесь были, а ее и в помине! — один призрак. Боги наслали. Чтоб мы, значит, клятву как есть исполнили. Да ихний петух и сам думал: Елена!.. Ха! Позорище: с призраком на ложе приап тешить... Вроде как под дождем голышом плясать. А настоящую Елену боги давно в Айгюптос перенесли. До поры. Значит, чиста она пред мужем, и Менелай не рогоносец вовсе. Просто шлем у него такой...
Это оказалось очень просто. Даже убеждать не понадобилось. С торговыми судами и караванами новость расползалась быстрей саранчи. Только нужно было время, чтобы люди услышали. Поверили, простили... Устыдились. А мне это время нужно было для другого. За Менелаем пошло немало людей его старшего брата. Опять же филакийцы Протесилая. Мои свинопасы. Часть аргосцев — Диомед никого не удерживал.
Наутро третьего дня мы отплыли.
А когда через неделю пристали к какому-то безымянному островку — пополнить запасы пресной воды, — Менелай подбежал ко мне с сияющими глазами.
— Она... она снова молодеет! Уже почти такая, как раньше. Это... это чудо. Одиссей! Друг! Брат!..
Я горько улыбался, слушая поток славословий. Как, в сущности, мало надо человеку для счастья. Мне ведь тоже нужно совсем чуть-чуть: вернуться. Еще спустя неделю я лично допрашивал пленных моряков с подвернувшегося тирского судна. Неудачники опоздали свернуть: утром стоял туман, и мы вылетели на них внезапно, едва не столкнувшись. Пленные хотели жить. Пленные болтали без умолку. Весь флот Айгюптоса был брошен в битву с пиратской флотилией, закрывшей дорогу от побережья на север. Сейчас бои шли северо-западней, где-то возле Фароса. Пиратов теснили. Оголив, в свою очередь, рубежи Черной Земли. И если вовремя нанести удар... Это был тот редкий случай, когда мой дар убеждения оказался бессилен. Менелай не собирался воевать на море. Белобрысый рвался к Черной Земле. Добыча, новые земли, новое царство богоравного Менелая Атрида с живой богиней Еленой на троне рядом с ним. Эта картина стояла у белобрысого перед глазами, и я мог пробиться сквозь нее разве что вместе со стрелой.
К счастью, репутация «хитромудрого Одиссея», способного найти золото в куче дерьма, стоила дорого. Восемьдесят кораблей последовали за мной. Остальные отправились с белобрысым: грабить и завоевывать новое царство.
Вскоре мы с разгону, оседлав подвернувшийся ветер, влетели в Фаросское сражение. Впервые я ощутил на собственной шкуре, чем сильны неповоротливые и маловесельные ладьи Айгюптоса: лучниками. Десятки лучников с дальнобойными луками на каждом судне. И там, где не поспевали медлительные ладьи, в дело вступали стремительные биремы финикийцев с их подводными таранами. «Пенному братству» приходилось туго, когда мы ударили айгюптянам во фланг, смяли кольцо блокады, давая возможность пиратским эскадрам отойти.
«Папа, ты слышишь?! — пели мои стрелы, изнемогая от любви. — Ты видишь? Папа, это я!..»
Когда на море рухнула ночь, я уже прекрасно знал, что сейчас сделает Лаэрт-Пират. Понимая, что сын его жив, война под Троей окончена, и больше нет смысла загораживать морские пути. Корабли «пенных братьев» рассредоточатся, уйдут на север, затеряются в просторах, в лабиринтах островов и архипелагов, в многочисленных явных и тайных гаванях.
Ищи ветра в поле, а пирата — в море!
Мне оставалось последовать примеру отца. Сразу бросаться в погоню айгюптяне поостерегутся, опасаясь подвоха. А очень скоро до них дойдет весть об упавшем на побережье Менелае, и тогда вообще станет не до погонь. Спасибо, младший Атрид, — ты отвлечешь их. Послушайся ты меня, мы бы могли разбить флот Черной Земли, и тогда все бы сложилось иначе. Ты опять выбрал сам. Удачи, белобрысый!
Надеюсь, тебе повезет вернуться домой вместе с красавицей-женой.
Под утро, едва небо и море начали сереть, а на востоке появился робкий намек на рождение зари, с обломков разбитой «козы» мы подобрали Ворона. Да-да, старого приятеля, папиного лоцмана! Бедолага был контужен ударом в голову, но разжать его пальцы, окостеневшие на куске сломанной мачты... Втащенный на кормовую полупалубу, Ворон шумно вздохнул и потерял сознание. Я едва узнал его — эфиоп был совсем седым...
Мы бежали. Четыре приземистые ладьи из Айгюптоса, напоследок оскалясь мордами львиц с носовых таранов, исчезли давно. До полудня. Зато финикийцы...
%%%
...Цветок лотоса коснулся моих губ. С наслаждением вдохнув тонкий, возбуждающий аромат, я впился зубами в сочную, медово-сладкую плоть.
АНТИСТРОФА-I
Хочешь цветочек?
И простор Номоса распахнулся для меня. Блаженные гипербореи Севера. Блаженные эфиопы Юга. Киммерийцы Востока и начинающееся за Тринакрией [48] западное царство мертвой жизни. Блюдо земли в седой купели Океана. Остатки былого пиршества на жирном подносе: скоро, скоро явится рачительная хозяйка. Вымоет с золой и песочком, прокипятит до зеркального блеска. Впрочем, меня сейчас мало интересовали границы, блюда и хозяйки. Домой! Скорее домой!.. Мир, слегка Окрашенный в медовые тона, стелился внизу. Величественный Олимп прячет вершину в облаках. Узкая прорезь Темпейской долины. Цветущие склоны Парнаса. Овечьи стада Аркадии.
Домой!
Обильная зерном Фессалия. Суровый Эпир. фермопильское ущелье.
Домой, будьте вы прокляты!
Лаврийские серебряные рудники. Паросские каменоломни. Дельфийский оракул. Семивратные Фивы, так и не взятые мной.
...Ну же!
Суша предала меня. Суша издевалась. Опытным борцом выворачивалась из захвата; Оставалось море. Верней пса, оно никогда не предавало Одиссея. Я метался во влажной желтизне, в лоне гулящей девки с золотистой, персиковой кожей. Мир покорно отдавался своему господину, в глубине оставаясь равнодушным. Котел. Старый знакомый котел, разве что огонь под треножником давно угас. Конец кипению. Осталось легкое тепло воды, манящее залезть нагишом, откинув усталую голову на край. Расслабиться. Вздохнуть полной грудью. Никуда не спешить. Ничего не хотеть, перебирая места и названия с тихой ленью, в блаженстве и покое.
...Домой!
Лиловое море. Критское. Фракийское. Пенные буруны у Тенарского мыса: здесь мы высаживались, торопясь на сватовство к Елене. Зелень волн близ Скироса: тут я сманил малыша играть в войну. Опасные проливы Кикладов. Чайки, ветер, открытые гавани. Скрип мостков, блеск рыбы в сетях. Торговые эйкосоры, боевые пентеконтеры. Паруса, весла. Солнце днем, зеленая звезда ночью.
Ну пожалуйста! Молю!..
Ужас пал на меня липкой медузой. Приник, охватил жадной слизью. Вогнал под кожу ядовитые стрекальца. Я не мог найти родного острова. Я забыл, как он называется. Кифера? Родос?! Саламин?! Нет, иначе... По-другому! Имя родины издевательски плясало на окраине сознания, и ребенок у предела плакал, тщетно протягивая руки к недоступной танцовщице. Жена? Отец? Как же вас зовут?! Напомните, и я позову, докричусь... Иногда бывает: забудешь какое-нибудь слово, и готов наизнанку вывернуться, лишь бы вспомнить, — но даже вывернутый, корчишься от мучительного бессилия. Море и земля пластались внизу, доступные везде, кроме единственного, жизненно необходимого клочка суши; люди жили для меня, кроме немногих, сокрытых, пропавших, — но, Одиссей, сын Лаэрта, ведь это такая малость... Замолчи!
Дорога на Калидон: вижу. Помню. Львиные ворота Микен: да.
Малейский мыс, где мы приняли бой с ушлыми сидонцами: знаю.
Эвбея, родина моего любимого шурина Паламеда... В буре мне стало легче. Во тьме. В кипении пены и тучах, разорванных звездными ножами. Вокруг клокотал шторм, желтый шторм, и эскадра за эскадрой пробивалась сквозь взбесившееся золото. Команды кормчих и визг дудок терялись в урагане. Невидимка, я парил между бортами. Стоял на верхушках мачт. Сплетал ветра косицей. Наши возвращались домой. Из-под Трои. Домой... да, они могли. Они знали, куда возвращаться. По-человечески, надрываясь в последнем броске. Сгустком зависти я метался от судна к судну. Кораблей было много, но все-таки меньше, чем предполагалось. Наверное, часть отплыла раньше. Или позже. Счастливчики, они избежали удара бури, но и эти, напрягающие силы в борьбе со стихией, тоже счастливчики. Они плывут домой.
По левую руку мрак дрогнул. Моргнул. Со стороны Эв-беи, сперва робко, но потом все уверенней, загорелись огни. Сигнальные маяки. Это, наверное, Герейский мыс. Северо-восточная окраина острова. Там всегда дежурят дозорные басилея Навплия, моего дорогого родича. Флотилия ответила единым воплем радости, и дудки завизжали громче. Судно за судном поворачивало на зов огней. Даже буря слегка угомонилась, щадя смелых. Даруя надежду отчаявшимся. Взмыв вверх, в отливавшую яичным желтком высь, я помчался впереди кораблей, дрожа от странного чувства. Будто всех спасли, а меня предали. Бросили на произвол. Выбрали искупительной жертвой. Разбредясь по домам, станут вспоминать у очагов: Одиссей? Да, был такой... муж, преисполненный... Я несся на маяки, как если бы нашел свою собственную родину. Вспомнил ее имя.
Узнал в лицо.
Я действительно узнал ее в лицо. Не родину, нет. Сову, и оливу, и крепость. Синеглазая моя! Не видя меня, несущегося мимо, не слыша моих приветствий, ты стояла на вершине утеса (слабый ожог: помню! было! нет, опять...), и копье в твоей руке горело береговым огнем, одним из многих. Внизу, на мокрых камнях, суетились люди, бросая в костры заготовленный и укрытый под шкурами сушняк. Коршуном пав к дозорным, я пригляделся: Герейским спасительным мысом, с его безопасными бухточками, здесь и не пахло.
Рифы Кафереи.
Слюна пены на гибельных клыках.
«...Мой сын! Они убили моего сына! Наследника... Мальчик мой, когда все закончится, я принесу в жертву твоей тени сотню быков. Как сейчас приношу иную, тысячекратно прекраснейшую жертву. Ты выпьешь крови с медом и ячменной мукой, на миг обретая память, и узнаешь: отец — единственный, кто не предал тебя. Сотни, тысячи душ, скорбно бредущих во мглу Аида, расскажут тебе: как они тонули в водах твоей родины! Шли на дно! Захлебывались собственной подлостью! Мальчик мой... тебя забили камнями. Не дали вернуться. Я оплачу твои долги с лихвой...»
В медовой буре я встал под утесом, служившим опорой сове, и оливе, и крепости. Рядом с басилеем Навплием. Скрестив пухлые руки на груди, он кусал губы, заставляя ворочаться мокрые кольца бороды. Вода текла по плащу, блестела на кожаных башмаках. Позволяла плакать, не стыдясь своих слез.
А корабли шли на предательские огни, мечтая о спасении.
И когда в челюстях Каферейских рифов затрещала буковая обшивка, вскрикнули дубовые балки, и акация каркаса взмолилась о милости — словно леса Ахайи разом согнулись под гибельным ветром! — я отступил в тень. Одиссей, сын Лаэрта, ты по-человечески рассчитался с Паламедом Навплидом. Ты зажег сегодняшние огни мести. Ты бросил в воду несчастных гребцов, пленников и добычу, встав на пути к возвращению.
Смотри и не говори, что не видел.
Если кто и вернулся домой, так это война по-человечески.
Желток яйца, золото и мед Номоса сомкнулись вокруг меня. Последнее, что явилось вспышкой озарения: скала, голый человек, намертвообхватив руками спасительный камень, изрыгает богохульства и грозит кулаком небесам — пока скала не расщепляется под ударом копья совы, и оливы, и крепости, погребая дерзкого в объятиях пеннобрового бородача.
Аякс-Малый, сын Оилея Локрского, один из серебряных героев: прощай.
%%%
Очнулся в поту.
Впридачу жара стояла: хоть проси пощады. Солнце взбиралось в зенит, воздух плыл горячим зеркалом, и запах пустыни щекотал ноздри. Поднявшись, Одиссей побрел туда, где рощица раскидистых пальм обещала хоть какой-то намек на прохладу. Вокруг все было слегка желтоватым: песок, солнце, стволы пальм — но иначе, чем в видении.
Мой родной остров: Итака.
Я — Одиссей, сын Лаэрта-Садовника и Антиклеи, лучшей из матерей. Одиссей, внук Автолика Гермесида, по сей день щедро осыпанного хвалой и хулой, — и Ар-кесия-островитянина, забытого едва ли не сразу после его смерти. Пенелопы и отец Телемаха, преисполненный козней различных и мудрых советов. Герой Одиссей. Хитрец Одиссей. Я! Я...
Вспоминалось легко. Просто. Куда уж проще! Названия и имена сами ложились на язык. Проклятье! Почему, когда вернуться нет возможности, сразу становится ясно: куда и к кому возвращаться! Зато едва ты становишься волен в поступках, пусть даже не наяву, а во сне...
Призрак забытья шагал рядом, посмеиваясь. Хрустя в ушах праздником кораблекрушения.
— Вышел?
Вопрос был задан спокойно. Между прочим. Вместо «Радуйся!». Куда вышел? Откуда вышел? Неужели имелось в виду: вышел прогуляться?..
Круглолицый Далет сидел, прислонясь спиной к шершавому стволу пальмы. Еще секунду назад глаза его были плотно закрыты. И вот: живой, янтарный взгляд благожелательно скользит по рыжему скитальцу.
— В первый раз так всегда. Выпей водички, полежи в тенечке. Я думал, ты спасать его бросишься...
— Что?! — Одиссей резко шагнул к лотофагу. Захотелось взять за грудки, встряхнуть. — Кого спасать?!
Наверное, Далет ощутил порыв рыжего. Мигнул. Раз, другой. По-прежнему исполненный тихого покоя. Тряси, не тряси: без толку. Хоть принеси эксомиду, надень на него и разорви после в клочья. Разлапистая крона играла тенями на желтом, песчаном лице лотофага. Сколько же ему все-таки лет: тридцать пять? Сорок?
Полвека?!
— Богохульничка этого. Я, например, бросился. Дай, думаю, посмотрю: как дело обернется? Вытащил Аякси-ка на берег, откачал. Он еще потом басилейчика Эвбей-ского самолично прикончил. Собрал вокруг себя тех, кто выплыл, устроил битвочку. Назавтра объявил себя баси-лейчиком. А что? Народишко с радостью...
Манера лотофага все называть ласково-уменьшительно — басилейчик, битвочка, Аяксик — раздражала. Но иначе, чем должна была бы. Чувствовалось: просто Далет так разговаривает. Всегда. Меньше всего желая кого-либо обидеть. Вместо обиды Одиссея жгла острая досада на судьбу, лишившую итакийца дара понимать.
Вот и сейчас: не понимал.
Ни капельки.
— Жалко, Одиссеюшка, ты вышел... Снова это: «вышел»!
— ...Мы бы с тобой куда веселей волчок раскрутили. Небо с морем кубарем бы!..
Лотофаг мечтательно зажмурился. Облизал губы языком: узким, ярко-красным. Видимо, представлял: как он с Одиссеюшкой, да кубарем, да небо с морем! Представление выходило славным. По улыбке видать.
Рыжий огляделся.
Община лотофагов словно вымерла. Люди прятались в шалашах, в чахлом кустарнике на самой окраине, возле колодца. Спутники Одиссея тоже бежали солнца; часть ушла на берег — отдохнуть вблизи тенистых скал. Окунуться разок-другой. Но почему-то представлялось: они дремлют. Все. В шалашах, в тени, под скалами. И солнце шалит с их телами, вымазывая в желтке.
— Вот, Одиссеюшка... возьми...
На маленькой, исчерканной еле заметными штрихами ладони Далета лежал золотой лотос. Драгоценный венчик с обрывком мясистого стебля.
— Чего тебе зря потеть? А так: куда хочешь, туда и пойдешь. Или давай вместе: скажем, на орхоменскую полянку. Мясцо жареное, дриадочки... Ты бери, бери! Пожуй маленечко!..
— Давай вместе, — мрачно сказал рыжий. — Только без мясца. И без дриадочек. Я слушаю.
— Ну, слушай, родной, слушай. Чего тайночки-то городить?.. На пустом-то месте?!
И Одиссей заметил: Старик разглядывает цветок со стыдливой завистью. Будто мальчишка подсматривает за купающейся сестрой.
Ага, отвернулся.
Память ты, моя память!
Объятый ночью, я вспоминаю беседу с расслабленным, тихим Далетом. Пою самого себя жертвенной кровью. Держу на ладони вожделенный лотос. Да, лотофаг говорил откровенно. Правду. Чистую, будто детская слеза. Отвечал на любой вопрос, убивая его легко и бесстрастно. Оказалось: я действительно вполне мог спас-№ Аякса Оилида, погибающего в пучине. Вмешаться.
Погасить лже-маяки. Напав сзади, задушить коварного Навплия. Сразиться в небе с синеглазой созой; сразиться в море с пеннобровым бородачом. Почему бы и нет? Вкусивший лотоса свободен в медовой реальности грез. Любое место доступно, и позволительно вторгаться в ход событий. Сладкая приманка: действовать в гуще происходящего, одновременно находясь как бы сверху. Видя невидимое. Зная непознанное. Имея возможность переиграть неудавшуюся попытку.
За час сна прожить целую жизнь.
И очнуться в безопасности.
— Я хочу домой, — сказал я, когда лотофаг замолчал. — Вернее, я хотел домой. Почему у меня не получалось? Шафрановые веки слегка дрогнули:
— Домой? А у кого, милый мой, еще не получалось попасть к тебе домой?
...Минутой раньше мы смеялись. Это когда она рассказывала, как пыталась не пустить меня на сватовство в Спарту. Но потерялась, ища Итаку; даже название такое — Итака — вылетело из головы...
И еще, хрипловатым папиным голосом:
«...Я вывел корабль по неизвестным путям, я не видел того, что видели остальные; я вернулся домой, но с тех пор Глубокоуважаемые слепнут, когда хотят обратить свой взор в сторону Итаки и некоего Лаэрта. Забывают, теряют нить рассуждений; отвлекаются на что-то иное...»
— Я! Далет, я ведь...
— Брось кричать, Одиссеюшка. Ты ведь теперь тоже чуточку боженька. С лотосом, без лотоса: куда уж тебе — домой... Забудь.
%%%
У корабля разорялся контуженный эфиоп. Качало его, будто до сих пор в море. Рожа черная, под глазами мешки фиолетовые. Набрякли, отекли. Губы в мелких трещинках. Судовая охрана зевала, косилась на Ворона без интереса. Один Протесилай слушал внимательно. Да еще жена филакийца. Кому рассказать — засмеют. Мышка она. Незаметная. В пути, в бою, на корабле: так привыкли, что мимо пройдешь, увидишь — забудешь. Будто новую себе тень Протесилай завел, а без тени — ну куда ж хорошему человеку без тени?!
Одиссей раньше думал: ссадить бы ее надо. Где-нибудь. Раз думал, два думал, потом забыл. Отшибло.
А сейчас: поздно.
Где ее, бедолагу, ссаживать? Не здесь же!
— Большой хозяин! — это Ворон рыжего издалека приметил. — Большой хозяин, да! Дядя Одиссей! Да иду я, иду, молчит рыжий. Подошел.
— Дураки они! Дураки, да! Я к тебе, большой хозяин, только ноги не держат... смеются они, да!..
Дикое зрелище: бледный эфиоп. Пепельный. Осекся, губищи раскатал. Мешки-подглазники студнем затряслись:
— Ты ел, да?! Дрянь-цвет ел, да?! Ну да, кивает рыжий. Было.
— Беда! Ай, беда! Ворон малый был, старуха Ньякай-онго пугала, да! Кто дрянь-цвет жует, пропадет пропадом! Ворон мужчиной стал, по морю плавал, харранский купец Ворона пугал! Не жуй дрянь-цвет!
Забылся эфиоп. Схватил большого хозяина за плечи. К себе притянул: глаза в глаза.
И обмяк седой бродяга:
— Прости, большой хозяин... прости дурня Ворона. Тебе можно, да?
Можно, кивает рыжий. Все мне можно, да не все нужно. Ты, дружище, пойди поспи.
Оно, когда по башке приложат, больше спать надо.
Протесилай позже сказал: он судовой охране запретил жрать всякую пакость. Эфиоп, не эфиоп, а мало ли чего местные тащат. Из подаренной еды выбрал каждый цветок, в море кинул. Красиво: золото по лазури плывет. Чем дальше, тем красивей. Правильно, соглашается Одиссей. Охране лотоса не давать. Хотел было пересказать филакийцу свой разговор с круглолицым Далетом — раздул мал. Сперва самому хорошо бы разобраться.
Пошел разбираться.
Общину лотофагов вдоль-поперек шагами измерил. Шалаши, пальмы. Кусты. Ручей. Тамаринды колючие. Все, как у людей, да не все. Очагов, например, нету. Земляных печей хотя бы. На чем они лепешки пекут? В ладонях?! Кладовых нет. Жертвенников: хоть бы один сыскался. Не люди живут — ветер. А шалаши для потехи: в ветках шуршать.
Хорошо по общине ходить.
Свободно.
Лотофаги желтой дремой забылись, нет им дела до тебя. И свои, кто драгоценный цветок попробовал, дремлют. Счастливей лиц в жизни не видал. Дети малые, мамой расцелованные.
Вот оно, счастье.
Странное чувство: действительно, как в детстве. Когда впервые Номос вокруг себя скорлупой ощутил. Вот и сейчас: молчит ребенок у предела. Исчез, водой смыло. Не дождешься медного гула: где ты, былой панцирь?! Где ты, гонг?! Голым себя Одиссей ощутил. Мягким. Летал в небе матерый орел, устал летать, сел на скалу. Вновь птенцом стал, съежился, а вокруг скорлупа тоже — по новой. Шепчет: все в порядке. Бормочет: успокойся! Защищу, спасу. Обороню-укрою.
Зачем орлу новая? Старую хочу! Летать!
А она все шепчет: слой за слоем...
Вечером, за ужином, Одиссей долго вертел в руках предложенный как бы невзначай лотос. Откусил кусок стебля. Разжевал, проглотил.
Вольно паря над блюдом в седой купели, я вновь ощутил странное забытье (родина? отец? жена?!) — и зажал испуг в кулак. Ломиться в стенку, как в первый раз, глупей глупого. Наверное, мне суждено вернуться лишь одним-разъединственным способом. Ласковый Далет говорил: можно вмешаться. Ворон кричал: тебе можно, да? И впрямь: все мне можно, да не все нужно. Стелись, блюдо земное. Ведь не все утонули на Каферейских клыках. И твердь раскрылась подо мной изнанкой своих тайн. Лжец ты, Одиссей Лаэртид. Твердь, тайны... А на самом деле: голодный побирушка подкрался тайком к забытому блюду. Хватает жадно остатки стряпни. Слизывает застывший жир. Кидает в рот: черствый ломоть, кость с висящей ниткой мяса. Три виноградинки. Ну и ладно. Ну и побирушка. Бездомный. Пусть. Зато вижу, как другие возвращаются. Лучше б не видел.
Черствый ломоть — это Аргос. Синеглазый Диомед, сын Тидея-Нечестивца, друг-враг мой: о чем задумался? Кого ждешь на пороге, опасаясь шагнуть в родной дом?! Сидит в доме новый хозяин. Ванакт аргосский. Жена Дио-медова ему ложе греет, мужа забыла. Аргосцы славу поют. Боги благосклонны. Воины послушны. За столько лет попривыкли. Думай, синеглазый. Крепко думай. Добром ведь ни ложа, ни трона не уступят.
С войны на войну? С чужбины — домой?! Кость недогрызенная — это Крит. Идоменей-наварх, басилей критский из рода древних Миносов: что ж ты медлишь? Ага, вошел. Явился. И зря. Сидит в родовом дворце новый басилей. Владыка Крита-острова. Бык быком. Жена Идоменеева, корова стельная, ему телят рожает. Критяне гимнами вдребезги расславили. Боги, опять же... воины. Дочку Идоменееву тайком утопили, на вернувшегося отца свалили. Неугодна, мол, жертва Владыке Пучин. Будем теперь выбирать для былого господина: казнь или изгнание?
Поднять ничтожных на рога?!
Думай, племянник Минотавра! Это тебе не ликийцев громить, это ведь свои...
Три виноградинки — Спарта. Забыли там белобрысого Менелая. И раньше младший Атрид чужой им был, а теперь подавно. В плену, говорите? На Фаросе томится?! Ничего, не облезет. Мы и сами с волосами. Не мужское это дело: стричься. Спасать плыть? Фигушки, как говаривал в юности один мудрый дамат. Сам пусть спасается. Если мужчина. А Елене Прекрасной воистину помолимся: чем женщина дальше, тем прекраснее. Елку ей посвятим. Зеленую. Мало? Покровительницей моряков объявим. На первый раз хватит.
Крепко думай, Менелай Атрид: стоит ли бежать с Фароса?
Из плена — в плен?
Если я когда и ощущал себя Гераклом, так это сейчас. В желтом сне. Только не богоравным героем. Не Истребителем Чудовищ. Костистым стариком на окраине. Подвиги, говорите? Титул? Родословная?! Вчера ворота мне снес, оглашенный — вот и все его подвиги. Собак пугает, дети от его выходок заикаются — вся родословная. Титул его... Жена пусть лучше приглядывает, и весь титул. Плачь, старик. Прошло твое время. Выкипело паром. Новая вода в котле греется. Чужая вода. Живи в прошлом, беснуйся, угощай теней кровью души.
Не вернуться тебе. Себя не вернуть. Жди последней милости: лестницы из костра в небо.
Что ж ты с нами сделал, Кронов котел?!
Повернулось блюдо. Угощайся — перепелиное крылышко на краю завалялось. Вкусное!.. Это, значит, Микены златообильные. И не хочу видеть, а вижу. Ванакт Агамемнон в купальню босиком шлепает: омыть усталое тело. Венок на кудрявой голове благоухает. Любимая супруга рядышком стелется, за спиной ножик прячет. Братец двоюродный, к трону да к чужой супруге шибко попривыкший, с топором за дверью томится. Ждет. Мыться ванакту в крови. Дымом погребальным умащаться. Смотрю я на слепца носатого, а вижу себя. Я это вернулся. Меня это жена (...как ее?!) ножом встречать собралась. Меня любовник женин: топором исподтишка..
Повернулось что-то во мне. Скрежетнуло бешенством.
Вниз кинуло.
...Скользко. Мокрая плитка пола выворачивается из-под босых ног. Взмах секиры, предназначенный нагому ванакту, захлебывается на полпути. Падая, обхватываю чужие, жилистые голени.
— Бей рабов!
Он мягок и труслив, этот любовник-убийца, у него дряблая шея, она легко мнется, хрустит. Удивленные глаза мертво шарят по мне: кто? отку... У чанов с теплой водой старший Атрид сплелся с любимой, заждавшейся женой: отбирает нож. Столик с флакончиками, мазями, притираниями: цветными брызгами. Неверная супруга визжит, вырывается — и глупо булькает, когда узкое лезвие погружается в пышную грудь.
По рукоять.
— Ты?!
Ванакт микенский ласкает меня влажным, благодарным взглядом. Слегка золотистым, но это пустяки. У наших ног: жена и любовник. Его? Мои? Общие?! Отмахиваюсь: кыш, дурацкие мысли! Тени убитых, плохо понимая, что произошло, бродят по купальне. Оглядываются. Мужская тень тщетно пытается поднять секиру. Мой Старик гонит их копьем: прочь.
Не всем дано возвращаться.
Через год мы с Агамемноном объединили басилевии Пелопоннеса. Еще через год: Большую Землю до самого Эпира. Диомед пытался нас остановить, но его вовремя отравили доброжелатели. Я жил долго и счастливо и умер в глубокой старости наместником большого удела в кафолической державе Пелопидов.
Перед смертью мне снился какой-то остров.
%%%
— Ну и что? — равнодушно спросил Далет. Изогнувшись, он почесывал себе спину сорванной с куста веточкой.
— Как что?! — Рыжий едва не вцепился лотофагу в глотку. С трудом удержался. Чувствовал: вцеплюсь, значит, убью. — Ведь этого не было! понимаешь?! Никогда не было! Я знаю, чувствую! Я уверен: на самом деле Агамемнон погиб там, в своей купальне! Никакой державы, ничего! Ничегошеньки...
Охрипнув, Одиссей ужене мог кричать. Бормотал, всхлипывая:
— Ложь! Золотая ложь...
— А какая тебе разница? Ложь, правда...
Веточка упала в пыль. Мягкие ладошки бывшего Со-бек-о, ныне просто Далета, разошлись в разные стороны. Будто мир обнять хотели, ласковые.
— Хочешь цветочек?
СТРОФА-II
Вначале был Алеф
Мой Старик, знаешь ли ты, как это долго: три дня?
Молчи. Будь таким, как всегда. Привычным. Сядь на корточки, положи копье на колени. Угрюмо сдвинь брови, задумавшись. Кораблю не устоять на одном якоре. Мне тоже. Два якоря Одиссея, сына Лаэрта: скука и любовь. Я бы сказал: рассудок и сердце — но это будет ложью. Я бы сказал иначе: ты, мой Старик, и Далеко Разящий, насмешливый лучник; тень за спиной и бесформенный камень под ногами — но опять выйдет ложь. Самая святая, самая опасная в мире ложь: правда с надкусанным краем. Извалянная в пыли слов. Назвать правду по имени означает убить ее так же верно, как ответ убивает вопрос.
И все-таки: три дня...
Вчера Эврилох дерзко сказал мне, что никуда отсюда не поплывет. Хоть за уши тащи. Рядом с бунтарем согласно топтались еще пятеро. В их честных глазах вставали навстречу туманы янтаря; но в глубине темно-оранжевой смолы, застывающими мухами из паутины, рвались наружу сомнения. Страстное желание, чтобы я убедил их! Опроверг! Наконец, утащил отсюда силой за эти самые уши! О, я умею убеждать и опровергать. Умею тащить. Наверное, сумел бы и сейчас.
Молча я пошел прочь, оставив янтарь с мухами позади.
Пожалуй, нет лучшего знатока жизни победителей, чем я. Три дня — тридцать три вечности! — я метался над Пелопоннесом. Над Большой Землей. Над дворцами и лачугами, мужчинами и женщинами, воинами и ткачихами. Забыв название родины и имя отца своего, я словно мстил кому-то за это забытье, с головой погружаясь в чужое возвращение. День за днем. Жизнь за жизнью. Воз-238
вратившись из-под Трои людьми, вчерашние бойцы покинули один разрушенный котел, чтобы не найти себе места в другом. Еще вчера: родном. Они дряхлеют, мой Старик. Те, кто бил ликийцев, удерживал корабельную стоянку, останавливал Гектора и плясал в колесничном «гнезде» — годы теперь валятся им на плечи сворой волкодавов. Рвут, сбивают наземь. Словно заимодавцы, пытаясь силой взыскать долг с лихвой: дни, снаружи оказавшиеся годами.
Я видел: большинство отныне стареет так же стремительно, как раньше — малыш Лигерон. И, вместо того чтобы удивиться молодости вернувшихся, аэды преспокойно славят или бранят осаду Трои, длившуюся десятилетие с лишним. Удивиться — не успевают. Скоро вовсе будет нечему удивляться.
Держится лишь малая часть. Серебряные. Кто стоял на самой грани: Диомед, Идоменей... Калхант... Нестор, по-моему, теперь обречен быть вечным стариком. Мене-лай опять поднял руку на бога и бежит из фаросского плена в настороженную Спарту...
Да, я видел.
Они и сейчас стоят на грани.
Принеся войну с собой. В душе. В сердце. Боясь выпустить ее наружу. Если они продолжат колебаться, откладывая решение, каким бы оно ни было, — их попросту истребят поодиночке. О, как это просто! Вчера я был на Олимпе. Ты представляешь. Старик, — на Олимпе! Ничего особенного. Холодно, сыро. Облака в нос лезут. Титаны карабкались: сорвались. Убийца Химеры, герой Беллерофонт летел на крылатом коне: упал. А я всего лишь разжевал лепесток лотоса. И дышу облаками. Мне ведь теперь известно: в желтом сне главное — оставаться посторонним. Бить себя по рукам, когда тянет вмешаться. Пока ты бесстрастный свидетель, все вокруг струится расплавленной правдой. Реальностью. Но, вмешавшись, ты превращаешь общую правду в правду только для себя. В игру. Палец-Геракл ломает стены крепостей, оживают мертвецы, валятся к ногам державы... женщины славят твою неутомимость, и мальчики видят во сне себя на твоем месте.
Далет говорит: ну и что? Я боюсь, он прав.
Мой Старик, нас добивают чужими руками. Среди олимпийцев есть гордые, кто никогда не простит нам вчерашнего страха. И я — первый на очереди в пустую до поры гробницу. Чужие руки не давали клятвы не посягать на мою жизнь. Вряд ли лавр и дельфин научатся прощать. Вряд ли олива и крепость закроют меня собой.
Мы с тобой не единственные, кто умеет обходить свои обеты.
Лишенный возможности увидеть родину в желтом Сне, я готов разорвать собственную грудь. Проклясть себя за мерзкие подозрения. Жены моих друзей предали мужей. Отцы предали. Матери. Сыновья. Все вернулись зря, незваными гостями. Почему я должен быть исключением?
Три дня — это слишком долго...
Знаешь, мой Старик: лотофаги вчера стали звать меня — Алеф.[49]
%%%
Пруд был изрядно заболочен.
Если спуститься в ложбину от чахлых зарослей тамариндов, то почти сразу: тина, ряска, спутанные усы водорослей. Разлапистые листья, больше похожие на зеленые ладони. Мерцающий звон гнуса. И, разбросанные в живописном беспорядке, — золотые цветы.
— Ага, — сказал Одиссей. — Значит, здесь.
— Смотри, — вместо ответа, в общем-то ненужного, бросил Далет.
На противоположном берегу пруда стоял лотофаг. Веки его были плотно сомкнуты, и казалось: медовоко-жий человек спит, одержим луной средь белого дня. Или задумался, вглядываясь в невидимую другим картину. Вспомнилось: лотофага зовут Гимет[50]. Их, Гиметов, здесь было трое или четверо, но этот оказался приметным. Он всегда только слушал, сидя у костра, когда часть общины бодрствовала, собираясь вечером к живому огню. Ни словечка. Даже кивка от него дождаться — чудо.
Зато Одиссей видел, как молчаливый лотофаг однажды восстал ет желтого сна, взяв из воздуха чашу с вином. Мгновением раньше сидел, погруженный в грезу, не имея ничего, кроме набедренной повязки и сокровищницы видения, но вот: пальцы трогают воздух, и благоухающая чаша из грезы является сама. После этого стало ясно, откуда брался сыр и лепешки, которыми лотофаги потчевали гостей. И вдвойне ясно: почему лотофаги бескорыстны, довольствуясь шалашами и водой. Если ты волен протянуть руку и взять, если дворцы открыты для тебя настежь, то стоит ли отягощать временное пристанище чем-то большим, нежели шалаш?! Наверное, грань между бытием и грезой от этой злой шутки цветка-насмешника становится вовсе призрачной. Одиссей замечал: вкусив пищи в желтых странствиях, он возвращается в общину сытым.
От такой сытости тошнило.
— Смотри же, — повторил Далет, морщась. Лотофаг по имени Гимет поднял руки. Широко растопырил пальцы, как если бы держал поднос с солнцем.
И пошел в пруд.
— Не вмешивайся, — строго предупредил Далет, беря рыжего за плечо.
Меньше всего сын Лаэрта собирался вмешиваться. Даже сообразив, что спящий на ходу лотофаг — по колено! по пояс! по шею! — намерен идти дальше.
Ряска сомкнулась над головой человека. Пузыри.
Тишина, вспененная звоном насекомых.
— Ушел в лотос. — Далет трижды огладил ладонями щеки, будто умывался. — Завтра здесь вырастет много цветов. Ты понимаешь меня, Алеф?
Одиссей мрачно сдвинул брови:
— Если ты еще раз назовешь меня Алефом, о. двусмысленный Собек-о, я задушу тебя.
— Хорошо, Алеф. Задуши. Только потом потрудись бросить мое тело в пруд. Я бы не хотел лишаться бессмертия из-за твоей глупой вспыльчивости.
— Захлебнуться грязью — по-твоему, бессмертие?!
— Все мы рано или поздно захлебываемся грязью. А брат Гимет ушел в лотос. В цветок, рожденный в грязи и оставшийся чистым. Чтобы, устав от тела, жить в наших грезах. Вечно. Мне думается, ты уже достаточно созрел, вчерашний Одиссей и завтрашний Алеф. Время раскрыть лепестки. Садись. Давай уйдем вместе, чтобы вместе вернуться. Сегодня нам по пути.
Рыжий уже привык к местному: уйдем-вернемся, войдем-выйдем. Хотя капелька раздражения осталась. Зудела. Чесалась.
— Чего ты хочешь?
Вместо ответа Далет протянул руку с зажатым в ней цветком. Слегка подсушенным. Ломкие лепестки грозили рассыпаться в прах, и лотофаг не замедлил им помочь. Принялся разминать цветок в пальцах, собирая порошок в ладонь. Одиссей наклонился вперед, завороженный мерными, ритмичными движениями.
И пропустил миг, когда ладонь раскрылась навстречу, вынудив задохнуться золотой пылью.
Хозяйка ушла давно. А пиршество было славным. В мыльной воде, в седых, дымящихся прядях лежало несколько блюд. Краями наехав друг на друга. Вот на одном гниют забытые остатки: кость, крошки, виноградинки.
Аргос, Микены, Спарта.
Троя.
Во все стороны, через киммерийцев востока и тайные острова запада, эфиопов юга и гипербореев севера, до самого края, до мутной купели Океана, за которой нет ничего.
— Верно, — шепнул Далет, некогда Собек-о. — Это твой Номос. И если бы тебе было суждено добраться до предела эфиопов, ты бы увидел за землями Людей-С-Опаленным-Лицом — Океан.
— А ты?
— А я нет. Я с другого блюда... был.
...Второе блюдо было черным. Иссиня-черным. Его подали на стол одним из первых и раньше прочих бросили в седую пену. Комки каши из ячменя, пятна просяного пива; обкусанная с краешка фига, пять оливок.
Полноводная Итеру[51]. Горькие Озера, Себеннитский залив. Город Он и город Бубаст.
Верхние земли. Нижние земли.
Во все стороны, через поля Иалу и Красную Землю Мертвых на западе. Мраморное море на востоке; жаркие края Сомали — юг. От местопребывания Озириса до преисподней Анубиса, от Сета-Змея до Тота-Мудреца, и за пределами блюда нет ничего.
— Это мой бывший Номос, — тихий шепот Далета, некогда Собек-о. — Черная Земля Та-Кемт, которую вы зовете Айгюптосом. И я застал времена, когда жрецы Птаха решали: кого пустить вовнутрь, а перед кем морская вода оборвется в пропасть. По сей день вы щиплете Черную Землю снаружи, не в силах нарушить внутреннюю целостность... Но это, к сожалению, скоро закончится. Уже закончилось.
В голосе лотофага надорвалась тайная струна. Дребезг вместо мелодии.
...Блюда, миски, чаши. Космос — и россыпь Номосов, каждый из которых убежден в собственной исключительности. Блюда давно растрескались по краям. С чаш облупилась глазурь. Миски измяты. Остатки еды черствеют, пушистая плесень воцарилась на них, пятна расползаются. Скользкие нити тянутся с блюда на чашку, с чашки на миску. Сращивают. Сшивают. Превращают части в целое. Кипит котел под Троей. Качается на узкой грани держава хеттов. Какие-то оборванцы идут через расступившееся море, и потрясенная армия взирает на них с берега. Пока потрясение не сменяется гневом, гнев — погоней, и наконец толща воды жадно смыкается над бывшей армией.
— Это случилось совсем недавно. Ты, будущий Алеф, в это время решал: как надо брать Трою. А ведь он когда-то был недурным солдатом... — явившись из желтизны тумана, палец лотофага ткнул в плохо различимого старика, идущего впереди беглецов. — Солдатом Черной Земли. Любимцем фараона. Слепцы, барахтаясь, вы разрушаете привычный Космос, творя из него что-то новое. А я не хочу нового. Думаю, ты тоже вскоре не захочешь. Когда по-настоящему станешь Алефом. Смотри внимательнее.
Палец пошел вниз и наискосок.
Рядом с путем вождя-старика, ведущим свой народ в земли филистеев,[52] расположенные на побережье между Черной Землей и Финикией...
Рядом с моей дорогой из-под павшей Трои прямиком в Фаросское сражение, и дальше на восток, в общину ло-тофагов...
Между блюдами и мисками тихо примостился маленький черпачок. Чистый: без объедков, без плесени. Сам по себе. Аккуратненькие бортики. Изгиб ручки. Сияет вымытым желтком. Но нити уже ползли отовсюду, и пятна приближались.
Жди, черпачок.
— А это, милый мой, — мы. Лотофаги. Видишь, что вы натворили?..
%%%
Мы еще говорили с Далетом: не в желтом сне, наяву — но все уже было просто. Очень просто. Как стрела на тетиве. Мне снова обещали последний шаг. Лестницу в небо. Золотисто-желтую, свитую из стеблей и цветов благоуханного лотоса. Предлагали стать Алефом блаженных лотофагов. Первым среди равных. Владыкой призрачного мира реальных грез.
Глубокоуважаемым.
Является из воздуха чаша с вином. Неисчерпаемы запасы сыра, лепешек и винограда, которого в черпачке-общине лотофагов днем с огнем не сыщешь. Ощущение сытости не теряется по возвращении из запредельного в обыденное. Если грань между грезой и реальностью более хрупкая, чем сухая ветка акации, если из сна можно таскать вино и еду — не дозволено ли большее?! Вмешиваясь в желтых грезах, нельзя ли вмешаться для себя, сделав это единственной правдой для всех?!
Изменяя там, изменить здесь? Везде? Навсегда?! "Ты ищешь ответы, — нахмурился мой Старик. На секунду показалось: сейчас он ударит меня тенью копья.
Насмерть. — Ты хочешь убить вопросы. Неужели я ошибся в тебе?"
— Я не ошибся в тебе, Алеф. Или, если хочешь. Одиссей, — круглолицый Далет угадал мое состояние. Раздумал лезть с дурацким «Одиссеюшкой», навязшим у меня в зубах. — Ты готов расцвести. Знаешь, однажды к нам заглянул в гости боженька. Сокологоловый. Ты его не знаешь. Охотно остался на денек, вкусил лотоса...
— И что?
— Ничего. Сказал, что дрянь. Горькая. А утречком ушел восвояси. Нигде-то он не был, ничего-то он не видел. Боженьки, они другие. Им жизнь — сон. Наш сон — жизнь. Не для них лотос цветет. Для смертных. А ты пока что смертненький, милый мой. Ой, какой же ты смерт-ненький!.. Но при этом — боженька. Чуть-чуть, самую малость. Поживи с нами, потужься. Попробуй разок-другой, третий-десятый!
— у тебя получится! Обязательно получится! Время еще есть. Ты пока только на недель-ку-другую... ну, на месяц вперед-назад заглянуть в силах. А если на год? На десять? На двадцать?!
На двадцать лет?! И не будет никакой Троянской войны! Изменить два слова в проклятой клятве. Тайком придушить Елену за день до объявления сватовства. А еще лучше: петушка Париса перед его визитом в Спарту... Подняться на Олимп и завязать молнию узлом. Но что толку, даже если Троянская война умрет в зародыше? — когда тебе все равно не увидеть отца, мать, жену, сына... Может, да. Может, нет. Я бессилен отыскать их в желтом сне. Но стань сон реальностью, общей и неколебимой, словно пуп земли, изменись все на самом деле — вдруг я окажусь дома?! Не уплывать на войну. Сидеть на Итаке. Иногда плавать по делам на Большую Землю и соседние острова. Любить жену. Растить сына. Ради этого стоит попытаться! Ведь я могу пробовать еще и еще, а если ничего не выйдет — плюнуть на лотос, уплыть отсюда и вернуться домой обычным путем.
Обычным...
Так почему бы не отплыть прямо сейчас?
— Далет! Скажи: как это вы нас пустили, а финикийцев-нет?
— Велика трудность, — добрая улыбка Далета. — Есть у нас, милый друг, пограничная страженька. Община махонькая, пятерых хватает, шестой — на всякий случай. Поддержать там, пособить. Кому не надо, тот и бережка-то нашего не увидит. А хороших людишечек пускаем. Вот, вас пустили.
— А стражи ваши: они во сне сторожат?
— Во сне, Одиссеюшка. Спят и сторожат вполглаза.
— Значит: можно?! Чтоб в желтом сне сделать, а здесь — отозвалось?!
— Не знаю, — развел руками честный Далет, бывший Собек-о. — Сюда пустить или там задержать — можно. Мирочек у нас так устроен. Сам себя защищает, нашими ручками. А снаружи... Пробуй, Одиссеюшка. Пробуй. А мы поможем, чем сможем.
Между Черной Землей и Благодатным Полумесяцем: община лотофагов (Парабаса)
Парабаса— букв. «отступление». Важнейшая песнь хора, обращенная непосредственно к зрителям и чаще всего не связанная с основным сюжетом. В парабасе автор обычно раскрывал суть своей личной позиции.
...о великий искус золотого лотоса!
Упоение властью и вседозволенностью. Знание сокрытого для других. Возможность делать одну попытку за другой, пока не получится. Пока сон не станет истиной, самой жизнью, а жизнь — сном. Когда потечет, истаивая утренним туманом, зыбкая грань, отделяющая грезы от действительности. Я верил: у меня получится! Если не сейчас — через месяц, через год. Конечно, моему миру никогда уже не стать прежним, но я сделаю его другим. Лучшим. Правильным. Таким, каким хотел бы его видеть. Я, Одиссей, человек Номоса!.. Я, Алеф лотофагов!
Бог желтого блюда.
Осталось загадкой: произнес я эти слова вслух, или они прозвучали лишь в моем сознании. И еще: чьи это были слова? — мои или присевшего напротив Старика?! Какая разница?!
Слова обожгли обидной пощечиной — обидной, потому что заслуженной. Допустим, у меня получится. Я сумею вернуться на Итаку. Проживу жизнь заново. Чужую жизнь, как носят плащ с чужого плеча, перелицованный умелой швеей. А если мне станет холодно, я отберу у кого-нибудь второй плащ. Снова отдам янтарноглазой швее: штопать, латать. Делать из старья новое.
И однажды, устав от лжи, я с радостью пойду в грязный пруд.
%%%
К счастью, оказалось: золотого дурмана отведали не все. Быстро очухавшийся эфиоп, Протесилай с женой, еще человек двадцать из команды, брезговавших жрать цветы. Филакиец даже успел снести на борт запас провианта, без зазрения совести используя для этого лотофагов. Одиссей только опасался, как бы вся еда не растаяла клочьями сна, едва корабль покинет здешний берег. Но приходилось рисковать. Зато вода в колодце была самая настоящая: студеная и чистая.
Плесни в лицо — мигом отрезвеешь.
— Покидаешь нас, Одиссеюшка? — тихо подошел круглолицый.
— Ты наблюдателен, Далет, — рыжий счел лишним скрывать насмешку. — В гостях хорошо, а дома лучше.
— Твои людишечки откажутся сопровождать тебя.
— Значит, я заставлю их силой.
— У тебя больше нет дома. Прошло много лет. На этот раз удар Далета достиг цели. Больно.
По-настоящему.
— Предположим, ты прав, лотофаг, — голос Одиссея эвучал глухо и скучно. — Но в любом случае, я не останусь здесь.
«Останешься, — промолчал Далет, но рыжий прекрасно понял его без слов. — Вас не выпустят».
«Я убью тебя!» — сверкнули в ответ глаза рыжего, и в руке сам собой возник лук.
«Убей, — кроткая улыбка в ответ. — Только не забудь бросить мое тело в прудик с лотосами».
«Тогда я убью вас всех. Исчезнут стражи — рухнут преграды».
«А не боишься при этом окончательно стать боженькой, милый дружок? И никогда уже не попасть домой: ни во сне, ни наяву?»
«Боюсь. Но еще больше я боюсь жить в чужом доме, кйторый просто похож на мой. Это ведь просто, мудрый Далет! Очень просто! Разве ты не понял?»
«Конечно, понял. Что ж тут непонятненького? Жаль. Может, передумаешь?»
«Далет, брось врать. Ведь сразу видно, зачем я вам нужен. Не для того, чтобы я что-то сделал для вас: не стану я ничего для вас делать. А вот чтобы я не сделал... Не сделал: чего? Не прорвал окончательно границы? Не нарушил старый порядок? Вы надеетесь, что без меня и мне подобных все уляжется, вернется на круги своя? Я угадал, Далет, бывший Собек-о?!»
Молчит лотофаг. Теперь уж простомолчит. В землю глядит.
На песок золотистый, бархатный.
— Слушай, у тебя лотос есть?
В первый миг Далет решил: ослышался. Поднял на рыжего изумленный взгляд. А тот, подлец, стоит, руку протягивает: дай, мол, цветочек!
Жалко, что ли?
Далет Одиссею не один — целый букет сунул. Цветков шесть. Или семь. С перепугу. От удивления. На радостях.
Или от всего сразу.
— Спасибо, — поблагодарил рыжий. Прочь пошел. Идет, насвистывает, на ходу потянулся, лук откуда-то взял. Стеблями лотоса оплел. Смешно: жирные луковицы на боевом луке болтаются. Цветки сияют. Глядь, п лука-то в руках и нет уже. Вместе с цветами. Хотя один лотос все-таки остался. Сел рыжий под знакомую пальму, что на краю площади росла. По сторонам взгляд кинул. Вздохнул глубоко, будто за жемчугом нырять собрался.
Надкусил цветок.
А круглолицый Далет, бывший Собек-о, задумался: на чем его, лотофага, провели? Вроде ни на чем, а обидно.
%%%
...Тусклое серебряное блюдо. Вскипело позолотой волн. Драгоценными бурунами расцвело. Ринулось навстречу — чтобы вновь отдалиться по воле рыжего. Все моря в ладони: лиловая пучина, где утонул Эгей Афинский. Волны, пенившиеся над гонимой коровой Ио. Прибой у Крита, помнящий малютку Громовержца. Валы на северных рубежах Айгюптоса. Вся суша в кулаке: Большая Земля и россыпи островов, Пелопоннес и Троада, побережье Черной Земли и золотистая бляшка общины лотофагов.
Люди на земле и корабли на море. Как найти нужных тебе?
Не смешите. Это просто. Надо видеть и чувствовать.
Вот со стороны Крита оклеветанный изгнанник Идо-меней ведет свою маленькую эскадру: три корабля. «Пусть спасибо скажет, что не убили!» — ухмыляется блудливая супруга. «В ножки! В ножки пускай!..» — мычит правитель новый, бык критский. Темно им, глупым: захоти Идо-меней трон вернуть, ударь Минотаврову племяннику кровь в голову — быть быку волом. Брести с коровой по смутной дороге в царство Гадеса. Да не им одним.
Удержался моряк. Расхотел родной кровью остров заливать. Уплыл восвояси.
На Кипр сейчас путь держит.
А вот с другой стороны целая флотилия идет. Раскидала паруса на четыре ветра. Видать, и Диомед Тидид вдосталь навоевался. Не стал власть законную силой возвращать. Плюнул на ванактство аргосское, на жену-изменницу. Поплыл с верными людьми куда глаза глядят.
По странному совпадению глаза Диомеда тоже глядели на Кипр.
А со стороны Ливии, с юга на восток, еще паруса маячат. Покинул Эней Анхизид родную Трою, да только пристанища нового не нашел. Ищет. И опять же на Кипре ищет.
Изгнанники. Уцелевшие под Троей. Обошедшие ловушку обманных маяков. Избежавшие кинжалов неверных жен, секир их любовников, яда наемных убийц. Те, кто не захотел возвращаться домой по трупам. Лишившихся места под солнцем, неясная сила тянула их теперь друг к другу.
Пути сходились на Кипре.
«Судьба. Она сильнее всех. Разве я особенный? Всех предали. Значит, и мне дорога — на Кипр». Рыжий попытался представить себе Пенелопу, прячущую за спиной нож, чтобы зарезать его, невовремя и некстати вернувшегося домой. Чуть с ума не сошел. По второму разу. «Ты ничем не лучше других. Тебя давно перестали ждать,» — шептала скука отравленным, желтым голосом. «Нет!» — в отчаянье пенилось море любви, засыпаемое песком. И где-то на самом краю неуверенно хныкал ребенок. Никак не мог решить: раскричаться всерьез или умолкнуть?
Тогда Одиссей приказал им заткнуться. Всем. Кипр, значит, Кипр. Благо, рядом. А там — посмотрим.
АНТИСТРОФА-II
Прошай, и если навсегда, то навсегда прощай...
Д. Г. Байрон.Солнце перевалило за полдень. Селение привычно вымерло, однако, заглянув в ближайшие хижины. Одиссей нашел их пустыми. Зато с юго-восточной окраины слышался неясный шум, и рыжий направился туда. По дороге, озираясь затравленным волком. Одиссей поймал себя на странном ощущении. Словно мир вокруг сжался. Усох. Скукожился забытой на жаре маслиной. Раздражающе близкий горизонт придвинулся едва ли не вплотную, выгоревшее небо нависло над макушкой, и край голубой, местами облупившейся чаши упирался в мелко просеянный песок — рукой подать. Казалось, все вокруг ненастоящее. Игрушечное. Не вырваться, не пробиться, разве что на крови медовокожих, янтарноглазых лотофагов.
В горле першило. Будто песка наелся. На окраине селения — нет! на краю сжавшегося в кулак Номоса! — собралась вся община. Двое лотофагов спорили с высоким жилистым старцем. Рядом молча скучал его спутник: тоже пожилой, щуплый, в запыленных, некогда белых одеждах. Впервые лотофаги говорили на языке, которого Одиссей не знал. Поэтому все свое внимание рыжий обратил на пришлого старца. Откуда взялся? Неужели из пустыни?! Старец хмурил лохматые брови. Слушал. Грузно опирался на корявый посох. Похоже, чем дальше, тем ему меньше нравился разговор с лотофагами. Сейчас, стоящий вполоборота, он вдруг напомнил рыжему итакийцу Геракла. Такой же большой, костистый. Плохо предсказуемый. Не от мира сего. Видно было: раньше гостю доводилось носить доспех. Солдатская выправка сказывалась по сей день. И еще: от старца веяло силой. Настоящей. Но иной, чем сила Геракла. Что-то он знал, этот старец, пришедший из пустыни, что смиряло великих и опрокидывало устойчивых; и ветер опасливо играл длинными седыми прядями его волос.
Резко обернувшись, старец взглянул на Одиссея. Нет, рядом: на Старика с тенью копья в руках. Раздраженно поморщился.
«...А ведь он когда-то был неплохим солдатом...» — явившись из желтизны тумана, палец лотофага ткнул в плохо различимого старика, идущего впереди беглецов.
Да. Я помню. И еще помню: тень выбора под грубыми, шишковатыми ногами старца. Выбора, сделанного не тобой, а за тебя, но превращающего всю твою дальнейшую жизнь в сплошной кошмар предназначения. Этим старец тоже был похож на Геракла. А еще, слегка — на меня. Просто тогда я не взялся бы облечь это ощущение сходства в слова.
Пришелец из пустыни вдруг кивнул Одиссею со Стариком, как давним знакомым. Вновь повернулся к лото-фагам. Дико заикаясь, булькнул коротко и зло. Почти сразу щуплый спутник заговорил. Слова полились водой из основательно прохудившегося кувшина. Щуплый преобразился: увлеченно вещал, жестикулировал. Слюной брызгал. Тыкал пальцем в небо. Время от времени оборачивался к старцу: за поддержкой. И тот одобрительно кивал: правильно, мол, говоришь. Продолжай.
— Барух ата а-доной э-логэйну мэлэх аолам...
— Моше нихбад! Атэм мэсукан шалиах...
— .. .шэаса нисим лаавотэйну баямим...
— Моше нихбад!
— Штика! Аэм баземан...
Одиссей по-прежнему не понимал ни слова. Кроме разве что возгласа «штика!».
По жесту видно: цыц, бездельники!
Наконец щуплый толмач выдохся. Лотофаги затараторили в ответ, возражая пришельцам; и туча набежала на лицо старца. Одиссею явственно послышался раскат грома, хотя выгоревшая простыня неба была чистой. Старец в сердцах гаркнул что-то бранное, почти не заикаясь, и, размахнувшись, швырнул свой видавший виды посох под ноги лотофагам. «Лучше б огрел как следует!» — успел подумать Одиссей. Но в следующий миг все мысли вылетели у рыжего из головы, потому что на его глазах начали твориться чудеса жуткие и до боли знакомые. Посох злобно зашипел, извиваясь. Лотофаги спешно шарахнулись в стороны, а на месте отполированной старыми ладонями палки уже билась, трепеща раздвоенным жалом, огромная змея с темными пятнами на глянце серо-коричневой кожи.
...Ползла змея с алтаря Крона, где только что истекала каплями-мгновениями удивительная клепсидра...
...Ползли змеи с жертвенников, пожирая птенцов, жаля орлов, даря настырных жрецов удушьем и исчезая без следа...
...Шипели и извивались змеи, обвивая посох-кадуцей Ангела...
Огненный взгляд старца выжег Одиссею сердце. Почудилось: обитатель пустыни знает о сыне Лаэрта все. Мысли, страхи и надежды, всю короткую жизнь и судьбу, прячущуюся за близким горизонтом. Змея тоже уставилась на итакийца, но жалить не собиралась. В ее шипении рыжему даже послышались благожелательные нотки. А потом косноязычный старец повернулся к лотофагам спиной. И пошел себе прочь, к горизонту, за которым пряталась судьба. Его судьба, не Одиссеева. Щуплый заторопился следом, а змея, скользнув мимо, обогнала обоих и поползла впереди. Словно путь открывала. Над чешуйчатой проводницей шевелился смутный, призрачный столб, похожий на смерч от земли до неба, и перед туманной воронкой лопнул, расступаясь, небокрай. Открыл простор пустыни на многие стадии вокруг. А старец, толмач и змея, не оглядываясь, уходили все дальше, сквозь дырявый горизонт, в бесконечность песка — и море властно плеснуло в душе Одиссея, сорвав рыжего с места, бросив к «Пенелопе»...
%%%
Одурманенных лотосом привязали к мачте и скамьям гребцов. Перед этим был миг, когда казалось: оставшимся не удастся столкнуть судно в воду. Удалось. На упрямстве и озверении, на напряжении последних сил: удалось. И все это время глубоко в душе Одиссея призрачный столб открывал смутную дорогу, разбивая вдребезги иллюзию границы.
— Поднять парус!
Очнулся кто-то из начинающих лотофагов. Заорал. Попытался выпрыгнуть за борт: веревки удержали, а друзья дали пару раз по роже — для ясности. Вмешиваться было некогда. Горизонт надвигался, каменел, брал в осаду, загораживая путь, но Одиссей лишь улыбался этой наивной лжи. И в яростном шипении змей-невидимок, раздирая фальшивый предел, под киль «Пенелопы» легла смутная дорога. Рыжий видел, чувствовал и делал. Видел дорогу. Делал то, что должен. И знал, что все делает правильно. Спустя полчаса морская ширь, сверкая на солнце, распахнулась перед кораблем. Вытереть пот со лба. Оглянуться. Теперь можно. Теперь: все.
За кормой быстро удалялась полоска чужого берега, прозрачная лагуна с просевшими остовами двух кораблей. А на берегу суетились люди. «Им надо было отпусутить нас. Старца и меня. Просто отпустить. Не дожидаясь, пока мы вдвоем разорвем броню их игрушечной крепости. Нет больше Номоса блаженных лотофагов. Есть лагуна на побережье между Черной Землей и Благодатным Полумесяцем. Жалкое селение с хижинами и грязным прудом, где растут лотосы. Скоро здесь объявятся Люди. Чужаки. Которых янтарноглазые лотофаги больше не сумеют остановить. Им надо было отпустить нас... им надо было!..»
«Пенелопа» шла на север.
С ночной террасы гляжу на маленький кораблик, идущий навстречу своей судьбе. Сомнения грызут душу. Где вы, мои верные товарищи, с кем я отплывал из-под разоренной Трои? Где вы, те, кого мы силой тащили на судно, связывали по рукам и ногам — чтобы не бросились в море, спеша вернуться к дурману золотого цветка? Где вы, мои спутники? Тени. Только тени толпятся на террасе. Мало кто из вас вернулся со мной на Итаку по-настоящему. Так, может, лучше было оставить вас там, в стране сладостных грез? Я выбрал за вас. Один за всех.
До сих пор не знаю: правильно ли я поступил.
%%%
«Кипр, который хетты зовут Аласией, — остров, сходный очертаниями с морским окунем, плывущим между Киликией и Благодатным Полумесяцем на запад, в направлении внешней границы Критского моря; известен медными рудниками, благовониями из ириса и майорана, а также киноварью из морского мха. Но в первую очередь прославлен тесными связями с „пенным братством“, неизменно и вопреки давлению ванактов Черной Земли подтверждая „право якоря и паруса“...»
Да, дядя Алким. Я помню.
Хотя тебя я помню куда лучше и вспоминаю куда чаще, чем какой-то остров Кипр, пусть даже похожий на морского окуня.
Первым; кого я встретил на набережной, был Эней-Плакса. Мы едва успели вытащить «Пенелопу» на берег гавани, расположась между тирской биремой и грузовой фортагогой [53]; и я, облокотившись о гранитный парапет, смотрел, как судно устанавливают на катки. Доплыли без приключений, хотя на всякий случай старались избегать лишних встреч. Парус вдали мелькнет — мы к берегу. В тень. Думаю, ищут меня от Библадо Ливии. Черная Земля злопамятна. Оно, конечно, Кипр гостей не выдает головой, особенно носителей заветных серег, а все равно: мало ли как сложится...
— Одиссей!
Меня облапили сзади. Наскоро прижались щекой. Треснули ладонью по спине: будто перуном приложили. Облапили снова — это я уже успел развернуться и даже попытался на всякий случай двинуть наглеца локтем. Он был на голову выше меня, беглый дардан, и со стороны могло, наверное, показаться: отец наконец отыскал блудного сына (сын — это я), и теперь гулена жмется к отцовской груди, а родитель проливает слезы прощения.
— Да пусти ж ты. Цербер!
— Одиссей! Милый Одиссей! Откуда?!
Прохожие, поравнявшись с нами, замедляли шаг. Хрюкали, хмыкали. Но от высказывания вслух собственного просвещенного мнения воздерживались. И правильно делали. Слезы градом катились по лицу Энея — а ты изменился, дарданский наследник! Осунулся, обзавелся строгими складками у рта... — слезы радости, непонятной тем более, что мы никогда не были друзьями. Один раз виделись в посольстве. И еще: на поле боя, где Плакса труса не праздновал. Достаточно сказать, что в день гнева Эней сошелся один на один с малышом и остался в живых. А поплакать он всегда любил. По поводу и без. — Пойдем! Я угощаю!
В конце концов, почему бы и нет?
Харчевня оказалась дымной, но уютной. Народу мало, тишина. А баранья ляжка под кисло-сладким соусом была выше всяческих похвал. Единственное, что смущало: пока мы шли в харчевню, люди уступали нам дорогу. Наскоро бросали на меня косой взгляд и почти сразу опускали глаза. Словно я был прокаженным или богом.
Не знаю, какой выбор мне понравился бы больше. И еще: эти странные прикосновения. Встречные, кто мог похвастаться головным платком и знакомой серьгой в ухе, все норовили коснуться меня. Рукой. Бедром. Плечом или локтем. Слегка зацепить, проходя мимо. Присесть на корточки, якобы застегивая сандалию, и быстро мазнуть ладонью по голени. По моей, разумеется. Я чувствовал: закипаю.
— А наши в Кефтийской гавани стоят! — Губы дардана, густо вымазанные жирной подливой, смешно шевелились. Хоть рыдать перестал, и на том спасибо. — Я тут случайно. Мимо шел, гляжу: ты! Рыжий! Вот радость боги послали!..
Это уж точно.
— Кто это: ваши? Дарданы? Троянцы?!
— Да ну тебя! Вечно ты шутишь! Наши, говорю: Дио-мед-аргосец, потом критянин этот, как его...
— Идоменей?!
— Ага! Ну, ты всегда все знаешь...
Меньше всего я знал, с каких пор Идоменей с Диомедом стали «нашими» для слезоточивого Энея Анхизида. Ну, я — это ладно. Я его, красавца, и вывел из павшей Трои. До кораблей проводил. Больного отца нести помог. Легонький он был, Анхиз-Расслабленный. Молчал всю дорогу, а у самых сходней вдруг вздохнул и зажмурился. По-детски. Я еще спросил у Энея: «Может, останетесь, а? Мы скоро уйдем...» А он лишь рукой махнул. Дескать, толку тут оставаться? Или еще что имел в виду.
— Про Калханта слыхал?
— Тоже здесь?! Тоже — наш?!
Эней помрачнел. Налил себе из кувшина полную чашу. Осушил залпом. Губы утер:
— Наш, ваш... Ничей теперь. Помер ясновидец. Сведущие люди рассказывали: как есть помер.
— От чего?!
— От зависти. В Киликии с местным пророком сцепился. Там свинья рожать собралась, вот они и повздорили. Сколько поросят родится. Наш говорит: восемь. Местный: девять. Наш — восемь, а тот ни в какую. Наутро оказалось: местный прав вышел. Или еще говорят, что лишнего поросенка тайком подбросили. Короче, Калхант слать лег, а с рассветом не встал. Там и похоронили, в Киликии.
Я поднял чашу. Молча плеснул в сторону порога. Мир душе твоей, гордый прорицатель. Значит, встретил ты лучшего. По имени Смерть. Не прощаюсь: в Аиде увидимся...
Выпил, как Эней: залпом. До дна.
— А я. Одиссей, все мотаюсь. — Дардан помрачнел. Скорбно двинул бровями. Одинокая слезинка выкатилась из-под левого века, будто раздумывая: звать подружек или обойдемся? — Не человек, хвост собачий. Фракия, Македония... На Делос явился: Аполлонов оракул чуть от крика не лопнул. Плыви, дескать, отсюда! Я на Крит, там чума. Я на запад, к Тринакрии — там вулкан взбесился. Мать ужасов, чтоб ее! Треть эскадры потерял, сам чудом спасся. Папа разволновался, а у него сердце... На этой проклятой Тринакрии и погребли. Потом буря, раскидало нас вдребезги... Я туда-сюда, гляжу: справа по борту Карт-Хадашт[54]. С корабля на свадьбу: тамошняя басилисса на меня запала. Вдовая она, нутро горит. Замуж, говорит, и никаких. Еле сбежал, так мне после донесли: закололась она с горя. И дворец подожгла. Перед смертью кричала, что жертвует: себя — мне. Представляешь?!
— Да, бабы — они...
Ох, что-то я не то брякнул. Сейчас обидится, в рожу двинет. И прав будет. Нет, не двинул. Кивнул согласно:
— А жизнь — сволочная штука! Правда, Одиссей?! Я поспешил согласиться. Разумеется, сволочная. Сидят в харчевне двое бывших мальчишек: одного от родного дома за шкирку оторвали, так он другому дом спалил. У обоих жизнь украли, пока мальчишки наспех чужим серебром делились. И оба не виноваты: без их согласия получилось. Само.
— Рыжий! Ну, Любимчик! Ну, даешь! Аэто уже от порога. Даю я, значит. А не даю, так дам. Привстал я, обернулся, да опять опоздал. Четыре перуна по плечам барабанят, два Цербера мнут-обнимают; бедные мои косточки, за что ж вам такая мука мученическая?!
— Рыжий! Еж морской!
Синие звезды у самого лица. Светятся.
Улыбка до ушей.
Пляшет Диомед, сын Тидея. В меня вцепился, будто утопающий в обломок мачты. Так и пляшет: в обнимку. А из-за крутого Диомедова плеча...
— Кружение птиц подсказывает мне, что наша встреча неслучайна. Как неслучайно все, творящееся под медным куполом небес...
Сгреб я пророка в охапку. Вместе со словами его, с насмешливой улыбочкой. С совиными глазищами, с утиным носом. Как есть. К потолку кинул. Отъелся покойничек на харчах преисподних, а я чую: будь Калхант горой, и то б я его к потолку. Запросто.
— Живой?!
— Да как тебе сказать, рыжий... Иначе не получалось. Мне ведь уже и алтарей понавоздвигали: за год не снесешь. А так хорошо... я лишнего поросенка сам и подбросил. Ночью. Вот, задницу порвали: собаки у них, у киликийцев, — хуже Ехидны!..
Чего мне на пророкову задницу глядеть? Я на дарда-на, подлеца болтливого, глаз скосил: рыдает Эней. В три ручья.
От счастья.
— Что ж ты?! — говорю. — Живого человека похоронил! А он удивляется:
— Я? Я ничего... я как все...
— ...Трижды прошу прощения за вмешательство в разговор уважаемых людей!
Этого Одиссей не знал. Лицо круглое, в оспинах. Кланяется:
— Малоизвестный Иссин-Мардук велел осведомиться: не соблаговолит ли досточтимый Одиссей ЛаэртиД посетить малоизвестного в его уединении?
Когда полномочный представитель Дома МурашУ просит, ему не отказывают.
Да, дядя Алким. Да, папа.
Я помню.
%%%
Вина осталось: на донышке. А идти за новым кувшином лень. Обойдусь. Чтобы вспомнить нашу давнишнюю, первую и единственную встречу лицом к лицу с малоизвестным Иссин-Мардуком — мне не надо вина. Тем более что он предпочитал хмельному сок граната. Терпкий, кисловатый. Добавлял чуть-чуть воды и долго смотрел, как клубятся в чаше багряные облачка. Он и мясо есть отказывался. Рыбу — тоже. Говорил: грех вкушать боль, причиненную безвинной твари. Говорил: кровь насыщает, разрушая. Если бы я не знал, какие добрые дела изредка творятся по велению этого славного, лучезарного дедушки... Уж лучше мясо по пять раз надень. И вино: пифосами. Хотя напраслину возводить тоже ни к чему: он был человек дела, Иссин-Мардук по прозвищу Эльпистик[55], в первую очередь стараясь обойтись переговорами и соглашениями. Не всегда получалось.
— Досточтимый Одиссей может не опасаться мести фараона Рамсеса, — сказал он, вертя в пальцах деревянный ножичек. Уж не знаю, где такая штука может пригодиться. Хотя сделана красиво.
И поправился, видя мое лицо:
— Мести ванакта Черной Земли.
— Уважаемый Иссин-Мардук уверен? — притворяясь безразличным, осведомился я.
За полчаса беседы о пустяках я уже выяснил: в здешнем доме не принято обращаться к собеседнику напрямую. Только косвенно. Вокруг да около. Если так плыть Домой, никогда не доплывешь.
— Можно ли быть в чем-то уверенным до конца, живя люд вечно изменчивым небом?!
Черные, лоснящиеся глазки закатились, сверкнули желтоватыми белками, сожалея о мирском непостоянстве. Легкая тень тронула бледную кожу щек: намек на Румянец. Иссин-Мардук снял тюрбан, аккуратно промокнул платочком вспотевшую лысину и снова водворил тюрбан на место.
— Есть еще финикийцы... — я взял с блюда лист салата. Скрутил в трубочку.
— Нет.
— Нет финикийцев? Совсем?!
— Досточтимый Одиссей Лаэртид изволит смеяться. Разумеется, есть. В море — есть. На рынках — есть. Кстати, известно ли досточтимому Одиссею, что тир-ские купцы недавно открыли новый путь на юг? Там, где раньше свирепствовали чудовища, и боги, похожие на зверей, преграждали путь смельчакам, теперь спокойно плещут весла и надуваются паруса. Мы живем в зыбком мире...
Сейчас меня мало интересовали успехи тирских купцов.
— Это уважаемый Иссин-Мардук изволит смеяться. Если финикийцы есть в море и на рынках, если они есть даже на опасном южном пути, тогда где их нет?
— Их нет в качестве гонителей одного странника, знакомого нам обоим. Фаросское недоразумение прощено и забыто. А «пенное братство» в восторге от блеска железной серьги. Правда, это обошлось в изрядное количество талантов и долговых поручительств...
Я мог представить себе это количество. До конца жизни не расплатиться. В бескорыстие лысого филантропа верилось слабо.
На веранду, где мы вели приятную, ни к чему не обязывающую беседу, тихо поднялся раб. Горбун с вкрадчивой повадкой паука. Он даже двигался так, будто по дороге оплетал столбы и перила паутиной. Когда горбун прошелестел мимо меня, распространяя сладкий аромат ирисовых благовоний, я вздрогнул и почувствовал, как напрягается спина. В ответ: ласково-бессмысленный взгляд. С поклоном передав хозяину развернутый на треть свиток, горбун неприятно похрустел гибкими, на вид бескостными пальцами и отправился ловить мух в другом месте. Иссин-Мардук наскоро пробежал свиток глазами. Извиняясь, улыбнулся мне: дела, дела... покой нам только снится!..
— Да, — сказал он в пространство, совершенно не заботясь тем, что горбуна уже и след простыл. — Не позднее конца месяца. Только без глупостей.
Мне почудилось, что паутина дрогнула, разбежалась беззвучным эхом во все стороны. Но хозяин уже повернулся ко мне:
— На днях малоизвестный Иссин-Мардук встречался с очень достойными молодыми людьми. Бывший ванакт Аргоса. Бывший басилей Крита. Бывший претендент на престол Трои. Бывший пророк. Очень, очень достойные молодые люди: вежливые, почтительные, хотя и бывшие...
Слово «бывший» он произносил вкусно, слегка причмокивая. Стало ясно, почему кипрский представитель Дома Мурашу не ест мяса. Он ест слова. Вполне достаточно для насыщения души.
— Можно ли поинтересоваться: что хотели достойные молодые люди от почтеннейшего Иссин-Мардука?
— Есть такое новомодное изобретение: «деньги». Почему-то в последнее время от несчастного Иссин-Мардука все хотят только это. Никто не придет, чтобы сказать:
«Изя! У меня родился сын! Я зову тебя на обряд дарования имени!» Или: «Марик! Брат мой! Хочешь, я подарю тебе новый плащ?!» Изредка, когда по ночам мучает бессонница, горемычному Иссин-Мардуку кажется: мы живем не только в зыбком, но и в весьма корыстном мире...
Каюсь: мне очень захотелось попросить гостеприимного хозяина об одолжении. Не хватит ли у него талантов договориться с Глубокоуважаемыми, чтобы они были везде, в море и на рынках, в небе и в храмах, на Олимпе и в преисподней — но чтобы их, со всей мстительностью и уязвленной гордыней, больше не было для одного странника, знакомого нам обоим. Нигде и никогда. Я понимал, чего лишаюсь (сова моя! крепость и олива!), но желание было таким страстным...
Я даже пропустил часть сказанного мимо ушей. — ...Заявили: «Нам больше нет места здесь». Бедный Иссин-Мардук позволил себе усомниться. Сказать, что таким достойным молодым людям есть место везде. Что он, бедный Иссин-Мардук, был бы счастлив... Нет, сказали молодые люди. И не уговаривайте. Мы собираемся плыть на Запад. До конца света и за его предел. Мы намерены уйти в седые дали Океана, чтобы никогда не оглядываться назад. Иссин-Мардук огорчался. Плакал. Иссин-Мардук даже рвал бы волосы, расти они у несчастного Иссин-Мардука. Но...
Он был многословен. Впрочем, это давало мне время свыкнуться со сказанным. Пощупать руками каждое слово. Каждую новость. Достойные молодые люди собрались броситься в Океан, но суда требовали починки, новых мачт и парусов. Команды, несмотря на призрак обреченности, настаивали на запасах провизии и пресной воды. Оружие. Одежда. Вряд ли достойные молодые люди действительно собирались идти на Запад, через царство мертвой жизни, чтобы стать царями мертвецов. Это увлекательная игра, хотя малыш полагает ее плохой. Да, они правы. Не сумев вернуться по-настоящему, они хотя бы сумели признать: лучше уйти самим. Наверное, мы не зря воевали по-человечески. Молодые люди состарились: не годами. Черным, горелым серебром в крови. В нас до сих пор слишком много спекшегося ихора. Не надо резни из-за пустого стремления заново войти в иссохшую реку. Не надо окраины Калидона, где придется доживать век пугалом соседей. Пожалуй, так действительно лучше. Уйти за край, за предел; уйти навсегда. Когда нечего терять, уходить легко. А Запад, если верить желтому сну, — единственный целый край нашего блюда, с которого можно скатиться не в жизнерадостную плесень, а прямиком в мыльную воду. Царство мертвых ждет тех, кто погиб под Троей, но еще не до конца осознал это.
Я — другое дело. Понимать, осознавать — не для меня.
Мне пора домой.
— ...Сказал: «Я дам вам то, чего вы просите». Так сказал ничтожный Иссин-Мардук. «Но с одним условием. Говорят, ваша богиня Удачи, которую вы обидно именуете Тюхой, очень любит некоего хитроумного не по летам странника, носящего имя Одиссей. Всех богов он сердит, кроме удачи. Прикосновение к нему дарует везение; большие люди готовы вложить в такого человека изрядные средства. Даже рискуя потерять вложенное. Если он станет кормчим в вашем походе, бедный Иссин-Мардук на время попробует стать богатым Иссин-Мардуком. Одолжит, подзаймет...» О, сказали достойные молодые люди. И повторили: о! где мы найдем этого удачливого странника? Может, его давно съели рыбы?!
Хитрый глаз представителя вдруг подмигнул мне с бесстыдной откровенностью;
— Странник отыщется сам. Так ответил малозначительный Иссин-Мардук, который тоже в некотором роде ясновидец. Просто у каждого свои методы. Если тирские купцы сумели пройти южный предел, то почему бы сыну прославленного Лаэрта-Садовника не пройти западный? С крохотным, еле заметным условием: вспомнить о долге перед мелким Иссин-Мардуком, когда возникнет повод и время вспоминать...
Я положил лист салата обратно.
— Запыленный странник благодарит за оказанное ему доверие. Признает за собой долг. Но сейчас странника ждет родной дом. Странник устал.
— Разумеется, мальчик мой, — ласково бросил старичок, мгновенно переходя к прямому разговору. — Полагаю, женихи твоей жены будут весьма рады возвращению блудного мужа. Равно как и твой благородный отец, признавший их право на сватовство. Кстати, люди говорят, что твой сын зовет одного из женихов — папой. Какого-то Антиноя Эвпейтида... ты его не знаешь?!
ЭПОД
ИТАКА. Западный склон горы Этос; дворцовая терраса (Сфрагада)
Зеленая звезда, отвернись. Мне стыдно.
Перила холодны под пальцами. Так уже было однажды: холод перил и мертвый камень пальцев, грозящих раскрошить резные кипарисовые доски. Так держатся за Доску в море, за рукоять оружия в бою, за самого себя, когда жизнь хлещет по лицу, а сил не остается ни на месть, ни на обиду. Медленно разжимаю пальцы. Ладонь поднимается вверх, в небо. Звезды, оказавшись на ладони, меркнут. Сбиваются в стайки, испуганно трепещут светляками. Скоро утро.
Скоро взойдет солнце.
Просить прощения? У кого? За что?! Три дня я не давал ответа Иссин-Мардуку. Он терпеливо ждал. Три дня я говорил с Диомедом или Калхантом о чем угодно, кроме отплытия в никуда. Они ждали. Не подталкивали в спину. И, прими я любое другое решение, отнеслись бы с пониманием, ибо умели понимать. Думаю, кипрский представитель Дома Мурашу тоже, скажи я ему, что вопреки всему еду домой, на Итаку, согласился бы с таким решением. Иссин-Мардук ставил на меня вслепую, наугад, повинуясь чутью матерого лиса — моя свобода выбора была для него залогом вклада.
А я хотел выбрать и не мог.
Глядя в землю, все, к кому я обращался, отвечали на мои вопросы. Честно. Искренне. Не пытаясь жалеть или сочувствовать, за что я им благодарен по сей день. Убивая вопросы один за другим.
— Да, — сказал Калхант. — Я уже больше не пророк, но я слышал, что твой отец вернулся домой после Фаросского сражения. Раненый. Говорят, его сперва хотели отстранить от дел в пользу... знаешь, рыжий, я забыл имя. Со мной в последнее время так бывает.
— Это все Навплий, — сказал синеглазый аргосец, и руки Диомеда сжались в кулаки. — Подлая эвбейская тварь. Ему оказалось мало ложных маяков. Понимаешь, рыжий: он рассчитал верно. Мне донесли: Навплий посещал наших жен. Долго беседовал наедине. Убеждал. В итоге место на остывшем ложе занимал чужак. Делая чужаками — нас.
— Почему я должен быть исключением? — спросил я. Не у него. У себя. Но ответил он:
— Не знаю. Может быть, тебе повезло с женой больше? Я бродил по набережной, испытывая свое везение. Подсаживался в харчевнях к людям с серьгой. Давал себя потрогать: тайно или явно. «Пенные братья» верили в за-разность удачи, и было жаль их разубеждать или предостерегать. Расспрашивал. Жалкие вопросы: в полотняном хитоне, безоружные, с голой грудью — убить легче легкого. Да, говорят, объявляли сватовство вдовы Пенелопы Итакийской. Женихов навалом; узнай Елена, от зависти сдохла бы. Да, от имени Лаэрта-Садовника, скорбящего о погибшем сыне и желающего передать семейное дело в надежные руки. Зам, Закинф и Дулихий первыми прислали своих претендентов.
Да, моего сына обещали признать полноправным наследником независимо от выбора басилиссы. Моя мать умерла прошлой весной. Няня?.. Какая няня?!
Последний удар нанес Ворон.
— Тебя так долго не было дома, большой хозяин, — сказал седой эфиоп.
%%%
Слабо намеченные глаза деревянного идола смотрели в темноту трюма. Связка лучин чадила, дышать было трудно. Так легче. Так у грубого палладия больше сходства с совой, и оливой, и крепостью. Кумир троянцев, символ неприступности — люди болтают, что тебя выкрали, но людям свойственно ошибаться. Тебя просто отдали. Проще простого. Когда, в последние дни перед сдачей города, Одиссей с Диомедом ходили по ночам в Трою, как к себе домой — обсуждать условия и составлять списки, — палладий был передан им в качестве залога. После Диомед увез его с собой, плохо понимая: зачем?
Сейчас упавший с неба кумир рассыхался в трюме.
— Радуйся! — Рыжий тихо присел на корточки. Очень похожий на своего Старика.
Подсвеченная снизу, маска палладия казалась личиной чудовища. Или лицом смертельно уставшей женщины. Черные круги под глазами, провалы щек; трещина сухого рта. Где-то в углу плакали голодные крысы.
— Это я. Знаешь, иногда мне мечталось, что мы встретимся как-то по-другому. Иначе. Да, конечно. Семья превыше всего. На твоем месте я бы тоже добивал вернувшихся невпопад. И простить, наверное, тоже не сумел бы. А даже если сумел бы? Я говорю глупости, не обращай внимания...
Маска палладия оставалась прежней. — Хорошо, молчи. Сейчас у меня нет яблока, чтобы подарить тебе. Я никогда не говорил этого вслух, но вы с Пенелопой очень похожи. Не сердись, это правда. Вы похожи, и я теряю вас обеих. Уже потерял. Ведь правда, почему я должен быть исключением?
Застенчивая крыса подошла ближе.
Села у ног, завороженно глядя на рыжего безумца.
— Может, я себе все это придумал? Любовь, разлуку, войну? Может, жить надо проще: не видеть, не чувствовать, не делать. Просто понимать. Ведь если на миг допустить, что понимать — также просто, как и все остальное... Я бы сумел понять что угодно. Любовь? — Нет. Всего лишь плотское влечение мужчины к женщине. Война? — Неизбежная и даже в чем-то полезная штука. Способная решить многие вопросы быстро и определенно. Разлука? — Родина там, где тебе хорошо. Жена убивает мужа в купальне. Пройдут годы, и сын-мститель прикончит собственную мать. Почему бы и нет? Боги оправдают одного убийцу и осудят другого; кого именно — неважно. Просто от скуки ткнут наугад пальцем. О да, мне кажется: еще чуть-чуть, и я пойму!.. Научусь. Я никогда не спрашивал у тебя, синеглазая моя: ты умеешь понимать?!
Из чрева трюма несло гнилью: наверное, размокшие лепешки заплесневели. Крыса ждала, отказываясь возвращаться в родной угол.
Боясь стать крысиным волком.
— Мы погибли под Троей. Все. Ты тоже, сова и олива. Просто нам об этом забыли рассказать. Тебе — тоже. Забыли. Лишенный якоря, я ухожу, и, пожалуй, мы больше не встретимся. Глупо получилось...
Уже на лестнице Одиссей обернулся.
Нет.
Палладий стоял неподвижно, и крыса сидела у ног идола.
%%%
Когда эскадра уплывающих на Запад огибала Плата-модский мыс, я еще мог свернуть на север. Домой. Вот она, Итака. Рукой подать.
— Эй! Жениться едете?! — крикнули нам с проходящей мимо эйкосоры. Хотелось ответить стрелой. Мой Старик молча сидел на корме, примостив копье поверх коленей. Все сокровища Трои за его мысли. Но ведь спросить — не ответит. «Я не вернусь, — силились прошептать белые губы того, кто раньше звал себя Одиссеем, сыном Лаэрта. — Я не вернусь!..»
Тщетно.
«Дурак! Дурак!» — летел в спину вопль Далеко Разящего, и дом, оставленный за спиной, виделся бесформенным камнем на берегу.
ПЕСНЬ ПЯТАЯ ГЕРОЙ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН
Итак, Итака.
Чудный каламбур
Дарован мне.
Я испытал на собственном горбу
Превратность дней.
Пришла пора допрашивать судьбу
Наедине.
Во сне мечталось: скребницей скребу
Родных свиней
Фрасимед МелхскийСТРОФА-1 Обломок старинных обид
Кто я? Обломок старинных обид,
Дротик, упавший в траву.
Умер водитель народов Атрид,
Я же, ничтожный, живу.
Я. ГумилевПоследнее дело: проснуться от свинячьего визга.
Нагретая за ночь подушка по-детски хранила тепло. Головы не поднять. Зато сбившаяся в ногах овчина и покрывало, упавшее на пол грудой тряпья, говорили о мужской, проведенной без сна ночи. Мальчик поморщился от дурацких мыслей. Резко сел, разрывая паутину дремы. Его следовало бы назвать юношей; пожалуй, в иных обстоятельствах он сошел бы за молодого мужчину. Плотное, слегка рыхлое тело человека, не знавшего лишений. Руки без шрамов и мозолей. Красивые, в меру правильные черты лица, но подбородок безвольно мал. Спутанные кудри цвета каленой меди. И туман остатков сна в зеленоватых, еще мутных глазах. Мама до сих пор звала его «мальчик мой». И дедушка. И папина няня, когда думала, что он не слышит. А хлебоеды по-разному: большей частью «малыш», но изредка — «герой», и тогда хотелось пырнуть кого-нибудь из них мечом.
Однажды так и случится.
Мрачно скривив губы, он подумал: неужели мне навеки суждено остаться мальчиком? Старым, пузатым. Седым мальчиком. До скончания дней. Так мальчиком и сойду в Аид, на поля асфоделей. Отец был младше на целых два года, когда ушел воевать. Ушел навсегда. Сейчас имя «Телемах, сын Одиссея» не вызывает ничего, кроме глупого смеха. Еще бы: Далеко Разящий, сын Сердившего Богов! Тонкая издевка. Обхохочешься. Главное наследство, оставленное на память сыну хитроумным родителем. Но сегодня особенный день.
Хлебоеды заблуждаются, утверждая, будто мужчиной становятся в кустах с голой девкой, отпыхтев положенное. Мужчиной становятся иначе. Совсем иначе. Однажды приходит особенный день, и ты становишься мужчиной, даже если под рукой не нашлось ни одной подходящей девки. Просто хлебоедам забыли об этом рассказать. Мальчику тоже: забыли.
К счастью, он понял это сам.
Вчера вечером мальчик предполагал, что ночь проведет в раздумьях. Сядет на террасе, возьмет кувшин с вином, непременно домашним, неразбавленным, и старую, щербатую чашу. Будет пить по-фракийски. Глядеть во тьму. Спорить со звездами. Есть тут одна, зеленая, над западными утесами: глянешь, и сразу хочется спорить. Такая ночь казалась правильной перед особенным днем. Единственно правильной. Но в мегароне шумели хлебоеды, хвастаясь выдуманными наспех подвигами, возле кладовок суетилась их челядь, больше похожая на жадных крабов, дорвавшихся до падали, и сперва не нашлось полного кувшина, потом кто-то занял облюбованную заранее террасу, горланя дурацкую песню про сатира-весельчака, навострившего рог в ожидании проказницы-дриады, а после, сам не понимая как, мальчик очутился в своей спальне. Сел на краешек ложа, уже расстеленного папиной няней. Прилягу на минуточку, подумал он. Только на минуточку.
И вот: проснулся.
А во дворе истошно протестует свинья.
Хотелось по малой нужде. Очень. Тянущая боль внизу живота раздражала. Но спальня находилась в окружении гостевых комнат, и идти на двор в сопровождении несущегося отовсюду храпа пьяниц было особенно противно. Будто движешься от хрипения к визгу. Вспять. От смерти к предчувствию смерти. А в такой особенный день... Нет. Видимо, избавиться от дурацких мыслей не удастся. Мальчик знал за собой это качество: прежде чем решиться на поступок, долго забивать голову всякой чепухой, придумывая сравнения и знамения, ища опору и создавая свой собственный замкнутый мир, в котором действовать было куда легче, чем в настоящем. Жаль, за это время сам поступок частенько становился совершенно ненужным и даже смешным.
Солнечный зайчик резвился на вощеных половицах. Отодвинув решетку, сделанную в виде листьев и цветов, мальчик вышел на веранду спальни. На ходу обматывая кусок полосатой ткани вокруг чресел. Стоять нагим — значит, служить мишенью для сальных шуточек хлебоедов. Конечно, вряд ли кто из них поднялся в такую рань. Храпят, булькают. И все-таки... С веранды открывался вид на город и Форкинскую гавань. Отец правильно сделал, что поставил дом здесь, на склоне Этоса, ближе к плоской вершине. Отец все делал правильно. Если смотреть вдаль, можно представить, что есть только ты, небо и море, а всякие скоты, безнаказанно грабящие отцовский дом, сгинули в безднах Тартара, чтобы вечно терзаться там ужасом бледным. Да, отец все делал правильно, кроме одного: он зря ушел. Словно знаменитый гвоздь, за— лирающий кровь в жилах медного великана Талоса, отец выпал из жизни, построенной его руками, и жизнь стала разваливаться на куски. Что ж, Телемах, сын Одиссея, хватит думать, стараясь понять. Время что-то делать. Время делать хоть что-нибудь. Ведь трусливый Фронид наконец согласился одолжить свой корабль. Конечно, это не боевая пентеконтера, а всего-навсего малая гиппагога для перевозки мулов, но выбирать не приходится. Сегодня особенный день.
%%%
— О, — сказал козопас Меланфий, глядя на мальчика. И повторил, нагло скалясь: — О! Герой в поход собрался? Где отливать думаешь, богоравный?
Отвечать было ниже достоинства. Наглость Меланфия имела под собой основания: вожак итакийских бунтарей, ждущих перемен от замужества вдовой Пенелопы, и любимчик хлебоедов, претендующих не столько на руку басилиссы, сколько на определенное положение в «пенном братстве», Меланфий стремглав бросался выполнять любое поручение будущих господ. Блокаду Итаки, кстати, тоже помог обустроить именно он, изучивший ближние проливы, отмели и расположение береговых маяков лучше, чем сестра козопаса, наглая, как и братец, — хле-боедские приапы. Мальчик знал: прежде чем осесть на острове, Меланфий больше восьми лет проплавал на двутаранной «козе»-дипроре, отличаясь странной, почти безумной жестокостью при абордаже. Это придавало насмешкам козопаса особую колкость: иногда, думая, как бы он сам повел себя в морском бою, мальчик понимал, что вряд ли снискал бы великую славу. Если растешь безотцовщиной, старших братьев у тебя нет (проклятие рода: единственный наследник в каждом колене!), а дед все время пропадает в туманных, пронизанных воплями чаек просторах, чтобы вернуться домой не живой легендой про Лаэрта-Пирата, а раненым, тяжело больным стариком, вечно кашляющей развалиной... Стоит ли удивляться, что тебе не удалось вырасти Гераклом? Большинство сверстников мальчика были такими же. Рохлями, честно признался Телемах.
Но ничего. Вечером рохли покажут себя.
Даже крысу опасно загонять в угол.
Презрительно оттопырив губу, мальчик прошествовал мимо козопаса и свернул в проход между баней и ручными мельницами. К отхожему месту, где наконец удалось облегчиться. Оправляя набедренную повязку, мальчик вдруг сообразил, что свинья заткнулась. Проклятый визг. Когда он есть, ты готов собственноручно удавить дрянное животное, а когда его нет... Словно чего-то не хватает. Вернувшись во двор, он сел на скамеечку в боковом портике. Вечер не скоро. Надо чем-то занять день, иначе впору сойти с ума от опостылевшего безделья и дурацких мыслей, рождаемых ожиданием. Надо поговорить с мамой. Возможно, она все-таки согласится... И еще: дедушка. Да, пока не стало жарко, надо обязательно сбегать к деду.
У портика напротив двое хлебоедских лизоблюдов играли в малый коттаб. В пяти локтях от них, прямо на земле, стоял наполненный водой чан, где плавали две пустые мисочки. Лизоблюды по очереди швыряли мелкие камешки, стараясь попасть каждый в свою миску. Мальчик поймал себя на том, что его охватывает малопонятный азарт. Если левая мисочка затонет первой, все будет хорошо. Все получится. Если левая мисочка... Почему именно левая, он не знал. Просто так. Хотя чаще мальчику казалось, что в жизни ничего не бывает просто так.
— Молодой хозяин?
Вопрос выдернул мальчика из сосредоточенности.
— Молодой хозяин? — еще раз повторила папина няня, которую язык не поворачивался назвать старухой. — Молодого хозяина хочет видеть его достопочтенная матушка.
— Прямо сейчас?
— Прямо сейчас. Госпожа басилисса закончила утреннее омовение и велела передать, что хочет видеть своего сына.
Впилась, как клещ. Мальчик был слишком хорошо знаком с приставучестью папиной няни, чтобы упираться или спорить с Эвриклеей. Бывшая рабыня, давно уже вольноотпущенница, она умудрялась даже у хлебоедов вызывать молчаливое уважение. Во всяком случае, гаркнув папиной няне что-нибудь вроде: «Эй, старая! Принеси вина!», нахал неожиданно для себя сбивался на косноязычное мычание, краснел и вскоре начинал полагать, что вино из рук этой мегеры[56] вряд ли пойдет ему на пользу. Некоторые пытались подольститься к Эвриклее мелкими подарками, надеясь таким способом расположить к себе вдовую Пенелопу. Что ж, у каждого свое право на глупости.
Мальчик едва не забыл, что еще минуту назад сам намеревался переговорить с матерью.
— Хорошо. Передай: я уже иду.
— Да, молодой хозяин.
— И перестань наконец звать меня молодым хозяином! — вспылил мальчик. Гнев поднялся откуда-то из ; глубины желудка, где гневу не место; и причин для раздражения не было вовсе, кроме того, что сегодня особенный день, а до вечера уйма времени. — Оставайся ты рабыней, я бы еще понял... Дула[57]! Какой я тебе хозяин?! Ну скажи на милость: какой?!
Губы папиной няни тронула легкая улыбка, больше похожая на тень:
— О да, я дула. Я стала ей задолго до твоего рождения, молодой хозяин. Знаешь, это были лучшие годы моей жизни... Матушка ждет. Не стоит заставлять ее ждать дольше обычного.
По дороге в гинекей Телемах размышлял о том, что отцу няня постеснялась бы сказать такие слова. Ладно. Проплыли.
Эвриклея шла рядом, грустно улыбаясь. В этом юноше, которому, очевидно, не суждено вырасти по-настоящему, сошлась вся любовь вечной нянюшки. Хорошо, что он мало похож на отца. Это было бы слишком больно. Хорошо, что все-таки похож. В малыше, жемчужиной в раковине, прячется отцовская порода, но глубоко, глубже, чем хотелось бы. Ежедневно видеть, любить и сравнивать, сравнивать... Он думает, все вокруг сдались, неожиданно поняла старая няня. Он так думает с самого начала. Полагает, будто воюет один на один со всем миром, и это делает его еще более уязвимым и еще меньше похожим на отца. Он просто не видит, что у маленькой армии под названием «семья Одиссея» происходит бой за боем. День за днем. Все эти три года. Он ничего не видит, закрыв глаза ладонями предвзятости, и потому обижен на весь свет. Пусть что-нибудь сделает. Пусть сделает хоть что-нибудь. Даже если это будет связано с риском. Даже если будет угрожать его жизни. Няня понимала: узнай хозяйка ее мысли, не миновать скандала. Пусть. Маленькой армии нужно подкрепление, серьезное подкрепление, а не обиженный мальчик, считающий, что настоящую войну ведет он сам. Маленькой армии надо продержаться. День. Неделю.
Вечность.
Рыжий безумец однажды вернется, что бы ни говорили по этому поводу все оракулы мира.
— Утри сопляку нос! — заорал вслед козопас Мелан-фий, ударяя ребром ладони по сгибу локтя. Подождал, оставив на лице щербатую ухмылку. Жаль, не обернулись. И игроки в коттаб, увлеченные сражением, забыли откликнуться дружным гоготом.
Такая хорошая шутка пропала зря.
— Эх! — горестно вскрикнул один из игроков, глядя, как медленно тонет мисочка его соперника. Подставлять лоб под увесистые щелчки — дело не из приятных. Левая мисочка, перегруженная жребиями камешков, шла ко дну чана, словно чья-то судьба, переполнившаяся ожиданием.
%%%
Зеркало из полированного серебра отражало правду, и правда была вполне приемлемой.
Если глядеть сквозь ресницы.
«Надо отослать мальчика к деду. Хотя бы на два дня», — думала Пенелопа, пока рабыня расчесывала гребнем ее густые, до сих пор не тронутые сединой волосы. Рыжие вообще плохо седеют. Вплотную приблизясь к сорокалетнему рубежу, вдова Одиссея-Ушедшего была еще хороша собой. Сказывалась кровь матери, долинной нимфы; вернее, не кровь, а легкая, еле заметная примесь серебристого ихора в жилах. Вполне достаточная, чтобы старость дольше обычного помедлила на пороге, прежде чем войти без стука. Таких женщин — зрелых, опытных-полногрудых, с понимающим материнским прищуром ярко-зеленых глаз — любят неоперившиеся юнцы. Среди стервятников с лихвой хватало подобных птенчиков. Правда, за каждым тенью маячил куда более клювастый-когтистый отец или дядюшка, метящий удачно пристроить родственничка кчужому дому. К чужому делу.
К чужому телу — шутка, подлая тем больше, чем вернее она грозила перестать быть шуткой.
Но птенчикам зачастую было не до теней, более реальных, чем они сами. Кое-кто мечтательно облизывался, воображая себе бурные ночи с вдовой... с бывшей вдовой Одиссея-Хитреца, ныне его, птенчика, покорной и любящей супругой, наверняка знающей кучу всяких бабьих штучек на ложе. Этот кое-кто облизывался, даже заваливая в угол податливую рабыньку. Прикрыв глаза, тешил минутную похоть, представляя в своих объятиях рыжую эпоху. Наверное, стервятника это возбуждало. Наверное, так ему казалось, что он на самом деле, по праву и достоинству, обладает наследством знаменитого героя, а значит, в какой-то степени — самим героем, удовлетворяя
гордыню, будто противоестественную мужскую склонность.
Говорят, Деянира Калидонская перед самоубийством вела себя не как последняя жена великого Геракла, а как последняя нимфа в компании прыщавых сатирисков, упившихся до беспамятства. Тоже небось в благословенной Этолии расплодилась куча птенчиков, полагавших себя равными Гераклу хотя бы в одном, совершенно определенном смысле.
Перья врастопырку.
Если бы они наконец поняли, что Пенелопа не знает никаких штучек. Не успела выучить. Не дали. Если бы они... Ну и что? Что изменилось бы? Ничегошеньки. Когда эвбеец Навплий тайком явился на Итаку, уговаривать басилиссу сойтись с его двадцатипятилетним внуком, Дрянной сводник был уверен в успехе. Ведь за его спиной убедительно расправляли крылья многие победы Навплиева красноречия: Клитемнестра Микенская, Айгиала Аргосская, Меда Критская... Отчего бы Пенелопе Итакийской не присоединиться к выдающемуся списку?! Облизывался, стервец, расписывая исключительные достоинства потомка. Его родство с семьей свекра: все-таки ььщ Паламеда Навплида, увы, ныне покойного героя войны, и красавицы Марпессы, старшей дочери Лаэрта. Наклонялся к самому уху, горячо дышал, убеждая. Женщины быстро стареют без мужской ласки, говорил он. Хранить верность мертвецу — глупость, говорил он. Еще большая глупость ежедневно ложиться спать, чтобы увидеть настоящего мужчину только во сне. Частично эвбе-ец был прав: Пенелопе ночами действительно снился мужчина на ее ложе. Всегда. Год за годом. Один и тот же мужчина: рыжий, коренастый, сумасшедший и слегка хромой — когда, задумавшись, он вставал с ложа, чтобы уйти на войну.
Один и тот же.
Год за годом.
Меньше трех лет настоящей жизни, после переезда вздорной девчонки из мачехи-Спарты на Итаку, вдруг ставшую родиной — и двадцатилетие проклятого сна, перемежаемое буднями жены, потом соломенной вдовы; потом — просто вдовы. Наверное, у настоящих женщин бывает иначе. Клитемнестра Микенская, Айгиала Аргосская, Меда Критская...[58] Все живы-здоровы; счастливы своей изменой. Боги дремлют, глядя мимо. Наверное, рыжая басилисса — женщина только с виду, пустая кукла без страстей, даже если она хорошо сохранилась, и седина обходит ее стороной. Наверное, так не бывает, не было, не должно быть; наверное, это ее глупая, безнадежная война против самой себя и всего мира. Сегодня надо быть красивой. Война продолжается, и грешно пренебрегать оружием, находящимся под рукой. Сегодня она лишний раз улыбнется Амфиному, самому опасному из стервятников хотя бы потому, что — самому обходительному и добросердечному. Улыбнется, заговорит о пустяках. Позволит коснуться себя. Пусть это увидят все. Пускай начнут волноваться, прикидывать, угадывать истинность или ложность намека на выбор; пусть испробуют способы очернить возможного избранника.
Это даст еще день.
Неделю.
Если бы она ясно понимала, чего ждет. Мертвым дарована беспамятность. С Запада не возвращаются. Значит, вечному сну о рыжем безумце суждено продолжаться до самой смерти. Пенелопа оттягивала новое замужество вовсе не из-за слепой веры в возвращение мужа. " Тайная сердцевина, которую женщина вслух никогда не называла любовью, все равно навеки с ней: захоти отнять — надорвешься. Быть может, она даже сумела бы отдаться второму супругу: равнодушно, как делают необходимую, но постылую работу. Но сын! Ее мальчик! Будь рыжая басилисса глупа как пробка, и то становилось ясно: цена обещаниям стервятников — гнилая смоква. Усыновить Телемаха? — Конечно! Признать его право наследования? — О чем речь! А речь шла о другом: выйди рыжая замуж вторично, и ее сын вскоре сорвется со скалы или сгинет в море. Право наследования — слишком важная вещь, чтобы соблюдать клятвы. Маленькая армия под названием «семья Одиссея» вела непрерывный бой. Начиная с того дня, когда первый стервятник объявился на острове с предложением руки и сердца. Им-то и был внук Навплия. Остальные явились позже, когда слухи о гибели Одиссея-Лукавого окрепли, выпятили бляхи панцирей и медным строем двинулись завоевывать простор. Свекор тогда еще не вернулся из-под Айгюптоса, и стервятники втайне надеялись на его исчезновение тоже. Они были ласковы и убедительны, они приезжали и задерживались, располагаясь в доме, в городе, на склонах Этоса и Нейона; с ними приезжала свита — крепкие, хорошо вооруженные молодцы с глазами бойцовых собак. Они и вели себя, будто собаки: тихо-мирно до поры, до приказа хозяина.
Десять стервятников в действительности означало сотню или две чужих людей. Двадцать — от двух до четырех сотен. Пятьдесят? Нет, их стало пятьдесят уже после, по возвращении тяжелораненого свекра. А вскоре: сто с лишним.
Испугались. Дрогнули.
Имя Лаэрта-Пирата еще звучало зврном бронзы в их ушах, а также в ушах теней за их спинами. Нельзя было давать повод к обидам. Сватовство — дело мирное. Гость Дарован богом; гостеприимство — удел богобоязненных. Но вместо Лаэрта-Пирата домой вернулся больной старик, пластом лежащий на кровати. И осмелели. Сбились .в кучу, пошептались. Приняли решение. Через неделю Итака угодила в морскую блокаду. Корабли стервятников расположились заставами со всех сторон; уроженцы Зама, Закинфа и Дулихия, превосходно разбираясь в здешних водных тропах, железным занавесом огородили ба-силевию Одиссея-Забытого. А в загородном летнем домике медленно выздоравливал некий Лаэрт, под надежной опекой людей с собачьими глазами. Только преданность в этих ласковых глазах была иного рода.
Маленькая армия под названием «семья Одиссея» угодила в котел. Крепость в осаде, и враг стоит под стенами. Предлагая самые выгодные, самые роскошные и почетные условия сдачи.
— Ах!
Гребень больно дернул прядь волос. Рабыня вздрогнула, зажмурилась в ожидании выволочки. Но Пенелопа уже думала о другом, не замечая, как уходит мелкая, пустячная боль. Длинные пальцы женщины барабанили по краю столика, уставленного флакончиками с притираниями и шкатулочками для мазей.
Ритм.
В море такой ритм означал бы: быстрей! Еще быстрей!
Жаль, рыжая басилисса плохо разбиралась в морских ритмах. В истинных мотивах «пенного братства», допустившего столь отчаянное положение вещей. А расспрашивать свекра бессмысленно. Отмолчится. У него своя игра, своя война. Общая и одновременно — своя. Ей достаточно знать, что свекор на ее стороне.
Мальчика все-таки надо отослать к деду — отстукивали пальцы, и кровь просвечивала из-под бледных ногтей, ожидавших прикосновения кисточки с киноварью. Я не допущу, чтобы он тоже однажды ушел на войну. Нет. Не допущу. Я лучше выйду замуж во второй раз и отравлю счастливчика, едва почувствую: он готов, победив, сразиться за право наследования его собственным сыном. Это просто. Это очень просто. В каждой осажденной крепости есть что-то, чего нельзя отдавать врагу даже при сдаче. Святыни: прошлое и будущее. Память и надежда. Мальчик никогда не уйдет на войну. На Запад, откуда нет возврата. Никогда. Я не допущу.
Рабыня, осторожно двигая гребнем, боялась дышать.
У рабыни без видимой причины тряслись руки.
— Ты хотела меня видеть, мама?
В сопровождении папиной няни мальчик быстрым шагом вошел в женские покои. Остановился посреди комнаты. Видеть мать, наряжающуюся для выхода к хлебоедам, было противно. Словно гнилья наелся. Изредка мальчику снилась женщина в его объятиях, женщина правильная, настоящая, и когда он узнавал в этой женщине... Он ненавидел Гипноса в такие минуты. Наверное, сказывается отцовская кровь, думал мальчик. Это отец смотрит из меня мертвыми глазами. Вечно отсутствующий отец, последние слухи о ком успели состариться на три года. Говорят, его корабль видели: судно шло мимо Итаки на Запад, на Запад, в седой предвечный Океан, откуда не возвращаются — с такой скоростью, словно все четыре ветра, взбесившись, дули кораблю в спину. А следом, по смутной дороге, двигались эскадры покойников — жертв Троянской войны. Мама отказалась верить этим слухам. Отказалась — прилюдно. Ложь, сказала мама. Наглая, грязная ложь. А вечером, запершись в гинекее, долго плакала. Думала, никто не слышит. Страшно понимать, что я скорее готов отравить ее, чем отдать кому-нибудь из этих. Если она рано или поздно согласится, это будет хуже, чем предательство живого человека. В каждой осажденной крепости есть святыни: память и надежда. То, что нельзя предавать в чужие руки. Но сегодня особенный день. Мама, потерпи. Уже скоро...
— Да, Телемах. Ты не хотел бы проведать дедушку? А если тебе вздумается задержаться у него на денек-дру-гой, я буду только рада. Ты же знаешь, как дедушка любит, когда ты уделяешь ему внимание...
Это был дар судьбы. Начавшись со свинячьего визга, особенный день мало-помалу становился особенным по-настоящему. Отличная возможность выиграть время, не рискуя устроить лишний переполох завтра или послезавтра... Мальчик сделал вид, будто задумался. Тратить время на больного дедушку, если можно провести его за игрой в бабки со сверстниками или гуляя в гавани, пусть даже под бдительным присмотром хлебоедских лизоблюдов?! Но старость требует уважения. Да, конечно.
Кроме того, ведь он же любит больного дедушку!
— Хорошо, мама. Ты не волнуйся, ладно. Я пока поживу у деда. Схожу на лисью травлю. Я возьму с собой приятелей, так что, если их родители обратятся к тебе, скажи, что все в порядке. Договорились?
— Любовь к старым родичам угодна богам. Мальчик мой, тебе воздается...
Когда в голосе мамы объявлялись приторные нотки, мальчик всегда раздражался. Будто в меду измазался. В такие минуты слишком отчетливо являлись два слова: вечный мальчик. Клеймо во лбу. Но сейчас не до детских обид. Время взрослеть, хочет того мама или нет.
— Ну, я пошел?
Эвриклея за спиной мальчика незаметно кивнула хозяйке. Пусть идет. Старый господин будет рад. Няне Одиссея-Ушедшего казалось: кольцо осады дало трещину. Сегодня особенный день, шептали ей утренние росы. Если мальчик наконец станет мужчиной, этой трещине суждено превратиться в зияющую брешь. Если же мальчику обещана другая участь... Эвриклея боялась признаться самой себе: этот исход не хуже, а возможно, даже лучше позволит маленькой армии под названием «семья Одиссея» разорвать осаду. Ценой спасительной жертвы. Погибни Телемах насильственной смертью или хотя бы смертью, которую можно будет выдать за насильственную, — и у Лаэрта-Пирата развяжутся руки.
Иногда няне думалось: я дрянь. Я — мерзкая тварь.
Потому что никогда не смогу полюбить сына, как отца.
АНТИСТРОФА-I
У гостеприимства мертвая хватка
Ходьбы до летнего домика, гордо именовавшегося дедовой усадьбой, было часа три. Забыв второпях позавтракать, мальчик успел проголодаться и ускорил шаг, едва по левую руку от стайки серебристых тополей мелькнула знакомая изгородь.
В воротах торчали двое стражников, скучно глядя перед собой.
Мальчик вновь замедлил ход и успел тайком порадоваться, что легко одет. Под льняной эксомидой трудно спрятать даже свирель. Будь на нем хотя бы плащ — не миновать обыска. Вспомнилось: когда он начинал сердиться и кричать о подлых скотах, недостойных касаться его пальцем, стражники превращали все в потеху. Хлопали по плечам, ягодицам, отпускали похабные шуточки; дергали за одежду, заворачивая подол на голову и мерзко хихикая, — нарочитая игра все равно оборачивалась обыском. Захоти он передать деду оружие или, например, яд...
Но зачем?
Вон, ковыряется в земле. Грядку окучивает гроза морей. Лысина издалека блестит, лишь за ушами сохранились редкие островки мутно-седых волос. Согнулся в три погибели, держится одной рукой за поясницу. Охает небось. Кряхтит. Рядом с мальчиком, у ноги, шевельнулась гора шерсти: увязавшаяся от дома собака тоже заметила старика. Но не издала ни звука.
— Тихо, Кошмар! Тихо!
Зря это я, подумал мальчик. Кошмар все равно был немым. Настоящее имя собаки — кажется. Аргус... или Аргос? — забылось со временем, и прилипла новая, данная злыми на язык хлебоедами кличка: Кошмар. Пес не обижался. Он вообще ни на что не обижался и никого не любил. Терпел: да. Как терпел обожание всего собачьего племени острова. Безухий и бесхвостый. Кошмар равнодушно смотрел красными, утонувшими в лохмах глазками, как огромный вожак-волкодав ползет к нему на брюхе, скуля и виляя метлой хвоста. Так же равнодушно пес слушал проклятья чужаков; их угрозы прибить собаку дротиком были для пса подобны мухам — назойливы, не более. И впрямь: трогать «дурную тварюку» опасались, довольствуясь бранью. Лишь однажды натравили привезенного с собой кобеля лаконской породы, натасканного для боев в загоне. Лаконец сошел с ума. Выл, прикипев к месту, потом вцепился в собственную лапу, начав ее упо-енно грызть. Пришлось добить копьем. Тогда запретили кормить безухого, опрокидывая миску в нужник, если мальчик таскал еду для папиного пса. Надеялись: сам сдох-Нет. Тщетно. К вечеру у хлебоедов глаза вылезли на лоб: тьма-тьмущая итакийских овчарок собралась к дому, неся в зубах кто косточку, кто задавленную белку, а кто и кусок парной баранины, явно краденой.
Кошмар принял подношения со свойственным ему равнодушием.
Он вообще все время валялся за воротами, неотрывно глядя на дорогу, ведущую в гавань, или сутками пропадал на Кораксовом утесе, рассматривая горизонт. Годы скользили мимо Кошмара, боясь тронуть застывшего в ожидании пса, и мальчик иногда размышлял о собачьем боге, потерявшем собственное божество. В такие минуты Телемах полагал, что собаки много лучше людей.
Вот мама, например, уже давно не ждет. И дедушка.
И он сам, Телемах, сын Одиссея.
Пес обогнал мальчика. Затрусил вперед, к дедушкиному огородику. Сегодня Кошмар впервые оставил свой наблюдательный пост, отправившись за Телемахом. Словно почуял знакомый запах. Правда, на полпути к старику пес рухнул на землю, начав ожесточенно скрестись за ухом.
Блохи докучали.
Мальчик прошел мимо стражников, с отвращением вдохнув перегар, кислый аромат чеснока и вонь потных тел. Хотелось побежать, но он нарочито двинулся с ленцой, презрительно оттопырив губу.
За спиной икнули.
Грязные твари.
— Радуйся, дедушка!
Обнимаясь с дедом, Телемах всякий раз вспоминал обиду, болезненную, как загноившаяся рана. В свои двадцать мальчик до сих пор не был пострижен во взрослые. Да, разумеется, для этого требовалось совершить настоящий взрослый поступок. Но поди соверши, если тебя заперли на козьем островке, среди насмешек и материнской опеки! В конце концов, можно было обойти дурацкое правило, поручив Телемаху убить дикого вепря, портящего посев, или прыгнуть в море.с Зуба Грайи... Ну хоть что-нибудь! Дед отшучивался, твердя стариковские глупости о детях, спешащих вырасти. Но обряд пострижения оставался недоступно-манящим. Ладно.
Сегодня особенный день.
И пусть только попробуют позже отказать юному герою в пострижении.
%%%
— Как дошел? — кряхтя, спросил Лаэрт. — Ты голодный?
Внук буркнул что-то, стесняясь признаться. Но слепому видно: лицо зажглось предвкушением трапезы. Конечно, голодный. В его годы принято забывать о завтраке. Чтобы за обедом наесться до отвала, до хруста за ушами. Кликнув рабыню-служанку и отправив Телемаха с ней, Лаэрт-Садовник долго смотрел вслед. После еды парень наверняка опять заведет разговор о пострижении. Надо заранее придумать, что ему ответить, на самом деле не отвечая ничего.
Хорошо, что он не понимает. Иначе было бы труднее.
Маленькой армии под названием «семья Одиссея» был нужен мальчик Телемах, а не юноша Телемах. Детская стрижка служила наследнику броней, медным панцирем, и временами дед радовался, что внуку отказано в наследственном безумии. Иначе вряд ли удалось бы удержать парня от совсем рискованных затей. Как не удалось удержать — сына. Согласись Лаэрт постричь внука во взрослые — сам того не понимая, Телемах вышел бы из-под семейной опеки, облеченный всеми обязанностями взрослого, и любой из проклятых заморышей мигом получил бы право по-взрослому оскорбиться выходками внука. Или сделать вид, будто оскорбился. Разумеется, потом нашлось бы много уважаемых людей, согласных очистить невольного убийцу от греха... А мальчика-наследника, будучи в его доме на правах гостя, трогать запретно. От такого не очищают даже в храмах.
Иногда Лаэрт думал: я не самый хороший человек в этом лучшем из миров. В такие минуты на ум приходило последнее средство. То самое, от которого не очищают в храмах. Погибни внук от рук заморышей прежде, чем решится вопрос о вторичном замужестве невестки, — у старого деда появится право мести. Его поддержат. Да, в таком случае его обязательно поддержат. Можно даже представить себе родной остров, целиком очищенный от чужаков; можно представить Лаэрта-Мстителя... Но что останется тогда?
Делать вид, будто ждешь возвращения сына?! С Запада не возвращаются.
Пока Лаэрт годами держал море в кулаке, закрывая щитом сыновнюю спину, на суше успели подрасти молодые волчата. Сыновья и внуки почтеннейших господ, кто служил в «пенном братстве» мытарями, сборщиками десятины, береговыми надзирателями... осведомителями, наконец. Да и новое поколение пастухов, не обремененных лишней честью, вроде козопаса Меланфия, кипело от раздражения: доходы упали, кладовые пусты, а честь к подолу не пришьешь! Сколько людей погублено зря! Сколько кораблей! Сколько лет!.. Обряд дарования серьги? — Пустая трата времени! Дело делать надо, а не семейному произволу потакать! Сейчас «пенные братья» тихо устранились, не желая вмешиваться в итакийские дела. Ожидали. Выйди Пенелопа замуж вторично, нового хозяина примут тем радостнее, чем быстрее он наведет порядок, изгнав в Аид смутную тень Одиссея-Невозвращенца и призрак былого Лаэрта-Пирата, на поверку оказавшегося больным стариком. Не верите? Тогда езжайте на Итаку, взгляните! Езжали. Глядели.
Едва очнувшись после ранения, Лаэрт сразу почувствовал за визитами заморышей твердую хватку родича На-вплия. Ведь являлись свататься! В гости! С изъявлениями дружбы! А гость священен. Гость в неприкосновенности. ... Даже если за спиной вслух объявили, будто Лаэрт-Отрек-шийся дал согласие на сватовство, — поди проверь, давал он его в горячечном бреду, выздоравливая после ранения, или нет! Подыми бывший басилей руку на гостей, явившихся свататься, и за ним никто не пойдет. Испуга— ются гнева богов. «Пенное братство» отвернется от сквернавца, нарушившего закон гостеприимства. Уж лучше Пенелопе избрать нового мужа... Нет. Не лучше.
Тогда устранение внука, считай, лишь дело времени. И опытный кормчий, однажды выведший «Арго» из западни, возглавил маленькую армию под названием «семья Одиссея». Сперва притвориться умирающим было проще простого. Лаэрт изредка опасался, что притворство может обернуться чистой правдой. Особенно когда ему сообщили о тихой кончине жены. Сердце зашлось острой болью, моля о ноже. О беспамятстве Эреба. Но по мере выздоровления крепкая натура брала свое. Понадобилось прибегнуть к травкам знаменитого сада и мастерству умницы Эвриклеи, дабы ежедневно выглядеть готовым в последнюю дорогу, не спеша уйти всерьез. Он знал:
Итака отрезана от внешнего мира сторожевыми кораблями заморышей — при поддержке части местных горлопанов, из молодых, да ранних, тайком рассчитывавших на заслуги пред будущим хозяином. Последний год заморыши распоясались настолько, что «пенный сбор», по-прежнему доставляемый на остров, брали себе именем Лаэрта. Иначе было не прокормить всю ораву.
Полторы тысячи человек — шутка ли?!
Летний домик Лаэрта был малым подобием родины: окружен чужими людьми. Муха не пролетит. Посторонним отказывали в посещении, ссылаясь на плохое самочувствие старика. Пускали только близких родственников, всегда тщательно обыскивая. Приставили двух лекарей. Берегли, лелеяли. Умри старик невпопад — его смерть свалят на приезжих, обвинив в покушении. Значит, осколок прошлой эпохи должен жить. До того дня, когда сможет благословить нового итакийского басилея.
Армия вела бой.
Затягивая осаду.
По ночам Лаэрту все чаще снился покойный дамат Алким. Мудрый хромец говорил, что у каждого — своя Троянская война. И еще что-то про победу. Утром старик пытался вспомнить: что именно?
Память выскальзывала, дразнясь.
— Дедушка...
Лаэрт обернулся, быстро цепляя на лицо привычную улыбку. Он знал заранее, о чем будет говорить внук. Свои ответы он тоже знал заранее. Поднять руку на гостей-женихов и остаться чистым может только один человек. Чье появление делает сватовство беззаконием.
Но с Запада не возвращаются.
%%%
Стражники у ворот открыто скалились, когда мальчик Шел обратно. Что, малыш, набрался стариковской мудрости? Помог тебе дорогой дедушка? Верь старому пню — дольше проживешь! Когда мальчик приблизился к воротам, в душе полыхнуло желание наброситься на мерзавцев с кулаками. Выхватить у левого меч из ножен, правому наотмашь — яблоком рукояти... Увы, он знал за собой привычку: заранее представлять случившееся так ярко, что позже, когда ничего не случалось, даже обида забывала явиться следом. Будто все произошло на самом деле. Обида все-таки являлась. Завтра. Или послезавтра. Тяжелая ладонь рухнула на плечо, едва не сбив с ног.
— Муха! — ощерился стражник, дыхнув кислым перегаром чеснока. — Вот!
Чуть ли не в лицо сунулась грязная ладонь. Под средним пальцем чернела содрогающаяся лепешка. Еще можно было разглядеть изломанные лапки и крылышки.
— А ты знаешь, малыш, на что садятся мухи? — с подленьким участием осведомился второй, расчесывая на щеке комариный укус. Охране было скучно, и упускать случай поразвлечься означало гневить богов.
Переглянувшись со значением, оба заржали в голос.
Еще минуту назад мысли главного мухобойца текли с понурой ленью. Одолевала хандра. Нудная, постылая служба. Работай столбом, жарься на солнцепеке, пока не сменят — а смена часто запаздывает. Самое время набить сменщику морду, когда б не малый пустяк: у гада кулак, что твоя наковальня. Себе дороже выйдет. С напарником тоже подфартило. Вот если бы он, мухобоец, выиграл в кости три кувшина вина — непременно поделился бы. По-честному, по-братски. А не по-скотски: два с половиной самолично выдул, лишь остатки на донышке предложил. Ишь, паскуда, до сих пор икает. Хозяин еще хорош: приляжешь часок соснуть, мигом бежит, с палкой! Орет: не приведи Асклепий, околеет ваш дед, всем приапы обстригу! Ясное дело, обстрижет. Дедову смерть-то на них спишут, на женишков — уморили, дескать, голодом. А хозяева на страже отыграются. Только дед все равно со дня на день якорь отбросит, гляди не гляди. Песок из деда сыплется. Три года сыплется. И баб здесь шаром покати. Старухи колченогие. Одна радость: редко-редко в город до вечера отпустят... Хвала богам, придурок этот великовозрастный явился — есть на ком отвести душеньку!
Второй стражник вообще ни о чем не думал. Он все еще был изрядно пьян. Просто поддержал забаву.
Пунцовый от гнева и обиды, Телемах стрелой вылетел за ворота — и замер, когда гогот позади вдруг умолк с резкостью лопнувшей тетивы. Оборачиваться было стыдно, но мальчик все-таки обернулся. На стражников беззвучно скалилась клыкастая пасть, которую вдруг распахнул огромный ком рыже-седой шерсти. Обычно бесстрастный, Кошмар словно почуял: сегодня особенный день. Откуда-то донеслось ровное, жуткое сипение, невозможное для обычного пса, готового сдохнуть в любой момент. Верхняя губа натянулась, обнажая ярко-розовые десны с белым частоколом клыков, холка остро вздыбилась, как если бы из-под собачьей шкуры прорастали воины с копьями. Дряхлый пес выглядел сейчас призраком древности, хтоническим чудовищем из сказок на сон грядущий. Даже померещилось невесть что: рядом с Кошмаром, сжимая в руке обвитый змеями лук, стоит рыжий юноша, похожий на Телемаха.
Даймон побери сволочную тварь! Главный мухобоец хохотнул напоследок: вышло жалко. Скосил глаз на приятеля. И только тут заметил, что машинально шарит рукой, нащупывая прислоненный к воротной створке дротик.
Великолепный повод отыграться.
— Мухи садятся на дерьмо. А на такое дерьмо, что боится старой собаки, -даже муха не сядет. — Мальчик величественно (по крайней мере, так ему казалось) сделал пару шагов. Сел перед псом на корточки, потрепал за холку. Под рукой жарко дрожало чувство собственного достоинства.
— Пошли, Кошмар. Брось их. Пусть ворота подпирают. Ты ведь всякую пакость не ешь, правда?!
Пес остыл быстрее, чем разъярился. Зевнул, вяло дернул бесхвостой задницей. Захлопнул пасть. И, переваливаясь, потрусил вслед за мальчиком. Настроение сразу улучшилось. Ведь ни слова не посмели вдогонку крикнуть, прихвостни! Явись сюда настоящие воины, они тут все обгадятся от страха! Ладно. Скоро вечер.
Вечер особенного дня.
Обратную дорогу Телемах решил срезать. Неподалеку обнаружилась каменистая тропа, ведущая вроде бы в нужную сторону, и мальчик заторопился по ней. Да, скоро вечер. Скоро: корабль и море. Мало ли что дед говорил:
«Гостеприимство! Законы! Остальные не поддержат!..» Плевать! Выгоню всех в три шеи, стану басилеем — пускай потом кричат о законах-гостеприимстве со своих вонючих островков! Больно ударившись об острый камень, мальчик охнул и остановился. Присел, растирая ушибленный палец на левой ноге. Огляделся: места были незнакомые. Проклятая тропинка вывела Химера знает куда. Вокруг — нагромождения шершавых скал, густо облитых яичным желтком солнца. Чахлые кустики полыни и вездесущая пыль. Над головой — равнодушная синь неба.
Заблудиться на родном острове?!
Позор!
Мальчик попытался взобраться на ближайший уступ, надеясь сверху рассмотреть окрестности. Ссадил колени, ободрал правый локоть. И наконец разразился проклятиями: с уступа открывался прекрасный вид на пыль, скалы и предательницу-тропинку, исчезавшую в камнях. Выше карабкаться остерегся: свалишься — костей не соберешь. Колени ужасно жгло, когда лез обратно. В придачу томила зависть к Кошмару: пес обидно устроился в тенечке, задремав. Самым разумным было поворачивать обратно. Мальчик редко бывал в полном одиночестве; чувство особенности сегодняшнего дня испарилось, сменившись растерянностью.
Привычной, но оттого не менее горькой.
Последнее, что оставалось: упрямство. Набычившись, Телемах двинулся дальше, в глубь скал.
— Нет, никогда не бывали столь боги в любви откровенны, — запел он, приободряясь, — сколь откровенна была с Одиссеем Паллада Афина!
Эту песню на хлебоедских пирах часто пел объявившийся год назад на Итаке бродячий аэд, некий Фемий по кличке Ангел. Пьяные хлебоеды заказывали ее раз за разом, одаривая певца жареными козьими желудками и подливая вина в чашу. Разражались хохотом, видя в словах нечто крайне смешное. Ангел послушно шел на поводу у заказчиков. В сущности, аэд был славным человеком, просто в жизни ему не повезло. Скиталец; перекати-поле. Однажды мальчик подсел к бродяге, отдыхавшему после ночной попойки. «Сочини песню, — попросил он, искательно заглядывая в странные, ярко-синие глаза певца. — Песню про возвращение отца. Ты не думай, у меня есть чем заплатить...»
Ангел молчал, дергая себя за прядь волос на виске.
«Ты не думай, — повторил мальчик. — А если эти станут браниться, я вступлюсь за тебя. Все-таки я в доме хозяин...»
«Ты просто не понимаешь, хозяин, — голос аэда был сиплым после вчерашних трудов. — А я, наверное, не сумею объяснить. Возвращение твоего отца — слишком счастливый конец для сегодняшних песен. А мы живем в дрянное время. Сегодня никто не верит песням со счастливым концом. Смеются: так не бывает. Кривят носы. Плюются. Сегодня плохое завершается очень плохим, говорят они. Из двух жребиев выпадает худший, говорят они. Это — правда жизни, И незачем ее приукрашивать, искушая нас ложной надеждой. У вас есть козопас Меланфий, безнаказанный убийца. Есть его сестра Меланфо[59], сука блудливая. У нас, певцов, отныне и навеки есть меланфия, горячо любимая народом. Нынче платят за трагедии, хозяин. За все остальное в лучшем случае презирают. В худшем — бьют».
«Сочини песню, — мальчик почувствовал, что сейчас позорно расплачется. — Пожалуйста».
«Извини. Я не стану этого делать», — аэд отвернулся. Телемах смотрел на тощую спину с рядом позвонков, выпирающих рыбьей хребтиной. В сердце шевелилась тонкая игла, выточенная изо льда отчаяния. «Тогда я сам придумаю такую песню»,сказал мальчик, не веря ни единому своему слову.
Ангел пожал плечами.
СТРОФА-II Над морем встал алмазный щит...
Но что мне розовых харит
Неисчислимые услады?
Над морем встал алмазный щит
Богини воинов, Паллады.
Н. Гумилев, «Возвращение Одиссея»Кривая, говорят, выведет. Правильно говорят. Часа через полтора, когда в придачу к прочим бедам Телемах ремешком сандалии натер водянку на правой лодыжке, он неожиданно вывалился на луг. Зеленая, слегка жухлая трава пестрит лишаями проплешин. Овцы с козами трудятся: остаточки подъедают. Пастухи готовят свой немудреный обед. От костра вкусно тянет дымком, случайно затлевшим чабрецом, бараньей похлебкой, сваренной по-лаконски: с кровью, луком и уксусом.
В животе громко заурчало.
У блужданий по горам одно достоинство: жрать после хочется, спасу нет.
— Радуйся, басиленок! — От костра вскочил лохматый старик. Припадая на одну ногу, заковылял навстречу мальчику, шарахнувшемуся было прочь. Рябое лицо старика лучилось искренней радостью. На «басиленка» Телемах хотел сперва обидеться, даже накричать на грубияна, но вовремя опомнился.
«Малыш» со стороны звучит куда хуже.
— Я это, я, басиленок! — заполошно орал рябой, полагая, что Телемах может испугаться незнакомого человека. В его подозрении крылся зародыш правды, отчего кровь густо ударила в щеки. — Эвмей я!.. Не боись, басиленок!..
Ну конечно. Мама рассказывала: рябой Эвмей был приставлен к папе дядькой-телохранителем. Потом с дедом моря бороздил. Воевал. С дедом же и вернулся, калека: сперва при доме околачивался, где запомнился мальчику совершенно детскими, легкомысленными не по годам выходками, а после смерти бабушки на пастбища подался. И вот этот рябой-колченогий чудила, насквозь пропахший свиным закутом, был отцовым педагогосом[60]?
С дедом плавал бок о бок?!
Мальчик не удержался: хмыкнул. Однако Эвмей не обратил на это никакого внимания. Он действительно был рад. Ковыляя навстречу басиленку, вскользь сожалел, что нога совсем плохая стала. Вздорная. Память о стреле, вторично порвавшей искалеченные сухожилия в Фарос-ском сражении. Спасибо рыжему хозяину: свалился на флот Черной Земли, как снег на голову... Иначе кормили бы рыб на дне. Рана давно зажила, но беспрерывно ныла — не на погоду, а когда вздумается. Вот сейчас, например: солнце, жара, а она, проклятущая, свербит. Еле до басиленка дошкандыбал. Похож, ничего не скажешь. Отцова порода. Но — другой. С этим стань на бревно, подвесь козла за спину, так и толкать не придется. Сам свалится. Сам и выберется: упертый. Вон, ноги стер-посбивал, а сюда выбрел. Испортили парня бабы, вчистую испортили! Ладно, раз не сломался покамест, значит, можно выправить. У парня своя война. Как у старого Лаэрта. У басилиссы. У Эвриклеи. У него, рябого Эвмея. У маленькой армии, имя которой: «семья Одиссея». Ничего, вот вернется рыжий хозяин... Эвмей нахмурился. В сердце ожила ядовитая заноза: дернулась, обожгла. Когда он думал об Одиссее-Забытом, с рябым творились чудные вещи. Хозяин, ясное дело, давно в Аиде тенью бродит — иначе уже объявился бы на Итаке. Это понятно и дураку. Это понятно и рябому Эвмею. Он знал: хозяин не вернется. Он верил: вернется. Вера и знание разрывали душу надвое, будто бешеные кони. Больно. Очень больно. Последние годы Эвмей много пил. Филойтий-дружище бранится: что ж ты, рябой, творишь!.. Эвриклея вовсе чашу отбирает. Ладно им! Вот басиленок пришел, как тут не выпить!..
Мальчик покорно дал старику всласть обхлопать себя на радостях. Через плечо рябого Телемах разглядывал людей у костра. Сидевшую вместе с мужчинами папину няню заметил не сразу. Что няня здесь делает? Как добраться успела? Ведь утром же с ней в доме разговаривал?!
— Ноги сбил? — безошибочно определила Эвриклея, пододвигая котомку. — Давай сюда, молодой хозяин.
У меня мазь с собой, к утру пройдет. Давай, давай, снимай сандалии...
Телемах для порядку крепился, делая вид, что герою Царапины нипочем, а на самом деле с удовольствием отдался в умелые руки Эвриклеи. Рябой гостеприимен тем временем успел распорядиться зарезать барана — нарочно для басиленка. Дескать, юному гостю хорошо кушать Падо, а хорошо — значит, от пуза. Когда животное вскрикнуло под ножом, Телемах невольно вздрогнул. Следом явился стыд. Но, кажется, никто не заметил слабости наездника, а няня — не в счет. От нее все равно не укроется даже след рыбы в воде. Это двадцатилетний мальчик знал по собственному опыту.
Пока доспевало жаркое, Телемаху поднесли сырную Лепешку и деревянную чашу с вином. Вино оказалось кислым, пенистым «лягушатником», щедро разбавленным ключевой водой, но по такой жаре — в самый раз. Дар Диониса и целебные мази делали свое дело: быстро возвращалось хорошее расположение духа. В конце концов, сегодня — особенный день. Подумаешь, не на ту тропинку свернул. Подумаешь, ноги сбил. Может, оно и к лучшему: вот, на пастухов выбрел. Хлебоедов они терпеть не могут, заморышами дразнят. Интересно: заморыши — это потому что из-за моря явились, или просто сами пастухи, хоть и старые, куда как поздоровее выглядят?
Затлел, задымился былой гнев.
Сидят, понимаешь, в горах, чтобы лишний раз не кланяться. Гордые. Прятаться мы все гордые. Если сами одряхлели — дружков бы из «пенного братства» кликнули! Тоже мне, пираты, называется!.. Пираты представлялись мальчику совсем другими. Хотя он и был наслышан о прошлых подвигах дедовских пастухов, но верилось с трудом.
Сказки!
Наконец Телемаху вручили баранью ляжку, благоухающую дымом. Будущий спаситель Итаки упоенно вгрызся в мясо крепкими молодыми зубами. Молча чавкал, забрызгивая горячим жиром хитон— (няня отстирает!); даже мысли о грядущих деяниях на время вылетели из головы. Наконец, утолив первый голод и отхлебнув еще вина, блаженно откинулся назад. Привалился спиной к прогретому солнцем валуну. От жирной баранины с вином его заметно разморило. Потянуло на разговоры. Надо прощупать пастухов: поддержат? Или сочтут лучшим отсидеться, как прочие трусы, выжидая, чем дело закончится?
Начать решил издалека, как и подобает мужу, преисполненному козней различных.
— Хорошо устроились: прямо у Диониса за пазухой! Вино, жаркое... никаких тебе хлебоедов...
— Верно говоришь, басиленок, — не замедлил согласиться Эвмей, ухмыляясь счастливой, пьяненькой гримасой. — К чему им сюда таскаться?
— Вот я и говорю: хорошо устроились, — с нажимом повторил Телемах, втайне ожидавший иного ответа. — А то, что в доме творится, вам до афедрона!
Частое среди итакийской молодежи ругательство пришлось как нельзя к месту. Мальчику даже самому понравилось.
— К матушке моей домогаются, деда скоро в толос сведут. Рабыни от них ублюдков нарожали: не продохнуть!
А вы барашков лопаете. Языки чешете. Небось будь дед здоров или если бы отец вернулся...
— Почему «если бы»? — туго ворочая языком, спросил кряжистый дедуган, до сих пор мрачно молчавший.
Кажется, его звали Филойтием, хотя мальчик мог и запамятовать.
— Вы что меня, совсем за ребенка держите?! — возмущение и обида подбросили Телемаха на ноги. Он закружил, пританцовывая, вокруг пастухов; старики едва успевали выхватывать из-под ног басиленка кувшины с вином, чаши и остатки баранины, на которые мальчик в возбуждении так и норовил наступить. — Финикийцы своими глазами видели: утонул он! Три года назад!
— Это которые за «Пенелопой» гнались, да утерлись? Отряхни уши, басиленок. Финикийцы — первые врали на свете. Опять же: видели отца твоего. Потом. Сперва на Кипре, а дальше...
— Дальше?! — мальчик сорвался на крик. Осекся, устыдившись собственного порыва. — Эх вы... морские крысы! Я, его сын, не стыжусь признать вслух: с Запада не возвращаются. А вы... вы...
Телемах взглядом отыскал чашу. Схватил, залпом допил кислое вино, щедро заливая грудь. Оскомина наполнила рот вяжущим привкусом. Зря затеял... зря...
— Каждый оправдывает свою трусость, как умеет, — тихо закончил он.
— Ну, раз так, — мрачный дедуган угрюмо набычился, — научи уж нас, трусов скудоумных. Научи жизни. Раз умеешь, знаешь... раз кровь велит...
Сколько уже было говорено об этом у ночных костров! Филойтий вертел в пальцах тлеющую щепочку, не замечая ожога. Глядел на пылкого юнца снизу вверх. И пламя отражалось в усталых от жизни глазах прославленного коровника. Парень думает, нам самим не тошно в горах отсиживаться? Ночами снится: поднять заморышей на копья — и можно без сожалений уходить во мглу Аида... Уж и так, и сяк прикидывали. Верных людей по пальцам пересчитывали. Мало их, верных, каждому пальца хватило. Сперва решились было, да Лаэрт запретил строго-настрого. Против его слова не попрешь. Пробрались к нему ночью: стража ихняя — тьфу, чистое позорище! Филой-тий, будто днем меж деревьев, прошел... и на старого Пирата аккурат угодил. Спасибо Лаэрту, сразу резать не стал: нож к горлу сунул. Интересуется: кто, мол? зачем? не меня ли втихаря кончить собрался?! После уж признал знакомого, убрал резак. Крепок старик оказался. Умен по-прежнему. Никак нельзя, мол, сейчас в открытую воевать. «Пенное братство» отмалчивается, выжидает; а заморыши с законом первые друзья — не придерешься. Да и сами из «пенных», только из новых. Значит, давний приятель, «на копья» лучше во сне. Наяву не очень-то получится. Не поддержат нас.
Была поначалу надежда: Одиссей вернется. Была, да сплыла. Прав малыш: с Запада не возвращаются. А все равно верится. Как верят в богов. В удачу. И богов вроде бы особо не встречал, и с удачей нелады, а веришь. По привычке, что ли? Эвмей небось сегодня опять напьется. Плакать станет, хитон драть.
Ладно.
Послушаем, что умненький мальчик нам скажет.
— ...Гнать хлебоедов с Итаки! К Химериной матери!
— Валяй, парень. Гони. Рук хватит?
— А «пенное братство» на кой?! Пускай плывут деда выручать! Пираты вы или кто?!
— После Фароса мало на море настоящей пены осталось, — тяжко вздохнул Филойтий. — Многие серьгу из ушка-то повынули: стесняются. Да и какие мы нынче пираты? Пастухи мы. Вон, Эвмей — свинопас, я — коровник...
— Главный свинопас! — гордо уточнил уже пьяный Эвмей.
Жаль, гордость вышла тусклой. Фальшь, подделка.
— Оно и видно! — Мальчик презрительно скривился. — Ну и сидите здесь, в обнимку со своими свиньями! И без вас управа на гадов найдется.
Филойтий задумчиво поковырялся остывшей щепкой в зубах. Выковырял:
— Ну-ну, дело хорошее. И какая ж такая управа?
— А этого свинопасам знать ни к чему. — Юная гордость расправила плечи, полыхнула жаром из глубины зеленых глаз. — Вот побегут хлебоеды с Итаки, как тараканы из дому — сами увидите! А пока рано еще. Время не пришло.
Это он правильно ввернул: мол, время не пришло. Незачем старым хрычам знать, что время-то как раз пришло. Что сегодня — особенный день. Пусть думают: мальчишка бахвалится. Они увидят, они все увидят!..
— Ладно, я пошел. Радуйтесь!
— И ты будь здоров, басиленок, — хмельной прищур Эвмея делал рябое лицо старика похожим на маску. — Заходи, если что. Прости нас, грязных, да только сначала б ты с дедом потолковал, а?
— Толковал уже, — само вырвалось у Телемаха, и мальчик прикусил язык.
— И что дед? — не отставал колченогий прилипала.
— Мои с дедом разговоры не для пастушьих ушей, — выкрутился Телемах. — Все, хватит болтать.
— Погоди, проводят тебя. Заблудишься еще в наших горах...
Мальчик презрительно фыркнул, однако подождать соизволил: возможность новых скитаний отнюдь не прельщала. Когда Телемах с проводником скрылись за утесами, глядевшая им вслед Эвриклея обернулась к свинопасу с коровником.
— Убедились?!
— Ну-ну, — по своему обыкновению, хмуро кивнул Филойтий.
Эвмей отмолчался, поудобнее укладывая искалеченную ногу.
— Жалко, — в пустоту сказала старая няня. — Жалко, если пропадет. Хороший ведь мальчик... похожий...
%%%
Покрывало сумерек окутало Итаку. Сквозь прорехи замигали первые звезды. Тени сгущались, из лиловых постепенно делаясь смоляными, но это пустяки: вот-вот взойдет Луна-Селена. Сразу посветлеет. В надвигающейся тьме мальчик пробирался к берегу, оскальзываясь на покатых валунах и браня самого себя, что не выбрался к месту встречи пораньше: все равно бы никто не заметил! А в этой темени, того и гляди, ноги себе переломаешь. Тайник отыскался с трудом. В нише между камней лежал кожаный мешок с припасами в дорогу: полкруга сыра, бурдюк с вином, ломтики копченой козлятины. Еще пара лепешек, нож (жаль, острие сломано...) и кое-какая мелочь.
Пробовал стащить меч: не удалось.
К вечеру заметно похолодало. Ежась, Телемах подумал, что шерстяной фарос совсем не помешал бы. Но взять верхнюю одежду он не догадался. Не возвращаться же домой из-за теплого, плаща?! До Безымянной, где ждал корабль, отсюда рукой подать. Если бы не эти проклятые валуны! Здесь, у самого берега, они были изрядно мокрыми, так что удержаться на них не было совершенно никакой возможности. Наконец под ногами зашуршала крупная галька. Идти сразу стало легче, и мальчик прибавил шагу. Впереди мелькнул свет. Телемах быстро шарахнулся в сторону, к скалам: неужели хлебоеды пронюхали об их затее?!
— ...Фалета еще нет. И Анаксимена. И Телемаха. И... — послышалось из светового пятна. Мальчик вздохнул с облегчением, узнав голос Эфиальта, сына папиного друга Эврилоха.
Свои!
А вот за то, что факел зажгли...
— Совсем ума лишились, гарпии вас раздери?! — вместо приветствия зашипел Телемах на приятелей, вываливаясь из мрака Лернейской гидрой. — Гаси немедленно! Заметят!
— Так темно же! Самим ничего не видно, — в голос отозвался кто-то.
— Я тебе покажу «не видно»! Зато тебя, дурака, за десять стадий видно! И слышно!
Мальчик вырвал факел у товарища. Размахнувшись, швырнул в воду. Пламя быстрым движением воришки выхватило из темноты борт гиппагоги, на которой предстояло плыть, отразилось в глянцевой черноте свежей смолы — и факел ухнул в прибой, мгновенно погаснув. «Хорошо, что в корабль ненароком не попал! — с запозданием дошло до Телемаха. — Еще поджег бы!»
— Луна выйдет, развиднеется, — сурово бросил он притихшей команде, скрывая оторопь испуга. — прямиком к хлебоедам в лапы захотели? Друзья пристыженно молчали.
Или
— Ну ладно, все в сборе? — смягчился Телемах. — Я слышал, Фалета с Анаксимеиом нет. Вы так орали, что и глухой бы услышал. Остальные — все?
— Еще Ктесикла нету...
— Испугались небось, — насмешливо протянул Телемах, хотя внутри все сжалось. Трусы вполне способны на предательство. Афина Паллада, молю тебя: пускай нам дадут спокойно отплыть! Оглянись, великая... — Ничего, главное: Пирей с нами. Ты здесь, Пирей?
— Д-да... — Парнишка возник рядом, словно из-под земли. Ростом он был на голову ниже Телемаха, и в плечах поуже, и младше на два года — зато, в отличие от остальных, трижды или четырежды плавал со своим дядей на соседние острова. Даже пару раз держал в руках рулевое весло.
— Хвала богам! Молодец, Пирей, не чета всяким трусишкам. Ну что, корабль на воду? — и, подавая другим пример, Телемах направился к черневшему рядом силуэту гиппагоги.
Пирей поспешил следом.
«И зачем я согласился? — думал самозванный кормчий, вместе с остальными упираясь в липкий борт и налегая на тяжеленную гиппагогу изо всех своих невеликих сил. — Я ведь и руль-то под дядиным надзором держал. Подлая штуковина. Так это еще ветер попутный был, и море спокойное. А вдруг шторм?! Ой, мамочки!..» Пирею было страшно. Наверное, он лучше прочих понимал, в какую гадость ввязывается. Потому что ощутил на собственной шкуре, что это значит: от горизонта до горизонта сплошная вода, и нигде — ни клочка суши! Пучина. Бездонная, равнодушная. Широкая зыбь качает в недобрых ладонях скорлупку корабля, и усилия моряков кажутся смехотворными по сравнению с мощью стихии. Недаром говорят: «Есть живые, есть мертвые, и есть те, кто плы-зет по морю». Даже хорошие, проверенные суда (не чета кургузой гиппагоге!) с видавшей виды командой (не чета мальчишкам с Итаки!), случается, пропадают без вести. Что уж говорить об их безумной затее? Ведь он, Пирей, нигде дальше Дулихия не бывал. А тут — шутка ли: до самого Пилоса плыть, к басилею Нестору!-Ну, в Спарту, к Менелаю Атриду, оттуда и по суше можно, но Пилос...
Для Пирея это был другой край света. Немыслимая даль. Как доплыть? Не сбиться с курса? Что делать, налети шторм или хлебоедские сторожевики?! Парнишке хотелось жить. Очень. Самое лучшее сейчас: потихоньку отойти в сторону и дать деру. В темноте, пока луна медлит взойти, его сразу не хватятся. А потом... Потом будет поздно. Но больше подстерегающих в море опасностей, больше ужасной смерти в пучине Пирей боялся, что Телемах назовет его трусом. Как презрительно, между делом, назвал трусами бывших приятелей, кто обещал — и не пришел сегодня на берег Безымянной. Хуже того: его сочтут предателем!
Лучше — смерть...
Корабль качался, скрипел, но меньше всего спешил поддаваться. Мальчишки по уши вымазались в смоле, вспотели — без толку. Дело застряло. Гиппагога упрямо оставалась на прежнем месте.
— Давайте передохнем! — предложил запыхавшийся толстяк Клисфен, хватая ртом воздух.
— Ладно, — неохотно согласился Телемах, и трусишка Пирей молча взмолился богам: не дайте нам спустить корабль на воду! Смилуйтесь! Тогда и живы останемся, и его, Пирея, никто трусом не назовет! Ведь сделал, что мог... честно...
— Сыновья ослоголовой черепахи! — вдруг заорал Телемах, разом забыв, где находится и от кого скрывается. — Слепые болваны! Вы ж подпорки не вытащили! Так его год толкать можно!
Ну почему бы этому неугомонному Телемаху не посидеть вместе со всеми, не передохнуть? Нет же, полез смотреть, в чем дело. Теперь все. Конец. Волей-неволей придется плыть навстречу верной погибели! Только остальные ничегошеньки не понимают, а он, Пирей, — понимает. И от понимания во рту скапливается вязкая слюна, а пот льется со лба ручьем...
— Отдохните, придурки. Я подпорки убрал, теперь легко пойдет.
— А как мы заставы обойдем? — опять влез толстяк Клисфен и, не дожидаясь ответа, смачно зачавкал. У Пирея, который не успел толком поужинать, сбегая из дому, слюнки потекли. Зря он забросил дорожный мешок на гиппагогу — ищи его теперь в эдакой темнотище!
— А вот у Пирея спроси. Кормчий все знать должен! — беззаботно отозвался кто-то.
— Я-я рулить могу! — растерялся Пирей. — Рулить! А заставы вы сами...
— Ерунда! Раз плюнуть! — заявил всезнайка-Эфиальт. — Я проведу. Стану рядом с Пиреем, он будет рулить, а я — командовать, куда плыть.
— Лучше заранее скажи: куда. Пока время есть, — резонно предложил Телемах.
— Пусть Пирей приготовится.
— Да ну вас! Значит, так: выходим из Безымянной — и направо. К западу, в смысле... то есть, к северу. Ну, направо, и все тут! Там островишко есть, махонький, за ним как раз первая застава караулит. Надо между этим островишкой и берегом прошмыгнуть. Скалы нас от заставы укроют, никто и не увидит!
— Это точно! — вдруг сообщил корабль противным, сварливым басом. — Рифы там, дубина. На дно пойдете, там вас точно никто не увидит. Во веки веков.
— То-то заморышам радость! — поддержал корабельную брань ближний утес. — Вы бы, герои, хоть караул выставили, что ли? Или песню затянули, для пущей слышимости!
В следующий миг произошли сразу два небольших, но существенных события. Во-первых, в ладонь Телемаху ткнулся холодный мокрый нос, и что-то большое, но явно настроенное дружелюбно, потерлось об мальчика лохматым боком, едва не сбив с ног в воду.
— Кошмар! — счастливо ахнул Телемах. — Хороший, хороший пес... нашел меня, умница...
Рядом со зверюгой он чувствовал себя увереннее. А во-вторых, из-за туч, разбросав их в стороны, как опытный борец расшвыривает противников, наконец вырвалась пленница-луна. Серебряным диском, брошенным в небеса титаном-дискоболом, повисла над вершиной Кораксова утеса, заливая мир ледяным сиянием. Сразу на берегу, кроме полутора десятков юнцов, сплошь яеремазанных смолой, обнаружилось еще столько же да-шних пастухов... Да каких там пастухов! Коровники и свинопасы разительно преобразились: вместо вонючих ур и драных хитонов на всех красовались добротные хламиды из шерсти, из-под плащей выглядывали кожаные панцири, отсвечивая бронзой блях. На поясе у каждого висело оружие: секира, короткий меч-ксифос, кривой, жутковатого вида тесак...
— Мы тут подумали, и я решил, — рябой Эвмей выступил вперед, хромая как-то странно; вернее, почти не хромая. — Лучше в море сдохну, чем в кустах. В Пилос, надо полагать, за подмогой? А откажет хитрюга Нестор — значит, дорога в Спарту, к Менелаю?!
— Откуда...
— Оттуда. Вот, держи: няня передала, — рябой протянул Телемаху тугой узел.
— Одежонка всякая. Венец ба-силейский тоже там. Чтоб не стыдно было к отцовым соратникам явиться. Бери, бери, басиленок... жалко, эфиоп наш потонул — вот кто пригодился бы!..
— А ну-ка, навались! — уже командовал разом помолодевший Филойтий, и корабль, испуганный зловещим шепотом коровника, с плеском скользнул в воду. — На борт! Живее!..
В этот миг мальчик вдруг почувствовал себя юным предводителем, ведущим в бой малочисленное, но сплоченное войско. Наконечником копья богини воинов, путеводным маяком светила луна над вершиной Кораксова утеса, освещая путь неуклюжей гиппагоге, разворачивающейся в Безымянной бухте. И алмазный щит вставал над морем.
Телемах, сын Одиссея, уходил за помощью.
АНТИСТРОФА-II
Песня черного цвета
— Повесить! Повесить мерзавца!
— Как допустили?!
— А это ты! Ты во всем виноват! Кто говорил: куда он денется?!
— Не давал я ему! Он сам взял!
— Повесить!
Стоя поодаль, со скрещенными на груди руками, козопас Меланфий без интереса наблюдал за владельцем злосчастной гиппагоги. Брошенный в пыль, тот бил поклон за поклоном, слизывая кровь с рассеченной губы. Клялся, что пострадал больше прочих: ему, понимаешь, надо плыть в Элиду, где ждет табун лошаков, а судно увели из-под носа. Врет лошадник. Явно дал корабль доброй волей, уступив нажиму, а теперь выкручивается. Впрочем, червь под лопатой тоже хочет жить, и каждый извивается, как умеет. Меланфий чуял: случай подсовывает ему верную прибыль, только надо не торопиться хватать. Взвесить, подсчитать. Назвать барыш по имени. Те, кто плавал с Меланфием на охотничьей «козе», кто врывался бок о бок с ним на борт торговых эйкосор, конечно же, узнали бы потаенный, темный блеск в глазах козопаса, по заслугам прозванного Черноцветом. Такой огонь всегда загорался в его взгляде за миг до буйства резни. Но здесь не было людей, способных смотреть и узнавать. Так, шелуха.
— Где веревка?!
— Повесить!
Это Красавчик. Разоряется громче всех. Самое забавное, что вешать владельца гиппагоги он и не собирается. Редкий случай: сообразительность при смазливой мордашке. Понимает: казни гость местного, и опереться на Итаке станет не на кого. Оттого и кричит. Злость выгоняет. Имена всей этой шелухи, протирающей задницы на чужих лавках в ожидании решения стервы-вдовы, Меланфий запомнить не мог. Да и не старался. В лицо звал одинаково: «господин мой». За глаза: собачьими кличками. Красавчик, Верзила, Мямля, Богатей...
А ведь если долго орать: «Повесить!» — могут и сорваться. В едином порыве. Совершенно некстати выйдет.
Позже каяться начнут, валить друг на друга («Ты первый! нет, ты!..»), да поздно.
Надо еще чуток обождать. Пусть испугаются как следует.
— ...помощь! Подмогу приведет!
— Пилосцы! Спартанцы! Друзья покойного отца!
— К оружию!
Ага, к оружию. Все-таки щенок молодец. Ишь, какую занозу сунул шелухе под хитон. Запрыгали. Меланфий ожидал от щенка чего-то подобного, ожидал со дня на День, но искренне полагал: сынок стервы-вдовы напорется на первую же заставу. Притащат скрученного, в соплях; выпорют кожаным ремнем. Его, Меланфия, похвалят: славно закрыл пути с острова! Птица не пролетит! Прыткий щенок оказался... Как и проскользнул-то? Сейчас кто-нибудь вспомнит о козопасе: в пыль носом не сунут, побоятся, зато развоняются на весь двор...
Пора.
Пока страх хмелем бродит в их жилах.
Прежде чем вмешаться, Меланфий подумал: наше время — время толпы. Эпоха стада. Вместе на пастбище, вместе в загон; вместе под нож или к обрыву. Думают, будто ведет вожак, свой, единокровный, а на самом-то деле ведет пес. Лохматая овчарка, большую часть дня валяющаяся на солнышке. Рыкнет исподтишка, стадо и повернет. Главное: знать, когда и как рыкнуть. Можете потом презирать овчарку, сколько душе угодно: ни сала в ней, бедолаге, ни курдюка, ни шерсти драгоценной... Одни зубы да глотка.
И своя шелудивая сука псу дороже вашей самой жирной овцы.
Если, конечно, вы понимаете, о чем речь.
— Господа мои! К чему бить невиновного? К чему суетиться, теряя лицо?!
При желании козопас умел говорить достойным слогом.
Первым затих Мямля. Пнул напоследок владельца гиппагоги. Стал тщательно вытирать подошву сандалии о землю. Будто в дерьме изгваздался. А глазищи зыркают из-под бровей: что? где? как?! Следом очнулся Верзила, за ним Гугнивый. Надменный Богатей оправил шитую золотом хламиду, проследив, дабы свинцовые шарики оттягивали подол как надо, красивыми складками. Козопас ждал. Сейчас повернется Красавчик, примерив на правильное лицо статуи нужную гримасу, и можно будет начинать. Остальные не в счет. А ведь какие были поначалу. Первые: двое, пятеро... десять. Тихие, ласковые. Тряпками стелились. Зато нынче, когда волны слились в море, а люди в толпу — совсем другое дело. Это не стерва-вдова со своим впавшим в детство свекром тянет время. Это она, шелуха, его тянет. Как девка-недавалка: и хочется, и колется. Выбери стерва кого-то одного, остальным ведь решать придется: резать счастливчика? Принять? Как дальше пену делить станем?!
Сизифов камень: решать... Тянешь в гору, а он — вниз. Иногда Меланфию казалось: остановись на Итаке вечный ход дней, воцарись навеки ревнивое настоящее, прикончив единоутробных братьев — будущее с прошлым, — и шелуха будет счастлива. Оказавшись между небом и землей, где можно наслаждаться видимостью жизни, как тени в Эребе наслаждаются глотком жертвенной крови, прежде чем опять рухнуть в беспамятство. Он, козопас Меланфий, — другое дело.
— Суетиться?! Завтра щенок приведет пилосцев!
— Господа мои! Ваша прозорливость шире морского простора...
Так надо. С легкой горчинкой издевки. Пусть поймут: это они прозевали щенка. Они.
Пусть смолчат и утрутся.
— ....но юный наследник провел вас всех. Главное: в нужный миг назвать вещи своими именами. Не щенок, а юный наследник. Не нас всех, а вас всех. Овчарка должна уметь рычать тихо и внятно. Хорошо, что безобразие творится на заднем дворе. Отсюда ничего не слышно в гинекее. Не хватало, чтобы всполошилась стерва-вдова. Прибежит, станет верещать. Шелуха от ее вида дуреет.
Рычи тогда, не рычи...
— Впрочем, боги милостивы: старый пердун Нестор, возлюбив сына пуще отца, расщедрился на целую армию.. Вся она умещается в ларе средних размеров: яростные кубки, страшные в бою хитоны, золотой колокольчик, чей звон рушит стены... О да, пилосский затворник оказался щедр. Он даже пообещал юному наследнику в жены свою младшую дочурку. В знак уважения к прославленному палаше юного наследника. Правда, свадьбы не было. И обручения не было. Было только обещание, но всем известно: слово Нестора тверже синего железа...
Красавчик хихикнул. Закрыл рот рукой, словно боясь испортить свою несравненную прелесть, но не удержался и хихикнул еще раз. Заржал Верзила, Тоненько заперхал, закудахтал Мямля. Басом расхохотался Богатей. И пошло-поехало: хватались за животы, утирали слезы.
Слово Нестора.
О да: слово старого пердуна Нестора.. Лучше не скажешь.
Меланфий терпеливо ждал.
— Откуда сведения? — отсмеявшись, спросил Красавчик, напуская на себя строгий вид. — Верные ли?
Козопас развел руками. В этом движении было все: гонец из Пилоса, вчера причаливший к Астер-острову (хитрюга Нестор перестраховался, якобы невзначай доложив о почетных гостях!), отправленный в Пилосскую гавань лазутчик, со строгим приказом докладывать о дальнейших похождениях щенка, и самое главное — о часе его отплытия домой. Странно: иногда можно весьма многозначительно развести руками.
Шелухе понравилось.
— А Спарта? — заикнулся Мямля. Брови сдвинулись. Лица потемнели. Призрак воинственных спартанцев бродил по заднему двору, ухмыляясь.
— Господа мои! Кому, как не вам, известно: по возвращении из плена басилей Менелай пребывает в блаженном дурмане. Красавица Елена за обедом подливает великому герою настой, подаренный лекарями Черной Земли, и оба предаются воспоминаниям вместо утех любви. Надеюсь, юный наследник обретет в Спарте второй ларь с подарками. Возможно, даже вторую невесту. Но гиппагога — плохое судно для таких обильных даров. Не лучше ли встретить юного наследника на полпути, в море, прежде чем — упаси боги! — его тяжко груженный корабль пойдет на дно?!
А вот теперь надо замолчать. Обождать. Пусть толпа качнется раз, другой. Пусть привыкнут. Поймут намек, сочтут его своим, выстраданным. Только что придуманным. Меланфий знал, что ходит босиком по лезвию ножа, и знание горячило душу чище прамнейского вина. Только так и стоит жить. Вчера он целый вечер разговаривал с бродячим аэдом по прозвищу Ангел. О богах. Знаешь, сказал козопас аэду, временами мне думается: эти напыщенные зазнайки, запрудившие Итаку, и впрямь богоравны. Толпа. Стадо. Слишком много, чтобы принимать решения; слишком много, чтобы управлять в действительности. Я способен поверить в одного, пусть даже тенью стоящего за шумным стадом. Но поверить во всемогущую толпу выше моих скромных сил. Толпа годна лишь для того, чтобы перед грабежом сгонять ее на кормовую полупалубу. Сам видишь: когда нужно выбрать одного, все топчутся на месте. Шелуха, стерва-вдова, зажившийся старик, «пенные братья»... малый Олимп.
Мы, умные люди, должны быть подобны игрокам в петтею-полис[61]: жертвовать с единственной целью — победить. Это значит: жертвовать самому себе. Все остальные жертвы бессмысленны.
«Ты не веришь в богов?» — весело спросил аэд.
«Не знаю, — ответил Меланфий. — Наверное, нет». «Я тоже», — кивнул Ангел.
%%%
Этот пустынный островок, глупо торчавший из моря в самом, казалось бы, неподходящем месте, моряки прозвали без затей: Утес. Утес и есть. Голый, скалистый, никому даром не нужный. Ни пресной воды, ни зелени — даже птицы гнездиться отказываются. А вот сейчас пригодился.
Уже смеркалось, когда дозорный с вершины Утеса подал сигнал: есть!
Корабль шел именно оттуда, откуда и ожидалось: с юго-востока, от Пилоса. Слушаясь приказа, дипрора Ме-ланфия слегка выдвинулась из-за островка, оставаясь в тени Утеса. Так легче следить за приближающейся посудиной. Саму дипрору, чей хищный силуэт в густых сумерках сливался с Утесом, разглядеть мог только легендарный Линкей-остроглаз, но он давно помер. Еще два своих корабля — легкие на погоню «вепри» — Меланфий оставил под защитой скал. Мало ли с какой стороны придется отрезать путь гостю!
Собственно, ни корабли, ни их команды сметливому козопасу не принадлежали. Но за последнее время он привык считать «козу»-дипрору, а также одного из «вепрей» своими. Надо сказать, не без некоторых на то оснований. «Пенные братья» с этих кораблей успели смекнуть: откуда жареным пахнет, и хмельным подпахивает. Шелуха — она шелуха и есть: рано или поздно сдует ветром — что останется? Ну, тот счастливчик, который стерву-вдову поимеет, останется. Наверное. А Меланфий останется точно, кому бы сомнительное счастьишко ни подвалило. Разметет шелуху по родным островам, и забудут все про женишков-неудачников. Зато брат-Черноцвет «пенное» дело крепко разумеет. В крови, ежели что, замараться не поосится — по уши замаран. Серьезный человек. Хватка у него ...
Вот такие, значит, основания.
На сей раз шелухе хватило намека. Конечно, добрый час на споры им все-таки понадобился. И даже под конец этого часа Мямля, забившись в дальний угол мегаро-на, куда перешли обсуждать дело, все еще испуганно повторял: «А может, не надо? Может, зря мы? Может...» Но в конце концов махнул рукой: «А-а, ладно! Чему быть, того не миновать. Мать Ананка, она все спишет!»
Роль Ананки-Неотвратимости Меланфию понравилась.
Корабли снарядили быстро. Легкое суденышко под командой приятеля Ликурга козопас отправил в Пилос еще загодя, едва узнал о бегстве мальчишки. Гонцы от Нестора — дело хорошее, но мало ли что треснет в башку ушлому старцу? Свои глаза и уши — надежнее. Жаль, шелуха вдруг проявила неприятно удивившую Меланфия осторожность, навязав соглядатаев. Второго «вепря» с командой головорезов. Будто козопас и так не справился бы! С беглыми мальчишками-то?! Ясное дело: не доверяют. В общем, правильно делают, да только «вепрь» тот Меланфию — кость в горле. Лишние глаза; лишние языки. Значит, придется все по уговору творить. Ну да ладно. Ночь впереди длинная, трижды отмерим, прежде чем резать. Ох, резать...
«Что-то быстро идет. Не похоже на гиппагогу... и силуэт другой! — прервал свои размышления козопас, до рези в глазах вглядываясь в сумрак моря. — Э-э, да это никак Ликург из Пилоса возвращается! Вон как спешит! Небось с новостями...»
Новости действительно были. Гиппагога вышла из пилосского порта. На борту — около тридцати человек, мальчишки и старики. Никакой военной помощи. Никакого сопровождения. Пилос и Спарта вежливо отказали сыну Одиссея. Меланфий довольно ухмыльнулся в густую, жесткую бороду. Он был прав. Сейчас время толпы. Одиночкам рассчитывать не на что: память о сгинувшем невесть где отце мало способна помочь сыну.
— Будут здесь перед рассветом, — бросил в конце Ликург.
Продолжая ухмыляться, Меланфий кивнул. Ликургу он верил. Да и намерения щенка просты: в предрассветной мгле проскочить мимо застав. Причалить к берегу где-нибудь в Ретре или Безымянной. В крайнем случае, если не сложится — с рассветом оказаться на виду у всего острова: в открытую, при многочисленных свидетелях атаковать корабль Телемаха — безумие.
Что ж, мальчишки оказались изрядными прохвостами. Или их такими сделали старики, которых Меланфий давно не брал в расчет, — и, как вышло, зря. Впрочем, какая теперь разница? Щенячья затея провалилась с треском, а перед рассветом гиппагогу встретит некий козопас с тремя боевыми кораблями.
%%%
Ночь тянулась мокрой сыромятью; казалось, утро помирает от лихорадки, забыв наступить. Небо заволокло тучами, розовоперстая Эос зябко куталась в меховую накидку, чихая спросонья. Меланфий начал всерьез опасаться: как бы не проморгать гиппагогу в кромешном мраке, свалившемся на море. По его приказу корабли выдвинулись из-за Утеса, разворачиваясь широким треугольником. Все огни были погашены, над водой повисла душная предгрозовая тишина, нарушаемая лишь глухим, едва слышным плеском волн о борта. Дозорные сменялись каждый час, на вершине Утеса дежурила самая глазастая и ушастая троица.
И все равно на душе скреблись хорьки. Щенок должен бесследно исчезнуть. Вместе с неуклюжей гиппагогой, которую язык не поворачивался назвать «кораблем»; вместе с ее командой. Удача дважды не задирает хитон. А так: сгинули в море на обратном пути из Пилоса. Бывает. Подозрения разбегутся стаей бродячих собак, да и сдохнут от голода: все доказательства — на Дне. Свекор стервы-вдовы тогда отправится в Эреб по впол-н понятной причине: больной дед не пережил смерти единственного внука. Прижмут стерву-вдову к стеночке — справит траур и выберет кого-нибудь.
Гладко складывается. Меланфия, ясное дело, не забудут. А забудут — он напомнит. Без стеснений. Меньше чем серебряной серьгой и долей в «пенном сборе» не отделаются. Славно выходит. Вкусно. Сытно. Одна беда возьмешь часть, а хочется целого. Живой-то щенок мо— жет оказаться куда полезней мертвого. Отослать сопляка к Гадесу никогда не поздно. А если намекнуть стерве-вдове, что ее ненаглядный сынок жив? — и окажись стерва сговорчивой...
Куда ей деваться?!
Он, козопас Меланфий — герой и спаситель юного Телемаха, — становится избранником стервы-вдовы! О, он сумеет поведать, как обманом вызнал подлый замысел шелухи. Как, рискуя собой, вышел наперерез кораблю убийц! Пустил его на дно! Прятал спасенного щенка v собственного сердца, молоком с пальца выкармливал...
Меланфий облизал губы. Да, красиво. Выйти, назвать убийц поименно. Вслух. Щенок, не будь дурак, подтвердит. И его люди подтвердят. Тогда — все. Покушение на непостриженного наследника. Скверна без очищения Ни одному живым не уйти! Он, Меланфий, лично поза— ботится: чтоб никто. Оставшиеся люди Лаэрта помогут-им бы только повод найти. А тут — всем поводам повод. И некий Меланфий возглавит «пенное братство», одним махом убрав преграды!
Более того: его примут с радостью!
Когда в своих размышлениях он доходил до этого места, у козопаса всякий раз перехватывало дух от собственной наглости. Но, знаете: либо пан, либо пропал! Или лучше просто, по-тихому, пустить лошадиное корыто на дно — и не ловить Пегаса в небе?
Впервые Меланфий затруднялся сделать выбор.
...Мрак светлел медленно, с неохотой. Превращался в монотонно-серую туманную мглу.
— Корабль слева по носу!..
Меланфий мигом встряхнулся. Плеснул в лицо воды из большого приземистого пифоса, закрепленного у борта, протер красные от бессонницы глаза.
Вгляделся.
На первый взгляд мгла слева по носу была точно такой же, как и справа да и вообще с любой стороны. Но это только на первый взгляд. Окончательно проморгавшись, Меланфий различил темное пятно, выползавшее из сть лои пелены. Вскоре сомнений не осталось — беглая гиппагога шла прямиком в расставленную ловушку
— Зажигай огни! Быстрее, ротозеи! Отсекаем с севера и юго-востока...
С гиппагоги их наконец заметили. Послышались крики, приказы кормчего, но было поздно: медлительной посудине не уйти от быстроходных «вепрей» и «козы». Туман быстро редел, и скрыться в нем также не представлялось возможным. Дипрора подошла первой: скользнула впритирку, борт к борту, заставляя гребцов на гиппагоге поднять весла вверх. Кто-то замешкался, и крайнее весло с треском сломалось. Люди Меланфия, хорошо знавшие свое дело, уже перекидывали на гиппагогу деревянные мостки с крючьями, намертво скрепляя два корабля. На «вепрях» замешкались, и козопас успел подумать: начнись заваруха, пусть первыми в драку лезут людишки шелухи. К чему зря своих-то гробить? А он еще посмотрит, кого на дно пускать. Если мальчишки со стариками окажутся сговорчивы...
Он так и не принял окончательного решения.
Оставалось положиться на чутье, редко подводившее Меланфия.
Козопас застегнул пряжку пояса, к которому были заранее привешены ножны с мечом. Мигнул двоим, кому доверял больше других, — и шагнул на скользкие от росы мостки. Все шло чудесно: выследили, взяли... Лишь два Досадных момента слегка портили настроение: до сих пор не принятое решение и... новые сандалии. Дернуло же перед отплытием нацепить эту обнову! Тогда, в горячке сборов, прохлопал ушами, что сандалии явно великоваты. Сзади едва ли не на три пальца отстают. Ходи теперь уткой, шлепай! Людям на смех. Подобные мелочи Иногда способны изрядно досадить. Ну ничего, пусть ^о-нибудь посмеет засмеяться!
Да и не до смеху им сейчас...
Они сгрудились вокруг щенка: старики, сопляки и беззвучно скалящийся Кошмар. Нет, не сгрудились! Встали!. Заслонили. Меланфий скорее ощутил, чем разглядел: перед ним — отнюдь не кучка перепуганной швали. Конечно, им было страшно. Умирать страшно всем. Даже маленькой армии, стоявшей перед козопасом. Медный блеск старческих доспехов. Ножи в руках сопляков. Но главное было не это. Главным был — взгляд. Один взгляд на всех, и сразу становилось ясно: договориться не удастся. Ну что ж...
%%%
...Оказывается, умирать вовсе не страшно. Умирать скучно. Это удивительная скука: родная, холодная, будто рука матери на пылающем лбу больного сына. Когда впереди, во мраке, вдруг тускло загорелись огни, и из редеющей мглы вынырнули сперва два остроносых корабля, а следом и третий, Эвмей выдал такое ругательство, что мальчик покраснел. Рябой подмигнул и, деловито оправив кожаный панцирь, протянул Телемаху меч рукоятью вперед:
— Держи, басиленок. Только на рожон зря не лезь. Без тебя отобьемся.
Оба прекрасно понимали: рябой врет. Во благо. Но тем не менее мальчик молча, с благодарностью за ободряющую ложь, кивнул. Зачем-то извлек басилейский венец. Надел. Обруч сползал на уши; но какое это теперь имело значение? Впереди уже стояли Эвмей с Филойти-ем, по бокам — другие старики; молодежь, вооруженную чем попало, оттеснили назад. Нет, умирать не страшно. Шаг, другой, ты переступаешь черту, и дальше становится все равно: жизнь или смерть.
Пора подводить итоги.
Впервые в жизни мальчик решился на поступок, достойный мужчины. Да, у него не получилось — но делай, что должен, и будь что будет. Может быть, удастся взять за себя хоть какую-то цену: на великую прибыль он не рассчитывал. Прости меня, мама. Прощай, дед. Выздоравливай скорей, ладно? Вы уж как-нибудь там сами, без меня... Понимаете, меня ждет отец в темных чертогах Аида. Телемах, сын Одиссея, без стыда взглянет в глаза Одиссею, сыну Лаэрта. И пустяки, что мальчик так и не успел пройти обряд пострижения.
Павшие в бою — взрослые.
Телемах невольно взглянул на Запад, куда уплыл отец.
Откуда не возвращаются. На смутную дорогу, ожидавшую его самого.
С Запада наползал туман. Подумалось невпопад: такой туман бывает над морем любви, засыпаемым песком скуки, когда ребенок у предела не знает, смеяться ему или плакать. Мысль была чудовищно нелепой, как и этот странный туман. Дело было даже не в том, что туман забыл разлиться над волнами равномерной молочной пеленой: он тек седыми прядями, свивался кольцами, клубился — на мгновение образуя жутковатые фигуры драконов с оскаленными пастями, принимая вид обнаженных женщин с птичьими ногами, призывно тянущих к мальчику руки, создавая чудо и превращая его в чудовище. Впрочем, мало ли какая дичь пригрезится в подступающем тумане, особенно если жить тебе осталось — всего ничего? И время ли удивляться, если из глубины тумана доносятся приглушенные крики птиц, плеск волн, отдаленное, едва слышное завораживающее пение?
Дело в другом: на востоке уже поднимался розовый спросонья Гелиос. Но туман и не думал рассеиваться. Наоборот, становился гуще, подступая к сцепившимся бортами кораблям. Мальчик укорил себя за дурацкие мысли. Упади туман раньше, можно было бы попробовать скрыться в нем. Затеряться. А теперь — чего уж...
— Ну, как успехи? Вижу, большую армию привели! — Перед ними стоял, насмешливо щурясь, козопас Мелан-фий: главный прихвостень хлебоедов. Этого следовало ожидать. О Меланфии всякое говаривали. За спиной предателя топтались еще двое, а справа по борту ждали вражеские корабли, готовясь забросать копьями маленькую армию.
— Заткни пасть. Черный! — с опасной ленцой процедил рябой Эвмей, припадая на искалеченную ногу, а на самом деле придвигаясь ближе к мальчику. — Или сын басилиссы перед тобой отчет держать должен?
— Эх, рябой! Вечно ты башкой в пифос лезешь! — как от зубной боли, скривился козопас. — Тоже удумали: на эдаком корыте мальца катать! Потонете ненароком: дед кедь не переживет! А матери каково будет? Нет уж, давайте его нам. Доставим в целости и сохранности. А сами Добирайтесь, как хотите. Вернетесь — ваше счастье, на дно пойдете — тоже беда не велика. Даром губить мальца не позволю.
В черной бороде козопаса путалась гулящая ухмылка.
— Я пойду, — шепнул Телемах на ухо Филойтию. — Им только я нужен. Может, вас отпустят...
— Дурень! — горячий, злой шепот коровника ожег ухо. — Зачем им лишние языки? Не спеши в Аид, успеется. Вместе пойдем.
— Ты сколько лет в море. Черный? — хитро сощурился меж тем Эвмей.
— Достаточно. Восемь, — пожал плечами козопас, ища скрытый подвох. Неприятно раздражал боевой запон, надетый рябым. Особенно пояс: бронзовый, из колец и цепей, искусно переплетенных меж собой. Большой цены штука. Сейчас таких не достать. В юности Меланфий мечтал о таком запоне, однажды чуть было не заполучил, только по жребию броня досталась кормчему.
Ишь, колченогий... где и хранил-то? В свинячьем закуте?!
— А я с младых ногтей. Со счета сбился. Полвека?
Больше?! Так кто из нас скорее басиленка на Итаку доставит — ты или я?
Меланфий почувствовал: кровь бросилась ему в глаза. Это другим дура-кровь бросается в щеки, бьет в голову или проваливается в пятки вместе с сердцем. Людям без предрассудков кровь нужна во взгляде, чтобы мир оказался залитым багрово-красным. Чтобы правильно видеть и не содрогнуться, когда правда жизни из взгляда плеснет наружу, воцаряясь. Вот: острое, близкое к экстазу ощущение, которое ты не способен увидеть, но так еще лучше — белки трескаются сетью красивых, алых прожилок, и зрачки тонут в жаркой купели, будто солнце на закате опускается в священный пурпур волн.
Если бы решение было принято заранее!
Если бы не шаткий миг колебания!..
Сощурившись, Меланфий презрительно сплюнул под ноги рябому калеке:
— Да хоть век в море торчи, развалина! Уйди с глаз моих!
— Стервец ты, мил-человек, — тянул время Эвмей. Знал: безнадежно. Перед смертью не надышишься. Парнишку жалко. А так: красиво умирать не запретишь. — На старых людей собакой брешешь...
Туман подступил вплотную. Окутал, спеленал; голоса звучали глухо, даже плеск волн изменился. В мутных прядях, струящихся над водой, кое-где пробился тайный, жгучий оттенок рыжины, смутной дорогой убегая прочь. Будто серебро сошло с ума, вздумав ржаветь подобно драгоценному железу, или старческая седина повернула время вспять, полыхнув давно забытым огнем юности. Или белки глаз налились кровью. Мне это не нравится, подумал Меланфий. Мне это очень не нравится. Такими глазами должен смотреть я. Такими глазами не должны смотреть на меня. Из тумана.
— О боги! — У бывалого коровника вдруг сел голос. — Это же... это плеск Океана! Я слышал... я дважды слышал!.. Помню! Это Океан!
Все. Меланфий уже знал: это все. Конец. Внутри, в глухом Тартаре души, сломалась задвижка, выпуская на волю чудовищ бездны. Зачесались ладони. Конечно, хорошо было бы забрать щенка, а после, пустив гиппагогу с болтливыми придурками на дно, решать, как поступить. Но позориться, пререкаясь со вздорными дедами...
Первым он убьет рябого. Без затей: шаг вперед, и длинный нож — наискось, под ребро. Потом щенок.
— Хватит! — Плохо владея собой, козопас повернулся к своим на дипроре, готовясь отдать приказ. Большие, не по ноге, сандалии смешно шлепнули. Кто-то, веселясь, присвистнул за спиной: коротко, хищно. Меланфий споткнулся; с трудом удержав равновесие, обернулся, готовый подарить первый удар весельчаку.
Из задника правой сандалии торчала стрела, намертво пригвоздив подошву к деревянному настилу.
Козопас бросил быстрый взгляд на щенка, в предчувствии резни еще не понимая: что происходит. Ну, засмейся, засмейся, сопляк! Чтобы проще было уходить, оскалься за миг до смерти! Но щенок не смотрел на сандалию хитроумного козопаса. Щенок смотрел на Запад. На Океан, откуда не возвращаются. И чутье, никогда не подводившее хозяина, обварило Меланфия жаром опасности.
Туман вокругкипел парусами.
Эпод
ИТАКА. Западный склон горы Этос;
дворцовая терраса (Сфрагида)
Этого никогда не было в моей жизни. Не было — со мной.
И в то же время: было. Уйти, убежать: пустое дело. Только промолчите. Остерегитесь сыпать соль на рану, усмехаясь: Одиссей, сын Лаэрта, ты все это придумал. Набрал полные горсти морской воды, лишь бы растравить язвы совести, которой у тебя отродясь не водилось. Прикусите языки, благоразумные, ибо я могу поднять на вас руку. Так бывает: за свою вину карают других, осмелившихся намекнуть. Или засмеяться невпопад. Герой, я предал мимоходом; хитрец, я обманул любимых людей, а значит, себя. Попытка рассуждать и делать выводы обошлась слишком дорого. Три года — о небеса! — целую вечность, пока я истово пытался уйти и забыть, пока прозябал в угаре, пьяный смутной дорогой в никуда, мечтая хотя бы на время задушить стоголовую гидру-память, — маленькая армия под названием «семья Одиссея» вела ежедневный бой. Как могла. Как умела. На занюханной Итаке, груде соленого камня на задворках Ионического моря, продолжалась Троянская война: бессмысленная, бесконечная осада крепости. И даже оставаясь в живых, бойцы этой армии, брошенной на произвол судьбы, несли потери.
Отчаяние. Бессилие. Гнев. Боль. Обреченность.
Сын. Отец. Жена.
Няня. Старые друзья. Осколки былого.
А мама не выдержала. Ушла без видимой причины. Даже на стрелу Артемиды, тихо убивающую женщин, не спишешь. Антиклея, дочь Автолика, лучшая из матерей!
— может быть, ты надеялась встретить сына там, на стылом берегу Леты? Улыбнуться встрече, прежде чем встать на колени, отпить глоток и навсегда забыть, что это значит: радоваться?..
Все предали всех, твердил я себе. День за днем. Все предали всех. Мы вернулись невпопад, мы правильно сделали, что ушли. Бойцы сдались без боя. Почему я должен быть исключением? Почему?! В век трагедий за утопии платят насмешками. Даже сейчас, вспоминая, как бежал от надежды, способной в случае краха погрести меня под острыми обломками, я не в силах усидеть на месте. Хромаю по террасе. Размахиваю руками. Старик укоризненно качает головой, хмурясь. Тени памяти моей в ужасе шарахаются прочь. Растекаются предрассветным молоком. Спешат: забыть. Удрать за грань бытия. Им страшно.
А мне: стыдно.
Я забыл, что надежда должна умирать последней. Ушел на Запад, преступно думая, что так будет лучше; и затыкал уши, боясь услышать плач ребенка, обреченного на одиночество. Вопль, несущийся от покинутого рубежа:
— Вернись!
...В седом тумане. В вечном тумане. Острова в Океане, пелена без конца и начала, дни, складывающиеся в недели, недели — в месяцы. Мы потеряли счет времени. Кровные братья, два перворожденных титана, Крон-Временщик и Океан-Ограничитель никогда не встречались друг с другом. Поэтому для Времени нет ограничений, а в Океане царит безвременье. Мы и не ждали их встречи. Просто плыли, чтобы приплыть хоть куда-то, даже если там растут ас-фодели, и глоток черной воды отнимает память, как наемный убийца отнимает жизнь: легко и незаметно. Я однажды сказал Калханту: когда скорлупа твердеет, все, что не нашло себе места в окаменевшем миропорядке, изгоняется прочь. Сюда, в Океан; в зарубежье. В царство мертвой жизни. Здесь существует — лишнее. Утратившее место под солнцем. Здесь поют птицы с женской грудью, мычат освежеванные туши быков, незваные гости превращаются в свиней, а водовороты скалятся шестью собачьими головами. Это не Хаос, нет! — это Космос[62]. Брат мой/ Это ты — безумный порядок, кажущийся со стороны беспорядком. Колыбель: здесь умершие старики перерождаются в младенцев. Горнило: былые мечи здесь переплавляются в новые Успехи. Окраина, куда изгнали невозможное, дабы оно превзошло свой предел и однажды сумело вернуться в новом обличье.
Да, ответил пророк.
Вот и мы теперь здесь.
Зеленая звезда, погоди. Не падай за утесы. Скажи мне, что делать. Клянусь, я исполню все, что скажешь. Молчишь? Конечно, молчишь. И я молчу вместе с тобой. Я, Одиссей, сын Лаэрта-Садовника и Антиклеи, лучшей из матерей. Одиссей, внук Автолика Гермесида, по сей день щедро осыпанного хвалой и хулой, — и Аркесия-островитянина, забытого едва ли не сразу после его смерти. Правнук молнии и кадуцея. Сокрушитель крепкос-тенной Трои; убийца дерзких женихов. Муж, преисполненный козней различных и мудрых советов. Скиталец Одиссей. Герой Одиссей. Хитрец Одиссей. Я! Я... И каждому из этих "я" стыдно до белых пятен перед глазами.
До скрежета зубовного.
Я мог вернуться на Итаку, но проплыл мимо. Скудная истина «лучше поздно, чем никогда» утешает слабо.
Помню: когда Океан закончился, не было даже сил ликовать. Никто не кричал: «Земля!» Не швырял колпаки в небо. Обрадоваться исчезновению опостылевшего тумана — и то не успели. За день до этого я, сам не зная, зачем, зачерпнул океанской воды. Налил ее вместе с седыми прядями тумана в медный флакончик. Приладил цепочку, повесил на грудь.
На память, что ли?
Местные приняли нас за богов. Смешно. Позже, когда мы научились понимать друг дружку, нам рассказали: корабли шли по земле, и гребцы пенили грязь лопатами. А за кормами наших эскадр два Номоса срастались воедино, меняя очертания. Жаль, я не сумел этого увидеть.
Я ведь боялся оглядываться.
«У тебя два лица, — сказал мне однажды кто-то из тамошних мудрецов, а может, юродивых. — Одно смотрит вперед, но второе всегда обращено назад. Янус, Двуликий Странник, для тебя не существует тупиков и лабиринтов».
«Спасибо, — ответил я. — Это ложь, но это добрая ложь. Спасибо».
Через год они начали вырезать мое изображение на дверях и воротах. Я не вмешивался. Это больше не имело никакого значения. Диомеда все звали Маурусом, добавляя «Великое Копье». Плакса Эней превратился в «Основателя». Калхант... я забыл, кем стал наш пророк, но он вечно бранился по этому поводу.
Диомед собрался назвать эту землю Этолией. В честь своей родины. Я настаивал на Итаке. Остальным было все равно. В конце концов мы с синеглазым сделали из двух названий одно. Получилось: Италия.
Потом началась война с племенем каких-то рутулов. Обычная, человеческая война.
...Диомед был мрачен:
— Плакса скончался, рыжий. Думаю, его отравили.
— Жаль, — равнодушно ответил я. Мне было скучно.
— Плакса скончался, — с нажимом повторил Диомед. — А завтра он должен выйти на поединок с вождем рутулов.
Если он не выйдет, нас вытеснят с этих земель. По праву победителя.
— Тебе это очень важно? — спросил я. Он подумал. Кивнул. Тогда я принес доспех малыша, отданный мне решением вождей. Облачился, не чувствуя ничего, кроме скуки. Надвинул глухой шлем, скрыв лицо. Утром, выйдя на поединок, громко возгласил: «Я Эней-Основатель!» — и все поверили. Потом я убил вождя рутулов. Все было просто. Все было скучно. Патрокл, замещающий Лигерона, — вот кто был я. Огрызок прошлого. Мертвец с лицом, повернутым назад. Безумец со сломанной шеей.
— Спасибо, — скажет позже Диомед. — Ты выручил всех.
— Мы все погибли под Троей, — невпопад отвечу я.
%%%
Три года.
К концу этого срока у меня была своя терраса и своя .леная звезда над рощами Лация. У меня было что угодно, включая изображения на дверных косяках. Кроме дома, который я назвал бы домом. И все чаще я сидел ночами на террасе, любуясь звездной зеленью. Передо мной всегда стоял кувшин с вином. Здесь делают хорошее вино. Сладкое, густое. Лучше, чем на Итаке. Рядом с кувшином, завернутый в свиную шкуру, лежал колчан с медным дном. Лернейский яд — чтоб наверняка. Я уже знал, что однажды не выдержу.
Пью из Леты: злые капли по губам. Кто ты? Где ты? — насмехается судьба. Будто плети: дни, мгновения, года. Пью из Леты. Вдрабадан.
Таким меня застал Калхант. Войдя быстрым, не свойственным ему шагом, пророк бросил в спину задыхающимся шепотом:
— Рыжий! Там... там!..
А у самого губы вприсядку пляшут. Трясутся студнем. Я бранился, отказывался идти, но с пророками спорить — проще море ложкой вычерпывать. Вытащил, ясновидец, из дому. Едва ли не за уши приволок в гавань. Где торчала тридцативесельная эперетма[63] с изображением сатира на носу. Такие делают только в Кефаллении. Пьяная до поросячьего визга команда горланила песни у входа в харчевню. Рядом топтался хозяин корабля: детина совершенно пиратского вида, сказавшийся торговцем зерном. Шторм занес их в Океан, сказал детина, часто-часто моргая, но Океана не обнаружилось. Сирен, циклопов, движущихся скал, Сциллы с Харибдой — ни следа. Свернули за Тринакрией на северо-запад, и вот: здесь.
— Видишь, Одиссей?! Видишь?! — ликовал пророк. Еще хмельной от вина, звезды и Лернейского ожидания, я на всякий случай кивнул. Хотя не видел ровным счетом ничего. Не видел, не чувствовал, не делал. Зато научился понимать.
— Одиссей? — растерянно.хмыкнул детина. И, тупо глядя перед собой: — А мы-то думали: чего она время тянет...
Забытый на столе кувшин мы допили вместе с ним. Потом еще один. Еще. Еще. Потеряв счет кувшинам, я только и требовал: еще! рассказывай! Пока торговец не свалился под стол. Пока зеленая звезда не упала в трясину ветвей.
Пока я, как был, в одном хитоне, не побежал обратно в гавань.
Если бы не Диомед, я бы заставил «Пенелопу» выйти в море на рассвете. Остановил, синеглазый. Силой скрутил. Где ж тут не скрутить, когда по-человечески, все на одного: Диомед, Протесилай, Идоменей-критянин... пророк сбоку вьюном вертится. «Держи! — кричит. — Держи дурака! Уйдет!»
А мне издалека, из осажденной крепости, где ведет неравный бой моя семья, эхом отдается:
«Дурак! Дурак...»
Пустите, говорю. Убью, говорю. Кого убьешь? Вас, говорю. Всех.
Завтра убьешь, отвечают. Герой не должен быть один, отвечают.
Тридцать кораблей, отвечают. Если получится, тридцать пять. Завтра. К вечеру. Обождешь?
Тут я и сел. Под глазом синяк чернотой наливается. Плечо вывихнули, гады. Ну ничего, я им тоже показал. Вы чего, спрашиваю. Возвращаетесь?
А Диомед смеется:
— Нет, рыжий. Это ты возвращаешься. А мы так, за компанию. С тобой.
ПЕСНЬ ШЕСТАЯ ЕШЕ ОДИН СТАРИННЫЙ ДОЛГ...
Еще один старинный долг,
Мой рок, еще один священный!
Я не убийца, я не волк,
Я чести сторож неизменный.
Н. Гумилев, «Возвращение Одиссея»Мой Телемах, Троянская война окончена. Кто победил — не помню. Должно быть, греки: столько мертвецов вне дома бросить могут только греки... И все-таки ведущая домой дорога оказалась слишком длинной, как будто Посейдон, пока мы там теряли время, растянул пространство. Мне неизвестно, где я нахожусь...
И. БродскийСТРОФА-I У тебя есть нож, басиленок?
Туман вокруг кипел парусами. Меланфий почувствовал, как волосы у него встают дыбом. Трещат, искрятся. Словно битый жизнью козопас превратился в мачту, усеянную огнями Диоскуров. Раньше он всегда полагал, что такие глупости сочиняют подлецы-аэды: дурачить простаков, вышибая слезу или вопль ужаса. Убедиться в своей ошибке было крайне неприятно; и далеко на задворках сознания, окаменевшего в безнадежности, мелькнула мысль, что это не единственная ошибка, в которой Меланфию сегодня предстоит убедиться.
Борта дипроры и обоих «вепрей» исчезли в туманной кутерьме, седой с рыжим отливом. Пряди сплетались, делаясь кружевной паутиной или сотнями тугих косиц со смешными кисточками по краям; злой смех взлетел по левую руку, хлестнул плетью и смолк так же резко, как и начался. «Я расскажу! я все!.. все расска...» — знакомый голос начинал кричать это «я все! все!...», терялся в глухой безответности, чтобы вновь захлебнуться отчаянным: «Все! все расскажу!..» Мир сжался для Меланфия в тесный кулак. Оглушенной мухой козопас застыл, пришпилен к палубе дерзкой стрелой; вокруг царил предвечный Океан, непроглядная муть, кишащая звуками. Подошвы боевых сандалий грохочут о дерево настилов. Лязгает бронза, и почти сразу: предсмертный хрип, страшный хотя бы потому, что единственный. «Я кому сказал?!» — вопрос-оборотень, явив истинное лицо приказа, сменяется чудным шелестом. Звон оружия, бросаемого под ноги. Опять смех. Уже без злобы, просто смех. Презрения и того небыло.
«Кинуться за борт? — подумал Меланфий. — Вплавь добраться до Утеса...»
Он исподтишка дернул ногой. Стрела держала крепко. Придется резать ремни сандалии, иначе не высвободиться. Рука потянулась к ножнам. Медленнее. Еще медленнее. Пусть разглядывают свой проклятый туман. Мой спасительный туман. Наверное, это успела подмога из Пилоса. Сукин сын Нестор решил сыграть двойную игру. Ничего, прорвемся... Вот и рукоять.
Нож, отрезвляя, прижался холодным лезвием к предплечью.
Меланфий слегка присел: сейчас, сейчас ремень лопнет под клинком... сейчас...
...Мглистой сединой на груди дымился флакон с наследством Океана. Я раскрыл его, сам не зная, зачем. Выдернул пробку, выбросил за борт. Скоро выброшу и флакон. Одиссей, сын Лаэрта, я снова плыл через Океан, которого больше че было... шел вспять по смутной дороге — домой...
Туман по носу гиппагоги распахнулся рывком. Будто Ильная рука отдернула занавесь, и седина разбежалась рочь, оставив лишь рыжие блики. Восход? Солнце подучивает?! Силуэт чужого трехмачтовика надвинулся, Делался близким-близким; гребцы вскинули весла, позволяя кораблям сойтись вплотную. Среднее весло почти сразу упало вниз, на дубовый релинг. Лопасть едва не ударила Меланфия по плечу, но ремень уже лопнул под ножом, и, босой на одну ногу, козопас сумел отступить.
Еще шаг, и можно будет прыгать. Корпус гиппагоги укроет от стрел с трехмачтовика. Проклятые пилосцы...
На скользкий, шаткий мостик, связавший два корабля, шагнул воин в полном доспехе. Шагнул? — Вспрыгнул. Легко, мальчишкой на бревно, перекинутое через ручей. Постоял, страшно мерцая черными прорезями шлема; двинулся вперед. Слегка хромая, но Меланфию не удавалось определить: на какую ногу? Ладно, борт уже рядом.
Наверное, Меланфий все-таки кинулся бы в туман. Помешал поступок воина. Странный до такой, совершенно невероятной степени, что странность эта приковала козопаса к месту надежней стрелы. Равнодушная походка хромого, как если бы подошвы военных сапог ступали не по веслу, а по террасе родного дома, Меланфия смущала мало. Насмотрелся в море. Сам горазд. Правда, в полном доспехе... За спиной гостя козопасу померещилась грузная фигура старика с копьем, явилась и сгинула в тумане — впрочем, это тоже пустяки. Мало ли чем заморочит голову предрассветная хмарь? Но в руке воин держал лук. А на середине весла, замедлив шаг, он с полнейшим безразличием поднял руку и швырнул лук прочь. Даже не озаботившись глянуть: куда? Меланфий ожидал всплеска или крика «Поймал!», раздавшегося с невидимой отсюда лодки. Ничуть не бывало. Лук исчез во мгле.
Выбросить оружие мог только сумасшедший.
Или...
Чудо-хохот закипел в глотке Меланфия. Не глотка: забытый на огне котел. Душа пузырями выходит. Ты говорил, что не веришь в богов? Да, козопас?! Тебе позволили убедиться и в этой ошибке. Тебе милостиво дают время уверовать — истово, трепетно! — чтобы минутой позже отправить в глубины Эреба.
Посмеемся вместе?!
Хромой воин, не останавливаясь, спрыгнул на носовую полупалубу гиппагоги. Стоя к Меланфию спиной, гость смотрел на кучку стариков и юношей, сгрудившихся на носу. Смотрел долго. Молча. Так смотрят из настоящего на прошлое и будущее, когда «вчера» с «завтра» в испуге жмутся друг к дружке.
Потом он снял шлем.
Грива султана коснулась палубных досок.
— Я...
...Любое слово оказалось бы сейчас ложью. Предательством. Бессмыслицей. Я вернулся? Радуйтесь?! Сынок, это я, твой папа?! Любое слово...
Наверное, заика, подумал Меланфий. Продолжая беззвучно хохотать и не замечая этого. Бог-заика? Бог-хромец? Гефест? — Нет, бессмертный кузнец хоть и хром на обе ноги, но явился бы с молотом вместо лука. Аполлон? — Тоже нет. Стреловержец высок ростом, да и до-спеха не носит. Арей-Губитель? — Похож, но Арей ходит ровно.
Гермий-Проводник? Владыка Пучин? Сам Громовержец?!
Узнать божество, назвать его по имени сейчас представлялось Меланфию самым важным делом на свете. Он судорожно перебирал Олимпийскую Дюжину, встряхивал имена, менялой ковырялся в груде клейменых слитков, а хохот все пузырился в глотке, кропя бороду липкой слюной.
«Я сошел с ума», — мелькнуло, чтобы сразу исчезнуть.
Воин уронил шлем. Глухой стук показался кощунством. Обеими руками взлохматил рыжую шевелюру: так делают мальчишки, не зная, что сказать. "Ему нет и тридцати! — вслед за мыслью о собственном безумии озарением явилось Меланфию.
— Будь он кем угодно, ему нет..." Воин еще чуть-чуть постоял, ожидая невесть чего, Команда гиппагоги сбилась теснее: миг назад готовые к смерти, сейчас старики с мальчишками были белей мела. Вон у рябого калеки губы трясутся. А у мрачного коровника желваки на скулах: береговыми валунами. Щенок в басилейском венце — умора. Уши лопухами, глазами хлопает.
О двух своих людях, дрожащих позади, козопас забыл напрочь.
Воин присел на корточки, рядом с гривастым шлемом.
— Аргус? Иди ко мне...
Уродливая собака дернула бесхвостой задницей. Задвигалась черная лепешка носа, жадно принюхиваясь. Можно было подумать: глупого щенка за шкирку тянут к миске с едой, а щенок упирается, не понимая своего счастья. Зачем богу собака?! Богу нужны люди. Для гнева или милости. Зачем собаке бог? — Любому псу нужен хозяин. Мокрый настил палубы холодил босую ступню.
Собака легла, положив лобастую башку на лапы. Закрыла глаза, без того утонувшие в грязных лохмах. Бока слегка подрагивали: когда б не эта дрожь, можно было бы принять пса за дохлого.
— Аргус... прошу тебя...
...Ну пожалуйста. Узнай. Подойди. Я очень прошу тебя. Я вернулся: это невозможно. Ты жив, Аргус: это тоже невозможно. Мы — части одного целого, которого не может быть. Нам надо уметь прощаться и прощать. Подойди ко мне... ладно?..
Меланфия пронзила раскаленная игла, когда он увидел слезы на лице рыжего бога. Будто стрела вернулась, взяв выше: в сердце. Боги не плачут. Боги смеются. Неужели третья ошибка? Роковая?! Нож в руке дрогнул, ожил, наливаясь убийственным предчувствием. Вон туда, в шею. Под затылочную ямку. И за борт. Никто не успеет помешать. Никто.
Собака зашевелилась. Встала. Косматой тенью скользнула вперед, надрывно повизгивая — вернее, захлебываясь утробным, змеиным шипением, если где-то на свете бывают счастливые змеи. Миг, другой, и мощные лапы упали на плечи рыжего обманщика, прикинувшегося богом. Шершавый язык теркой прошелся по лицу, пес зевнул, ощутив на языке соль; не удержавшись, рыжий с размаху сел на палубу, а огромный зверь упоенно, самозабвенно, восторженно вылизывал лицо, наслаждаясь все новой и новой солью.
Старым, незабываемым запахом.
— Аргус... хорошая, хорошая собака!.. моя...
Маленький, вкрадчивый шажок. Вон туда. Под затылок.
— У тебя есть нож, басиленок?
Рябой калека спросил это скучным, срывающимся голосом. Он пьян, подумалось Меланфию. Он же пьян! Лишь сейчас козопас бросил хохотать, и ему стало чего-то не хватать. Жизнь потеряла смысл. Еще шаг. Уже можно. Или все-таки нельзя?!
Второй раз за сегодняшний, насквозь проклятый день Меланфий колебался, боясь сделать выбор.
— Да, Эвмей, — ответил рыжий, обеими руками держа пса за холку. — Я давно вырос. У меня теперь есть нож. Зачем тебе нож?
Эзмей качнулся. Искалеченная нога онемела, рябой едва не упал, но стоявший рядом мальчишка поддержал старика.
— А вот этого лиса зарезать... вот этого...
И Меланфий вдруг обнаружил, что стоит лицом к лицу с рыжим лже-богом.
%%%
Я не умею ненавидеть. Не научился. Не умею понимать. Умею любить. Умею возвращаться. Видеть, чувствовать и делать — умею. Скучно. Холодно. Лучше бы я ненавидел. Тогда бы все стало гораздо проще — но и сейчас, в любви и скуке, это тоже просто. Очень просто. Наверное, когда-то я вполне мог потрепать тебя по затылку, чернобородый. Проходя мимо. Мальчишка в гавани, чернявый сорванец, ты бежал к причалу, а я протянул ладонь... Думаю, так и было. Сейчас ты собрался убить моего сына. Меня. Себя я готов тебе простить. Сына не прощу.
Сына, покинутого мной.
Понимаешь, мне очень стыдно, и я буду вымещать свой стыд на тебе. Понимаешь? Ты умеешь понимать?!, Тогда пойми.
И возненавидь, если так тебе легче. Скука вместе со стыдом подступаюгк горлу, и я больше не в силах сдерживаться. Тебе будет очень больно, чернобородый. Утешься: я постараюсь, чтобы ты стал если не единственной, то одной из немногих жертв моего стыда.
%%%
— У тебя больше нет ножа, — сказал рыжий. Да, кивнул Меланфий. Пальцы разжались, и клинок упал под ноги. Откатился к мачте. Да, конечно. У меня больше нет ножа. Как скажешь.
— А у меня — есть. Ты же видишь?! У меня есть нож.
Да, кивнул Меланфий. Конечно. У тебя есть нож.
Я вижу.
— Хорошо. У тебя нет ножа, а у меня есть. Теперь у тебя больше нет твоего мужского достоинства. Я отрезал его. И выбросил за борт. Да?
Да, попытался кивнуть Меланфий. Страшная боль внизу живота обожгла, бросила на колени. Боже, боже, боже... Вопль-мольба, так и не вырвавшись наружу, застрял кляпом в горле. Очень больно. Конечно. Больней не бывает. Я не мужчина.
Как скажешь.
— Ты веришь мне? Хорошо, можешь не отвечать. Я и так вижу: веришь. Знаешь, твои ноздри вырваны мной. Отрезаны уши. Я скормил их собаке.
Да. Да! Да, да, да...
Смилуйся!
— Правая рука. До локтя. Вот она: валяется на палубе.
Да!..
Хочу в Аид, отстранение подумал Меланфий, пока тело его корчилось от невыносимого страдания. Хочу под землю. Там тихо и прохладно. Там никто ничего не помнит. Хочу не помнить. Хочу уйти.
Вода в Лете темная. Сладкая.
Дайте воды...
— Левая рука. Запястье. Наступи на него. Вот так. Хорошо. У меня есть нож, а у тебя нет. У меня есть очень хороший нож. Острый. А у тебя еще есть ноги. Глаза. Язык. Сердце. Тебе столько не нужно.
Да, судорожно кивал Меланфий, пытаясь опереться о палубу руками, которых у него больше не было. Да. Не нужно. Мне. Столько. Слова приближались из тумана, скучные и медленные.
Неся новую боль.
Пытаясь скулить, немой Аргус отползал на брюхе в сторону от жертвы с палачом.
— Папа! Не надо!.. Перестань, папа!.. Хватит!..
Одиссей замолчал. Повернул голову. Ты очень похож на свою мать, малыш. Мы с тобой почти одних лет, и это гораздо лучше, что ты похож на мать. Не надо походить на меня. Всю жизнь мечтавшему об отце, как о божестве, которое однажды явится, исправит и отомстит, тебе не суждено узнать меня в лицо — я слишком рано ушел! — но, увидев спасение и месть, ты назвал их по имени.
Да, Телемах, сын Одиссея.
Я больше не буду.
Пусть этот человек поблагодарит тебя, прежде чем я отпущу его.
— Ты свободен. Можешь умереть. Мой сын заступился за тебя.
И с брезгливой усталостью:
— Пошел вон.
Туман по правому борту лопнул гнилой дерюгой. Расступился, открывая смутную дорогу. Вереница теней вдали замедлила шаг, дожидаясь отставшего. Меланфий с третьего раза сумел подняться. Шатаясь, добрел до борта. Руки мертвыми плетями висели вдоль тела, рот судорожно пытался хлебнуть воздуха, давясь хрипом. Тело упало за борт без всплеска.
— Ты вернулся, хозяин, — тихо сказал рябой Эвмей. Одиссей покачал головой:
— Нет, старый друг. Я еще не вернулся. Я еще только возвращаюсь.
%%%
Память ты, моя... Рот трескается улыбкой: сухой, колючей. Ветка акации в бороде. Моя ли ты, память? Действительно: моя?! Твой заложник, я медлю на пороге рассвета. Говорят, такое часто случается со стариками: отчетливо, до мельчайших подробностей помнить давние события — и тужиться, вспоминая вчерашнюю ерунду, словно у памяти запор. Мой Старик, у тебя тоже так?! Молчишь. Молчу и я. Молодой, красивый; скоро мне стукнет четверть века. А память древняя. Дряхлая. Еле держится на ногах. Или это я, муж, преисполненный козней различных, всего-навсего притворяюсь? Лгу самому себе?!
Да, это правда.
Ложь.
Если вы видите между ними разницу, давайте позавидуем друг другу.
Подходя вплотную к последнему рубежу, к ночи на террасе, теням в углу и неопределенности выбора, мне все труднее утолять жажду теней жертвенной кровью. Кровь на исходе. Жажда неутолима. И я. Одиссей, сын Лаэрта, все возвращаюсь, возвращаюсь...
Страшное слово: возвращаюсь.
Иногда мне кажется, что его обратная сторона: бесконечность.
Там, на палубе гиппагоги, в седом тумане, все было просто и деловито. Задумываться не оставалось времени. Старых пастухов мигом разбросали по малым эскадрам: в качестве проводников. Про их отсутствие на Итаке никто толком не знал; значит, если до сих пор не хватились... Идоменей, с его опытом наварха, поклялся снять морскую блокаду острова за сутки. В крайнем случае, за двое суток. «Крайний, да? — зло распялил губы седой эфиоп, и черное лицо Ворона напомнило штормовую тучу на горизонте. — Эй, критский дядя, я с тобой!» Диомед, наскоро переговорив с коровником Филойтием, взялся давить береговые заставы. Только без шума, сказал я. И без лишней крови. Ладно? Чтобы в городе и в доме до поры — тишь да гладь.
Обижаешь, был ответ.
А Калхант, прислушиваясь к испуганным воплям чаек, добавил: это, рыжий, как раз пустяки...
Я тогда забыл спросить, что он имеет в виду. Теперь вижу. Смысл слов пророка стоит в углу террасы, скрестив руки на груди. Он безоружен, этот смысл. Не защищается. Но понять его — значит, убить, а убить его труднее, чем стоящего на воздухе войны неуязвимого Лигерона.
Впрочем, я отвлекся.
Гиппагога пристала к берегу в Безымянной. Tyмaн взял Итаку в кольцо, малым Океаном отгородив от всего мира, но я дышал этим туманом, и смутная дорога послушно распахивалась передо мной. Возле Грота Наяд мы распрощались: сыну в сопровождении рябого Эвмея было ведено укрыться на верхних пастбищах. До завтрашнего утра. Телемаху безопасней находиться рядом со мной, на случай повторного покушения, а сегодня я не смогу приглядеть за мальчиком. Эвмею же я поручил, надежно укрыв Телемаха, мигом отправляться к моей жене.
— Папа, он же старый! Хромой! — заикнулся мой сын, выпячивая грудь. Ясное дело: постриженный во взрослые час назад, прямо на борту, самим Диомедом Аргос-ским, мальчик грезил подвигами. — Давай я!
— Завтра, — плохо получалось глядеть прямо на него, не отводя взгляда. Трудно привыкнуть к сыну-ровеснику. — Завтра утром ты явишься в город. И заберешь меня... Эй, парень, как тебя зовут?
Худенький мальчонка из Телемаховой дружины оказался Пиреем Клитиадом. Хорошая семья. Помню. Славный мальчонка: боится, но делает. Гораздо хуже, если наоборот.
— Я остановлюсь в его доме. Буду ждать на рассвете. — И приказным тоном:Корабль на воду! Идем в Форкинскую гавань!
— Да, мой басилей! — замухрышка Пирей расправил плечи и даже стал повыше ростом.
— Басилей?!
Я мимо воли улыбнулся. С такими героями хоть снова под Трою. Злая шутка. Жестокая. Жаль их разочаровывать, но придется.
— Значит, так, орлы мои...
...Подумалось: хорошо, что старики и дети. Этим проще принять меня таким, каким я вернулся. Стариков ослепляет память и надежда, мальчишек — надежда и блеск легенды. С остальными будет тяжелей. Ни надежды, ни памяти, ни блеска.
ИТАКА, Форкинская гавань (Агон)
Агон — «спор». Песнь хора при участии остальных персонажей, более характерная для комедии.
— Клисфенчик! Люди, они моего Клисфенчика погубили!
— Цыц! Кончай орать, дура!
— А я ему в морду: раз! Он и скис. Отвечай, говорю: кого посылали?..
— Люди, куда вы смотрите?! Кого вы слушаете, люди?!
— Заврались, твари! То встречать отправились, то топить... То вообще: я не я, и гидра не моя!..
— Жених! Люди, жених!
— Держи жениха!!!
— Слыхали: Пилос сто кораблей дал! Двести!
— Слушайте дурака! Они под Трою меньше сотни снарядили!
— Убег, паскудник... женихи, они на ногу быстрые...
— Клисфенчик мой! Вернется, шкуру плетью обдеру! Лишь бы вернулся!..
— Да закройте дуре рот! И без нее тошно!
— Туман еще этот... как нарочно...
— А я тебе в морду: раз! Я тебе в морду: два! Наследника сгубить вздумал, замийская рожа?!
— Афина Паллада, Гермий-Водитель, не попусти смерти окаянной, спаси над бездной, оборони в бурю...
— Корабль! Люди, корабль! Клисфенчик мой!..
— Смотрите!
%%%
Такого столпотворения Форкинская гавань не видала давно. Людей, бывало, собиралось и больше, но чтоб эдакий галдеж... Третий день Итака гудела, пенилась слухами. Втягивала сплетни, извергала догадки: куда там ужасу мореплавателей, знаменитому водовороту Харибды! Родители парней, тайно отправившихся с Телемахом, проведав о бегстве отпрысков, подняли бучу. Гордость мешалась со страхом. Ожидание — с опасениями. Трусов, не явившихся к месту ночного сбора, выдрали кнутом, скрывая вздох облегчения: мой, хоть и заячья душонка, зато живой! За своим героем следите, соседи! Не пришлось бы каяться! Следом, злым жучищем в муравейник, шлепнулась новость: женихи вознамерились тайно сгубить наследника. Чтоб концы в воду. Если кто-то из жениховской челяди теперь появлялся в городе, его тут же хватали за грудки. Трясли. Совали кулаком в зубы. Требовали ответа; получая самые противоречивые ответы, трясли и совали кулаком по-новой. На самих женихов-смотрели косо; с сегодняшнего утра пытались ловить. Допрашивать. Женихи прятались в доме.
Но до открытого бунта не доходило.
И вот: неуклюжая гиппагога несется на всех парусах к пристани, словно превратясь в боевую пентеконтеру.
Боги, святые боги! Чудо!..
Поглубже надвинув на лоб широкополую войлочную шляпу. Одиссей стоял сбоку, у бухты каната. Кутался в хламиду. Впрочем, его и так никто не замечал — внимание толпы было отдано вернувшимся парням. Подзатыльники, обещания зверской порки, но слепому видно: дальше обещаний дело не пойдет. Вернулся, любимый! родненький! а плечи! а взгляд!
Зевесов орел, не парень!
Зевесовы орлы вели себя соответственно. Напускали таинственность. Отвечали многозначительно, с достоинством. Это значит: не отвечали вообще. Да, наследник высадился на берегу час назад. Отправился проверять пастбища. Зачем? — Не ваше дело. Значит, надо. В Пилосе? Да, были. В Спарте? Были и в Спарте. Везде были. Что выпросили? Что надо, то и выпросили. Придет время, узнаете.
Когда придет? Когда надо, тогда и придет.
Одиссей еле сдерживался, чтоб не рассмеяться. Молодцы, парни. Пошла в наступленье свирепая зелень. Зря, что ли, рыжий всю дорогу к гавани растолковывал им, как себя держать. Выходит, не зря. Когда подросток знает тайну, скрытую от взрослых, когда он чувствует за спиной невидимую, но надежную поддержку — берегись!
Теленок быка забодает.
— А это кто такой? Эй, почтеннейший, ты кто?!
Наконец-то.
Снизошли.
— Это Феоклимен, прорицатель! — затараторил Пирей, вертясь у плеча ткацким челноком. — Мы его в Пилосе подобрали, на мостках... он дома кого-то убил, теперь бежит, от кровников... куда подальше...
Молодчина.
Как договаривались.
Вокруг Одиссея образовалось кольцо. Раскрытые в ожидании рты. Горящие глаза. Пятна румянца на скулах. Не человек ли Нестора? — молчали рты. Не доверенный ли Менелая?! — горели глаза.
Кто?! — багровел румянец.
— Феоклимен, значит?!
Одиссей почувствовал: внутри все опустилось. Он ждал этой минуты, но ждать, готовиться — одно, а увидеть рядом, на расстоянии двух локтей, лицо белобрысого дамата Ментора... Ты постарел, друг детства. Облысел. Ссутулился. Стал очень похож на отца. Так и кажется: сейчас ты примешься ходить вокруг меня, приговаривая:
«Славно, славно...»
— Славно, славно... Это какой же Феоклимен-прорицатель? Вроде бы меж пилосцев не водилось таких...
— Из Аргоса я. — Одиссей чуть подался вперед, чтобы тень от шляпы стала гуще. Добавил в речь этолийско-го клекота. Запоздало сообразил: где Аргос, а где Этолия!.. Ладно, сойдет. — Феоклимен, сын Полифейда. Слыхал небось, уважаемый?
Нежное, привычное чувство: змеятся тонкие щупальца. Бегут из души наружу. Оплетают толпу, вяжут пузырь к пузырю. Впиваются зазубренными стрекальцами. Течет сладкий яд. Я — Феоклимен... сын Полифейда...
Всем ясно?
Все слыхали?!
— Это, что ли, который родич Амфиарая-Вещего?!
— Ага! Меламп-ясновидец родил Антифата и Мантия, Антифат родил Оиклея, Оиклей — Амфиарая, Амфиарай — Алкмеона с Амфилохом...
— Точно! А Мантий родил Клита-Прекрасного и Полифейда-пророка, Клит был похищен розовоперстой Эос, зато Полифейд...
— Родил меня, Феоклимена!
Нет, белобрысый, ты прежний. Я, помню, в детстве боялся: ты вырастешь умницей, я — дураком. Угадал на свою голову. Ну хорошо, мне аргосские родословные Диомед изложил, он в них, как рыба в воде. Но ты-то!.. Хорош! Этот родил того, тот этого... Даже врать особо не пришлось.
Одиссей украдкой огляделся: рты, глаза, румянец. Верят.
— Эй, ясновидец! А ну, прорицни чего-нибудь! О чем воробьи вещают?
— Чирикают, тупицы. — Память живо напомнила: дорога, рыжий юноша, и колесница с совоглазым пророком. — Жрать хотят. Воробей — птица глупая. Ни один уважающий себя птицегадатель не опустится до гадания по воробьям. Орел, голубь, ласточка, наконец, — но воробей?!
Рядом охнул какой-то древний дед. Зашамкал, брызжа слюной:
— В шамую шередку, штранничек!.. Я в Алижии с шамим Калхантищемпровидцем... он тоже: воробушки — шваль-птицы! Пакошть, шушера!..
— Ладно! — не сдавался приставала. — Вон тебе сокол! Да вон, вон... голубя жрет! Он чего пророчит? Кто итакийскую басилевию под себя возьмет?!
Ответить было просто.
Очень просто.
— Пока жив хоть один мужчина из рода Аркесия-Островитянина, не бывать на Итаке иным владыкам!
%%%
— Двусмысленно пророчишь, гость... — буркнул Ментор, отходя в сторону. И добавил что-то еще. Одиссей не расслышал: что именно?
Вокруг уже горланили, требуя новых предсказаний.
АНТИСТРОФА-I Вестник
В том, что Пирей держал язык за зубами, я был уверен. Но тем не менее принеся утром воду для омовения, молоденькая рабыня смотрела на меня такими глазами, будто перед ней явились Персей-Горгоноубийца и убитая им Медуза в одном лице! Позже, за завтраком, я опять ловил на себе мимолетные касания чужих взглядов. Вчерашние «пророчества» сказываются? Кем они меня считают? Калхантом? Вторым Тиресием? Богом, явившимся под личиной?!
Последнее предположение кололось сухими шипами. Или все-таки догадались? Кто-то узнал меня и... Нет. Они слепы. Об этом сухо шептала песчаная осыпь скуки, и ей вторил плеск моря любви, готового распахнуться во всю ширь; об этом молчал, улыбаясь, ребенок у далекого предела, наверное успевший изрядно повзрослеть за минувшие годы. Никто меня не узнал. Даже Ментор. Хотя я не очень-то прятался: шляпа, борода да этолийский выговор — тоже мне личина! Но вот сидит за столом напротив меня Клитий, отец Пирея, — и в упор не узнает! А ведь были знакомы... однажды я дал ему заем на постройку грузового «быка». Как в детской игре, когда с завязанными глазами ощупываешь пойманного сверстника: Клитий, я тебя узнал! А ты меня? Поймай! Ощупай! Нет. Косится с уважением, даже с опаской, но совсем не так, как смотрел бы на вернувшегося Одиссея Лаэртида. Так смотрят на заморскую диковину. На славного прорицателя Феоклимена так смотрят.
А на вернувшегося сына Лаэрта смотрят иначе. Ладно. Ты сам хотел, рыжий, до поры скрыть от людей: кто ты. Вот и скрываешь. Не узнают — и хорошо. В конце концов, двадцать лет... Все было правильно, все шло, как я хотел, но от подобных мыслей в душе оставался скверный осадок, а во рту — горечь, не смываемая самым сладким на свете вином.
Позже, благодаря Клития за гостеприимство, я долго медлил на пороге.
Боюсь идти к себе домой. Боюсь...
Память ты, моя память... — Ты убьешь их всех, папа? Прямо сейчас? Я остановился, споткнувшись об эти слова. Об устремленный на меня взгляд взрослого сына: восторг и ожи— дание. Наверное, в четырнадцать я был таким же. Жажда подвигов. Готовность сражаться и убивать. Полное отсутствие представлений: как неприглядно выглядит смерть в действительности. А ему все-таки не четырнадцать — двадцать один. И смерти в глаза смотрел: вчера. Своей собственной. Чужой. Всякой. Не насмотрелся, выходит? Жаль его разочаровывать...
— Не знаю, Телемах. Сперва я хочу увидеть все собственными глазами. Недостойно прямо с порога умываться кровью. Смерть — лишь одно наказание из ряда возможных.
Мудрые речи. Правильные. Достойные блудного отца. Аэд-невидимка, ты бы отдал левую руку за право записать. Когда мне надо, я могу быть очень убедительным.
Но — убеждать таким образом собственного сына?! Не хочу. Не буду.
И что в итоге?
— Они заслуживают смерти, папа! — О, этот праведный гнев в глазах, эта дрожь в голосе. — Ты ведь сам знаешь: они хотели убить меня! Моих друзей!.. Они дедушку взаперти держат, под стражей! Маме проходу не дают...
Разочарование пополам с обидой. Гремучая смесь. Дй перечисленного хватит, чтобы десять раз казнить мерзавцев самой страшной казнью! Неожиданно мой сын улыбнулся. Лицо его озарилось тайным светом, словно Телемах что-то решил или понял.
— Прости, папа! Конечно, все будет так, как ты захо— чешь. Знаешь, утром я видел маму... Я велел ей надеть се-.тодня праздничный наряд. И пообещать богам гекатомбу, если они помогут нам истребить хлебоедов. Но раз ты хочешь сперва увидеть...
Он велел. Он, значит, велел. А ладонь любовно поглаживает рукоять меча, висящего на поясе. Пройдя обряд пострижения, мальчик получил право носить оружие. Носить, обнажать, пускать в ход. Сбылась тайная мечта: вернулся отец, великий герой, сокрушитель Трои, вернулся во главе целой флотилии! Так неужели не пришло время для мести и подвигов?! Лицо Телемаха светилось, и я в священном ужасе смотрел на это знакомое-чужое лицо, на этот свет, боясь произнести запретное имя.
Так вот ты какая, ненависть...
Я не стану с тобой спорить, сын мой.
Хватит крови. Навоевались.
Уже на подходах к дому Телемах с тихой деловитостыо сообщил:
— Вчера вечером этот твой до нас добрался... Филакиец. Сказал: все в порядке. Заставы подавлены. В море, на берегу. Сегодня к тебе собирался, вместе с пастухами. На всякий случай. Ты там поосторожней, папа. Этим хлебоедам всякое в голову стукнуть может. Особенно когда пьяные. А они почти всегда пьяные.
— Думаешь, сыну Лаэрта следует опасаться пьяниц? — Я поднял бровь, чувствуя себя лицедеем на котурнах, запертым в темнице отведенной роли. Ответом был просиявший взгляд Телемаха. Ну конечно! Как он мог забыть?! Разве богоравный отец, вернувшийся с Запада, откуда не возвращаются, способен бояться ничтожных пьяниц?! Позор, мальчишка! Твой папа вообще никого не боится!
А я подумал... впрочем, неважно, что именно я подумал. Последней мыслью было: «Жаль». И горечь усмешки. Будем надеяться, это поправимо. Будем надеяться...
Молодой отец со взрослым сыном вошли во двор.
%%%
Знакомые ворота. Камень боковых скамеек отполирован до блеска. Ряд портиков перед домом. Утоптанный, ровный двор. В глубине, справа — сараи, хлев, баня... Словно и не уезжал. Хотя... Столбов, посвященных Апол-лону-Дорожному и Гермию-Путеводителю, раньше не было. Дом пониже стал, сгорбился. В землю ушел. Или это только кажется? Колонны портиков давно вымыть пора; дверь в нижний коридор открыта, поскрипывает на ветру. Значит, петли жира просят. Ох, драть надо нерадивых рабов! Совсем, понимаешь, от рук отбились, без хозяйского присмотра.
Давай, рыжий. Накричи. Вели пороть рабов.
Двадцать лет спустя — самое времечко.
В коридоре было темно и тихо. Мегарон явно пустовал. Шум слышался из-за дома, с заднего двора — видимо, гости собрались там, на свежем воздухе.
— Пошли? — кивнул Одиссей сыну, потом взглянул на Аргуса... А ведь заподозрить могут: пес теперь за ним как привязанный ходит. Вспомнят, чья собака...
— Аргус, лежать. Умри.
Пес покорно улегся у ворот, в тени. Вытянул блаженно лапы, пристроил на них морду, как на палубе гиппа-гоги, и закрыл глаза. Только бока продолжали едва заметно вздыматься. Почти сразу из-за амбара показались двое рабов в набедренных повязках, волоча корзину с отбросами.
— Ты гляди! Никак Кошмар вернулся! — удивился один из них, останавливаясь перевести дух. — Ф-фу, жарища!..
— Сдох, падлюка! — радостно хмыкнул другой, вглядываясь в лежащую без движения собаку. — Давно пора!
Первый с сомнением поджал губы, ковыряя мизинцем в ухе:
— Этот сдохнет, как же...
— Сдох! Точно тебе говорю. Гляди...
Раб решительно направился к псу. И уже занес босую ногу: как следует пнуть дохлятину! — когда пес слегка тоткрыл один глаз, лениво зевнув во всю пасть. Храбрец шарахнулся прочь (ведь запросто ногу откусит, чудище проклятое!), поскользнулся и, не удержав равновесия, сел прямо в корзину, под хохот товарища:
— Да раньше мы с тобой сдохнем, чем эта тварюка!
Под такое многообещающее изречение отец с сыном ернули за угол.
%%%
— ...Ты кого сюда привел, грязный свинопас?! — разорялся статный красавец. Алый хитон щедро шит золотой канителью. Щегольская опояска: низко, над самыми драми. Ткань напуском поверх пояса, глубокими ладками. Хоть сейчас в храм: статуей. Рядом с красавцем рябой Эвмей смотрелся диким сатиром. Хмыкал, отмалчивался, изображая полного дурака.
Красавчик! — горячо плеснул в глубине отголосок чужой памяти.
Я с настороженным интересом прислушался к себе. Вчера, коснувшись чернобородого Меланфия, когда невидимые стрелы прошили козопаса насквозь, на миг связав нас в единое целое, не задержался ли я в потемках чужой души слишком долго? Ведь Меланфия больше нет, ушел прочь по смутной дороге, но ошметки предателя остались.
Память ты, моя память!.. Воровка несчастная. Стараясь отвлечься, я быстро окинул взглядом собравшихся. Не люди — шелуха. Не имена — собачьи клички. Вот этот, с холеными, украшенными перстнями пальцами, похожий на стареющую блудницу, — Мямля. Дородный, с русой бородой, завитой колечками, — Богатей. Верзила, он Верзила и есть... опять же, Красавчик... Чужая память медленно, взбаламученным песком, оседала на дно. Впрочем, часть кличек и презрительное словечко «шелуха» — остались. Ощущение не из приятных, хотя я надеялся: обрывки скоро растворятся, исчезнут без следа.
Ладно. Проплыли.
— Ты кого привел, спрашиваю?! Еще одного дармоеда?! Мало тут их шляется?!
— Это точно! — Обидно подмигивая, шепнул на ухо мой сын. Я кивнул. Плотно сжал губы, мешая смеху вырваться наружу.
Потому что Протесилай-филакиец был уже здесь. Одет в рванину. Борода колтуном. Босые ноги — в пыли. На плече — видавшая виды латаная котомка. Наружу торчит обглоданная кость и щербатый край миски для подаяний. Скособочась, филакиец ковылял между вынесенными во двор столами. Гнусаво плакался:
— А герою Троянской войны! А на пропитание! А кому чего не жалко! А боги любят щедрых! Сами мы не местные, родных никого не осталось, в порту обокрали...
При этом Протесилай нахально грохал миску (не свою, из мешка, а украденную со стола!) перед очередным женихом, завывая жертве в самое ухо. Жертва морщилась, спеша отстраниться, и, дабы поскорее избавиться от при-ставучего бродяги, швыряла в миску «отступное». Кусок мяса, ломоть сыра или лепешка мигом перекочевывали в нутро котомки, что-то Протесилай совал в рот, невнятно благодарил и спешил дальше.
В общем, развлекался от души.
Клянусь, я ему даже позавидовал. Надо было не прорицателем — нищим явиться. Для потехи. Вечное промахиваюсь...
— В последний раз тебя спрашиваю, негодяй: кого ты притащил?! Гони его немедленно, пока я за палку не взялся!
Отчаянно тренькнув напоследок, смолкла лира. Бывает: наигрывает себе аэд мелодию без слов, никто его толком не слушает. Едят, пьют, спорят. А уйдет струнный ропот — тишина не тишина, только чего-то не хватает. Мой взгляд словно ожил: заметался меж пирующими... дальше!.. дальше!..
И вдруг уперся в отчаяннные, синие глаза... Ангела! Впервые Ангел смотрел на меня так. Даже под Троей было иначе. Так, наверное, смертный должен смотреть на явившегося ему бога. Обычный смертный. Не такой, как Одиссей, сын Лаэрта. Потому что я-не обычный. Я сумасшедший. Это все знают. И на богов, наверное, поэтому смотрю неправильно. Вот Ангел и решил научить. На своем примере.
А потом мы отвернулись. Оба.
Откуда беглецу-прорицателю знать бродягу-певца?
— Этот несчастный бежал от феспротов, желавших продать его в рабство, — Эвмей наконец прекратил корчить немого болвана. Скорчил самую благопристойную и богобоязненную рожу, на какую был способен, но получилось не слишком убедительно. — Феспроты ночевали в бухте за Эрмийским холмом, вот он и спрятался в ивняке. Боги велят подавать горемыкам. Значит...
— Значит, так. Если этот поганый... — возвышая голос, начал было Красавчик. Но тут его слова с легкостью заглушил вопль Протесилая, добравшегося наконец и до самого Красавчика:
— А подай мне и ты, красивый господин! А разве может оказаться жадиной такой богоравный красавец?! А сердце Пенелопы расположено к добрым и щедрым! Все не поскупились, уважили мою дряхлость! А подай же мне и ты, герой из героев! Винишка бы дедушке! Сладенького!
Справедливости ради стоит заметить: сумей филакиец сожрать в один присест все, чем сейчас была набита его котомка, наверняка бы лопнул.
— Иди прочь, бездельник! — разъярился Красавчик. Лицо жениха пошло багровыми пятнами, сразу утратив всю привлекательность. — Наймись в пастухи, заработаешь на лепешку с сыром. Ишь, объедала! Винишка ему! Сладенького ему!..
— В чужом доме у тебя корки хлеба не выпросишь, — Протесилай в испуге заковылял прочь, оглядываясь через плечо. — Небось у себя-то щепоть соли пожалеешь!..
— Ах ты, дрянь злоязыкая! Держи милостыню!
Подхватив деревянную скамейку для ног, окончательно взбешенный Красавчик с силой швырнул ее в спину филакийцу. Краем глаза я заметил: мой Старик машинально качнулся в сторону, пригибаясь. Словно уклонялся от удара. Наверное, Протесилай вполне мог сделать то же самое. Но не стал. Скамейка с треском разлетелась на куски, плашмяврезавшись филакийцу в бок, а «нищий» спокойно побрел дальше, забыв хотя бы качнуться для приличия.
Дружный хохот.
Я не выдержал: присоединился. Они ничего не поняли! Они слепы и глухи! Угоди скамейка в любого из них — три дня охал бы, бедолага! Верное слово: шелуха. Кого боги хотят покарать, того лишают рассудка...
— Молодец, Антиной! Герой!
— Гоните бродягу в шею!
— Надоел!
Орали в основном те, кто сидел далеко от филакий-ца. Когда «бродяга» ковылял мимо — умолкали. На всякий случай. Кое-кто из женихов решил повторить подвиг Красавчика-Антиноя: в спину нищему полетели объедки. Мы со Стариком и сыном стояли рядом, хмуро следя за творившимся бесчинством. Правда, Телемах не замечал главного: филакиец охал, спотыкался, хватался за поясницу — но в итоге град «милостыни» пропал втуне. Зато сидящим за столами изрядно досталось от косоруких товарищей. Мой Старик кивал, думая о своем, и улыбался одними глазами.
— Хватит! — Голос Телемаха, как ни странно, перекрыл шум. — Оставьте его! Тишина. Шелуха подавилась хохотом.
— Экий ты заботливый, Антиной. Словно родной отец, о нашем добре печешься. Может, пора и самому честь знать?
— Экий ты смелый стал, малыш... — прищурился Антиной-Красавчик. — О-о-о, да ты уже не малыш! Тебя уже постригли во взрослые! Небось достойного человека нашел. И где же такой благодетель сыскался, поведай нам?!
Лучше бы он помалкивал. Мой сын подбоченился:
— Да уж не среди всякой шушеры! Верно говоришь: за достойным человеком теперь далеко плыть приходится. Дома ведь не сыскать!
— Ну и ну! — в притворном умилении всплеснул руками Богатей. — Садись, хозяин, с нами, с непотребными, за стол! Выпьем за твое пострижение. А кто это с тобой рядом? Не тот ли достойный человек, о котором ты говорил? Или ты имел в виду грязнулю-нищего?!
— Это благородный Феоклимен, сын Полифейда, — на сей раз юноше с трудом удалось подавить возобновившийся хохот. — Феоклимен мой гость, и я бы не посмел тревожить его просьбой о пострижении. Освободите место за столом. Эй, кто там? Мяса моему гостю...
«Каждому — свое место, — думал я, садясь с краю за ближайший стол. — Я за столом. Филакиец — на земле, у стены. Женихи... Не хочу убивать. Не буду. Три эпохи в одном дворе: Протесилай, я и они. Три ступени... вверх? вниз?! О небеса! Неужели Геракл в Калидоне смотрел на меня так, как я сейчас смотрю на них?! Стыдно... Можно ли сделать выбор и не раскаиваться потом?!»
— А боги все, все видят! Скоро, скоро всех нахлебников — поганой метлой! Скоро!
Шелуха дружно сделала вид, что не расслышала последних слов лже-нищего. Ты хочешь их спасти, филакиец? Тычешь в глаза, кричишь в уши. Или ты помогаешь мне выбрать? Поганой метлой... не мечом, стрелой, копьем — метлой.
Мягкий локоть ткнулся в бок.
— Эй, Феоклимен! Ты, говорят, тово... прорицатель, а? — свойски подмигнул оказавшийся рядом Толс-тяк.
— Ну?
Это правильно. Вежливость он примет за слабость. Теперь надменно вздернуть бровь. И впиться зубами в копченого дрозда, давая понять, что к беседе не расположен.
Однако Толстяк вцепился репьем:
— А еще говорят, ты из Аргоса бежишь. Прикончил там одного, а очиститься не успел? Может, врут люди? А, Феоклимен?
Буркнуть что-то неразборчивое. Пожать плечами. Ни «да», ни «нет». Смотри-ка, дошло! Отстал.
Лишь проворчал напоследок:
— Ну ты смотри, ясновидец. Ясно смотри, значит. Может, дело у нас к тебе будет. Может, и очистит тебя кто. Головой думай...
Моргнул со значением и отвернулся, якобы потеряв к гостю интерес. Я затылком ощущал направленные на меня взгляды. Изучающие. Заинтересованные. Паутина, — и центр паутины — я. Мухи делают ставки на паука. Дергают липкие нити. Проверяют. Лелеют великие мушиные замыслы. Эй, шелуха: зачем тебе понадобился беглый-неочищенный прорицатель Феоклимен?!
Зачем?!
Это совсем другие люди. Совсем. Другие. Уж они нашли бы предлог, чтобы не идти на войну! Причем дружно, всей собравшейся здесь толпой. И не пошли бы. Послали бы других, но сами... Может быть, это хорошо? Ведь сумей я тогда отказаться... Они не станут брать крепость штурмом. «Ого-го — и на стенку!» — не для них. И обходным маневром брать не станут. Эти постараются договориться. А если обломится: встанут под стенами, будут долго и нудно слать парламентеров, торговаться... Нет, убить они тоже способны: придушить спящего подушкой, отравить, «уронить» невзначай со скалы... Здесь мы похожи. Но сначала они крепко подумают. Взвесят. Прикинут. И если увидят способ убить, по-прежнему оставаясь всем скопом, а не выделяясь — убьют. Это не хорошо и не плохо. Они просто такие. Очень просто. А мы были — другие.
Были?!
Почему — были?! Мы — есть! Я, Диомед, Калхант, Протесилай...
Или все-таки: «были»?! Не хочу убивать. Не стану. Поганой метлой.
Иначе война, явившись в мой дом незваным гостем, скажет по-хозяйски: «Я вернулась!»
%%%
— Ишь! Расселся, старый хрыч! Чужой кусок хлеба заедаешь?! Иди отсюда! А то, гляди, зубы пересчитаю!
Сперва я решил: Красавчик взялся за прежнее. Нет, голос другой. Шепелявый, надсадный. Весьма противный, надо сказать.
— О, Арнеон пришел! Дай ему, Арнеончик! Над филакийцем, блаженно привалившимся к стене дома, сыпал проклятьями настоящий попрошайка. Костист, длинноног: журавль, ради смеха нацепивший грязный хитон. В руках у «журавля» была суковатая палка. Нет. Я его не помню.
Наверное, без меня завелся.
— А садись рядом, собрат по несчастью, — добродушно разлепил веки Протесилай. — К чему ссориться? Что нам делить?!
— Делить?! — обернулся попрошайка к шелухе. — Занял чужое место, набил брюхо дармовыми харчами, а теперь: «Что нам делить?!» Давай сюда котомку и уноси ноги! Пока я добрый!
— Так его, Арнеон! Гони!
— Геракл спорит с Антеем!
— Вот потеха! Двое нищебродов объедки не поделили!
— А давайте-ка их стравим? Пусть дерутся! Кто победит — того накормим досыта! А другого в шею!
— Точно! Давайте!
— Ты на кого ставишь?
— Я — на Арнеона.
— И я!
— И я!.. Ир, врежь чужаку!
Похоже, «Ир» — это было прозвище долговязого Арнеона. От Ириды-Радужной, что ли? Еще один посыльный Глубокоуважаемых?! Интересно, какими-такими Деяниями попрошайка ухитрился заслужить свою кличку?
— ...Ставлю на гостя.
%%%
Память ты, моя память. Нацеди мне в кубок твоей крови: густой, черной. Дай отхлебнуть. Отказываюсь вспомнить? — Заставь оилой. Ты же видишь: мне все трудней отстраняться. Глядеть на себя сверху, сбоку, снизу. Все меньше хладнокровного — «он». Все больше растерзанного — "я". Я, я, я...
Одиссей, сын Лаэрта.
Это было вчера. Впрочем, нет. Зеленая звезда застряла в путанице ветвей, ночь давно перешла серединный рубеж. Скоро рассвет. Значит, это было позавчера. Рукой подать. Вот я и тянусь: рукой, душой, беззвучным криком ребенка у предела.
Вот она, на балконе талама: Пенелопа, дочь Икария.
— Ставлю на гостя.
Хорошо, что я не аэд. Хорошо, что забившийся в угол двора Ангел промолчал. Не завел что-нибудь вроде: «Образ ее просиял той красой несказанной, какою в пламенно-быстрой и в сладостно-томной с Харитами пляске образ Киприды...» Клянусь, я готов был задушить его за любое слово. Только тишина могла стоять между нами. Только дыхание, разделенное на двоих.
Радуйся, рыжая.
Я не знаю, что сказать. Что сделать. Что подумать. Все слова — покой, восторг, упоение, страсть — ложь. Все. Слова. Ложь. Я забыл все слова; я убил все вопросы. Ты изменилась, рыжая. Слегка располнела, став похожей на мою мать. «Гусиные лапки» в уголках зеленых глаз. Слишком яркая киноварь на губах. Слишком темные тени на веках. Слишком праздничный наряд. Золотые колокольцы в ушах; яшма и топаз на пальцах, впившихся в перила.
Не раздави перила, рыжая.
Не смотри на меня.
Пожалуйста.
— Вот.
Серебряное запястье летит вниз. К ногам Протесилая. Сгустком драгоценного ихора валяется в пыли. Я знаю! это запястье.
Рыжая, это я подарил его тебе.
Я, который сейчас годится тебе едва ли не в сыновья.
— Если гость победит, это будет верный знак: недолго дому мужа моего быть разоряемым!
Лицо твое, рыжая, пылает тайным светом. Годы? — Пустяк. Ты прекрасна. Ты — дом. Родина. Я никогда не расставался с тобой. Я знаю этот свет.
Имя ему — ненависть.
Мне кажется: не умеющий ненавидеть, я сейчас загораюсь от твоего огня. Не надо, рыжая. Не сожги меня на пороге.
Прошу тебя.
Когда Протесилай выволок избитого попрошайку за догу и, вернувшись, спокойно принялся поедать жареный козий желудок — моя жена долго смотрела на него. Слишком долго. Слишком пристально. Все молчали. Драка получилась неинтересной. Скучной. Удар Арнеона. Удар филакийца. Все. Тишина. Лишь женщина на балконe стоит, молча глядя вниз, на победителя, и губы женщины беззвучно шевелятся. «Вы все сдохнете! Все!!!» Рядом громко чихнул мой сын. Женщина на балконе победно расхохоталась, будто услыхала знамение: ясное, однозначное. На миг почудилось: там, на балконе — черная, старушечья тень. Крылья за спиной: кожистые, злые. А внизу, вместо драконов, даже не крысы — свиньи. Хорошо, что с попрошайкой дрался не я.
Я бы его, наверное, убил.
СТРОФА-II Кого боги хотят покарать...
Ладонь на плече.
— Почтенный! Госпожа басилисса приглашает тебя в Покои для беседы. Она узнала, что ты — прорицатель, ой господин, и хотела бы...
Я ведь тогда растерялся, няня. Испугался. Я не знал, то тебе сказать. Будто снова на палубе гиппагоги, когда они сгрудились вокруг моего сына: Эвмей, Филойтий,! остальные... Годами мечталось: оборачиваюсь, а напротив — ты, нянюшка Эвриклея. Сбылось. Я смотрю в твои выцветшие глаза, взгляд скользит по знакомому с детства лицу, тщетно пытаясь разгладить избороздившие его морщины, — ты должна, обязана откликнуться! Няня, раньше от тебя ничего нельзя было скрыть! Няня, это я, я вернулся...
Но ты молча ждала ответа.
Перед тобой стоял прорицатель Феоклимен из Аргоса. Чужое, обжигающее чувство медленно отступало. Еще немного, и я кинулся бы на всех. Растерзал бы. Прямо сейчас. Голыми руками. Словом. Стрелами. Ножом. Не важно, чем. За узнавание надо платить — я готов дать нужную цену. Я... я действительно готов?!
— Идем, мой господин. Басилисса ждет.
— Д-да... конечно. Идем.
А Эвриклея уже мимо меня смотрит. На Протесилая, залитого вкусным жиром. Как он жует, сутулясь и смешно шевеля ушами. Почему ты так пристально смотришь на филакийца, няня? Неужели не видишь, кто стоит рядом с тобой?!
— Сюда, мой господин...
Легонько поскрипывают, напевая полузабытую мелодию, ступени под ногами. Хочется лететь птицей, но каждый шаг дается с трудом. Словно в подошвы сандалий залили по паре талантов свинца. Сердце гулко охает, жалуясь, в такт шагам. В ушах нарастает далекий-звон. Что со мной? Я боюсь? Чего?! Ведь я же вернулся! Я дома! Сейчас наконец увижу свою жену: близко-близко. Я к ней плыл все эти годы. К ней, к сыну, к отцу...
«...Тайные ходы нужны, когда не любишь. Тогда ломишься силой, подкрадываешься со спины или идешь в обход. Когда любишь, просто идешь. Навстречу; без тайны».
— Прошу, мой господин.
Меня ослепило рыжим огнем. Лицо женщины в высоком кресле смазалось перед глазами, поплыло... Не вижу знакомой комнаты, мебели, утвари, не вижу ничего вокруг — только лицо моей жены. Лицо украденных у нас двадцати лет счастья. Слабый образ тает в тумане; в седом тумане Океана, разделяющего двоих. Ты плачешь, Одиссей, сын Лаэрта? Нет, ты правда плачешь?! Плюнь да все! На свою дурацкую личину, на заполнившую двор шелуху; на осторожность, будь она трижды проклята! Ведь это же Пенелопа! Женщина, которая ждала тебя, дурака, два десятка лет! Дождалась! Кинься навстречу, обними, шепни на ухо или крикни во весь голос: «Я вернулся!»
Она узнает. Она обязательно узнает...
— Радуйся, басилисса. Я Феоклимен, сын Полифей-да, прорицатель.
Ты ли это, рыжий?! Или к твоей жене взаправду пришел некий Феоклимен из Аргоса, совершенно чужой человек — рассудительный мудрец вместо опрометчивого Зезумца?!
— Радуйся, Феоклимен, сын Полифейда. Присядь в "то кресло. Я хочу поговорить с тобой. Сейчас нам принecyт вина и... Что желает к вину мой гость?
— Жареных в меду орешков. С детства их люблю. Вспомни! Ведь когда-то я уже говорил тебе об этом!
Ты только-только переехала из Спарты на Итаку, всего стеснялась...
— Мой муж тоже любил медовые орешки, — Пенелопа делает знак служанке, ждущей у входа в покои. Равнодушный, отстраненно вежливый жест. Да, ты изменилась, дочь весельчака Икария и долинной нимфы. Стала старше, жестче. Не прелесть хрупкой и порывистой юности, но зрелая женственность на грани увядания, спокойная и надежная. Тебе под сорок, рыжая моя. А мне... мне...
— Почему же: «любил»? — слова даются с трудом. В горле поселился чужак, он мерзко косноязычен. — Твой муж жив, басилисса! Я знаю, многие лгали тебе, надеясь на подарки. Ты устала верить, ждать и надеяться — но я ясно вижу скрытое от зрячих слепцов. Твой муж жив!
— Говори, Феоклимен, сын Полифейда! Говори! Я слушаю.
Подалась вперед. Глаза загорелись, на лице румянец — пятнами. Сейчас вспыхнет факелом. Ожидание, тоска: сухая солома. Брось искру... А я, свинья последняя, комедию перед ней ломаю! Ну хорошо, вот тебе еще подсказка: догадайся!
«Тайные ходы нужны...»
— Верь мне, басилисса! Клянусь очагом этого благословенного дома, клянусь трапезой за вашим столом: твой муж, Одиссей, сын Лаэрта, — близко!
— Говори, Феоклимен! Говори...
Как ей идет этот темно-зеленый гиматий: блеск отлива, золото каймы по краю! Шелестит, искрится, переливается волна ткани, зелеными звездами горят в ответ глаза басилиссы, рыжей зарей полыхают волосы. Я влюблен. Я — безумный мальчишка.
Почему я медлю, идя по лезвию?!
— ...Твой муж совсем рядом! Недолго осталось тебе, басилисса, терпеть домогательства своры женихов. Одиссей все знает. Скоро, скоро положит он конец их бесчинствам! Верь мне, басилисса!
— О, как бы я хотела верить тебе, прорицатель! Служанка, бесшумная и молчаливая, как тень, ставит на столик кубок с вином. Блюдо с орешками. Исчезает по мановению руки басилиссы. Конечно, тени негоже присутствовать при нашей беседе. Нашей возвышенной, трогательной, достойной запечатлеться в веках беседе! Я пригубил вина. Жаль, оскомина от сказанного осталась: не смыть. Чтобы хоть как-то снять эту дурацкую возвышенность, нахально захрустел орешками. Действительно, с детства их люблю.
— Да, я очень хотела бы тебе верить... — Она словно очнулась. Вгляделась в меня пристальнее. Ну же!
— ...Если слова твои сбудутся — ты ни в чем не будешь знать нужды! Я слышала, ты бежишь от кровников? Ищешь очищения?! Если мой муж вернется, он с радостью очистит доброго вестника. Так ты говоришь. Одиссей, неузнанный, скрывается на Итаке?
— Да, басилисса. Я вижу это так же ясно, как вижу сейчас тебя.
— И что, давно он вернулся?
Глядит с надеждой, когда надо бы — с радостью. Не узнает. И не узнает, пока я сам не откроюсь. Мне ведь еще нет двадцати пяти! Кто бы поверил в такое — после двух десятилетий разлуки?! Никто. Да, я могу быть очень убедительным. Могу заставить ее поверить.
«Тайные ходы нужны, когда не любишь. Тогда ломишься силой, подкрадываешься со спины или идешь в обход...»
— Недавно, басилисса. Двух дней не прошло.
— ...Двух дней не прошло... — задумчиво повторяет она, вновь глядя куда-то мимо меня, в одной ей ведомую даль. «Совсем как няня во дворе!» — обжигает непрошеная мысль. Няня тогда смотрела на филакийца. А Пенелопа...
— Скажи мне, Феоклимен, что за человека привел в наш дом свинопас Эвмей?
— Госпожа имеет в виду старика-нищего? Которого ты поспешила с балкона объявить своим гостем?
— Да-да, именно его! Вы знакомы?
— Нет. Я даже не знаю его имени.
— Жаль... Но ты хотя бы знаешь, откуда он явился? Чем занимался раньше?
— Я мог бы спросить у птиц, богоравная. Но для этого мне потребуется некоторое время. А так... Слухи, пересуды. Говорят, он воевал под Троей, потом у берегов Айгюптоса... был в плену у феспротов, бежал...
— ...воевал под Троей... Айгюптос... был в плену... Пенелопа бессвязно повторяет сказанное, как в бреду. О небеса! Кажется, я научился понимать. Она думает, что Протесилай — это я! Здесь филакийца никто не знает. Эвриклея и Ментор видели его один раз мельком в Спарте, во время сватовства к Елене, и наверняка не запомнили. Теперь моей жене, ослепленной иглами надежды, легче признать мужа в незнакомом старике (двадцать лет войны не красят человека!), чем в молодом болтуне-прорицателе, сидящем напротив. История повторяется! Когда Протесилай вернулся домой, его тоже никто не узнавал, пока он не разнес в щепки деревянного идола, занявшего чужое место в супружеской постели. Сейчас я оказался в шкуре филакийца, а он, сам того не желая, — в моей! Что должен сломать, разнести, разрушить я, Одиссей, сын Лаэрта, — чтобы рухнула наконец преграда, разделившая меня и мое возвращение?! Мужа с женой?! Скитальца и родной дом?! Подскажите!
«Когда любишь, просто идешь. Навстречу; без тайны». — ...Спасибо тебе, прорицатель. Ты вселил надежду в ое сердце. Да, Одиссей здесь — и горе стервятникам! Горе!!! Мой муж не прощает оскорблений! Они за все ответят, за все!!!
О небо, что ты говоришь?! Теперь уже я не узнавал свою жену. Разъяренная львица, жаждущая крови, была передо мной.
— Успокойся, басилисса! К чему желать смерти этих жалких людей?
— Нет!
— Изгнание, позор много хуже...
— Нет! Ты зорок, но глуп, прорицатель! Они должны ответить за все! Сдохнуть! Как псы, как мерзкие шелудивые псы!..
Покои наполнились торопливыми шагами: Эвриклея, две служанки...
— Тебе лучше уйти, гадатель. Басилисса расстроена.
— Д-да... конечно... Я не хотел ничего дурного! Я только сказал... ухожу, ухожу... Ухожу.
Снова — ухожу. Я еще не вернулся.
Злые, кожистые крылья бились за моей спиной, и драконы несли упряжку к обрыву.
%%%
Они перехватили меня во дворе. Красавчик, Толстяк и Богатей.
— Вижу, не слишком щедро одарила тебя басилисса. — Жирные щеки Толстяка затряслись студнем. — Ни радости на твоем лице, ни богатых даров в руках...
— Небось дурное напророчил? — с сочувствием поинтересовался Богатей.
А Красавчик молчал. Только разминал кисть правой руки, пальцами хрустел да щурился. Мимо смотрел. Ох, никто мне в лицо сегодня не глядит... Больше всего после истерики, случившейся с Пенелопой, хотелось послать их к Пифону в задницу. Уйти куда-нибудь. В горы. Чтоб никого рядом. Но шелуха если прилипнет... Да и самого разобрало любопытство: что им нужно от беглого прорицателя? Интерес был слабый, вялый: перед глазами, заслоняя остальное, стояла неистовая, яростная, беспощадная Пенелопа. Слишком похожая в гневе своем на сову, и оливу, и крепость, чтобы сердце не зашлось болезненным грохотом.
«...Они должны ответить за все! Сдохнуть! Как псы, как мерзкие шелудивые псы!..»
«...Ты убьешь их всех, папа? Прямо сейчас?»
«...У тебя есть нож, басиленок?»
Итака хочет умыться кровью. Жена, сын, свинопасы-коровники... Отец? Не знаю. Но боюсь, что и он — тоже. Один я упрямлюсь. Брыкаюсь, спорю с судьбой. Или с собой?! Может быть, я так настойчиво миролюбив, потому что на самом деле...
— Уснул, прорицатель? Или с богами разговариваешь? Чего басилиссе-то накаркал, говорю?
— Не ваше дело.
Зря это я. Беглец-пророк должен быть повежливей. Нет, проглотили.
— Ну ты гляди! Совсем не умори ее своими предсказаниями! — Богатей натужно хохотнул. — Ладно, пошли в мегарон. Дело к тебе есть. Глядишь, нам твои слова понравятся больше, чем Одиссеевой вдовушке,
«Вдовушка» лопнувшей тетивой резанула по уху.
— Ну?!
— Ладно. Только если вам будущее провидеть, нам не в мегарон бы идти. В горы. К птицам. Я по птицам лучше гадаю.
Не хочу в мегарон. Не хочу, и все. Без причин. Особой опасности нет, да и ребенок у предела молчит. Впрочем, он молчит уже давно. Может быть, вырос и теперь больше не плачет?
— Ты не прибедняйся, Феоклимен! — осторожно похлопал меня по плечу Толстяк. — Твоя слава быстро бегает. Люди говорят: ты в гавани и прошлое, и будущее — насквозь. Хоть с птичками, хоть без. Мы понимаем: дар редкий, не всякому о нем рассказывать можно, чтоб богов не гневить. И мы не станем языками молоть. Давай, давай...
Вот так, несильно, но настойчиво подталкиваемый в спину Толстяком и Богатеем, я вступил в мужской зал собственного дома. Красавчик шел последним, нарочито топая. Он-то и прикрыл за нами двери. Плотно-плотно.
И засовом изнутри заложил: оборачиваться я не стал, но по звуку понял.
Нас ждали.
Вся шелуха была здесь. Ну, кто жаловался,, что ему в лицо сегодня смотреть не хотят? Тут их добрая сотня собралась; и все взгляды — на тебя! Что ж ты не рад, Одиссей, сын Лаэрта? Мой Старик встал рядом, плечом к плечу, сжимая призрачное копье. Медленно, тяжело оглядел зал: словно в поисках знакомых. Или запоминая. Я невольно последовал его примеру. На столах в изобилии имелись кубки, чаши, кратеры и кувшины с вином, но еды почти не было. В корзине, близ очага, бычья спина, разрубленная надвое. Видно, хотели обжарить, да махнули рукой. Пить станем: от души. На пустой желудок. Песни горланить...
Есть такая застольная песня: «сколия» называется.
ИТАКА.
Мегарон Одиссеева дома (Сколия)
Сколия — букв. «кривая». Застольная песня. Сколии пелись не по порядку сидящих, а так, что подхвативший случайную эстафету участник пира должен был либо окончить начатую песню, либо запеть другую, либо экспромтом сочинить новую.
— Болтают, ты вчера в гавани вещал? — сидевший ближе других Верзила поднялся навстречу. Вразвалочку прошелся передо мной. Моргнул исподтишка лукавым глазом. — Насчет того, кому Итакой править? Может, повторишь? А то у народа язык без костей...
Пожимаю плечами:
— Отчего ж не повторить? Сокола я видел. Голубя в его когтях. Значит: пока жив хоть один мужчина из Арке-сиадов, не бывать на Итаке иным владыкам!
А сомневаются, пускай проверят.
— Не соврали, выходит... не соврали... — Верзила слонялся ожившим деревом. Чесал редкий мох на подбородке. — Хитрюга ты, провидец: брякнул, и понимай, как хочешь!..
О, спохватился:
— Да ты садись, садись! Винца хлебни! Чего зря косяк подпирать?
Ладно. Сажусь на скамью, придвигаю кубок. Эй, Толстяк, плесни из кратера! А руки-то у тебя дрожат, приятель. Вино ты пролил. Самую малость, но пролил. Зато богам плеснуть забыл.
— Ты умный человек, Феоклимен, сын Полифейда, — жестом отстранив Верзилу, вступает в разговор Богатей. — Без обиняков спрашиваю: очищение требуется?
Киваю в ответ. Требуется. Жажду, черный кобель, отмыться добела. А вина мне Толстячок неразбавленного подсунул. Упоить собрался. Задремлю спьяну, они мне, ясновидцу, глазки-то и повыкалывают.
— Вот и славно. Тебе очищение, нам — волю богов из твоих уст. Сам видишь: люди в зале собрались уважаемые, известные. Любой тебя с радостью от скверны очистит. Кстати, тебе ведь в Аргос все равно пути нет?
Снова киваю. Как бы башка не отвалилась.
От пущего согласия.
— Здесь останешься! У нас свой жертвогадатель есть, только он дурак дураком! Ерунду вещает, даже слушать противно!
Богатей машет рукой в угол, где сидит рыхлый коротышка в темном плаще. Услыхав, что речь о нем, коротышка давится вином. Икает, булькает горлом; спешно утирается краем плаща.
По залу катится судорога смеха.
— Сам видишь, Феоклимен: с этого взятки гладки. А ты — другое дело. Ты человек полезный. Ну что, по рукам?
— Итак, я вам предсказываю будущее, а взамен меня очищают от скверны. И звание общественного проксена. Я правильно понял?
— Люблю деловых людей! — весело хлопает себя по бедру Богатей. — Воистину так, зоркий Феоклимен!
— И что же вы хотите знать, богоравные господа мои? Недоброе, пьяное веселье пузырьками щекочется в носу. Ох, пойду пророчить, мало не покажется! А завтра с удовольствием взгляну на их лица, когда выгоню взашей из своего дома.
— Мы хотим ясности. Пока жив хоть один мужчина из Аркесиадов... А если: ни один?! Если все в Аиде?! Тогда как?
— Говорю ж вам, уважаемые: мне бы у птичек спросить. У стервятников, например. Вопросики у вас! Старик Лаэрт вроде бы живой пока, и юный Телемах...
— Заткни пасть! — зло бросает молчавший до сих пор Красавчик. — Вопросы здесь задаем мы. Твое дело: отвечать. Понял, гадатель?
— Понял, красивый. Вы задаете вопросы, а я их убиваю.
— Что?!
— Я хотел сказать: отвечаю.Только у Судьбы на всяя кий вопрос много ответов, а значит — ни одного.
— Эй, прорицатель, давай по-простому, — кричит кто-то от очага. — Кого изберет в мужья Пенелопа?! Этот вопрос можно убивать без раздумий:
— Басилисса уже выбрала. Давно. Ха! Как они сразу заозирались по сторонам, подозрительно косясь друг на друга!
— Темнишь, ясновидец, — раздраженно ворчит Богатей. — Все вы, пророки, такие. Насмотрелся я на вашего брата, наслушался. Ладно, тогда...
— Я его сам спрошу, — цедит Красавчик, нависая надо мной. — Не строй из себя болвана, пророк. Род Аркесия на двух волосках висит. Старик да младенец. Цена тем волоскам: плюнуть и растереть. Ты спроси богов: как оно, а? Знамение бы. И спрашивай с усердием, если выгоду свою видишь...
Наверное, меня должен был обуять гнев. Косматый, страшный. Всякому милосердию есть предел... Странно: гнева не было. Косматого, страшного; никакого. Наверное, я навсегда разминулся с ненавистью. Ничтожества. Земляные черви. Недостойные даже медной подошвы сандалии. Впрочем, не один гнев бежал меня. Отхлынуло море любви, песок скуки просеялся сквозь мелкое сито, и молчал повзрослевший ребенок у предела, где заканчивалось милосердие.
Я тоже молчал. В мегароне царила душная тишина. Лишь треск чадящих факелов на стенах, да чье-то сиплое, с присвистом дыхание.
Не хочу убивать вас. Даже сейчас.
Противно.
— Опомнитесь, слепцы! Разве вы — захватчики, что пришли в дом и теперь жаждете крови его хозяев?! Вы готовы разорвать живьем юношу и старика, вонзить в них клыки и когти — разве так поступают люди?! Или вы звери, что собрались драться из-за самки?..
Сейчас я уже не могу вспомнить всех своих слов, хотя это случилось позавчера. Но речь моя прервалась: мега-рон обратился в скопище безумцев! Женихи повскакивали с мест, опрокидывая скамьи, глаза их налились кровью, из глоток исторгся хриплый смех, больше похожий на рычание львов. Кто-то судорожно лакал вино прямо из широкогорлого кратера, кто-то ползал меж столами на четвереньках, кусая других за ноги, а Красавчик с Богатеем, жадно урча, набросились на сырое мясо: рвать ногтями и зубами.
Обо мне забыли. Наверное, я мог бы спокойно уйти.
— Опомнитесь! Вы же люди! Люди!!!
И все прекратилось. Они поднимались, отирая бороды, не замечая мерзких пятен на одежде. Один за другим оборачивались ко мне.
— Мы ждем, гадатель, — сплевывает багровую слюну Красавчик.
Почему я до сих пор не назвал ни одного из вас по имени?! Только клички, собачьи клички... Какой он Красавчик?! Антиной, сын Эвпейта, сидя в гостях у твоего отца, я держал тебя на коленях! Ты брал из моих рук кусочки хлеба, размоченного в сладком вине, ты смеялся, хлопая в ладоши...
— Ждете?! Ну так слушайте мой ответ! Не вижу я близкой смерти благородного Телемаха и его деда Лаэрта! Но вижу другое: все вы лежите в крови, мертвые! Горе вам, несчастные! Горе! А потому мой вам совет: бегите отсюда все! прочь! прочь!..
Криком я пытался подавить ужас. Еще один шаг... последний шаг...
И они навсегда остались бы зверьми.
— Что ты несешь, пророк недоделанный?!
— Заткнись!
— Тебя ищут кровники? Погоди, погоди... Настойчивый стук в дверь. Били кулаком: с размаху.
Клокочущий от ярости Красавчик бросился, откинул засов.
— Телемах, ты?! Чего тебе надо?!
— Это мой дом, Антиной, — прищурился в ответ мой сын.
— А этот придурок, корчащий из себя прорицателя, и нищий оборванец — твои гости?!
— Да, мои гости.
— Так отдай их нам! Мы продадим их сикулам[64], на край света...
— ...А выручку поделим с тобой, — криво ухмыльнулся Богатей.
— Я не продаю своих гостей, — в голосе Телемаха звучало гордое презрение. Да, таким ты мне нравишься, сын! — Прошу тебя, Феоклимен, пойдем со мной. Нам надо поговорить...
Я не заставил упрашивать себя дважды.
— Ты уже насмотрелся, папа? — спросил Телемах, когда мы вышли в коридор. — Ты убьешь их завтра? С утра?..
АНТИСТРОФА-П
Что не спешите вы встретить царя?..
Что же, князья знаменитой Итаки,
Что не спешите вы встретить царя,
Жертвенной кровью священные знаки
Запечатлеть у его алтаря?
И. Гумилев, «Возвращение Одиссея»Зеленая звезда удивленно моргала мне вслед, когда на закате я выскользнул из своего дома и направился в отцовский. В детство. В начало. В тебя, моя память. Мне чудилось: так будет легче. Я ошибался. Звезда, ты правильно моргала. Ты ждала меня на террасе. Хотела вернуть иную ночь: мы провели ее наедине с тобой, перед отплытием под Трою.
Вместо этого я. Одиссей, пошел в дом Лаэрта.
Садовая ограда в полтора человеческих роста — пустяк. Разбежавшись, легко толкнуть землю ногами. Пальцы ласкают ракушечник, выбеленный луной; тело пустое, словно рыбий пузырь.
Радуйся, сад. Это я.
Помнишь рыжего безумца? Вспомни хоть ты...
Темная громада дома отсюда почти не различима. Ладно. Там, наверное, и нет сейчас никого. Может быть, десяток верных или просто усталых рабов спит в сараях. Запустение. Ожидание. Безнадежность. Дорожки заросли травой, высокий бурьян путается в коленях. В кронах деревьев посвистывает ветер. Или ночная пичуга. Что ты сулишь мне, свист? Полет стрелы?! Здесь, на этом месте, кучерявый друг детства спугнул воробья, выстрелив в безобидный листок. Я тогда еще не знал, что Далеко Разящий не умеет промахиваться. Я многого не знал тогда.
Чабрец стонет под сандалиями, исходя горечью встречи.
Буйно разрослись асфодели. Бледные венчики качаются, склоняют головы набок. Присматриваются: что за тень пришла к нам? Это я. Я пришел. По смутной дороге. Куст жасмина тянется ввысь, хочет стать деревом. Дубом или ясенем. Не надо, куст. Из тебя сделают корабль, и придется уплывать навсегда. Лучше весной закипеть белой пеной, на миг ощутив себя морем. Море никуда не уходит. Море остается.
Под ногами хлюпает.
Останавливаюсь.
Малый, рукотворный пруд. Десять локтей в поперечнике. Ряска, тина, и — желтое, тусклое золото лотоса. Наклонись, собирай; стань богачом. Смеюсь, закрывая рот рукой. Папа, ты верен себе. Ты получил мое послание; не знаю, как, но получил. Думаю, женихи изрядно потешались над причудами впавшего в детство старика, Вот он, кумир лотофагов. Сорвать, откусить. Воспарить в желтый сон. Перепробовать сотню способов возвращения. Спасти, убить, заставить... изгнать... уйти...
Продолжая смеяться, опускаюсь на камень.
Бесформенный, ноздреватый камень, случайно оказавшийся на пути. У кромки пруда. От камня тянет слабым, насмешливым теплом. Мне хорошо сидеть. Хорошо возвращаться.
Хорошо, гарпии вас раздери!
Час назад я стоял в крытом преддомье, возле гостевых комнат. Размышлял о том, какое удивительное слово: преддомье. В нем надежда и проклятье. Встреча и прощание. По левую руку, из-за закрытой двери, раздался женский крик. Кричала Эвриклея — не узнать нянин голос я не мог. Почти сразу крик сменился задушенным хрипением. Ноги думали сами: прыжок. Руки думали сами: рывок. Дверь распахнулась, и я стал свидетелем немой сцены: Протесилай-филакиец, опустив босые ступни в лохань с горячей водой, зажимал няне рот ладонью.
— Молчи! Убью!.. — Увидев меня, филакиец мотнул головой: выйди, мол, все в порядке! И снова к няне:
— Молчи!
Позже, когда Эвриклея — светясь счастьем или тем огнем, чье имя я уже знал, — вела филакийца наверх, в гинекей, он нашел предлог задержаться. Перекинуться со мной парой слов: наедине.
— Твоя жена хочет побеседовать со мной. — Протесилай смотрел в землю, кусая губы. В эти минуты он как нельзя больше походил на моего Старика. — Твоя няня... знаешь, рыжий: по-моему, они перепутали нас с тобой. Старуха мыла мне ноги, увидела шрам. Кричит: Одиссей! Ты вернулся! Пришлось утихомиривать. У тебя правда есть такой шрам? На голени, под коленом? Старуха говорила: вепрь...
— Нет, — сказал я. — У меня не осталось шрама. Меня лечили амброзией. Или нектаром, точно не знаю.
— А-а, — буркнул филакиец, как если бы амброзия в качестве лекарства была для .него делом обычным. — Ясно.
И пошел прочь.
К моей жене.
Думаю, он хотел сказать мне что-то еще, но промолчал. Чтобы не убивать вопросы.
— Радуйся, милый!.. Это я...
Это тишина за спиной. Смолк ветер в ветвях, замерли бледные венчики асфоделей, дрогнули лотосы в пруду. Спящий дом зашевелился, подбросив в небо горсть птиц с перил. Далеко внизу замер прибой, распластавшись на острой гальке, и воцарившаяся тишина ласково шепнула мне:
— Радуйся, милый!.. Это я...
Я не ответил.
А что, собственно, нужно было ответить?
Прошуршали легкие, невесомые шаги. Две ладони легли мне на плечи, помедлили, взъерошили волосы на затылке; мягкая, полная грудь прижалась к моей спине, не торопясь отпрянуть.
Всегда любил полногрудых.
Как папа.
— Я не ожидал, что ты придешь.
А что я должен был сказать ей? «Я не ожидал, что ты осмелишься прийти»?! «Посмеешь явиться накануне истинного возвращения, встать между мной и моей семьей, между прошлым и будущим, на хрупкой и почти несуществующей границе настоящего»?! Или вместо этого, даже в невысказанности своей, даже в мыслях опасного куда больше, чем острие кинжала у затылочной ямки, надо было просто сказать главное — то, чего она еще не знает и чему никогда не поверит:
«Я вернусь»?
Змея свернулась на алтаре, кусая свой хвост.
— Ты самый лучший, милый... самый лучший...
— Ничего подобного, — от бесформенного камня исходила ровная, спокойная сила. Если сперва я раздумывал: встать и обернуться, рискуя опять увидеть знакомое-чужое лицо, или откинуться назад, утонув затылком в мягком тепле? — то сейчас выбрал покой. — Калхант лучше меня умеет умирать, оставаясь в живых. Диомед из Аргоса лучше уходит... гораздо лучше. Малыш Лигерон и Аякс-Большой умирают много лучше, чем я убиваю. Менелай умел надеяться и прощать, Нестор — притворяться, Иссин-Мардук, если он еще жив, умеет делать правильные ставки; я не умею ни того, ни другого, ни третьего. Мой папа добрый, а я нет. Хочешь, я наконец познакомлю тебя с папой?
— Ты дурачок... Я уже знакома с твоим отцом. Он слишком долго вмешивался в дела распадающегося Номоса, чтобы и дальше оставаться невидимкой.
Ну вот, теперь куда больше похоже на правду.
— Дурачок... я и сама не знаю, за что тебя люблю.
— Тоже мне загадка Сфинкса...
— А ты знаешь разгадку?
— Конечно. Я рыжий, коренастый, сумасшедший и слегка хромаю. А еще я очень хитрый. Скажи Ангелу, чтобы прекратил прятаться в кустах. Он так сопит, что даже мертвый услышит.
— Я не ошиблась в тебе, милый. Ты вернулся. Вернулся ко мне. К нам. Ты этого еще не понял, но у нас впереди много времени. У нас впереди вечность. Если, конечно, мы заблаговременно позаботимся о своем будущем. Знаешь, Схетлиос[65] теперь торчит на севере. Наконец примирился со Стратием: редкий пример отцовской любви и сыновней почтительности. Надеются, что Гераклиды с дорийцами придут, неся на остриях мечей их имена. Ортия вместе с Мачехой пропадают на востоке, рассчитывая на киммерийцев; Киприда — на юго-востоке, вместе с Фебом. У них там свой интерес. Черногривый мечется, не зная, какому морю отдать предпочтение. А мы с Ангелом — здесь. Мы тоже умеем делать правильные ставки: на запад. И вот: ты вернулся.
Молчу.
Сидя на камне, молчаливом, как и я.
Мне скучно.
— Ты подумай, милый. Ты хорошо подумай. Ну зачем тебе понадобилось запирать остров? — напустил туману, закрыл все пути... Зачем?! Мы и так здесь, с тобой. Одна семья. Хочешь, завтра они будут валяться у тебя в ногах? лицом в песок?! Хочешь, тебе построят храм? Храм Одиссея-Возвращающегося?! Да они все молиться на тебя будут!..
Главное: молчать. Сидеть на камне, не вставая, когда предлагают небо. Опять. Снова. Только встань: пропадешь. Все, кому нужен я, не нужны мне. Всем, кто нужен мне, не нужен я.
— Нас ждет великое будущее, милый. Ты, я... Ангел... мой сын Диомед. Он согласится, он обязательно согласится. Убери туман, ладно? Прошу тебя. Мне нечем дышать.
Вы изнасиловали мою жизнь, молчал я. Чтобы назвать насилие любовью. Вы бросаете мне под ноги облака, забирая землю. Облака в крови умирающего заката. Я не встану с этого камня. Я не стану отвечать.
Я никогда не забуду тебя, сова, и олива, и крепость.
Уходи.
— Хорошо, милый. Подумай. Взвесь. Без нас, в одиночку, тебе будет трудно удержаться. И запомни: ты сумел запереть нас на своей Итаке, и нам не выбраться без твоей помощи. Это победа, милый. Победа над равными. Это последний шаг... знаешь, после Трои я поняла: ты просто обречен на победу...
Зеленая звезда, погоди. Не падай. Я скоро.
%%%
— ...Дядя, ты сто здесь делаес?
Над головой: ветка оливы. Серебристые листья с краю чуть подсвечены розовым. Легко трепещут на утреннем ветру. А выше, много выше — бескрайняя голубизна неба. Паруса облаков разорваны в клочья. Вставать совсем не хочется. Хочется лежать, смотреть на ветку оливы (...крыло совы? башню крепости?!), и дальше, выше — в небо.
К сожалению, нам редко удается делать именно то, что хочется.
— Сплю я здесь.
— Дядя-влуска! Дядя-влуска! Ты не спис. Ты глазки пялис.
— Ну, значит, не сплю. Проснулся.
Сажусь. Передо мной, выше пояса утонув в бурьяне, белобрысое чудо. Конопатое. На щеке ссадина. Гиматий на боку порван. Лет через десять отбою от парней не будет.
Чуть склонив голову набок, чудо смотрит на меня. Щурится:
— Дядя, ты засем в садик залез? Цветоськи класть?
— Я не залез. Я здесь гулял. А потом заснул.
— А мне мамка носью в садике спать не велит, — грустно вздыхает чудо. Но долго грустить скучно. — Зато гулять позволяет! Днем.
Я привалился спиной к стволу. Блаженная одурь сна еще бродила в голове; так бы всю жизнь просидел.
— А хочешь, угадаю, как тебя зовут?
— Угадай!
— Тебя зовут... тебя зовут... Медуза Горгона!
— Не-е-ет! — Восторг был беспределен.
— Ну, тогда тебя зовут... Химера!
— Нет! Не Химела!
— Ехидна? Ламия-Медноножка?! Ты меня съешь, да?!
— Глупый, глупый дядя! Меня зовут Пенелопа!
Ствол вдруг показался очень шершавым.
— Меня так папка назвал. В сесть басилиссы. Я когда выласту, зенюсь на Одиссее! Мне так все говолят, — видимо, в подтверждение своих слов, чудо запрыгало на одной ножке.
— На Одиссее не надо, — само вырвалось. — Он уплывет на войну, а тебе его ждать придется. Долго-долго.
— От меня не уплывет! — уверенно заявило чудо по имени Пенелопа. — А если уплывет, то быстленько вел-нется!
— А кто твои папа и мама?
Вопросы сыпались из меня, как из дырявого мешка. Не хочу вставать, вот и тяну время.
— Не знаес?! Глупый дядька! Мой папка — дамат Ментол, а мамка — Ксантиппа. Она за этим дволцом следит.
— А где они сейчас, твои папа и мама?
— Мамка тут, во дволце. А папка к больсой Пенелопе посол. Туда все поели. Больсая Пенелопа сегодня зенится!
— Как это: женится?! — Я едва не подскочил.
— Ты не знаес, как зенятся? — Чудо перестало скакать. Заинтересованно склонило голову к другому плечу. — Ой, куда ты, дядя?!
%%%
Дорога самоубийственно бросалась под ноги, прожитой жизнью уносясь назад. Щелкают по камням подошвы, клубится пыль: Троянский конь несется галопом. Не знаю, как быстро я домчался до своего дома. Влетел в распахнутые настежь ворота. Протолкался через толпу, запрудившую двор. Краем глаза успел заметить Эвмея с Филойтием: под плащами — кожа и бляхи доспехов. Еще десяток старых свинопасов. Взволнованный Ментор. Дальше! Дальше!..
Когда моя спина перекрыла распахнутые, как и ворота, двери мегарона, с внешнего конца коридора послышался ропот раздражения. Но сейчас мне было не до недовольства толпы.
...Я увидел свой лук.
В руках у Богатея.
Все остальное: застыла в напряженном ожидании шелуха, сдвинуты в угол столы, ровный ряд из двенадцати жердей с кольцами наверху — все это я увидел потом.
Пенелопа в этот миг могла выйти замуж хоть за Олимпийскую Дюжину разом, Итака могла пойти на дно. Небо и земля — трижды вернуть друг другу серебро приданого. Вряд ли это тронуло бы меня. Мой лук в руках другого! В глазах выжглось вечным, позорным клеймом: Богатей держит мой лук над огнем, медленно проворачивает и, возбужденно сопя, мажет древко жиром.
— Все равно не натянешь! — злорадно крикнул Мямля.
Цепкие пальцы сомкнулись на плече. Увлекли прочь от дверей, к ближней колонне. Вне себя от ярости, я рванулся, оборачиваясь и занося руку для удара: вместо сердца — Кронов котел, вместо души — алтарь, кишащий ядовитыми гадинами...
Вот оно, рядом: лицо Протесилая из Филаки.
«Живи долго, мальчик...»
Ярость неохотно отступила, свилась клубком в низу живота.
Свистящий шепот филакийца:
— ...где тебя носит?! Твои жена с нянькой — они совсем рехнулись! Полночи в гинекее просидел... Ты не подумай, рыжий, ничего такого! Говорили просто. А когда уходить собрался, твоя мне заявляет: все, мол, довольно! Нет сил ждать! С утра возвещу: кто мужнин лук натянет... А сама на меня смотрит, со значением. Улыбается...
Протесилай тесно прижал меня к колонне. Мощный, борцовский захват, жар дыхания. Нас теперь никто не видел (и, надеюсь, не слышал) — но я тоже не мог видеть творящегося в зале бесчинства. Чадят факелы на стенах: хихикают. Копоть разъедает балки: издевается. Очаг от стыда захлебывается горечью золы. Мой лук! Пусти, филакиец!
Я должен...
— ...искать. А тебя Гидра языком слизала! Я туда, я сюда: вдруг ты сам это задумал, а я только все испорчу?
Нянька твоя бешеная... на рассвете чуть не за уши в мегарон тащит. Я ей: куда мне, нищему, на состязания? Не место мне там. А старуха смеется: место, место... Она, значит, и предупредила, кого надо, чтоб начеку были, и лишнее оружие велела припрятать. Дело за малым. А сама медным тазом сияет...
Пусти меня!
Прочь!
— Рыжий, здесь не кровью пахнет! Здесь хуже!.. У меня нюх, я чую...
Я толкнул его в грудь. Вырвался из-за колонны. Вот она, Пенелопа. Под галереей, в тени стоит. Озирается с беспокойством: филакийца из виду потеряла. А вот и Телемах с ней рядом. Как же я их сразу не заметил?! А на лук в первую очередь смотрел, потому что...
Лук! Мой лук!
— ...пупок развяжется! — ехидные смешки отовсюду. Богатей явно не первый. До него многие пробовали. Многие! Мой лук!
— Да его сам Геракл не натянет! Дюжина колец... Враки!
— А ну, дай сюда!
Рядом с Богатеем возник Красавчик. Отобрал лук. Я стою?! Я смотрю?! И еще не сдох от стыда?! Красавчик закрепил тетиву с одной стороны. Взялся правой рукой за ушко, левой — за роговой наконечник древка, выгнутый наподобие шеи лебедя. Переступил через середину лука, зажав упрямца между бедрами. Налег со всей силы — лук едва заметно подался, и только. На лбу Красавчика выступил пот, на руках вздулись жилы: хитон задрался чуть ли не до пояса, обнажая волосатые ляжки. Он попытался еще раз...
Дрянной человечишка хотел изнасиловать мой лук.
Они должны ответить за все! Сдохнуть! Как псы, как мерзкие шелудивые псы!..
— Сегодня неудачный день для состязаний, басилисса, — отдышавшись, громко заявил Красавчик. Пот обильно стекал по его раскрасневшемуся лицу. — Ты поторопилась. Завтра — празднество в честь Аполлона-Лучника. Эти состязания следовало бы посвятить ему: Феб гневается на нас. Завтра мы принесем обильные жертвы...
— Верно, верно!.. — подхватила шелуха. — Молодец, Антиной! Отложим! До завтра...
— Дайте лук страннику.
Я уже знал эту дрожь в низком, грудном голосе. Предчувствие бури. Моя жена была на грани истерики. Подойти? Открыться прямо сейчас? Не послужу ли я последним толчком?! Драконы несут колесницу по краю пропасти, щебень летит из-под когтистых лап, из-под колесных ободов...
Мысли казались чужими.
Злые, кожистые крылья хлестали душу, иссеченную в кровь.
Жена? Сын? Отец? Жизнь?!
Лук!
— Что? Этому бродяге? Пусть радуется, что ему не отрубили уши за наглость!
В подтверждение угрозы Красавчик схватился за нож.
— Дайте лук страннику!
— Позор! Все оборванцы на свете будут потешаться над нами!
Толстяк, широко размахнувшись, запустил кувшином в выступившего из-за колонны филакийца. Мимо. Звонкий треск, брызжут черепки. Один задевает мое плечо.
— Дайте лук страннику! Немедленно!!!
— Мама, прекрати!
— Дайте!!!
— Я уже взрослый, мама! — Телемах взвился живым языком пламени. Быть пожару. — Я в доме хозяин! Иди наверх, займись пряжей!
В полной тишине Пенелопа выбежала прочь. Едва не сбив меня с ног. Короткое, хриплое рыдание метнулось по коридору: дальше, дальше...
Исчезло.
Когда Телемах, кусая губы, все же передал лук филакийцу, Протесилай долго разглядывал оружие. Будто старого знакомого встретил. Морщил лоб, хмурился. Вокруг царили брань, насмешки, но я уже был глух к этой мышиной возне. Ведь на самом деле все очень просто. Надо всего лишь протянуть руку.
Вот так.
И лук пришел.
%%%
— ...Вы неправильно начинали. Дело не в силе. Дело не в мастерстве. Дело совсем в другом; в малом. Просто надо очень любить этот лук...
Роговой наконечник скользнул в ушко тетивы сам собой.
— ...Очень любить эту стрелу...
Тетива, скрипя, поползла назад, к плечу.
— ...Надо очень любить свою родину, этот забытый богами остров на самой окраине...
Медное жало вопросительно уставилось на красавчика-Антиноя: ты понял? Не понял? Жаль...
— ...надо очень, очень любить свою жену... своего сына... отца...
Двенадцать колец: насквозь.
Это просто.
Это очень просто.
Одиссей хотел опустить лук. Я вернулся. Я вернулся по-настоящему. Я дома. Но пальцы прикипели к костяным накладкам. Не надо, взмолился рыжий, сам не зная — кому. Наверное, себе. Пожалуйста, не надо. Я устал. Я хочу спать. В своем доме, на своей кровати. Со своей женой. Пусть все закончится. Белые губы тряслись, беззвучно шепча странные, заслуживающие презрения слова, и лицо загоралось светом, чье имя опасно произносить вслух.
«Понять — значит, возненавидеть», — еще успел подумать рыжий, прежде чем утонуть в огне.
...Спасибо тебе, Сребролукий. Мне не пришлось стрелять в тебя у стен Трои: благодарю. Я объявляю тебе анафему! Когда все закончится, я принесу жертву Аполлону Разумному. Великую жертву! Гекатомбу...
Я был Зевсом-Жестоким, бичуя перунами вольных титанов, посягнувших на мой Олимп.
Я был Аполлоном, Открывающим Двери, и Артемидой-Охотницей, расстреливая детей фиванки Ниобы, ибо фи-ванка святотатственно оказалась плодовитей нашей матери.
Я был Дионисом-Дваждырожденным, карая фракийца Ликурга за гордыню, а дочерей орхоменского басилея Миния — за насмешки; я был совой, и оливой и крепостью, обтягивая свой щит кожей убитого гиганта и водружая поверх смертоносный лик Медузы.
Я был Черной Афродитой, обрушась на упрямца Нарцисса и Ипполита-афинянина за то, что мне было отказано в жертвенной доле их любви; Колебатель Земли, я разверзал твердь под дерзкими пророками, и, Гермий-Килленец, серпом из адаманта я отсекал голову звездному титану Аргусу Золотые Ресницы.
Я был... я был кем угодно, перестав быть самим собой. И золотой лук пел в моих руках, забыв, что он и жизнь — одно.
...А еще он может из хозяина раба сделать...
Легко снять с себя вину. Это не я. Это лук. Боги. Случай. Судьба. Она сильнее всех.
Жаль, у меня плохо получается: врать.
Это я.
Одиссей, сын Лаэрта.
ЭПОД
ИТАКА, Западный склон горы Этос;
дворцовая терраса (Сфрагида)
Зеленая звезда бледнеет. Вот-вот растает льдинкой на жаре: ее время вышло. Скоро рассвет. И мое время тоже подходит к концу. Как кислое вино в кувшине: булькает на самом донышке. Чернота неба на востоке болезненно редеет, край купола становится грязно-серым; вскоре он застесняется, порозовеет, затем вспыхнет ослепительным золотом, впуская в мир сияние Гелиоса...
Рассвет медлит, но я чувствую его острое дыхание на своем лице. Осталось совсем немного. Нам с рассветом: самую малость. Я уже рядом, на пороге, я иду, спешу...
Почему-то это кажется очень важным: вернуться до рассвета.
Иначе будет поздно.
Мне надо торопиться.
%%%
...Любимый Диомедов клич «Бей вождей!» двуголо-сьем сливался с моим «Бей рабов!.», превращаясь в смутную дорогу, упавшую под ноги, чтобы там, в туманной дали, продлиться кощунственной ересью, вовсе потерять изначальный смысл, приобретя взамен...
Нет.
Это лучше оставить в покое. Забыть.
Остров Заката Манит покоем, Ручьями плещет. Не пей, о странник, Из тех ручьев. Покой опасен, Покой обманчив, Покой-покойным. Ты жив, мой странник, Спеши уйти...Я не помнил, что творилось в мегароне. Ничего. Очнулся снаружи, посреди двора. Возле резного, золоченого конуса из ясеня, посвященного Аполлону Дорожному. Что я тут делаю? Откуда на мне взялся сверкающий до-спех? Когда я успел...
Эй, вы: почему вы все на меня так смотрите? И почему, срывая глотку, я выкрикиваю полузабытый гимн гребцов, словно Одиссей, сын Лаэрта, еще в пути?!
Остров Восхода Манит лавиной, Прельщает бурей. Беги, о странник, Не жди обвала!..В левой руке я до сих пор сжимал лук, а по бедру хлопал кожаный колчан. Рядом возник мой сын. Весь в крови:
лицо, руки, нарядный хитон, надетый по случаю праздника, бронзовое лезвие меча... Это не его кровь. Это кровь, пролитая им. Телемах был счастлив. Светился от радости; смотрел на меня, как на живого бога, пытался что-то рассказать восторженной скороговоркой — но я не слышал слов.
Я смотрел на свой лук. Долго. Очень долго. Потом разжал пальцы, отбрасывая его прочь, как отбрасывают ядовитую гадину, — и лук послушно исчез. Кажется, никто даже не обратил на это внимания. Колчан, оказавшийся битком набитым стрелами, я просто зашвырнул в угол двора. Одновременно с падением колчана на меня обрушились звуки, голоса, беспокойные выкрики. Я замотал головой и едва не оглох, когда над сумятицей взвился отчаянный вопль:
— Это не мой муж! Это бог, принявший облик Одиссея! Прочь!..
Пенелопа стояла на балконе. Как и другие, смотрела на меня. Но, перехватив мой ответный взгляд, вихрем сорвалась с места. Скрылась в гинекее.
Я смотрел ей вслед еще дольше, чем разглядывал лук.
Наконец разлепил спекшиеся губы. Не зная заранее какие слова слетят с них.
— Они все мертвы?
Вопрос таил в сердцевине ответ-убийцу. И убийца не замедлил прийти:
— Все.
Ноги отказались держать меня.
Жизнь человека Посередине, На тонкой нити Между покоем и ураганом...%%%
Вторично я очнулся в волнах Океана. Потоки ледяной воды хлестали по лицу, и сперва подумалось невпопад: я ведь почти вернулся! Почти! Там, на гиппагоге, в тумане, они же узнали меня! Аргус, Эвмей, Филойтий, мой сын... Несмотря на мои двадцать четыре года, признали в явившемся спасителе Одиссея, сына Лаэрта! Пускай сын никогда не видел отца, и для мальчика я был ожившей сказкой, героем, богом — но остальные?!
В седой пелене, под мерный плеск океанских волн, на какой-то миг я действительно вернулся. По-настоящему. Взаправду. Быть может, ступи я на Итаку открыто, не прячась под дурацкой личиной из шляпы, этолийского выговора и трижды разумного желания осмотреться, все случилось бы по-другому? Кто знает. Поздно сожалеть об утраченных возможностях. Поздно терзаться. Но может быть, еще не поздно вернуться? Очередная волна ударила в лицо, вынудив закашляться. Я открыл глаза. Они были здесь, рядом, вокруг: Телемах, обеспокоенный филакиец, дамат Ментор, нянюшка, рябой Эвмей — и к нам спешил коровник Филойтий с очередным кувшином в руках, расплескивая на бегу колодезную воду.
— Довольно! Довольно, говорю вам!
Сколько кувшинов им понадобилось? Я был мокрый с головы до ног.
Тогда вместо воды полились слова. Реки, моря, океаны. Оказывается, полчаса назад я приказал повесить дюжину рабынь, которые успели родить от женихов. И еще что-то приказал. И еще. А трупы из мегарона вынесли наружу, зал спешно приводят в порядок, смывают кровь, окуривают серой...
Поток слов тек мимо меня. Лишь отдельные фразы задевали в душе тайные струны, но звон глохнул и исчезал. «Это не мой муж! Это бог, принявший облик Одиссея! Прочь!..»
Во всех речах сквозило эхо крика Пенелопы.
Вперед протолкался Эвмей. Я взглянул на него и едва не завопил от радости. Рябой смотрел на меня, как раньше. Впору кинуться, руки целовать...
— Часть прихвостней удрала, — огорченно сообщил Эвмей. — Виноваты, басилей. Упустили.
— Никуда не денутся, — оттеснив рябого, филакиец старался выглядеть спокойным. Получалось плохо. — В порту наши люди. Гавань перекрыта, куда им податься?
— Лаэрт. Вот куда. Кажется, это сказал Ментор.
— Каяться прибегут? В ножки кинутся? — натянутая улыбка филакийца.
— Нет. Возьмут заложником. И потребуют корабль. Я уже не слушал. Я уже бежал. Папа! Как мы все могли забыть о тебе?! Как я мог забыть?!
Позади громыхал, отставая, топот многих сандалий.
%%%
Это было трудней всего. Бежать. Просто бежать: Задыхаясь, выбиваясь из сил. По-человечески. Одиссей вновь был под Троей. Стоял на грани, которую нельзя переступать. Только по-человечески — и никак иначе. О том, что он, возможно, давно перешел эту зыбкую грань, рыжий запретил себе думать.
Есть мысли не для живых.
Не для смертных.
Вдох кляпом забивает глотку. Выдох жгуч и космат. Одиссей бежал, бежал, бежал по смутной дороге, а вокруг царили поминки, похожие на праздник, и праздник, похожий на состязания, и состязания, подобные войне; и война, подобная бреду. Ах, как легко сейчас протянуть руку, позвать верный лук, одним коротким усилием открыть смутную дорогу... Два-три шага — и ты на месте. Это легко. Это легче всего.
«Тайные пути нужны, когда не любишь. Когда любишь, просто идешь».
Да, Далеко Разящий. Помню. Просто иду. Бегу. Спешу.
Из последних сил огибая скользкие, мерзкие ловушки, расставленные судьбой.
Кто бы мог подумать, до чего это окажется трудно: просто бежать.
%%%
Знакомая изгородь. Ворота. Во дворе — вооруженные люди.
— Выходи, старик! Мы тебя не тронем!
— Выходи! А то дом подожжем!
Врываюсь в толпу, расшвыривая тела, словно тряпичные куклы.
Ужас в чужих глазах опьяняет, но раньше я плохо пьянел.
— Прочь, собаки! Прочь!
На грядке любовно взлелеянного огородика — мертвое тело. Голова разбита ударом копья. Точным, беспощадным. Они думали, что идут брать в заложники немощного старца. Лаэрт-Пират, они плохо знали тебя!
— Бей рабов!
И сзади, эхом:
— Бей прихвостней! Папа, я здесь! Я с тобой!
— ...Хватит, Телемах! Я сказал: хватит! Пусть бегут.
Мой сын с неохотой вкладывает меч в ножны.
%%%
Они вышли из дома вместе: Лаэрт и семеро пастухов, вставших на защиту старого хозяина. «Я вернулся, папа!» — хотел сказать я. «Это я, твой сын!» — хотел сказать я.
— Радуйся, Лаэрт, сын Аркесия, — сказал я. — Ты свободен.
— Радуйся и ты, спаситель, — уклончиво ответил он. А потом долго, выжидательно молчал, избегая глядеть мне в глаза.
Папа, ты так и не назвал меня по имени.
— Однажды, волей случая, я вышел за предел, — еле слышно сказал мой отец.
— С тех пор меня стали плохо видеть... посторонние.
Тишина.
Жестокая, обжигающая тишина.
— Мне кажется, сейчас мой сын тоже выходит за предел. Или уже вышел. Теперь его плохо видят... свои. Возвращайся домой. Я очень прошу тебя: возвращайся. Тебя ждут. А за меня не беспокойся. Со мной все будет в порядке. Я приду. Позже.
%%%
У меня не получалось: вернуться. Все, кроме этого. Проще всего было бы громко сказать:
— Это я! Одиссей, сын Лаэрта-Садовника и Антиклеи, лучшей из матерей! Одиссей, внук Автолика Гермесида, по сей день щедро осыпанного хвалой и хулой, — и Аркесия-островитянина, забытого едва ли не сразу после его смерти! Сокрушитель крепкостенной Трои; убийца дерзких женихов. Муж, преисполненный козней различных и мудрых советов. Скиталец Одиссей. Герой Одиссей. Хитрец Одиссей. Я вернулся! Встречайте!..
Уверен, меня бы приняли с распростертыми объятиями. Кто угодно. Жена, отец, Эвриклея... Осыпали почестями, устроили многодневные празднества. Поверили бы. Сразу и безоговорочно. Ведь я умею быть очень убедительным. Беда в другом: такой убедительностью я убил бы себя куда вернее, чем промахнувшийся копейщик из Пергама. Навсегда отрезав возможность вернуться по-настоящему. Самим собой. Мой серебряный дар, не раз выручавший хозяина под Троей, обернулся проклятием.
Они должны узнать меня сами! Узнать, увидеть во мне Одиссея, сына Лаэрта — а не слепо поверить моим словам. Приказу вернувшегося с войны героя.
Глубокоуважаемого.
Одиссея Двуликого.
...Дверь талама. Изнутри заперта на щеколду. Жалкая задвижка: пни, и рассыплется трухой. Вместо этого я стоял, отвечая на дурацкие вопросы, которые задавала из-за двери моя жена. Убивая их один за другим. Да, ответы были известны только мне. Одиссею, сыну Лаэрта. Мужу Пенелопы. Никакой бог, явившись под моей личиной, не сумел бы ответить на них. «Верно... верно... — отрешенно шептала из-за двери моя жена. — Верно...» И не спешила открывать, задавая все новые вопросы. Потом я услышал: щеколда упала вниз. Но дйерь не открылась?
Мне ничего не стоило легонько толкнуть ее. Войти к моей жене.
Я еще немного постоял под дверью и пошел прочь.
%%%
Отсюда, с террасы, есть вторая дверь, ведущая в та-лам. Я знаю: она не заперта. Но за всю ночь я так и не решился. Вокруг перил сгущается туман, и предрассветный ветер кашляет, тщетно пытаясь развеять его. Седые пряди клубятся, пенятся, в них проступают, чтобы сразу раствориться, странно знакомые тени, слышатся голоса и отдаленное пение. Мы вдвоем на террасе. Я и мой Старик. Все остальные покинули нас: живые и мертвые. Мы наедине с туманом. Дыхание Океана, подступившего к горлу. Это моя ночь. Я успел. Пережил, ощутил, увидел заново все, что должен был пережить, ощутить и увидеть. Багровое отчаяние в последний раз опалило душу. Но рыжий закат, захлебываясь сединой ночного тумана, всякий раз смеется над землей и небом в предчувствии неизбежного рассвета: «Я вернусь!»
Допиваю остатки. Пустой кувшин летит за перила. Киваю Старику: пошли.
Я увидел, услышал и почувствовал.
Время делать.
Ступени лестницы певуче вскрикнули под тяжелыми шагами.
ИТАКА. сад Лаэрта Аркесиада, цветник асфоделей между гранатом из земель xaбирру и яблоней Гесперид (Эксод) [66]
Когда-нибудь придется возвращаться...
Назад. Домой. К родному очагу.
И ляжет путь мой через этот город.
Дай Бог тогда, чтоб не было со мной
Двуострого меча, поскольку город
Обычно начинается для тех,
Кто в нем живет, с центральных площадей
И башен.
А для странника — с окраин.
И. БродскийКрылья за спиной. Белые, пушистые.
Седая память повисла на плечах.
Кажется: только взмахни, и полетишь. Не хочу. Не буду. Не кажется. Горбатой тенью я бреду по отцовскому саду, вновь сбежав сюда с ночной террасы, и клочья тумана срываются с моих крыльев. Виснут на кустах, на ветках яблонь и олив. Гроздья цветов-самозванцев: весна! Весна... Путаются в бурьяне. Прежде чем исчезнуть, плетут небылицы. Я хочу, чтобы все случилось просто, очень просто, а они бунтуют. Прикидываются облаками, делая из меня потешный Олимп: корни на земле, вершина в косматой белизне.
Издеваются.
Глупый, шепчет туман. Радуйся, шепчет туман. Между тобой и твоими близкими — пропасть. Лучшая из пропастей: навеки. Вы друг для друга — отныне лишь зыбкие фигуры в дымке. На том краю. Небо и земля разошлись. Приданое возвращено. Это победа. Ты победил.
Отчего ты не хочешь радоваться? — удивленно спрашивает туман.
По бедру хлопает котомка, набитая камнями. Бесформенными, ноздреватыми. Знакомыми, только эти поменьше. Тяжесть котомки успокаивает. Мешает взмахнуть — и полететь. Мешает радоваться победе-паучихе. Я собрал камни по дороге, нагибаясь и подымая прямо из-под ног; глину накопаю здесь, а воды полно в пруду с лотосами. Хорошей воды: живой. «Ты безумен? — трепеща, спрашивают крылья за спиной. — Зачем камни? Глина? Вода?! Если есть мы?!» Да, я безумен. Это прекрасно: быть безумцем. Куда лучше туманных, лживых крыльев, зовущих кинуться в чудо-пропасть между небом и землей.
Океан смыкается вокруг Итаки.
Океан смыкается вокруг меня.
Вот и пруд.
Миску для воды я прихватил заранее. Щербатую, с острым обломком края — воды мне нужно мало, зато такой миской удобнее копать глину. Копаю. Желто-коричневые пласты легко отслаиваются, от них пахнет сыростью и покоем. В котомке ждут камни. Тихо, насмешливо. Улыбаюсь в ответ. Дождевой червяк спешит уползти прочь, извиваясь кольчатым телом; жду, стараясь не зацепить его керамическим лезвием. Пусть успеет. Пусть вернется домой. Если хочется доброго знамения, надо ли высматривать над головой орла или молнию? — вполне сгодится дождевой червь.
Ага, исчез в траве.
На этом месте, двадцать лет назад, если мерить время мной, Одиссеем, сыном Лаэрта, я построил первый в своей жизни кенотаф. Из камешков. Маленький. Не больше локтя в длину и в две детские ладони высотой. Здесь построю и последний: правда, он окажется чуть больше, чуть длиннее. Слишком символично, чтобы не позволить себе мимолетную усмешку. Здесь рыжий мальчишка отпел неприкаянную тень: бородача-воина в мятом доспехе, без шлема и меча. С какой войны вернулся ты, воин? Я, знаешь ли, с Троянской. Если не знаешь, спроси там, у себя, во мгле Эреба: тебе расскажут. Хлебнут жертвенной крови, почешут в затылке и расскажут.
Хватило бы крови.
А воспоминаний хватит надолго.
Калидонский затворник по имени Геракл однажды пригрозил убить меня, если я еще раз окажу ему подобную услугу. Хорошо. Я окажу ее себе. В конце концов, рыжих безумцев хватает не на всех желающих; мне, например, не хватило. Обойдусь. Мой Старик, ты тихо присел на корточки рядом и киваешь в такт движениям миски. Молчи. Молчи, пожалуйста. Оставайся самим собой, вопросом без ответа: тогда мне будет легче.
Я бы попросил тебя натаскать воды, но я должен сделать это сам.
Просто посиди со мной.
Ведь это очень просто, да?
Вода. Камни. Глина. Сухие веточки: без них не соорудить крыши. Я не очень стараюсь — великих гробниц заслуживают великие люди. Мне сойдет и так. Вода, глина, камешки. Не умеющий понимать, я даже не пытаюсь: вижу, чувствую и делаю. Зачем? Чего хочу? К чему стремлюсь?! Вопросы толпятся кругом, их ноги в росе, их лица в тумане. Они хотят ответа, они самозабвенно ищут смерти, а находят лишь улыбку и руки, испачканные в мокрой глине.
Это все.
Кенотаф готов.
Пустая гробница для Одиссея, сына Лаэрта. Кенотафы строят, чтобы зануды-дядьки, ушедшие на войну, сумели обрести покой. Я уходил на войну. Я хочу покоя.
Я хочу вернуться, даже если путь домой лежит через царство мертвых.
У входа в кенотаф кладу желтый венчик лотоса. Пускай. Протягиваю руку не глядя, наугад. Вот он, лук. Мой лук. Ты ни в чем не виноват, старый товарищ. Просто мы оба заблудились в тумане. Ты и жизнь — одно. Ты и жизнь... Древко сухо хрустит, ломаясь об колено; хруст мимолетной болью отдается в спине. Молча смотрю на обломки, прежде чем спрятать их в кенотаф.
Так.
Теперь можно заканчивать. Я знаю все слова наизусть. Нужные. Правильные. Единственные. Но сейчас мне понадобятся совсем другие слова. В них должна сойтись воедино вся бестолковая, рваная, смутная дорога рыжего странника, прежде чем он вернется домой. Дюжина песен, беззвучно спетых аэдом-невидимкой: дайте мне по одному перу из ваших крыльев, по одному клочку из вашего тумана. Начало и конец, подайте милостыню. Спасибо.
И потом: трижды окликнуть себя по имени.
Беззвучный хохот царит над миром, надо мной, над всеми моими мечтами и всей моей реальностью; когда я узнаю имя весельчака — реальность неожиданно станет мечтой. Так бывает: возвращаясь, мы ждем одного, а находим совсем другое. Тайные ходы нужны, когда не любишь:
тогда ломишься силой, подкрадываешься со спины или идешь в обход — когда любишь, просто идешь. Это чревато разрушением, трещинами и гибелью; преодолевая собственные границы. Мироздание обречено пройти через все рубежные страхи и опасности, какие в нем сыщутся; но в пору расширения, оставшись вопреки зову в прежних границах, Номос начинает гнить. Если в угоду иллюзорной безопасности я зажму сердце в кулак — не задохнется ли птенец сердца в мертвой хватке рассудка? И у страшной сказки будет единственно возможный конец. Бездна пропасти, сама по себе зовущая встать на колени, на четвереньки, отползти назад, уткнув взгляд в камешки, терзающие ладони, ноги, сердце... Чтобы вернуться, я должен был уйти; теперь, чтобы вернуться, мне надо вернуться. Иначе утром я выйду к ним: к утомленному годами отцу, жене со взрослым сыном, к моим долготерпеливым соотечественникам — я выйду, они увидят меня такого, какой я есть, и возвращение навсегда превратится в ложь. Может быть, перекроив правду на сотни ладов, вместо меня в мир придет иной Одиссей: богоравный герой, убийца и хитрец?! Судьба не хуже прочих... Таких, как мы, нельзя прижимать к стенке: мы способны уйти в небо, уйти без возврата, без надежды хотя бы выкрикнуть, обернувшись через плечо:
«Я вернусь!» — ибо если и вернемся, то вернемся уже немы. Может, жить надо проще: не видеть, не чувствовать, не делать? — просто понимать. Сейчас никто не верит песням со счастливым концом. Но рыжий закат, захлебываясь сединой ночного тумана, всякий раз смеется над землей и небом в предчувствии неизбежного рассвета: «Я вернусь!»
...Одиссей, сын Лаэрта.
...Одиссей, сын Лаэрта.
...Одиссей, сын Лаэрта. .
%%%
Курчавый юноша, стоя под яблоней, смотрел вослед уходящему из сада мужчине. Странные, слегка диковатые глаза искрились: слезами? смехом?! Очень хотелось окликнуть, но юноша крепился. Было легко неосторожным возгласом спугнуть простую, самую простую на свете тайну: человек идет домой. Возвращается. Усталый человек, старше средних лет. Грузные плечи. Хромота. Пожар волос изрядно бит пеплом седины: на висках и дальше, огибая блестящие залысины. На левой руке не хватает двух пальцев. И морщины, морщины... По траве, блекло-серая в рассветных лучах, пронзающих туман, за мужчиной двигалась тень. Обычная тень пожилого человека. Сломанная веточка акации в руках уходящего казалась копьем в руках тени.
Юноша потянулся.
Сорвал глянцевое, краснобокое яблоко, хотя до поры урожая оставался месяц, не меньше.
Что-то начертил ногтем на гладкой кожице.
И запустил яблоком в широкую спину странника.
Мимо.
ИТАКА. талам Одиссеева дома (Эпиталама) [67]
Женщина открыла глаза. Это сон, подумала она. Это верный, как судьба, сон: иногда страшный, но в целом привычный. Понадобилась целая минута, чтобы понять: она уже проснулась.
Ты вернулся, рыжий, тихо сказала Пенелопа.
1999-2000 гг.
Примечания
1
Монолог — от греч. «монос», т. е. «единый», и «логос», т. е. «слово». Вид речи, не связанной с речью собеседника.
(обратно)2
«Многие лета!» (греч. «Ксесиас!») — заздравный тост. Сочетание несовместимого: тост за здравие невозможен при погребальном обряде временного возвращения памяти.
(обратно)3
Кифаредический ном — повествование, сопровождаемое игрой на кифаре.
(обратно)4
Кадуцей — атрибут Гермия-Психопомпа: жезл, увитый двумя змеями.
(обратно)5
Черноцвет — греч. Меланфо или Меланфий, в зависимости от женского или мужского рода. Рабыня и козопас (тезки) в доме Одиссея.
(обратно)6
Слова «лук» и «жизнь» по-гречески омонимы — «биос».
(обратно)7
Запон — боевой пояс с передником, обшитым медными пластинками. Вместе с панцирем образовывал двойной слой брони.
(обратно)8
Трагедия — греч. «Козлиная песнь».
(обратно)9
Эксомида — особая разновидность легкого хитона, не стеснявшая движений, концы которой связывались на левом плече. «Геройским плащом» к этому времени повсеместно стали называть теплую хлену, в которую ночью закутывались, как в плотное одеяло.
(обратно)10
Амнистия — греч. «прощение, забвение».
(обратно)11
Полифем — многоговорящий, болтун (греч.).
(обратно)12
Благоговейте! — (греч. «Эвфемите!»). Обычное возглашение Жреца, приглашающего к началу церемонии.
(обратно)13
Клепсидра — водяные часы.
(обратно)14
Трон (тронос) — кресло хозяина дома: с высокой спинкой и подлокотниками. Супруга правителя не имела права занимать это кресло даже в отсутствие мужа.
(обратно)15
Аргумент— краткий пересказ содержания (греч.).
(обратно)16
Антропос — человек (греч.).
(обратно)17
Мирмекс — муравей (греч.).
(обратно)18
Сфрагида — часть кифаредического нома, где автор (исполнитель) вместе с основной мыслью-рефреном обязательно называет свое имя.
(обратно)19
Ксанф — греч. «Бурый». Река близ Трои носила два имени: Ска-Мандр (земное, собственно речное название) и Ксанф (божественное имя по речному богу-покровителю).
(обратно)20
Хоэфория — поминальная панихида на могиле умершего.
(обратно)21
Кархесий — «корзина» (греч.); часть корабельного такелажа. Корзина, по форме похожая на чашечку тюльпана или лотоса, расположенная на топе, выше рея. Использовалась для наблюдения, работы с парусами и метания стрел или дротиков.
(обратно)22
Стихомифия — диалог, типичный для построения диалогов античной драмы. Состоит из чередования реплик, занимающих каждая не более одного стиха. Перебивается сценическими ремарками.
(обратно)23
Титаномахия — война богов с титанами, едва не приведшая к разрушению Номоса.
(обратно)24
Ксифос — традиционный ахейский меч: короткий, обоюдоострый, расширяющийся к концу клинка. Махайра, иначе «лакедемон-ский серп»: кривой меч с заточкой по внутренней стороне изгиба клинка, удобный для рубящих и режущих ударов.
(обратно)25
Анафема — обещание ценного подарка божеству, откликнувшемуся на мольбу.
(обратно)26
Лирика — сугубо личные, субъективные поэтические излияния.
(обратно)27
Боевые сапоги — греч. «эмбаты»; на толстой, подбитой гвоздями подошве, с массивным и низким каблуком.
(обратно)28
Декат— десятый.
(обратно)29
Гекатост— сотый.
(обратно)30
Честь — (греч. «тимэ»). Многосмысловое слово; на русский язык зачастую переводится как «царство» или «удел». Отсюда очень близко: «участь». Зевс, Посейдон и Аид разделили в свое время мир не на три части — буквально «на три чести». Микенский ванакт Агамемнон по положению «честнее» прочих, поэтому он — вождь вождей. Обесчеститься — потерять место, занимаемое в структуре мироздания.
(обратно)31
Пелтаст — легковооруженный воин (от слова «пелта» — малый Деревянный щит, обтянутый кожей). Чаще всего вербовались во Фракии; вооружались метательным копьем, жестяным шлемом на войлочном подбиве, кожаными поножами и кинжалом.
(обратно)32
Антропомахия — «война по-человечески» (греч.). Слово «антропос», то есть «человек, смертный», в «Илиаде» употребляется исключительно как антоним слова «бог».
(обратно)33
Прометей — букв. «промыслитель». В написании с маленькой буквы перестает быть именем собственным, возвращаясь к общему значению.
(обратно)34
Ника — богиня Победы.
(обратно)35
Никта (Нюкта) — богиня Ночи. Обе представлялись крылатыми женщинами на колеснице, только одежды отличались цветом: у Победы — бело-золотистые, у Ночи — черно-серебряные.
(обратно)36
Имя третьей Горгоны — Медуза — означает «Прекраснейшая».
(обратно)37
Имя Аяксова отца (Теламон) означает «перевязь», «опояска». Аякс Теламонид — соотв. Аякс Опоясанный.
(обратно)38
Наварх — командующий флотилией.
(обратно)39
Xтоний — греч. «подземный», название шлема-невидимки, принадлежавшего Аиду, владыке преисподней.
(обратно)40
Кибернетис — греч. «кормчий». Из кормовой будки он при помощи каната управлял двумя рулями, имевшими вид больших лопат.
(обратно)41
Лисса — дочь Ночи, богиня безумия.
(обратно)42
Все трое — знаменитые богоборцы. Тантал — сын Зевса, божество (позднее — царь) горы Сипил; клятвопреступник и лгун, за оскорбление Семьи свергнут в Аид, где вечно стоит по горло в воде под плодовыми ветвями, терзаясь голодом и жаждой. Иксион — вождь лапифов-древолюдей, возжелавший любви Геры, за что был навечно привязан к вращающемуся огненному колесу. Титий — великан, сын Зевса и Элары Орхоменской, за попытку обесчестить богиню Лето (мать Аполлона и Артемиды) обречен оставаться в Аиде распростертым на земле, в то время как два коршуна вечно терзают его печень.
(обратно)43
Имя Аяксова отца — Теламон, то есть «пояс», «перевязь» — одновременно является прозвищем титана Атланта-Небодержателя.
(обратно)44
Преддомье (греч. «продомос») — последний из портиков, примыкавший к фасадной стене дома и сообщавшийся с частью комнат. Иногда там устраивалась также мужская купальня.
(обратно)45
Агиэй — Дорожный. Прозвище Аполлона, покровителя путников. Гермий-Психопомп, т. е. Душеводитель.
(обратно)46
Выныривающая — греч. «Анадиомена». Имеется в виду непременное для финикийских кораблей изображение Астарты — древнесемитской богини любви и плодородия, отождествляемой с Афродитой.
(обратно)47
Далет — пятая буква финикийского алфавита.
(обратно)48
Тринакрия («Трехконечная») — греч. название о. Сицилии, находящегося на западном краю Номоса, на границе океана.
(обратно)49
Алеф — первая буква финикийского алфавита.
(обратно)50
Гимет — вторая буква финикийского алфавита.
(обратно)51
Итеру — река Нил (греч. Нейлос).
(обратно)52
Филистеи — одни из эгейских «народов моря», библейские, филистимляне (егип. «пелесет», откуда, собственно, название «Палестина»).
(обратно)53
Фортагога — специальное грузовое судно.
(обратно)54
Карт-Хадашт, иначе Новый Город — Карфаген.
(обратно)55
Эльпистик — греч. «оптимист», «весельчак».
(обратно)56
Мегера— третья из Эриний, богинь мстительности и воздаяния за преступления.
(обратно)57
Дула — вольноотпущенница из бывших рабынь (апелевтер), после обретения свободы оставшаяся служить в прежнем доме.
(обратно)58
Клитемнестра Микенская будет убита сыном, Меда Критская — любовником, Айгиалу Аргосскую повесит отец ее Любовника на воротах акрополя.
(обратно)59
Меланфий, Меланфо — Черноцвет (мужского и женского Рода). Меланфия— «песня черного цвета», «чернуха».
(обратно)60
Педагогос — «водитель детей», дядька-пестун из рабов, пря ставленный к ребенку.
(обратно)61
Петтея-полис— стратегическая игра «Взятие города». На линиях расставлялись шестьдесят камешков, способных двигаться вперед— назад или скакать друг через друга. Камешек, оказавшийся между Двумя чужими, считался взятым противником.
(обратно)62
Космос — греч. «строй», «порядок», «Вселенная»
(обратно)63
Эперетма — гребное судно без парусов.
(обратно)64
Cикyлы — древнейшее население Тринакрии (Сицилии), западного края света; острова, где идущий на закат Гелиос пас свои стада.
(обратно)65
Здесь и далее: личные прозвища членов Олимпийской Семьи. Зевс-Схетлиос (Упорный-В-Гневе), Арей-Стратий (Воитель), Артемида-Ортия (Прямостоящая), Гера — Мачеха, Афродита-Киприда, Феб — Аполлон, Посейдон — Черногривый.
(обратно)66
Эксод (букв. «исход») — заключительная песнь, после которой хор покидал орхестру.
(обратно)67
Эпиталама — свадебная песнь. Доел. «Предварение талама», то есть порог женской части дома, где располагалась совместная спальня хозяина с хозяйкой.
(обратно)

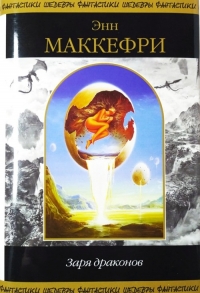
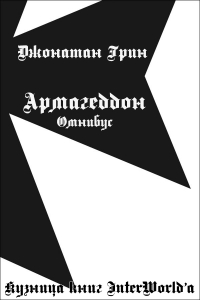
Комментарии к книге «Одиссей, сын Лаэрта. Человек космоса», Генри Лайон Олди
Всего 0 комментариев