Генри Лайон ОЛДИ Иди куда хочешь
Во сне увидел я также, о Кришна, как залитая кровью земля обволакивается внутренностями! Увидел я далее, как Царь Справедливости, взойдя на груду костей, с восторгом пожирает тобой ему поданную землю. О Баламут, при том великом жертвоприношении оружию ты будешь верховным надзирателем, обязанности жреца-исполнителя также будут принадлежать тебе! Если мы выйдем из этой гибельной битвы живыми и невредимыми, то, быть может, увидимся с тобою снова! Или же, о Кришна, нам предстоит, несомненно, встреча на небе сах! Сдается мне, что так или иначе мы обязательно встретимся с тобой, о безупречный…
Махабхарата, Книга о Старании, шлоки 29—34, 45—46 Кому «сучок», а кому — коньячок, К начальству на кой в паяцы? А я все твержу им, как дурачок: — Не надо, братцы, бояться! И это ж бред, Что проезда нет И нельзя входить без доклада, А бояться-то надо только того, Кто скажет: «Я знаю, как надо!» Гоните его, Не верьте ему, Он врет, он не знает, как надо! А. ГаличПРОЛОГ
МАХЕНДРА, лучшая из гор
Зр-р-р-ря…
Что?
Зря, говорю, ашока-дерево называют Беспечальным! Скрипишь тут, скрипишь, душу на щепки-лучины, а они хоть бы ухом…
Какие ж могут быть печали у дерева? — спросите вы.
Обладай ашока даром речи, я б вам ответила! Цветы красивые, скажете? аромат? Весь год цветешь-радуешься, да? От пчел отбою нет? Шмели жужмя жужжат?! Ваша правда. А кривда — наша. Листья вечнозеленые? Вам бы так зеленеть, злыдням. . Вечно. Зимой и летом одним цветом. И чтоб все вокруг от зависти лопались. Тень? Это вам, людям, — тень, а мне-то с нее какой барыш?! Сырость одна. И короеды плодятся. А насчет листьев дедушка-Брахма еще натрое сказал! От порчи они, видите ли, предохраняют! От сглаза! Детишек в особенности. Вот у вас дети есть? Двое? Мальчик и девочка? Небось тоже за листиками пришли? Нет? Ну, хвала Индре, посылающему дождь, хоть вы меня тиранить не станете! А то ведь ходят, ходят, палач на палаче — и рвут кому не лень!
А кому лень — те вдвое-втрое рвут, про запас, чтоб лишний раз ноги не бить.
Больно ведь!
Вам бы так что-нибудь поотрывать! Волосы, к примеру. Или лучше уши. Гвалт небось поднимете — до самой Махендры слыхать! Что? Мы и так на Махендре? На лучшей из гор?! Ох, имей мама-Махендрочка язык, уж она бы вам вдесятеро порассказала, куда там мне, ашоке… Ну да ладно. Я вот все равно кричать не могу, когда больно. А они рвут, черенки крутят, стараются, аж пыхтят от усердия…
Для милых детушек, чтоб им всем чирьев понасажало!
А поверье обо мне слыхали? Нет?! Странный вы какой-то, однако: все Трехмирье назубок, а он ни сном ни духом! Не местный? Ах, такой не местный, что и сказать страшно?! Тогда лучше я скажу… Врут, будто я зацветаю, едва меня заденет ногой девушка, которой вскоре предстоит выйти замуж. От того, мол, и цвету постоянно. Ну не бредни ли? Хорошо, хоть вы это понимаете. Потому как не девушка. И даже не похожи. А другие… Скрутишь только завязь кукишами, соберешься передохнуть (думаете, цвести — это вам сандалией мантху хлебать?!) — а эти девицы уже тут как тут! Табунами! ордами! в боевых порядках! с ногами наперевес! И каждая норовит пяткой пнуть! Хоть в поверье ясно сказано: ЗАДЕНЕТ ногой, а не приложится со всей дури девической, нецелованной! Ох, не завидую я их будущим муженькам… В общем, не мытьем, так катаньем, а быстренько зацветаешь по-новой, лишь бы отвязались.
А вы говорите — Беспечальная… Не было б печалей, так люди накачали! Жил, слыхала, в древности брахман-дурачок, на все приставания одним вопросом отвечал. Мать ему: «Умылся б ты, что ли?!» — он прищурится и вполголоса, с кошальским пришепетыванием: «А шо, надо?» Отец ему: «Доучил бы ты гимн, сынок, год уже бьемся!» — сынок потянется сладко и кинет через плечо: «А шо, надо?» Соседи ему: «Жениться тебе пора, ишь, какой оболтус вымахал!» — он соседям с ухмылочкой: «А шо, надо?»
Так и прожил всю жизнь, тихо и счастливо. А на месте его погребального костра первая в мире ашока и выросла…
Беспечальная.
…В небе медленно роилось алмазное крошево звезд. Покой и тишина рука об руку нисходили на утомленный мир, смолкли хриплые вопли павлинов и скрежет нахальных цикад, а обитатели леса сонно принюхивались в логовах к далекому рассвету.
Тихий час.
Мертвый час, тьфу-тьфу, не про нас будь…
Однако кое-кому и здесь явно не спалось.
В двух посохах от настороженной ашоки весело трещал костер, вовсю плюясь искрами, словно в надежде зашвырнуть на небосвод десяток-другой новых звезд.
Или дотянуться в броске, достать, превзойти все костры мира — и поджечь наконец вожделенный бархат неба.
Увы, пока что костру-недотепе были суждены исключительно благие порывы. Зато раскидистые ветви ашоки располагались куда ближе неба, и дерево всерьез беспокоилось за их судьбу, болезненно морщась скукоженными от жара листьями.
— Хорош дрова-то кидать, Здоровяк, — недовольно проворчали от костра. — Весь лес мне спалишь.
И пламя на миг отразилось в черных глазах человека, отразилось, суматошно всплеснуло дымными рукавами — и Медовоокий Агни всем телом метнулся в сторону, убось собственного отражения.
Словно подернутые золой угли геенны вспыхнули разом, когда служивые киннары в сотню глоток дунут на присмиревший огонь, словно гибельный цветок Ко быльей Пасти не ко времени поднялся из океанских глубин, словно… Ф-фух, почудилось: спит Преисподняя, даруя грешникам глоток передышки, и безмятежны пучины вод.
Ночь.
Молчание.
Покой и звезды.
Даже не верится, что минутой ранее адским жаром полыхнул взор жилистого старца в мочальной повязке на чреслах. Эй, обильный подвигами, ты и вправду глазаст или ночная мара морочит?! Молчит. Не отвечает. Плотно сжаты узкие губы, будто края зажившей раны. Надежно сомкнуты запавшие веки, как у слепого от рождения. И загрубелые пальцы в узлах суставов привычно теребят распушенный кончик седой косы.
Сухой пень-кедряк с плетью серебристого мха.
К чему пню неистовство взора? — оно скорее подходит матерому тигру, в чьих владениях объявился соперник, нежели мирному отшельнику-шиваиту, каковым старик, вне всякого сомнения, являлся.
Ночь.
Ночью всякое бывает… даже то, чего не бывает.
— Знобит меня, тезка, — пророкотал совсем рядом глухой бас, и во тьме заворочалась угловатая глыба. — Ровно с перепою: крепишься, а оно трусит…
Чудное дело! — глыба эта при ближайшем рассмотрении также оказалась человеком. Надо сказать, человеком весьма завидного телосложения. Своди чащобного ракшаса-вожака к цирюльнику, подпили клыки, подстриги когти, корми год досыта, наряди в темно-синие одежды, расшитые желтыми колосьями и лилиями, нацепи тюрбан на лобастую голову… Что получится? Вот примерно это и получится, что сейчас во тьме ворочается. Зато взгляд великана был удивительно спокойным, лучась благодушием, — хоть любуйся вприглядку, хоть на лепешку мажь вместо масла!
Сокровище — не взгляд.
Так они и сталкивались время от времени: дикий огонь пекла и вечный покой бездны, кипень пламени и неколебимость утеса, молния и гора, взор и взгляд.
Третью ночь уже длился этот странный пролог чудовищной трагедии, один на двоих, закат Великой Бойни и заря Эры Мрака. Третью ночь сидели они у шального костра: престарелый отшельник, добровольный затворник лучшей из гор, которому довелось пережить всех своих учеников, — и тот, кто рискнул прослыть на веки вечные трусом и изменником, но отказался убивать друзей с родичами.
И детский лепет ручья порой рождал тысячеголосый вскрик боли, щебет птиц без видимой причины взвизгивал посвистом дротиков, ветер пах гарью и парным мясом, отчетливо скрежеща металлом о доспехи, а совсем далеко, на грани возможного и небывалого, плакала женщина.
Одна.
Почему-то всегда одна.
Навзрыд.
Рама-с-Топором по прозвищу Палач Кшатры, сын Пламенного Джамада, сидел напротив Рамы-Здоровяка по прозвищу Сохач, брата Черного Баламута.
Парашурама Джамадагнья — напротив Баларамы Халаюдхи.
«Точно что Здоровяк, — мимоходом подумалось Беспечальному дереву. — А этот, с косой… отец — Пламенный, а сын и того пламенней! Умеют же некоторые давать правильные имена! Не то что — Беспечальная… Охохонюшки, жизнь наша тяжкая, раскудрявая…»
— Странно, — помолчав, обронил Рама-с-Топором. — Знобит, говоришь? Нет, тезка, тут костром не отделаться… не тот озноб. Сдается мне, Жар из Трехмирья тянут. Как одеяло, на себя. Я-то сам аскет — такие вещи нутром чую. Мог бы и раньше заметить, между прочим. Спасибо, тезка, надоумил дурака.
— Да ладно, — засмущался могучий тезка, машинально обдирая кору со здоровенного полена. — Надоумил! Сказал, что холодно, — и всех дел… Тоже мне, светопреставление! Дровец сейчас подкинем, согреемся… гауды хлебнем, там осталось, в кувшинчике…
Ашока представила себе, как, покончив с поленом, застенчивый Здоровяк перейдет к обдиранию ее ствола, — и крона дерева качнулась, рождая вздох отчаяния.
— А пожалуй, что и светопреставление, — старик кивнул, думая о своем. — Опять ты меня подловил, тезка… Зажился, что ли?
Дерево волей-неволей задумалось: к кому относились последние слова аскета — к самому старцу или к его собеседнику? И даже языки костра бросили рваться к небу и тревожно замерцали, словно прислушиваясь.
К людям в круге тепла и света?
К недосягаемым звездам, искрам иных костров?
Или у пламени тоже свои печали, свои горести, о которых иногда хочется подумать в тишине?..
— Достал ты меня с твоими концами света, — вяло огрызнулся Здоровяк. — Третью ночь только и слышу: конец едет, конец везет, концом погоняет… Уши вянут. Не надоело?
— Надоело. Хуже горькой снухи[1]. Сидеть с тобой третью ночь — и чтоб не надоело? Не бывает… А давай-ка мы от скуки проверим, тезка: конец или так, старческий бред?!
— Проверим? Как? У Брахмы спросим? Ау, опора Троицы, где ты там?!
— В Золотом Яйце, с думой на лице, — еле заметно усмехнулся аскет. — Расслабься, тезка: грех Брахму по таким пустякам беспокоить! Сами справимся. Не мочалом шиты… Ты у нас вообще, говорят, земное воплощение Великого Змея Шеша?
— Говорят, — без особой уверенности подтвердил Здоровяк, почесывая волосатую грудь.
— А сам как думаешь?
— Да никак. Жру, мать ругалась, ровно в тыщу глоток, — оттого, наверно, и решили…
— Вот мы сейчас и узнаем наверняка. Заодно и насчет конца света выясним. Про мантру распознавания слыхал небось?
— Кто ж не слыхал… — обиженно протянул великан.
Неужели тезка его совсем за бестолочь держит?!
— А то, что при смене юг-эпох в мантрах плесень заводится? Киснут они, как молоко на солнцепеке, — это слыхал?
— Врешь ты все… — рокотнуло в ответ. Больше всего Здоровяку казалось, что аскет сейчас попросту развлекается за счет увальня-собеседника.
— Врать не обучен. Иди-ка поближе, чтоб не через пламя, — проверять будем!
— Может, завтра? — Здоровяк с явной опаской поднялся на ноги и шагнул к аскету. — При свете? Еще шарахнет меня гнилым тапасом… да и тебя заодно!
— Не облезешь, — отрезал Рама-с-Топором. — Стой здесь. И не вертись. Великан послушно застыл.
— Да, вот так. Именно так…
Мычание белого быка всколыхнуло тишину, заставив чернильный мрак пойти кругами. Зеленью «мертвой бирюзы» налились звездные россыпи, ливень мерцающей пыльцы наискосок хлестнул по кронам деревьев, по зарослям ююбы и примолкшим кукушкам с сорокопутами, еле заметным ореолом собираясь вокруг человека у костра. Тени в испуге бросились прочь с лица старого аскета, превращая его в изрезанный морщинами лунный овал, обвал, осыпь млечной белизны, краями заново вскрытой раны разлепились губы-шрамы, рождая даже не слова, а так — шепот, шорох, шипение, запредельный стон гибельного экстаза, и черепашьи веки, обросшие плесенью ресниц, на миг смежились, чтобы распахнуться вновь.
Так нетопырь распахивает кожистые крылья, взмывая над спящей землей и оглашая ночь писком.
Мнилось, рассветный туман не ко времени потек из кипящих глазниц отшельника, призрачными струями окутывая обоих людей, соединяя их в единое зыбкое существо, молочные реки, кисельные берега, мост через чудо, древняя сказка, которой про были рассказать забыли…
Рама-с-Топором увидел.
Сквозь телесную оболочку Здоровяка резко проступили мощные изгибы змеиного тела, лоснясь иссиня-вороной чешуей, зашевелились, дрогнули ленивыми волнами, потревоженные внезапным вторжением, и бесчисленные головы Опоры Вселенной, недовольно раздув клобуки, начали с шипением поворачиваться в сторону аскета-соглядатая.
Вот только видно было плохо. Костер чадит, что ли? Так не чадит вроде, да и не должен дым Второго мира застить явь Безначалья! И еще: мельтешит впереди раздражающе малая соринка, бередит взор нелепицей — будто второй змий поперек первого, только куцый такой змеишко, не в пример Великому Шеша, и всего о двух головах!
Дхик! Что за мара?!
Аскет расслабился и смежил веки, восстанавливая обычное зрение. А когда он вновь открыл глаза, то двухголовый змий никуда не исчез! Разве что виден стал много отчетливей, и обе его почти что человечьи головы натужно хрипели, плюясь желтой пеной.
Верное дело: поплюешься тут, попенишься, ежели волосатые ручищи Здоровяка проворно ухватили нага[2] за обе шеи и сдавили кузнечными клещами…
Гибкое тело извивалось в конвульсиях, хвост изо всех сил хлестал великана по бокам, но с равным успехом можно было пороть розгами Махендру, лучшую из гор.
Хватка земного воплощения мало чем уступала ласковым объятиям самого Вселенского Змея.
— Пус-с-сти!.. — с усилием выдавил наг из той глотки, которую сжимала левая рука мучителя. — Задуш-ш-шиш-ш-шь, с-с-су…
— И впрямь, тезка, задушишь, — философски заметил Рама-с-Топором. — Держать держи, только не дави так.
— Да я ж легонечко… — с подкупающей искренностью изумился Здоровяк, но хватку послушно ослабил, и наг провис драным канатом, клокочуще дыша в два горла.
Оба Рамы тем временем с интересом разглядывали гостя.
В свете костра мерцала серебром чешуя, отполированная до зеркального блеска, а края каждой чешуйки были с тщанием подведены сурьмой. Все тело чревоходящего щеголя равномерно покрывали какие-то чудные узлы, делая нага похожим на ствол молодого бамбука. В верхней четверти туловище плавно раздваивалось, образуя две шеи — каждая длиной в локоть и толщиной с человеческую руку (лапы Здоровяка не в счет!). На концах шей судорожно глотала воздух пара голов-близнецов. Разве что правая — с сизым родимым пятном у виска. На скулах чешуя переходила в сероватую шелушащуюся кожу, отчего наг выглядел больным, лбы венчали костяные гребни-диадемы, топорщась короткими острыми шипами. Волос на лицах не росло вовсе, даже бровей, даже ресниц, а зрачки были чисто удавьи — не гляди, дурашка, козленочком станешь, только ненадолго…
И еще трещотка-погремушка на кончике хвоста.
— Хорош! — заключил аскет, удовлетворясь осмотром. — Отдышался?
— Вроде, — просипела левая голова. Правая отмолчалась, дыша про запас.
— Тогда отвечай, красавец: кто таков, откуда взялся и что ты тут забыл? — без особой ласки поинтересовался аскет.
— Я потомственный наг Васятха, прапраправнук знаменитого Гухринич-нага, порученец самого Нагараджи Такшаки! — явно приходя в себя, с достоинством возвестил змий.
Впрочем, опять в одно горло.
Левое.
Перестарался Здоровяк, что ли?..
— Васятха? — задумчиво повторил Рама-с-Топором. И тут же перевел имя нага с благородного на обыденный. — Хороший, значит?
— Я Хороший, я очень Хороший! — истово закивал головами порученец, опасливо косясь вверх, на Здоровяка.
Поверит ли детинушка?
— Лучше не бывает, — согласился аскет. — Ладно, будем считать, на первый вопрос ответил. Отвечай на остальные.
— Да я и сам не пойму, как здесь оказался! — Имей Васятха-Хороший руки, он непременно бы развел ими, выражая полное недоумение. — Возвращаюсь я подземными путями нагов, спешу с докладом к Нагарадже — и тут меня ка-ак потянет вверх! Знаю ведь, что сюда не надо, что мне наискось через Питрилоку, а все равно ломлюсь сквозь землю, будто на привязи! Вылетел наружу — чувствую: задыхаюсь! Ну а дальше вы и сами все знаете…
Рама-с-Топором задумчиво подергал кончик своей многострадальной косы. Затем пнул комок развороченной земли в том месте, откуда явился наг. Довольно широкий лаз уводил в глубины земных недр, в Третий мир — обиталище нагов, душ умерших и части мятежных асуров.
Из лаза тянуло сыростью.
— Дырявим землю, людишек дырявим, а толку… — пробормотал аскет себе под нос. И, уже обращаясь к тезке, словно нага и не существовало: — Ну что, Здоровяк, проверили?! Видал, что с мантрами творится?! А тебе все шуточки…
— Отпустили б вы меня, люди добрые! — взмолился Васятха, чувствуя, что о нем забывают. — Я наг честный, кроткий, целомудренный (последнее далось змию с трудом)! Яда не коплю, козней не строю, Закон блюду златым блюдом… И вообще из-под земли редко выбираюсь. Мне обратно надо, с докладом! Если задержусь — Повелитель меня по головам не погладит! Смилостивьтесь, челами бью!
— Ладно, ползи, — махнул рукой Рама-с-Топором. — Сказал бы хоть, чего тебя нелегкая носит?.. Стряслось что?
Здоровяк отпустил змия, и наг уже начал было хвостом вперед втягиваться в спасительный ход, уводящий в глубь земли. Услыхав последний вопрос аскета, Васятха изогнулся хитрым крюком и, почтительно оборотясь к старику, ответствовал:
— Я возвращаюсь с Поля Куру известить Нагараджу, что Великая Битва завершилась…
— То есть как — завершилась?.. Здоровяк, держи змия!
В следующее мгновение обе шеи незадачливого порученца вновь оказались в живых тисках, от которых едва успели освободиться. И мощный рывок выдернул нага обратно на свежий воздух.
— А ну-ка, рассказывай! — строго приказал аскет. — Как это: битва завершилась? Чем завершилась? И вообще, какое дело нагам до людских битв?! Давай-давай, шевели языками!
— Пус-с-стите, — хрипел бедолага-порученец, дергаясь в конвульсиях — Пус— с-стите, гады…
— Сам гад, — заметил честный Здоровяк, разжимая поочередно то одну руку, то другую. — Эй, тезка, пускать или как?
— А не сбежишь? — Жалость, похоже, была чужда бывшему Палачу Кшатры.
— Не с-с-сбегху-кху-кху! — из последних сил кашлял змий, и крупные слезы градом катились по его щекам. — С-с-слово чес-с-сти!
— Ладно, отпусти его, — скомандовал аскет.
За то время, пока Васятха по второму разу приходил в себя, аскет успел отойти в сторонку и подобрать свою секиру, известную всему Трехмирью. Топор— Подарок радостно сверкнул, гоняя кровавый отсвет костра по полулунному лезвию, и вздыбил холку выгравированный на стали белый бык — именное тавро Синешеего Шивы.
Ашока испуганно вздрогнула: уж не вознамерился ли аскет запастись дровишками для костра? Сейчас как рубанет наотмашь…
Пронесло, боги миловали.
Аскет остановился напротив змия, поигрывая секирой. Стоял, ждал молча. Только чуть слышно брякали колокольцы на длинном древке да потрескивал, догорая, костер.
Где-то вдалеке заунывно выл одинокий шакал.
— Повелитель отправил меня на Поле Куру по просьбе Адского Князя, Миродержца Юга, — выдавил наконец Васятха-Хороший. — Дескать, сам Индра— Громовержец хотел посетить Курукшетру — и, представьте себе, не смог туда пробиться! Уж не знаю почему… Да и Петлерукий Яма волнуется: души убитых воинов к нему не являются, словно все поголовно праведники! Волнуется, а на поле Куру выбраться не может, прямо не Локапала, а бык в загоне!
Наг перевел дух. Тезки-Рамы не торопили его, внимая каждому слову змия и терпеливо ожидая продолжения.
— Тогда, весьма удивленный и раздосадованный, Адский Князь отправил на Поле Куру посыльного киннара. Очень скоро (гораздо быстрее, чем рассчитывал Князь) киннар вернулся обратно — с отрубленной головой под мышкой! Понятно, Яма немедленно дал ему новое воплощение, и киннар поведал: дескать, едва он выбрался во Второй мир, как первый же попавшийся воин снес ему голову топором! Киннар даже толком рассмотреть ничего не успел!
Аскет мечтательно усмехнулся и с лаской огладил лезвие секиры-любимицы. «Топором — это правильно!» — ясно читалось в глазах старика.
Наг на мгновение запнулся, после чего продолжил:
— Яма посылал киннара еще дважды — и дважды посланец возвращался обратно с отрубленной головой! Похоже, его всякий раз убивал один и тот же воин!
Здоровяк еле сдерживался, чтоб не загоготать на весь лес. Три раза подряд наступить на одни и те же грабли — потеха!
— И тогда Петлерукий Яма обратился с просьбой к моему господину. Выбор Повелителя, как обычно, пал на меня, — грустно произнес наг. — У меня, ясное дело, две головы, только терять любую из них мне совсем не по вкусу. Сами понимаете: одна голова хорошо, а две… Поэтому, когда я выбрался из Третьего мира на Поле Куру, я предусмотрительно уменьшился до размеров яблочного червячка — и никто меня не заметил! Но вскоре выяснилось, что в таком виде я и сам могу заметить в лучшем случае яблоко. Пришлось увеличиваться. До полупосоха. Приподымаю я головы, осматриваюсь… Вы будете смеяться, но первым, кого я увидел, был урод-бородач с окровавленным топором!
Васятха-Хороший весь передернулся от такого нехорошего воспоминания, и по чешуйчатому телу пробежала волна мелкой дрожи.
— Шарахнулся я от него, чувствую: за хвост хватают. И орут: «Вот ты-то, гад, мне и нужен!» Я только дернулся, а этот, который змеелов, уже «Нагабхала— Мантру» выкрикивает. Ту самую, от которой мы деревенеем и превращаемся в отравленные дротики! Не успел я опомниться — лечу! Взаправду лечу! Мне даже понравилось. Вот, думаю, рожденный ползать… Тут как раз и прилетел. Врезался в чей-то доспех, лбы по-расшибал, сам доспех всмятку, хозяин доспеха с колесницы брык! Я поверх него шлепнулся, а он уже дохлый. Совсем…
— Неудивительно, — проворчал Здоровяк.
— Меня мантра и отпустила. Еле до ручья дополз… а он кровью течет. Притаился я в ложбинке, слышу — кричат: «Царь Шалья убит! Последний воевода пал! Бегите, Кауравы!» И тут до меня доходит, что это МНОЙ бедолагу и прикончили! Вижу: часть воинов побежала, оружие бросают, иные ниц валятся… И голос отовсюду, как оползень в горах: «Убивайте! Павший в бою наследует райские миры!.. Убивайте ради их же блага! Пленных не брать!» Я проморгался, смотрю: огненный дождь всех накрыл… и тех, что бегут, и тех, что ниц…
Наг осекся, лизнул пересохшие губы парой раздвоенных жал и заморгал чисто по-человечески.
Удавьи глаза Васятхи предательски заплывали слезами.
— Короче, я обратно, а тут вы со своими шутками! Будто я и так мало натерпелся! И наг обиженно умолк.
— Врет! — с уверенностью заявил Здоровяк. — Быть такого не может. Кшатрий сдающегося никогда не убивает. Слышь, тезка, врет, слякоть двумордая!
— КТО приказал не брать пленных? — тихо спросил Рама-с-Топором у нага, и сухие пальцы аскета непроизвольно сжались, врастая в древко секиры.
От этого чуть слышного голоса передернуло не только нага, но и могучего Здоровяка. Лицо аскета казалось бесстрастней обычного, но уж лучше бы он ру гался самыми страшными словами и размахивал своим топором… Увы, не такой человек был Парашурама Джамадагнья, Палач Кшатры, что наполнил в свое время Пятиозерье кровью варны воинов и поил этой кровью призрак невинно убиенного отца.
Былой хозяин Курукшетры, где сейчас гибли тьмы и тьмы.
Нет.
Не гибли.
Погибли.
— Я н-не знаю… — растерянно выдохнул Васятха. — Клянусь жалами Отца— Шеша, не знаю!
— И голос отовсюду, словно оползень в горах, — медленно повторил Рама-с— Топором. — Голос ЕГО…
— Кого — ЕГО? — не понял Здоровяк.
— Братца твоего ненаглядного! Черного Баламута! — Аскет выплюнул это имя, как ругательство. — Кого ж еще?!
И бесстрастным старик теперь выглядел не более чем весеннее половодье в отрогах Восточных Гхат.
— Да ты что, тезка, сдурел?! — Брови Здоровяка вспугнутыми шершнями взлетели на лоб. — Кришна, он же… да не мог он такого приказать! Он вообще не любит приказывать… и в битву обещал не вмешиваться!
— Любит, не любит! Ты мне еще на лотосе погадай! Ах я, старый дурак! Вот она, Эра Мрака! Павший в бою наследует райские миры? Убейте всех ради их же блага! Пленных не брать! Любовь — побоку, Закон — на плаху, одна Польза осталась, и та с гнильцой… Убивайте! Всех, всех, а там Господь разберется, где свои… и огненный дождь на головы! Это ж какой сукой надо быть, чтоб «Южными Агнцами» сдающихся полоскать?! Дурак я, дурак… решил отсидеться…
— Мне надо туда, — катая желваки на скулах, сухо бросил Здоровяк. — На Поле Куру. Я отказался участвовать в бойне — но бойня закончилась. Пора вернуться. И взглянуть в глаза своему брату. Извини, тезка, но я не верю, что это он. Ведь я люблю его…
Насмерть перепуганный Васятха смотрел на огромного человека, в котором только что все добродушие переплавилось в нечто совсем иное, и сердце змия захлебывалось от страха.
Наг, разумеется, слыхал рассказы о том, как бешеный Баларама убивал на арене Матхуры лучших борцов-демонов, смеясь в лицо царю-выродку, но раньше порученец никогда не принимал это всерьез.
— Ну, я пополз? — робко поинтересовался наг.
— Пополз, — согласился аскет. — Да не туда. Вот доставишь его на Курукшетру — тогда посмотрим… И меня заодно, — неожиданно закончил он.
— Да как же так? — Бедный Васятха чуть не подпрыгнул от растерянности. — Мне же к Повелителю с докладом…
— Повелитель обождет. — Аскет был неумолим. — Думается, по возвращении твой доклад будет куда полнее. Давай поехали!
— Да не снесу я вас двоих! — взмолился наг.
— Еще как снесешь! — заверил его Здоровяк, мигом приняв сторону тезки. — Уменьшаться умеешь? Умеешь. Сам говорил. Значит, и увеличишься, ежели подо прет!
— Ну не настолько же! — продолжал упираться Васятха. — Кроме того, если я с докладом опоздаю, с меня семь шкур…
— Скажи-ка, тезка, чтишь ли ты Шиву-Милостивца? — словно забыв о существовании нага, обратился аскет к великану.
— Ясное дело! — удивленно ответил тот, еще не вполне понимая, куда клонит старик.
— А хотел бы ты хоть в самой малости уподобиться Синешеему?
— Ну… а в чем именно?
Видимо, в душу Здоровяка при воспоминании о привычках чтимого Шивы закрались сомнения.
— Шива, подвижник из подвижников, как ты знаешь, любит подпоясываться царской коброй. Ну хотя бы в этом мы с тобой могли бы последовать его примеру?
— Могли! — уверенно кивнул Баларама, убедясь, что никто не предлагает ему посвятить остаток жизни аскезе и с утра до вечера стоять на одной ноге. — В этом могли! Запросто.
— Вот и я так мыслю. — Аскет задумчиво пробовал ногтем остроту секирного лезвия. — Наш чешуйчатый приятель, конечно, не кобра… зато головы у него две и длина вполне подходящая. Так что ежели аккуратненько располосовать вдоль — быть у нас с тобой по замечательному поясу! Полагаю, Шива одобрит.
Здоровяк хлопнул в ладоши и расплылся в радостной улыбке, явно предвкушая водопад будущих милостей Синешеего.
— Ладно, уговорили, — промямлили обе головы нага, который внимательно следил за развитием щекотливой темы. — Все вы, люди, одной сурьмой мазаны: чуть что не по-вашему — сразу топором! Хоть нас, хоть киннаров, хоть друг дружку! Отойдите, дайте место…
— Вот и умница, — похвалил его Рама-с-Топором. — А Повелителя своего не бойся. Станет ругаться, скажешь: дескать, срочно понадобился самому Балараме, земному воплощению Змея Шеша. Тем более что так оно и есть, — добавил аскет тихо.
Васятха тяжко вздохнул и начал быстро увеличиваться. Когда длина его достигла почти двадцати посохов, а в обхвате в самом толстом месте наг вполне мог сравниться со средней упитанности слоном, змий прекратил наконец расти, критически оглядел себя двумя парами глаз и, видимо, остался доволен результатом.
— Ну что, поехали? — поинтересовался он у тезок.
Здоровяк подхватил лежавшую под деревом цельнометаллическую соху, с которой почти никогда не расставался, аскет наскоро затоптал костер босыми ногами — и вот уже оба Рамы восседают в ложбине у шейной развилки змия.
— Поехали! — Один седок хлопнул нага по левой шее, другой — по правой, и ездовой змий принялся споро ввинчиваться в Махендру, лучшую из гор.
— Хоть когда-никогда свой плуг по назначению использовал, — донесся из— под земли удаляющийся бас. — Сегодня, например, тебе огород вспахал! Теперь этого погоняю, подколодного… А то все больше заместо дубины…
Голос стих. Вскоре перестала дрожать и земля. Тишина вновь вернулась к пепелищу былого костра — и лишь огромная воронка, окруженная валом вывороченной земли, напоминала о странной троице, покинувшей благословенные склоны.
Ашока тревожно качнула ветвями и наконец успокоилась. Сейчас был тот редкий момент, когда ее действительно можно было назвать Беспечальной.
«Не зря его все же кличут „Добрый Рама-с-Топором“, — думало дерево, засыпая. — Все в итоге добром решил. А мог ведь и рубануть…»
Тишина. Звезды. Легкий шелест листвы, которую ерошит проказливый ветерок— гулена.
И не слышно больше в этом шелесте лязга металла о металл, стонов умирающих, конского ржания, скрежета стрелы по доспеху…
Великая Битва закончилась.
Все убиты.
Все ли?..
КУРУКШЕТРА, лучшее из полей.
— А, вот ты где! — Насмешка звенела, и переливалась, и хлестала семихвостой плетью.
От души.
Это было первое, чем встретила Курукшетра подземных путешественников, когда те выбрались наружу.
Насмешка-невидимка.
И лишь потом до их слуха донеслось сытое карканье бесчисленных ворон, круживших над Полем Куру.
Люди осматривались по сторонам, пытаясь сориентироваться, наг же спешно уменьшился до обычных размеров, затем подумал и уменьшился еще вдвое.
Светало. Медленно редея, плыла над землей кисея тумана, и сквозь нее углами проступали изломанные кусты, обугленные, сиротливо торчащие остовы дере вьев — и трупы, трупы, трупы…
Видно было не дальше чем на два-три посоха, но этого хватало.
Кусты, трупы…
— Тростники вместо дворцовых стен, жабы вместо наложниц? — Насмешка ширилась, обжигая слух. — Озеро вместо державы?! Думаешь, это спасет тебе жизнь, Боец?
В ответ расхохоталось несколько голосов — пять? шесть? дюжина?..
Нет, не в ответ.
В поддержку насмешке.
— Царь Справедливости?! — удивленно спросил сам себя Здоровяк, тщетно пытаясь высмотреть хоть что-то в туманной мгле. — Раньше он был куда учтивее! Даже с врагами.
Рама-с-Топором молчал. Он знал, что Царем Справедливости с рождения именуют старшего из братьев-Пандавов, братьев-победителей, но никогда не встре чался с ним лично, чтобы теперь распознать голос.
А еще аскет знал: Бойцом звали хастинапурского раджу Дурьодхану, сына Слепца — того, кто сумел настоять на своем еще при жизни Гангеи Грозного, Деда Кауравов.
Догадаться об остальном было проще простого.
— Где твоя хваленая гордость, Боец? — Насмешка хищным ястребом взмыла над хохотом остальных. — Выходи, сразись с нами!
— Ну?! — подхватил хор.
— Значит, не все погибли! — Здоровяк явно воспрял духом. — Может, еще кто— нибудь уцелел?
— Может быть, — сумрачно процедил Рама-с-Топором, разглядывая опрокинутую набок колесницу, запряженную четырьмя скелетами. — А может и не быть.
— Ну что, теперь я свободен? — с надеждой осведомился наг.
— Свободен, — кивнул аскет. — Но я бы посоветовал тебе задержаться.
Возможно, ты скоро увидишь кое-что, о чем небезынтересно будет узнать Нагарадже и Адскому Князю.
Любопытство перевесило, и после изрядных колебаний наг решил остаться.
— Я прячусь здесь не из страха за свою жизнь! — Ярость и боль отшвырнули насмешку прочь, и даже язвительный хор приумолк в смятении. — Одна жизнь из миллионов, подвластных мне, — думаете, я дорожу ею больше прочих?! Я просто хотел отдохнуть и смыть кровь с моего тела…
— Мы уже отдохнули. — Насмешка вернулась, игриво струясь в тумане. — Да и ты, надо полагать, успел омыться вдоволь. Выходи, прими вызов — и если ты побе дишь, царство будет твоим! Клянусь чем хочешь!
Здоровяк отчетливо представил себе обессиленного вождя Кауравов, по грудь в воде, обнаженного, израненного, безоружного (хотя это вряд ли!), — и столпившихся на берегу озера воинов.
В сверкании лат и смертоносного металла.
Воображение обожгло сердце ледяными брызгами гнева.
— Что мне в царстве, построенном на костях друзей и родичей?! — Ярость и боль, боль и ярость — последнее прибежище Бойца. — Ты хочешь быть царем над кладбищем?! — Будь им! Ты победил. А я облачусь в рубище отшельника и удалюсь в леса, проведя там остаток дней…
Дружный гогот вновь был ответом законному радже Хастинапура.
— И ты думаешь, что я поверю тебе? — вкрадчиво поинтересовалась насмешка.
— Поверю, пожалею и дам уйти живым? Ты даришь мне царство ТЕПЕРЬ, когда перестал им владеть? Щедрый дар, Боец! Выходи и сражайся!
— Нет, ты погляди, как он гладко стелет! — искренне изумился Здоровяк. — Попробовал бы он так говорить с Бойцом, когда тот был в силе!
Аскет молчал, хмуря кустистые брови.
Наг тоже помалкивал — от греха подальше.
— Я буду сражаться! — взревела из озера ярость, заставив боль умолкнуть.
— Один на один! С каждым! Или вы собираетесь задавить меня скопом, подтвердив врожденную подлость? Ха!
— Вот теперь я слышу речь истинного кшатрия, — удовлетворенно проворковала насмешка. — Недаром же мы братья… Выходи. Бой будет честным, обещаю.
Плеск расступившейся воды, шелест тростника…
— Ты даже можешь выбрать оружие, которым станешь биться, — милостиво разрешила насмешка.
Было слышно, что говоривший может позволить себе великодушие в таких мелочах.
— Ты храбрый человек, о Царь Справедливости. — Ярость позволила и себе криво усмехнуться. — Я принимаю твою милость и выбираю палицу! Пусть тот из вас, кто осмелится, выступит против меня с равным оружием!
Тишина.
— Да, тут они, похоже, дали маху. — Здоровяк ткнул аскета локтем в бок. — Кроме Бхимы-Страшного…
— Я, брат твой, Бхимасена, вырву шип, терзающий твое сердце, о Царь Справедливости! Сейчас я своей палицей лишу негодяя царства и жизни!
— Когда это ты научился красивым речам, Волчебрюх? Когда строгал ублюдков сукам-ракшицам? Когда пил кровь моих братьев? Когда подлостью убивал наших общих наставников?! Хватит понапрасну молоть языком — выходи и бейся со мной!
— Посмотрим? — предложил аскет.
— Пошли, — кивнул Здоровяк.
Ветви кустов хлещут по лицам, словно Поле Куру старается задержать бывшего хозяина, не дать пойти на звук, зябкий дождь из росы осыпается на плечи, руки… Впереди мелькают размытые силуэты, слышатся крики, треск первых ударов.
Позади, стараясь не отстать, резво ползет Васятха.
— Постоим здесь, — шепчет Рама-с-Топором, останавливаясь на пригорке, у чудом уцелевшей смоковницы, и придерживая тезку за плечо. — Не спеши.
С этого места берег злосчастного озера и поединщики, окруженные изрядной толпой воинов из лагеря победителей, были видны как на ладони. На новых зрителей же никто не обратил внимания — всех захватило зрелище.
Ох и зрелище!
Странно: почему убийство сотен и тысяч вызывает омерзение или ужас, а вот так, один на один, в кругу возбужденных зевак…
Подобные матерым быкам-гаурам на брачном лугу, кружат двое: нагой и одетый, плоть и доспех, всклокоченная шевелюра и плоский шлем с налобником, босые ноги и боевые сандалии в бронзовых бляшках. Вот с треском столкнулись шипастые палицы — единственное общее, что было у обоих… ложь, не единственное! — еще общей была сила. Удар, другой, третий… глаз человеческий безнадежно опаздывает, пытаясь уследить за молниеносными взмахами. Кажется, что подобным оружием с его чудовищной тяжестью невозможно биться, словно легкими булавами для метания, много чего кажется, глядя со стороны и гася в груди вопль восторга, но быкам в кругу нет дела до наших представлений о поличном бое.
Они просто ежесекундно опровергают эти представления.
Боец и Страшный, царь бывший и царь будущий — побежденный и победитель.
Рама-с-Топором смотрел на поединок и чувствовал себя посторонним.
Мумией из седых бездн прошлого, миражом с сияющих вершин будущего, незваным пришельцем, что явился к концу чужого пира и теперь нагло разглядывает гостей с хозяевами. Осознание собственного возраста впервые обрушилось на костлявые плечи, грозя стать последней соломинкой, ломающей спину буйволу. Сменились поколения, пока аскет предавался добровольному затворничеству на Махендре, возвелись и разрушились города, люди стали иными, лик земли стал иным, Поле Куру забыло грозного Палача Кшатры, пустив на свой простор новых палачей, помоложе, — и сотню раз успел сгнить до основания старый ашрам старого отшельника Сейчас же он смотрел и не узнавал лиц, путал имена с прозвищами, плохо разбирался в хитросплетениях родословных внутри Лунной династии и прочих царских семей, плохо разбирался хотя бы потому, что его это абсолютно не интересовало до сегодняшнего дня.
Рама знал лишь, что трое его учеников были подло убиты один за другим здесь, на этом поле, которое согласилось лечь под армии друзей и родичей, как шлюха под гогочущий сброд в порту.
Сердцу аскета было видение тех смертей.
Гангея Грозный по прозвищу Дед.
Наставник Дрона по прозвищу Брахман-из-Ларца.
Карна-Подкидыш по прозвищу Секач.
И бой нагого с доспешным в кругу зрителей, сгоравших от предвкушения финального удара, был сродни тем видениям.
Аскет не замечал, что его пальцы скоро раздавят секирное древко. Он смотрел.
…Противники разом отскакивают друг от друга, стремясь перевести дух на безопасном расстоянии. Доспешный потерял шлем, лицо его залито кровью из рассе ченного шипом лба, а на губах пузырится бурая пена — второй удар пришелся наискось в зерцало панциря. Голый, в свою очередь, движется, изрядно скособочасъ и подволакивая правую ногу, — похоже, у него треснуло ребро или два.
Но ненавидящие взоры продолжают сталкиваться с беззвучным грохотом.
Доспешный жаждет победить и насладиться победой.
Нагой ничего не жаждет.
Он умирает, выбрав смерть по своему вкусу.
Он счастлив.
— Если так пойдет и дальше, братьев-Пандавов останется четверо, — равнодушно произносит Рама-с-Топором.
Здоровяк не отвечает, опершись на соху.
Будто в подтверждение слов аскета, нагой внезапно кидается вперед, забыв о ранах и усталости. Палица описывает в воздухе сложную петлю, достойную древесного удава, выскальзывает из-под, казалось бы, неминуемого столкновения
— и металл уже пострадавшего зерцала становится треснутой кожурой кокоса.
Доспешный рушится наземь сбитой влет гридхрой, содрогаясь всем телом. Он надсадно хрипит, и бурая пена на его губах мало-помалу становится алой… ярко-алой, цвета свежевыстиранных одеяний Адского Князя.
Цвета смерти.
Нагой издает торжествующий клич и, верный закону паличного боя, отходит прочь в ожидании.
Доспешный поднимается на одно колено. Время обтекает его, боясь столкнуть обратно, на землю, и клочья пены летят на палицу и бугристые руки доспешного Любой другой на его месте беседовал бы сейчас с киннарами или дружинниками Индры по пути в иные сферы — но Бхима-Страшный играючи ломал шеи ракшасам озерного Манаса и лесистой Экачакры!
Впрочем, видно по всему: в глазах доспешного плещет огненными крыльями призрак погребального костра.
И тут раздался голос, который заставил вздрогнуть двухголового нага. Васятха плотнее обвил ствол дерева, откуда наблюдал за поединком, но унять дрожь не удалось. Змий уже слышал этот голос. Тогда он был гораздо громче, тогда он рушился горным оползнем, и слова были совсем другие: «Павший в бою наследует райские миры! Пленных не брать!» Сейчас же голос был тих и спокоен:
— Ты не можешь погибнуть, мощнорукий Бхимасена, не сдержав своей клятвы! Помнишь, ты поклялся отомстить злокозненному Бойцу, раздробив его бедра?! Помнишь?!
— Проклятье! — утробно взревел Здоровяк, наливаясь дурной кровью и мало заботясь о том, что подумают стоявшие внизу воины-зрители. — Позор! Что ты делаешь, брат!
И великан рванулся вниз, к бойцам.
Но было поздно.
Польза перевесила Закон, а над Любовью давным-давно каркало сытое воронье.
Напоминание тихого голоса, казалось, мгновенно придало сил доспешному. Нагой еще только оборачивался, лишний раз убеждаясь в небоеспособности противника, а окровавленная палица в клочьях пены уже отправилась в полет.
Клятва, была она на самом деле или нет, исполнялась.
Доспешный бил ниже пояса, достойно завершая Великую Битву.
Со страшным хрустом палица врезалась в бедро нагого, ближе к паху, и двое закричали одновременно — искалеченный Боец и Здоровяк, который видел, что не успевает… он не успел вдвойне. Потому что доспешный на четвереньках подполз к упавшему противнику, привстал, палица его взмыла в воздух заново, и оба бедра нагого стали похожи на гущу мясной похлебки с торчащими наружу обломками костей.
Только тогда доспешный поднялся, довольно ухмыльнулся и наступил ногой на голову поверженного Бойца.
— Мои клятвы всегда исполняются! — Наверное, он ожидал всеобщего одобрения, но ответом было подавленное молчание. Воины прятали глаза. Попрать ногой голову законного царя, близкого родича, пусть даже… пусть. Пусть?!
В следующую секунду, расплескав шарахнувшуюся прочь толпу, как соха расплескивает податливую землю, в круг молча вошел великан.
Волоча за собой настоящую соху.
Баларама Халаюдха, трус и изменник, который позволил себе увильнуть от Великой Битвы…
Сохач шел убивать.
— Ты подлец. Твоя честь — собачья моча. Твоя жизнь — жизнь псоядца, — рубленые, тяжелые фразы камнями падали из уст Баларамы. — Твой погребальный костер — отхожее место. Но я добр. Я отдам твой труп шакалам.
И впервые в жизни доспешный ощутил, что такое страх. Здоровяк возвышался над ним «быком среди кшатриев», как слон над гауром, а сверкающий металлический плуг — любимое оружие Сохача — уже начал свое неумолимое движение, набирая разгон для единственного удара, от которого доспешный не мог ни уклониться, ни отбить его.
Это была смерть.
Баларама слов на ветер не бросал.
Когда Здоровяк вошел в круг, Раму-с-Топором пробрал озноб. Секундой ранее старый аскет думал, что нынешний поединок олицетворяет для него всю Великую Бойню — победа, победа любой ценой! — но ледяные пальцы вцепились в тело, до сих пор равнодушное к боли и холоду, вытряхивая прочь посторонние мысли.
Так Палач Кшатры не мерз даже тогда, когда сходился для боя с собственным учеником, Гангеей Грозным, на льду Предвечного океана. Сперва ему померещилось, что отовсюду надвигается незримая стена из ледяных глыб. Стена, которая прежде окружала всю Курукшетру, а сейчас начала стремительно сжиматься, стягиваться в одну точку, острую, как игла палача, когда та приближается к влажному зрачку…
Тревожно замычал белый бык с Топора-Подарка — и там, в круге, удивленно поднял голову гибкий чернокожий красавец. Сверкнули звезды очей, чувственные губы растянула тихая улыбка — и игла пронзила зрачок.
Раме-с-Топором больше не надо было объяснять, кто стянул на себя незримое покрывало, сквозь которое не могли пробиться Локапалы Востока и Юга.
На миг он ощутил нечто похожее на касание призрачных рук, которые отчаянно пытались ухватиться за аскета, за древко его секиры, даже за лезвие!
— но равнодушная сила повлекла призраки дальше, как мать влечет за собой упирающееся дитя. Край покрывала из тумана и сырости скользнул по лицу аскета
— и мир вокруг в одно мгновение стал иным, ярким и звонким, рассвет сменился утром, и застывшее на месте время встрепенулось, вспомнив о своих обязанностях.
Черный Баламут рассмеялся, когда вокруг него зажегся радужный ореол, и даже Палач Кшатры не успел заметить рывка Кришны. Вот только что Баламут стоял и смеялся, а вот он уже висит на своем брате, прижимая руки-хоботы Здоровяка к могучему туловищу.
Не давая возможности нанести смертельный удар.
— Пиявка на слоне, — процедил сквозь зубы аскет и стал наблюдать за дальнейшим развитием событий.
Наг делал то же самое в четыре глаза.
Казалось, что Здоровяк легко должен стряхнуть с себя Кришну-миротворца, после чего довершить начатое. Но не тут-то было! Черный Баламут клещом вцепился в брата-великана, и все усилия Здоровяка высвободиться оказывались тщетны. Здесь и сейчас, в зародыше Мира Нового, для Кришны не существовало невозможного, и самым простым было удержать брата, вдесятеро превосходившего силой прежнего Баламута.
— Остановись, брат! — пел звучный голос, и эхо подхватывало многоголосым хором, разглаживая складки на лицах воинов:
«Остановись, брат!..»
— Нет вины на убийце, ибо убитый пал во исполнение былой клятвы!
«Нет вины!» — соглашалось эхо, и воины переглядывались, кивая:
«Нет вины… вины… нет…»
— Нет вины?! — опешил Здоровяк, едва не выронив свое грозное оружие, и кришна наконец отпустил брата, видя, что опасность почти миновала.
— Конечно, нет! Исполнение обета… кроме того, пойми: возрастет могущество родичей наших — возрастет и наше могущество!
Баламут осекся. Великан смотрел на него с невыразимым презрением, которое мешалось с былой любовью, и никакого Жара недоставало в любом из миров, чтобы закрыться от этой отравленной стрелы.
Наверное, остановить «Беспутство Народа» было проще.
— Убивайте всех ради их же блага? — еле слышно спросил Здоровяк. — Пленных не брать, да?
Черный Баламут не ответил.
Великан повернулся к нему спиной и побрел прочь из круга.
Поднял взгляд.
И встретился глазами с аскетом у смоковницы.
Так они и столкнулись: дикий огонь пекла и вечный покой бездны, кипень пламени и неколебимость утеса, молния и гора, взор и взгляд.
— Дети рабов, следующие бесчестным советам, — рык Здоровяка раскатился над примолкшим кругом, заставляя воинов втягивать головы к плечи. — Не побежденный, а вы достойны жалости! Он правил всей землей, попирая головы своих врагов. Кто более счастлив, чем он?! Он честно встретил смерть в бою, уступив не силе, но подлости Кто более счастлив, чем он?! Он идет на небо вслед за своими братьями, друзьями и наставниками. Кто же более счастлив, чем он?! Тишина была ответом.
Здоровяк плюнул под ноги доспешному и молча пошел к смоковнице, где его ожидали аскет и наг.
И никто не обратил внимания, как разлепились губы старого отшельника, выплевывая мантру-приказ, — но туманные нити сами собой протянулись из адской бездны в глазницах Рамы-с-Топором, намертво связывая хозяина с Черным Баламутом.
Рама-с-Топором увидел. Плотный переливающийся кокон окружал гибкого красавца, кокон Жара, где не таилось ни боли, ни страха — только любовь. Любовь, которая заставляла бойцов обеих сторон избегать в сражении Господа Кришну, беречь как зеницу ока, отводить в сторону удар, прощать обман, внимать Песни… высшая любовь. Сотни, тысячи, миллионы безжалостно спрессованных душ, душ бхактов-любовников, нитей в черном покрывале, крупиц тапаса, сгоревшего на Курукшетре! Не зря пустовали райские миры и Преисподняя, не зря пошатнулись основы основ, не зря возмутились воды Прародины… Кришна Джанардана. Черный Баламут. Зародыш нового мира. Мира, где бьют ниже пояса.
КНИГА ПЕРВАЯ ИНДРА-ГРОМОВЕРЖЕЦ ПО ПРОЗВИЩУ ВЛАДЫКА ТРИДЦАТИ ТРЕХ
Бали сказал:
— Раньше, о Индра, пред моим гневом все трепетало, Нынче же я постиг вечный закон сего мира.
Раз уж меня одолело Время, чтимого владыку гигантов, То кого иного, гремящего и пламенного, оно не одолеет?!
Тебя также, царь богов, Многосильный Индра, Когда придет час, угомонит могучее Время, Вселенную оно поглощает, поэтому будь стойким!
Ни мне, ни тебе, ни бывшим до нас его отвратить не под силу…
Махабхарата, Книга о Спасении, шлоки 26, 40, 56—57Зимний месяц Магха, 29-й день ДОСПЕХ С ЧУЖОГО ПЛЕЧА
Проникшийся величием сказанного здесь никогда не вкушает скоромного, к супруге приходит только в положенное для зачатия время, соблюдает пост и ест лишь по вечерам! Но и при нарушении законов людских и человеческих лишь одна строка из сего святого писания дарует небо и освобождает ото всех грехов! Вспоминайте же нашу мудрость всегда: во время приема пищи, в час сношения с супругой и в суетный миг ловли барыша — да будет вам благо!..
Глава I БОГ, КОТОРЫЙ НИКОМУ НЕ НУЖЕН
1
Теплые огоньки масляных светильников один за другим загорались в саду. Проступили очертания беседок, нитками драгоценных ожерелий высветились террасы, а павильоны превратились в силуэты глубоководных рыб-гигантов — я видел таких, навещая дворец зеленоволосого Варуны.
Послушные светляки-индрагопы (поймать бы умника, который их так обозвал!) гроздьями облепили ветки ближайших кустов, а также резной потолок выбранной нами беседки. В общем, стало уже достаточно светло, а неутомимые апсары все продолжали добавлять иллюминации. Я лениво потянулся и подумал, что если их не остановить, то красавицы, пожалуй, спалят все запасы масла в Обители!
Придется у Семи Мудрецов одалживать.
Спалят? О чем ты беспокоишься, глупый Громовержец?! На всю Эру Мрака маслом все равно не запастись. Можно было, конечно, не мудрствуя лукаво, подсветить грозовыми сполохами или связаться через Свастику Локапал с другом Агни… Можно, да не нужно. Как там поучал меня один знаменитый асур: «Но теперь не время отваге, время терпению настало!» Именно что время терпению. И сейчас мне хотелось живого света: индрагопы, светильники, трепет желтых язычков пламени…
Да, так куда лучше.
Обычно ночи в Обители проводились иначе: бурно и буйно, с гуляньем дружинников, визгом апсар и неодобрительным кряхтеньем Словоблуда. Я вспомнил дюжину особо замечательных гуляний и со вздохом признался сам себе: слово «обычно», похоже, надо забыть навсегда.
После чего грустно моргнул в подтверждение.
Братца Вишну удобно устроили на импровизированном ложе прямо здесь же, на полу беседки. И сейчас Опекун Мира мало-помалу приходил в себя, потягивая из чаши теплую амриту с молоком. А мы расселись вокруг и тихо переговаривались между собой. На светоча Троицы, заварившего ту крутую кашу, которую нам теперь приходилось расхлебывать, демонстративно не обращали внимания. И с вопросами не торопились набрасываться — пусть сперва оклемается!
Мы — это, понятно, в первую очередь я, великий и могучий Индра— Громовержец, Стогневный, Стосильный и прочее, за что прошу любить и жаловать. Во вторую очередь — вон они, сидят рядышком, как куры на жердочке: мой мудрый наставник Словоблуд и сынок его, толстый Жаворонок, который и папашу-то перемудрил!
Третья с четвертой очередью расположились ближе к порогу. Та еще парочка: Лучший из пернатых, орел наш Гаруда, нахохленный, озабоченный, — и мой возница, синеглазый Матали, безуспешно притворявшийся опорным столбом. Знал, подлец: не хватит у меня духу погнать его после наших мытарств над гнойным нарывом Поля Куру!
Он знал, и я знал, и все знали — чего уж там…
Завершал великое сидение отставной Десятиглавец Равана. После героического спасения братца Вишну, которого Равана приволок в Обитель на своих широченных плечах, у меня просто не поднялась рука отослать Ревуна в казармы, где временно расположились его подчиненные-ракшасы. Равана лишь ненадолго отлучился, чтобы перекусить, и вернулся просто лучась счастьем! Еще бы, кухня Обители после постно-праведнического хлебова братца Вишну…
— Скажи, Владыка, а у тебя здесь тоже рай считается или как? — гулким шепотом поинтересовался вдруг царь ракшасов.
— Рай, — кивнул я. — Царствие небесное.
— Тогда странно…
Я собрался было обидеться — и передумал.
— У меня сейчас как раз время месячным, — продолжил деликатный Равана, — и ничего!
— Что?! — аж подпрыгнул я. — Чему у тебя время?!
— Мучиться пора, — доступно разъяснил великий мятежник. — Чтоб рай не отторгал. А твоя Обитель нас и так принимает будто родных! Живот не пучит, руки-ноги не крутит, в глазах не темнеет. И не тянет никуда. Я-то помню, как в Вайкунтхе бывало, ежели вовремя в местный ад не сходишь! Опять же кормят у тебя не в пример…
Равана покосился на Опекуна Мира, но тот никак не отреагировал на упрек ракшаса.
— Слышь, Владыка, а может, мы у тебя останемся? Тебе тут никого охранять не надо? А то перетащим из Вайкунтхи сюда всех Зловещих Мудрецов, будем их пасти! Вот один уже сам перебежал… — Он кивнул в сторону Жаворонка, о чем-то тихо беседовавшего со своим отцом.
— Посмотрим, — туманно пообещал я, с ужасом представив, как убитых в бою кшатриев встречает в раю Индры эта развеселая компания. — На недельку останетесь, а там видно будет. Трехмирье ходуном ходит, наперед загадывать не приходится. Вот сейчас братец Вишну очухается, расскажет нам, скудоумным, как в игрушки игрался, тогда и решим.
— Но-но, решат они! — мигом вспух от порога бдительный Гаруда. — Я своего Опекуна тиранить не позволю! Ему покой нужен, одеяло шерстяное, а не ваши вопросы!..
Если честно, я даже малость позавидовал Опекуну. Когда от шума драки и грохота моего перуна малыш пришел в себя, мы втроем — Брихас, Жаворонок и я — немедля набросились на него с вопросами. Но Лучший из пернатых горой (в прямом смысле!) встал на защиту любимого хозяина. И каркать ему в этот момент было на все мои громы и молнии! Нет, все-таки он молодец, наш Проглот! Замахал на нас крыльями, подняв маленькую бурю, прикрыл Светоча Троицы собственным телом, как квочка цыпленка…
И мы отступили, устыдившись. Действительно, пристали к больному с допросом! Позор, суры-асуры!
— Не надо завидовать, брат мой Индра. — Вишну, всегда чутко улавливавший мои настроения, аккуратно поставил на пол беседки пустую чашу. — Не тебе удивляться преданности. Помнишь, Змий-Узурпатор предложил уважаемому Брихасу и твоим головорезам облаков перейти к нему на службу? И чем дело кончилось?!
Я помнил, чем кончилось то давнее дело.
Если я сижу здесь, а Змий по сей день ловит козлят в дебрях Кишкиндхи — как не помнить?
— Я действительно наломал дров. — Вишну криво улыбнулся. — Пора разжигать костер. Надеюсь, что не погребальный… Но прежде чем судить меня, ответь, брат мой Индра: ты можешь представить себе, что значит быть младшим в семье? В нашей семье, в семье не просто суров — братьев-Адитьев? Вечный мальчик на побегушках? Бог, который, по большому счету, никому не нужен? До которого никому в семье нет дела? Не отворачивайся, Громовержец, смотри мне в лицо, не моргая — раньше ты никогда не моргал, глядя на милого маленького Упендру!
— Ты прав, — чуть слышно ответил я. — Ты прав, малыш. Я слушаю. Рассказывай и ничего не бойся.
2
Было у Брахмы-Созидателя шестеро сыновей: пятеро умных, а шестой — мудрец. Кашьяпа-риши звался, а если по-простому, то Черепаха-пророк. Все сыновья как сыновья, а этому неймется. Брахма его уж и из сыновей во внуки перевел — не помогает. Пришлось женить. Одна беда: дел у Брахмы невпроворот, вчера дело делал, сегодня забыл — делал ли… Встретит сына-внука, Кашьяпу дорогого, и спросит на бегу: «Ну как, родимый, жениться будем?» А Кашьяпа (вот ведь какое чадо послушное!) кивает. Раз кивает, два кивает, три… вот тринадцать жен и накивал.
А детишек и вовсе немерено.
Мудрец потому что.
Сами посудите: когда вокруг полыхает заря бытия, а тебе приписывают отцовство чуть ли не каждого второго дитяти в Трехмирье… Что остается? Признать себя ходоком из ходоков? Примерить рога? Или сделать так, чтобы все вокруг твоей мудрости позавидовали?
Кашьяпа-риши выбрал последнее.
И все шло бы тихо-мирно, если б не любимая из жен, пылкая Адити— Безграничность. Сердце у бабы горячее, душа нараспашку, вот и поди уследи за Безграничностью: которым боком она к тебе, а которым — к подозрительно румяному суру-асуру! Тыщу глаз вылупи — заслезятся! Многие, ах многие успели затеряться в жарких объятиях красавицы, но немногие обратно вернулись. Зато одиннадцать сыновей-Адитьев стали в ряд, все как на подбор! Вылитый папа Черепаха, муж законный: у одного кудри с прозеленью, второй светило из светил, третий буян-громыхатель, четвертый…
Что?
Где ж сходство, говорите?!
Вы это не нам, а самой Безграничности скажите: авось отыщут вас через югу— другую…
(Я слушал братца Вишну и думал, что не я один избрал в эти безумные дни роль шута. Видимо, когда последний доспех пробит и в бреши светит голое сердце, только и можно закрыться что наглой ухмылкой. Иначе я давно бы отвесил Упендре подзатыльник за глумление над отцом-матерью.
Хотя знал, что он говорит правду.
А кто не знал?..)
…Двенадцатая беременность упала как снег на голову. Старовата была мама— Адити, опытна, судьбой бита неоднократно, да проморгала сроки-числа. Подзалетела, как говаривали апсары, принося в подоле младенца с обезьяньей или рогатой головой. Рожать? вытравить плод?! подкинуть дитятю бездетной асурихе? Голова пухла от размышлений, голова пухла, и живот пух, наливался не по дням, а по часам.
А когда откричала свое мама-Адити, отплакала-отвыла, поднесли ей мальчика новорожденного. Ледащенький, темненький, квакает лягухой, одни глаза на лице — драгоценный миндаль.
Не вынесла мама-Адити взгляда.
Оставила ребеночка при себе.
Усладой старости, живой игрушкой.
Муженьку плевать, он Атману-Безликому кости перемывает, ему Вечная Истина всех дороже: и друзей, и гостей, и жен с детишками! Сыновья выросли, заматерели, у самих давным-давно внуки-правнуки… А этот, темненький, еще долго при маме будет. Вот такие-то дела бабьи.
Рос маленький Вишну при живом отце безотцовщиной, при одиннадцати братьях
подкидышем. Когда-никогда забежит Лучистый Сурья или там Индра-Владыка, козу ребенку сделает, к потолку подкинет. И все. Ну о чем Индре с малышом-голышом лясы точить?! У него, у Громовержца, свои заботы, взрослые: Червь Творца на полнеба разлегся, Шушна-Иссушитель в Прародину яйца с кромешным злом отложил, дочка Пуломана-убийцы замуж просится… Пока, мама, бывай, Упендра, я побежал. А малыш вслед смотрит, слезы по щекам градом: пока подрастешь тут, всех чудищ под корень изведут, все Трехмирье поделят на уделы — живи при Свастике божком— приживалой!
Мама спросит: «Что глаза на мокром месте, сынок?» «Да так, — отвечает. — Землю из пучин на одном клыке вытаскивал, вот горой Меру и оцарапался».
Выдумщик.
(Я покраснел. Шутовство малыша незаметно превратилось в отравленную стрелу. И ничего ведь не возразишь — прав.
Трижды прав.
Эх, братья-Адитъи! — моргать не обучены, а проморгали…)
Гулко шлепались капли из кувшина Калы-Времени: вот и Индра женился, вот и Варуна в своей пучине новую обитель отстроил, с отдельным раем для убитых в бою гигантов, вот и Лучистый Сурья очередную колесницу насмерть заездил.
Вырос малыш Вишну.
Вытянулся.
Гибок, высок, собой хорош. А при маме да маминых товарках обучился не доспех — ожерелья с гирляндами носить, не поножи-наручи — браслеты на запястьях и щиколотках, не шлем боевой — шапку синего бархата. Опять же грамотен, на язык боек. Все суры-асуры, у кого девицы на выданье, стойку сделали: завидный жених! Особенно тем завиден, что будет при тесте дома сидеть, женушку ублажать! А куда ему деваться, болезному, братьям-племянникам до него дела нет и не было, до Брахмы высоко, до Шивы далеко.
Отличный бог.
Бесполезный и роду хорошего.
В случае чего родня будущему тестю во как пригодится…
Мама-Адити долго носом крутила, через губу цыкала. У той невесты спина кривая, у другой нос коромыслом, третья всем хороша, да теща будущая из таких стерв, что не приведи Тваштар! Выбрала наконец. Славно выбрала — юную Лакшми, которую в позапрошлом году единогласно признали богиней счастья.
Шутили на свадьбе братья-Адитьи, подкалывали женишка: держись, малыш, Счастье привалило!
Держусь, отвечал.
Обеими руками.
А сам про себя иное думал. Хоть бы кто спросил: любишь невесту, парень? Он-то Счастье свое впервые в жизни на свадьбе увидел, даже понять не успел: его это Счастье или чье чужое?
Без меня меня женили.
Пляши, малыш!
Не оттого ли юная Лакшми нерожухой оказалась, что свели их не спросясь?.. Или это просто со счастьем всегда так?
(Я обратил внимание, что сын Брихаса, толстый Жаворонок, слушает малыша в оба уха. И губы поджимает сочувственно. Видно, задел рассказ какую-то звонкую струнку в мудром брюханчике, выросшем без отца и отцом же проклятом за опыты над собственным потомством.
Остальные тоже молчали. Прятали глаза — кто куда.
И чужак во мне, с которым мы вместе моргали, болели и бились грудью о броню Курукшетры, притих. Слушал.)
…Выделили молодоженам имение. Хорошее, уютное и от торных путей сиддхов недалеко. Живи-радуйся, пожелай-деревья расти, жена варенья из райских яблочек наварит. Хлебай скуку златой ложкой. Вселенная-то с овчинку: звания названы, дела поделены, один отдых свободным остался. Съездить к брату Варуне, окунуться в море-океан, завести философскую беседу? Рвануть к брату Сурье на солнечной колеснице прокатиться? Предложить брату Индре вместе на демонское племя паниев, истребителей коров, походом отправиться?
Смеются братья: рожей не вышел.
Для бесед, колесниц и походов.
Напрямую, ясное дело, не говорят, но по плечу треплют. Ласково так треплют, снисходительно, с усмешечкой. Сиди дома, Упендра-красавчик, сопи в две дырки, не лезь в дела взрослые. Вон попроси кого надо — пусть тебе еще один дворец поставят. Два дворца. Из яшмы. Или из рубина цельного.
Красота.
Сидит молодой Вишну в красоте, жену отослал куда подальше, со всей ее сворой Летящих Гениев, и думы-мечты в голове, как дитя кубики, перебирает.
А что бы я сделал на братнем месте, дай мне волю?!
Утони земля в безбрежных пучинах, в недрах Паталы — стал бы я вепрем с телом, подобным грозовой туче, и вынес бы землю к свету… Ах да, я уже об этом маме в детстве рассказывал, она еще смеялась!
Спасуй Шива-Разрушитель перед невиданным асуром и его воинством — взял бы я диск-чакру, пустил бы выше солнца стоячего, снес бы нечестивцу косматую голову… Ау, асуры невиданные, где вы?
Похить хитрый враг у старенького Брахмы святые писания да скройся в океане — сделался б я рыбой о четырех руках, не ушел бы от меня подлый похититель… Эй, Брахма старенький, у тебя ничего не крали?
Ах, ничего… жаль.
Мечтает Вишну, грезы грезит, да так явственно, словно и на самом деле было.
Было?
Не было?!
Зашел как-то к райскому мечтателю один Летящий Гений из жениной свиты. Растекся в поклоне киселем и спрашивает почтительно: супруга, дескать, интересуется — не пора ли съездить в гости к маме-Адити, навестить свекровь? А Вишну возьми и брякни гонцу-молодцу от тоски душевной: некогда, мол, мне, пусть сама едет. Я тут вместе с Великим Змеем Шеша, Опорой Вселенной, вторую неделю похищаю супругу у могучего демона Джаландхары.
Как похищу — догоню.
Летящий Гений глаза жабой выпучил, а Вишну и рад слушателю. Все не сам с собой — опротивело. Давай мечты словами в сто цветов раскрашивать: как Владыка Индра сдуру оскорбил Разрушителя, возжелав сравняться с ним мощью. Как вышел из Шивиного гнева страшный демон Джаландхара. Как разбил наголову в сражении всех богов: и Индру, и Шиву, и Яму, и этого, как его?.. И вообще всю Свастику вдребезги-пополам.
Хоть в рассказах на старших братьях, которым до младшего дела нет, отыгрывался.
Дослушал Летящий Гений до конца, восторгом преисполнился, откланялся… и чаще захаживать стал.
Еще чего новенького узнать.
Правда или нет? — кому какое дело! Не у Шивы же спрашивать: было? не было? Зато интересно. И с друзьями после есть о чем поговорить. Пересказать по— своему, к ста цветам сто первый добавить. А у друзей свои друзья, а у своих друзей еще и жены с родственниками, а у тех… пошли языки чужие уши вылизывать!
Зашумело Трехмирье: великий бог живет в Вайкунтхе!
Ба-альшие дела ворочает.
Вишну б радоваться, пыжиться от величия обретенного, ан нет: еще противней жить стало.
И грезы не спасают.
(Я вспомнил, как ко мне захаживал Медовоокий Агни и, привязав своего ездового агнца к столбу беседки, взахлеб пересказывал последние сплетни о подвигах малыша.
Я еще смеялся до упаду, а потом апсарам излагал.
На сон грядущий.
Говорил, что правда-истина, и от себя половину добавлял.
Веселый я тогда был…)
Больше всего на свете Вишну хотелось быть нужным — но в нем никто не нуждался. Трехмирье существовало само по себе, и менее всего требовался бог без определенного рода занятий. Становиться же мелким покровителем и заведовать употреблением долгого «а-а» в южном диалекте Пайшачи… Или того хуже: всю жизнь пить сому на дармовщинку, подобно хромому Матаришвану— бездельнику, который когда-то по пьяной лавочке снес огонь с неба на землю!..
Это было ниже достоинства одного из братьев-Адитьев, пусть даже и младшего.
Семья бы не допустила.
Заперла бы позорище в глубинах Прародины — как заперли однажды таинственного сура по имени Третий, взявшего моду отпускать грехи смертным и бессмертным, принимая на себя всякую вину.
Вишну всем сердцем хотел, чтоб его любили, но любовь обходила стороной хозяина Вайкунтхи. Мама и раньше-то не любила младшего сына: стареющей Адити поначалу было лестно слушать комплименты («Ах, молоденькая матушка с младенчиком!.. Прелестно, прелестно…»), потом ей нравилось выходить в свет с красавцем-юношей («Где вы отхватили такого ухажера, дорогая? Что?! Сын?! Ваш сын?! Быть не может…»), потом… они не виделись уже много веков. Смысл? Перестав быть дорогой игрушкой, украшением на привялой груди, Вишну утратил расположение матери.
Отец его тоже не любил. Кашьяпа-риши любил истину, последнего вполне хватало, чтобы не размениваться на иные мелочи. Истина ревнива. Кроме того, Вишну подозревал в отце определенную неприязнь к собственным детям, символам той костяной диадемы на лбу, которая отравляет жизнь большинству мужчин.
К младшему это относилось в наибольшей степени.
Вишну не любили братья. Опекали, но не любили. Слишком большая разница в возрасте. Их собственные дети и даже внуки были гораздо старше, давно успев найти место в жизни. Вон у Лучистого Сурьи сынок, Петлерукий Яма, — владыка Преисподней, у Варуны-Водоворота потомство — сплошь божественные мудрецы, одним глотком океан осушают, эх, да что там говорить!.. Вишну иногда стеснялся собственных племянников, становясь в их присутствии косноязычен и робок, а уж с братьями и вовсе не мог встречаться, чтоб не надерзить в разговоре.
Дерзость — оружие слабых.
Увы, другого не имелось Добиваться же любви у многочисленных полубогов всех мастей, населявших небесные сферы, казалось Вишну позорным. Это слуги. Это свита. Имеет ли значение их любовь? Короче, слуги его тоже не любили.
И, наконец, его не любила жена: в последнем Вишну не сомневался. Люби его Счастье, жизнь просто обязана была сложиться иначе.
От тоски он даже однажды вообразил себя Камой, Цветочным Лучником. Любовью во плоти. Мечты выглядели прекрасными: в них Вишну расстреливал всю семью, отчего в сердцах родичей мигом вспыхивало пламенное чувство к безвинно забытому страдальцу, а супруга Лакшми на коленях ползла к мужу, умоляя хотя бы взглянуть на нее одним глазком.
Да, мечты…
И по Трехмирью пошла гулять очередная байка: дескать, Кама-Любовник является малой ипостасью самого Вишну. Совсем малой. Малюсенькой. Такой, что господин Вайкунтхи отпустил Каму свободно гулять по Вселенной и напрочь забыл о его существовании.
Кама очень смеялся тогда.
Он тоже не любил Вишну, но любил розыгрыши.
(Я слушал малыша и думал, что оружие против себя мы куем собственными руками. Действительно, сколько раз он просился взять его в очередной поход… Чуть не плакал, доказывал, что пригодится, что будет ваджру за мной таскать, перуны подавать, маме жаловался. А я-то, дурак, полагал, будто отказом избавляю братца от моря бед: топай к каким-нибудь «Облаченным-в-непробиваемую-броню», прей в доспехе, глотай пыль, громыхай по жаре!
Чего тебе дома не хватает, Упендра ?!
Птичьего молока?!
Ладно, вернусь, прикажу бочку-другую доставить… Пока, я пошел.
Хоть бы раз задумался: запри кто дома меня, Индру, — долго б я терпел тихие посиделки?!
Дом бы по кирпичику…)
…Но, как говорится, не было счастья, да несчастье помогло. Собрались суры-асуры океан пахтать. Сбивать масло из воды океанской. Есть такое масло — святая амрита называется, напиток бессмертия. Без него хоть ты сур, хоть ты асур… короче, плохо дело. Работа тяжкая, тут любые руки на счету, малыша — и того позвали. А он рад-радешенек. Бегает, везде суется…
Ну, взяли мутовкой гору Мандару, веревкой — змея Васуки, вцепились дружно (суры — за хвост, асуры — за голову) и давай пахтать.
Эй, Мандарушка, ухнем!
Много чего напахтали: и хмельной суры-тезки, и белого коня Уччайхшраваса, и белого слона Айравату, и жемчужину Каустубху, и дерево Париджату, и жуткий яд Калакутту, от которого даже у Шивы шея посинела, и такого добра, что уж вовсе враки завиральные… тут и амрита подоспела.
Смотрят суры с асурами… нет, не на амриту смотрят. Друг на друга. В смысле: как делить-то будем? По-братски или поровну? Если поровну, так асуров много больше…
Быть драке.
А если драка — так асуров опять же много больше.
Вот тогда-то и пригодился семье хитроумный братец Вишну. В драке ему цена медяк ломаный, когда здесь и Индра с перуном, и Шива с трезубцем, и Варуна с тенетами, и вообще дракон на драконе… зато выдумщикам всегда почет. Исчез малыш на минуточку, а вернулся не бог-красавец — дева-красавица. Да такая, что асуры онемели и трудовой пот со лбов утереть забыли. Подошла дева к чаше с амритой, изогнулась белым лебедем, мурлыкнула кошечкой, потерлась… Бедняги— асуры и опомниться не успели: братья-суры уж далече и амриту, торопясь, хлебают.
Дева — первой.
Вот в чаше и дно показалось.
Много потом чего наговорили сурам обиженные асуры, да толку-то?! Не пахтать же океан заново! А братья-Адитьи пир закатили горой и славили в одиннадцать голосов братца младшего, выдумщика-затейника, девицу их притворную!
Герой!
Хитрец!
Гордость семьи!
Слушал Вишну хвалу братскую и про себя думал: удавиться бы, да не выйдет…
И жена теперь, ежели что: с девицами, дескать, спать не обучена!
(Мне очень захотелось потрепать малыша по плечу. Или взъерошить его замечательную шевелюру. Или… или-лили, как говаривал в детстве Грозный. Все, что угодно, лишь бы он пригасил лихорадочный блеск глаз, лишь бы перестал раздеваться перед нами донага, раздеваться истово, с хрустом отдирая присохшие повязки, оголяя сокровенное, больное, к чему и прикасаться-то страшно…
По мне уж лучше головой в Кобылью Пасть.
Даже когда ты наедине сам с собой.
Попросите меня рассказать, к примеру, что я чувствовал, сидя у Раваны в темнице! Когда вся сила бессильна, мощь беспомощна, душа истоптана всмятку, а злоба клокочет в глотке смоляным варом…
Нет, не могу. Даже сейчас не могу.
А он рассказывает.
Прости, малыш.)
Есть на земных базарах писцы-крючкотворы, в отдельных павильонах сидят. А над павильоном знак: торговые весы, вверх ногами перевернутые. Идут люди к крючкотворам, когда Пользе надобно с Законом под ручку пройтись и Закон же объегорить. Чтоб и барыш, и комар носу не подточил.
Думают крючкотворы.
Плешь чешут.
Пособляют.
В любом заборе своя лазейка есть.
За то им почет и слава и мзда перепадает.
…Великий асур Златая Подстилка, аскет и подвижник, получил от Брахмы дар: был он неодолим для богов и демонов, людей и зверей. Взмолился тут сын Златой Подстилки, преданный вишнуит Прахлада, издавна мечтавший об отцовском престоле… Явился Вишну-покровитель, в облике странном, полульва— получеловека, и загрыз Златую Подстилку. Выйдя из дворцовой колонны и напав со спины. Оставив дар Брахмы в целости и сохранности. А потом шепнул на ушко старшему брату своему, Индре-Громовержцу, тот явился к преданному вишнуиту Прахладе, могучему отцеубийце, и попросил духовные заслуги последнего себе в качестве дара.
Отдал Прахлада и пал от перуна. Освободился престол.
…Великий из великих, князь дайтьев и асуров Бали-Праведник, был правнуком Златой Подстилки и внуком испепеленного Прахлады. Мог бы Бали силой вернуть дедовский престол, уж чего-чего, а силушки князю доставало — много позже сам Десятиглавец не сумел даже приподнять серьгу, которую носил в ухе Праведник. Да только благочестив оказался лишенный наследства, пошел иным путем. Сотряслась Вселенная от страшной аскезы, всполошился Брахма-Созидатель, кинулся Жар на дар менять… Сменял.
Над всем Трехмирьем воцарился Бали-Праведник. Сами боги подпали под его владычество — и процвела жизнь от небес до геенны.
Приехала мама-Адити к младшенькому в имение, пала в ноги, стала о содействии просить. Выпросила. Явился через неделю к благочестивому Бали карлик. Мелочь пузатая. Молил выделить ему, горемыке, собачий удел — пространства на три шага в поперечнике. Наставник асуров, мудрый Ушанас, советовал князю: «Откажи!», но не умел Праведник отказывать. Согласился. Стал карлик исполином, за три шага всю Вселенную обошел, а Праведника из милости отправил ниже Преисподней. Все честь по чести.
Живи-радуйся!
…и часто теперь призывали хитроумного Вишну, когда нельзя было спустить силу на благочестие, мощь на справедливость, когда Польза братьев-суров отступала пред Законом, а хотелось, ох как хотелось, чтоб и честь, и лесть, и рыбку съесть!
Есть на земных базарах такие писцы-крючкотворы… славься, Вишну— Даритель!
Мы тебя любим!
(Все почему-то смотрели на меня.
А я смотрел в пол.
Пол как пол, ничего особенного.)
Когда от славы-почестей становилось уж совсем невмоготу, когда, вспоминая деяния, хотелось блевать — Вишну сбегал в Гималаи. Прятался в глухой пещере, выл втихомолку, горечь из себя гноем выхлестывал. Чтоб обратно вернуться прежним: утонченным, остроумным, изящным красавцем, у которого все в полном порядке, чего и вам желаю.
Пробовал аскезе предаться. Без толку. Душа не лежала.Это Шиве-Горцу хорошо промеж пяти костров, да на одной ноге, да на голом столбе, да чтоб дым в глаза и кобра на талии клыками по лингаму… короче, Шиве хорошо.
А иному плохо.
Ой, мамочка, как плохо-то…
Там, в Гималаях, и проклюнулся у Вишну дар аватарности, частичных воплощений. Увидел он как-то: парень-удалец из племени киратов девицу выкрасть пытается. Родители у девицы упертые, таких горцы «куркхулями» кличут, без знатной парибархи[3] дочку не отдают, а у жениха имущества — тряпка на чреслах и голова на плечах. Парень крадет, девица торопит, а Вишну смотрит и по привычке мечтает: что бы я сделал, окажись на месте вора?! Я бы… ан тут сура и прихватило. Чудится ему: не бог он, а кират молодой, вот и веревка за скалу крюком цепляется, вот и невеста через плечо… вот и стрела вдогон.
Добрый стрелок — девкин отец. Быть парню с гостинцем между лопаток. Аккурат у невестиной ляжки и воткнулась бы, сизоперая. Да только парень себя в тот момент богом чувствовал (или бог — парнем, кто там разберет!). Потянулся рукой невидимой, велел ветру плеснуть подолом, а солнцу сверкнуть лучнику в глаза…
Мимо стрела прошла.
На три жезла левее.
Очнулся Вишну — сидит он у пещеры, выжат досуха, как спелый гранат в чашу выжимают, одно сердце поет.
Будто и впрямь от смерти ушел.
Прислушался: в парне малая частица сура осталась. Захочешь дотянуться — дотянешься. И девичью честь вроде как сам нарушишь, и дом поставишь, и детей нарожаешь… и жизнь проживешь.
Настоящую.
Без обмана.
…с тех пор часто терся младший из братьев-Адитьев во Втором мире.
Возле людей.
Думал: а что бы сам сделал, будь он… Думал — и делал.
Жил.
(Я машинально представил себя на месте малыша. Да, я понимал его. Теперь — понимал. Еще вчера, в Вайкунтхе, я сам стоял, глядя на безобразную драку ракшасов с Проглотом, и мысли складывались в слова:
«…мы, боги-суры, Локапалы-Миродержцы, со всеми нашими громами и Преисподней — как же мы мелки на подмостках Трехмирья в сравнении с тем же Гангеей Грозным! Мы притворяемся, когда он колеблется, мы лицемерим, когда он страдает, мы паясничаем, когда он рвет судьбу в клочья, мы задергиваем занавес и уходим пить сому, а он остается лежать на пустой сцене.
Навзничь.
Мы смотрим — они живут.
Божественные бирюльки — и смертная правда.
Молния из земли в небо».)
Звездный час Упендры, «малого Индры», как все чаще называли последыша любвеобильной Адити, пришел одновременно со страшным явлением Раваны— Десятиглавца. От Свастики Локапал полетели пух и перья, никто из богов не мог чувствовать себя в безопасности (разве что Шива, но это разговор особый), и у князей демонов тряслись поджилки при одном упоминании грозного имени Ревуна.
Неуязвимость надежно прикрывала царя ракшасов.
Неуязвимость от суров-асуров, ибо людей и животных могучий Равана презирал, не считая за соперников.
Свастика собралась на совет. Кубера-Кубышка, по отцу сводный брат мятежного ракшаса, пострадавший больше всех, Владыка Индра, позавчера выпущенный Раваной на свободу под залог, Петлерукий Яма, чьи киннары до сих пор собирали грешников-беглецов, смазавших пятки салом в последний приход Десятиглавца, Варуна и Лучистый Сурья, отделавшиеся формальным признанием своего поражения, остальные тоже пришли.
По всему выходило, что Локапалы бессильны. Согласно Закону. Баш на баш, Жар на неуязвимость, придраться не к чему. А натрави Свастика на Равану человека, да вооружи того соответствующей мощью, да окажи необходимое покровительство, да собери смертному мстителю войско, способное взять неприступный остров Ланку…
Смертность в Трехмирье — понятие относительное. В смысле, все там будем, одни — раньше, другие — позже.
И «позже» отнюдь не всегда значит «лучше».
Не получат ли Миродержцы врага страшней прежнего — возгордившегося победителя?!
Вот тут-то и явился на совет малыш Вишну, предложив свои услуги. Услуги по опеке и присмотру за будущим смертным героем, который будет его, Вишну, аватарой.
Полной аватарой.
По старому проверенному принципу: «А что бы сделал я на месте…» — и очень-очень сильно захотеть.
Так появился на свет Рама-Десятиколесничный[4], наследник Солнечной династии, витязь из витязей. Которому Локапалы прощали все, чего иному в жизни не простили бы. Даже когда Рама подло убил из засады сына Индры от обезьяны, Валина-Волосача, вербуя себе звериное войско и не желая иметь полузверя-полубога соперником… Простил Громовержец. Глянул сквозь пальцы, хоть и любил лохматого сына. Позже говаривали: побоялся витязь силача-Волосача, во время оно таскавшего царя ракшасов в поднебесье, аки ястреб курицу. Возревновал к грядущей славе, вот и стрельнул из засады в спину, натравив предварительно другого царька обезьяньего. А на упрек умирающего Валина ответил: дескать, охотники всегда убивают зверей, нет здесь подлости, нет и величия.
Буркнув в завершение: «Ишь, мартышка, а туда же…»
Смахнул слезу Громовержец и промолчал над сыновним трупом во имя блага Свастики.
На земле бушевала гроза: рушились стены цитаделей Ланки, сходились в бою ракшасы, люди и звери лесные, заклятая стрела пронзала грудь Десятиглавца, отправляя его мятежную душу в пекло, — а в далекой Вайкунтхе невменяемым призраком бродил малыш Вишну. Спрашивали — кивал, звали — шел, гнали — тоже шел, не трогали — сидел в саду на лавочке. Здесь он был, в райских сферах, хочешь — ущипни-потрогай, и не было его здесь. Впервые за века прозябания малыш дышал полной грудью, жил подлинной жизнью, и перед этой бурей страстей вся его жизнь прошлая выглядела сохлой жужелицей перед слоном в течке. Гордыня и могущество, поражения и победы, любовь и ненависть, дружба и предательство…
То, о чем мечталось.
Не касайтесь меня, сволочи, не будите, не тревожьте — мир спасаю!
Так бродяга, накурившись до одури дурман-травы «пуннага», отчаянно колотит по чужим рукам, что выдергивают его из сладостного забытья.
И даже когда Десятиколесничный Рама под конец земной жизни начал сопротивляться присутствию в нем постороннего, когда схватился с богом— надсмотрщиком в душе, схватился насмерть, совершая безумные на первый взгляд поступки… Вишну был рад и этому. Равана пал, Свастика осталась довольна, и теперь надо было тихо-мирно довести подопечного до логичного финала.
Герой сошел с ума, наломал дров, отрекся от престола и умер в лесу, на берегу реки Сарайю, при странных обстоятельствах.
Позднее вишнуиты падут ниц перед любимым богом в образе славного победителя ракшасов. Они в экстазе перепутают двух Рам, Раму Десятиколесничного и Раму-с-Топором, царя и аскета, объявив аватарами Вишну сразу обоих и присочинив историю о том, как Рама-царь в юности убил Раму— аскета. История будет выглядеть безумно нелепой, противореча времени и здравому смыслу, и именно поэтому быстро разойдется среди фанатиков.
Но все это случится потом А сейчас на берегу реки Сарайю лежит тело убийцы Ревуна, героя Рамы, и на лавочке в Вайкунтхе изумленно моргает темнокожий бог, возвращаясь к прежнему бесцветному существованию.
(Я ожидал от Раваны иной реакции на исповедь малыша. Все-таки выслушать повесть об истинной подоплеке собственной гибели, о заговоре Локапал, о герое— марионетке на невидимых ниточках…
Огромный ракшас встал, подошел к замолчавшему малышу и опустил свою лапу на плечо Вишну.
Сжал пальцы.
И постоял немного.
Словно собрата по несчастью утешал.)
Возвращение было страшным. На первых порах Вишну грозил разводом жене, доводя Счастье до слез, рукоприкладствовал среди Летящих Гениев и хамил братьям, когда те являлись с благодарностью.
Позже отпустило.
И малыш принял решение. Улучив момент, когда Брахма-Созидатель и Шива-Разрушитель сошлись вместе для какого-то личного разговора, Вишну явился к ним с предложением.
В Первом мире для меня дела нет, сказал он. В Третьем — тоже. Все давным-давно поделено и расписано. Не мной и не для меня. А драться за место под братом-Сурьей или чесать пятки трехногому Стяжателю Сокровищ я не намерен. Ладно, оставим. Зато Второй мир живет без присмотра. Не оттого ли его чада вечно суют шпильки в толстые задницы суров? То герой, то аскет, то ракшас… Вот и приходится Созиданию все время бегать сломя голову, словно меняла-жучок по рыночной площади, а Разрушение непрерывно вострит трезубец, рискуя вместе с виноватым грохнуть и арбуду-другую[5] случайных зевак.
Предлагаю Опеку.
Мою Опеку над Вторым миром.
Соблюдение Закона для достижения Пользы.
Ну как?.. Договорились?
Вишну был готов к отказу. Отказ удовлетворил бы его самолюбие: отказывают — значит, боятся. Ревнуют к будущему величию. Знают: где не вышло у них, матерых знатоков, выйдет у него, маленького да удаленького!
Вишну был готов к согласию. К шумному признанию его заслуг и достоинств, к пожиманию рук и буре восторгов, к выдаче соответствующих регалий, к суровому одобрению Шивы и слезам на щеках старенького Брахмы.
Он не был готов только к равнодушию.
— Да? — невпопад спросил Брахма, и четыре его лица разом сморщили четыре носа, словно Созидатель изо всех сил сдерживал чих. — А-а… ну ладно. Правда, Шива?
— Правда, — ответил Шива и стал кормить с ладони кобру-опояску.
Вишну еле сдержался, чтобы не плюнуть им под ноги перед уходом.
Впрочем, когда он при всей Свастике гордо назвался Опекуном Мира, с маху зачислив себя в Троицу (название было придумано здесь же, на ходу), — возражений не воспоследовало.
Малыш проглотил обиду и рьяно взялся за дело.
Полными аватарами он больше не баловался. Это требовало практически всех сил души — и тогда он не мог хорошо отслеживать ситуацию здесь, наверху. Зато частичные аватары наводнили землю в опасных для здоровья количествах. Культ Вишну-Дарителя процвел, изрядно потеснив остальные культы. Аскеты вовремя соблазнялись красавицами и имуществом, герои вовремя направлялись в нужное русло, цари больше не желали живьем попасть на небо Индры, выискивая для этого чрезмерно Жарообильных брахманов.
Но Вишну видел: Второй мир ярок и цветаст, порядка ж нет как нет!
И тогда малыш решил навести порядок.
Доказать им всем Кому «всем» и что именно доказать? — это он понимал плохо.
Всем.
(Я вспомнил: действительно, после самовольного возведения Упендры в Опекунский чин у нас прекратились заботы со Вторым миром. Я имею в виду — крупные заботы. А мелочь — она и есть мелочь, иногда даже интересно.
Странно. Тогда я меньше всего сопоставил тишь да гладь с потугами малыша.
Думал: чем бы дитя ни тешилось…)
С этого момента и началось восстановление Великой Бхараты. Империи— идеала, населенной правильными людьми, преданными бхактами[6] Опекуна Мира. Еще в самом начале своей земной деятельности Вишну подметил благотворное влияние людской любви на собственные возможности. Не зря же, в конце концов, он всю жизнь мечтал, чтоб его любили?! Шиву боялись, Варуну уважали, Индрой гордились… каждому свое. Его, Вишну— Дарителя, должны любить.
Пуще зеницы ока.
Если его правильно любить — он горы свернет.
…Вишну с самого начала подозревал: дело окажется сложным и будет пружинить в руках, сопротивляясь мастеру. Но он никогда и не думал, что сопротивление так его раззадорит. Гангея Грозный отказывается принимать на себя титул Чакравартина?! Оч-чень хорошо! Собственная кукла-аватара пахнет рыбой и рожает не там и не того?! Кого б ни родила — в дело! Всех в дело: больших и малых, замыслы и опровержения, друзей и врагов…
Игра захватила Опекуна целиком, постепенно становясь смыслом жизни.
Великая Бхарата, сама того не зная, собиралась по кирпичику. Камешек вызывал лавину, земли лепились одна к другой, плодилась и умирала Лунная династия, заранее готовя замену или свободные места, в Вайкунтхе драл истину в клочья «Приют Зловещих Мудрецов», подпирая Опекуна-труженика знанием скрытых пружин Мироздания, и ночами Вишну хорошо спал, устав за трудовой день.
Опека над тремя-четырьмя аватарами одновременно? — пустяки!
Он посвежел и окреп. Даже любимая супруга все чаще заглядывалась на законного муженька, словно заново открывая его для себя. А сам муженек был счастлив. У него было дело. Он был нужен.
Он — был.
И даже проклятия аватар или кое-кого из подопечных не смущали его.
…Когда до завершения труда, как казалось Вишну, оставались последние шаги — он решился на серьезный поступок.
Ситуация требовала опеки более тщательной, чем раньше. Спуститься лично во Второй мир Вишну не мог себе позволить, обратиться к братьям или другим сурам за помощью означало разделить сладость триумфа с чужими. И малыш вспомнил историю с Десятиколесничным Рамой.
Он создал на земле полную аватару, человека с возможностями бога, находящегося под усиленной Опекой.
Так появился на свет Кришна Джанардана.
Черный Баламут.
Человек с богом в душе, царем в голове — и с камнем за пазухой.
Глава II ПРИНАДЛЕЖИТ МАРОДЕРАМ
1
— Светает, — сказал я, чтоб хоть что-нибудь сказать.
Чуть не ляпнув: «Гляньте-ка на восток!»
Подобное заявление в устах Локапалы Востока могли счесть в лучшем случае самолюбованием, в худшем — помешательством.
Востока для Обители Тридцати Трех не существовало.
Но рассвет близился на самом деле. Пространство зябко ежилось, втайне ожидая прихода колесницы Сурьи, огни светильников меркли от усталости, тени с проворством отползали в углы, и пронзительные глаза Раваны медленно переставали светиться зелеными плошками.
— Я в него, гада, душу вкладывал, — еле слышно прошептал Вишну, кутаясь в заблаговременно принесенное апсарами одеяло. — А сейчас выну… собственными руками!.. Если поймаю, конечно.
— Если он тебя раньше не поймает, — булькнул тактичный Жаворонок, почесывая плешь обкусанным ногтем.
Оба, ясное дело, имели в виду Черного Баламута, рыбку, сумевшую порвать лесу у божественного рыболова.
Мой замечательный Наставник кряхтя поднялся на ноги и проковылял к выходу из беседки. Оперся плечом о резной столб и задумчиво уставился вдаль. По выражению его морщинистой физиономии было ясно видно: ничего хорошего он в этой дали не наблюдает.
— Что ж, Опекун, — протянул Словоблуд и стал как никогда похож на самца кукушки, кукующего всем последний год жизни. — Сейчас мне кажется, что проклинал я собственного сына, а угодил в тебя. Впрочем, проклятий на твоем веку хватало и без моих стараний. Ты получил то, чего хотел. И твой триумф стал твоим величайшим поражением. Мы свидетели.
— Я никогда не обращался к тебе за советами. — Гордость и обида говорили сейчас устами малыша. — И правильно делал.
— Ну-ну… Ты полагаешь, я должен обидеться? Или прыгать от счастья горным таром[7], узнав, что Эра Мрака — результат забав самолюбивого подростка, а не злая воля мудрого негодяя?! Ошибаешься, Опекун. Стар я прыгать, даже пускай от счастья… у старости — свои привилегии. Ты хоть понимаешь, кого создал, делая Баламута своей полной аватарой?
Не дождавшись ответа, Словоблуд скорбно хмыкнул и покосился на сына. Жаворонок, мудрец наш зловещий, выразительно кивнул отцу и развел руками. Уж он-то наверняка понимал, что хотел сказать Брихас. Он понимал. А я нет. И Гаруда с Гаваной — нет. И Матали тоже уныло хлопал длиннющими ресницами. Поэтому я весьма обрадовался, когда Словоблуд решил развить свою мысль.
Для особо тугоумных.
Но вместо внятного истолкования Наставник вдруг затянул противным дребезжащим тенорком, на манер даже не жреца-взывателя, а пьяненького пандита из захудалой деревеньки:
— Я любуюсь беспредельным могуществом того, чью мощь не измерить, и с почтением бережно принимаю к себе на голову его славные стопы с медно-красными подошвами и прекрасными розовыми пальцами! Это существо непостижимое и удивительное, творящий и преобразующий всесозидатель, пречистый и высочайший, безначальный и бесконечный, вездесущий, нетленный и неизменный! Даже боги не знают такого, кто мог бы постичь сего мужа!
Брихас закашлялся (видно, последнее заявление встало ему поперек горла) и надрывно закончил, утирая слезы:
— Тот, о ком идет речь, — это Баламут, у него огромные продолговатые глаза, и облачен он в желтое! Ом мани! Слыхал такую песенку, Опекун?!
— Ну, слыхал, — буркнул малыш, отводя взгляд. — И что с того? Я эту песенку сам в народ запустил…
— А то, — голос Брихаса вдруг стал звонок и суров, — что финал у песенки грустный. «Я — пламя конца мира, Я — князь конца мира, Я — солнце конца мира, Я — ветер конца мира!» Нравится?! Не ври: вижу, что нравится… вернее, нравилось. Раньше. Помню, ты просто патокой истекал, когда слышал байки о твоей наипоследнейшей аватаре, символе гибели Вселенной! Нет, я не о Кришне! Я имею в виду этот дурацкий образ судии Калкина-Душегуба на бледном коне со взором горящим! А судия уже шел! явился! баламутил! Вот так-то, Опекун…
Краем глаза я увидел, как напрягся малыш. Даже лицо у него вытянулось, став пепельно-серым. Слова Наставника зацепили в братце Вишну какую-то тайную струнку, и теперь струнка билась, истекая малиновым звоном.
Да и мне, признаться, было стыдно: прежде я и сам любил послушать на сон грядущий о явлении Калкина-судии.
Этакой Кобыльей Пасти, Эры Мрака и трезубца Шивы в одном существе.
Меня восхищала фантазия малыша, который сумел придумать столь потрясающую чушь, придумать и заставить многих поверить в нее.
— Скажи, Владыка… — Словоблуд обращался уже ко мне. — Вот ты вдруг выясняешь, что ты со всей твоей мощью, бурей и натиском был всего-навсего вылеплен неким умником. Из недолговечного дерьма. С единственной целью: таскать для умника из огня каленые орехи. Народ вокруг восхищается: ах, Индра, ох, Индра, Стогневный-Стосильный, твердыни щелкает, как семечки, баб табунами портит… А ты-то знаешь: вранье. Все вранье, от начала до конца. И гнев не твой, и сила заемная, и твердыни подставлены, и бабы подложены. Чужой жизнью живешь, краденой, нет, хуже — подаренной. Сброшенной в грязь с барского плеча. А захочешь увильнуть от клятого предназначения — дудки! Умник-то не только снаружи, он внутри, в тебе, в твоей душе, в твоем теле! Разом поводья перехватит: иди, Индра, куда велено, под восхищенный ропот…
Словоблуд перевел дух и вкрадчиво поинтересовался:
— Ну и кого ты, о Владыка, шарахнешь ваджрой при первой же подвернувшейся возможности?!
Можно было не отвечать.
Ответ был написан у меня на лице, лице, которое третий день как перестало соответствовать божественным канонам.
— Не понял? — раздалось из одеяла.
Малыш врал.
Все он прекрасно понял.
— Ты хотел, чтобы тебя все любили? — спросил Брихас у малыша. — Кришну любили все. Любовь придавала тебе сил? Ему она придавала тоже. Тебе нравилось, когда тебя славят? Его славили в миллионы глоток, с самого рождения, а ты еще и подбавлял огоньку, заявляя повсеместно, что он — это ты. И был прав. Он — это ты-идеал. Хрустальная мечта Опекуна Мира во плоти. Ты воспроизвел сам себя. Со своей гордыней. С жаждой славы. Со страстным желанием доказать всем свою исключительность. С умением находить лазейки в цитадели Закона. С талантом делать людей аватарами, вкладывая частицу себя… Ты хотел, чтобы Кришна завершил твою работу и тихо отошел в мир иной, оставив тебя принимать поздравления?! После того, как его — ЕГО! — величали Господом?! Это не Кришна
— Черный Баламут. Это ты — Черный Баламут. А Кришна — только твое отражение! Лучшее, чем оригинал, но отражение! Он второй, понимаешь, на веки вечные второй… и при этом он — ты. Чего бы ты захотел, окажись на его месте?!
Малыша просто выгнуло дугой.
Мне даже показалось, что он опять ощутил связь со своим земным двойником.
— Правильно, — тихо закончил Словоблуд. — Второй, ты захотел бы стать первым. Единственным. Самим собой. Вот и он захотел. Бог по рождению, ты возжелал реальной власти? Смертный по рождению, возжелал и он — но стократ сильнее! Ты мечтал навести порядок во Втором мире, чтобы суры-асуры восхитились твоим талантом и склонили головы?
Пауза.
Секунда тишины, заполнившей Обитель до краев, — золотая чаша беззвучия.
— Вот и он, Кришна Джанардана, в свою очередь решил навести порядок. Чтобы восхитились и склонили. Только, боюсь, Вторым миром он не ограничится. Иной размах, не чета тебе, малыш… Он решил навести порядок по-своему, начиная сверху. С того места, откуда растут его поводья. Потому что рыба гниет с головы. Суры-асуры, новый мир на пороге! Не знаю, как Калкин-Душегуб, последний судия, но грядет Господь Кришна!
Я почувствовал, как дыхание мое помимо воли наполняется грозой. Ладони вспотели, словно я держал в руках что-то до безумия хрупкое и боялся раздавить, беседка растворилась в тумане воспоминаний, и вокруг явилась поляна леса Пхалаки. Место, где я позавчера встречался с собственным сыном, с Обезьянознамен-ным Арджуной-Витязем, — но встретился сперва с золотушным ракшасом, а затем с насмерть перепуганным человеком, добровольно оскопившим собственную душу. Ибо отречься от любимого прозвища, от чести и гордости ради Пользы и служения… мальчик мой, наверное, только я понимаю, чего это стоило тебе, сыну Громовержца.
Да, я понимаю — но еще я помню.
Мы оба помним:
Образ ужасен Твой тысячеликий, тысячерукий, бесчисленноглазый, страшно сверкают клыки в твоей пасти. Видя Тебя, все трепещет, я — тоже. Внутрь Твоей пасти, оскаленной страшно, воины спешно рядами вступают, многие там меж клыками застряли — головы их размозженные вижу. Ты их, облизывая, пожираешь огненной пастью — весь люд этот разом. Кто Ты?! — поведай, о ликом ужасный!..И издали откликнулся гибельный ветер, вздох огненной пасти, что явилась в Безначалье трем Миродержцам из восьми, веселый голос с Поля Куру:
Устремившись ко Мне, все деянья Возложив на Меня силой мысли, В созерцанье Меня пребывая, Всем сознаньем в Меня погружайся. Бхакт Мой! Будь лишь во Мне всем сердцем! Жертвуй Мне! Только Мне поклоняйся! Так ко Мне ты придешь, Мой любимый, Я тебе обещаю неложно…В следующий миг, властно сбрасывая наваждение, меня настиг призыв Свастики Локапал.
Я встал, раскинув руки крестом, волна Жара прошла насквозь и укатилась в колыбель Прародины. «Хорошо есть…» — начал было я, внутренне содрогаясь и понимая, что не смогу сейчас завершить возглас Тваштара-Плотника, как должно.
«И хорошо весьма!» — подставил плечо чужак во мне.
Возможно, он что-то предчувствовал.
Или просто издевался.
* * *
— …Поле Куру открыто для посетителей, — сказал я всем чуть позже. — Великая Битва закончилась.
И Вишну заплакал.
2
Джайтра, колесница моя золотая, садилась медленно, с опаской, пробуя землю краем переднего правого обода. Боялась, что хитрая Курукшетра просто затаилась дымчатым леопардом и вот-вот вспучится навстречу прежним нарывом, сомнет, опрокинет, раздавит всмятку… Нет, обошлось. Сели. Гнедая четверка фыркала, косясь по сторонам, стригла воздух ушами, и Матали приходилось время от времени щелкать бичом — иначе лошади норовили взмыть обратно, в спасительные небеса.
Брихас, стоя в «гнезде» рядом со мной, молчал и кусал губы.
Остальных я брать не стал. Да и не очень-то они стремились сюда, на Поле Куру, эти остальные. Раване с его ракшасами вся Великая Битва (тем паче закончившаяся) была до голубого попугая, братец Вишну хорохорился, собираясь порвать всех на клочки-тряпочки, но было прекрасно видно — Опекун еще не оправился от потрясения. И вдобавок дико боится встречи лицом к лицу с блудной аватарой.
Ну а Лучший из пернатых, ясное дело, остался нянькой при любимом хозяине.
Гораздо труднее было отделаться от моих головорезов облаков. Дружина твердо решила сопровождать своего Владыку, во избежание и при полном параде. Упорствовали до последнего. Пришлось наорать на Марутов, пригрозить десятникам понижением в звании и даже грохнуть разок-другой перуном оземь. При этом мне почему-то казалось, что я не перуном грохаю, а топаю ногой, подобно обиженному малолетке. Ох, много чего мне казалось в последнее время… Дружина затихла, подозрительно перемигиваясь, я еще раз рявкнул, что в опеке не нуждаюсь, и ускакал.
Сейчас же, глядя на небо, я видел невинные компании тучек-штучек — подсвеченные изнутри, они вальяжно фланировали над головой туда-сюда, кичась златыми венцами, и в сумрачной пушистости нет-нет да и погромыхивало.
Патрулировали, сукины дети.
На всякий случай.
Каюсь: на душе от этого становилось спокойнее.
Смрад стоял невыносимый. Впору свалиться в обморок. Матали еле дождался, пока я и Брихас спешимся. После чего мигом стал перегонять упряжку за дальние холмы — лошадей била мелкая дрожь, с губ срывались клочья пены, и спины животных взмокли от пота. Я одобрительно кивнул и в сопровождении бесстрастного Словоблуда двинулся вперед. Делая вид, что зашел сюда случайно и теперь прогуливаюсь от нечего делать. Один я, что ли, такой?.. Хорошо бы, если один.
Увы.
Вся Свастика была в сборе.
Здесь, на Поле Куру.
И все Локапалы дружно делали вид, что зашли случайно и не замечают остальных.
…Лучистый Сурья навис низко-низко, заклинив колесницу в ближайшем просвете между облаками. Перегнувшись через борт, мой брат внимательно оглядывал юго-восточную ложбину: там уже который раз с оглушительным грохотом рвались трупы слонов — на жаре их расперло до барабанного звона, и шкуры «живых крепостей» не выдерживали. Ниже спуститься Сурья не мог, иначе нам бы не осталось ничего для рассмотрения.
И венец-кирита Солнца был тускло-багровым.
…Семипламенный Агни вспыхивал то тут, то там, ковыряясь в спекшейся массе тел, язычками протискиваясь в щели между обугленными костями и жадно вылизывая драгоценный металл расплавленных украшений. Поблизости от Пожирателя Жертв смрад ослабевал, сменяясь просто горячим воздухом, я заметил, что машинально стараюсь подойти поближе, — и сдал в сторону.
Разговаривать с Семипламенным не хотелось.
Агни был расстроен до крайности, хотя к скорбному пламени, рухнувшему на несчастных, не имел даже малейшего отношения.
Похоже, он еле удерживался, чтобы не превратить всю Курукшетру в очистительный погребальный костер… но знал: не поможет. Душам погибших не поможет. Взъярись Пожиратель Жертв, пройдись диким смерчем по телам — а толку— то?!
Души ведь все равно никуда не являются, ни в рай, ни в ад…
В нетях числятся.
…Куберу носили в паланкине шестеро якшей-страхолюдин, вооруженных до зубов. Один раз Стяжатель Сокровищ откинул занавеси, высунулся и уставился единственным глазом на труп копейщика в легком доспехе. Убитый прекрасно сохранился, лежал почти как живой, приоткрыв в изумлении рот, — и голошеий стервятник деловито выклевывал копейщику язык.
Кубера мигом скрылся в паланкине, и почти сразу оттуда донеслись странные звуки: то ли Кубера рыдал, то ли его тошнило.
Стервятник озабоченно поднял лысую голову, каркнул и вернулся к прерванному занятию.
…Ваю-Ветер вздымал груды пепла, носясь с места на место. Его появление пугало осмелевших было шакалов, и звери бросали терзать добычу, встревоженно тявкая. Но шакалы интересовали Дыхание Вселенной в последнюю очередь. Что-то он искал, веселый Ваю, забывший о веселье, что-то позарез было ему нужно… Нашел. И замер, отчего смрад резко усилился.
Я пригляделся.
Да, несомненно. Помню. Это случилось пять-шесть дней тому назад, и я еще любовался битвой сверху, из «гнезда» Джайтры, крича «Превосходно!» во время особо увлекательных стычек. Это произошло именно там, где сейчас замер Ваю.
Именно там Пандав убил Каурава, Бхима-Страшный — Духшасану-Бешеного. После чего победитель на глазах у всех, сторонников и врагов, вспорол шейную вену у поверженного двоюродного брата и жадно напился его крови. Бхима стоял тогда, напоминая торжествующего ракшаса, сражение вокруг него на миг прекратилось, бойцы обеих сторон со страхом взирали на кровопийцу, а сын Ветра смеялся.
И мне послышались отголоски того смеха пополам с кровью, когда Дыхание Вселенной тихонько вздохнул.
…Петлерукий Яма помахал мне рукой, когда я приблизился. Правой, с удавкой, росшей из обрубка. Он стоял вместе с Варуной-Водоворотом, своим дядей, о чем-то взахлеб споря. Единственные, кто не притворялся случайными путниками. Наверное, потому что в пучинах зеленоволосого Варуны по его личному требованию был открыт отдельный мир для погибших в битвах асуров, прямо рядом с резервацией данавов-гигантов. Преисподняя? рай? — кто знает?! Во всяком случае, именно Варуна судил последних за грехи и властной рукой раздавал наказания или милости. Мы же не вмешивались. Он старший, ему видней В этом они с Адским Князем были схожи.
Судьи.
И еще мы все трое были схожи в другом: нам, Локапалам Востока, Юга и Запада, являлась в Безначалье глумливая пасть из огня.
Нас преследовала видениями гибель трех столичных воевод: Гангеи Грозного, Наставника Дроны и Карны-Секача.
— Быть не может! — донесся до меня обрывок их спора. — Мало ли что воплощения! Все мы в каком-то смысле…
Я ответно помахал рукой, но подходить и принимать участие в споре не стал.
Все мы в каком-то смысле… а я за эти дни навидался всякого и ни о чем не мог с уверенностью сказать: «Быть не может!»
…У распадка, где из обломков колесниц громоздился чуть ли не крепостной вал, угрюмо бродил истощенный сур в одеждах шафранового цвета. Сома-Месяц раньше почти никуда не являлся лично, но сегодня изменил правилу. Узкое лицо Сомы было непроницаемым: видно, привык смотреть ночами на затихшую Курукшетру, которая в минуты перемирия мало чем отличалась от сегодняшнего зрелища.
О чем он думал в тот момент?
Не о том ли, что еще две-три такие Великие Битвы — и ему придется веками взирать на обезлюдевший Второй мир?!
О поле, поле, чтоб тебя…
«Принадлежит мародерам, — неожиданно вспомнил я. — Поле боя после сражения принадлежит мародерам».
Вся Свастика была в сборе.
Здесь и сейчас.
И любой из Миродержцев чувствовал: нарыв, опухоль в ауре Трехмирья, никуда не делся.
Просто стал меньше и стократ плотнее, стоило лишь вслушаться, дать Жару вольно пройти через себя, и сразу становилось ясным — нарыв рядом.
На северо-востоке.
Близ места, где давным-давно стоял ашрам знаменитого Рамы-с-Топором.
Наверное, там располагался лагерь победителей.
3
Странное ощущение посетило меня. Будто тоненькие паутинки исподволь вросли в мои ступни, соединив Индру с Полем Куру. Я замедлил шаги, а неугомонная паутина сразу воспользовалась этим: дрожь пронизала колени, брызгами устремилась к бедрам… в паху закололо, а живот заледенел скользкой глыбой.
Что за бред?!
Я остановился.
Голова вдруг стала пустой и легкой, смрад отступил, сменившись острым запахом пота, лошадиного и человеческого, и уши резануло близким посвистом.
Я помотал головой, и наваждение исчезло.
Чтобы вернуться вновь.
Только на сей раз добавились отдаленные вопли, рев боевых раковин, и земля под ногами качнулась колесничной площадкой.
Шаг.
Наваждение ослабевает, но не исчезает.
Шаг… другой… тепло… теплее… горячо…
Жарко!
…Проклятые чедийцы! Облепили саранчой, пешей саранчой с усиками— дротиками и стегаными плащами вместо крыльев, мечутся, вопят, кидаются под копыта… Лук поет в руках, и некогда менять иссеченный нарукавник из воловьей кожи. Колесница подпрыгивает, когда колесо переезжает еще живого ублюдка с отсеченной ногой, и пущенная мной стрела лишь жалко взвизгивает, бороздя эмаль щегольского панциря… Жаль! Он уходит, уходит с позором, но живой, так я обещал своей матери-суке, но я не обещал, что дам ему уйти, прежде чем получу полное удовольствие.
Гони, возница!
Или нет: прыгай в «гнездо», а я сам возьмусь за поводья!
Бич?.. мне?.. зачем мне бич?!
Сутин Сын выходит на финишную прямую… Ах, славно!
Вот он, беглец, вот он уже рядом, виляет заячьей скидкой, взмок от смертного пота, и чедийцы разбегаются из-под колес, хрипя свою тарабарщину! Я перехватываю поводья в одну руку и бью его ненатянутым луком, по плечам, по спине, по загривку, бью на глазах у всех, хлещу, гоню, как гонят скотину на пастбище, я — пастырь надменных полубожков, и красная пелена в глазах…
Я задохнулся, когда тишина мягкими ладонями ударила меня по ушам.
Но паутина уже обволокла все тело изнутри, вкрадчивыми усиками зацепилась за все, до чего сумела дотянуться, и ноги окончательно перестали слушаться Индру, Локапалу Востока. Они двигались сами, эти упрямые ноги, они искали тот единственный участок Курукшетры, где им будет позволено остановиться!
Позади о чем-то спрашивает Словоблуд, но мне не до него.
Уймись, Наставник!
Сейчас я — охотничий пес, взявший след.
Что?!. я, Владыка, — пес?!
Шаг.
Тепло… теплее…
…умирает! Они рвут его на части, моего сына, моего Вришасену, Быка— Воителя, а я ничего не могу сделать! Стрела не хочет выдергиваться из плеча, зазубренное жало грозит порвать мышцы, и я ломаю ее, чтобы оперение не мельтешило перед лицом, сбивая прицел Боль молчит, испуганно забившись в самый дальний угол сознания, боли нет, ничего нет, только гнев и бессильная липкая ненависть, от которой хочется выть на все поле Мальчик мой!.. Я иду, я сейчас, держись, подожди немного… я уже…
И когда Обезьянознаменный хохочет, схватив моего истерзанного сына за волосы и издалека показывая мне кривой нож, — я не выдерживаю. Губы движутся сами, рождая слова без посредников, без разума-советчика и сердца— подстрекателя, вопреки запретам, попранным нашими противниками с самого начала битвы. Этого нельзя делать, но и не делать этого нельзя, губы трескаются от страшных слов, кровь солона, она щекочет небо, и небосвод послушно взрывается стальными осколками, которые секут, рубят, расшвыривают живую грязь передо мной, — мальчик мой!.. я уже…
Шаг.
Я даже не заметил, что бегу.
Судороги вяжут из тела замысловатые узлы, ноги подкашиваются, сознание захлестывает пенный прибой, где поровну недоумения и настойчивой потребности отыскать, найти, встать на единственном месте Курукшетры, где я… Где я — что?!
Я налетаю на Адского Князя, чуть не сбив его с ног, и краем глаза успеваю заметить: рослый, плечистый Яма вздрагивает, как от пощечины. Словно мое прикосновение вселило и в него призрак охотничьего пса. Сегодня Яма зачем-то побрил голову, оставив лишь на макушке длинный чуб буро-красного цвета. Чуб свисает к левому плечу, Адский Князь дергает его раз, другой — и начинает бессмысленно бродить кругами по полю.
Бессмысленно для остальных. Я смеюсь.
Мы-то с ним знаем тайным, ускользающим знанием: так надо. Мы да еще зеленоволосый Варуна, который присоединяется к нам минутой позже. Маленький, жилистый Повелитель Пучин, чьи волнистые кудри обильно пятнает пена седины, — он выглядит самым старым из нас, да он и есть самый старый, он вынырнул из той бездны времен, когда мама-Адити была еще веселой девчонкой и даже рожала, наверное, от собственного мужа…
Трое Локапал мечутся по Полю Куру. «Мертвецкое коло», лишенное завершения. Восток, Юг и Запад. Гроза, Смерть и Пучина. Два брата и племянник. Сумасшедшая Троица, связанная темными узами, сути которых до конца не понимает ни один из нас. А сверху удивленно глядит Лучистый Сурья, он глядит, и в печальных глазах Сурьи мне мерещится странное понимание. Чушь, бред, этого не может быть! Но я вскоре прекращаю думать о глупостях, потому что ноги сами несут меня к высохшему руслу ручья. Земля тут перепахана, и убитых почти нет, будто сражение тщательно избегало этого места, ноги несут меня, ноги— предатели…
…Предатель! Ах я дурак! Еще смеялся, когда мне буквально навязали этого возницу-царя, этого прохвоста! Спорил с ним, когда он, правя моей же колесницей, предрекал мне смерть, а белому кобелю Арджуне — неминуемую победу!
Колесо ударяется о вросший в землю валун. Повозка кренится, лошади истошно ржут, вынужденно повинуясь предательским поводьям… и кровавая трясина, в которую превратился ручей, надежно поглощает обод до середины.
Почему Арджуна не стреляет?!
Почему?!
Я смотрю на возницу-изменника и вижу страх в его глазах. Он что-то понял, что скоро пойму и я… пойму… скоро…
Ступни прожгло острой болью. Чужак вставал во мне в полный рост, это было мучительно больно, но я отдавался ему, как отдаются апсары: искренне и бескорыстно. Дыхание самовольно наполнилось грозой, налетевший ветер взъерошил волосы, превращая их в диадему, вихревой венец, на самых задворках сознания что-то кричал Словоблуд, пытаясь остановить… Тщетно.
— Хорошо есть?! — спросил я у Курукшетры, вспаханного войной поля, притихшего в ожидании страшных всходов.
— Хорошо есть?! — спросил я у Черного Баламута, у нарыва, в чью броню мы с чужаком бились наотмашь, всем телом, одним на двоих, у гнойного чирья, пульсирующего сейчас на северо-востоке.
— Нет, действительно: хорошо есть?! — спросил я у последних трех дней, у безумия и небылиц, у встреч и прощаний, у знания, от которого першило в горле, и у Калы-Времени с ее треснутым кувшином.
Они опоздали.
Замешкались, в результате чего ответ «И хорошо весьма!» так и не прозвучал.
Я расхохотался, заставляя воды Прародины в Безначалье вздыбиться ошалелыми лошадьми, и молния ударила из земли в небо.
Неправильная молния.
Наоборотная.
4
Я ворвался в Обитель, как врываются во вражескую крепость.
…Одна-единственная дверь, сомкнув высокие резные створки, красовалась по правую руку от меня, и я прекрасно знал, что именно ждет меня за одинокой
дверью.
Нет, не просто помещение, через которое можно попасть в оружейную.
Мавзолей моего великого успеха, обратившегося в величайший позор Индры, когда победитель Вихря-Червя волею обстоятельств был вынужден стать Индрой— Червем. Так и было объявлено во всеуслышание, объявлено дважды, и что с того, что в первый раз свидетелями оказались лишь престарелый аскет и гордец— мальчишка, а во второй раз бывший мальчишка стоял со мной один на один?!
Червь — он червь и есть, потому что отлично знает себе цену, даже если прочие зовут его Золотым Драконом! Как там выкручиваются певцы: лучший из чревоходящих? Вот то-то и оно…
Словно подслушав мои мысли, створки двери скрипнули еле слышно и стали расходиться в стороны. Старческий рот, приоткрывшийся для проклятия. Темное жерло гортани меж губами, изрезанными морщинами. Кивнув, я проследовал внутрь и остановился у стены напротив.
Все повторялось, и начало дня первого смыкалось с началом дня третьего, переплетаясь телами изголодавшихся любовников.
На стене, на ковре со сложным орнаментом в палевых тонах, висел чешуйчатый панцирь. Тускло светилась пектораль из белого золота, полумесяцем огибая горловину, и уложенные внахлест чешуйки с поперечным ребром превращали панцирь в кожу невиданной рыбины из неведомых глубин. О, я прекрасно знавал эту чудо-рыбу, дерзкого мальчишку, который дважды назвал меня червем вслух и остался после этого в живых! — первый раз его защищал вросший в тело панцирь, дар отца, и во второй раз броня тоже надежно защитила своего бывшего владельца.
Уступить без боя — иногда это больше чем победа Потому что я держал в руках добровольно отданный мне доспех, как нищий держит милостыню, и не смел поднять глаз на окровавленное тело седого мальчишки. Единственное, что я тогда осмелился сделать, — позаботиться, чтобы уродливые шрамы не обезобразили его кожу. И с тех пор мне всегда казалось: подкладка панциря изнутри покрыта запекшейся кровью и клочьями плоти. Это было не так, но избавиться от наваждения я не мог.
А мальчишка улыбался. Понимающе и чуть-чуть насмешливо, с тем самым затаенным превосходством, память о котором заставляет богов просыпаться по
ночам с криком. Ибо нам трудно совершать безрассудства, гораздо труднее, чем седым мальчикам, даже если их зовут «надеждой врагов сына Индры», и только у Матали да еще у бывалых сказителей хватает дыхания без запинки произнести эту чудовищную фразу.
Именно в тот день Карна-Подкидыш стал Карной-Секачом, а я повесил на стену панцирь, некогда добытый вместе с амритой, напитком бессмертия, при пахтанье океана.
Ах да, еще серьги… он отдал мне и серьги, вырвав их с мясом из мочек ушей, что, собственно, и делало его Карной, то есть Ушастиком! Он отдал мне все, без сожалений или колебаний, и теперь лишь тусклый блеск панцирной чешуи и драгоценных серег остался от того мальчишки и того дня.
Обитель Тридцати Трех пела хвалу удачливому Индре, а у меня перед глазами стояла прощальная улыбка Секача.
Как стоит она по сей день, всякий раз, когда я захожу в этот мавзолей славы и позора.
Я, Индра-Громовержец.
Индра-Червь.
Но сейчас улыбка Секача показалась мне чуточку грустной.
* * *
Я протянул руки и взял серьги. Они висели на бархатной подушечке, рядом с панцирем. Подышал на них, и сердолики в платиновой оправе налились глубоким багрянцем. Ювелиры долины Синдху умудряются варить золотисто-коричневые камни и получают в результате именно такой цвет, густой и теплый, как кровь. Впрочем, мастерство умельцев Второго мира здесь ни при чем. Гоня прочь досужие мысли, я молча смотрел в багрянец, а потом сделал то, что должен был сделать. Серьги крепились к ушам зажимами «когти гридхры», и когда я позволил «когтям» вцепиться в мочки моих ушей…
Я ослеп и оглох. Странно, но сперва мне это даже понравилось. Тьма и тишь окутывали меня жарким покрывалом в тысячу слоев, все исчезло в пуховой бесконечности, лопнул нарыв Курукшетры, ушли в забытье горести с заботами — и лишь пальцы мои продолжали шарить по ковру вслепую.
Жарко… тепло… холодно!
Холод металла.
Вот он, панцирь с пекторалью белого золота, залог подлости и источник видений. Давным-давно, когда мир был молод, а я — так и вовсе юн, мне довелось стоять над вспахтанным океаном, держа в руках этот панцирь и серьги. Вместе с иными дарами. Естественно, серьги были мне без надобности, их я подержал в руках и с согласия братьев подарил маме-Адити, а к панцирю мигом воспылал страстной любовью. Увы, безответной. Брихас напрочь отсоветовал мне брать чудесный доспех, не объясняя причин, но с отвратительно хмурым лицом Хуже грозовой тучи над Гималаями. Скрепя сердце я согласился с Наставником — и панцирь попал к Лучистому Сурье. А я от душевного расстройства нахватал даров сверх меры: Обитель тогда приобрела скакуна Уччайхшраваса, Слона-Земледержца Айравату, саженцы пожелай-деревьев, десяток первородных апсар… Помню, Варуна взял себе одно белое опахало и смеялся, глядя на жадину-Громовержца…
Вот он, доспех-мечта и доспех-позор, чьи пути неисповедимы.
Я разделся догола.
Наверное, даже безумцу никогда не приходило в голову надеть латы на голое тело, но сейчас я знал: так надо.
Так и только так.
А возиться с застежками мне не пришлось.
Холод обволок мое туловище намоченной в роднике простыней, ледяным взрывом откликнулись серьги, когтя уже не мочки ушей, а душу, сокровенную сердцевину, я беззвучно закричал и выгнулся дугой — но лед-обманщик мгновенно превратился в пламя Кобыльей Пасти.
Зной.
Мороз.
Экстаз уничтожения.
Стеклянные ножи полосуют тело, дробя его на осколки неведомой мозаики, и руки судьбы начинают властно собирать осколок к осколку.
Обламывая упрямые края.
Грешником, ввергнутым в пекло, стоял я, Индра-Громовержец, Владыка Тридцати Трех, а панцирь хищно корчился, мириадами корней врастая в мое тело, из доспеха становясь второй кожей, которую теперь можно было содрать лишь вместе с жизнью Жизнью Индры-Громовержца Жизнью Карны-Подкидыша по прозвищу Секач.
5
Прежде чем перестать быть собой, я успел улыбнуться.
КНИГА ВТОРАЯ КАРНА-ПОДКИДЫШ ПО ПРОЗВИЩУ СЕКАЧ
Сурья сказал:
— Если, о Карна, ты отдашь Индре свои дивные серьги, с которыми ты родился, — кончена твоя жизнь! Смерть будет витать над твоей головой. Пока ты владеешь серьгами и панцирем, о дарующий гордость, в бою ты неуязвим для врагов. Запомни мои слова!
Карна ответил:
— Да не погибнет слава моя, разнесшаяся в трех мирах! Такому, как я, не подобает спасать жизнь ценою бесчестья. Лучше достойная смерть, которую люди оценят. Принесу ли я себя в жертву во время битвы, свершив ратный подвиг, или, наоборот, одолею в бою недругов — все равно я достигну славы и смогу защитить робких, просящих пощады на поле брани, а также избавлю от великого страха стариков, детей и дваждырожденных. Я сберегу честь, пусть даже ценою жизни, — таков мой обет.
Книга Лесная, сказание о том, как Индра отнял серьги у Карны, шлоки 19—20 и 32—39Часть первая ПОДКИДЫШ
Среди творений наилучшими считаются одушевленные, среди одушевленных — разумные, среди разумных — мужчины наилучшие, среди мужчин — дваждырожденные, среди дваждырожденных — те, кто обладает развитым пониманием, а среди обладающих развитым пониманием — читатели этих строк наилучшие, и таково общее мнение!
Глава I БРОСЬ СЕРДЦЕ В ВОДУ
1 КОРЗИНА
Река. Струится, течет в неизвестность, колебля притаившиеся в заводях венчики лотосов, и тростники качаются под лаской ветра. Да, именно река и именно тростники. Вон селезень плывет. Толстый, сизый, и клюв разевает — небось крякает. Только не слышно ничего. И тростники совсем близко, качаются у самых глаз, будто я не Индра, а какая-то водомерка над речной стремниной. Или труп, раздутый утопленник, которого воды влекут невесть куда и невесть зачем. Индра?!
Какой-такой Индра?! При чем здесь Индра?.. Ни при чем.
Просто так, на язык подвернулось.
Река. Тянет сыростью, волны плещут, лаская друг дружку, а по берегам стелется незримо межа за межой: земли ядавов, вришнийцев, бходжей… Настрогали люди простор ломтями, рассыпали крошками и теперь, как воробьи, дерутся из-за каждой! А реке все равно. Ей без разницы: бходжа ты или ядав! Входи, купайся, уноси воду бадьями, рви лилии с кувшинками, рыбу лови… брось чего-нибудь — унесет.
Недаром говорят: бросай добро в воду — против течения выплывет.
На то и река. Вернее, приток.
Конский Ключ называется.
Плывет по Конскому Ключу корзина. Большая корзина, бабы в таких белье стирать носят. Ивовые прутья бамбуковой щепой перевиты, волокно к волокну, дно цельное, а сверху крышка. Захлопнута плотно, и три дырки, как три Шивиных глаза, просверлены. Зачем? Кто знает… Значит, надо. Плыви, корзина, качайся на волнах, пока не прибьет тебя к берегу или не растащит водой во все стороны.
Влился приток в родной плес, стала из Конского Ключа — Душица. Воды в Душице поболе, волны поигривей, закачало корзину, повело боком, опрокидывать стало… Нет, обошлось. Плывет. И любопытная плотвичка в дно носом тычется. А по берегам уже иные земли: угодья матсьев и сатватов, Нижняя Яудхея… Мало— помалу и до ватсов-краснозубых добрались. До их джунглей, где радуешься дважды: если повезет зайти в этот рай и если повезет выйти из этого ада.
Вот Душица в багряную Ямуну влилась, разбавила кровь слезами.
Плывет корзина.
Не тонет.
Солнце сверху смотрит, золотые руки тянет. Много их у солнца, есть чем потянуться. И мнится: сам Лучистый Сурья охраняет ладью из ивы с бамбуком. Придержал колесницу в зените, ждет, чем дело закончится.
А лик у солнца тоскливый, каленой медью отливает… Грустит Сурья. Плохо ему. Жарко. Когда ж это было, чтоб светилу жарко становилось? — никогда не было, а сейчас случилось.
Встретилась Ямуна с Гангой, матерью рек, закружились воды в пляске, вынесло корзину на самый стрежень. Вон и остров в лозняке прячется. Стоит на островном берегу урод-мужчина: ликом черен, бородой рыж, шевелюрой — и того рыжее. Глазищами янтарными моргает. Нет чтоб за багром сбегать, выволочь корзину! — стоит, страхолюдина, из-под мозолистой ладони на реку смотрит.
Проплыла корзина мимо.
Нет ей дела до уродов.
Вон уже и земли ангов-слоноводов начались.
Вон и город Чампа.
Тронул Лучистый Сурья своего возницу за плечо, велел дальше ехать, а сам все назад оборачивается, через пламенное оплечье.
Туда глядит, где мать-Ганга с Ямуной схлестываются, Ямуна — с Душицей, Душица — с Конским Ключом…
Где исток.
2 ПОСЛАНЕЦ
— Устал, милый?
Мужчина не ответил. Он лежал лицом вниз, до половины зарывшись в солому, и вполуха слушал блеянье ягнят. Безгрешные агнцы плакали малыми детьми, сбивались на миг и вновь заводили бесконечные рулады. Предчувствовали, горемыки: всю жизнь доведется прожить баранами, всю бессмысленную жизнь, от плача во тьме до кривого ножа-овцереза…
Одна радость, что Всенародный Агни испокон веку ездит на круторогом агнце
— глядишь, после ласки огня, превращающего тебя в жаркое, доведется попасть в овечий рай. Где тебя пасут пастыри, кормят кормильцы, но не режут резники.
Счастье.
Скажете, нет?
— Устал, вижу…
Ничего она не видела, счастливая женщина. Только говорила, что видит. Если бы кто-нибудь действительно видел сейчас лицо мужчины, то поразился бы хищной улыбке от уха до уха. После женских ласк улыбаются иначе. Расслабленно улыбаются, блаженно, иногда устало — а здесь… Похожий оскал подобает скорей волку в глубине логова, когда чужой запах струей вплетается в порыв ветра. И зубы крупные, белые — хорошие зубы, всем бы такие.
Плачьте, ягнята…
Женщина потянулась, звеня колокольцами браслетов, и мягко провела ладонью по спине мужчины. Поднесла ладонь к лицу, лизнула, коснулась тонким язычком, жадно ощущая вкус чужого пота. Снова вытянула руку и прошлась по спине ухоженными ноготками, оставляя красные полосы. Женщине было хорошо. С законным муженьком-тюфяком ей никогда не было так хорошо. И с многочисленными пастухами— бходжами, падкими на щедрую плоть, не было. И с умельцами-скопцами, плешивыми толстячками, специально обученными смирять томление бабьего тела многочисленными уловками, — с ними тоже.
А с этим молчуном — хорошо.
Ах, до чего же хорошо…
— Где ты был раньше, милый? — сама себя спросила женщина, прогибаясь гулящей кошкой.
— Далеко, — хрипло ответил мужчина.
Он врал. Был он довольно-таки близко, можно сказать, и вовсе неподалеку от здешних земель. Но рассказывать о своем прошлом новой любовнице… Прошлое ревниво, подслушает, вильнет хвостом и пойдет гулять по свету. Чтобы вернуться каленой стрелой в спину или удавкой в ночи. Далеко мы были, высоко летали, уста из стали, язык из пыли, живем сегодня, а вчерашний день отгорел и погас.
Забыли.
Мужчина перевернулся на спину, вольно разбросал бугристые руки, подняв вокруг себя соломенную бурю. Чихнул во всю глотку, потом чихнул еще раз. Сухие стебельки запутались в гуще волос, обильно покрывавших его торс и даже плечи. Женские пальчики мигом стали выбирать солому из курчавой поросли, исподволь опускась все ниже: ключицы, мощные мышцы груди, живот…
И спящий восстал.
Долго потом плакали ягнята, испуганные звериным рычанием и стоном пойманной добычи.
* * *
— …А мне хозяйка вчера вот чего подарила…
Женщина приподнялась на локте. Напряженные до сих пор соски маняще коснулись лица мужчины, один ткнулся в щеку доверчивым птенцом, и почти сразу вниз потек металлический шелест. Цепочка. Серебряная. С лунным камнем в оправе, подвешенным посередине.
— Балует тебя хозяйка, — буркнул мужчина.
Женщина довольно засмеялась. Заворковала голубкой. Ей показалось, что любовник попросту ревнует, не имея возможности дарить дорогие подарки. Она считала себя знатоком мужских мыслей и чаяний. С того возраста, когда у нее едва набухли бутоны грудей, а взгляд мужчин стал задерживаться на ней, наливаясь желанием. Да, женщина считала себя истинной дваждырожденной в таких делах. Возможно, не без оснований.
Мужчина смотрел на нее снизу вверх, и в зеленых глазах его не отражалось ничего.
Даже звезды.
Они мерцали сами по себе, эти слегка раскосые глаза, расположенные по обе стороны ястребиного носа шире, чем полагалось бы. Мужчина редко закрывал их. Даже целуя женщину, он не смежал век. Удивительная привычка. Удивительные глаза, в которых ничего не отражается. Удивительная женщина, которая этого до сих пор не заметила.
Впрочем, что вокруг не достойно удивления?
— Балует, — согласилась женщина. — Меня и нужно баловать. Я тогда в огонь и в воду… И молчать умею. Хоть пытай меня, хоть посулы сули — ни словечка.
Плечо мужчины слегка напряглось. Как леса у рыболова, когда хитрюга— подкоряжник тронет костяной крючок. Он знал: если женщина говорит о своем умении хранить чужую тайну, это может означать только одно.
Одно-единственное.
— Молчать она умеет, — насмешливо проворчал мужчина. — Тайны у них с хозяйкой великие. Рукоблудию друг дружку учили. Хозяйку-то далеко не отпускают, берегут в шатре, пастухов кнутами гоняют, а к варте[8] не подольститься!
Приходится своими силенками…
— Дурак ты, — обиделась женщина и тут же прижалась, втиснулась, защекотала распущенными кудрями. — Дурачок… Силы бычьей, а ума не нажил. Хозяйка у меня тихая, смирная, ей на роду написано по чужим домам мыкаться! Думаешь, она и впрямь здешнему князю дочерью доводится? А вот вам всем и смоквушки вяленые! Чужачка она, хоть и сама из семьи — знатней некуда. Про царя Шуру слыхал?
— Да кто ж не слыхал про царя Шуру?! — хохотнул мужчина. — Великий был царь: все местные земли в кулаке держал да кулаком туда-сюда елозил для удовольствия… Пока не лег под Грозного. Тут земли и брызнули во все стороны. Грозный далеко, а пастухам местным все едино: дань есть дань, а прочее — лебеда.
Он заворочался, устраиваясь поудобнее.
Женщина губами тронула прядь его жестких волос, и удивительная фраза «а пастухам местным все едино…» сама собой выветрилась из ее головы.
Хоть и странно слышать такое от пастуха.
Местного.
— Вот ты и дважды дурачок… Хозяйка моя — Шурина доченька, да еще и от старшей жены! Царь-папаша ее к бездетному товарьяману[9] в приемыши определил, по давнему сговору… и то сказать: зачем Шуре девка?! Сыновей хватало, слава Вишну! Вот и сбагрил на сторону. Потом помер от водянки, а сыновья рохлями оказались, растеряли земли-троны! Приживалы, еще хлеще сестры! Родись у моей хозяйки мальчонка — мог бы, как в возраст войдет, за дедовской славой погнаться! Раз дядья оплошали…
— Сынок! — передразнил мужчина. — Слава дедовская! В первую голову, на славу пора забыть-забить кривым рубилом — ищи ветра в поле! А во вторую голову: откуда у нее сынок, у Шуриной дочки, ежели сама она — девица незамужняя! Ветром надуло?!
Женщина запальчиво вскинулась. Чужая тайна и без того жгла ей сердце, так и норовя выплеснуться наружу кипящим варом. А тут еще дразнят…
— Не знаю, как насчет ветра, а только для сыновей мужья не всегда надобны! Может, и ветром…
— Врешь ты все, — махнул рукой мужчина, разом теряя интерес к разговору.
Но женщину уже было не остановить.
— Я вру?! А кто у хозяйки на прошлой неделе роды принимал? Кто пуповину резал?! Не я?! Думаешь, мы ради твоих мужских статей шестой месяц в пастушьем становище торчим?! Во дворце живот не спрячешь! Понял, кобель?!
Последнее слово женщина произнесла ласково-ласково, и пальцы ее как бы невзначай вновь поползли к самому кобелиному месту.
Мужчина не мешал, но и не помогал.
Лежал, глядел в небо, будто не его ласкали.
— Тогда уж точно о дедовской славе речи нет, — бросил он наконец. — Ублюдок-безотцовщина — кому он нужен, хозяйкин байстрюк? Брюхо нагуляла, теперь срам прятать надо! Подкинет небось пастушьей женке, а сама поминай как звали…
— Такого не подкинешь, — ластясь, шепнула женщина. — Ты б его видел, красавчика маленького…
С этой минуты мужчина слушал очень внимательно.
Впрочем, он и раньше слушал внимательно.
Он вообще мало что пропускал мимо ушей, доверенный лазутчик матхурского правителя, ракшаса-полукровки по прозвищу Ирод.
3 СМЕРТЬ
Когда женщина задремала, мужчина еще некоторое время лежал, думая о своем. Он предчувствовал: сегодня, сейчас, этой ночью свершится предначертанное. Кончится срок его поисков и ожидания, еще один младенец умрет тихой смертью, отправясь прямиком в рай для молокососов, — и можно будет вернуться к господину.
Вернуться с триумфом.
Иногда мужчина полагал, что из всех кличек Трехмирья именно прозвище его господина имеет самые длинные ноги. С пятками, смазанными салом. С когтями, которые сподручно рвать на бегу. Судите сами: меньше полугода прошло с того веселого дня, когда матхурский правитель разослал в подвластные ему земли отряды карателей. С недвусмысленным приказом — убивать младенцев. Всех, кого обнаружат. В первую очередь — младенцев странных, удивительных, с признаками божественного или демонского родства.
Приказ прозвучал, и уже через полтора месяца окрестности Матхуры уверенно прозвали царя Иродом.
Ирод подумал и рассмеялся: ему понравилось. Перед этим его звали Кансой, то есть Кубком, — за умение в один дых осушать громадный наследственный кубок из черненого серебра.
Согласитесь: Ирод звучит куда благозвучней!
По возвращении карателей были разосланы лазутчики в уделы ближайших соседей. Приказ остался прежним, с малой поправкой: убивать тайком. Не оставл следов. Война нам не нужна, а исчезновение того или иного дитяти всегда можно свалить на недосмотр мамок или проказы упырей-пишачей.
Лазутчики склонили головы перед владыкой, и вот на сегодняшний день прозвище Ирод уже взапуски бегало от пашен ядавов до пастбищ бходжей. Следом бегал слух: Ироду было пророчество о его будущей гибели. Дескать, убьет его не то потомок родной сестры владыки, не то дальний родич, не то просто земляк…
Короче, родится в нынешнем году, вырастет и убьет.
Ом мани!
— Интересно, — задумчиво спросил Ирод, который тогда еще был просто Кансой, у своих советников, — зачем богам сообщать мне о причине моей погибели? Ясное дело, чтобы я заранее принял меры, и никак иначе!
Советники почесали в затылках и хором восславили мудрость владыки.
Вот тогда-то матхурский правитель и возблагодарил судьбу за предусмотрительность. Не первый год привечал он демонское отребье: битых ракшасов из отрядов покойного Десятиглавца, ускользнувших от перуна Индры асуров, гигантов-данавов, которым было тесно в подводной резервации, просто одиночек-полукровок, каким был и сам Ирод… Эти из кожи вон лезли, выполняя любой приказ и не стесняясь в средствах. Во-первых, по природной склонности, а во-вторых, в случае гибели хозяина им и впрямь не оставалось места на земле.
Здесь же, в местной глуши, беглецов никто не искал и искать не собирался.
…Мужчина осторожно встал, стараясь не разбудить утомленную любовницу, и вышел из-под навеса. Шаг его был беззвучен, босые ступни, казалось, прилипали к земле, и при каждом движении лопатки мужчины выпирали наружу заметно больше, чем у обычного человека. Подойдя к загону, он перегнулся через плетень и ухватил за шкирку ближайшего ягненка. Вытащил наружу. Прижал к себе и долго баюкал, жадно вдыхая запах влажной шерсти и молока.
И еще — страха.
Звезды по-прежнему не отражались в его глазах, там мерцали свои собственные звезды, колючие искры, каким не место на земном небосклоне.
Мужчина улыбнулся. Потом взял ягненка за задние ноги и мощно рванул.
Поднес две кровоточащие половинки к самому лицу и на миг зажмурился, трепеща ноздрями.
Первыми он съел печень с сердцем.
Насыщаться следовало не торопясь. Сегодня он уйдет из опротивевшего становища, а путь до Матхуры тернист. Возможно, одного ягненка даже не хватит.
Да и баранина надоела.
Мужчина задумчиво посмотрел под навес, где в соломе спала обнаженная женщина. Сытая, не знавшая нужды и голода самка. Пальцы его несколько раз согнулись и разогнулись, выпуская наружу кривые когти.
Он размышлял.
В конце концов, именно эта похотливая дуреха проболталась ему об удивительном байстрюке, которого прижила ее хозяйка невесть от кого. О байстрюке с тельцем медно-красного цвета, сплошь покрытом загадочной татуировкой. О байстрюке с серьгами, что росли прямо из мочек ушей. Да и сама хозяйка… все-таки дочь царя Шуры, дальняя родственница матхурского Ирода…
Женщина заслуживала определенной признательности.
Но одного ягненка определенно не хватит, а баранина надоела.
Вдалеке брехали на луну косматые овчарки.
* * *
У шатра безмужней матери мужчина остановился. Даже не у самого шатра, а чуть поодаль, ближе к зарослям олеандра. Хозяйка его бывшей любовницы проводила время в пастушьем становище с единственной целью: скрыть позор. Даже если ее приемный отец и знал о проказах любимицы, он благоразумно решил не привлекать к ним всеобщего внимания. Прислуги и свиты выделил — кот наплакал. Сейчас, например, у входа в шатер дрыхли всего двое вартовых, и больше (мужчина твердо знал это) воинов поблизости не было. А пара разжиревших от бездель валухов — преграда слабая.
Посланец матхурского правителя, не таясь, подошел к шатру.
Громко топая.
При виде его вартовые заморгали, стряхивая с ресниц остатки дремы.
— Ты чего, приятель? — сипло бросил левый, вислоусый дядька, садясь на корточки. — Не спится?! Иди овцу вылюби…
— Хоть бы тряпкой замотался, бесстыжая твоя морда! — Правый, совсем еще молоденький паренек, во все глаза глядел на могучий лингам мужчины, до сих пор торчавший стенобитным тараном.
После шалостей любовницы? после сытной трапезы? — кто знает?
Скажете, одна из причин — явная бессмыслица?!
Скажите, а мы послушаем, но в другом месте и при других обстоятельствах.
— Сейчас замотаюсь, — легко согласился посланец Ирода.
И коротко, без замаха, ударил молоденького ногой в горло. Пальцы ноги, сжатые в корявое подобие кулака, с хрустом вошли парнишке под подбородок, и почти сразу страшный кулак дернулся, раскрываясь весенним бутоном.
С лепестками-когтями.
Обратно бутон вернулся, унося добычу — кровоточащий кадык.
— Хочешь, и тебе курдюк вырву? — с искренним любопытством поинтересовался мужчина у дядьки, мгновенно присев рядом с ним. Одна когтистая лапа легла на древко копья, вторая же шипастым ошейником вцепилась в глотку вартового, гася крик в зародыше. То, что лапа на копье у людей называлась бы рукой, а лапа на глотке — ногой… Мужчину это не смущало. Притворство сейчас лишь помешало бы, а в обычном облике он плохо понимал разницу между руками и ногами.
Эти глупости придумали люди.
Для оправдания слабости.
Рядом еле слышно хрипел парнишка, выхаркивая через второй рот остатки жизни, но он не интересовал обоих живых.
Через секунду он уже не интересовал только Иродова лазутчика.
Мужчина — назвать его человеком теперь было бы опрометчиво, но, безусловно, он оставался мужчиной! — встал во весь рост.
Прислушался.
Тишина.
Вокруг… и в шатре.
Небось когда варту рвало с перепоя, шуму было куда больше.
Улыбка-зевок обнажила жемчужные клыки, и посланец предусмотрительного Ирода взялся за полог шатра. Он замешкался всего на ничтожное мгновение, которое и временем-то назвать стыдно, он отвлекся, жадно принюхиваясь к ароматам женского и детского тел, донесшимся из душной глубины, он уже шел… За все надо платить.
Есть такая мера веса — называется «бхара». Ноша, которую человек способен нести на голове. Конечно, в последнюю очередь убийца сейчас думал о мерах веса, но на спину ему рухнуло никак не меньше пяти «бхар»! Ударило, смяло, отшвырнуло в сторону — и двухголосое рычание разодрало тишину в клочья.
Старый пастуший пес-овчар тоже умел ходить беззвучно.
Два тела сцепились, кубарем покатились по земле, пронзительное мяуканье разнеслось по всему становищу, и от дальних костров послышались вопли пастухов вперемешку с лаем. Пес дрался отчаянно, самозабвенно, отдавая все силы и не сберегая про запас даже самой малой крохи. Но старость брала свое: косматое тело, в котором уже не оставалось ничего человеческого, вывернулось из некогда мертвой хватки. Клыки сомкнулись на собачьем загривке, куснули, отпустили, истово рванув ниже, под ухом, кривые кинжалы наискось полоснули брюхо — и задыхающийся скулеж был ответом.
Убийца на четвереньках метнулся к шатру, отшвырнув полог, влетел внутрь и замер в растерянности.
Пусто.
Лишь смятое ложе говорило о хозяйке — смятое ложе и пустая колыбель.
Уши с пушистыми кисточками на концах встали торчком. Ловя звуки: рядом, дальше, в кустах, у костров, в лесу на опушке…
Где?!
Матхурский правитель умел выбирать себе слуг.
Когда толпа пастухов во главе с троицей разом протрезвевших воинов ворвалась в шатер, огромная кошка была далеко.
Несясь к Конскому Ключу по следу матери-беглянки и вожделенного ребенка.
4 СОЛНЦЕ
Он настиг ее у самой реки.
Жертву.
По пути снова вернув себе человечий облик — так было гораздо интереснее. Друзья всегда считали его существом изысканных привычек, и это истинная правда. Оглянитесь вокруг, беззубые и падающие в обморок при виде оцарапанного пальца! Что вы все знаете о жертвах?! Об их особом, ни с чем не сравнимом запахе, о взгляде, в бездне которого полощется рваный стяг отчаяния, о трепете их восхитительных поджилок, о сладчайшем вкусе их плоти… Морщитесь? Кривите носы?! И завидуете втайне моему знанию: жертву надо вбирать в себя еще живой, чтобы музыка воплей сливалась с пляской судорог, и тогда, тогда…
Посланец Ирода клокочуще рассмеялся и вытер с губ слюну.
У самого берега стояла она, и смешон был ее вид. Наспех замотанное сари сползло с узких плеч, обнажив груди-яблоки с дерзкими сосками — откуда взяться в таких сосудах молоку?! Босые, сбитые о камни ноги нервно подрагивали, топча прибрежный песок, узкие щиколотки без браслетов, стройные голени и бедра угадывались под мятой тканью… девица, не женщина-мать.
Убийца тихо заурчал.
Ему было хорошо.
Ему было очень хорошо, лучше всех.
— Внемлите, достойные, — мяукнул он, делая первый шаг. — Те шесть членов, то есть груди, бедра и глаза, которые должны быть выдающимися, у этой девушки
— выдающиеся!
Шаг.
Еще шаг.
И песнь свахи из клыкастого рта.
— Те же три, то есть пуп, голос и ум, которые должны быть глубокими, у этой девушки — глубокие!
Шаг.
Мягкий, вкрадчивый — масло, не шаг.
Предрассветный туман набрасывает на веселого убийцу пелену за пеленой. Липнет кисейными покрывалами, вяжет тенетами из промозглой сырости, пытается удержать, остановить, будто ему, туману, проще умереть в неравной схватке, чем безучастно смотреть со стороны.
Не все способны быть зрителями… Прости, туман, зябкое дыхание Конского Ключа!
Прости…
— И, наконец, те пять, то есть ладони, внешние утолки глаз, язык, губы и небо, которые должны быть румяными, у этой девушки — румяные! Она воистину способна родить сына, могущего стать великодержавным царем!
Где-то вдалеке, со стороны стойбища, брешут собаки и глухо доносятся крики людей.
Время есть.
Много времени.
Больше чем надо.
Посланец Ирода делает последний шаг и останавливается. Он пристально смотрит на голенького ребенка в руках у лжедевицы. Это чудо. За такие чудеса хозяин хорошо платит. Зеленый взгляд ощупывает вожделенную цель. Похотливая служанка не соврала. Тело младенца и впрямь медно-красное, словно сплошь покрыто ровным загаром, приметой здешних рыбаков, и по нежной коже бежит, струитс темная вязь. Сыпь? Вряд ли. Татуировка? Похоже… Но какой безумец возьмется татуировать новорожденного?! Разводы сплетаются, образуя кольчатую сеть, отчего туловище малыша напоминает черепаший панцирь или рыбью чешую, и посланец помимо воли облизывает губы.
Он смотрит на серьги. На серьги в ушах двухнедельного младенца. «Вареные» сердолики в платиновой оправе. Багрец в тусклой белизне. Ничего особенного. В ювелирных лавках Матхуры таких навалом. Ерунда. Если не считать малого: серьги растут прямо из ушей, заменяя ребенку мочки. Между металлом и плотью нет зазора, нет даже едва заметного перехода… ничего нет.
Единое целое.
Убийца снова облизывается, вспоминая вкус болтливой любовницы.
Вкус правды.
Лжедевица наконец решилась. Как-никак кровь царя Шуры, а уж Шура был драчун из драчунов! Она наклоняется и опускает дитя в рыбацкую корзину. Забытую на берегу кем-то из толстозадых местных баб, тех дурех, что рожают своим муженькам обычных сопляков. За такими не стоит рыскать, выспрашивая и подглядывая. Пусть живут. Пусть живут все.
Кроме этого.
Лжедевица задвигает корзину к себе за спину. Жесткий край сминает пук водорослей, и из сплетения буро-зеленых нитей выползает рачок. Топырит клешни, грозно вертится на месте. Драться собрался, пучеглазик. Рачок-дурачок. И эта драться собралась. Рожают, понимаешь, непонятно кого и непонятно от кого… Дерись. Сколько угодно.
Так гораздо интереснее.
Волны Конского Ключа робко лижут корзину. На вкус пробуют. Пытаются опрокинуть. Подлезть под днище. Пора. Надо. Далекий лай становится менее далеким.
Пора.
В следующий миг противоположный берег раскололся беззвучным взрывом. Пылающий шар солнца вспорол серую слякоть, и еловец шлема Лучистого Сурьи приподнялся над Конским Ключом.
Убийца замер. Чутье властно подсказывало ему, что до восхода еще не меньше часа, что все происходящее — бред, чушь, бессмыслица!.. Но солнце всходило, слепя зеленые глаза.
Из-за спины жертвы поднимался огненный гигант. Вставал в полный рост, расправлял плечи во весь окоем, и мнилось: руки-лучи успокаивающе тронули хрупкую девушку-мать. Она выпрямила спину, скрюченные пальцы обмякли, и на лице вдруг проступила святая вера ребенка, который, попав в беду, вдруг видит бегущего на помощь отца.
Зато убийца видел совсем другое: гневно сдвинулись брови на переносице Сурьи, витязь-светило прищурился, глянул исподлобья — и кровь закипела в посланце Ирода.
Она кипела и раньше: в схватках с врагами, при совокуплении с самками… но сейчас все было совсем по-другому.
И так было гораздо интереснее.
…Искореженное тело получеловека лежало на берегу, дымясь, и рачок довольно щипал клешней зеленый глаз.
А хрупкая девушка в испуге смотрела на реку, машинально заматываясь в сари.
Плывет по Конскому Ключу корзина. Большая корзина, бабы в таких белье стирать носят. Ивовые прутья бамбуковой щепой перевиты, волокно к волокну, дно цельное, а сверху крышка. Захлопнута плотно, и три дырки, как три Шивиных глаза, просверлены. Зачем? Кто знает… Значит, надо. Плыви, корзина, качайся на волнах, пока не прибьет тебя к берегу или не растащит водой во все стороны.
— Маленький, — беззвучно шептали белые губы, — маленький мой… ушастик…
Ушастик — на благородном языке «Карна».
От чего не легче.
И последние клочья тумана слезой текли по лику Лучистого Сурьи.
5 ДВОЕ
Этим же утром в близлежащем городишке со смешным названием Коровяк произошло еще одно удивительное событие. Здесь погибла неуловимая ракшица Путана, одна из фавориток матхурского царя-детоубийцы. Погибла, пытаясь
покормить грудью чудного младенца, слух о котором успел погулять в окрестностях, дойдя до ушей Путаны.
Ребенок высосал ракшицу досуха.
Жители Коровяка возблагодарили небеса за счастливое избавление, после чего сотворили над дитятей очистительные обряды. Помахали над пушистой головенкой коровьим хвостом, омыли тело бычьей мочой, посыпали порошком из толченых телячьих копыт и, наконец, обмакнув пальцы в помет яловой коровы, начертали дюжину имен Опекуна Мира на дюжине частей тела младенца.
Надежно оградив благодетеля от порчи.
Как раз в момент начертания последнего имени Опекуна корзину с другим младенцем прибило к пристани городка Чампы, около квартала, где проживали суты— возничие с семьями.
* * *
Они явились в мир вместе, едва не погибнув на самой заре своего бытия.
Черный и Ушастик.
Кришна и Карна, только первого еще не звали меж людей Баламутом, а второго — Секачом.
Время не приспело.
Кроме того, так гораздо интереснее.
До Великой Бойни оставалось полвека.
Глава II ГОНГ СУДЬБЫ
1 СУТА
Возница деловито проверил упряжь. Скрипнул подтягиваемыми ремнями, с тщанием осмотрел пряжки, заново укрепил древко стяга — белый штандарт с изображением ястреба плеснул на ветру. Похлопал по лоснящимся спинам буланых жеребцов, и животные зафыркали в нетерпении. Добрые кони: взращены умелыми табунщиками Пятиречья, на бегу легки, у каждого по десять счастливых завитков шерсти, курчавятся попарно на голове, шее, груди и бабках… Так, со сбруей и лошадьми все в порядке. Теперь — колесница. Хорошо ли смазаны оси, плотно ли забиты чеки, не расселся ли обруч тривены, вложена ли в бортовые гнезда троица метательных булав…
Все было в порядке. Возница знал это и без осмотра. Но какой же уважающий себя сута не проверит лишний раз свое хозяйство перед столичными (а хоть бы и провинциальными!) ристаниями?! Когда-то в молодости подобная придирчивость спасла ему жизнь… Впрочем, сейчас не время для воспоминаний. Капли-мгновения из кувшина самой работящей богини Трехмирья падали все ближе и ближе. Сута отчетливо слышал барабанный рокот этой капели. Ему был хорошо знаком внутренний ритм, что приходил из ниоткуда и превращал душу в гулкий мриданг. Ритм напоминал перестук копыт по булыжнику, он заставлял кровь быстрее бежать по жилам, чаще вздымал волосатую грудь, а сознание омывал ледяной ручей спокойствия и умиротворения.
В такие минуты ему мерещилась в небе златая колесница Громовержца, которой правил не синеглазый олубог, а он, пожилой некрасивый сута из маленького городишка Чампы.
Святотатство?
Гордыня?!
Достоинство?.. Кто знает. Возможно, тем же достоинством обладал и сам городишко Чампа — окружающие племена ангов звали его столицей за неимением другого.
Сута улыбнулся и заново проверил упряжь.
Он ЗНАЛ, что выиграет и сегодня. Как выиграл первый тур ристаний, как побеждал до того, подставляя шею под призовые гирлянды. Просто на этот раз дело не в его мастерстве, вернее, не только в нем. Иное тревожило сейчас опытного возницу, видавшего всякие виды… Он стыдился признаться самому себе: причина беспокойства — его сегодняшний махаратха[10]. Нет, ездок не подведет! У них получится: у него, потомственного суты, и его благородного…
Т-с-с!
Есть вещи, о которых не стоит болтать заранее.
О них даже думать заранее не стоит.
Удовлетворясь наконец осмотром, возница обернулся к росшей неподалеку раскидистой бакуле. Там, в тени густых ветвей, ждал человек — высокий, широкий в кости, он был одет в добротное платье кшатрия средней руки.
Сотник раджи-зрителя?
Скорее всего.
Удивительным было другое: лицо махаратхи полностью скрывал глухой шлем. Состязаться по жаре, нацепив на голову подобную бадью из металла, да еще с чудовищно узкими прорезями для глаз… Безумец? Да нет, непохоже…
Скорее уж безумен кузнец, что ковал такой шлем.
— Все готово, господин, — голос суты слегка дрогнул, когда он произнес это. — Займите свое место: нам пора выезжать на стартовую межу Воин в глухом шлеме молча вышел из-под дерева и странной, замедленной походкой направился к колеснице. Уже у самой повозки сута подал ему руку — и махаратха заученным движением легко вскочил в «гнездо».
Нащупал рукояти метательных булав, огладил их ладонями, будто гончаков перед охотой, и застыл безмолвным изваянием.
— Вы готовы, мой господин? — с искренним почтением осведомился сута, располагаясь на облучке.
— Да, — донеслось из-под шлема.
Это было первое слово, произнесенное воином.
Колесницы соперников уже разворачивались у межи, занимая исходные позиции.
2 МАЛЫШ
— Эй, малец, а ты что здесь делаешь?!
Ты быстро обернулся, готовый бежать, но оплошал: цепкая лапа стражника ухватила тебя за плечо. Действовать ногами было поздно — теперь надежда оставалась только на язык.
— Да я просто посмотреть хотел!.. — заныл ты дрожащим голоском. — Отсюдова видно лучше! Дяденька, можно, я тут постою?
На мгновение стражник заколебался и даже слегка ослабил хватку. Но почти сразу взгляд его упал на плотно сжатый кулак мальчишки.
— Скрываешь? От властей скрываешь?! Показывай, бунтовщик!
Кулак веселому стражнику пришлось разжимать силой.
— Э-э, да это ж у тебя гирьки для пращи! И куда ты их швырять замышлял? В колесничих? Или мишени поразбивать? Ишь чего удумал, шакалье отродье! Чеши отсюда, пока я добрый, не то уши оборву!
От прощального пинка ты увернулся и припустил со всех ног прочь. Стражник и впрямь попался добрый: всего лишь отобрал гирьки и прогнал. Другой бы так отдубасил, что ни встать, ни лечь потом…
Но что же теперь делать?
Издалека ты наблюдал, как стражник степенно берет тяжелое полированное било, плавно замахивается…
Гулкий рев гонга раскатился над ристалищем. В ответ визгом и свистом взорвались возницы, обласкав коней стрекалами, упряжки слетели с межи и брызнули по беговым дорожкам. Грохот колес, щелканье бичей, крики заполнивших трибуны зрителей… азарт переполнял хастинапурцев и гостей столицы.
Ты зло утер слезы и прикусил губу.
Твой отец никогда не пользовался стрекалом и совсем редко — бичом. В случае крайней необходимости он нахлестывал коней вожжами, пуская длинные ремни волной, которая чувствительно обжигала конские спины и именно подгоняла, а не бесила, сбивая с ритма, как это зачастую делает удар бича.
С минуту ты завороженно провожал колесницы взглядом: яростная борьба за лидерство, воцарившаяся на ристалище, потрясала маленькое сердце. Ведь право поразить мишени получат всего три махаратхи из дюжины соперников — те, чьи упряжки подойдут к стрелковому рубежу первыми. Кувшинов-мишеней — тоже три. Поначалу все решают кони и суты, лишь под финал троица великоколесничных бойцов получит возможность проявить свою меткость и сноровку.
Одиннадцатилетний зритель очень надеялся, что счастливцев окажется не трое, а только один. Впрочем, сейчас все грозило пойти прахом из-за ретивого стражника. Хорошо еще, что ты успел заранее передвинуть кувшины так, как следовало: средний — точно над гонгом и два крайних — каждый ровно на расстоянии локтя от среднего.
Все шло прекрасно, пока…
Ты очнулся. Бесплодные сожаления — удел девчонок и юродивых. Надо что-то предпринять, и предпринять немедленно: упряжки успели пройти половину дистанции. Буланая четверка отца сейчас шла ноздря в ноздрю с ослепительно белыми панчальскими иноходцами. Их пытались — и все никак не могли — настичь широкогрудые чубарые рысаки, остальные глотали пыль, и их можно было списывать со счетов.
Из прокушенной губы потекла кровь. Ты с трудом оторвался от мчащихся упряжек — и в первый момент не поверил своим глазам! Стражник возле гонга отсутствовал! Пригибаясь и мечтая превратиться в муравья, ты опрометью бросился назад.
Удача любит смелых, иначе чем объяснить ее брак с Крушителем Твердынь?!
Никто не остановил тебя по дороге, не окликнул, не помешал. И вот ты уже стоишь в оговоренных десяти шагах от гонга, переводя дух после стремительного бега, стоишь и лихорадочно рыщешь взглядом по сторонам.
Гирек не было. Видимо, запасливый стражник решил забрать их себе, справедливо рассудив: «В хозяйстве пригодятся!» В конце концов, бхут с ними, с гирьками! — сойдет и обычный камень. Ты не промахнешься! Вот только нет вокруг ни единого камня. Где вы, галька и булыжники, ссохшийся комок земли, обломок палки на худой конец?! — ровная зелень травы, и больше ничего.
Ничего!
А кидаться травой только святые брахманы горазды.
Впору было заплакать от бессилия, но ты сдержался. Ты большой. Ты умеешь вести себя достойно. Слезами делу не поможешь. Колесницы дружно выходили на финишную прямую, грохот копыт нарастал, накатывался пыльной волной, трибуны неистовствовали.
Мимоходом ты скосился на ристалище, увидел, как вырывается вперед колесница отца… До того момента, когда буланые обладатели счастливых примет достигнут стрелкового рубежа, оставались считанные мгновения.
Ты в отчаянии повернулся к гонгу — и вдруг увидел оставленное (или забытое?) стражником било.
Решение пришло сразу В три прыжка ты оказался рядом с гонгом. Подхватил с земли увесистую деревянную колотушку (пальцы с трудом обхватили толстую рукоять) — и, пытаясь замахнуться, обернулся через плечо.
Колесница отца выходила на рубеж.
Белоснежные панчалы отставали на полтора корпуса.
Уже не оглядываясь, ты с усилием потащил колотушку ближе к сияющему на солнце кругу меди. Только сейчас ты вдруг осознал, что стоишь не сбоку, как предполагалось по сговору, а ПЕРЕД мишенью! Гонг висел слишком высоко, силенок не хватало взмахнуть тяжким билом как следует, и пришлось ногой пододвинуть ошкуренный чурбачок — посланный тебе каким-то милосердным божеством. Небось Тваштар-Плотник пожалел бедолагу, оттаял сердцем! Кудрявая макушка приходилась теперь вровень с центральным кувшином, а верхний край гонга блестел у тощих ключиц. Вот сейчас полированный металл отзовется, из руки царственного махаратхи вырвется смертоносная булава — и ты упадешь на мягкий зеленый ковер, ударишься оземь размозженной головой и не почувствуешь боли…
Ну и что?!
Удача… удача любит… смелых… а-а-а!
Чурбачок накренился, рукоять била отчаянно ткнулась в гонг — последним усилием, падая, мальчишка толкнул колотушку от живота — и медный гул поплыл над ристалищем.
В ответ пролился бесконечный дождь черепков от разнесенного вдребезги кувшина.
Пара глиняных собратьев прожила немногим дольше.
3 СЛЕПЕЦ
Слепой от рождения, он никогда не знал, что значит «видеть». Но с детства помнил о своей ущербности, ощущал ее, смирился как с неизбежностью. И все же внешняя тьма не сумела растворить в себе внутреннего стержня, той сути мужчин Лунной династии, что служила основой для легенд, блеклых перед правдой. Он был кшатрий по рождению. Царь, воин. Слепой царь? Собственно, почему бы и нет? Но слепой воин?!
Чушь!
Вот с этим он смириться не мог.
И однажды, решившись, пригласил в свои покои наставника Крипу — знаменитый Брахман-из-Ларца по имени Дрона тогда еще не явился в Хастинапур.
Разговор проходил с глазу на глаз. Короткий разговор. Очень короткий. Мужской. Вопрос и ответ.
Крипа дал согласие обучать Слепца воинскому искусству.
Нет, он не строил иллюзий на собственный счет. Ему не стать героем, грозой врагов. Никогда он не возглавит военный поход, не устремится на врага, посылая впереди себя оперенную смерть, не станет с высокого холма отдавать приказы, мановением руки перестраивая боевые порядки…
Но УМЕТЬ он должен.
Они занимались поздними вечерами, а затем — ночью. Втайне от досужих глаз. Слепец незряч, значит, и остальным здесь видеть нечего. Никому, кроме них двоих да еще верной супруги, которая лишь после зачатия детей поддалась на уговоры мужа и сняла с глаз повязку — знак своего добровольного ослепления.
Мастерство давалось кровью и потом. Он так толком и не выучился стрелять из лука или орудовать длинной пикой — зато бой на ближней дистанции стал поздней и безраздельной страстью Слепца. Секира, палица, парные кинжалы — здесь многое решала колоссальная сила слепого, а также умение чувствовать и предчувствовать, как не дано зрячему. Носорогом прорываясь вплотную и сбивая наставника наземь, прежде чем тот нанесет удар, он все чаще удостаивался похвалы молчаливого Крипы.
Слепец знал: доброе слово Крипы дорогого стоит.
Он только не знал, что всегда краснеет, выслушивая похвалу.
Иногда он думал, что борьбе и паличному бою сумеет когда-нибудь обучить сыновей или внуков.
В такие минуты он улыбался.
Потихоньку начали осваивать колесницу. Стать полноценным махаратхой Слепец и не мечтал, но намеревался сделать все, что сможет. Мало сохранять равновесие в «гнезде», не цепляясь за бортик при самых лихих разворотах, — учитель, выполняя роль суты, был безжалостен. Он выучился с убийственной меткостью посылать на звук метательную булаву — и не всякий зрячий сумел бы проделать это на всем скаку из подпрыгивающей на ухабах колесницы.
Крипа хвалил его, Слепец тихо гордился, жена искренне радовалась успехам мужа, но в последнее время Слепцу втемяшилась в голову новая, совершенно безумная блажь.
Хотя бы раз продемонстрировать свое искусство на людях! Доказать всем, что он, бельмастый калека, — мужчина, царь по праву и сути, а не только по милости и соизволению Грозного…
Один раз.
Всего один.
Разговоры о больших колесничных ристаниях начались в Городе Слона еще за полгода — и Слепец решился. Он знал, что его учителя (новый наставник Дрона был к тому времени посвящен в тайну) наверняка станут возражать. Потому решил держать все в секрете, раскрыв свой замысел лишь супруге и двоим преданным слугам.
Именно эти слуги и доставили во дворец найденного ими суту. Не местного — последнее было обязательным условием. Как царь, он вполне мог просто приказать оробевшему вознице, но он не приказал.
Он попросил.
И возница оценил жест царя.
Пожилой возница из дальнего городка Чампы в землях ангов, молчаливый человек, спокойно носивший имя Адиратха.
На благородном языке — Первый Колесничий.
Они занимались по ночам (Слепцу было все равно, а сута вскоре привык) на том самом ристалище, где должны были пройти состязания. Раз за разом колесница стремительно выходила на рубеж поражения цели, звучал гонг, в который с десяти шагов бросал гирьку малолетний сын возничего, и раз за разом булава Слепца разносила вдребезги кувшин-мишень.
Изредка он промахивался и тогда заставлял суту повторять все вновь и вновь, пока промахи не прекратились.
Тогда он попробовал поразить два кувшина подряд.
Затем — три.
А дальше настал день ристаний.
Его сута, оправдав собственное имя, выиграл первый тур, и Слепец в очередной раз порадовался удачному выбору слуг.
Теперь его очередь.
* * *
…Все было как всегда — и одновременно по-другому. Рядом грохотали колесницы соперников (Слепец слышал, как они отстают одна за другой), неистово визжали суты, взрывались криками трибуны. В какой-то момент Слепец испугался, что не услышит гонга, что все — зря, что…
Отчаянным усилием он взял себя в руки.
Второй круг.
Третий.
Все. Теперь — выход на дистанцию броска.
Слепец опустил ладони на рукояти метательных булав — и почти сразу ощутил беспокойство. Его ноздри чутко затрепетали, ловя резкий запах конского и человеческого пота, о боги! — от его суты исходил запах страха! Возница видел что-то, чего не мог видеть Слепец, видел, боялся, боялся до одури и все-таки продолжал гнать упряжку вперед, не сбавляя темпа!
Что случилось?
Но времени на раздумья уже не оставалось. Слева впереди раздался неожиданно смазанный удар гонга, а дальше руки Слепца действовали сами.
Он услышал, как разлетелся на куски первый кувшин, второй… третий!
И звук осыпающихся черепков заглушил радостный, звериный вопль его возницы, в котором слышалось невыразимое облегчение.
Слепец не сознавал, что сам он тоже кричит, что восторг души рвется наружу громовым кличем:
— Победа-а-а!!!
Постепенно замедляя бег, их колесница подъехала к царской ложе и остановилась. Под неистовые овации трибун Слепец медленно стащил с головы глухой шлем.
И почувствовал на себе восхищенный взгляд Деда.
Гангеи Грозного.
4 ПИР
— Во здравие победителя, Стойкого Государя из рода Куру, да продлятся его годы вечно, и да не изменит ему вовеки твердость руки!
Восседавший во главе стола победитель ощутил, как чаша в его руке (уже не столь твердой) вновь наполняется. И тяжело вздохнул. Здравиц произносилось множество, а пить он не любил и не умел.
Увы, пиршество было в самом разгаре, и конца-краю ему не предвиделось.
Что ж, придется терпеть. Таково бремя славы. Хотел оправдать имя Стойкого Государя — изволь быть стойким!
Слепец в очередной раз вспомнил потрясенное молчание трибун, когда зрители увидели его лицо, лицо слепого — победителя зрячих. И потом искренние поздравления довольного донельзя Грозного, незлое ворчание наставника Крипы, тоже гордого своим учеником, безмолвное обожание, исходящее от прижавшейся к нему супруги…
Она и сейчас рядом, по левую руку — волна тепла и нежности, нечаянный подарок судьбы.
А по правую руку сидел его сута, тот человек, которому он был обязан нынешней победой.
Вообще-то ни женщинам, ни возницам не полагалось присутствовать на пиршествах царей и знати, но кто осмелился бы перечить сегодняшней воле Слепца?!
— А я в ответ поднимаю эту чашу за моего возницу, чьи руки держали поводья нашего общего триумфа! Отныне он будет всегда вести вперед колесницу Стойкого Государя! Да благословят тебя боги, тебя и твое непревзойденное искусство, о Первый Колесничий! — громко провозгласил Слепец, поворачивая бельмастое лицо к герою здравицы.
Застолье одобрительно зашумело, почтив смущенного возницу очередным возлиянием. Все были уже изрядно навеселе и мало вникали в смысл произносимых здравиц. Предлагают еще за что-то выпить? Отлично! Наливай!
Тем временем Слепец наклонился к сидевшему рядом суте и шепотом поинтересовался:
— Я почувствовал твой испуг перед самым финишем. Что там случилось?
— Я испугался за своего сына, господин. Помнишь, обычно он бросал в гонг гирьки с десяти шагов?
— Помню, — кивнул Слепец. — Я иногда слышал, где он стоит.
Такое можно услыхать только от незрячего: «слышал, где стоит».
Но сута привык.
— А сегодня в самый последний момент стражник поймал его возле мишеней, отобрал гирьки и прогнал взашей.
Раскаленная игла пронзила сердце: победы могло и не быть! Из-за бдительного стража, из-за самой мелкой из мелочей…
— Как же ему удалось подать сигнал?
— Он вернулся и в нужное время ударил в гонг колотушкой. Миг промедления — булава господина убила бы его! По счастью, он успел упасть…
Мгновение Слепец потрясенно молчал.
— Я не знал этого, — наконец проговорил он. — Блажен отец сына-героя! Ведь мальчик рисковал жизнью и не мог не понимать этого! Кстати, где он сейчас?
— В помещении для слуг, мой господин.
Слепец молча снял с левого запястья витой браслет — золотую змею с крупным изумрудом в пасти — и протянул драгоценность изумленному вознице.
— Отдай сыну. Скажи, что я от всей души благодарю его за храбрость. И еще… скажи, что больше всего на свете я хотел бы сейчас увидеть его. Но в этом мне отказано.
— Благодарю тебя, мой господин! Разреши мне отлучиться: я хочу порадовать сына немедленно!
— Иди, — с улыбкой кивнул Слепец.
Ему было приятно, что он сумел доставить радость двум верным людям. Незрячий наследник Лунной династии обладал редким, особенно среди царей, даром: он умел радоваться счастью ближних.
Может быть, потому, что не так уж часто бывал счастлив сам.
5 ДРАКА
— Ты что здесь делаешь?!
Очень знакомый вопрос. И очень знакомый тон. Надменный, хозяйский. Только голос совсем другой.
Детский.
Поэтому мальчишка обернулся лениво, можно даже сказать, с достоинством. И смерил взглядом того, кто задал ему вопрос, отнюдь не торопясь с ответом.
Измерения оказались не в пользу вопрошавшего: он был на голову ниже и года на два-три младше. Роскошь одежд, крашенных мореной в пурпур, барственный вид и четверка братьев за спиной (сходство было неуловимым, но явным) дела не меняли.
«Шел бы ты, барчук…» — ясно читалось в карих глазах сына Первого Колесничего, чьи кулаки успели снискать ему изрядную славу меж юных драчунов Чампы.
— Отвечай, когда тебя спрашивают, голодранец! — пискляво крикнул самый маленький из пятерки задир, выпячивая цыплячью грудь и стараясь казаться выше ростом.
Получалось слабо.
— Он даже не голодранец, — с ехидством улыбнулся барчук-вожак. — Он просто голый. Фазан ощипанный.
И вся компания буквально покатилась со смеху.
— Не голый, а неодетый, — хмуро бросил мальчишка, удивляясь тупости столичных жителей.
Ведь каждому дураку понятно: голый человек — это когда на нем вообще нет одежды. Никакой. Голым нельзя садиться за еду, голым нельзя выходить на улицу, а уж о вознесении молитв и говорить нечего. Зато если обернуть вокруг талии веревочку и пропустить между ног тряпочку, заткнув ее концы спереди и сзади за импровизированный поясок, человек уже считается неодетым. И вполне может вести беседу или вкушать пищу. Срамные места прикрыты? — значит, все в порядке. ничего позорного или смешного в этом нет: жарко ведь! Попробуй побегай за козами в одежке по нашей-то духоте! Ну если, конечно, ты бегаешь за козами, а за тобой бегают слуги с опахалами — тогда другое дело…
Впрочем, слуг с опахалами поблизости не наблюдалось. Юные барчуки явно исхитрились улизнуть из-под надоедливой опеки и отправились на поиски приключений.
Одно приключение, в лице голого-неодетого сына суты, они уже нашли.
В ответ на его заявление братья развеселились еще больше, наперебой вопя о «голых дикарях, которые вместо одежды носят татуировку». Наконец старшему надоело веселиться просто так. И поскольку незнакомый мальчишка плевать хотел на изысканные шуточки, он решил испытать другой подход.
— Ты до сих пор не ответил на мой вопрос, дерзкий! — строго заявил барчук, глядя на «дерзкого» снизу вверх. — Отвечай, кто ты такой и что здесь делаешь?
Сын возницы вспомнил, что без разрешения покинул павильон для слуг, отправясь бродить по парку, и решил на всякий случай ответить.
Еще стражу кликнут, козлы приставучие…
— Я — Карна, сын Первого Колесничего, победителя сегодняшних ристаний! — гордо выпалил он. — Жду отца, которого пригласили на царский пир.
Ответ прозвучал, и теперь пора было вернуть утраченные позиции. Мальчишеский кодекс отношений — это вам, уважаемые, не какой-нибудь «Трактат о приобретении союзников и укрощении врагов»! Тут головой думать надо…
— А ты сам кто такой? — поинтересовался Карна в свою очередь. — Небось сынок дворцового хлебодара? Беги лучше домой, а то маменька заругается! Отполирует задницу, будешь тогда знать!
От такой вопиющей дерзости барчук едва не задохнулся.
— Я… я… Да как ты смеешь! Чтоб какой-то поганый сутин сын, нет — сукин…
Договорить оскорбленный в лучших чувствах барчук не успел. Молча отодвинув брата в сторону, перед Карной возник мордастый пацан, до того ржавший громче всех.
— Он сердится! — возвестил мордастый, гулко ударяя себя в грудь.
Пока Карна размышлял, что бы это значило, мордастый размахнулся сплеча и влепил сыну возницы увесистую оплеуху.
Обид Карна сносить не привык. Одиннадцать лет — возраст поступков, а не тайных кукишей за пазухой. Поэтому в следующее мгновение мордастый уже катился по земле от ответной затрещины. Досталось и барчуку — за «сутиного-сукиного сына», в общем, не прошло и минуты, как дрались все. Естественно, впятером против одного. И хотя Карна был старше и сильнее любого из братьев, численное превосходство вскоре стало сказываться.
Маленькие кшатрии били всерьез, ловко и умело. Карне пригодился весь опыт потасовок, каких в его жизни было преизрядно: он отмахивался, вертясь взбесившимся волчком, раздавал тумаки направо и налево, и вдруг ему показалось, что голова от очередного удара пошла кругом. Тонкий комариный звон поплыл в ушах, смазывая все окружающие звуки, призрачным маревом окутывая мальчишку… бесплотное сверло вонзилось в затылочную ямку и пошло дальше, вгрызаясь в самую сердцевину души.
Карна болезненно сморщился и ощутил, как неистово зудит татуировка, которая с рождения покрывала его медно-красное тело. Мальчишке частенько доставалось на орехи от сверстников, желавших превратить татуированного приятеля в живую потеху, вторым поводом для насмешек были серьги, намертво вросшие в его уши. Правда, вспыльчивость Ушастика-Карны, сразу кидавшегося в бой, успела поостудить горячие головы чампийских удальцов, и повод для насмешек мало-помалу превратился в символ доблести.
Зуд сменился ледяным ожогом, яростно запульсировали серьги в ушах, и кожа внезапно отвердела, застывая живым панцирем. Почти сразу барчук отскочил с изумленным воплем, вдрызг рассадив костяшки пальцев о живот Карны.
Пространство вокруг сына возницы наполнилось сиянием, и сияние это текло воздушными прядями, водными струями, подсвеченными восходящим светилом. Движения врагов замедлились, их пинки все реже достигали цели, в то время как сам Карна чувствовал себя разъяренной коброй. Торжественный переливчатый звон навевал покой и уверенность, окружавший свет давал силу, чудесные латы могли отразить любой удар, не стесняя при этом движений, и противники в страхе жмурились, словно пытались глядеть на раскаленный диск полуденного солнца.
Что из всего этого было на самом деле? Что — только чудилось?
Трудно сказать.
Зачарованный собственными, непонятно откуда взявшимися возможностями, Карна вообще перестал отвечать на удары наглых братьев, позволяя им бить себя и наслаждаясь ответными стонами, но в этот миг сквозь торжественный перезвон молнией прорвался крик:
— Пятеро на одного? Нечестно! Бешеный, помогай, эти бледные поганки впятером одного бьют! Сейчас мы их…
— Эй, парень, держись! Держись, говорю, мы уже идем!..
Прорванная чужими голосами дыра быстро расширялась. Чудесный звон рассыпался замком из песка, уходил в глубины сознания — и медленно меркли сияющие латы на теле сына возницы.
Становясь обычной татуировкой.
— А, Волчебрюх! Пол-лучи!
— Бей уродов!
Сияющее марево гасло, мир становился прежним. Карна получил болезненный тычок под ребра, махнул кулаком в ответ, расквашивая чей-то нос…
Обыкновенная мальчишеская драка. И никаких чудес.
Просто двое других мальчишек весьма удачно пришли к нему на помощь.
— Пр-р-рекр-ратить!!!
Все замерли, словно на мгновение окаменев. Только мордастый Волчебрюх не сумел замереть, ибо как раз летел мордой в пыль от подножки, которую подставил ему сын возницы.
Все семеро, затаив дыхание, проследили за падением крепыша.
Плюх!
— Здорово ты его! — обернулся к Карне первый из добровольных помощников, ужасно похожий телосложением на поверженного Волчебрюха. — Мне так в жизни не суметь! Покажешь потом?
— Итак, кто зачинщик драки?! — Тон возвышавшегося над ними мужчины лет тридцати, одетого дорого и изысканно, не предвещал ничего хорошего.
— Это все он, дядя Видура, все этот сутин сын! — заспешил барчук, опасливо трогая ссадину на щеке.
— Что? — грозно свел брови на переносице дядя Видура. — Сын суты посмел оскорбить царевичей рукоприкладством?!
— Вранье! Они сами первые начали! — мигом вспух пришедший на выручку поборник справедливости. — Правда, Бешеный?
— Правда! Они первые! Они всегда первые…
— Врете вы все! И ты, Боец, и твой брат Бешеный! Это он первый… он! Дикарь татуированный! Казнить его надо!
— Это тебя казнить надо!
— Да я тебя!..
— Ты — меня?! Да это я тебя…
— Он сердится! Он очень сердится!..
— МОЛЧАТЬ!!! ВСЕМ!!! — Повелительный рык дяди Видуры вынудил заткнуться разбушевавшуюся молодежь. — А тебе что здесь надо, несчастный?
— Прошу прощения, мой господин! — Пожилой возница спешно припал к ногам Видуры. — Но я отец этого мальчика. Позволено ли мне будет узнать, что он натворил? Если он виноват, я сам накажу его!
— Да будет тебе известно, — злорадно объявил дядя Видура, — что твой дерзкий сын поднял руку на детей раджи Панду! И теперь его, весьма вероятно, ожидает мучительная казнь!
— А я не позволю его казнить! — вдруг решительно заявил вступившийся за Карну Боец. — Шиш вам всем, ясно?!
— Не позволим! — немедленно поддержал его Бешеный.
Было видно: прикажи Боец Бешеному кинуться в пропасть, и тот выполнит приказ брата без промедления.
А пожилой возница смотрел на защитников своего сына и втайне удивлялся их сходству со слепым махаратхой, героем сегодняшнего дня.
— Мы — старшие наследники Лунной династии! И не тебе, Видуре-Законнику, сыну шудры, Подрывающему Чистоту[11], решать, кого здесь казнить, а кого миловать! — надменно взглянул восьмилетний Боец на дядю Видуру, и тот дернулся, как от пощечины.
Но смолчал.
Умен был, умен и осторожен. Сыновья раджи-Слепца бьют сыновей раджи-Альбиноса из-за худородного? — значит, так тому и быть. Обождем, пока племянники вволю натешатся…
Дядя Видура не хотел ссориться со слепым братом. Особенно после того, как в час рождения вот этого гордого Бойца, сопровождавшийся дурными знамениями, совершил ошибку.
Опрометчиво посоветовав бельмастому отцу избавиться от ребенка.
С тех пор между братьями словно мышь пробежала.
— Не бойся, ничего они тебе не сделают, — обернулся Боец к сыну суты.
— А я и не боюсь! — Карна подбоченился, хотя ему и было страшновато.
— Вот! Вот такой друг мне нужен! — радостно воскликнул Боец. — Будешь моим другом?
— Буду! — не раздумывая, ответил Карна, которому сразу пришелся по душе этот парень.
— Здорово ты Волчебрюху наподдал! Слушай, Бешеный, давай попросим Наставника Дрону, чтобы он и его учил вместе с нами!
— Наставник не будет учить этого дикаря! — выкрикнул один из пятерых зачинщиков, беловолосый и гибкий малыш, но Боец с Бешеным не обратили на крикуна никакого внимания.
— Что, папа, пир уже закончился? Нам пора уезжать? — спросил тем временем Карна у белого как известь отца.
— Нет. Просто раджа-победитель велел мне передать тебе этот браслет и свою благодарность в придачу. Он оставляет меня здесь, в Хастинапуре, и делает своим главным конюшим. Завтра поедем за мамой…
— Ух ты! — восхитился Карна, не зная, чему больше радоваться: подаренному браслету или тому, что его отец теперь — главный конюший раджи.
— Раджа-победитель — мой папа, — важно заявил Боец. — Я ему скажу, и он велит Наставнику Дроне, чтоб тебя учили вместе со мной.
Карна не знал, кто такой Наставник Дрона, но по тону почувствовал: Боец явно хочет сделать для нового друга что-то хорошее.
— Спасибо, царевич, — обернулся Карна к маленькому защитнику и склонился перед ним.
— Поднимись. И зови меня другом, — ответил тот. Потом подумал и гордо добавил:
— Или Бойцом.
* * *
Никто не видел, как за этой сценой украдкой наблюдала молодая женщина в темной накидке, притаившись в тени ближнего павильона. Сердце ее отчаянно колотилось, взор застилали слезы, но, несмотря на это, царица Кунти со смешным прозвищем Ладошка, дочь знаменитого царя Шуры и мать троих из пятерки драчливых братьев, видела все ясней ясного.
И не могла не узнать мальчика со странными серьгами вместо мочек ушей и татуированным телом.
Ребенка, казалось бы, безвозвратно утерянного ею одиннадцать лет назад.
В это время родного племянника царицы Кунти, плута и весельчака, уже прозвали в народе Черным Баламутом.
Часть вторая СУТИН СЫН
Кто в силах, протянув свою правую руку, вырвать зуб у ядовитой змеи? Кто, умастив себя маслом и облачась в лохмотья, способен пройти через огонь, питаемый жиром и салом? Кто, связав себя и привесив на шею огромный камень, может переправиться через океан? Лишь усердный читатель этих превосходных сказаний, благо ему и нам!
Глава III ВСЕ ЗЛО ОТ ЛАНЕЙ
1 БАБЫ
Бабы — это такая штука, Боец ты мой…
Карна умолк и надолго задумался.
Если бы царственный Слепец, законный правитель Города Слона и всей державы Кауравов, видел сейчас выражение лиц своих старших сыновей — Бойца с Бешеным, он бы тоже задумался надолго.
Решая, стоит ли длить общение невинных царевичей с этим долговязым кобелем? Или проще подложить чадам по искусной гетере и вздохнуть облегченно:
«Растут дети…»
Дети и впрямь росли Особенно Карна. За истекшие три с лишним года он вдруг вытянулся гималайским кедром, на полголовы обогнав собственного отца, длинные руки-ноги налились силой, и вся нескладность, какая частенько преследует подростков на рубеже пятнадцатилетия, в испуге удрала прочь. Горбоносый и кареглазый, сын возницы выглядел старше, чем был на самом деле, а женщины… О, женщины просто млели при виде Ушастика. Бог их разберет, этих женщин, да еще и не всякий бог: хочешь им понравиться, из кожи вон выпрыгиваешь, так они нос воротят, а глянешь хмуро — вот они табуном, кобылы… Тайна сия велика есть. И не юнцу-сорвиголове, пусть даже и татуированному, и с вросшими в уши серьгами, в тайнах сих разбираться.
Карна и не особо стремился разобраться. Он просто принимал любовь женщин как должное, щедро одаривая юной силой всех: от девиц, состоящих при дворцовом антахпуре, до пышных хохотушек, гулен из веселых кварталов за рыночной площадью. Разбрасывая дары-искусы светом, раздавая теплом: так Лучистый Сурья любит все живое без корысти-умысла, просто потому что Сурья и потому что Лучистый. И многие, многие красавицы говаривали Карне: дескать, в минуты любовного экстаза они чувствуют себя под лучами вечернего светила. Когда солнце уже не палит всей полдневной мощью, а ласково оглаживает кожу множеством теплых пальцев.
И женщины всегда щурились, глядя в такие моменты на раскрасневшегося Ушастика. Ладонью прикрывались, смеялись, моргая. Словно и впрямь на солнце глядели.
Зато сам сын возницы никогда не щурился, в упор глядя на пламенное божество в небе.
— Бабы — это…
Карна тяжело вздохнул, отчаявшись найти нужные слова, и подвел итог:
— Бабы, Боец, — это бабы. Вот свожу тебя куда следует, сам поймешь.
Коренастый Боец с завистью глядел на старшего приятеля. Он очень боялся того дня, когда Карна и впрямь сводит его куда следует, но еще больше он боялся в этом признаться. Мальчишек связывала странная дружба, где каждый был одновременно и покровителем, и опекаемым. Вспыльчивый Карна по воле судьбы родился доверху набитым гордыней, достойной Миродержца, и эта гордыня весьма некстати прорывалась наружу. Чаще, чем следовало бы в окружении сплошных наследников чуть ли не всех царских семей Великой Бхараты. Поди-ка сдержись, когда за спиной корчат рожи и выкрикивают хором:
— Сутин сын! Сутин сын!
Кулаки сами лезут почесаться об очередного раджонка.
Умом-то Карна понимал: все эти пышно разодетые индюки, ученики хастинапурских воевод скорее заложники Грозного, чем знатные гости. Гарантия миролюбия их отцов, залог повиновения земель… Да и платят владетельные папаши изрядно: вроде и не дань, вроде мзда за сыновнюю науку, а возы так и прут в Город Слона!
Впору пожалеть дураков. Стерпеть, смолчать, как подобает единственно свободному меж связанных по рукам и ногам невидимыми узами…
Увы, кулаки почему-то всегда опережали умственные выводы.
Но после очередной драки упрямец-Боец вновь и вновь горой становился на защиту дерзкого Ушастика. Всем пылом яростного сердца, всем жаром не по-царски распахнутой души. Умел ненавидеть, умел и любить. Сопел, грубил наставникам, чихать хотел на свое родовое достоинство, однажды даже вовсе пригрозил массовым неповиновением в случае изгнания лучшего друга. Наставники прекрасно знали: угроза Бойца отнюдь не поза и не мальчишеская дурь. Стоило первенцу Слепца приказать… да что там приказать! Стоило ему бровью повести — и Бешеный во главе остальных девяноста восьми братьев-Кауравов слепо исполняли волю Бойца без раздумий или колебаний.
Не зря, видать, рождались в сосудах-тыковках под бдительным присмотром самого Черного Островитянина.
Наворожил, урод… в смысле, мудрец.
Приходилось терпеть, ограничиваясь поркой и вразумлением скандального Карны.
Драли, как сиддхову козу, но помогало слабо.
— А я с вами по бабам не пойду, — вдруг ляпнул Бешеный, ожесточенно кромсая кусок дерна бронзовым ножичком, подарком Карны. — Хоть режьте, не пойду. Вот.
Все еще удивлялись: захоти Бешеный, к услугам царевича были бы сотни, тысячи ножей! Из лучшего булата, с черенами, оправленными в золото, с яхонтовыми яблоками…
Ан нет, таскает эту дрянь.
— Боится! — радостно возопил Боец, ужасно довольный, что он боится не один. — Слышь, Карна: Бешеный боится!
— Ну и боюсь, — буркнул Бешеный. Подумал, ковырнул ножичком земляного червяка и добавил ни к селу ни к городу:
— Помирают от них, от баб ваших… насовсем. Вот. А я жить хочу. Я еще маленький… молодой я.
Карна не выдержал и расхохотался.
— Это ты что-то путаешь, друг-Бешеный. Не помирают, а совсем наоборот. Если, конечно, у бабы ума не достанет остеречься…
— Помирают, — стоял на своем Бешеный, морща нос, похожий на клубень растения гандуша.
— Ну, кто, кто помер? Назови хоть одного!
Бешеный презрительно цыкнул слюной на растерзанный дерн: дескать, нам это раз плюнуть!
— У дедушки Грозного сводный брат помер. Тыщу лет назад. Вот. Женили его, бедолагу, сразу на двоих, он годков семь промучился и концы отдал. Понял, Ушастик?
Карна скосился на Бойца. Тот уныло кивнул: правда, мол. Тебе хорошо, тебя родословную зубрить не заставляют… а мы-то весь гранит насквозь прогрызли, до самого Бхараты-Колесовращателя!
«Две жены? — попытался представить себе Карна. — У папы одна… и, наверное, правильно, что одна. Две просто бабы и две жены, если законные, — да, прав Бешеный, это большая разница!»
— И дядя наш от того же самого помер, — вдруг насупился Боец, испуганно глядя на брата. — Вчера, на закате. Сегодня жечь будут.
— Что, тоже от баб?
Карна удивился. Разумеется, он (как и весь Хастинапур сверху донизу) уже знал о внезапной кончине Панду-Альбиноса, отца пятерки братьев-Пандавов, заклятых врагов сутиного сына. Но причина смерти молодого и полного сил раджи была ему неизвестна.
— Угу. — Взгляд Бойца совсем потух. — Прямо на тете Мадре и нашли. Мертвого. Тетка чувств лишилась, пластом лежала под трупом… бедная. Я сам слышал, как наставники друг дружке рассказывали…
Карна озабоченно прислушался к собственным ощущениям. Да нет, все в порядке. Живее всех живых. Все-таки это от жен помирают. Вон у Альбиноса, сферы ему небесные, тоже две супруги было. Как у этого ихнего… двоюродного сводного дедушки.
А холостым все как с фламинго вода.
Или, может, это вообще только царям грозит?
Грустные размышления прервал слуга: пухленький скопец-крючконосик, завернутый в бхутову уйму тканей всех цветов радуги.
— Высокородных царевичей призывают для подготовки к участию в погребальном обряде! — загнусавил попугай, нетерпеливо топчась на месте. — Высокородных царевичей… призывают…
Высокородные царевичи обреченно развели руками. Втайне они завидовали Карне, которого никто и не собирался призывать для участия. Более того, лишь юродивому втемяшилось бы в голову звать сутиного сына постоять у царского костра! Небось при виде такого святотатства сам покойный Альбинос восстал бы из мертвых!
И теперь блудливый Ушастик вполне может пойти к своим замечательным бабам, а горемычные Боец с Бешеным… Умывать их станут, уши чистить, диадем гору нацепят!
Скучища!
Нет, сыновья Слепца не были бесчувственными идолами.
Просто смерть человека, пусть даже родного дяди, к которому ты был в лучшем случае безразличен, воспринимается двенадцатилетними мальчуганами по— своему.
Жестокость?
Ничего подобного, просто жизнь отторгает смерть и иначе не умеет.
…Карна смотрел им вслед и думал, что умереть на собственной жене — не такая уж плохая смерть. Пожалуй, даже хорошая. Мужская смерть. Он и сам бы не прочь… лет эдак в сто пятьдесят. И после выполнения супружеских обязанностей.
Но охоту идти по бабам отшибло начисто. Конечно, пропадал совершенно роскошный день — в связи с тризной по Альбиносу все занятия были отменены. А, пропадай, не жалко! Карна плохо понимал, что держит его на территории дворца, где он никому не нужен (во всяком случае, сегодня), просто настроение вконец испортилось, на душе скребли хорьки, и вообще…
Сутин сын поймал себя на странной мысли.
Он думал о крыше павильона для малых собраний.
О крыше, с которой вполне можно наблюдать за погребальным костром, оставаясь незамеченным.
2 КОСТЕР
Лежать ничком на раскаленной за день крыше, подставив голую спину уходящему солнцу, было приятно. Скажи кто тебе, что только сумасброд Ушастик мог испытывать удовольствие от пребывания на этой сковородке, — ты сильно удивился бы. Жарко? Вот еще глупости! А одежду, чтоб потом не воняла, и скинуть недолго. Ты никогда не задумывался над своей противоестественной тягой к жаре. В полдень, в самое пекло, когда все прячутся в тень и утирают пот, ты обычно бежал к ближайшей речке или водоему. О нет, отнюдь не за прохладой! Зайдя в воду до колен, ты застывал истуканом со сложенными перед грудью ладонями и…
Тихо пульсировали серьги, намертво влитые в плоть, тысячью струн звенел горячий воздух, татуировка мало-помалу вспухала на теле, словно жилы на напрягшейся руке, и Жар струился в ней, омывая тебя силой.
Горы своротить — раз плюнуть!
Но бежать на поиски гор казалось глупым, да и сила была не той щенячьей породы, что требует сиюминутного подтверждения.
Слова обычно приходили сами. Ты понятия не имел, что доподлинно цитируешь гимны, посвященные огненному Вивасвяту, небесному Савитару-Спасителю, Лучистому Сурье! Святым Ведам сутиного сына не учили. Полагали излишней роскошью. Сам же ты искренне верил, что просто поешь от восторга, не очень-то вдумываясь в смысл собственной песни. В эти минуты ты чувствовал себя солнцем, раздающим благо без предвзятости и выбора, дарителем света, источником тепла… А слова… что слова? Пришли ниоткуда и уйдут в никуда.
Однажды, в очередной полдень, мелкий воришка утащил твои новенькие сандалии, оставленные на берегу. Тебе не составило бы труда догнать воришку и надавать проходимцу тумаков, но такой абсолютно здравый поступок внезапно показался чуть ли не святотатством.
Бедняге нужны сандалии? Пусть берет, босяк. Мама будет ругаться? Отец откажется покупать новые (не из скупости, а из строгости)? Пожалуйста. Все под одним солнцем ходим: и я, и мама, и воришка, и Гангея Грозный.
Хотите мою жизнь, люди?
Просите — отдам.
Потом полдень заканчивался, ты приходил в себя и спешил обратно. По возвращении наставники косились на тебя, хмыкали и пожимали плечами. А измученные зноем раджата вполголоса дразнились «быдлом».
* * *
…На душистой поленнице из цельных стволов ямала, перевитых сухими лианами, возвышалась колесница. Под белым стягом Лунной династии. Под белым царским зонтом. Застеленная шкурами белых гарн. С золочеными поручнями и бортиками.
А на колеснице восседал труп в красном.
Карна до рези под веками всматривался в покойного Альбиноса, сам себе
удивляясь, зачем он это делает, но черт лица разглядеть не смог. Красный куль, и все. «Мертвый — не человек, — вдруг подумалось Ушастику. — Не ВЕСЬ человек. Мертвый — это действительно куль, брошенный за ненадобностью. Только одни сбрасывают ношу по собственной воле, выбрав час и место, а другие тянут, коптят небо, латают прорехи… глупцы».
Мысль была странной.
От нее тянуло полднем и зудом в татуировке.
Вокруг поленницы гуськом бродили брахманы, шепча заупокойные мантры и плеща на дрова топленым маслом. Потом один из них взобрался наверх и стал умащать покойника кокосовым молоком, смешанным с черным алоэ и соком лотоса, а также покрыл ладони раджи шафрановой мазью. Следить за жрецами было неинтересно, и Карна стал разглядывать собравшихся.
Вон друг-Боец, рядом со слепым отцом. Одеяния цвета парного молока, гирлянды до пупа, а сам Боец хмур. Насупился, губу закусил. В землю смотрит. То ли дядю жалко, то ли стоять скучно. Чуть позади Бешеный топчется. Вот этому непоседе наверняка скучно. До одури. Того и гляди что-нибудь выкинет. А дальше вс немереная толпа остальных чад Слепца колышется тучей.
Ждут.
Вон враги-Пандавы, свежеиспеченные сироты. Под желтыми зонтами. Младшие близняшки ревут беззвучно, всхлипывают, утирают глаза ладошками, троица старших держится. Хорошо держится, по-мужски. Жалко их. Честное слово, жалко. А ну как у меня папа умер бы, не приведи Яма-Князь?! Ишь, только подумал, а сердце уже ледяным шилом насквозь. Не люблю я вас, парни, да разве ж в этом сейчас дело?!
Люблю, не люблю… глупости.
Вон сам Гангея Грозный с советниками-наставниками. Седой чуб по ветру плещет. Серьга с рубином в ухе. Громадина старик, такой нас всех переживет. Да и переживает помаленьку. Братья мрут, племяши мрут как мухи, а ему хоть бы хны. Сажает на трон одного за другим, теперь вот Слепцом на престоле закрылся, будто щитом в бою, — и правит. Вся Великая Бхарата на него чуть не молится. Еще бы: сын Ганги, победитель Рамы-с-Топором, без малого Чакравартин всея земли… Ну его.
Пусть стоит.
Возле Грозного — Наставник Дрона. Брахман-из-Ларца. Нахохлился, желваки на скулах катает, губами жует. Вот уж кого не люблю. Дай ему волю, давным— давно погнал бы меня в три шеи. Зазорно ему сутиного сына воинскому делу учить. А учит. И честно учит. Ничего не скрывает, сколько раджатам, столько и мне. Я б так в жизни не смог: хотеть прогнать и учить. Нет, не смог бы. Уважаю.
Шиш я от тебя сбегу, хитрый Дрона!.. Учи. Всему учи. Без остаточка.
Ага, а вон и бабы… в смысле, женщины. Жены трупа. Царицы Кунти и Мадра. Одна стройная, хрупкая, по сей день юной ашокой тянется, вторая в соку. Пухлая. Нравится. Недаром имя Мадра на благородном значит «Радость». Радость и есть. На такой и помереть за счастье. Грех так о вдовах, тем паче о царских вдовах, а все равно — нравится. Кобель я, правы наставники. Это небось поверх нее Альбиноса-покойника и сыскали. А стройная Кунти на Мадру-Радость зверюгой косится. Вот-вот сожрет и косточки выплюнет. Нет, две жены все же многовато. Надо одну… а остальных — по обычаю гандхарвов. По любви — и концы в воду.
Взгляд упрямо не желал скользить дальше. Крючком зацепился за вдовых цариц. Вон из-за плеча старшей, Кунти-худышки, мама выглядывает. Приблизила маму царица. В покои взяла. Сопровождать всюду велит. Платит щедро, одаривает сверх меры. Это хорошо. И папа говорит, что хорошо. Зато мама жалуется: взбалмошна царица. Начнет выспрашивать у доверенной служанки о ее семейном житье-бытье, словно невзначай переведет разговор на сына, на Карну то есть, а потом злится. Кричит без причины. Дерется иногда. Небольно: шпилькой ткнет слегонца или там ущипнет. После остынет, устыдится и браслет сунет. Мама и простит. А я бы не простил. Я бы сам — шпилькой. Особенно когда царица Кунти меня к себе зовет.
Полюбился я ей, что ли? Усадит в покоях, маму рядом поставит, чтоб никто дурного и в мыслях не держал, вкусненьким кормит. Говорит: если обижают, мне жалуйся! Что я, перуном трахнутый, ей же на ее собственных сыновей жаловаться! Молчу, жую, а она мне о всяких пустяках… и все по голове погладить норовит.
Мама просила папе не рассказывать.
Это правильно. Кому не известно, как через таких вот цариц наш брат страдает? Откажешь ей, тебя же клеветой и обольет.
Оскопят потом или вовсе на кол посадят.
Ладно, стерплю… ради мамы.
Карна с усилием мотнул головой, заставляя себя смотреть в другую сторону. И обнаружил, что голые по пояс факельщики уже бегают вдоль поленницы, тыча живым огнем в смолистую ямалу. Вспыхнули лианы, язычки пламени засновали меж стволами, превращаясь в ослепительно гнедых жеребцов, самовольно впрягаясь в последнюю колесницу Альбиноса. Ветер рванул рыжие гривы, упряжка заржала, вздыбилась — и понесла алоглазого царя на юг, в царство Петлерукого Ямы.
Рукотворное чистилище разверзлось перед взором собравшихся. Медовоокий Агни вылизывал все прегрешения раджи, очищая душу добела, суля в грядущем жизнь новую, прекрасную, истинно райскую, где молочные реки в кисельных берегах текут под небом в алмазах…
Карна зажмурился.
Вот она, смерть.
Настоящая.
Чей жар не в пример горячей полуденного солнца.
Воображение вдруг нарисовало небывалую картину: пламя срывается с привязи, хлещет плетьми во все стороны, и все люди окрашиваются алым. Корчатся в огненной пасти. Друг дружку рвут, словно лишний миг жизни вырвать пытаются. Гангея Грозный вцепился в сирот-Пандавов, Наставник Дрона зубами грызет вдовых цариц, Боец с Бешеным душат раджат-заложников.
А вот и он, Карна. Убивает. Всех, кто попадется под руку. Всех. Убивает. И пламя хохочет, заставляя серьги в ушах исходить надрывным стоном.
Страшно.
Впервые в жизни.
Оглохнуть бы, ослепнуть!.. Ан нет, мара лишь ширится и голосит кто-то вдалеке гласом громким, захлебывается отчаянием:
Здесь отцы, наставники наши, Сыновья здесь стоят и деды, Дядья, внуки, шурины, свекры, Друг на друга восставшие в гневе.
Что за грех великий, о горе, Совершить вознамерились все мы!
Ведь родных мы убить готовы, Домогаясь услад и царства…
А пасть скалится дикой ухмылкой, дышит в лицо жутким смрадом-ароматом горящего сандала пополам с горелой требухой, и летят в нее люди, земли, горы… пропадают пропадом.
Навсегда.
— …Это она! Это она виновата, тварь! Сгубила мужа, сука подзаборная! Сгубила! Радуйся теперь! Пляши!
Карна открыл глаза.
И не сразу понял, что кричит старшая из жен Альбиноса, мамина благодетельница Кунти.
— Радуйся, тварь!
Костер полыхал вовсю, струйки золота слезами Владыки Сокровищ текли по остову колесницы, и хастинапурские владыки изумленно смотрели на кричащую женщину.
Царица Кунти со страшно искаженным лицом стояла перед царицей Мадрой.
Старшая жена перед младшей.
Вдова — перед вдовой.
— Это она! Это она виновата!..
На миг все замерло. Казалось, даже пламя придержало свой размах, вслушиваясь в нелепое, неуместное обвинение.
А потом царица Мадра разбежалась и бросилась в ад, как бросаются летним днем в речную стремнину.
С воплем облегчения.
Вслед за мужем.
* * *
В наступившей суматохе никому не было дела до соглядатая на крыше павильона и его поспешного бегства.
Только каменщик, тихо чинивший бортик восьмиугольной купальни, заметил Карну — тот как раз стремглав несся прочь, соскользнув на землю.
Каменщик сделал вид, что ему соринка в глаз попала.
Каменщику абсолютно не хотелось связываться с этим обормотом, здоровенным не по летам фаворитом наследников.
Подглядывал?
Ну и пусть.
Он вспомнит увиденное примерно через полгода.
И развяжет язык.
Сперва на дворцовой кухне, а там дойдет и выше.
3 СОВЕТ
— Мне очень не нравится эта смерть! — Приглушенный рык Грозного упругой волной раскатился по комнате. Прилип к стенам, окутанным бархатом сумерек, затаился в темноте углов, готовясь при необходимости вернуться эхом в любой момент.
Сомнительно, чтоб кому-либо из собравшихся здесь людей могла понравиться внезапная кончина Панду-Альбиноса. Тем не менее никто не выразил удивления и ничего не возразил. Эти люди умели слушать и сопоставлять, медля с публичными заявлениями. Спросят — ответят. Не спросят — так и будут морщить лбы и топорщить бороды.
Мудрость — умение долго думать и коротко говорить Увы, многие в нашей скорбной юдоли уверены в обратном.
Шестеро пожилых советников (двое воевод, остальные — брахманы) да еще Наставник Дрона — вот кого собрал на ночной совет Гангея Грозный. Собрал не в официальной зале, а в уединенных тайных покоях западного крыла дворца.
Смутные подозрения терзали вечного регента. Тревожные предчувствия и ощущение роковой предопределенности, все то, о чем он успел всерьез подзабыть за последние двадцать с лишним лет. Поэтому Грозный призвал сегодня лишь самых из самых. Способных понять его опасения. Помнящих злые времена, когда один за другим ушли в лучшие миры двое наследников Лунной династии, двое сыновей царицы Сатьявати. А Дрона… Грозный нутром чувствовал: этот поймет. Может быть, даже лучше, чем советники, вдвое превосходящие Наставника возрастом.
Может быть, даже лучше, чем он сам, Гангея Грозный по прозвищу Дед.
Желтыми драконьими глазами мерцали в сумраке масляные плошки. Искаженные тени зыбко колебались на стенах, словно дело вершилось не в тайных покоях, а в подводных чертогах Ганги, Матери рек. Молчание становилось тягостным. Грозный понял: пока он не выложит все, по крайней мере все, что сочтет нужным выложить, эти люди придержат языки за зубами.
И будут правы.
— Дворцовым лекарям и бальзамировщикам было приказано с тщанием обследовать тело раджи Панду. На предмет обнаружения скрытых внутренних повреждений, ран, царапин, укусов змей или сколопендр, а также наличия в теле следов яда. Досмотр провели с усердием, однако никаких явных причин, способных повлечь за собой смерть раджи, обнаружено не было. Что дал допрос царицы Кунти?
Грозный не уточнил, к кому именно он обращается, да в этом и не было нужды. Похожий на сухую жердь седой советник, обладатель крючковатого орлиного носа, сверкнул пронзительным взглядом из-под кустистых бровей и почтительно согнулся в поклоне. Ниже. Еще ниже. До самого пола. Всем присутствующим показалось: вот-вот послышится сухой хруст, и жердь переломится пополам…
Хвала богам, обошлось. Советник медленно распрямился и, несмотря на духоту кутаясь в лиловую мантию, заговорил:
— Мой повелитель, царица Кунти утверждает, что бросила упрек в лицо второй супруге покойного исключительно от горя и отчаяния. Поскольку раджа умер в объятиях Мадры, сердце старшей жены переполнилось скорбью, и она забыла о приличиях. Больше ничего от царицы добиться не удалось. А применять усиленные методы допроса без твоего распоряжения мы не сочли возможным.
Советник развел руками и снова поклонился, теперь в пояс.
— Дозволишь продолжать, о повелитель?
— Говори.
— По моему ничтожному разумению, царица Мадра не имела повода умышленно искать смерти благородного мужа. Если она как-то и повинна в гибели раджи, то лишь косвенно. Возможно, именно на это и намекала царица Кунти. Добровольное самосожжение царицы Мадры делает ее прямую и злонамеренную вину дважды сомнительной, но некоторым образом подтверждает косвенную.
Грозный качнул чубатой головой, соглашаясь.
— С другой стороны, и царице Кунти нет выгоды от безвременной кончины супруга. Здесь мы подходим к главному: КОМУ это могло быть нужно?
— Ты, как всегда, прав, обильный добродетелями. Но, полагаю, у тебя пока нет ответа на поставленный тобою же вопрос?
— Увы, мой повелитель. — Советник со вздохом поклонился в третий раз и, опустив взор долу, умолк.
— У Хастинапура достаточно злопыхателей. — Брови сошлись на львиной переносице регента. — Полагаю, панчалы по сей день не смирились окончательно со своим поражением…
Гангея искоса бросил взгляд на Брахмана-из-Ларца, деревянного идола из древесины неколебимого спокойствия, и идол слегка кивнул.
Дрона с самого начала учитывал возможность панчальской мести.
— То же самое можно сказать о вечно мятежном Бенаресе, упрямом Шальвапуре и многих других. Но… — Грозный выдержал паузу. — Но, повторяю, никаких признаков насильственной смерти на теле раджи Панду обнаружено не было! Я допускаю, что убийца применил неизвестный нашим лекарям яд либо тайное касание «отсроченной смерти», не оставляющее следов на теле. (Наставник Дрона опять кивнул — его мысли текли в схожем направлении.) Это маловероятно, но возможно. Остается вопрос… Почему именно Панду? Кому мешал безобидный раджа-Альбинос? Убийцам следовало бы начать с меня или хотя бы с восседающего сейчас на троне Слепца…
Скрип двери вогнал в дрожь всех, кроме Грозного и Брахмана-из-Ларца.
Очередная беда пришла в Город Слона?!
Напророчили?!
— Правитель Хастинапура, раджа Стойкий Государь со своей супругой, царицей Гандхари…
— Что?! — Вся мощь прославленной глотки Грозного сотрясла дворец. — Что с ними?!
— Ж-ж-ж… желают войти, — заикаясь, возвестил насмерть перепуганный страж.
Несчастный понимал: любая ошибка может стоить ему головы. Пускать ли законного правителя страны на тайный совет правителей настоящих? Не пускать? Куда ни кинь, всюду клин… «Доложить одному быку среди кшатриев о приходе другого быка — и пусть сами бодаются!» — решил страж.
В общем, правильно решил.
— Пригласи великого раджу и его достойную супругу войти. — Грозный поднялся со своего места. Советники поспешили последовать его примеру, и, когда Слепец в сопровождении супруги возник в дверях, все присутствующие склонились перед царственной четой.
«Старею, — досадуя на самого себя, подумал Грозный. — Забывать стал, кто в Хастинапуре законный царь. Привык править. Раджу при всех Слепцом назвал… А ведь должен был внука первым на совет пригласить! Тем более что умом его боги отнюдь не обделили. Ладно, учтем на будущее».
— Садитесь, садитесь, владыки мои, — чуть насмешливо проговорил от дверей Слепец, взирая мутными бельмами на общий поклон. — Любимая, будь добра, проведи меня к креслу, а то я давненько не бывал в этих покоях. Запамятовал, где оно стоит…
Эта фраза очень многое сказала всем присутствующим. Значит, Слепец прекрасно осведомлен о существовании покоев, куда его в свое время тихо «забыли» провести! Более того, знал сюда дорогу и бывал здесь, причем, похоже, не раз. Что же еще из того, что собравшиеся здесь считали известным только им, может знать слепая венценосная кукла?
А Грозному было просто стыдно. Оказывается, разменяв девятый десяток, он до сих пор не разучился краснеть. Хорошо еще, что внук не видит дедовского смятения. А остальные или тоже не замечают из-за спасительного полумрака, или умело притворяются…
— Садитесь, — повторил Слепец, идя меж советниками, и те переглядывались, словно только сейчас заметили внешнее сходство раджи и регента.
Боги: осанка, рост… голос…
— Садитесь, говорю!
Собравшиеся медлили внять приглашению. Лишь когда Слепец опустился в высокое кресло эбенового дерева с резной спинкой и подлокотниками в виде львиных лап, а его супруга Гандхари устроилась рядом на атласных подушках, с отчетливым вызовом поглядывая на вершителей судеб Хастинапура, все чинно расселись на скамьях.
— В следующий раз я бы рекомендовал вам говорить потише, — снова усмехнулся незрячий владыка. — Я услышал вас еще за два коридора отсюда. Разумеется, мой слух слегка превосходит возможности обычного человека, и все же… Впрочем, я пришел сюда говорить не о моем слухе, — оборвал раджа сам себя. — Более того, говорить буду даже не я, а моя супруга. После сожжения тела раджи Панду, моего несчастного брата, — да обретет его душа райские миры!
— Гандхари поведала мне, отчего, по ее мнению, умер бедняга. Поскольку вы собрались здесь именно по этому поводу, я решил, что вам будет небезынтересно узнать кое-какие обстоятельства. Рассказывай, любимая! И не стесняйся: здесь все свои…
Свои покорно внимали.
4 ПРОКЛЯТИЕ
Когда у двух молодых женщин появляются общие заботы, это сближает.
Не то чтобы у Мадры-Радости, супруги благородного Альбиноса, и Гандхари— Благоуханной, супруги царственного Слепца, были совсем уж общие заботы, но… Посудите сами: главное для женщины (уточняем: для достойной женщины!) что? Ну, отвечайте, не стесняйтесь, не краснейте, мы ждем…
Ну?
Ничего подобного! Главное — это семья. Дети и муж. И вот с этим главным у обеих оказалось далеко не все слава богу.
На том и сошлись.
Гандхари вот уже двенадцатый месяц ходила со вздувшимся горой животом. «Чудо! — шептались обалделые мамки. — Чудо из чудес!» Но чудеса чудесами, а бедняжка все никак не могла родить, хотя любые мыслимые сроки напрочь миновали. Один лишь человек был доволен: сводный брат Грозного, великий мудрец и подвижник Вьяса-Расчленитель. Время от времени сей чернокожий урод наезжал в Город Слона и колдовал над чревом Благоуханной. Бурчал мантры, удовлетворенно моргал янтарными глазищами и строго-настрого наказывал ждать — ждать и ничего не предпринимать. Все, мол, будет хорошо. Вот сам бы походил год в тягости, помучился тошнотой да головокружением — посмотрела бы Гандхари на него, как бы ему было хорошо!
Любая аскеза пред такой мукой — дхик!
В общем, женщина томилась затянувшейся беременностью, а предпринять что— либо боялась — как бы еще хуже не стало!
Мадра же, наоборот, истово мечтала забеременеть, родить сына, а лучше — двойню, да и просто соскучилась Радость по радости, по крепкому мужику. Но добродетельный муженек словно забыл о существовании младшей жены, супружеское ложе обходил десятой дорогой, и как-то раз Мадра не выдержала.
Поделилась горем с подругой.
— Небось к Кунти шастает, — посочувствовала та.
— Если бы! Кунти тоже сама не своя, вчера на меня окрысилась: мол, каким распутством раджу приворожила, что к ней он и носа не кажет?! Ну, слово за слово, поговорили про распутниц… Оказалось, обе сидим с носом, обеих муж забыл!
— На сторону бегает? — деловито предположила жена Слепца.
— Да нет вроде… В лесу сиднем сидит, ашрам себе построил, будто и не раджа, а аскет-молчальник! «Кто, говорит, в почете или презрении обладает душой, омраченной страстью, и приобщается подлым взглядом к подлому образу жизни — тот идет по пути собак!» Хотя кто их, мужиков, породу кобелячью, знает?! Всех собаками славит, а сам на блудливую суку хвост задирает! И Мадра горько заплакала.
— А вы бы с Кунти помирились да вместе бы и насели на муженька: пусть ответ дает, за что вас, красавиц, обижает?
— Боязно насесть-то! Запретно жене с мужа за такое спрашивать…
Однако через некоторое время (видимо, вняв дельному совету) обе жены Панду подступили к супругу с вполне откровенным и однозначным вопросом.
Отмолчаться Альбиносу не удалось, и рассказал сей лев среди мужей, а также носитель славы Кауравов женам вот какую историю.
Вскоре после второй свадьбы поехал он на охоту. Охота себе как охота, езжай-стреляй, только случилась оказия — остался раджа в одиночестве. Свита отстала, потеряла его из виду, и только слышна была за деревьями перекличка ловчих и рык охотничьих леопардов.
Золотисто-рыжую лань Панду заприметил издалека. Тело животного было наполовину скрыто кустами арка, но Альбинос решил, что не промахнется, — и уж лучше бы он промахнулся!
Увы!
Лань дернулась и издала почти человеческий крик. Пять стрел, в считанный миг поразив животное, смертельно ранили его, но не убили сразу. Панду прянул из седла, вытаскивая нож и собираясь прикончить добычу…
И тут все волосы на теле у раджи встали дыбом, ибо лань заговорила с ним человеческим голосом. Был этот голос холоден и безжалостен, даже боли от многочисленных ран не ощущалось в нем.
— Убийца! Ты не просто убил меня! Ты помешал мне насладиться любовью и зачать новую жизнь! — И раджа действительно увидел, что лань-самец, которого он поразил стрелами, в момент злосчастного выстрела как раз покрывал скрытую кустами самку. — Да будет тебе известно, что я — великий аскет Киндяма, принявший звериный облик из-за противоестественной страсти к лучшей из самок! Мои духовные заслуги при мне, и хотя грех за убийство брахмана тебя не отяготит, ибо стрелял в неведении… Слушай же мое предсмертное проклятие: когда ты возляжешь на ложе с женщиной и почувствуешь близость экстаза, ты умрешь, как умираю сейчас я!
И лань-самец Киндяма, измученный тяжким страданием, расстался с жизнью, а раджа тут же предался скорби. Точнее, в ужасе и смятении бросился прочь, уже не помышляя об охотничьей удаче, и с тех пор проклятие тяготеет над ним. Дико ему теперь возлечь на ложе с любой из своих супруг, да и вообще с любой женщиной. Смертный страх за плечом стоит, скребет корявым когтем по хилому лингаму. Но, с другой стороны, умри он, не оставив потомства, — коротать ему время в адском закутке Путе!
Альбинос был в отчаянии, и пригорюнившиеся жены ничем не могли помочь мужу. Проклятие, тем паче предсмертное, — дело серьезное. Есть ли способ его обойти?
Ни Мадра, ни Кунти, ни сам Альбинос этого не знали.
Впрочем, как выяснилось вскоре, Кунти знала!
Рассказав своей подруге историю с проклятием аскета-скотоложца, Мадра через три месяца буквально ворвалась в покои жены Слепца с ошеломляющим известием: Кунти зачала!
Для всех остальных в этом факте не крылось ничего удивительного, но только не для двух цариц, которые знали истинную подоплеку!
— Что, объехала-таки судьбу на кривой?! И как же? — Возбуждение Мадры передалось и Гандхари.
Беременные вообще раздражительны, а когда ты беременна второй год подряд…
— Не знаю! — всхлипнула Мадра, шмыгая покрасневшим носом. — Она мне не говорит! И муж — то-о-оже!
— Да, не повезло тебе с мужем, Радость ты моя. — Гандхари вздохнула, понимая, что утешать подругу бесполезно. — Может, проклятие выдохлось?
— Нетушки! — уперла руки в крутые бока младшая жена Альбиноса. — Если б оно выдохлось, супруг ко мне непременно пришел бы! Я ж вижу, как он на меня смотрит! Так бы и набросился, с косточками съел!
— Ах Кунти, ах хитрюга! Неужели загуляла?! — ахнула Гандхари, поразившись собственной догадке. Мадра безучастно пожала плечами.
— А муж-то знает?
— Знает.
— И… что?
— Ничего. Даже повеселел немного. Дескать, род продолжен будет, в Пут не попаду. Ни слова худого ей не сказал. Наоборот, ожерелий надарил…
Еще с полчаса подруги-царицы, охая и ахая, обсуждали странное поведение Альбиноса, которому наставили рога — а он еще и рад! — но так и не смогли найти этому разумного объяснения. Избежать ада — дело хорошее, но радоваться по поводу измены супруги?!
Вовеки не бывало!
В положенный срок Кунти благополучно разрешилась от бремени мальчиком, которого нарекли Юдхиштхирой — Стойким-в-Битве, прозвали же с пеленок Царем Справедливости.
А через полгода после родов Кунти вновь забеременела!
Мадра не находила себе места, они с подругой терялись в догадках, а Кунти-коровища в ответ на все вопросы только загадочно ухмылялась и молчала как рыба. Сам Альбинос пару раз явно порывался что-то рассказать своей младшей жене, но в последний момент шел на попятный.
Боялся, покоритель народов.
Гандхари тем временем совсем измучилась носить бесконечную беременность — уж скоро два года как на сносях, сколько ж можно! И, отчаявшись разродиться, обратилась за советом к старухе-ядже, сысканной по ее приказу доверенной служанкой.
Зелье, купленное у старухи, подействовало мгновенно. Не случись тогда во дворце Вьясы-Расчленителя, быть Слепцу вдовцом: корчившаяся в судорогах царица уж и не чаяла остаться в живых, мечтая лишь о смерти-избавительнице!
Вытащил мудрец бабу с того света. За косы выволок, хоть и ругал ругательски: не доносила плод до нужного срока — страдай, дуреха!.. Злился, слюной брызгал, но из кожи вон лез, чтобы спасти и мать, и плод.
Спас.
Тот мясной блин, что вышел комом из чрева Благоуханной, Вьяса царице показать отказался. Зато в дворцовом храме Вишну тем же вечером объявилась сотня странных бамбуковых ларцов «с топленым маслом», а с чем еще, один Расчленитель да еще, может быть, Вишну-Опекун ведали.
Теперь мудрец безвылазно сидел в Хастинапуре. Регулярно наведывался в храм, чертил на стенах священные знаки, бормотал мантры и молитвы — и через девять месяцев из ларцов извлекли целую сотню младенцев мужеского пола.
Вернее, сотню мальчиков и одну невесть откуда взявшуюся девочку.
То-то радовались царственный Слепец с супругой! Кто под небом нас плодовитей?! — разве что царь Сагара из Солнечной династии, отец шестидесяти тысяч сыновей из тыквенных семечек! Так еще неизвестно, жил ли этот Сагара на самом деле, а мы-то точно живем, идите щупайте!
Вот только верховный жрец храма по секрету рассказал капалике перехожему: дескать, изображение Опекуна в главной зале просияло при известии о ста сыновьях и дало трещину, когда возвестили о дочери Слепца. Вьяса же, наоборот, хитро ухмылялся и, кажется, был вполне доволен результатом.
Впрочем, довольны были все, исключая Божий образ.
И несчастную Мадру.
В тот самый день (и чуть ли не в тот самый час), когда жрецы под руководством Вьясы извлекали из ларцов вопящих младенцев, царица Кунти во второй раз разрешилась от бремени. Мальчишкой, ничуть не похожим на первенца, — громогласным крепышом с красным личиком, перекошенным от недовольства всем миром.
Мальчика назвали Бхимасеной — Страшным Войском, или сокращенно Бхимой — Страшным.
Что называется, не в бровь, а в глаз!
Когда Кунти забеременела в третий раз и последние сомнения, в каком положении находится царица, исчезли, терпению Мадры пришел конец. Она ходила за мужем тенью, живым укором, символом скорби — заставив-таки Альбиноса разговориться.
— …Ты представляешь, подруженька: все ублю… то бишь детки этой стервы — сыновья богов!
— Да врет она, Радость моя! И тебе, и мужу! Небось спуталась с водоносом или сотником дворцовой варты, а супругу наплела…
— Ой ли, милая? А вдруг не врет?! Говорит: когда-то давно во дворце ее приемного отца гостил этот странный мудрец Дурвасас…
— Юродивый Дурвасас? Ипостась Шивы?!
— Да, только т-с-с-с! Так вот, Кунти тогда определили гостю в услужение, и эта подстилка так ублажила юродивого, что обрела дар! Мантру, которой можно вызвать любого бога, и бог должен будет сделать ей ребеночка!
— Мантру-шмантру! — фыркнула Гандхари. — Потом вместо бога является все тот же Дурвасас в другом обличье или еще какой похотливый бычара…
— Нет, ты до конца дослушай! — Мадра уже готова была обидеться, и жена Слепца умолкла. Ей и самой стало интересно. — Оказывается, узнав о проклятии, Кунти наедине поведала мужу о своей мантре, и тот разрешил ей воспользоваться — не оставаться ж ему совсем без потомства! А тут все-таки боги, не шиш гулящий! И какие боги! Локапалы-Миродержцы! Первенец — от Петлерукого Ямы, второй — от Ваю-Ветра, а сейчас она носит чадо самого Индры-Громовержца!
— Так прямо перуном и любил! — съязвила Гандхари, которая хотя и была верна Слепцу, но все же на миг позавидовала Кунти, способной заполучить в свою постель всю Свастику Локапал! Это если, конечно, верить бабьим россказням…
— Думаешь, Альбинос из простаков? — хитро улыбнулась Мадра. — Он сразу после рождения первенца заказал доверенному брахману обряд распознавания! И все подтвердилось!
— А ты-то чему радуешься, дуреха? — удивилась вдруг Гандхари, только сейчас обратив внимание на преобразившееся и прямо-таки сияющее лицо Мадры.
— Муж сказал, что пора и мне родить ему наследника. Обещал поговорить с Кунти: пусть поделится дарованной мантрой.
Мадра-Радость вскочила и закончила во весь голос:
— А не захочет делиться, жадина, он ей прикажет!
Кунти долго увиливала, но в конце концов ей пришлось уступить велению супруга. Впрочем, хитрая царица и здесь нашла лазейку: передала Мадре не всю мантру. Первые слова неразборчиво пробормотала сама и быстро оставила покои младшей жены: вызывай, мол, раз супруг желает, но в другой раз и не мечтай!
Рассерженная Мадра, понимая, что второго случая не представится, вызвала сразу двоих — Ашвинов-Всадников, божественных лекарей!
И потом очень жалела, что нельзя это дело повторить.
Естественно, зловредная Кунти заявила, что одного пришествия с Мадры вполне достаточно. А узнав о близнецах, совсем взбеленилась, в результате чего всякие надежды на повторный визит небожителей у Мадры улетучились.
Нет так нет. Даже супруг вскоре отступился, не надеясь переубедить старшую жену-упрямицу. Особенно после того, как своенравная царица заявила напрямик: она и младшей жене мантру не даст, и сама больше ни с кем не ляжет, потому как с мужем нельзя, а богов с нее хватит! И вообще: женщина, побывавшая более чем с тремя мужчинами, — это уже шлюха, а она шлюхой быть не желает!
Вскоре Кунти родила беловолосого мальчика, нареченного Арджуной — серебрным, позже разрешилась от бремени и Мадра, родив двух близнецов — Накулу и Сахадеву.
Альбинос, казалось, успокоился: детей у него теперь было — завались (хоть и далеко до плодородия Слепца)! Пред людьми он считался честным отцом, по закону — соответственно, ибо и сам был рожден вследствие подобного обычая, ад не грозит — гуляй-веселись!
Но шли годы, проклятие лани и связанный с ним страх смерти мало-помалу стирались в памяти раджи, в то время как плоть настойчиво требовала своего. В последнее время Мадра все чаще ловила на себе безумно-вожделеющие взгляды собственного мужа, царица всякий раз обмирала, боясь ответить взаимностью.
Тогда Альбинос наверняка не удержался бы…
* * *
— …И вот вчера он не утерпел. А Мадра не смогла или не захотела его удержать. Проклятие исполнилось. И Кунти отчасти была права, обвинив младшую жену в смерти мужа. Но если на Мадре и была вина, она уже чиста от любой скверны, пройдя сквозь врата Семипламенного и последовав за супругом в рай…
Жена Слепца умолкла. Тишина бродила по комнате на мягких лапах, опасаясь спугнуть странное состояние тихой грусти, призрак сбывшегося печального чуда, разорвать прозрачные паутинки судьбы.
Но чудо недолговечно. И даже ощущение чуда мимолетно.
В этой комнате вершились судьбы Хастинапура, судьбы Великой Бхараты, люди, собравшиеся здесь, не могли себе позволить мыслить категориями чудесного, и вот, один за другим, они начали стряхивать с себя оцепенение.
— Благодарю, царица. — Грозный встал и поклонился с искренним почтением, тряхнув снежно-белым чубом. — От всего сердца.
Регент с самого начала уважал старшую невестку.
Добровольно завязать себе глаза, чтобы встать вровень со слепым мужем, решится далеко не всякая женщина.
Когда Слепец с супругой были уже в дверях, Грозный внезапно нарушил молчание:
— Скажи, царица, как ты полагаешь, та лань и впрямь умерла?
Странный вопрос на мгновение пригвоздил Гандхари к месту.
— Да, о великий, — ответила она, чуть замешкавшись. — Насколько я поняла, раны от стрел Панду оказались смертельными. Иначе как бы сбылось проклятие?
— Благо твоим устам, царица. Ты успокоила меня, — без особой радости подытожил Грозный.
Он ждал долго, очень долго — и заговорил лишь тогда, когда уверился, — что царственная чета удалилась по коридорам дворца на достаточное расстояние. Даже для изощренного слуха Слепца.
— Я помню очень похожую историю. Она закончилась гибелью моего сводного брата, сына царицы Сатьявати и раджи Шантану. Там мелькала подозрительно знакомая лань. Я очень надеюсь, что стрелы Альбиноса действительно прикончили эту тварь. Но не удивлюсь, если лань опять возникнет в окрестностях Хастинапура лет через двадцать-тридцать при соответствующих обстоятельствах.
Грозный раздраженно дернул кончик чуба.
— А может быть, все гораздо проще. И проклятия, боги или говорящие звери — лишь ширма. Мне бы очень хотелось оказаться правым. С богами трудно бороться, и пути их неисповедимы. Что же касается смертных… Поглядим. Будущее покажет, — закончил престарелый регент.
5 МОЛВА
Не стало на земле злосчастного Альбиноса, ушел из жизни в расцвете лет белокожий и красноглазый Панду, осиротели пятеро братьев-Пандавов, взамен обрет сразу аж пятерых небесных родителей, и тенью легла на Великую Бхарату свастика.
Свастика домыслов и перемигиваний, свастика слухов, сплетен и оскопленной правды.
— Лань, говорите? — ухмылялись на востоке стократ битые кашийцы и анги— слоноводы. — Ой, не знаем, не знаем… Отродясь зверя промышляем, в шкуры заворачиваемся, а от злой судьбы не страдаем! Видать, уж очень прогневил Альбинос-бедняга кого-то, все любимые мозоли оттоптал, чтоб вот так угораздило…
— Уж не та ли это лань, — посмеивались на юго-востоке в Калинге и Ориссе, — что завсегда близ царских семей околачивается? Стучит у ворот копытцем: пустите, люди добрые, зашибу неугодного, забодаю лишнего! И впрямь: страшнее лани зверя нет!
— Знамо дело, — соглашались в южных пределах аж до самых непролазных дебрей Кишкиндхи. — Слепец на троне, Грозный у кормила, Слепцовы чада престол слепнями облепили — сотня орлов, клюв к клюву! На кой финик им Альбинос?! Зачем двоюродные братья-соперники, будь они хоть трижды божьими отпрысками?! Державу в клочья драть? Из-под трона опоры растаскивать?
— Черед за детками, — и себе кивали юго-западные дашарны и андхраки. — На их век ланей хватит. Какой аскет не горазд за четвероногими кралями ухлестнуть, вроде этого Киндямы-греховодника?! Грохнешь дикого козла, а он тебе: «Я, мол, не козел, а подвижник из подвижников, это ты козел и за козла ответишь…»
— Да уж, воистину, — в голос ржали на западе камбоджи-табунщики и бритоголовые шальвы. — Надо бы и нам пару лошадушек на этих… рогатеньких сменять! Авось в хозяйстве пригодятся…
— Дураки вы все, — возражали северо-западные гандхарцы и мадры. — Дураки дурацкие! Грозный не вечен, уйдет в райские пределы — кто после сына Ганги державу примет? Вот было б здорово: один полубог ушел, а пятеро мигом на смену явились! Отцы сверху поддержат, мы снизу подопрем — не жизнь, персик в меду!
— И то правда, — чесали бороды воинственные тригарты-северяне. — Да уж больно распрей пахнет… кровушкой…
Северо-восток угрюмо помалкивал. Там разбирались с женами, взявшими моду ссылаться на старшую жену покойного Альбиноса. В смысле если изменяла мужу больше чем с тремя — значит, шлюха, а если с тремя или меньше — значит, праведница и воплощенная добродетель. А что в подоле принесла, то принять с поклоном и лелеять пуще родных.
Звать же байстрюков «деволятами» — «божьими детками».
Свастика лежала на Великой Бхарате. До бойни на Поле Куру оставались считанные десятилетия.
Глава IV ЧУЖИМИ РУКАМИ
1 ТОНУЩИЙ
Сегодня строгий и, казалось, вездесущий Дрона собрал в шатре младших воинских наставников, а ученикам было велено заниматься самостоятельно. Естественно, понятие «заниматься» каждый из учеников истолковал по-своему. Братья-Пандавы, приклеившие себе общее отчество вскоре после смерти отца, плотно осели в малиннике, с энтузиазмом осваивая там искусство истребления спелых ягод. Боец и Бешеный утащили всю ораву Кауравов купаться… простите, овладевать наукой преодоления водных преград! Звали с собой и Карну, но сутин сын купаться не пошел, а просто уселся на высоком берегу реки, не там, где плескались шумные чада Слепца, а выше по течению, где река с грохотом вырывалась из ущелья, безумным скакуном мечась по зубам порогов, и лишь потом, нехотя успокаиваясь, вытекала на равнину.
Вон она, река: лениво распласталась сонной заводью, играет бликами, нежась в лучах теплого утреннего солнышка… притворщица!
Здесь Карна предался сосредоточению и самосовершенствованию. А попросту говоря, сидел, бездельничая, смотрел на пенящуюся внизу речку, любовался то и дело вспыхивающими в облаке водяной пыли маленькими радугами и мечтал о возвращении в Хастинапур. В город тысячи соблазнов, где он без промедления заявится в квартал блудниц — там по нем наверняка уже истосковались две (если не три!) исключительно приятные девчонки! Приятные во всех отношениях, особенно когда завалишь такую на ковер или хотя бы в копну свежескошенного сена, а вторая завалится сверху, громогласно зовя третью…
Жаль только, что осенние сборы заканчиваются лишь послезавтра. Он, Карна, с удовольствием рванул бы в веселый квартал хоть сейчас. Ну, пусть не сейчас, пусть вечером. А собственно, почему бы и нет? Что мешает улизнуть со сборов на день-другой раньше? Бойца с Бешеным можно предупредить, чтоб тревогу сдуру не подняли, а остальные вряд ли хватятся… Сбежал какой-то сутин сын Карна? Нахлебник, взятый в обучение лишь из прихоти царевичей?! До него ли наставникам, когда тут сплошь раджата, один другого знатнее?! А самим раджатам и вовсе не до Карны. От гордости лопаются, павлины весенние, нарядами друг перед дружкой хвастаются, из кожи вон лезут, чтоб похвалу Наставника заработать, — еще бы, сам великий Дрона бровью двинул, это вам не лингам собачий…
Дхик!
А встань раджа-папаша на дыбы против Хастинапура, Грозный мигом раджонка в погреба, а папаше — ультиматум! Ерепенишься? Поостыть не желаешь?! Вот так— то! Какая там дружба, какая любовь — одна сплошная Польза. Умен Грозный, и советники его не даром казенный рис ложками едят… Хорошо, что он, Карна, — сын возницы! Заложник из него, как брахман из шакала, всем на него плевать, и ему на всех — тоже! Ну, кроме отца с матерью, само собой, да новых друзей: Бойца с Бешеным да еще пары сут-ровесников, с которыми он иногда вместе по бабам бегает. А так…
Чуть повыше того места, где сидел «самосовершенствовавшийся» Карна, раздался отчаянный крик, и сутин сын невольно взглянул в ту сторону.
Из малинника с воплем вывалился Бхима-Страшный, второй из братьев— Пандавов. Похоже, доблестно победив и съев противника в лице малины, Страшный успешно упражнялся в искусстве беспробудного сна, пока досадная помеха не прервала сие благородное занятие.
«Оса его в задницу укусила, что ли?» — подумал Карна, с удивлением наблюдая за Страшным.
Действительно, мальчишка двигался странным образом, словно ноги его безнадежно путались в траве. Или были связаны. Вот он покачнулся, судорожно всплеснул руками, будто собирался взлететь, упал и, перекатившись на бок, рухнул с кручи вниз.
Верхом на водяного коня, играющего в теснине порогов.
— А-а-а!!! — донеслось до Карны. — Помогите!!!
Первым побуждением сутиного сына было броситься в воду на помощь незадачливому увальню-Пандаву. Плавал Карна отлично, еще с далеких дней чампийского детства, и наверняка сумел бы вытащить Страшного.
Делов-то: ухвати за шевелюру и правь к берегу…
Ты даже сделал шаг по направлению к обрывистому берегу. Остановился. Словно ткнулся лицом в невидимую преграду. Тонкий комариный звон на пределе слышимости взвился в мозгу, пальцы сами собой сжались в кулаки, и перед глазами встала позавчерашняя картина…
— …Нет, не попадешь! — презрительно кривит губы в ухмылке светловолосый Арджуна.
— Я?! Не попаду? Смотри! — Бхима широко размахивается шестигранной метательной булавой, намереваясь снести золоченую шишечку с колесницы орисского раджонка.
И в этот момент из-за повозки появляется твой знакомый — молоденький сута.
— Сто-о-ой! — кричишь ты. — Стой, дурак! Поздно!
Булава проносится мимо злосчастной шишечки, и череп суты раскалывается перезревшим гранатом.
На миг все как будто застывает, потом сута валится на траву, рассыпая вокруг себя кровавый дождь, а Страшный понуро заявляет:
— Если б не этот баран, я бы попал! Сам виноват.
А дальше была драка, дикая, взрослая драка, которая вполне могла закончиться еще одним трупом, но вас со Страшным вовремя растащили наставник Крипа и его бешеная сестра…
Ты не видел, как камни вросших в твои уши серег медленно гасят кровавое свечение.
Спасать этого ублюдка? Или лучше добить, чтоб наверняка? Свидетелей нет, а камней вокруг достаточно. Сейчас Страшный окажется как раз под обрывом…
Стыд хлестнул тебя жгучим бичом. Убить в честном бою — да, сколько угодно! Но добить камнем тонущего?! Позор! Впрочем, с другой стороны, спасать Страшного ты тоже не обязан. Пусть все идет как идет. Выплывет — его счастье. Не выплывет — туда ему и дорога!
И ты остался стоять, где стоял, отстраненно наблюдая, как течение волочит к порогам захлебывающуюся жертву.
— На помощь! — задыхаясь, орал между тем Страшный, барахтаясь в пенных бурунах. Мальчишка отчаянно загребал руками, чудом ухитряясь оставаться на поверхности, но ноги его явно не слушались. Долго так держаться на плаву не мог даже крепыш Бхима.
Вот его завертело в водовороте, ударило о скользкие камни, раз, другой… Кудлатая голова исчезла в пенистой кипени, будто муравей в конской гриве.
«Все», — решил ты и тут же вновь увидел голову Страшного — та вынырнула на два посоха ниже первого порога.
— Бхима, я иду! Держись!
Вдоль узкой полоски берега под обрывом бежал Арджуна, пытаясь прийти на помощь брату, но Страшного несло дальше, и Арджуна никак не успевал.
Еще мгновение — и тонущего швырнуло на очередные камни. В воздухе мелькнули босые ноги Бхимы… С щиколоток свисали мокрые обрывки пут — веревка или лиана, издалека не разобрать. Мальчишку буквально перебросило через порог, но он снова вынырнул и, лихорадочно гребя всеми четырьмя конечностями, заспешил к берегу Подоспев, Арджуна подал брату руку и вытащил его на песок. Помощь оказалась кстати — к тому моменту Страшный вконец обессилел: ободранный о камни живот обильно кровоточил, а тело покрывали синяки и ссадины.
Арджуна склонился над братом, помог ему сесть, и ты, наблюдая за этим, невольно поймал себя на зависти к Бхиме. Наверное, здорово иметь родного брата, который не оставит в беде, придет на помощь! Пусть Арджуна успел сделать немногое, но он искренне пытался…
В этот момент беловолосый малец глянул вверх — и лицо его, так похожее на храмовый лик Громовержца, окаменело. Рядом поднял голову хрипло дышавший Бхима, уставился на брата, потом — туда, куда смотрел Арджуна…
Ты не слышал, как Арджуна тихо спросил:
— Это Карна тебя… столкнул?
— Не знаю, — кашляя, прохрипел Страшный. — Может, и Карна. Он спал. Спал он, Серебряный…
И погрозил тебе увесистым кулаком.
Лекари так и не сумели отучить Страшного от малого порока речи: в минуты возбуждения он говорил о себе в третьем лице подобно лесным дикарям юга.
2 НАСТАВНИК
— Ответь мне, юноша: ты ли столкнул с обрыва в реку сонного Бхимасену, как подозревают его братья?
— Не я.
— Следует отвечать: «Не я, Учитель».
— Не я, Учитель. — Карна дерзко взглянул в глаза Наставника Дроны, и с минуту они стояли молча друг против друга: маленький брахман и сутин сын, перегнавший учителя в росте почти на голову.
Лицом к лицу, спокойствие и вызов, судьба и случай — словно в гляделки играли. Но едва подросток заметил, что серые глаза брахмана слезятся, как если бы Учитель упрямо вперял взгляд в диск полуденного светила, он и сам невольно сморгнул.
Лишь тогда Дрона позволил себе отвернуться, на одно невыносимо долгое мгновение уставясь в стену шатра.
Затем последовал новый вопрос:
— Но, может быть, это ты, желая подшутить, как шутите вы все, связал спящему Бхимасене ноги лианой?
— Нет, Учитель. Я не делал этого.
— Но ты видел, как Бхимасена упал в воду?
— Да, Учитель.
— Почему же ты не бросился к нему на помощь? Ведь ты понимал, что он может утонуть?
— Понимал… Учитель, — безразлично кивнул Карна, почесав горбатую переносицу.
— Понимал — и медлил? Почему? Отвечай, юноша! — Голос Дроны впервые дрогнул. Раздражение и непонимание звучали в нем. Кроме того, Брахман-из-Ларца никак не мог заставить себя называть Карну учеником, обходясь взамен нейтральным «юноша». — Сын возничего, обласканный царским домом, не торопится спасти царевича?!
— Я плохо плаваю, Учитель.
Это была ложь — ложь, заведомо известная обоим.
— Я плохо плаваю, Учитель, — внятно повторил Карна. — Вдобавок там внизу были обрыв и пороги, Учитель. Я бы наверняка разбился, Учитель. А если бы даже выплыл, то ничем не смог бы помочь царевичу, Учитель. Или было бы лучше, если бы царевич погиб вместе с сыном суты, Учитель?
Минуту Дрона молчал, из-под полуприщуренных век разглядывая наглеца с брезгливым интересом. Мальчишка откровенно дерзил, но делал это настолько ловко, что лишал Наставника возможности придраться, не теряя лица. Сплошные «Учителя» в конце каждой фразы формально — повышенное уважение и исполнение приказа, а на самом деле — утонченное издевательство. Зато последнее заявление давало веский повод прицепиться — и наказать дерзкого на вполне законных основаниях. Но наказание сейчас интересовало Дрону в последнюю очередь. Он хотел знать истинную подоплеку событий на обрывистом берегу, он хотел знать, имеет ли этот языкатый сутин сын касательство к несчастному случаю. Ведь царевич мог утонуть! И добро, если б это был первый «несчастный случай» такого рода!.. Маленькому брахману было не до мелочных придирок — имелись дела и поважнее. Возможно, именно в них, в важных делах, тоже был завязан мальчишка с серьгами в ушах и чешуйчатой татуировкой по всему телу.
— Я слышал от наставника Крипы, что два дня назад вас с Бхимасеной растаскивали силой — вы чуть не поубивали друг друга. Было?
— Было, Учитель. — Мальчишка теперь смотрел в пол, изучая узор на циновках, и это не нравилось Дроне, впрочем, когда Карна смотрел ему в лицо, Наставнику это тоже не нравилось.
Будь его воля…
— Сомневаюсь, что после этого вы помирились… э-э-э… Я имею в виду, что царевич вряд ли простил тебя. И это достаточно веский повод для человека твоего сословия, дабы столкнуть спящего врага в воду. Не находишь?!
Карна резко вскинул голову, и Наставник опять почувствовал: глаза предательски слезятся.
— Разве этому ты учишь нас, Учитель? Честный бой, один на один, — это достойно воина. А связать беспомощного врага и сонного столкнуть в реку — позор для мужчины! Тебе ли этого не знать, Учитель?! А если уж ты всерьез считаешь меня мерзавцем, способным на подлость, то ответь: почему, когда Бхиму несло мимо меня, я не размозжил ему голову камнем?! Чтоб наверняка! Чтоб на дно — и концы в воду! Камней вокруг хватало, а мою меткость ты прекрасно знаешь! Подозревая во мне убийцу…
— Я не подозреваю. Я спрашиваю. И спрашиваю здесь я, твой Учитель, а ты, мой… А ты, юноша, должен отвечать на вопросы, а не задавать их. Ясно? — Голос Дроны опять звучал ровно и безжизненно, но чего ему это стоило, знал только сам Брахман-из-Ларца.
— Ясно… Учитель, — выдавил Карна.
Вся его яростная язвительность пропала втуне.
По крайней мере, так думал сам сутин сын.
— Хорошо, допустим, ты действительно невинный голубь. Но ты ведь наверняка знаешь, что это не первое странное происшествие, которое случается с Бхимасеной за последние полгода. Не так давно он скорбел животом и еле-еле оправился…
— Тоже мне странность! Жрет что ни попадя, Волчебрюх! — Карна, забывшись, перешел границы дозволенного. — Его животом — и не скорбеть?! Ха!
— А до того царевича едва не укусил бунгарус, случайно оказавшийся в его доспехах. Между прочим, эти змеи здесь не водятся. — Дрона жестко сощурился, наблюдая за реакцией Карны.
— Собака везде грязь найдет, — хмыкнул сын возницы и вдруг широко ухмыльнулся: — Вот на днях шел Бхима по лесу, присел по большой нужде — и на что бы вы думали? — точняком на гнездо земляных ос уселся! Тоже небось единственное в округе! Правда, ужалить только одна успела — Бхима так рванул, что остальные подохли, догоняя! Вот я к тому и клоню, Учитель, что собака… — Карна уже откровенно веселился, напрашиваясь на дюжину-другую плетей, но Дрона словно утратил к нему всякий интерес.
Даже одергивать не стал.
Просто повернулся и пошел вон из шатра.
Карна разом поперхнулся очередной дерзостью, выскочил следом за Брахманом— из-Ларца, проводил того долгим взглядом — и быстро направился в противоположную сторону.
А маленький брахман тем временем уже принял решение.
Каждое происшествие по отдельности вполне могло сойти за случайность. Или чью-то глупую шутку. Но третий «несчастный случай», уж очень смахивающий на покушение, подряд — это слишком. Сомнительно, чтоб за оставшиеся полтора дня произошло что-то еще… И все-таки надо будет сказать Крипе: пускай присматривает за Страшным, да и за остальными братьями-Пандавами. А он, Дрона, должен ехать в город не откладывая. Надо посоветоваться с Грозным. И попытаться выяснить, кто стоит за всеми этими «случайностями». Нахальный сын возницы? Маловероятно. А вот его отец, приближенный к себе Слепцом и готовый ради покровителя на многое…
Да и мальчишка может кое-что знать.
Нет, но какова несправедливость! Этот наглый сутин сын, этот безродный ублюдок, не обладающий никакими заслугами — ни высокой варной, ни аскетическим пылом, ни смирением или иными добродетелями, этот нахал, драчун, бабник и грубиян — несомненный талант! Как легко он схватывает все, чему учат его Дрона и другие воинские наставники! Мимоходом, на лету, как бы между делом… Пожалуй, по способностям он не уступит даже Арджуне, прирожденному воину (и, как недавно выяснилось, сыну Громовержца)!
В роду быстроногих оленей родился тигр?!
Где же Закон? Всеобщий Закон-Дхарма, коему надлежит следить и распределять?! Соблюден ли он?
А Польза так уж и вовсе сомнительна…
3 ВОЗВРАЩЕНИЕ
— С возвращением, уважаемый! А не скажешь ли ты, где тут обретается некий Карна, сын Первого Колесничего?
«Стражники. Трое. Но не простые, а с полосами алой кошенили на шлемах — личная гвардия Грозного, элита среди блюстителей порядка, — отметил про себя наставник Крипа. — И зачем им этот обормот понадобился? Украл что? Или дочку какого-нибудь сановника обрюхатил?»
— Где-то здесь, должно быть, — пожал плечами Крипа. — Что я, за каждым сутиным сыном следить должен?! Тут бы повезло за царевичами уследить…
Стражники понимающе закивали и двинулись вдоль длинной череды пыльных колесниц, груженых телег и тягловых слонов. Время от времени они останавливались, чтобы задать один и тот же вопрос.
Ответ тоже не баловал разнообразием: все только пожимали плечами. Многие вообще плохо представляли, о ком идет речь, а те, кто знал долговязого буяна, понятия не имели, где он сейчас.
— Да к отцу, наверное, умотал… Куда ж еще?!
— Видел! Минуту назад видел! Или нет: это я вчера его видел!..
— Делать вам больше нечего! Дайте разгрузиться!
— Вспомнил! Клянусь Индрой, вспомнил! Позавчера я его видел! Или позапоза…
У сыновей царственного Слепца никто не спрашивал, куда подевался их любимчик, — а зря. Или не зря: Боец с Бешеным все равно бы отмолчались.
Хотя знали правду.
— Слыхал, Боец, они Ушастика ищут! — толкнул Бешеный брата локтем в бок.
— Слышал, не глухой… Вовремя он по своим бабам поехал!
— Предупредить бы его надо. — В ломающемся баске Бешеного отчетливо промелькнула тревога. — Мало ли…
— Вернется — предупредим. А если что, отца попросим, чтоб заступился.
— Правильно! — одобрил Бешеный, повеселев.
Ясное дело, заступничество венценосца дорогого стоит, а в своем умении уговорить отца оба царевича не сомневались. В их юном сознании, к примеру, Наставник Дрона стоял гораздо выше рангом, нежели слепой раджа, — хотя бы потому, что Дрона вполне мог отчехвостить парней за милую душу, а отец сроду не поднимал руки на потомство.
Заступался же — часто.
И двое из сотни братьев-Кауравов побежали к купальням, на ходу сбрасывая запыленную одежду.
4 АРЕСТ
— Солнышко мое!
Рыжая девица (явно крашенная охрой) повисла на плече Карны и обслюнявила всю щеку подростка. Помада из дешевого жира и вываренных в собственном соку лепестков калатропа неприятно липла к коже. Карна поморщился и утерся тыльной стороной ладони.
В темноте и на ощупь девица казалась гораздо более привлекательной.
И когда она успела «навести красоту»?
— Солнышко не бывает чьим-то, — наставительно сообщил Карна, машинально подражая тону Наставника Дроны. — Солнышко общее.
— Мое! — стояла на своем девица, тесно прижимаясь пышной грудью к руке Ушастика. — Мое собственное! Кареглазенькое, горбоносенькое, долговязенькое…
Она захихикала и добавила еще одну пикантную подробность, от которой лучистый Сурья наверняка икнул за горизонтом.
Рассвет был на подходе.
Серая мгла сочилась меж домами, рваной паутиной обвисая на крышах одноэтажных лавок, тщательно запертых рачительными хозяевами, из-за торговых рядов тупо мычали буйволы, впряженные в крестьянские телеги с мешками чечевицы, и звук эхом гулял от общественных складов до павильонов с выставкой ланкийских благовоний, редела кисейная пелена, яснее проступали выбеленные стены зданий, а буйволиной тоске вторил трубный рев тяглового слона над опустевшей кормушкой.
Рыночная площадь — треугольник под названием Субханда — Добрый Барыш — готовилась проснуться.
Взяв от рынка наискосок, Карна с девицей свернули к центру города. У них было заранее условлено: едва улица Южная пересечется с проспектом Хастина— Основателя, девица сразу же поворачивает обратно. Без возражений и пререканий. Дом Первого Колесничего, отца Карны, располагался в престижном квартале, ибо негоже главному конюшему и личному суте государя бедствовать в трущобах. Впрочем, отец под родной кров приходил лишь ночевать, все дневное время проводя близ дворцовых конюшен, мама — та и вовсе через раз коротала ночи у своей царственной покровительницы-хозяйки, и дом находился под бдительным присмотром слуг.
Карна меж ними слыл за своего в доску.
Захоти он в отсутствие родителей привести домой гулящую девицу или устроить развеселую пирушку с приятелями — слуги были бы только рады. Глядишь, и самим бы перепало от щедрот! Но за свободно висящим плодом рука тянется редко: Ушастик дома вел себя пристойно, даже можно сказать, чинно, из дылды-разгильдяя мигом превращаясь в добродетельного домохозяина.
Почему кусты не подстрижены?
Почему пол не метен?!
Поторопитесь с обедом, копухи! — вдруг отец вернется…
А шлюх водить — упаси боги! Сам не вожу и вам не велю.
За два квартала от условленного места расставания девицу и ее «солнышко» остановили.
Толстомордый детина, засунув большие пальцы рук за пояс, перегородил дорогу и нагло ухмылялся щербатой пастью.
— Детки! — загнусавил он, подражая рыночному попрошайке. — Что ж вас бхут носит в такую рань, детки?! Встретите злыдня-ухокрута — кто по вам панихиду закажет, сладкие мои?! Подайте на доброе слово по безвременно сдохшим…
И Карне, разом перестав ухмыляться:
— Тебя что, теленок, не учили платить за радости?! Взять в науку?!
Девица шагнула вперед и храбро заслонила собой юного спутника. Перед ней был окружной «хорек», сборщик мзды с таких вот подстилок, как она, и это было ее дело и ее забота. Тем паче что «хорек» не впервые предупреждал девицу: повадится бесплатно давать богатенькому красавчику — жди беды.
Беда пришла.
Беда стояла, широко раставив волосатые ноги в кожаных сандалиях.
Беда знала: портить фасад глупой шлюхе — гноить собственный товар, зато проучить молокососа будет затеей доброй и даже богоугодной.
Небожители тоже бесплатно не дают.
— Уйди, Вакра[12]! — выкрикнула рыжая, больше всего на свете боясь заплакать или сорваться на визг. — Я с тобой за прошлый месяц в расчете! Забыл?!
— В расчете так в расчете, — покладисто согласился «хорек» Вакра. — Ухожу.
Он шагнул в сторону, затоптался и вдруг оказался вплотную к рыжей. Движение было молниеносным, словно Вакра превратился в порыв ветра, — умелый взмах могучей лапы, похожей на бычий окорок, и девица отлетает прочь. Целая и невредимая: за сохранностью имущества умел следить любой «хорек». Вакра проводил ее коротким взглядом, убедился в том, что подопечная тихо сидит на собственной заднице у ограды палисадника, даже не помышляя о продолжении бунта, после чего повернулся к Ушастику.
Теперь его и Карну разделяло не более половины жезла.
— Гони пять медяков, — буркнул Вакра, дыша на подростка гнильем и перегаром. — Или браслет со стекляшкой. Понял?
— Понял. — Карна кивнул и полез за пазуху.
Детина неотрывно следил за лицом трусливого сопляка. Жизнь давно приучила Вакру, что даже самый ледащий крысюк огрызается, если зажать тварь в угол. Кто его знает: браслет там за пазухой, медяки или ножик? А глаза — зеркало души, согласно мудрым поучениям, или проще — по роже сразу видно. Захочет ударить, додумается лезвием полоснуть, а рожа-предатель мигом выдаст. Подскажет хитроумному Вакре… Ай дурак! Ай «хорек» слеподырый! Ишь какие серьжищи на парнишке! Надо было их за сласть бабью требовать… отдал бы, никуда не делся! Камешки-то, камешки — горят зарницами! И вроде дергаются… точно, дергаются камешки, огнем наливаются, и смотреть на парнишку больно… Что за блажь?!
Прикосновение было неожиданным, а боль — ужасной. В драке Вакра чувствовал себя как рыба в воде, но здесь дракой и не пахло. Пока левая рука Ушастика шарила за пазухой, правая спокойно протянулась вперед и вниз, ухватив в горсть разом ткань дхоти и мужское достоинство «хорька» Потом пальцы сжались, и горсть превратилась в кулак. А достоинство превратилось в коровью лепешку под слоновьей пятой.
И еще отчего-то паленым запахло.
«Хорек» жалостно всхлипнул, подавившись собственным воем, и бесформенной грудой осел к ногам Карны.
Сын возницы еще некоторое время смотрел на беспамятного Вакру. После извлек из-за пазухи заказанный браслет и протянул его рыжей.
— Он прав, — спокойно сказал Карна. — Возьми, продай и заплати ему за этот месяц. Иначе жизни не даст. Все, дальше провожать ни к чему. Сам дойду.
Карна не знал, что эта минутная задержка спасла ему если не жизнь, то свободу.
…Из ворот вашего дома выходили трое стражников. Впереди медленно брел отец. Один из конвоиров плотно закрыл ворота, убедился, что никто из слуг не подглядывает поверх забора, и достал плетеный шнур Пока он связывал Первому Колесничему руки за спиной, другой стражник вынул из сумы дерюжный колпак с узкими дырами для глаз Через секунду колпак наглухо скрыл голову Первого Колесничего, краями наехав на плечи.
— Зачем? — глухо донеслось из-под колпака.
— Велели, — пожал плечами стражник.
— А царская шасана[13] на арест у вас есть?
— Есть, есть… все у нас есть. Иди и помалкивай, умник!
Ты вжался в угол чужого дома, затаив дыхание, и следил, как отца ведут по улице — к счастью, в противоположную от тебя сторону.
«Вперед! — кричал гнев, норовя пробиться наружу боевым кличем. — Вперед, на выручку!»
Но от серег шел ледяной сквозняк, наполняя душу спокойствием.
Так спокоен удав в засаде.
— Жаль, мальчишки дома не было, — услыхал ты обрывок разговора. — Нагоняй получим…
— За что?
— За то. Сказали: взять обоих, и чтоб ни одна живая душа… Насчет души сделано, а обоих — шиш! Искать небось погонят…
Человек под колпаком молчал и горбился.
* * *
Арестованный с конвоем четверкой рыб плыли в предрассветной мгле, а за ними беззвучно крался татуированный подросток с серьгами вместо мочек ушей.
До самых ворот, ведущих на территорию дворца.
5 ПОБЕГ
— Собачья моча!
— Тихо, дурак!
— Моча, размоча и трижды перемоча! Это проделки Волчебрюха!
— Да не ори ты, Бешеный, всех перебудишь! Может, она сама запрыгнула!
— Ага, и дверь сама открыла! — Бешеный яростно оттирал со щек и лба остатки вонючей слизи: «привет» от здоровенной жабы, которая минутой ранее шлепнулась на него с притолоки.
— Дверь… А ведь верно! Точно, Волчебрюх! Или еще кто-нибудь из этой пятерки уродов! Наверняка прячется где-то рядом и хихикает, зар-раза… Пошли, отыщем и вздуем гада!
— Пошли! Я ему эту жабу знаешь куда засуну?.. На ходу изощряясь в планах мести злокозненным Пандавам, Боец с Бешеным выбрались из своих покоев в коридор. Он пустовал, но это нисколько не смутило юных мстителей, ретиво продолживших поиски. При этом Бешеный решительно сжимал в руке жабу (бедная сучила лапками, выквакивая проклятия в адрес мучителя), явно намереваясь использовать ее по назначению
— Может, он во двор вышел? Чтоб еще одну поймать? — предположил Боец, и братья, не сговариваясь, устремились во внутренний двор.
Двор, словно подойник коровницы, оказался заполнен молочно-белым предутренним туманом. Здесь тоже никого не было, а если и был, то прета с два его увидишь в этом молоке!
Дальнейшие поиски представлялись бессмыслицей. Но уйти просто так, оставив врага безнаказанно веселиться где-нибудь в укромном уголке?! Боец и Бешеный молча переглянулись, затем разом нырнули в тень крыльца черного хода, присели там и затаились.
Скоро шутнику-жаболову надоест прятаться. Он решит, что сыновья Слепца ушли, сунется к крыльцу, желая вернуться в здание, — и поплатится за все свои прегрешения!
Ох и поплатится — пекло всплакнет по несчастному горючей смоляной слезой!
Ждать пришлось недолго. В тумане мелькнула смутная тень, пелена вокруг гостя мигом выцвела, будто от жгучей ласки солнечных лучей… Но почти сразу туман сомкнулся: тень направилась почему-то не к крыльцу, а дальше, в сторону дворцового антахпура.
Да и сама тень вызывала определенные сомнения, кравшийся в тумане человек был на голову выше любого из братьев-Пандавов.
— Карна! — тихо ахнул Боец, вглядываясь. — Куда это он?
— Куда-куда! — взволнованно запыхтел ему в ухо Бешеный. — Видишь же: на женскую половину пробирается! Небось шлюхи обрыдли — подавай служаночку!
— Ну, бабник! Ну, дает! Слышь, Бешеный, айда подглядим — к кому он пошел?
— Айда! — И братья тихой стопой двинулись за силуэтом старшего друга.
Отпущенная на волю полузадушенная жаба торопливо зашлепала прочь.
Друг-Ушастик действительно направлялся к антахпуру. Как и предполагалось, он миновал парадный вход, юркнув в неприметную низенькую дверку у заднего крыльца.
Последовать за Карной внутрь царевичи остереглись: старший приятель наверняка знал, куда шел, а Боец с Бешеным в антахпур захаживать стеснялись — что они, маменькины детки, что ли?! Ломиться же наугад с риском всполошить весь этот курятник братьям улыбалось мало.
— Сейчас они наружу выйдут! — шепнул Боец, подмигивая со значением. — Не будут же они прямо там! Вот тогда и увидим, кого он подцепил…
Бешеный согласно кивнул, и братья притаились в увитой плющом беседке напротив — туман стремительно редел, и только дурак, вроде гадов-Пандавов, стал бы торчать у всех на виду.
Карна отсутствовал примерно четверть мухурты[14]. Потом дверца чуть слышно скрипнула, и из проема возникли двое. Естественно, второй была женщина. Вот только, к изрядному удивлению царевичей, она менее всего походила на юную красотку, спешащую на свидание с неутомимым сутиным сыном.
— Собери вещи, а слуги пусть подготовят колесницу… обе колесницы! — долетел до братьев свистящий шепот Карны. — И чубарых не запрягать! Ясно?!
— Да как же это, сынок?! За что?!
— За то, мама… Вот она, царская благодарность за верную службу! Отец к ним всей душой, а они его — в казематы! Здесь, во дворце, в тюремном подвале сидит — я проследил. Ладно, не бойся, я папу вытащу! А ты, главное, колесницы держи наготове и вещи собери. Еды дня на два, деньги, какие есть, драгоценности… оружие. Ну, что еще — сама решишь. Только имей в виду: кони не двужильные! Жди нас у въезда в наш квартал примерно через час… Если обломится — тогда у окружной дороги, за караван-сараем Хромого Мадху.
— Ой, горе горькое! Как же ты один-то отца выручать будешь, сынок? Убьют тебя или повяжут… — всхлипнула женщина.
— Шиш я им дамся! — зло оскалился Карна. — Даром, что ли, у ихнего клятого Наставника Дроны всю науку превзошел?! Не плачь, мам, все будет путем Лишь бы удрать подальше от этого Хастинапура, пишач его заешь… А там посмотрим. Ну ладно, иди.
— Хорошо, — женщина покорно кивнула. — Только… — она на мгновение задержалась. — Береги себя, сынок! Один ты у нас с папой, один как перст! И не зашиби кого ненароком — грех ведь…
— Постараюсь, мама. — Волчий оскал превратился в улыбку. — Буду осторожным. Лишних не убью, ног не промочу, и теплое молоко по вечерам. Ты б шла, времени и так в обрез.
— Бегу, бегу! — И женщина заспешила прочь.
Карна проводил мать долгим взглядом, а потом решительно направился к восточному крылу дворца, где находился арсенал.
Там же неподалеку располагались и тюремные подвалы.
Две тени выскользнули из беседки и, прячась, направились следом.
* * *
В основной арсенал ты идти раздумал: там у дверей всегда дежурили по меньшей мере четверо бдительных стражей. Да и не нужны были тебе все эти залежи длинных строевых пик, ростовых щитов, бердышей с полулунным лезвием, дротиков, доспехов…
Не на войну собрался.
Зато, как и следовало ожидать, дверь малого склада подпирал всего один часовой, которого уже тошнило от скуки.
— Ты чего тут шляешься ни свет ни заря? — благодушно поинтересовался он, зевая во весь рот.
Вообще-то разговоры на посту строго запрещались. Но дрема хмелем кружила голову, и часовой искренне надеялся развлечься беседой, чтобы предательские веки перестали смыкаться сами собой.
В следующее мгновение сон проворно улетел прочь. А сам сторож с глухим стоном сложился пополам, выронив копье и баюкая обеими руками пострадавший от пинка живот.
— Б-больно же! — задумчиво хрюкнул он. Тебе было жаль этого сонного недотепу, но судьба не оставляла выбора.
— Открывай! — Холодный и влажный от утренней росы наконечник подхваченного копья ткнулся часовому под левый сосок.
Повторять дважды не потребовалось. Жестокость удара наглядно продемонстрировала всю серьезность намерений, и соня ни на секунду не усомнился: в случае неповиновения быть беде.
Звякнули ключи. Дверь отворилась без скрипа — здесь хранилось учебное снаржение царевичей, которым пользовались ежедневно.
— Мордой к стене! Руки за спину!
Ременная петля захлестнула и туго стянула сложенные за спиной руки часового. Затем пришла очередь ног. Когда пленник превратился в куль, доверху полный страха, ты бесцеремонно развернул связанного лицом к себе. И, словно пробку в баклагу, ловко вогнал ему в рот тряпичный кляп, наложив поверх тугую повязку — впрочем, предусмотрительно удостоверившись, что ноздри жертвы остались свободны и та не задохнется.
Затем юный налетчик аккуратно придвинул часового к стеночке и вплотную занялся содержимым склада.
Что здесь лежит, ты знал прекрасно.
* * *
…Стрела с тупым наконечником, гудя вспугнутым шмелем, вылетела из-за угла. Начальник караула вздрогнул, тупо уставясь на обеспамятевшего напарника, и секундой позже второй шмель поцеловал начальника в висок.
Путь был свободен, но Карна не стал спешить. Он стрелял с ослабленной натяжки, по мере сил стараясь сохранить караульщикам жизнь. Значит, скоро оба очухаются, а сутиному сыну вовсе не улыбалось нарваться по пути обратно на двух рассвирепевших воинов.
Веревок и тряпок на кляпы он прихватил с запасом.
На целую армию хватит.
Узкие каменные ступени. За углом колеблется желтоватый свет факела. Тишина. Где-то далеко, на пределе слышимости, мерно долбят вечность капли воды. Босые ступни бесшумно ступают по зябкому полу, ощущая каждый бугорок, каждую выбоину. В руках — натянутый короткий лук с очередной стрелой на тетиве. С «маха-дхануром» здесь не развернешься, да и к чему он Карне! — лучше обойтись без смертей. А для всего прочего вполне хватит и малого охотничьего лука, да и тот достаточно натягивать вполплеча.
Поворот. Вставленный в стенное кольцо факел слегка чадит. В его свете видна дюжина низких дверей с внешними засовами — обшарпанные физиономии с железными ртами на замке, вереница ликов подземных божеств в стене мрачного коридора. Ни дать ни взять — путь в Преисподнюю. За которой дверью держат отца? Если ключи, отобранные у караула, подойдут — не открывать же все камеры подряд? Выпустишь какого-нибудь головореза…
Совсем рядом послышались мерные шаги, и Карна быстро отступил за угол. Решение созрело мгновенно. Осторожно положив лук, он вытащил из-за пояса остро отточенный нож и притаился в засаде, поджидая гостя… вернее, хозяина.
Видимо, цари Великой Бхараты должны быть благодарны року, что он не сделал Ушастика вором, взламывающим их сокровищницы. Пропал талант, пропал невостребованным… Долговязое тело обрушилось на тюремщика, тот покатился по полу и хрипло замычал, ощутив у горла холодный металл.
— Дернешься — зарежу, — ворвалось в уши змеиное шипение, а лезвие слегка проехалось по кадыку, оставив на коже кровоточащий порез.
Для краткости и лучшего понимания.
— Говори, в какой камере Первый… арестованный, которого доставили часа полтора назад?
Сын возницы прекрасно понимал: мосты сожжены. Своим поступком он раз и навсегда ставит себя вне закона, чье имя — Город Слона. Изгой, любой тебя отныне с удовольствием выдаст хастинапурским гончим, бунтовщик и подонок общества — вот кто ты теперь, Карна-Ушастик…
Плевать!
Свобода начинается со слова «нет», когда ты упрямо мотаешь головой, утираешь ледяной пот и встаешь один против всех.
Ошарашенно моргавший тюремщик уже открыл было рот, намереваясь ответить, но тут позади Карны громыхнул суматошный топот. Ступени вскрикнули от боли под боевыми сандалиями, и в бок сутиному сыну тараном ударило древко копья (хорошо еще, что не жало!), сбрасывая подростка с поверженного человека.
Нож отлетел в сторону — и хрустнул, попав под тяжкую подошву.
Их было двое: крепкие, здоровые парни.
Вооруженные.
— Живьем, живьем бери гада! — люто орал с пола тюремщик, пока его спасители скручивали яростно отбивающегося подростка. — Ишь, мятежник!
И, привстав, огрел Карну кулаком по затылку, отчего сын возницы рухнул на колени — быком под ударом обуха мясницкого топора.
«Спаситель мангов! — мелькнула и погасла мысль. — Взяли, как последнего…»
— Отпустить! — приказали от ступеней. — Я кому сказал?!
Взгляд мутился, но Карна все-таки сумел разглядеть новых гостей. В проходе, плечом к плечу, стояли двое мальчишек — Боец и Бешеный. В руках у Бешеного красовался малый лук, такой же, каким был вооружен и сам Карна, только наложенная на тетиву стрела имела отнюдь не тупой, а самый что ни на есть боевой, широкий и бритвенно острый наконечник.
Коренастый Боец, в свою очередь, демонстративно поигрывал двумя метательными булавами, третья торчала у него за поясом.
— Я велел отпустить! — тоном, не терпящим возражений, повторил Боец.
— Прости, царевич, но это преступник! Злоумышленник! — попытался возразить тюремщик. — Достойно ли…
— Как ты думаешь, Бешеный, я с одной булавы ему башку разнесу? — словно не слыша слов тюремщика, обратился царевич к брату.
— Ясное дело! — Бешеный никогда не сомневался в способностях удалого Бойца. — Вдребезги и пополам! Если, конечно, я ему раньше в глаз стрелу не всажу.
Стражники уныло переглянулись и с тяжким вздохом исполнили приказ. Карна мигом подхватил с пола обломок ножа и убрался к стене, стараясь не загораживать братьям линию стрельбы.
— Эй, Ушастик, командуй: что дальше делать? — широко ухмыльнулся Боец, и все его простоватое, совсем не царское лицо озарилось искренним восторгом.
— Пока просто держите их на прицеле. И еще… Спасибо, что выручили!
— Да ладно, чего там! — расплылись в улыбках гордые донельзя братья.
— А ты, — сын возницы с наслаждением взял за грудки тюремщика, — шевели болталом! Где арестованный, спрашиваю?! Душу выну!
— В-вон там, — толстый палец, дрожа, указал на вторую с краю дверь.
— Ключи. И быстрей, скотина! В награду за спешно выданную связку ключей Карна швырнул тюремщику моток веревки.
— Свяжи этих двоих!
Царевичи одобрительно скалили зубы. Для них это была увлекательная игра под названием «побег из темницы»! А то, что все происходило не понарошку, а взаправду, было вообще здорово! Спасти в последний момент лучшего друга, помочь ему освободить отца — такие подвиги на дороге не валяются!
О последствиях царевичи особо не задумывались.
Карна подождал, пока тюремщик со знанием дела свяжет понурых стражей, проверил крепость узлов, после чего сам скрутил тюремщика и кивнул братьям. Боец с видимой неохотой засунул за пояс булавы, а Бешеный опустил лук.
Карна шагнул к указанной двери.
Третий или четвертый по счету ключ с лязгом провернулся в замке.
— Отец!
— Карна?! Ты?! Тебя тоже арестовали?
— Да нет же! — Карна ощутил, как его губы помимо воли расползаются в глупую ухмылку. — Выходи скорее, мать ждет нас с колесницами!
— Ждет? — Первый Колесничий все никак не мог взять в толк, что происходит. — Где?!
— Дома, где же еще! Или у окружной, в условленном месте. Я… мы устроили тебе побег. Идем отсюда.
— Побег?!
Первый Колесничий бочком выбрался в коридор и огляделся, щурясь от света факела, — в его камере царил непроглядный мрак.
Сперва отец Карны увидел связанных стражников, и брови его поползли вверх, чтобы почти сразу сурово нахмуриться. Первый Колесничий уже открыл было рот, собираясь заявить сыну, что он думает по поводу такого вопиющего нарушения всех законов, но взгляд суты упал на царевичей, переминающихся с ноги на ногу.
В результате чего сам сута бухнулся на колени.
— Вставай, вставай, — буркнул Боец. — И слушайся сына. А потом мы
поговорим с раджой, и вы сможете вернуться.
Пожилой возница медленно поднялся.
— Благодарю вас за заботу, которой я наверняка недостоин, благородные царевичи. — Он говорил тихо, будто с трудом подбирая слова. — Но Закон есть Закон. Я отказываюсь бежать.
— То есть как?! — ахнул Карна. — Опомнись, отец!
— А вот так! — И мозолистая ладонь ухватила парня за ухо, так что Карна тихонечко заскулил, но не сделал даже попытки вырваться. — Я тебя чему учил, разбойник?! Супротив законной власти идти? Стражников вязать да побеги учинять? Меня по приказу самого Грозного взяли — значит, только он или самолично Стойкий Государь меня и могут освободить! Мало я тебя порол, бунтаря?!
— Наш отец тебя освободит! — попробовал вмешаться Боец, видя бедственное положение, в которое угодил их старший друг. — Клянусь Опекуном Мира, освободит! Дай только срок!
— Благодарю, царевич. Твоими устами… но покамест я сижу под арестом. И записываться в беглецы не согласен!
— Так это Грозный приказал?! — простонал Карна, корчась от отцовской ласки. — Сам Грозный?! За что он тебя, папа?
— Раз взял, значит, надо! — все больше распаляясь, заявил верноподданный сута. — Кстати, он и насчет тебя распорядился! А ну-ка пошли к Грозному! Пусть полюбуется, чем ты тут занимаешься, оболтус!
И Первый Колесничий, уже не обращая внимания на протесты малолетних царевичей, поволок сына к выходу.
* * *
Поначалу их долго не хотели пускать, но упрямый сута настоял-таки на своем. И начальник личной стражи в конце концов отправился к апартаментам господина, еще почивавшего в такую рань: докладывать о малость повредившемся рассудком главном конюшем с сыном.
Дескать, спешат на кол, отчего изволят беспокоить.
И вскоре через залы и коридоры дворца до них докатился рык престарелого владыки:
— Что?! Сюда их, обоих! Немедленно!
6 ОТВЕТ
…Грозный угрюмо смотрел на отца с сыном, распростертых на полу ниц перед вечным регентом. Навис береговой кручей, занавешивал взор седым чубом, хмурился. Он чувствовал себя богом. Богом, попавшим впросак. Пренеприятное ощущение…
Мозаичный пол с изображением цветущего луга раскинулся от стены до стены. И казалось, двое усталых путников рухнули в душистые травы, ткнулись лицом в желанный отдых, знать не зная, что над ними уже встала во весь рост судьба.
Грозный чувствовал себя судьбой.
От этого мутило.
Вот он: Первый Колесничий, пожилой сута, обласканный слепым внуком Гангеи. Сейчас он вполне мог бы быть далеко отсюда. Гнал бы себе колесницу прочь от Хастинапура, спасая жизнь и честь, жену и сына, оставив за спиной ненадежную опеку царей и внезапную опалу. Мчитесь, кони, свисти, кожаный бич, в умелых руках возницы от дедов-прадедов, злись во дворце, престарелый регент, кусай губы, срывай гнев на слугах и советниках…
Нет.
Грозный знал, что злиться не стал бы.
Побег с гораздо большей определенностью ответил бы на все вопросы регента, чем самая изощренная пытка. Унеси колесница беглеца, позволь затеряться на просторах Великой Бхараты, и Гангея даже не послал бы следом погоню. Пусть спасает шкуру. Ответ получен, и здесь, в Городе Слона, найдутся заботы поважнее беглого суты.
Стыдно признаться самому себе, но побег Первого Колесничего был бы наилучшим решением… для Грозного.
Регент еле слышно вздохнул и перевел взгляд на голого по пояс мальчишку. На его татуированную спину. На чудные серьги в ушах, чем-то похожие на одинокую серьгу в левом ухе самого регента и в то же время совершенно другие. Странно: даже лежа ничком, мальчишка ухитрялся выглядеть дерзким. Так лежит охотничий леопард — вроде бы и послушен, а все кажется, что сильный зверь делает тебе одолжение. И смотреть на сутиного сына было утомительно: глаза слезились, словно крохотный паучок мало-помалу затягивал взор стеклистыми паутинками.
Вот он: человек, которого Грозный по сей день и вовсе не замечал. Пыль, прах, капля в море, никто. Щенок подзаборный, обласканный взбалмошными сыновьями Слепца, подобно тому, как их отец приветил отца этого бунтаря. Долговязый подросток, который посмел разрушить планы самого регента, удачно избежав ареста и в ответ явившись в темницу за схваченным родителем.
Не смешно ли? — татуированный мальчишка восстал против Гангеи Грозного!
Грозный моргал, сбрасывая непрошеные слезы, загоняя раздражение в самый глубокий подвал души, и думал, что вместо одного ответа перед ним на полу лежат два вопроса.
Первый — послушный до самоубийства, второй — дерзкий… до самоубийства.
Лучше бы они сбежали.
Было бы проще.
За резными дверями высотой в два человеческих роста раздался удар гонга. Смущенный какой-то удар. Робкий. Так скребется в дверь боязливый слуга, опасаясь пинка или чашки в голову.
— Великий раджа Стойкий Государь желает посетить… э-э-э… желает посетить своего родича, гордость кшатрийского рода! — прозвучало снаружи.
— Я счастлив встретиться с великим раджой! — через плечо крикнул Грозный, прекрасно понимая: привратник не зря сбился во время объявления. А мог не сбиться — мог подавиться и умереть от удушья. Безвременно. Раньше Слепец никогда не позволял себе скромного желания «посетить своего родича и гордость…» Раньше это звучало как «иметь счастье предстать перед Дедом Кауравов, наилучшим из знатоков Закона, блюстителем праведности и кладезем благих знаний!»
Впервые регент понял с предельной отчетливостью: его внуки давно выросли, а средний даже успел уйти дымом в небеса.
До сих пор это не ощущалось как реальность.
Да и внуки… так их звал лишь Дед, и то про себя. Для остальных они считались племянниками.
Створки дверей разошлись в разные стороны, и Грозный увидел Слепца. Раджа шел строгий, прямой, тяжелые руки его лежали на плечах двух старших сыновей, и глазенки Бойца с Бешеным прямо-таки лучились ненавистью.
Ненавистью к нему, к Гангее Грозному.
А сам Гангея был счастлив. Лишь сейчас он всем сердцем ощутил, что означает на самом деле несостоявшийся побег Первого Колесничего. Нет, не разрушение предположений, в которые так удобно было верить!.. не преступное своеволие при потакании царевичей, нет, нет и трижды нет! Просто Дед Кауравов слишком привык всегда оказываться правым. Вот и сейчас, когда выстроенный им храм рухнул, он в первую голову почувствовал себя взбешенным, поддавшись губительным страстям, вместо того чтобы оглядеться и успокоиться.
Дернуть кончик седого чуба, улыбнуться во весь рот, заставив ненависть во взоре правнуков смениться изумлением… Былой Гангея смотрел на мир из глазниц старого владыки, порывистый юноша, способный завалить рыбачку на дно челна, даже не задумавшись о последствиях, и дать тяжелейший обет, и отказаться от счастья в пользу отца.
Внук и правнуки шли к Деду через всю залу.
Рослые, тяжкоплечие, налитые силой… что с того, что один слеп, а двое других еще малы!
Наша порода.
Наша.
Лунная династия.
— Мне сказали… — начал было Слепец, демонстративно забыв испросить у старшего родича позволения начать.
Грозный перебил внука:
— Тебе сказали лишь часть правды. Умолчав о главном: до сегодняшнего дня я всерьез подозревал тебя в тайном убийстве твоего брата Панду, а также в многократных покушениях на братних сыновей. Цель: устранение угрозы единоличному царствованию и наследованию трона Бойцом! Средство: этот всецело преданный тебе человек (кивок в сторону Первого Колесничего) и его юный сын, фаворит твоего первенца. Для этого я и велел арестовать обоих, дабы лично провести допрос и узнать правду.
Слепой раджа умел держать удар. Грозный тайно восхитился невыразительностью лица внука, лишь пальцы резко сжались на детских плечах, не позволив Бойцу с Бешеным вслух оскорбить Деда.
Мальчишки еле слышно зашипели от боли, разом прикусив языки.
Да еще поднял голову от холодного пола татуированный сын Первого Колесничего.
— Я слушаю, — ледяным тоном заявил Слепец. — Продолжай, Дед. Или нам лучше остаться наедине? И Грозный покачнулся, как от пощечины.
— Я продолжу, — в монолите голоса Гангеи еле заметно змеились трещины. — Я продолжу, потому что здесь все свои. Ты, законный владыка Города Слона, твои наследники, один из которых воссядет на отчий престол из дерева удумбара, а сотня других примет бразды правления в иных городах Великой Бхараты, и, наконец, верные из верных, незаслуженно оскорбленные… мной.
— И ты, о лучший из знатоков Закона, — еле заметно кивнул слепой раджа. — Ты тоже здесь.
— Да. Но я не вечно буду здесь, что бы ни думали вы все по этому поводу. Ты знаешь, я дал обет и честно выполнил его. Поэтому я так и не свершил «Конского Приношения» и «Рождения Господина», хотя меня дружно подталкивали к этим обрядам. Не свершишь их и ты, по известным нам обоим причинам. Но твой
старший сын… возможно. И Великая Бхарата вновь станет Великой Бхаратой!
Грозный помолчал, прежде чем добавить:
— Да, станет. По нашей воле, а не из прихоти взбалмошного небожителя, чье покровительство уже стоило мне многих погребальных костров. Я никогда раньше не говорил с тобой об этом и сейчас не буду. Добавлю лишь: мне было бы стократ легче, если бы покушение на покойного Альбиноса и его потомство оказалось делом твоих рук! Стократ. Бороться с людьми проще, нежели с богами, твоя бабка, пахнувшая сандалом, могла бы подтвердить мои слова, будь она жива! Но я все-таки попробую.
Каменной статуей, храмовым истуканом из чунарского песчаника стоял Слепец, во все глаза глядели на Деда Боец с Бешеным, забыв моргать, недвижно лежал на холодном полу Первый Колесничий, а его дерзкий сын Карна уставился на Грозного снизу вверх, по-кошачьи вывернув голову, и злоба сверкала во взоре подростка.
Цари! Владыки! Талдычат бхут его знает о чем, а ты тут валяйся на полу кулем дерьма…
— Что ты намереваешься делать, опора рода? — тихо спросил Слепец, и Грозный втайне порадовался, что внук не спросил больше ни о чем.
— Я собираюсь одолжить у тебя Первого Колесничего. Ненадолго. Чтобы искупить свою вину соответствующим возвышением. Я намерен отправить его во главе посольства в земли ядавов.
— Ядавов? Отправить послом?! Зачем?! И к кому?!
— Разреши мне умолчать об этом. И без того слишком много случайностей бродит у нашего дворца.
— Хорошо. — Слепец потрепал своих мальчишек по кудрявым макушкам и снова опустил ладони на их плечи. — Хорошо… Позволит ли старший родич мне удалиться?
— Позволю, — очень серьезно ответил Гангея Грозный. — Позволю, мой господин.
* * *
Посольство во главе с отцом Карны уехало на следующий день. Им было поручено отправиться на юг, в Коровяк, где и отыскать некоего юнца-вришнийца из племени тотема Мужественный Баран, того, о ком все чаще говорили, будто он
— земное воплощение Опекуна Мира.
Множество легенд, где вымысел сплетался с правдой теснее слоев металла в булатном клинке, бегали взапуски от Ориссы до Шальвапура — легенд об этом
юнце.
Которого звали меж людей Черным Баламутом.
Богатые дары везли послы. Многажды кланяться было велено им. Кланяться и славословить. А потом передать Черному Баламуту послание Грозного. Из рук в руки. Чтобы глаза аватары Опекуна прочитали:
«Понимая, что сила моя и опыт нужны державе, я остаюсь верным слугой хастинапурского трона, хотя годы и гнетут меня немилосердно. Старость — время размышлений во спасение души, а не деяний во благо страны, невмоготу мне видеть, как безвременно гибнут молодые родичи, раскачивая тем самым основание престола. Если таинственные и внезапные смерти не прекратятся, полагаю наилучшим удалиться в отшельническую пустынь и посвятить остаток дней своих замаливанию грехов, а также аскетическим подвигам. Ибо не вижу иного способа воздать за смерть братьев или внуков, поскольку в случай не верю, а имени обидчика не знаю. Сын Ганги, матери рек, и Шантану-Миротворца, прозванный глупцами Грозным».
Послы говорили потом женам, что лицо Черного Баламута в тот момент, когда он читал послание Грозного, донельзя напоминало лик Вишну-Дарителя — каким бог изображен на парковой стеле хастинапурского дворца. Вьющиеся кудри волнами зачесаны от лба вверх, где и собираются в тройной узел-раковину с воткнутыми павлиньими перьями, тонкая переносица с легкой горбинкой, чувственные губы любовника и флейтиста всегда сложены в мягкую девичью улыбку, уши украшены живыми цветами, скулы и подбородок выточены резцом гениального скульптора, а иссиня-черная кожа слегка блестит, подобно коралловому дереву.
Первый Колесничий смотрел на ровесника собственного сына и думал, что боги — это все-таки боги, а люди — это всего лишь люди. Такому благостному красавцу небось и в голову не придет ввязаться в драку из-за пустяка, дерзить наставникам или, к примеру, вломиться за арестованным родителем в дворцовые казематы. Сразу видно: добродетелен и лучезарен. Глядишь и преисполняешься любовью. Хочется не вожжами отодрать, а преклонить колена и воскликнуть гласом громким:
— О, Черный Баламут и есть великое благо, коего достигают глубоким знанием Вед и обильными жертвоприношениями те мудрецы, кто победил порок и смирил душу! Это итог деяний, это неизвестный невеждам путь! Страсть, гнев и радость, страхи и наваждение — во всем этом, знайте, он достойнейший!
Последняя мысль, самовольно придя на ум, изрядно смутила Первого Колесничего.
Хотя и весьма походила на цитату из каких-нибудь святых писаний или бесед с подвижником, обильным заслугами.
Черный Баламут поднял голову и кротко воззрился на послов.
— Передайте Грозному…
Журчание реки, когда томит жажда, песнь друга, когда грозит беда, глас божества-покровителя в пучине бедствий — вот что звучало в голосе птнадцатилетнего подростка.
Прощение и обещание — вот что сияло во взоре его.
— Передайте Грозному: ему самому и близким его сердцу людям дарована судьбой долгая и счастливая жизнь. Боги милосердны к любимцу, пришло время исполнения мечтаний. Владыка отныне может спать спокойно и не торопиться в пустынь. Аскеза — аскетам, быку среди кшатриев более достойно поддерживать троны. А теперь позвольте мне удалиться, о почтенные!
И слегка пританцовывающей походкой направился прочь — к опушке манговой рощи, где ожидали Черного Баламута влюбленные пастушки, числом более трех дюжин Послы не видели гримасу раздражения, что на миг исказила прекрасное лицо Кришны, не видели они и второй гримасы, пришедшей на смену первой, — словно два разных человека одновременно выказали неудовольствие.
Пастушки заплакали: видеть господина во гневе было выше их сил.
Но Черный Баламут сразу спохватился. Рука его нырнула в глубины желтых одежд, украшенных гирляндами, на свет явилась бамбуковая флейта, и алый рот поцелуем припал к точеным отверстиям Нежные звуки поплыли над землей, завораживая и зачаровывая, они текли ручьями, струились осенними паутинками, плясали игривыми ягнятами — и радость воцарялась в сердцах.
Первый Колесничий глядел вслед и думал, что лишь в одном его порывистый сын и сей безгрешный агнец схожи.
Оба — бабники.
Часть третья БЕГЛЕЦ
Горе ждет тех нечестивцев, кто осмеливается хулить сии бесподобные строки! Лишившись ясности разума, ненасытные цари будут всеми способами присваивать их имущество, родичи их станут употреблять в пищу ослиное мясо и беспробудно пьянствовать, а дочери их начнут производить на свет потомство, едва достигнув шестилетия! Поэтому внемлите и усердно следуйте наставлению, какое прозвучало в нашей приятной для слуха речи!
Глава V СВОБОДА ВЫБОРА
1 НИШАДЕЦ
Все, что было, — было, а чего не было — того не было, если не считать бывшего не с нами, о чем знаем понаслышке. Возвращайтесь на круги своя, возвращайтесь в прежние места и к былым возлюбленным, ходите по пепелищам, ворошите золу, не боясь испачкать пальцы. Алмазов не обещано веселыми богами, но одни ли алмазы зажигают ответный блеск очей? Найдешь стертую монету, и сердце внезапно взорвется отчаянным биением: она!
Все, что было, — было, и лишь узнающий новое в старом достоин имени человеческого…
* * *
— Грязный нишадец! Убирайся вон, черномазый!
Дрона ускорил шаг.
Рядом с обозначенным камешками рубежом для стрелков стоял незнакомый юноша лет двадцати и о чем-то расспрашивал младшего наставника. Росту юноша был изрядного, в плечах скорее крепок, нежели широк, и более всего напоминал вставшего на дыбы медведя-губача. Сходство усиливалось одеждой: несмотря на жару, облачен парень был в косматые шкуры, и даже на ногах красовались какие— то чудовищные опорки мехом наружу.
— Грязный нишадец! Дикарь!
Младший наставник, увидев Дрону, быстро сказал юноше два-три слова, мотнув головой в сторону Брахмана-из-Ларца. Гора шкур повернулась с неожиданной резвостью, и Дрона был вынужден остановиться: подбежав к нему, юноша бухнулся на колени и ткнулся лбом в верх сандалии.
— Встань.
— Смею ли я стоять перед великим наставником?
— Смеешь.
Он оказался выше Дроны почти на локоть.
— Кто ты? — Брахман-из-Ларца обвел взглядом своих подопечных, и те разом умолкли.
«Нишадская вонючка!» — отвечало их молчание.
Юноша улыбнулся. В его улыбке явно сквозило: стоит ли взрослым людям обращать внимание на выходки избалованных мальчишек?
— Меня зовут Экалавьей, о бык среди дваждырожденных! Я родился в горах Виндхья, в семье Золотого Лучника, вождя трех кланов… И самой заветной мечтой моей было назвать тебя Учителем, о гордость Великой Бхараты!
Экалавья осекся, с надеждой глядя на седого брахмана.
Дрона молчал. Он прекрасно понимал: взять нишадца в ученики означало вызвать взрыв негодования у всех царевичей. Кивни Дрона, объяви он себя Гуру этого парня в шкурах — и травля нишадцу обеспечена.
— Я дам тебе один урок. — Презрение к самому себе скользкой гадюкой обвивало душу сына Жаворонка. — Всего один. После этого ты уйдешь. Сразу. Договорились?
— Да… Гуру.
На последнее слово обратил внимание лишь единственный человек: Серебряный Арджуна, третий из братьев-Пандавов. И пронзительная ненависть отразилась на красивом лице одиннадцатилетнего мальчика с волосами белыми, будто пряди хлопка.
Ненависть, достойная Громовержца.
* * *
— …Урок закончен, — сказал Дрона юноше в шкурах, наблюдавшему со стороны. — Теперь уходи.
— Да, Гуру, — ответил Экалавья, сын Золотого Лучника.
— Ты что-нибудь понял?
— Только одно: смотреть и видеть — разные вещи.
Дрона долго провожал взглядом грязного нишадца.
* * *
— …А вот у нас в Чампе жил один бхандыга[15], — вдруг ни с того ни с сего заговорил Карна, нарушив нависшее над поляной тягостное молчание. — Так он, когда гауды переберет, любил развлекаться: привяжет на веревку кусок мяса и кинет собаке. Собака мясо схватит, проглотит, а бхандыга за веревку тянет и обратно подачку вытаскивает. Очень веселился, однако…
Слова дерзкого парня тупыми стрелами били в затылок Дроны. Сейчас наставник готов был собственными руками придушить зарвавшегося сутиного сына. Потому что тот целил без промаха.
Как в мишень — из лука.
Вроде бы рассказанная байка не имела прямого отношения к произошедшему, но только полный дурак не понял бы намека.
Брахман-из-Ларца медленно сосчитал про себя до двадцати и повернулся к умолкшему Карне.
— Тебе кто-то разрешал вести посторонние разговоры во время учебы? — ровным голосом осведомился Дрона. — Нет? Вон отсюда! До вечера я отстраняю тебя от занятий.
— Слушаюсь, Гуру, — с готовностью поклонился сутин сын, и Дрона решил, что тот снова издевается. В общем, правильно решил. — Я могу идти?
— Должен.
И проклятый наглец, явно не испытывая ни малейшего раскаяния или угрызений совести, вприпрыжку побежал к опушке леса.
Туда, где минутой ранее скрылся некий Экалавья, сын Золотого Лучника.
— Вот только конца этой истории я тебе не рассказал, Учитель, — бормотал, ухмыляясь, Карна на бегу. — Однажды собака перекусила веревку, и остался бхандыга с носом, а собака — с мясом!
2 СОБЕСЕДНИКИ
Карна вернулся под вечер. Бровью не повел, ложась под плети — дюжина мокрых честно причиталась ему за утреннюю выходку, после чего попросил смазать ему спину кокосовым маслом и завалился спать.
Он давно привык спать на животе.
На следующий день сын возницы вел себя вполне благопристойно. Наставникам дерзил в пределах дозволенного, на подначки братьев-Пандавов и сопредельных раджат отвечал равнодушным хмыканьем, и даже Дрона остался им доволен, что случалось крайне редко.
«Плети вразумили? — размышлял Брахман-из-Ларца. — Сомнительно. Сколько раз драли — и все без толку. Но, с другой стороны, должен же и этот обормот когда-нибудь за ум взяться?! Может быть, сие благословенное время наконец пришло?..»
А когда занятия закончились, Карна, наскоро перекусив, куда-то пропал и вернулся уже затемно.
То же самое произошло и назавтра. Теперь сутин сын регулярно исчезал из летнего лагеря — не то чтобы каждый вечер, но каждый второй наверняка.
«И здесь бабу нашел!» — решили Боец с Бешеным. Царевичи настолько хорошо изучили склонности старшего друга, что сочли излишним поинтересоваться у самого Карны: верна ли их догадка?
А зря.
Ибо догадка была верна лишь отчасти. Неугомонный сутин сын действительно приглядел себе пухленькую сговорчивую пастушку и время от времени водил девицу «в ночное».
Но — лишь время от времени. Значительно чаще Ушастик проводил вечера совершенно иначе.
* * *
— А это что за чурбан, Экалавья?
Нишадец прервал свое занятие — обтесывание деревянной колоды, уже начинавшей смахивать на человеческую фигуру, — и обернулся.
Карна стоял в пяти шагах от него и скептически осматривал творение горца.
— Это будет статуя Наставника Дроны.
— Точно! Такое же дерево, как и он сам! — хохотнул сутин сын.
И оборвал смех, едва завидя укоризну во взгляде приятеля.
— Да ладно, чего ты? Дрона, конечно, наставник хоть куда, но в любой оглобле живого в сто раз больше, чем в этом брахмане! Уж я-то его не первый год знаю!
Экалавья кивнул, продолжив работу.
— Возможно, Карна. Тебе виднее. Я встречался с Учителем лишь единожды… но мне показалось, в глубине души он совсем не такой, каким хочет казаться. Это просто личина.
— Если и так, то она давно приросла, став лицом, — буркнул Ушастик.
Ответа он не дождался.
— Ладно, древотес ты мой, хватит ерундой заниматься. Давай лучше плетень доделаем да ужинать сядем. Я тут стащил кой-чего… — Карна помахал перед носом у приятеля вкусно пахнущим узелком.
— Зря ты это… Воровать нехорошо. — В низком голосе нишадца прозвучало осуждение, но Карна пропустил укор мимо ушей.
Мимо замечательных ушей с вросшими в них серьгами.
— А, поварихи все равно с лихвой готовят! Потом собак подкармливают. Попроси, поклонись в ножки — хоть десять узелков отвалят! Только вот просить я не люблю… Ладно, айда плетень вязать!
До темноты они как раз успели управиться и обнести плетнем огород, разбитый рядом с хижиной Экалавьи, хижину друзья тоже строили вместе.
— Порядок! — заключил Карна. — Самое время брюхо тешить.
Уютно потрескивал костер, выстреливая из раскаленного чрева целые снопы искр, а оба юноши с аппетитом изголодавшихся леопардов уплетали чуть подгоревшую, с дымком, оленину, заедая мясо ворованным рисом с пряностями и изюмом. Приятная истома разливалась по телу, звезды ободряюще подмигивали с бархатного небосвода…
Все остальное — недорезанный деревянный Учитель, плетень, огород, раджата— зазнаики и причуды поварих, — все это было уже не важно. Поводы, причины, мелкие незначительные обстоятельства, которые тем не менее весь вечер вели парней к главному.
К беседе на сон грядущий.
Это стало своего рода традицией. Еще с первого дня — дня их знакомства.
— Эй, нишадец! Как тебя… Экалавья, погоди! Горец остановился и обернулся к преследователю. Сутин сын перешел с бега на шаг, догоняя сына Золотого Лучника.
— Меня Учитель с занятий выгнал! — без обиняков сообщил Ушастик. — Я — Карна, сын Первого Колесничего.
— За что выгнал-то? — Неуверенная улыбка сверкнула в ответ.
— А! — махнул рукой Карна. — Так… Байку одну рассказал. А Наставник Дрона решил, что я много болтаю, и отстранил от занятий до вечера. На сон грядущий небось плетей дадут, чтоб девки не снились, — беззаботно заключил парень.
— Это из-за меня?
— Из-за меня! По мне плети с утра до вечера плачут!.. А тебе, дураку, радоваться надо, что Дрона тебя восвояси отправил! Эти уроды мигом заклевали бы — уж я-то знаю!
— Уроды? Где ты видел уродов?
— Как где?! Вокруг стояли, ерунду мололи! Ладно, бхут с ними. Ты-то что теперь делать будешь?
Карне сразу пришелся по душе этот долговязый, как и он сам, горец. Оба были чужими в хастинапурском питомнике для царевичей — это сближало. Экалавья тоже ничего не имел против общества сутиного сына. Горец успел заметить, что Карна был единственным, кто не прыгал вокруг него и не орал: «Грязный нишадец!» — а стоял в стороне, мрачнея все больше. Похоже, он собирался кинуться в драку, и только появление Брахмана-из-Ларца предотвратило намечавшееся побоище, в котором сутин сын готов был биться один против всех раджат скопом.
— Ну… — замялся Экалавья, оправляя шкуры, заменявшие горцу одежду. — наверное, здесь где-нибудь поселюсь. Я ведь теперь ученик Наставника Дроны.
— Что?! — Впервые замечательные уши подвели Карпу. — Ученик?! Ведь этот сучок тебя прогнал!
— Стыдно так отзываться об Учителе, — очень серьезно произнес нишадец. — Ты ведь учишься у Дроны?
— Ну и что?
— Имя наставника свято. По крайней мере, у нас, в горах Виндхья. Наставник Дрона преподал мне один урок: значит, теперь он мой Гуру, а я— его ученик.
— И как же ты собираешься постигать его замечательную науку?
— Поселюсь в лесу и буду усердно упражняться, размышляя над уроком. Путь известен, осталось идти по нему.
— Ну ты даешь, нишадец! Путь ему известен! Мало ли на свете учителей — найди себе другого, подостойнее Дроны! Ты ведь свободен!
— Да, я свободен. Но у меня уже есть Учитель.
— Который устроил из тебя потеху?! И на прощание только что не пнул ногой в зад?!
— Ты сам сказал, что я свободен. Свобода — это возможность выбирать. Я сделал свой выбор.
— Та-а-ак… — Карна почесал в затылке. Раньше он никогда особо не сушил голову над подобными вещами. Для сутиного сына свобода всегда означала одно: полную независимость, возможность делать, что душе угодно. Ну и выбирать — само собой. Но если твой свободный выбор сковывает тебя же по рукам и ногам, привязывая к учителю-насмешнику?
Свобода?
Рабство ?!
— А ну-ка давай присядем и разберемся! — решительно заявил он нишадцу. — Значит, ты утверждаешь, что свободен? И в то же время…
Так с тех пор и повелось. По вечерам Карна помогал Экалавье обустраиваться на новом месте, они вместе охотились, а затем подолгу сидели у костра и спорили. Вскоре сын возницы с удивлением выяснил, что это занятие может быть не менее увлекательным, чем, к примеру, стрельба из лука, колесничные ристания или бессонная ночь, проведенная в стогу с пухлой пастушкой-хохотушкой.
Особенно учитывая, что пастушка хихикала по поводу и без повода, зачастую в самые интересные моменты, а горец неизменно был серьезен.
Ставя нового друга в тупик своим взглядом на жизнь.
Впрочем, что знал о жизни сам Карна? Бабы? Их у парня было с избытком и будет еще немало — в последнем сутин сын не сомневался. Талант?! Да кому он нужен, его воинский талант?! Служить ему в лучшем случае возницей при дворе или сотником здешней варты… Друзья? Боец с Бешеным? Да, конечно. Но с царевичами не усядешься запросто у костра, не станешь взахлеб обсуждать вопросы, на которые многие мудрецы по сей день ищут ответ. Только Карна не знал этого, он был уверен, что ответ — вот он, рядом, стоит только протянуть руку…
Споря до хрипоты, юноши иногда замолкали, подолгу обдумывая мысль собеседника, и даже горячий Карна не торопил Экалавью в такие минуты.
* * *
— …Тебе б брахманом уродиться, — заметил Карна. — Уж больно складно все у тебя выходит. Где нахватался, приятель? Может, ты скрытый мудрец?
Экалавья улыбнулся ему через костер.
— Мой отец, Золотой Лучник, недаром стал вождем трех кланов…
— Заливай больше: недаром стал! Небось от деда твоего трон унаследовал!
— Конечно, наш род знатен по меркам горцев. Но жезл вождя в горах Виндхья не передается по наследству. Мы ведь дикари, забыл? Грязные нишадцы. Вождей выбирают на совете старейшин.
— Здорово! — искренне восхитился Карна. — А в этом дурацком Хастинапуре ностс с наследниками, как юродивый с драной торбой! Вот и садится на трон то слепой калека, то придурок, то сопляк малолетний. Одно их спасает — Грозный. Умный мужик, всем здесь заправляет. Хотя и скотина изрядная. Не люблю. Зато у других и такого нет. Потому, наверно, от них одни болваны и приезжают!
Экалавья лениво вертел в руках обглоданную кость. Вразумлять срамослова он не стал — давно привык к речам бойкого на язык приятеля.
— Правитель не обязан вызывать любовь. Правитель — символ державы, и его надо уважать. Моего отца у нас в горах уважают… а я его люблю. Было бы хуже, если б отца вокруг все любили, а уважал — один я.
— Эх, почему я не горец! Был бы умным, как брахман… Слушай, а ты точно не дваждырожденный?
— Точно. У нас вообще варнам не придают такого значения, как здесь.
— Вот я ж и говорю! — обрадовался Карна. — Свобода! И зачем ты сюда с гор спустился? Я б на твоем месте босой домой побежал! Знаешь, как иногда поперек горла встанет: этому так кланяйся, тому — этак, перед одним ниц падай, другой сам перед тобой спину гнуть должен… А ежели не согнул и ты ему спустил или просто не заметил — ты лицо потерял! Коровье молоко пить дозволено, козье по нужным дням, к ослиному не вздумай и близко подойти! Чистое, нечистое, чистое, да не про твою душу… Брахману перечить ни-ни, даже если он чушь несет! Дхик! Надоело! В Чампе легче жилось. А у вас в горах небось вообще рай!
— Для кого как, — серьезно ответил Экалавья. — У нас, например, многие считают Город Слона земным раем. И завидуют его жителям, равно как и всем в землях Кауравов. Бредят Великой Бхаратой. Там, мол, порядок и процветание, утонченность и благочестие, а у нас: набеги, воровство, дома неправильные, брахманы бездельники, молодежь стариков не уважает, на чистоту варн всем наплевать… Дхик! — довольно похоже передразнил нишадец сутиного сына и лукаво подмигнул приятелю.
Карна искренне расхохотался:
— Уел, каюсь! Ясное дело, кому жрец, кому жрица, а кому и олений мосол! Если по мне, то главное — свобода. У вас с этим делом проще. Законы опять же хорошие — простые, правильные, без всяких выкрутасов… А тут ученые брахманы от безделья навыдумывают всякого, а мы выполняй! Вот ежели станет мне здесь совсем невмоготу — сбегу к вам в горы!
— Свобода, говоришь? Законы простые и правильные? — Рыжие языки пламени играли тенями на лице горца. — А у вас, значит, законы неправильные?
— Ну, не то чтоб совсем, — чуть смутился Карна. — Просто очень уж мудреные! Сам бхут ногу сломит!
— Так у вас и держава во-о-он какая! — протянул нишадец. — Поди управься, удержи все в голове! Вот и придумали законы на все случаи жизни, чтоб точно знать, как и когда поступать. Может, где-то и перепудрили — не мне судить. А у нас горки да пригорки, все поселения наперечет, все друг друга знают как облупленных, и законы у нас простые, потому как и жизнь такая… безыскусная. Что же касательно свободы…
Сын Золотого Лучника долго молчал, собираясь с мыслями.
— …что касательно свободы, так она не снаружи нас. Она здесь, — и Экалавья приложил ладонь к своей груди напротив сердца.
— Ну, это и дикобразу понятно! — мигом перебил его Карна. — Внутри мы все свободные! Зато снаружи…
— Не все. Многие внешне свободные люди на самом деле — рабы собственных страстей, вожделений, сиюминутной выгоды. Обстоятельства диктуют им свою волю, вынуждая плыть по течению, и зачастую люди тонут, попав в водоворот. Вместо того, чтобы подплыть к берегу, вздохнуть полной грудью, посмотреть на реку— жизнь со стороны и понять: что же им нужно на самом деле? Вот с этого момента и начинается подлинная свобода.
— Ом мани! — ехидно ухмыльнулся сутин сын. — Но ответь тогда мне, скудоумному: вот человек, который знает, что ему надо, как ты говоришь, со свободой в сердце. Вот этого человека запирают в темницу. Неважно, за дело или нет. Вот он сидит в темнице — и на кой ляд ему тогда хваленая внутренняя свобода, ежели на дверях замок?!
— Ты привел неудачный пример, Карна. По-настоящему свободный человек свободен и в темнице. У него все равно есть выбор: покориться своей участи, попытаться бежать, передать весточку на волю, чтобы друзья замолвили за него словцо, или свести счеты с жизнью — и так избегнуть заключения. Как видишь, выбор есть, а значит, есть и свобода! Помнишь, ты рассказывал мне историю ареста твоего отца и его отказа от побега? Так вот, твой отец был свободен! Только внутренне свободный человек может добровольно предпочесть заточение побегу! Он сам выбрал свою судьбу — и в итоге выиграл куда больше, чем если бы поспешил спастись бегством! В твоем отце есть та внутренняя суть, которую брахман, наверное, назвал бы частицей Великого Атмана, а я… я не могу найти ей названия! Человек, обладающий ею, свободен независимо от внешних обстоятельств. Он поступает не согласно им, а согласно велению этой сути. И ничто в Трехмирье не в силах заставить его поступить наперекор ей. Думаешь, ты иной? Зря ты так думаешь, Карна.
— Ну спасибо, утешил! — Карна молитвенно сложил ладони передо лбом. — Внутренняя суть? Скорее уж внутренний сута, который гонит колесницу души, куда сочтет нужным. Только, понимаешь ли… вот в чем загвоздка, друг мой Экалавья, мало мне внутренней свободы! Мне внешнюю подавай!
— Это будет трудно, Карна. И не только в Хастинапуре. От себя не убежишь. Даже в наши горы.
— Верю, Экалавья. И все-таки я очень постараюсь… Гляди-ка, пообщался с тобой — и сам заговорил, будто жрец бобоголовый!
Юноши рассмеялись.
— Я думаю, мы еще вернемся к этому разговору, — заключил Карна, поднимаясь на ноги.
— И я так думаю, — согласно кивнул горец.
Оба они тогда еще не знали, как неожиданно и трагично завершится их спор через два года.
3 ПРОБУЖДЕНИЕ
— …Привет, дружище!
— Карна! Как я рад тебя видеть!
Некоторое время парни тискали друг друга в объятиях, издавая при этом полузадушенные восклицания.
Со стороны могло показаться, что медведь-губач решил полакомиться мясцом лесного якши-долговяза, но со стороны глядеть было некому.
— Ну ты прямо к ужину!
— Здорово! Я к ужину и с добычей за пазухой…
— Ворованное?
— А то!
— Карна! Вымахал, что колесничное дышло, стреляешь небось как сам Наставник Дрона, а еду по-прежнему воруешь!
— Ясное дело! — Карна уселся у костра, с наслаждением вдыхая аромат жаркого. — Эх, приятно видеть нечто постоянное! Точь-в-точь как два года назад, когда мы познакомились. И как год назад. Ты тоже не меняешь своих привычек — встречаешь меня этакой вкуснятиной!
— Благодари Наставника Дрону. — Лукавство прямо-таки сочилось из всех пор широкоскулого лица Экалавьи. — Вот кто неизменен в своей точности: ваши летние сборы начинаются из года в год в один и тот же день. Да и место остается постоянным. Так что я, в общем, ждал тебя и успел озаботиться ужином.
— Благодарю тебя, Наставник Дрона! — весело заорал Карна и отвесил шутливый поклон в сторону возвышавшегося на краю поляны деревянного идола. — Ты гляди, а действительно похож! Сейчас плетей дать велит. Да, кстати, недавно Дрона гонял нас с бердышами… Короче, поедим — покажу.
И Карна мигом ухватил лакомый кус оленины.
В этот вечер друзьям так и не довелось почесать языки: стреляли до темноты, всласть намахались посохами, заменявшими бердыши и копья, вспоминали прошлогодние встречи и от души хохотали над незамысловатыми шутками.
Когда ночь окончательно вступила в свои права, Карна засобирался обратно в лагерь.
— Оставайся! — предложил нишадец. — Стрельбу на звук покажу.
— Успеется. Сборы долгие… Только завтра я, наверное, не приду — одну знакомую проведать надо.
— Ну ты точно ничуть не изменился! Ладно, до послезавтра.
— До послезавтра.
* * *
В ту проклятую послезавтрашнюю ночь Экалавья уговорил-таки тебя остаться.
А под утро тебе приснился сон.
Предрассветный туман плыл прядями мокрой паутины, где-то далеко на востоке медленно поднималась из-за горизонта колесница Лучистого Сурьи, но бог— Солнце был слишком далеко, он не успевал, не успевал…
К чему он должен был успеть? Что за глупости! Обычный новый день — туман как туман, взойдет огненный диск — и он рассеется, опав росой на травы. Куда торопиться?
Зачем?!
Сквозь пелену дремы, тенями надвигающейся беды, проступили две приближающиеся фигуры. Вскоре ты узнал обоих: Наставник Дрона и… твой извечный противник, беловолосый царевич Арджуна — по слухам, сын самого Громовержца.
Да хоть всей Свастики разом! — этого юнца ты терпеть не мог, а он отвечал тебе взаимностью.
Неудивительно: во многом вы были похожи — царственный полубог Арджуна и сутин сын Карна.
Гордецы из гордецов.
Рядом с тобой зашевелился Экалавья, сонно вздохнул полной грудью, и ты еще успел удивиться: ты ведь спишь? Или нет? В любом случае ты лежишь внутри хижины нишадца — одновременно видя сон про Дрону, Арджуну и туман.
Впрочем, во сне бывает и не такое.
А вот ты уже не лежишь, а встаешь и делаешь шаг за порог, в зябкую рассветную сырость, насквозь пропитанную росой и туманом. До тебя не сразу доходит, что теперь ты видишь странный сон двумя парами глаз: своими и глазами нишадца — это он, Экалавья, вышел из хижины, а ты кажешься самому себе бесплотным духом тумана, Видехой-Бестелесным, незримым божеством…
Экалавья припадает к стопам Наставника Дроны. Сейчас перед взором горца только эти стопы да еще несколько смятых травинок с бисеринками росы на стеблях — а ты-дух в то же время не можешь оторвать взгляда от лица Брахмана— из-Ларца. Хочется кричать, но горло надежно замкнуто на тысячу ключей: пред тобой лик деревянного болвана, маска идола, которому Экалавья каждое утро возносит положенные почести, прежде чем начать новый день.
— Учитель… — благоговейно шепчут губы горца. И за спиной Дроны передергивается, как от пощечины, беловолосый Арджуна.
— Встань, — скрипит идол.
Пауза.
— Я слышал, ты достиг изрядных успехов в стрельбе из лука, — мертвый голос не спрашивает, а как бы утверждает очевидное.
— Не мне судить, Учитель…
— Принеси лук и стрелы.
Дверь хижины бросается тебе навстречу, поспешно распахивается, пропуская тебя внутрь, так не бывает, но миг — и ты уже снова снаружи.
Руки привычно сжимают знакомое оружие.
— Стреляй! — В воздух взлетает гнилой сучок, чтобы разлететься в мелкую труху.
— Вон тот лист на ветке капитхи, — палец идола безошибочно указывает цель. — Сбей. Пока будет падать — три стрелы.
Свист.
Клочья.
— Хорошо. Говорят, ты также любишь стрелять на звук?
— Это правда, Учитель. Конечно, я еще далек от совершенства, но…
Ненавидящие глаза царевича. Ясное дело, Арджуна терпеть тебя не… Стой! Ведь перед царевичем — не ты! Он видит перед собой нишадца! За что же он ненавидит ЕГО?!
«Грязный нишадец!..»
Видит — не видит — ненавидит…
Кошмар длится целую вечность, ты хочешь проснуться, ты очень хочешь проснуться, но это выше твоих сил.
Мара, Князь-Морок, ну ты-то за что мучаешь меня?!
— Вижу также, — скрипит идол, — что ты воздвиг здесь мое изображение. Или я ошибаюсь?
— Нет, Учитель! То есть да… то есть воздвиг! И воздаю ему все положенные почести…
— Следовательно, ты считаешь меня своим Гуру? Мертвый голос. Мертвое лицо.
— Да, Учитель. Если только это не оскорбляет тебя…
— Не оскорбляет. Вижу, мой урок пошел тебе на пользу. Что ж, ученик, твое обучение закончено. Готов ли ты расплатиться со своим Гуру за науку?
— Разумеется, Учитель! Требуй — я отдам гебе все, что ты пожелаешь!
Взгляд Экалавьи просто лучится радостью, и боль пронизывает тебя до костей.
Боль надвигающейся утраты.
— Отдай мне большой палец твоей правой руки. Это и будет платой за обучение.
Что?!
Быть не может!
«Может, — скрипуче смеется греза. — Во сне все быть может, да и наяву случается…»
— Желание Учителя — закон для ученика.
Перед лицом вновь мелькает дверь хижины.
Руки ныряют в ворох шкур.
Нож.
Дверной проем, подсвеченный лучами солнца. Редеет туман, искажаются, оплывают в кривом зеркале лица Наставника Дроны и царевича — солнечные зайчики пляшут на щеках, и на лбу, и на скулах.
Зайчики, спрыгнувшие с лезвия ножа.
— Не надо!!!
Твой вопль и крик беловолосого сына Громовержца сливаются воедино.
Хруст рассекаемой плоти.
Экалавья чудом исхитряется подхватить падающий обрубок и, встав на колени перед Дроной, почтительно протягивает ему то, что еще недавно составляло с горцем одно целое.
— Благодарю тебя, Учитель. Прими от меня эту скромную плату.
Из рассеченной мякоти на краю ладони, превратившейся в узкую лапу ящерицы, обильно течет алая кровь, заливая бок и бедро нишадца, а горец все продолжает стоять на коленях, протягивая Дроне отрубленный палец.
Это сон, сон, это только сон!
Ослепните, мои глаза!
Я хочу проснуться! Сейчас! Немедленно!
В ушах нарастает отдаленный комариный звон. Кругом все плывет, и ты ощущаешь, как твердеет твоя татуированная кожа, застывая на тебе хитиновым панцирем жука, вросшими в тело латами, несокрушимой броней, доспехами бога!
Проснуться!
Немедленно!
Но сон длится.
Дрона протягивает руку и берет отрубленный палец.
— Я принимаю плату. Твое обучение закончено.
Брахман-из-Ларца поворачивается и походкой ворона ковыляет прочь. Царевич же задерживается, прирос к месту, смотрит на искалеченного горца.
— Экалавья… — выдавливает наконец Арджуна. Нишадец поднимает взгляд от четырехпалой руки на юного полубога.
Спокойно, без злобы и гнева.
— Я… я не хотел… так. Я не знал… Прости меня! — Арджуна неуклюже кланяется и бегом бросается вдогонку за уходящим Дроной.
Нишадец долго смотрит им вслед, потом переводит взгляд на лежащий у его ног лук и колчан со стрелами.
Жуткая, похожая на звериный оскал усмешка — и в следующее мгновение здоровая рука горца устремляется к луку.
Тетива остервенело визжит, натягиваясь, рука-коготь указательным и средним пальцами вцепляется в бамбуковое веретено с обточенными коленами, сминая оперение, и две стрелы, одна за другой, уже рвутся в полет.
Вторая сбивает первую у самой цели, как скопа-курара бьет верткую казарку, не дав вонзиться в лицо деревянного идола.
Ты видишь это.
* * *
Невероятным усилием Карне все же удается вырваться из вязкой глубины кошмара, и со звериным рычанием он выныривает на поверхность яви.
Но что это?!
Мара длится?!
Плетеная дверь хижины распахнута настежь. Экалавьи рядом нет, и, самое главное, никуда не исчез знакомый звон в ушах, а тело… тело тверже гранита, и кровь гулко бьется в естественные латы изнутри, словно пытаясь вырваться на волю.
Что происходит?!
Очертания предметов странно размазываются, когда Карна делает шаг к двери, он даже не успевает заметить, как оказывается снаружи.
Экалавья поднимает взгляд и застывает, восхищенно моргая заслезившимися глазами: к нему идет божество! Сверкающий гигант, на которого больно смотреть. От сына возницы исходит алое сияние, окутывая его мерцающим плащом поверх алмазного панциря, и кажется в тот миг нишадцу: ничто в Трехмирье не в силах сокрушить бешеного витязя! Вот сейчас, сейчас мститель бросится вслед за Наставником Дроной и беловолосым Арджуной, догонит, разорвет на части голыми руками — в отмщение за его, Экалавьи, отрубленный палец.
— Не надо, Карна! Пощади их! — шепчет горец, молитвенно складывая ладони передо лбом, и шепот его громовыми раскатами отзывается в воспаленном мозгу Карны.
Сутин сын останавливается. Кровавая пелена перед глазами мало-помалу редеет, мара превращается в деревья, вчерашнее кострище, кусты олеандра на краю поляны… и отступает комариный звон в ушах, забивается в нору под сводами черепа, чтобы вернуться в другой раз.
Со стороны Экалавья видит: исподволь гаснет ореол вокруг Карны, тускнеет и истончается, нитями татуировки втягиваясь в кожу, чудесный доспех, и неохотно унимается биение багрового пламени в серьгах друга.
— Покажи руку! — хрипло выдыхает Карна. — Покажи!
— Не надо…
— Так это был не сон?! Пишач сожри твою правильность, нишадец! Ведь ты же всю жизнь мечтал… Думаешь, ты всего лишь палец отрезал?! Ты мечту свою, веру свою — ножом! Надо было плюнуть в глаза этому…
— Ты заблуждаешься, друг мой, — тихо звенит металл в голосе нишадца, и
сын возницы осекается. — Я не резал свою мечту ножом. Я лишь исполнил волю Учителя. Да, в какой-то момент я, подобно тебе, едва не поддался гневу и возмущению, но вовремя понял, что Учитель прав. К тому же он ошибся.
— Как это: прав — и ошибся? — Боль и недоумение, недоумение и боль.
— Он был прав, требуя у меня плату за обучение. Ведь два года назад он дал мне один урок? Дал. Тогда Дрона велел мне уйти, но не сказал вслед: «Ты не мой ученик!» или «Я не твой Учитель!». Да и ты, Карна, делился со мной наукой именно Наставника Дроны, а не чьей-нибудь! Я сам назвал Дрону своим Гуру — никто меня за язык не тянул. И сам пообещал: «Я отдам тебе все, что ты пожелаешь!» Он пожелал мой палец. Имея на это полное право. А я как ученик должен был отдать ему требуемое. Я отдал.
— Зря, — буркнул Карна, остывая: рассуждения горца гасили пыл, словно ливень — лесной пожар. — Ох, зря… Но в чем тогда Дрона ошибся?
— А вот в чем!
Экалавья улыбнулся прежней улыбкой и вновь подхватил с земли лук. Залихватски присвистнула стрела, и взлетевший над травой мотылек исчез, словно склеванный невиданной птицей.
Увы, сутин сын видел, чего стоил нишадцу этот подвиг. Кого ты хочешь обмануть, друг мой… меня, ученика проклятого Брахмана-из-Ларца?!
— Мечту нельзя отрезать, друг мой. — Нишадец невольно поморщился от дергающей боли, что пронзила его руку во время выстрела. — Мечта, как и свобода, не снаружи, а внутри. Я свободный человек, и мой поступок — поступок свободного человека. Мы в свое время говорили с тобой об этом.
— Да уж, говорили! — вновь окрысился на упрямого горца сутин сын. — Теперь я вижу, в чем состоит твоя «внутренняя свобода»: разрезать себя на части в угоду этому… этому…
— Гуру. Этому великому Гуру. Ответь мне, Карна: ты бы на моем месте поступил иначе?
— Я?! Да я… я… я бы ему…
— Не торопись. Подумай как следует.
— Да что тут…
Но память извернулась, подобно умелому борцу, и лавиной обрушилась на юношу изнутри.
Вот сейчас полированный металл отзовется, из руки царственного махаратхи вырвется смертоносная булава — и ты упадешь на мягкую зеленую траву, ударишься оземь размозженной головой и не почувствуешь боли…
Ну и что?!
Удача… удача любит смелых!
Тогда он готов был пожертвовать не то что пальцем — жизнью! — лишь бы отец с царственным Слепцом выиграли состязания. Если вдуматься: зачем?! Ну, оказался бы раджа вторым или третьим, отослал бы отца обратно в Чампу — ничего бы с раджой не сделалось, а они с семьей жили бы себе спокойно и по сей день в родном городке. Рисковать жизнью — ради чего?!
Что двигало глупым мальчишкой?
Гордость?
Упрямство?
Долг, самое банальное и властное из чувств?
Все вместе?
Карна не сознавал, что уже стоит перед статуей Наставника Дроны, впившись взглядом в косо стесанные скулы Учителя. В ушах вновь звенели тучи комаров, серьги пульсировали кровавыми углями костра, а сквозь кожу проступали сверкающие латы.
Зато нишадец видел все.
— Онемей твой язык, Экалавья! Да, я поступил бы так же! И не Наставник Дрона, а мой внутренний сута заставил бы коней души ринуться в бешеной скачке по краю обрыва! Отрезать палец — дхик! Добровольно отсечь голову, ободрать с самого себя кожу острой раковиной… мало! Мало! Гони, возница! Хлещи упряжку бичом! Кто больший враг мне, нежели я сам! — словно в пророческом бреду, выкрикнул Карна.
И, размахнувшись, обрушил страшный удар кулака на Брахмана-из-Ларца.
Сухое дерево с треском раскололось, лицо идола разлетелось в щепки, и когда Карна наконец пришел в себя, он увидел лишь обломки статуи у своих ног.
Да еще две сломанные стрелы, так и не вонзившиеся в деревянный лик наставника.
— Свобода внутри, нишадец, — обернулся Карна к другу. — Ты сделал свой выбор. А я делаю свой. Я ухожу из Хастинапура. Мало мне внутренней свободы! Я боюсь, что мне захочется убить Дрону при всех раджатах, а назвать его Учителем я больше не смогу никогда. И, чтобы лишить его возможности потребовать подобной платы от меня, у меня есть только один путь…
Карна помолчал.
— Враг моего врага — не мой враг. Равно как и ученик моего учителя — не мой ученик. Я иду искать Раму-с-Топором.
* * *
Через три с лишним десятилетия, в тяжкий час Великой Бойни, Экалавья Беспалый будет сражаться плечом к плечу с Карной-Секачом и Наставником Дроной на правом фланге войска Кауравов — и погибнет, предательски убитый Черным Баламутом.
Умрет свободным.
4 ВСТРЕЧА
…Сегодня шел восьмой день с тех пор, как Карна покинул летний военный лагерь и отправился на юг в поисках легендарного Рамы-с-Топором. Выполняя его волю, нишадец передал Первому Колесничему весть от сына — прости, папа, поцелуй мать, я обязательно вернусь! — и когда сам Экалавья оставлял Город Слона, Карна был уже далеко.
Разумеется, следовало бы снарядиться в дальнюю дорогу и самому попрощаться с родней, но сутин сын не мог представить себя в Хастинапуре. Как ни старался — не мог. С души воротило. Внутренний сута гнал упряжку по краю пропасти, поступки выходили безрассудными, но грохот колес напрочь забивал голос разума.
Да и в конце концов, что есть разум? — так, самоуверенный краснобай, годный лишь на увещевания.
Свисти, бич!
Сейчас беглец двигался через земли ядавов, вдоль южного притока багряной Ямуны, обычно бурля и пенясь, река в эти дни была на удивление тиха и прозрачна.
Карна искал подходящее место для переправы.
Он не знал, водятся ли здесь крокодилы, а рисковать не хотел.
Многоголосый женский визг ударил в уши. Как раз тогда, когда Карне показалось: за деревьями мелькнул то ли мост, то ли паром на стремнине. «Волк ребенка унес? Тигр-людоед?!» — ожгла шальная мысль, а ноги уже сами несли парня в направлении шума. И лишь когда до источника адской какофонии оставалось менее двух минут бега, Карна сообразил: женщины, подвергшиеся нападению хищника, должны кричать совсем иначе.
Зря ноги бьешь, парень!
И словно в подтверждение, визг разом смолк, а до слуха Карны донеслось тихое журчание флейты.
Перейдя на шаг и втайне досадуя на самого себя за глупую поспешность, Карна осторожно раздвинул кусты. Взору открылся обширный луг, полого спускавшийся к реке. У самой воды рос огромный кряжистый платан, и в нижней развилке дерева удобно устроился смуглый, почти совсем черный юноша, наигрывая на бамбуковой флейте нежную мелодию, очевидно, собственного сочинения.
Но отнюдь не на черном дудочнике задержался взгляд беглеца. С удивлением отметив, что все нижние ветки платана сплошь увешаны женской одеждой, будто для просушки, Карна тут же обнаружил более интересную подробность: в реке, оказываетс, засел целый табун голых девиц!
«Небось купаться пришли, а этот кобель им теперь из воды выйти не дает! — Искорки смеха заплясали в карих глазах парня. — Ну кто ж так делает, дудочник? Баб надо отлавливать поодиночке и каждой отдельно мозги сурьмить! Они ж не тебя, они друг дружку стесняются! Выйдешь голышом на берег — подруги на всю округу растрезвонят!»
Карна считал себя большим знатоком женской натуры и сейчас лишь втихаря хмыкал, наблюдая из кустов за развитием событий. Флейта пела без умолку, и в какой-то момент парню вдруг почудилось, что перед ним — площадной факир, заклинающий полную реку водяных змей. Странно: такое забавное сравнение, а у сутиного сына мигом испортилось настроение…
Тем временем девицы в реке явно замерзли. От холода ли, от музыки ли, но они наконец принялись стыдливо выбираться на берег. Девицы были по большей части очень даже ничего, но Карну смущало другое: что будет свистун делать с подобной оравой? Надорвется ведь! — тут их десятка три, не меньше!
Юноша оглядел с дерева притихший табун. И, видимо, остался не вполне доволен результатом, ибо девицы прикрывали руками и распущенными волосами наиболее интересные части тела.
— Вы тяжко согрешили, девы, — пропел черный, оторвавшись на миг от своей флейты. — Совершая омовение нагими, вы нарушили святость обряда в честь Великой Богини!
«А, так это еще и обряд был?! — Карна оценил выходку свистуна. — Святое дело!»
— Теперь, чтобы Мать простила вас, вам надлежит поднять руки кверху, возложить их себе на голову и поклониться Великой! Тогда богиня смилостивится, а я верну вам вашу одежду.
«Глумится, черномазый! И над девками, и над богиней! Еще бы заявил, что во имя Великой они все должны перед ним ноги раздвинуть! Кстати, похоже, дело к тому идет. А не проучить ли мне этого древолаза?»
Идея показалась Карне дельной: и богине потрафим, и порядок наведем, и, глядишь, спасителю от благодарных девиц кой-чего обломится!
Решительно выйдя из кустов, он вразвалочку направился к платану-вешалке.
При его появлении девицы вновь заверещали, и большинство из них полезли обратно в воду. Но в данный момент Карну это не интересовало. Приблизясь к бабьему пастырю, который с интересом наблюдал за незваным гостем, Ушастик остановился под деревом и, почесав в затылке, осведомился:
— Веселимся, значит? Сидим, значит, свистим во все дырки, честных девушек смущаем, над богиней насмехаемся, да? Тоже мне, Коиль-разбойник[16] выискался!
— А шел бы ты, детинушка, подобру-поздорову, — точь-в-точь как в известной дравидской былине, миролюбиво ответил с платана юноша, вновь прикладывая к губам флейту.
— Нет, ты погоди! — Карна подзуживал сам себя. — Слезай-ка лучше на землю, потолкуем!
— А мне и здесь хорошо! — рассмеялся черный.
— Ну, когда фрукт не хочет в корзину, надо трясти дерево! — заявив это, Карна действительно шутя потряс ствол платана.
Естественно, никакого результата это действие не возымело, а черный юноша обидно расхохотался:
— Тряси сильнее — не созрел еще! — И флейта простонала от его поцелуя.
Выпорхнувшая мелодия на этот раз была совершенно иной, чем вначале. Карна моргнул — соринка в глаз попала, что ли?! — и вдруг почувствовал, как незримые пальцы тронули глубинные струны его души… тихий гул, тембр меняется, словно музыкант взялся за колки вины, пробуя инструмент…
Флейта.
Пухлые губы.
Глаза-звезды.
Пальцы на отверстиях.
Пальцы в Карне.
Подтягивают, крутят, ласкают… настраивают.
В следующее мгновение знакомый звон комариной стаи начисто забил песнь черного дудочника, полновластно воцаряясь в душе.
Налились, запульсировали багрянцем вросшие в уши беглеца серьги, и следующий рывок едва не сбросил флейтиста с дерева — вековой платан ощутимо покачнулся! Взвихрилась мелодия, хлеща оглушающей плетью, но кора дерева уже дымилась, обугливаясь под ладонями Карны. Татуировка не давала о себе знать привычным зудом, но жар пронизывал сутиного сына насквозь. В испуге черный привстал, насилуя флейту, выжимая из бамбука уже не песнь — вихрь, пляску светопреставления, ржание Кобыльей Пасти, навстречу которой из-за горизонта вставал огненный диск пламеннее всех огней Трехмирья!
Песня.
Серьги.
Качается платан.
— Ну что, созрел?! — ощерился снизу Карна, забыв удивиться невесть откуда взявшейся силе. И мигом позже ощутил слабые толчки: в спину, в бока… далеко, на самых задворках сознания, как если бы толкали не его.
Он недоуменно обернулся. И обнаружил перед собой весь табун голых девиц, в полном составе пришедший на выручку черному дудочнику! Девицы, отпихивая друг друга, старались добраться до Карны, бессильно барабанили кулачками по его телу, с визгом дули на обожженные руки, зажмурившись, пытались вцепиться в волосы…
Ошалев от такого поворота дела, бедолага-спаситель растерянно прижался спиной к дереву и начал аккуратно отдирать от себя девиц. Те заорали вдвое громче, будто их по меньшей мере колотили тлеющими головнями, но попыток членовредительства не оставили. Наоборот, девичьи глаза заблестели слюдой безумия, и Карна стал всерьез опасаться за их здоровье, душевное и телесное.
Вдобавок война с нагими фуриями оказалась гораздо менее увлекательной, чем предполагалось.
И тут мелодия неистовствовавшей в ветвях платана флейты оборвалась, рухнула измученной птицей, а ей на смену пришел крик черного юноши:
— Остановись, герой! Ты видишь, эти девы любят меня и готовы ради любимого нагишом сражаться даже с самим Индрой! И вы, юные пастушки, успокойтесь! Этот человек не хотел сделать мне ничего дурного, наоборот, он пытался за вас заступиться!
— Не нужны нам никакие заступники, кроме тебя, о любимый Кришна! — в запале выкрикнула одна из героических пастушек.
Тем не менее девицы остановились, флейта продолжала молчать, и звон в ушах Карны быстро пошел на убыль. Глупо ухмыляясь, сутин сын стоял дурак дураком, разглядывал многочисленные девичьи прелести и лихорадочно соображал: какого рожна он ввязался в эту историю?
Потом он вспомнил имя, выкрикнутое пастушкой.
Кришна.
Черный.
Так, может, это и есть знаменитый Кришна Джанардана?! Черный Баламут, земное воплощение самого Вишну-Опекуна?!
Видимо, последние слова Карна пробормотал вслух, потому что юноша в развилке платана не замедлил с достоинством ответить:
— Да, это я. А кто ты, путник?
— Меня зовут Карна, сын Первого Колесничего. — Карна на всякий случай подбоченился (дескать, тоже не мочалом вязаны!). — Мой отец к тебе с посольством из Города Слона приезжал.
— Помню! — радостно подтвердил Кришна. — Слушай, а что это на тебя нашло?
— Да вот, решил доброе дело сделать… — При этом заявлении голые воительницы хором издали вопль возмущения. — Теперь вижу, что зря. Извини, Кришна, больше не буду — пусть хоть до самой полуночи тебе кланяются!
— Доброе дело? — задумчиво протянул Черный Баламут со странной интонацией, разглядывая свою флейту. Но тут же вновь оживился, спрыгнул на землю и хлопнул Карну по плечу. — Ладно, замнем для ясности. Оба хороши. Слушай, ты ведь небось голодный? Только не ври! Голодный, да?!
— По правде сказать — да, — честно признался Карна.
— Пошли, я тебя таким обедом угощу! — И, глядя на дружелюбное лицо Кришны, сутин сын понял: сейчас он пойдет за этим обаятельным юношей куда угодно, и обещанный обед действительно окажется роскошным, и вообще, как он мог подумать плохо о таком замечательном парне, аватара он там или нет! Розовый туман медленно обволакивал душу, окрашивая в цвета блаженного счастья весь мир: Баламута, пастушек, лес, реку…
Жизнь была прекрасна.
Нет, иначе: жизнь рядом с Баламутом была прекрасна.
Карна тряхнул головой, и наваждение исчезло, но расположение к Кришне осталось. В конце концов, сидит человек на дереве, забавляется, а тут из лесу ломится какой-то придурок — и ну выделываться! Дерево трясет, девиц увечит — герой!..
И вместо того, чтобы обидеться или полезть драться, а то и подмогу кликнуть, черный парень хлопает его по плечу и предлагает вместе отобедать! Нет, положительно, в этом Кришне что-то есть! Не зря ведь все его так любят — в том числе и пастушки.
За меня небось ни одна девка в драку не лезла!
Карна взглянул в глаза флейтисту — и успел заметить, что Кришна внимательно следит за ним. Ну конечно! Его пригласили отобедать, а он стоит и молчит, как последний невежа!
— Благодарю тебя! Конечно, я с радостью разделю с тобой трапезу! И еще раз прошу простить меня за…
— А-а, пустое! С ними только так и можно. Хочешь, парочку сосватаю на ночь?
— К ночи и поглядим! — совсем растаял Карна.
— Можете одеваться! Великая Богиня простила вас, — небрежно махнул рукой Кришна пастушкам, после чего лучезарно улыбнулся им.
Девицы заулыбались в ответ и бросились разбирать свою одежонку.
— Пошли, дружище. Поедим, отдохнешь с дороги…
* * *
До ближайшего городка — небезызвестного Коровяка — они так и не добрались. Но в пастушьем становище, куда Кришна привел нового друга, молодым людям был оказан самый радушный прием. Расстилались циновки и ковры, распахивались пологи шатров, зажигались радостью взоры, глиняные печати сбивались с потаенных кувшинов, дразнящий аромат вздымался над очагами и земляными печами, а над всем этим, над апофеозом гостеприимства, царила флейта.
Пела.
Ликовала.
Обещала вечный праздник.
Уже под вечер, осоловев от еды и многочисленных здравиц, Карна рискнул спросить у самого замечательного парня на свете:
— Слышь, Кришна… ты извини, что я в душу лезу, но… Сам знаешь, тебя в народе любят (Кришна согласно кивнул), но именно тебя, Кришну Джанардану. А насчет того дела, что ты — Опекунская аватара (Кришна как бы невзначай пробежал гибкими, почти женскими пальцами по ладам флейты)… Насчет аватары бывает что и посмеиваются. Складухи поют: «Ручки-ножки, огуречик — получился человечек, а еще добавим Жару — и получим аватару!» Шутка, ясное дело! Только… я вот чего спросить хотел: это правда?
— Правда, — серьезно кивнул Кришна, на миг оторвавшись от флейты.
— А… каково оно — быть аватарой?
— По-разному. — Черный Баламут больше не улыбался и, говоря, каким-то чудом ухитрялся одновременно извлекать из флейты некое подобие мелодии.
Возможно, этот ответ был мелодией или мелодия — ответом. Кто разберет?
— По-разному, дружище. Иногда — проще простого. Иногда — никак. А иногда в пляс идешь… под чужую дудку!
Быстро выпалив последнюю реплику, Кришна припал к флейте, словно жаждущий
— к ручью, и развеселая плясовая огласила окрестности.
На месте пастушек стоило бы ревновать Черного Баламута не к соперницам— подружкам, а вот к этому бамбуку с отверстиями.
Своя дудка, не чужая.
Карна угрюмо поджал губы. Он понял. Или ему показалось, что он понял.
— Откровенность за откровенность, — вдруг заявил Кришна, перестав играть.
— И без обид. Ты уверен, что Первый Колесничий — твой настоящий отец?
— А по шее? — осведомился Карна. — Да моя матушка ни в жизнь…
— Верю, верю! — замахал на него руками Черный Баламут. — Я ж сказал: без обид! Это я так, сдуру…
И Карна не обиделся.
А потом была ночь с пастушкой, на удивление искусной в любовных утехах. Изголодавшийся по женщинам Карна был ненасытен, и под утро оба уснули, полностью удовлетворенные друг другом.
Когда Карна уходил, Черный Баламут стоял на пригорке и провожал гостя песней. Как и положено провожать друзей.
* * *
— Ставлю флейту против серег… — задумчиво пробормотали пухлые, чувственные губы, когда путник скрылся за поворотом.
И повторили:
— Флейту против серег…
Черный Баламут думал о татуированном юноше, вспыльчивом простаке, первом, кто устоял против его флейты. Он смотрел на дорогу, и глаза Кришны в этот момент походили на два отпечатка ладоней, выжженные в коре платана.
Есть вещи, о которых стоит поразмыслить заранее.
Есть люди, которых в нужный момент хорошо иметь на своей стороне.
Есть нелюди, которых в нужный момент хорошо иметь на своей стороне.
Черный Баламут отлично знал, чего хочет, и с легкостью умел завоевывать расположение людей.
О нелюдях — позже.
Ах, глупый ты, долговязый сутин (или не сутин) сын! — если б все было так просто! От самого себя не уйдешь, хоть все три Мира измерь босыми ногами, от адской бездны Тапаны до Обители Тридцати Трех! Пылишь торными путями, бредешь тропами, скользишь по осыпи — а толку как от козла молока…
Все мы пляшем под чьи-то дудки.
Глава VI СВЯТЫЕ МОЩИ
1 ДОРОГА
…Великая, благословенная, лучшая из гор по имени Махендра! Изрезанная речными потоками, окруженная множеством предгорий, она казалась гигантским скоплением туч, и высили отвесные стены неприступные с виду ущелья. Здесь обитали лишь звери и птицы, множество пернатых оглашало окрестности своим пением, и сновали кругом стаи диких обезьян. Величественные леса охраняли покой лотосовых озер и прудов в обрамлении тростника, подобно тому, как благоухающий венок обрамляет чело героя.
Своими прекрасными деревьями местность напоминала небесную рощу Нандану, которая дарует усладу сердцу и уму. Деревья здесь стояли в пышном цвету в любое время года, в любую пору они обильно плодоносили, сгибаясь до земли под тяжестью плодов. Были тут цветущие манго и амратака-смолонос, пальмы фиговые, кокосовые и финиковые, а также банановые, стройные паравата, кшаудра и прекрасна кадамба, лимонные, ореховые и хлебные деревья, обезьянья капитха и приземистые харитака с вибхитакой, а также душистый олеандр соседствовал с ашокой-Беспечальной и трепещущей шиншапой.
Край звенел от восторженных песнопений всегда опьяненных кукушек. Дятлы, чакоры, сорокопуты и попугаи, воробьи, голуби и фазаны, сидя на ветвях, издавали чудесное пение. Светлые воды бесчисленных озер были сплошь усеяны белыми лилиями, розовыми, красными и голубыми лотосами, всюду виднелись во множестве жители вод — гуси и скопы, речные петухи-джалакукутты и утки— карандавы, лебеди и журавли, не считая веселых водяных курочек.
Далее же открывались взору пленяющие душу заросли лотосов, среди которых сладостно, в ленивом опьянении нектаром, жужжали беззаботные пчелы, красновато— коричневые от пыльцы с тычинок, растущих из лона цветка.
Повсюду в дивных зарослях, под арками из лиан, виднелись павлины и павы — возбужденные, страстно-взволнованные рокотом туч-литавр. Яркие танцоры, они издавали свое нежное «кхр-р-рааа!» и, распустив хвосты, плясали в упоении, изнемогая от истомы, другие же вкупе со своими возлюбленными сладко нежились в долинах, увитых ползучими побегами.
Нигде не было ни колючек, ни сухостоя, листва и плоды полнились соком, великое множество всяких кустов, деревьев и лиан буйно цвело, зеленело и плодоносило…
* * *
— Ах ты, выкидыш лука Индры[17]!!! Камень свистнул в воздухе.
Толстый попугай-самец, секундой раньше обильно нагадивший Карне прямо на темечко, лишь каркнул с насмешкой. То ли ворону подражал, разбойник, то ли иначе изъясняться не умел. В листве запрыгали обезьяны, вопя от счастья, — попугайская выходка показалась хвостатым разгильдяям верхом изящества.
И град огрызков обрушился на юношу.
Карна погрозил им кулаком, сорвал широкий лист с куста, уплатив пошлину в виде ссадин (кол-люч, сволочь!), после чего, оттираясь на ходу, заспешил прочь. В последнее время он страстно мечтал обладать мощью легендарного Десятиглавца, царя ракшасов, хотя бы для того, чтобы с корнем выдрать из земли эту треклятую Махендру.
Лучшую из гор, хребет ее в кручу…
Полгода странствий пешком от Хастинапура до Восточных Гхат — через Поле Куру и земли ядавов, пересекая рубежи Нижней Яудхеи и Южной Кошалы, Магадхи и Ориссы — превратили молодого горожанина во вполне достойного бродягу. Выучив воровать, чтобы не остаться голым, попрошайничать или перебиваться случайными заработками, если хочешь набить брюхо миской толокнянки, с грехом пополам изъясняться на десятке наречий — иначе вместо расспросов о дороге ты рискуешь смертельно оскорбить собеседника, стремглав прятаться в кусты, едва завидев охраняемый паланкин сановника или царскую процессию, уныло коротать вечера у ашрамов молчальников, прикусив язык и уплетая за обе щеки похлебку из горьких кореньев.
Но он шел на юго-восток.
Ночуя в шалашах, возведенных на скорую руку.
Плетя из лыка какие-то чудовищные лапти, поскольку водянки на ступнях лопались, не желая превращаться в мозоли, сбитые в кровь ноги по вечерам молили о снисхождении, а сандалии давно изорвались в клочья.
Умываясь из зябких ключей, чья ледяная вода заставляла все волоски на теле вставать дыбом.
Парень исхудал, осунулся, ужасно напоминая древесного палочника ростом в добрый посох без малого, щеки запали и лицо обветрилось, несмотря на врожденный медно-красный загар. Иногда приходилось голодать по три дня кряду, и тогда Карна вдвое дольше стоял в полдень под открытым солнцем согласно давней привычке. После такого добровольного пекла голод на время отступал и идти становилось легче. Он шел.
Дважды гулящие людишки пытались отобрать у него серьги — единственное достоние, которое могло поменять владельца лишь вместе с его ушами. Карна научился убивать: это оказалось проще, чем представлялось в Городе Слона. Учение у Наставника Дроны было искусством (при всей нелюбви Карны к Брахману— из-Ларца), а искусство не может быть низменным. Истинная цель пряталась под вуалью прекрасного — блеск доспехов, ржание коней, лихой посвист стрел и дротиков, самоцветные рукояти мечей, боевые кличи…
Здесь, на пыльных дорогах Великой Бхараты, все было проще, проще и обыденнее.
Своего первого Карна задушил — точнее, сломал шею, поскольку не успевал додушить как следует, до конца.
И вогнал в живот второму отобранный у первого дротик — отвратительно сбалансированное древко с ржавым наконечником.
Разбойник умирал долго. Суматошно прятал требуху в распоротое чрево. Плакал. Молился. Пить просил. Ушастику еще пришлось бегать для него за водой. Два раза. Перед смертью чело разбойника стало ясным, он уставился в небо, будто что-то увидев там, и Карна изумился, обнаружив, что умирающий в упор смотрит на заходящее солнце.
До сих пор парень не замечал таких способностей ни у кого, кроме себя.
Разбойник держал руку Карны костенеющими пальцами и смотрел на солнце.
Так и умер, улыбаясь.
Карна пожал плечами, прихватил дротик и пошел дальше.
В чащах Ориссы его спасло чудо. Когда Карна проламывался сквозь местные буреломы, проклиная все на свете, на него из засады напала ракшица с детьми. Дротик сломался, застряв в боку маленького людоеда, кривые когти сняли кожу с предплечья парня, как снимают кожуру с дикого яблочка, и нож птицей упорхнул в кусты. Карна закричал, хрипло и страшно, после чего реальность удрала от него во тьму. Он лишь чувствовал, как отчаянно, неистово пульсируют серьги в ушах, как кровь бьется в набухающей татуировке, словно змея в хватке орла… а потом ему показалось, что он — черепаха.
Черепаха в костяном панцире.
Удары доносились до него глухо, на пределе восприятия, что-то скребло его тело, срываясь и бессильно визжа, он и сам двигался, двигался странно, сперва слишком быстро, потом — слишком медленно, потом вообще никак.
Придя в себя над трупами семейства людоедов.
Изуродованные, растерзанные, в крови и нечистотах, ракшица с детьми валялись среди измятого кустарника, создавалось впечатление, что здесь погуляла чета тигров.
Карна заставил себя отыскать нож и покинул место бойни, так и не решившись забрать наконечник дротика.
Он шел дальше.
Он шел.
В предгорьях Махендры его кормила праща. Лента мягкой кожи — он сам сделал ее из шкуры убитого олененка. Карна стал великим знатоком птиц: у джи— вандживаки, мелкой куропатки, мясо нежно и слегка отдает молоком, фазанов надо запекать в глине, если не лень возиться с дощечками для добывания огня, сорокопуты — те на один зубок, овчинка не стоит выделки, а от черного робина с белыми пятнышками на крыльях пучит живот.
Проще же всего есть птиц сырыми, наспех ощипав, и не шибко привередничать.
Зато ягодами увлекаться опасно: вкусно, сладко, но потом берегись поноса! Присаживаешься под каждым деревом, а всякая поганая макака норовит кинуть в тебя обкусанным бананом…
Красота Махендры мало интересовала парня. Он слишком устал, слишком измучился, чтобы любоваться видами. Кукушка самозабвенно голосит на ветвях цветущей ашоки? — мимо. Журавли танцуют в горных протоках и вокруг зелено— бурых лужаек?! — дальше, дальше! Водные каскады, каждый из множества потоков и вышиной в три пальмы, низвергаются с обрывов? — обойти и вперед! Блестят в откосах прожилки металлов: одни — как отсветы солнца, другие — как осенние тучи, третьи — цвета сурьмы или киновари? Боги, я же не кумбханд-старатель, на кой мне эти залежи?! Пещеры из красного мышьяка, напоминающие глаза кролика?! Кролик — это хорошо, если жирный кролик, а еще лучше, если крольчиха… Он шел.
Он искал Раму-с-Топором.
Поиск стал навязчивой идеей, заслонив от Карны весь мир.
Иногда ему казалось, что мира вообще не существует: только он, Махендра и призрак надежды.
2 МОЩИ
Этот ашрам ты заприметил, едва выйдя из поросшей ююбой ложбины, и едва не кинулся к нему сломя голову. Развалюха, рукотворная жаба врастопырочку, улей с полусферическим перекрытием из плетеных лиан и тебе было ясно, что в середине постройки стоит шест-опора, совершенно необходимый для столь шаткой крыши. Чем— то ашрам напоминал земляной погребальный холм, только южане такие холмы облицовывали камнем, а хижина была всего лишь обмазана глиной.
В предгорьях Восточных Гхат ты не раз встречал подобные жилища. Вблизи деревенек, чьи жители подкармливали аскета милостыней, а в голодное время ушедший от мира питался святым духом и чем придется. Но здесь же селения отсутствовали, здесь бродили разве что редкие охотники, от которых милостыни шиш дождешься, и это был всего-навсего третий ашрам, который попался тебе на склонах Махендры.
В первом лежала иссохшая мумия, улыбаясь тебе с тихой отрешенностью, во втором жил веселый бортник, промышляя медом диких пчел, и на быка среди подвижников бортник походил мало.
Вот он, третий подарок судьбы? издевательство? обманутая надежда?
Ты остановился.
Прислушался.
В глубине ашрама храпела загнанная лошадь.
Этот звук ты, сын Первого Колесничего, не спутал бы ни с чем.
Над головой насмешливо тарахтит трясогузка, разгуливая по ветке бакулы, ей вторит хор цикад и шелест листьев в кронах деревьев, а в ашраме храпит лошадь.
Ты пожал плечами и подошел ближе.
Старое кострище. Зола сухая, слежавшаяся, угли выпирают чирьями с белесым налетом гноя. Наспех ошкуренный чурбачок. Треснутая миска рядом. Порожек хижины. Изнутри тянет кислой вонью — в дворцовых конюшнях пахло не в пример лучше. Впрочем, странствия изрядно поубавили в тебе брезгливости.
— Э-э-э… Есть ли кто?!
Лошадь смолкает, фыркает еле слышно.
Опять храп.
— Дозволено ли будет мне, смиренному, забыв о… забыв о… Тьфу ты, пропасть! Эй, войти можно?! Кто живой, отзовись!
В храп вплетаются стоны: чужое дыхание захлебывается, булькает горлом и снова заводит отчаянные рулады. Крик.
Внезапный, грозный, он заставляет тебя отпрыгнуть и вцепиться в рукоять ножа. Нет, ничего. Обошлось. Бывает.
В ашраме кашляют — долго, гулко, надсадно, словно крик мертвой хваткой палача вырвал кричавшему гортань.
Ты делаешь глубокий вдох и шагаешь через порожек. Пальцы ласкают рукоять.
Вонь едва не сшибает тебя наземь. Нечистоты, грязное тело, пропахшие потом шкуры, копоть — полный букет. Если это обет во имя аскезы… Да ладно, не бывает таких обетов. Небось год подобной смрадной жизни, и Жара накопится валом, впору Вселенную огнем палить. Ты моргаешь, привыкая к полумраку. Ты не замечаешь, не знаешь и знать не можешь, что с твоим появлением в ашраме стало чуть-чуть светлее. Ровно настолько, чтобы суметь видеть. В углу, на ворохе вонючих шкур, лежат святые мощи. Родной брат той, первой мумии. Мощи кашляют, потом стонут. Потом снова кашляют и начинают храпеть.
Страшно. По-лошадиному. — Эй… ты кто?! Храп в ответ.
Ты подходишь вплотную, дыша ртом, и смотришь на умирающего. В том, что эти кожа да кости долго не протянут, нет никаких сомнений. В любую минуту душа
отшельника готова отправиться в райские сферы. Тебе надо идти. Здесь уже ничем помочь нельзя. Ты не лекарь! Ты ничего не смыслишь в хворях! Тебе противна сама мысль, что придется коснуться храпящих мощей, что после наверняка надо будет задержаться и сжечь труп, пробормотав у костра какую-нибудь молитву. Ты не помнишь молитв!
Уходи!
Прочь!
— Ты кто?! Кто ты?! — вдруг вскрикивают мощи, пытаясь сесть. — Ты брахман?! Брахман, да?!
Сесть не удается, и полутруп рушится обратно, в вонь и склизкий мех.
— Брахман я, брахман, — тоскливо вздохнул Карна, почесав в затылке. — Святее некуда. Запакостил ты жилье, дедуля…
И решительно наклонился к мощам.
* * *
Остаток дня Карна провел в трудах праведных.
Вынес больного старика на свежий воздух, потом отыскал коромысло с парой бадеек на плетеных ручках — и отправился к ручью. По счастью, близкому. Беги себе вниз тропиночкой… а обратно беги вверх. С коромыслом на плечах. С полными бадьями. Ой, дедуля, кто ж тебе, доходяге, воду при жизни-то таскал?
Якши лесные?
Ф-фу, вон и ашрам.
Напоить деда перед тем, как заняться стиркой, стоило большого труда. Он вырывался, змеей бился в руках Карны, норовя вялой ладошкой смазать поильца по физиономии, и все время хрипел:
— Ты брахман?! Брахман, да?!
— Брахман, — соглашался Карна, ловя шаловливые ручонки деда. — Чистокровный.
— Врешь! — Дед плевался и решительно не хотел глотать воду. — Ты кшатрий! Ты сукин сын кшатрий! Убью!
— Убьешь, ясное дело. — Миску пришлось наполнять в третий раз, а «сукиного сына» Карна деду простил. — Всех убьешь. И в землю закопаешь. Пей, дурак!
Удивительно: при этих словах дед вдруг обмяк, счастливо ухмыльнулся запавшим ртом и дал себя напоить.
После чего заснул.
Или потерял сознание — кто его разберет?
Обрадованный минутой передышки Карна с золой вымыл шкуры и раскидал вокруг ашрама — сушиться. К сожалению, надвигался вечер, и шкуры не успели высохнуть, их пришлось оставить на ночь, к утру они вновь намокли от ночной росы и окончательно просохли лишь к завтрашнему полудню.
Заскорузнув и треща от прикосновения.
Пришлось долго мять их, отбивать палкой и расчесывать колючей веточкой.
Нож с третьей попытки удалось довольно-таки прочно примотать к выломанному стволу орешника длиной почти в посох. Самодельное копьецо оставляло желать лучшего, но усилия вознаградились сторицей — парень через час завалил лохматого горала, похожего на самца-антилопу с короткими рожками. Печень была незамедлительно отварена и скормлена деду. С превеликим трудом и ежеминутными подтверждениями своего брахманства.
Помогало, но слабо.
Зато на закате старик угомонился. Карна натаскал еще воды про запас, наполнив все имеющиеся в распоряжении емкости, подогрел одну бадейку, раздел старика и тщательно вымыл исхудалое тело. Скелет, обтянутый пергаментной кожей. В чем душа-то держится? Видать, крепко отшельничек жизнь любил, что она его отпускать не хочет! Вон который день небось помирает, под себя ходит — а все живой…
— Ты брахман? — хрипит.
— Угу.
— Точно?!
— Угу.
— А кшатра подохла?!
— Угу. Начисто.
И в ответ — блаженная улыбка.
Ночью у деда начался жар. Не Жар-тапас, заработанный тяжкой аскезой, способный даровать лучшие сферы, а обыкновенный жар. Как у всех смертных. С бредом, судорогами и лошадиным храпением. Карна совсем измучился, бодрствуя до самого утра, а деда то рвало желчью, то выгибало мостом, и прижимать его к шкурам стоило чудовищных усилий.
Урвав с утра часок мутного сна, полного загнанных лошадей и ухмыляющихся братьев-Пандавов, Карна снова вытащил деда на свежий воздух. Постоял над мощами. Разогнал мошкару. И отправился собирать сушняк для костра.
Скорее всего для погребального.
На обратном пути парень споткнулся о корягу и со всего маху приложился башкой о ствол ближайшего дерева. Хворост рассыпался, сам Карна некоторое время обалдело тряс головой, потом прикусил язык и чуть не заорал.
Рот наполнился жуткой, вяжущей горечью, а слюна превратилась в адову смолу.
Карна выплюнул проклятый кусок коры, попавший ему в рот, и долго смотрел на дерево. Вытирая лопухом кровь, струившуюся из рассеченной брови. В детстве он однажды подхватил лихорадку, и мать заставляла его пить отвар коры хинного дерева. Вкус у отвара был примерно таким же. Даже гнуснее. Попробовать, что— ли? Хуже все равно не станет — куда уж хуже?!
Рискнем.
Костер был разведен, кора выварилась в котелке, обнаруженном у очага в ашраме, после чего настой чуть-чуть остыл. Не варом же поить старика? Пока котелок исходил струйками пара, Карна напряженно размышлял. Рядом с котелком им был найден глиняный сосуд, тесно оплетенный лианами, и в сосуде плескалась медовуха. Крепкая, стоялая медовуха. Ошибка исключалась: парень хоть и не любил хмельного, но подружки пару раз заставляли его прихлебнуть глоточек. Чаще всего именно медовухи. Такой напиток делался из особых лиан «мадху» и весьма ценился любителями крепкого-сладкого.
В частности женщинами.
И, по всей видимости, престарелыми аскетами.
Карна утешил себя знакомой истиной «хуже не будет» и, зажмурясь, вылил в котелок примерно четверть сосуда-находки.
Принюхался.
Закашлялся.
И направился поить деда.
— Ты брахман? — спросил дед, горячий, как положенный в очаг камень.
— Брахман.
— А где кшатрии?
— Нету.
— Совсем нету?
— Совсем.
— Это хорошо, — прошептал дед. — Папа, ты слышишь, я…
И больше не сопротивлялся.
* * *
Ночью старик начал задыхаться, и Карна на руках, словно дитя малое, вынес его под звездное небо.
Небо жило своей обыденной жизнью: благодушествовала Семерка Мудрецов, бесконечно далекая от суеты Трехмирья, шевелил клешнями усатый Каркотака, багрово мерцал неистовый воитель Уголек, суля потерю скота и доброго имени всем рожденным под его Щитом, двурогий Сома-Месяц желтел и сох от чахотки, снедаемый проклятием ревнивого Словоблуда, и с тоской взирала на них обоих, на любовника и мужа, несчастная звезда со смешным именем Красна Девица… * Сын возницы сел прямо на землю, привалясь спиной к стволу ямалы.
Уложил деда рядом, пристроив кудлатую седую голову себе на колени.
И провалился в беспамятство.
3 ЧЕРВЬ
Карне снился кошмар. Обступал со всех сторон, подхихикивал из-за спины, щекотал шею скользкими пальцами. Но шевелиться было нельзя, иначе могло случиться страшное. Приходилось терпеть все выходки кошмара, стиснув зубы и окаменев в неподвижности. Вокруг царила непроглядная тьма, она знала все на свете, потому что сама никогда светом не была, знала и щедро делилась своим знанием с заблудившейся в ней песчинкой. «Твой отец умирает, — шептала тьма. — Ты оставил его наедине со всеми этими Грозными, и теперь он умирает! Слышишь, мальчик: ты тоже убийца!» «Заткнись!» — одними губами ронял Карна, теснее прижимая к себе мокрую от пота голову отца. Сердце подсказывало: до тех пор, пока его руки баюкают Первого Колесничего, тьме не совладать с ними, не пресечь нити хриплого дыхания. «Отдай! — грозила тьма, наливаясь блеском полированного агата. — Отдай по-хорошему! Или хотя бы отпусти… Иначе я буду вечно стоять за твоим плечом, ожидая прихода мертвого часа! Я черная, я красивая, почему ты не слушаешься меня, дурачок?!» Молчать было трудно, не отвечать было трудно, стиснутые зубы крошились, заполняя рот горечью хины, Карна лишь перебирал липкие волосы отца и молился невесть кому, чтобы все закончилось, ушло, перестало гнусавить из мрака….
Все еще только начиналось.
Из тьмы пришла боль.
Она явилась маленькая, чахлая, куцым ростком пробиваясь наружу, и почти сразу налилась соками темноты, расправила крону, рванулась вверх пожелай— деревом пекла. Карну едва не выгнуло дугой, но мышцы закаменели, повинуясь приказу, и парень лишь еле слышно зашипел разъяренным бунгарусом. Боль осыпалась листопадом, каждый лист тек медленным ядом, налипая на кожу, словно Карна был тигром, которого живьем берут опытные звероловы… Даже тьма попятилась, удивляясь человеческому упрямству: глупец, отдай, сбрось, оттолкни, ну хотя бы просто вскочи на ноги!
Боль.
Тьма.
И недвижный человек во тьме и боли.
* * *
Веки раскрылись рывком, единой судорогой, и свет хлынул навстречу тебе.
Солнечный свет.
Утро.
Ты сидел под деревом, в пяти шагах от ашрама, нянча на коленях голову деда-брахманолюба. Лоб деда был мокрый и холодный. К сожалению, боль никуда не ушла, но теперь она гнездилась в левой ноге и была земной, обычной болью, которую терпеть трудно, но можно. Скосив взгляд, ты увидел: на твоем бедре, рядом с дедовым ухом, поблескивает красным цветком язвочка. Клещ забрался, что ли? Да нет, не бывает от клеща такой боли… Червь-костогрыз? Ах, тварюка, опять начал! Точно сверлом крутит! Ну погоди, сейчас я тебе…
Уцепить червя пальцами не удалось. Забрался, пакость, по самый хвост, и жрет в три горла! Ты некоторое время сидел, снося червивые проделки и не желая тревожить сон деда, потом решился. Сколько ж можно?! С предельной осторожностью приподняв затылок отшельника, ты совсем было собрался отодвинутьс в сторонку — пусть дед поспит без живой подушки, пока ты разберешься с прожорливым гадом! — но так и не сделал этого.
Потому что дед раскрыл глаза.
Трудно, медленно шевелилась плесень старческих ресниц, морщинистые веки— черепахи тряслись студнем, прежде чем двинуться в путь, и ты как завороженный смотрел в лицо дряхлого аскета.
Словно ждал чего-то.
Глаза старика наконец открылись, и тебе показалось: ночной пот, дитя хинного отвара пополам с медовухой, насквозь промыл дедов взор. На тебя двумя адовыми жерлами смотрела бездна Тапана, геенна нижнего мира. Варила смолу, закручивала пенные барашки, приглашала провалиться в себя и стать частью огненной лавы.
Ты не выдержал.
Отвернулся.
— Ты брахман? — спросил дед, еле ворочая непослушным языком.
Как ни странно, знакомый вопрос успокоил тебя.
Даже боль в бедре малость поутихла.
Чтобы мигом позже взвиться пылающим смерчем.
— Не то слово! — прошипел ты севшим спросонья голосом, обеими ладонями придерживая затылок аскета.
Руки дрожали.
Хотелось разорвать собственную плоть и залить пожар водой.
Но костистый затылок деда был по-детски хрупок и беззащитен: убери ладони — и все. Ударится оземь, треснет сухой тыковкой… не для того же ты старика из лап смерти тащил?!
Дрожь в ладонях.
Боль в бедре.
Затылок.
Вдруг припомнилось вчерашнее удивление: когда ты перед купанием распустил узел-капарду на дедовой макушке, старик оказался чудовищно волосат. Седые пряди рекой змеились вдоль тощей хребтины, доставая до крестца. Вымыть их как следует стоило большого труда, едва ли не большего, чем вымыть всего деда.
Щеголь ты, старичина…
Черный глаз моргнул, искоса разглядывая язву на твоем бедре. Будто чудо заприметил. Диво дивное. Ты закусил губу, пережидая новый приступ боли, потом отодвинулся и уложил деда на траву.
Нечего этой вороне коситься.
— Ты погоди, — голос отказывался повиноваться, пробиваясь наружу смешным сипением, — я сейчас шкуру вынесу. Роса кругом, а ты у меня хлипкий, комар носом перешибет! Эх, вчера не допер…
— Не надо… шкуру.
Старик напрягся и с усилием сел. Было видно, как он заставляет тело подчиняться. Так опытный табунщик смиряет жеребца-неслуха. Так владыка смиряет охваченные бунтом земли. «Так мудрецы смиряют богов», — мелькнула в твоем сознании совсем уж неуместная мысль.
Костлявые пальцы машинально нащупали прядь седых волос. Дернули раз, другой… третий. Тебя покоробило: та же привычка терзать кончик чуба была у Грозного.
Ты, понимаешь, перед ним ниц валяешься, а он чубом играется, обидчик!
Но смоляной взгляд по-прежнему не отрывался от твоего левого бедра. И червь попритих. Хоть за это спасибо, дедуля… А насчет шкуры — тут ты не прав. Шкуру я вынесу.
Посиди, я сейчас.
Когда Карна выбрался из ашрама наружу, волоча следом самую лохматую из шкур, дед уже стоял на ногах. И даже почти не качался.
Этак денек-другой — и можно дальше идти.
Искать.
— Ты не брахман. — Обвиняющий перст уперся в Карну. — Ты мне соврал. Брахман не может быть столь нечувствителен к боли. Ты кшатрий, да? Кто тебя подослал? Говори!
Последняя капля.
Последняя соломинка.
Из тех, что переполняют чашу и ломают спину слону.
— Брахман?! — заорал Карна во всю глотку, надвигаясь на спасенного им старика. — Кшатрий?! Сутин сын я! Сутин-рассутин! Потому что тебя, гиацинта божьего, спасал! Что, отшельническое дерьмо только брахманы выгребать горазды?! Да хоть загнись ты тут, на Махендре своей, мизинцем больше не шевельну! Все вы одним миром мазаны: и ты, и сука Дрона-пальцеруб, и Грозный! А Рама-с-Топором, учила ихний, небось из всех сук самая сучара и есть! Вот найду и в рожу плюну! И ему, и тебе, и всем вам! Задавитесь, сволочи! Сдохните!
Он захлебнулся собственным гневом и той чушью, которую нес без смысла и рассудка, одним сердцем, вовсю полыхавшим от боли. Бешенство было сладостным, оно приглашало окунуться в отчаянную пляску жизни и смерти, найти виноватого и отплатить за все обиды, бешенство называло себя свободой, оно и впрямь походило на свободу, как одно дерево походит на другое, но тщетно дожидаться яблок от гималайского кедра… тщетно и ждать, когда на бильве-дичке вырастет хвоя. Карна сам себе казался раскаленным светилом, которое свернуло с наезженной колеи, направив бег коней к земле, — и вот: кипят моря, земля трескается, обнажая кровоточащие недра, живое вопиет к белым небесам, а боги кидаются врассыпную с пути огненной колесницы. Гони, Заревой Аруна! Мчитесь, гнедые жеребцы! Гори, пламя, ярись, тешься самозабвением мести!..
— Кончай орать, придурок, — тихо сказал аскет, и Карна осекся, прикусив язык. — Нога болит небось?
— Болит.
Слово получилось странным: болит?
Что это такое?
И связано ли с истинной болью?.. Когда жизнь из милости, наука с царского плеча, а дорога ложится под ноги исключительно буграми да колдобинами!
— Черви у тебя, дедуля… червяки. Достали, проклятущие… Ты не сердись, ладно? Я сейчас уйду. Уйду я… совсем.
— Черви? — Казалось, старик не слышал последних слов Карны. — А ну-ка посмотрим, что за черви у меня водятся…
И губы старика разлепились двумя рубцами, выплюнув всего три слова.
Палаческое шило пронзило бедро, Карна не удержался, взвыл полной грудью, но вой скомкался мокрой тряпкой, кляпом заткнув глотку.
Между Карной и дедом стоял бог.
Еще секундой раньше это был червь, золотистый червячок, стрелой вылетевший из язвы на бедре, золото треснуло, разрастаясь, плеснуло накидкой, выпятилось ожерельем на широкой груди, разлилось шитьем одежд, вспенилось зубцами диадемы в пышных кудрях… Бог молчал и недовольно хмурился. Не нравились богу стариковские слова. А нравилось быть червем и терзать человеческую плоть. Уж неясно, зачем втемяшилось небесному гостю, чтоб парень дернулся и скинул с колен дедову голову? Видать, знатная шутка получалась.
И не получилась.
Карна ошалело пялился на гада-небожителя. Парень был готов поклясться, что уже видел раньше это холеное лицо со странной, чуть диковатой нечеловечинкой. Льняные кудри до плеч, сросшиеся на переносице брови, белая кожа, миндалевидный разрез надменных глаз, орлиный нос с тонкой переносицей…
Видел!
Ей-богу… тьфу ты! — честное слово, видел!
Перед Карной стоял его изначальный недруг и соперник, третий из братьев-Пандавов, гораздых на насмешки и издевательства.
Перед Карной стоял Серебряный Арджуна.
Только было Арджуне на вид лет тридцать, и разворот плеч у него был саженный, и мощные руки скрещивались на груди двумя слоновьими хоботами, Карна моргал, а бог хмурился себе и не спешил уходить.
Неужели правда?!
Неужели Арджуна и впрямь сын Крушителя Твердынь, Стогневного Индры, и сейчас Громовержец собственной персоной явился позабавиться с сыновней игрушкой, добавить и свою каплю в чашу издевательств наследника?!
Яблоня от яблочка?!
Все предыдущее бешенство показалось Карне детским лепетом перед тем смерчем, что вскипел в его душе теперь. Кобылья Пасть вынырнула из потаенных глубин сердца и расхохоталась, скаля хищные клыки. Все против него: черви, боги, люди, судьба — хорошо же! Одному проще: не за кого бояться, нечего терять, и похабную враку «один в поле не воин» выдумали те трусы, которые в поле-то и табуном сроду не хаживали! Одно солнце в небе, один он, сутин сын Карна, ну, тварь небесная, давай рази перуном, бей громовой ваджрой — вот он я! Будешь потом сынку на ночь сказки сказывать, как шутил на полянке с грязным парнем и дохлым дедом, как тешился-грыз мое бедро, как я успел тебе в горло вцепиться, прежде чем подохнуть, и невесел будет ваш смех, кривой получится улыбка, а я и из пекла выкрикну, захлебываясь смолой, будто слюной:
— Черви! Черви вы все! Зови всю Свастику, мразь!
Карна не знал, что последние слова прорычал вслух.
Ледяной ожог ударил по ушам. Набатом обрушился из синей пустоты, вышибая все лишнее, очищая сознание от злобы, обиды, от судорог бытия. Двумя маленькими зарницами, рассветной и закатной, полыхнули «вареные» сердолики серег, вторя отчаянному биению сердца, и алое свечение окутало голову Карпы. Оно густело, заостряясь кверху, на глазах превращаясь в высокий шлем с копьеподобным еловцом, устремляющимся ввысь. Золотой диск восьми пальцев в поперечнике — извечный символ Лучистого Сурьи, коим украшены алтари животворного Вивасвята, — служил налобником, а кольчатая чешуя бармицы водопадом света ниспадала на затылок и плечи.
И бог зажмурился.
Но вновь открыл гневные глаза и позволил косматой накидке окутать себя от шеи до пят.
Махендра попирал Махендру[18]. Карна вдохнул острый аромат грозы, закашлялся и почувствовал, как неистово зудит татуировка. Ритм восхода насквозь пронизывал кожу, вливал багрянец в проступающие на теле нити, они сплетались, становясь плотнее, словно ткач-невидимка проворно завершал работу над чудо-полотном: вот пекторалью белого металла сверкнула грудь, вот пластины лат укрыли бока, вот оплечья выпятили острые края… внахлест ложилась чешуйка за чешуйкой, броня за броней, быль за небылью — наручи обняли руки от запястья до локтя, голени ощетинились короткими шипами поножей, а бляхи пояса отразили целую вереницу гневных глаз бога!
Воин-исполин, закованный в доспех, снять который можно было лишь вместе с кожей, высился перед богом в косматой накидке. Исчез лес, ушла из-под ног Махендра, лучшая из гор, и явь Безначалья самовольно распахнулась перед двоими. Вода Прародины пошла свинцовыми кругами, многоцветье туч укрыло небосвод от края до края, громыхнул вполголоса кастет-ваджра в кулаке бога, каплями роняя с зубцов грозовые перуны, и в ответ солнечный луч прорвал завесу, упав в ладони воина «маха-дхануром», большим луком великоколесничных бойцов.
А второй луч, сполох с наконечником в виде змеиной головы, уже лежал на тетиве.
На берегу с интересом поднял кустистую бровь дед-доходяга, смутным ветром занесенный сюда, где грозили сойтись в поединке огонь и огонь. Но косматая накидка всплеснула крыльями, на миг заслонив собой весь окоем… А когда зрение наконец вернулось к людям…
Поляна.
Ашрам-развалюха.
И Карна изо всех сил скребет татуированное тело ногтями, пытаясь унять немилосердный зуд.
В небе рявкнуло целое семейство тигров, тьма рухнула на Махендру, и ливень наискось хлестнул по лучшей из гор тысячью плетей. Гром плясал за хребтами Восточных Гхат, дребезгом монет по булыжнику рассыпаясь окрест, пенные струи ерошили кроны деревьев, полосовали кусты, бурля в мигом образовавшихс лужицах. Ветвистые молнии о шести зубцах ярились над головой, сшибаясь оленями в брачную пору, вон одна ударила в старый баньян, но пламя угасло, едва занявшись, растоптанное сандалиями ливня.
Парень ухватил деда под мышки и, невзирая на протесты, поволок к хижине. Еще простудится — лечи его потом заново! На крышу надежда плохая, но если сесть в углу на одну шкуру, а второй накрыться с головой и переждать…
В эту пору грозы короткие.
* * *
Под шкурой оказалось на удивление тепло и сухо, крыша боролась с дождем, как старый пес-овчар с волками — не юной силой, так опытом и сноровкой, тесно прижавшись друг к другу, сидели дед и Карна, мало-помалу развязав языки.
О богах и червях, по молчаливому обоюдному сговору, речь не шла. Говорили о суках. О Дроне-пальцерубе, о хастинапурском Грозном и о самом главном сучаре — Раме-с-Топором. К которому шел Карна в тщетной надежде вывести себя из-под гнета обязательств перед Брахманом-из-Ларца. Если быть точным, говорил один Карна. Дед же внимательно слушал и в особо интересных местах хмыкал, машинально заплетая свою гриву в длинную косу. Коса выходила на диво, небось девки от зависти б сдохли!
И плечо деда, тесно прижатое к плечу парня, каменело прибрежным валуном.
Того и гляди мхом покроется.
— Ладно. — Карна умолк и выглянул излпод лохматого навеса. — Вроде бы стихает. Ну что, дедуля, не поминай лихом, пойду я.
— Куда это? — неприятным тоном поинтересовался дед.
— За кудыкину гору. Твоя гора небось и есть кудыкина, а мне за нее надо. Эх, самому бы теперь знать, в какую сторону…
— Обожди. — Старик выбрался наружу и стал по-кошачьи потягиваться всем телом, фырча от удовольствия. — Пойдет он… Мне тебя, срамослова, еще проклясть надо. А я уж немолод, быстро проклинать не умею.
— Чего?! Тебе что, старый хрыч, медовуха по башке треснула?! Проклинать он меня будет! За что?!
— А за враки твои несуразные. Брахман он, видите ли! Нет уж, парень, умел врать, умей и ответ держать… Готовься — проклинаю!
У Карны руки чесались вздуть сволочного деда, но он сдержался — не из уважения к старости, а из опаски вколотить старикашку в гроб.
— Итак, — вещал меж тем дед, терзая кончик своей косы, — приготовился? Тогда слушай! Если есть у меня в этой жизни хоть какие-то духовные заслуги, в чем я сильно сомневаюсь…
Дед выждал многозначительную паузу.
— Да наступит для тебя такой момент, когда наука Рамы-с-Топором не пойдет тебе впрок и ты поймешь, что сила солому ломит, но не все в нашей жизни солома! Да и сила — тоже далеко не все. А теперь подымайся, бери коромысло и беги за водой. Суп варить будем.
— Кислый ревень тебе в пасть, а не суп, — вяло огрызнулся Карна, ничего не поняв в сложном проклятии. — Я тебе что, нанялся?!
— Нанялся. Только что. В ученики.
Рама-с-Топором засмеялся и добавил с хитрой ухмылкой:
— А иначе как же исполнится мое проклятие?
В небе громыхнуло напоследок, словно слова старого аскета очень не понравились кому-то там, в идущей на убыль грозе.
Глава VII УЧЕНИК МОЕГО УЧИТЕЛЯ
1 ГРОЗНЫЙ
От перил невыносимо пахло сандалом.
Грозный встал в ложе, и почти сразу слуга за его спиной раскрыл над господином белый зонт. В этом не было нужды: потолок надежно защищал от лучей солнца, да и сам Лучистый Сурья сегодня прогуливался за перистой оградой облаков. Но так уж повелось: над Гангеей Грозным по прозвищу Дед должен реять зонт. Знак царской власти — над не-царем. Чтобы видели. Чтобы помнили. Чтобы преисполнялись. Чтобы…
Грозный втайне поморщился, гоня прочь дурацкие мысли, и подошел ближе к перилам. Внизу, на арене и в проходах между трибунами, буйствовали скоморохи и плясуны. Люди-змеи вязали из себя узлы, один замысловатее другого, акробаты ходили на руках, факиры глотали кинжалы, отрыгиваясь синим пламенем о семи языках, и зрители не скупились на подачки. Похоже, сегодня сюда явился весь Хастинапур: старики, молодежь, женщины, малые дети хнычут на руках у мамок, клянча сладкий леденец…
Эти люди мало интересовали Грозного.
Им дозволено получить свою долю потехи, и они ее получат. Наставник Дрона нашел прекрасное место для стадиона, обладающее сотней благоприятных примет, покатое к северу, обряды были проведены с тщанием, а строители превзошли сами себя. Недаром вокруг стадиона мигом вырос целый городок шатров — состоятельные горожане могли позволить себе неделю отдыха. Неделю праздной болтовни и восторга.
Неделю зрелищ, которых порой не хватает пуще хлеба насущного.
Грозный поднял руку, и гул дюжины гонгов обрушился на трибуны. Он рос, ширился, заполняя пространство, в него вплелась медь длинномерных карнаев, сотня цимбал подхватила эстафету — и сверху брызгами взлетела золотая песнь труб. Шуты заспешили, покидая арену, трибуны откликнулись взволнованным аханьем, и стража уже пинками гнала из восточного прохода дурака-факира, прозевавшего нужный миг.
Счастье последнего, иначе колесницы смяли бы человека, отправив радовать своими фокусами адских киннаров.
На арену выезжали царевичи. Множество царевичей. Местные, хастинапурские, и наследники сопредельных престолов, и наследники престолов не то чтоб сильно сопредельных, и будущие хозяева дальних земель. Птенцы Города Слона. Заложники Великой Бхараты.
Они тоже мало интересовали Грозного.
Ровно в той степени, в которой должно интересовать средство, но не цель.
В ложах, расположенных по периметру стадиона, раздались приветственные клики. Отцы подбадривали сыновей. Знатные отцы, специально съехавшиеся на это ристалище славы. Каждому радже хотелось поглядеть, как его чадо станет демонстрировать науку слоноградских воевод и самого Брахмана-из-Ларца. Более того, они уже знали от послов Грозного, что после выступления царевичи без помех разъедутся по домам. И втайне ломали головы — регенту больше не нужны поводья чужих упряжек?
Почему?!
Грозный знал — почему.
Скоро об этом узнают все.
Через три года вечному регенту стукнет ни много ни мало — век. Пора подводить итоги. Пора готовиться уйти в тень, а там и дальше, чем просто в тень, ибо и вечные не вечны. Сколько он протянет еще? Двадцать лет? Тридцать? Возможно. И даже возможно, что в лучшие сферы он удалится, так и не познав горького привкуса дряхлости. Брахманы говорят: в Крита-югу люди жили втрое больше нынешнего. Оттого и успевали накапливать кучу Жара просто так, за отпущенный им срок. В Трета-югу жизнь была вдвое против нашей меры, и пришлось ввести обильные приношения богам. Эра сегодняшняя, Двапара-юга, вновь сократила нить бытия смертных, и к жертвам добавилось исполнение Закона.
Костыли, костыли…
Те же брахманы утверждают, что по наступлении Эры Мрака шестидесятилетний мужчина будет считаться стариком. Что без праведного учителя за столь короткий срок нечего и думать, чтобы обзавестись необходимым для обретения рая тапасом. Много всякого утверждают мудрые брахманы…
Иногда, особенно зимними вечерами, Грозному было очень жаль несчастных жителей грядущей Эры Мрака.
Однодневки! — впрочем, чего ждать от преддверия конца света?!
…Гангея вновь досадливо свел брови, сосредоточиваясь для главного, и вернулся в кресло. Зонт с треском захлопнулся, зато воздух в ложе дрогнул от ласки опахал. Ловкие руки услужливо раздернули жемчужные сетки по краям перил, дабы ничего не застило взора регента. Но Гангея не смотрел на арену, откуда доносился свист стрел, ржание и лязг тупых мечей о доспехи. Это все сандал. Это все запах прошлого, аромат дней, когда подводить итоги казалось бессмыслицей. Время пахнет сандалом, подобно… Хватит. Хватит терзать самого себя! Иначе давно забытый мальчишка поборет непобедимого владыку, юноша уложит Деда на обе лопатки, и Великая Бхарата так и не назовет сама себя по имени.
Пора.
Напротив, на другом конце стадиона, Грозный видел ложу слепого внука. Рядом со Слепцом сидела его супруга, словами живописуя мужу происходящее на арене. В углу тихо расположилась вдова покойного Альбиноса, она казалась равнодушной ко всему, но ноздри царицы Кунти взволнованно трепетали. Вся жизнь вдовы теперь сводилась к успехам ее сыновей, вся порушенная жизнь, а сейчас сыновья потрясали зрителей воинскими подвигами, и мать была счастлива.
Интересно, она понимает, что никому из братьев-Пандавов никогда не сесть на хастинапурский трон? Наверное, понимает. Слепец — старший, он законный владыка, и наследовать Город Слона по праву положено его первенцу, гордому Бойцу. Это не вызывает сомнений ни у кого. Но все равно, жди шума, когда Грозный во всеуслышание объявит скрытую досель тайну. Тайну, известную лишь троим: ему самому, Наставнику Дроне и царственному Слепцу.
Тайну, способную взорвать стадион похлеще небесного оружия.
О раджи, тигры кшатры! — рукоплещите своим наследникам и ждите новостей!
Сегодня Гангея собирался объявить подготовку к двум великим обрядам — «Приношению Коня» и «Рождению Господина». Объявить от имени восемнадцатилетнего Бойца. На предварительное обустройство обрядов должен уйти год, еще пару-тройку лет отведем самим обрядам, и когда Грозный разменяет второй век, на хастинапурском троне воссядет Боец-Махараджа.
Чакравартин-Колесовращатель.
Владетель Великой Бхараты.
Девяносто девять его братьев во главе с преданным Бешеным станут наместниками в крупных городах, бывшие заложники склонят головы вместе со своими отцами, памятуя о днях ученичества, а Грозный вкупе с Брахманом-из— Ларца еще по меньшей мере десятилетие сумеют поддерживать Махараджу силой Астро-Видьи.
Страшной угрозой, одно упоминание о которой заставляет трястись отчаянных смельчаков.
Империи — быть.
После этого необходимость в Грозном отпадет, подобно сброшенной змеиной коже.
А Наставник Дрона, о чем он давно говорил, наконец сможет уйти от мира и примерить мочальную рясу отшельника.
* * *
Гомон трибун неожиданно превратился в двухголосье.
— Бхи-ма! Бхи-ма! — рокотало море.
— Бо-ец! — эхом откликался гром из-за дальних хребтов.
Грозный отвлекся от раздумий и привстал, бросив взгляд на арену.
Друг вокруг друга кружили двое: первенец Слепца, чье блистательное будущее только что представлял себе регент, и Бхима-Страшный, второй сын Альбиноса. С поднятыми палицами, рыча от возбуждения, они напоминали слонов, сошедшихся из-за самки. На арене хватало воевод-наставников, чтобы в случае чего не допустить кровопролития, но столь легкое разделение зрителей на два лагеря всерьез обеспокоило Грозного. Особенно в свете последних замыслов. Совершенно ни к чему позволять черни самой выбирать себе любимцев, вдвойне ни к чему позволять это царям-гостям. Любить — вернее, славить — они будут того, кого им выберет Дед. И никак иначе.
А Дед уже выбрал.
Раскаленной иглой пронзило предчувствие: день, когда эти двое вновь сойдутся, встанут с палицами брат на брата, будет днем крушения надежд. Глупость, бабьи страхи, бред! — но предчувствие было столь ясным, что сердце на миг зашлось барабанной дробью.
Гангея резко поднялся, напугав слуг, и вновь подошел к перилам. Отыскал глазами Брахмана-из-Ларца. Убедился, что тот обеспокоен не меньше, и знаком приказал развести соперников. Умница Дрона, прекрасно понимая щекотливость поручения, сам на арену идти не стал. Он наклонился к своему сыну, что-то шепнул ему на ухо, и маленький (весь в отца!) Жеребец побежал к противникам. По дороге он ловко отобрал личину у какого-то скомороха и напялил ее себе на голову, полностью скрыв лицо. Палицы еще не успели сойтись, рождая треск и грохот, а незваный гость с разбегу запрыгнул прямо на плечи к Страшному, ухватил здоровяка за уши и оглушительно заржал на весь стадион, оправдывая собственное имя. Трибуны разразились хохотом, даже почтенные раджи схватились за животики, но сын Дроны уже валялся на земле перед обоими царевичами и потешно дрыгал ногами.
Ни дать ни взять Червь Творца, поверженный двумя Индрами.
Шутовская выходка разрядила ситуацию. Дрона для виду прикрикнул на стражу, веля отловить забавника в личине, но Жеребца уже не было на арене.
Скрылся в проходе.
Исчез.
А вскоре рядом с Дроной вновь стоял строгий сын-брахман, молоденький бычок меж дваждырожденных, которого просто невозможно было заподозрить в ерничестве.
На арене же спешно начали наводить порядок. Приближалась кульминация: Серебряный Арджуна должен был демонстрировать собравшимся владение небесным оружием.
Три года назад Грозному удалось убедить Брахмана-из-Ларца открыть перед Арджуной сокровищницу Астро-Видьи. Сам Арджуна был счастлив, даже не задумываясь, что этим он напрочь отрезает себе путь к хастинапурскому престолу. Цари, согласно святым предписаниям, бывают трех видов: царь по происхождению, царь-герой, прославившийся аскезой и добродетелью, и царь— полководец. Последний, как правило, теряет возможность сидеть на троне, служа военной поддержкой первому или второму. Да и Дрона, по предварительному сговору с Грозным, обучал Арджуну искусству Астро-Видьи лишь в том объеме, какой применим в войнах смертных. Ничего способного вызвать гнев богов или необратимые последствия Серебряному гордецу передано не было.
Быть ему главным воеводой при Махарадже.
Уйдет Грозный, уйдет Дрона — пусть имперским злоумышленникам снится по ночам мощь Арджуны.
Пускай трепещут.
Единственное, чего не понимал Гангея, так это того, каким образом Арджуна станет публично демонстрировать свое искусство. Но Дрона поклялся, что жертв не будет, а будет лишь праздник и великое зрелище, — слов же на ветер Брахман— из-Ларца не бросал.
Да будет праздник.
Да будет великое зрелище.
После которого Грозный вслух объявит о подготовке «Приношения Коня» и «Рождения Господина».
От перил невыносимо пахло сандалом. И еще: у вечного регента почему-то дергалось левое веко.
2 ДРОНА
Царевичи заблуждались, полагая сегодняшний день своим звездным часом.
Молодости свойственно преувеличивать.
Дрона стоял на западной террасе снежным сугробом: белые одежды, белый брахманский шнур-джанев, седая борода, седые кудри до плеч, венок из белых цветов карникары, не имеющих запаха, гирлянда из цветущей лианы-медвянки, олицетворения женщины, нуждающейся в поддержке, а также мира, опирающегося на праведных, — он стоял, маленький брахман, отрешенно глядя перед собой навек серыми глазами.
Они с Грозным смотрелись ровесниками, хотя сын Ганга был чуть ли не вдвое старше Брахмана-из-Ларца.
Впрочем, много ли значат годы и внешность для рожденного в небесных садах, для того, кто три года назад проклял бога над свинцовой равниной Прародины?!
Краешек рта дрогнул — Дрона улыбался.
Как мог.
Как умел.
Это был ЕГО звездный час. Это его наука сейчас ярила коней на арене, ловко маневрируя между другими колесницами, это его наука всаживала стрелу за стрелой в отверстие коровьего рога, подвешенного на веревке, его наука поражала дротиками три канонические цели — мягкую, узкую и тяжелую, его наука била копьями в пасть железного кабана, заставляя трибуны откликаться воплями восторга.
И еще: это его наука властно говорила в юных кшатриях, в царских сыновьях. Убийство человека во время битвы не признается за грех, но трижды греховно убить безоружного или связанного, молящего о пощаде или уклонившегося от сражения, сидящего и лежачего, юродивого, евнуха и несовершеннолетнего. Спящий неприкосновенен, нагой в безопасности, слова «я твой!» крепче любого щита, зритель защищен богами и честью воина, удар сзади запретен, а добивать тяжко раненного — вечный позор. Воитель отпускает с миром тех, чье оружие сломано, кто огорчен печалью, охвачен страхом или обратился в бегство, свята неприкосновенность возницы, певца и брахмана, а также женщины и слонихи, а также мальчиков и старцев, пленные же после боя должны быть обласканы, излечены врачевателями и отпущены с дарами.
Таков Закон.
Таковы границы, в которых имеет право действовать Польза.
Брахман-из-Ларца не представлял себе иной войны. Так слепой от рождения не в состоянии представить себе цветущую яблоню.
Или дымящуюся требуху в распоротом чреве оленихи-важенки.
Когда на пустую арену, заново убранную слугами, выехал Серебряный Арджуна, серый взор маленького брахмана остался бесстрастен. Нет! — он даже приспустил морщинистые веки, словно не собирался глядеть на подвиги лучшего из своих учеников. Время шло, снежный сугроб на западной террасе оставался недвижим, и общий крик испуга не смог поколебать спокойствия Дроны.
Он и так знал, что сейчас видят зрители.
Они видят ад.
Пылающую геенну, рукотворное пекло вместо арены, где вода тверда, земля летуча, ветер хлещет наотмашь, а горы бродят пьяными от течки слонихами. Вот сейчас, сейчас погибнет смельчак, вызвавший светопреставление! — но горы корчатся под ливнем огненных стрел, ветер рассечен синим мечом, копыта грохочут по кипятку, словно по булыжнику, и воспаленные губы плюются словами, от которых ад вздрагивает в смятении.
Арджуна демонстрировал владение Астро-Видьей.
Наглядно и безопасно.
И зрители чувствовали себя богами, наблюдающими за схваткой гигантов.
Дрона позволил себе отвлечься и вспомнил, как три года назад приступил к обучению Арджуны, поддавшись на уговоры Грозного. Первые же дни стали днями разочарования. Начало Безначалья, единственное место, где можно было всерьез обучатьс владению небесным оружием, наотрез отказывалось принимать в себя нового ученика. То, что в свое время с легкостью далось Брахману-из-Ларца, не давалось молодому царевичу. Часы медитаций — тщетно! И тело, и дух Арджуны оставались здесь. Дрона расспросил Гангею Грозного о его сроке обучения у Рамы— с-Топором, Грозный ответил искренне, не упустив и рассказ о битве с учителем на льду Прародины, — и понимание пришло само.
Кшатрий мог попасть в Начало Безначалья, лишь окутанный Жаром учителя— брахмана или иного дваждырожденного, чьих запасов тапаса хватало на этот подвиг.
Еще могли пособить боги, но обращаться всякий раз к сурам-небожителям, пусть даже ради сына Громовержца?..
Дрона отверг божественный путь и попытался вытащить Арджуну в Безначалье самостоятельно. После чего неделю отлеживался дома, приходя в себя и благодаря судьбу за своевременное отступление. Большая часть личного тапаса Дроны, накопленного за годы аскетических странствий, была израсходована на рождение сына. А десять с лишним лет жизни во дворце, жизни спокойной и размеренной… Брахман-из-Ларца не умел лгать самому себе. Да, последние годы он был брахманом меньше всего. Да, Наставник — но наставник-воевода. Да, советник, но советник-политик. Да, муж. Да, отец. Да, уважаемый и досточтимый…
Пожалуй, сейчас Жара ему хватало лишь на приличное перерождение в случае смерти.
Для занятий с Арджуной оставалась только реальность. Дрона вывозил Серебряного юношу в глушь, в чащи Пхалаки и на речные отмели Ямуны, где сожженные деревья и покореженные холмы могли удивить разве что местное зверье. Разумеется, осваивать даже там мантры вызова «Головы Брахмы» или хотя бы «Южных Агнцев» было сумасшествием — грохни такое в мире смертных, и пристальное внимание небес обеспечено. Но Грозный четко и недвусмысленно приказал: Арджуна должен быть готов применить науку в обычных земных войнах. А то, что годится всего-навсего для сокрушения крепостных башен или устрашения пехотного строя, не вызывает интереса у богов.
Все равно, когда Арджуна увлекся «Грохочущими Стрелами», лес Кхандава перестал существовать. Дрона устроил ученику грандиозную выволочку, а меж людей загуляла байка: дескать, сын Индры восстал на собственного папашу, вопреки воле последнего скормив всю чащу голодному Агни, за что Семипламенный подарил кормильцу великий лук Гандиву, два неистощимых колчана и колесницу под стягом обезьяны.
Людям рты не заткнешь.
Даже «Грохочущими стрелами».
Именно в это время Дрона сделал открытие. Воин, пользующийся Астро— Видьей, подобно жрецу связывал воедино Слово, Дело и Дух — Слово открывало, Дело поддерживало, а Дух воплощал. Но кто сказал, что две опоры из трех не удержат здания?! Хотя бы временно! Юноша горяч духом? — исключим Дух. И маленький брахман принялся гонять ученика, заставляя его при этом оставаться совершенно спокойным. Как ни странно, это оказалось совсем просто. В глуши они были один на один, соперники отсутствовали, да и не было у Арджуны соперников меж ровесников, а считать соперниками Дрону или Грозного… Опять же присутствие Брахмана-из-Ларца, чьему хладнокровию могли позавидовать гималайские ледники, благотворно влияло на Арджуну.
Дух оставался в покое.
Слово и Дело сливались вместе.
И Дрона видел: теперь все происходит как бы на самом деле. Пышет огонь, летят молнии, бьются с нагами-копьями железноклювые птицы, пенится земная плоть, но это лишь иллюзия, мара, которой для подлинного воплощения не хватает горячего человеческого сердца.
Дом на двух опорах был прекрасен и совершенно непригоден для жилья, что вполне устраивало Наставника Дрону. Так можно учиться здесь, так ни к чему рваться в Безначалье, а если Арджуне когда-либо придется испытать силу Астро— Видьи в настоящем бою…
Бой, в отличие от учебы или демонстрации, не оставит Дух равнодушным.
Третья опора появится сама.
И пламя станет пламенем.
До конца.
* * *
…Снежный сугроб на западной террасе каменел в неподвижности и не знал, что спустя мгновение он начнет стремительно таять.
Дрона никогда не выступал прилюдно, он никогда не хотел понравиться толпе, никогда не искал чужого восторга или славы.
Поэтому изощренный разум Брахмана-из-Ларца даже не мог себе представить, что способны сделать овации с Духом сына Громовержца.
Никто не всеведущ, даже боги.
3 АРДЖУНА
— Ом мани!
Слова намертво заученных мантр вихрем слетали с его губ и кречетами— призраками уносились вдаль, пронизывая толщу Трехмирья, туда, где вились такие же призрачные стаи невиданных стальных птиц. Но сталь оперения была бессильна спасти птиц от ловчих кречетов великого воина Арджуны, и там, далеко, за невидимым в дымке горизонтом, раз за разом вспыхивали отсветы запредельных зарниц, когда кречет настигал очередную жертву. Тотчас же очередное чудесное оружие возникало в руках витязя, и тьмы врагов в страхе бежали прочь под ливнем медных стебельков травы куша, хлещущим в их спины, шипастые шары рвались с оглушительным грохотом в гуще неприятеля, семенами гибели извергая из себя наконечники стрел, земля разверзалась под ногами беглецов, и небо разверзалось над их головами, и грозовые перуны рушились навстречу адскому пламени, кипящему в трещинах тверди, и не было спасения ни на земле, ни в воздухе, ни в воде, ни в недрах земных…
Ложь!
Ложь была единственным противником, покрытым броней неуязвимости.
Из лжи ткалась плоть ада, из лжи рождались вспышки и грохот, враги гибли лживо, и сжигающее их пламя походило на живую ярость живого огня не более, чем «живое» походит на «лживое». Труп больше напоминал одушевленного человека, нежели этот мертвый слепок — реальность. Все было правильно: правильные слова, правильные интонации, правильные движения рук, правильная смерть и правильный бой — одного не хватало этому законченному и совершенному, но искусственному апофеозу войны, созданному беловолосым витязем: ему не хватало страстной души!
Арджуна не понимал этого. Он не взялся бы облечь в слова или даже в сколько-нибудь связные мысли то, что терзало сейчас его сердце. Реальный и иллюзорный миры перемешались в сознании, до ушей юноши доносились приветственные клики толпы, гром разрывов смешивался с громом рукоплесканий: это сонмы небожителей подбадривали его, сына Громовержца, — нет, самого Крушителя Твердынь, спасавшего мироздание от полчищ даитьев, данавов, асуров, ракшасов, многоглавых нагов и других злокозненных демонов, скопом обрушившихся на Трехмирье!
Правда?!
Ложь?!
Потрясение и восторг трибун обволакивали юную душу пульсирующим коконом, грозя безумием.
Неприятельские орды осыпались наземь хлопьями серого пепла, таяли льдом на солнце под натиском Стосильного и Стогневного Индры, которым Арджуна все больше ощущал себя, но чем дальше, тем больше ощущал новоявленный Индра, что миражи остаются миражами, что его сокрушительные удары уходят в пустоту и гаснут в ней. Не за что зацепиться, не от чего оттолкнуться в лживой, иллюзорной, бесплотной реальности-маре…
Дайте правду!
Дайте точку опоры, сволочи!
Дайте — и я разнесу землю-корову в куски!
Выдохните стоголосым ртом: «Превосходно!» — и я…
Не было сейчас рядом холодного и рассудительного Наставника Дроны, чье присутствие, подобно сквозняку, всегда вовремя остужало Серебряного гордеца. Зато вокруг царило преклонение толп, пьяня наисладчайшим хмелем, медовухой тщеславцев, разжигая внутри Арджуны тот костер, который всегда тлел в глубине души царевича, как ни старался Дрона укрыть его слоями мудрого седого пепла.
Неукротимый дух воина, истинного сына своего небесного отца, зверем рвался наружу, и мара вокруг Арджуны постепенно уплотнялась, с каждым мигом приближаясь ко Второму миру, Дух рвался соединиться со Словом и Делом, став Единым. Бытие стремительно обретало плоть и упругость, наполнялось дыханием подлинности — и юноша с кличем радости ринулся вперед, туда, где должны, просто обязаны быть настоящие противники, а не бесплотные призраки! Ничего, он припас кое-что для них: не все мантры еще прозвучали, не все оружие, владению которым обучил его Наставник, успел он пустить в ход!
Боевое безумие Лунной династии тесней тесного сплелось с громовой яростью Владыки Тридцати Трех — славьте, славьте меня!.. еще!.. громче!
Вокруг были люди.
Сотни, тысячи людей.
И лишь один из них понимал, что сейчас произойдет, кляня себя за губительный просчет.
Когда Дух обезумевшего Арджуны окончательно воссоединится со Словом и Делом, небесное оружие обретет реальность и выплеснет во Второй мир всю свою ужасающую мощь.
Пожалуй, Дрона сумел бы защитить себя. Ну, еще с десяток человек, находящихся рядом.
Всех остальных ждет смерть.
Остановить Арджуну можно было единственным способом — убить, прежде чем он убьет других. Это мог сделать Грозный, но регент пребывал в неведении. Это мог сделать Дрона.
Надо ли объяснять, почему он медлил?!
А трибуны рукоплескали.
— Эй, Владыка, поостынь! — больней стрекала ударил в спину насмешливый голос, странно знакомый и в то же время чужой.
Привстав в «гнезде», Арджуна резко обернулся всем телом, по-волчьи, и верхняя губа его вздернулась, словно желая обнажить клыки.
Сияние, подобное блеску пламенного Сурьи, на миг ослепило взор, но в следующее мгновение глухой рык и в самом деле заклокотал в глотке Арджуны. Все было незнакомым: колесница с золочеными бортиками, четверка гнедых жеребцов, стяг с изображением слоновней подпруги, драгоценный доспех на колесничном бойце, что осмелился самозвано явиться в чужой ад…
Ухмылка!
Одна наглая ухмылка была прежней.
Перед Арджуной скалился его извечный соперник, возомнивший о себе плебей, сутин сын Карна, соизволивший пропасть пропадом около четырех лет тому назад! Боги, спасибо! — ведь это не призрак, порождение собственной мысли Серебряного! Это враг, подлинный враг до мозга костей, которого Арджуне так не хватало!
Сейчас он почти любил Ушастика.
Будто невидимая нить стремглав протянулась от Арджуны к Карне, и беловолосый царевич рванулся вперед по этой нити-тропе, сзывая по дороге разлетевшуюся стаю кречетов. А Карна стоял и улыбался, и за спиной у него открывался некий невиданный раньше Арджуной простор: гряда холмов, распадки, каменистая твердь без конца-краю, и откуда-то издалека доносился тяжкий плеск океана.
Он несся вперед на крыльях грозы, сквозь туманную пустоту безвременья, где пребывал до сих пор, воюя с марой, — властная сила притягивала его к сыну возницы, и сила эта звалась Ненависть.
Чистая, обжигающая ненависть, хорошо известная богам-сурам, когда смертные ублюдки осмеливаются восстать!
Они сошлись меж холмов, один на один, забыв о зрителях и овациях, о жизни и смерти, правде и лжи, забыв собственные имена. Мироздание дало трещину, разделившись надвое. Гремела под копытами твердь Безначалья, перуны срывались с тетивы, огненными брызгами расшибаясь о чудесный панцирь, обидный хохот встряхивал колесничные площадки, а небо шло оспяными рытвинами над этими двумя. Но кречеты уже взмыли ввысь, отыскивая и сбивая влет стальных птиц запределья, — ответом всколыхнулась земная толща, лопаясь нарывами-провалами, истекая кипящим гноем. Жеребцами дыбились раскаленные докрасна скалы, смерчи и молнии лавиной рушились с небес, а сута-воин все гнал гнедую упряжку через пекло, успевая каким-то чудом подхватывать с земли золотые шары и призмы, словно по волшебству возникавшие под колесами, расплавленное золото из ладоней его устремлялось ввысь, превращая кречетов в бессильный дым, и вольно гуляли птицы из стали, избавясь от охотников…
Воистину: обитатели Вселенной, разделившись, примкнули к той или иной из сторон. Небо, о владыки народов, со всеми созвездиями приняло сторону Карны, а бескрайняя земля, как мать, вступилась за Арджуну! Реки, моря и горы, деревья и травы встали за сына Индры, а полчища асуров и стаи пернатых присоединились к Обладателю Серег. Драгоценности и сокровища, тайные поучения и своды знаний поддержали Арджуну — все же волки и иные хищники, все дваждырожденные меж зверей ратовали за Карну.
За.
Против.
Мир — надвое.
* * *
А совсем в другом месте и времени, в другой, грубой реальности Второго мира, замер в своей царской ложе величественный Слепец.
Потому что впервые — видел!
Видел сошедшихся в смертном поединке бойцов, обрушивающих друг на друга всю мощь Астро-Видьи, видел нездешнюю землю и метание грозовых облаков над ней, свинцовые волны океана, видел…
Впервые.
Видел.
Не умея дать имя тому, что чувствует.
Не зная, что, кроме него, то же самое видит лишь Наставник Дрона. Только, в отличие от слепого раджи, Брахман-из-Ларца прекрасно понимал, чему он является свидетелем и где разворачивается эта небывалая битва.
Все остальные видели лишь застывшего посреди ристалища царевича, семнадцатилетнего юношу с кудрями белее хлопка, да кое-кто еще обратил внимание на колесницу, что выехала на арену и остановилась неподалеку от Арджуны. В ее «гнезде» каменел истуканом рослый воин в панцире с пекторалью белого золота, и серьги в ушах воина бились алыми сполохами, а на облучке, казалось, дремал с вожжами в руках сухонький возница-старичок, чье лицо скрывал странный колпак с прорезями для глаз.
Впрочем, уж возница-то точно никого не заинтересовал.
А перед внутренним взором слепого и зрячего, раджи и брахмана, вставало: простор Безначалья, битва, и падает, рушится, валится на яростных бойцов восьмиконечный паук Свастики. Двое смертных бьются у истоков Трехмирья оружием богов?! качаются опорные столбы Вселенной?! шипит в страхе Великий Змей Шеша?! трубят слоны-Земледержцы?!
Конец света?!
Локапалы спешили отовсюду, собирая воедино всю ауру Жара-тапаса, какая была в их распоряжении.
С этого момента происходящее видели уже все.
То есть абсолютно ВСЕ.
Все разумные и неразумные твари Трехмирья.
…Земля уходила у Арджуны из-под ног, огонь жег лицо, и каленые стрелы впивались в тело, причиняя адскую боль. Он проигрывал, он безнадежно проигрывал, гибель дышала ему в лицо смрадом шакальей пасти, но Долг Кшатрия стоял рядом с юношей, веля сражаться до последнего.
Со стороны же трудно было понять, кто из противников одерживает верх: бесчисленные множества существ затаив дыхание наблюдали, как кречеты со свистом пикируют на верткую колесницу, прорываясь к воину-суте, как один за другим падают они, сраженные ливнем железных стрел, и как потоки пламени устремляются навстречу друг другу, сливаясь в единый огненный смерч. Тряслась в лихорадке земля, трещало раздираемое в клочья небо, и клубы дыма заволакивали поле чести, скрывая бойцов от глаз зрителей.
А потом на миг наступило затишье, и две исполинские фигуры воздвиглись позади воителей. Клубящийся вихрь грозовых туч окутал Арджуну с ног до головы, не позволяя вражеским стрелам достичь сына Громовержца, и всей мощью полуденного солнца вспыхнули доспехи Карны, слепя взор, грозя сравняться с последним костром Кобыльей Пасти.
Вздрогнула Свастика, выгнулась дико, но гром уже рокотал в отдалении, а светило исподволь наливалось пурпуром, стремясь к закату, иные говорили, что после этого над океаном еще долго не мерк знак трезубца, — но кто поверит и кто проверит?! Никто.
4 ЦАРЬ
Над потерявшим сознание Арджуной уже хлопотали слуги, лекари и жрецы, а большинство зрителей не то что понять — заметить не успели, как миф сменился обыденностью. Вот секундой раньше посреди арены стоял беловолосый герой, а в сознании зевак бушевало светопреставление, и вот в мозгу сквозняк гуляет, а на арене — целый человеческий муравейник, и разобраться, где явь, где бред, нет никакой возможности.
Зато колесницу с рослым воином, на котором медленно гас, словно втягиваясь в тело, сияющий доспех, заметили теперь все. Шутите? — не узнать второго героя, грудью встречавшего молнии сына Громовержца?!
Да полно, герой ли? Истинно глаголем, тупоумные: великий воитель! Может быть, даже полубог. Или целый бог. Или полтора. Но кем послан? на чью погибель? из каких сфер? чей сын? Именитые зрители и простолюдины терялись в догадках, а Грозный в ложе тем временем лихорадочно мучился извечным вопросом: что делать? Арджуну успели унести прочь и теперь усиленно приводили в чувство — ничего, оклемается! Напротив упала в обморок Кунти, Альбиносова вдовушка — что с женщины взять, пусть даже царицы? Понятно, за сына переволновалась…
— Что?!
Наставник Крипа, без приглашения возникнув в ложе, тихо зашептал на ухо регенту, кивая на воина в колеснице.
Грозный слушал, хмурился и дергал кончик седого чуба.
Память Крипы на лица оказалась куда лучше, чем у старого регента. И то сказать: помнить всех сутиных сыновей, подавшихся в бега…
— Ладно, — наконец сказал Грозный. — Давай, Наставник. Только тихо, тихо, ради Троицы! И потом — скоморохов… пусть юродствуют…
* * *
Крипа уже выбирался на арену, направляясь к колеснице незваного гостя, но его опередили. Откуда-то сбоку, спотыкаясь, выбежал старик… нет, не старик. Просто сильно потрепанный судьбой мужчина, в котором Крипа немедленно признал отца Карны, — Первый Колесничий после бегства сына долго болел, а после удалился на покой с разрешения Слепца.
Что ж, это только упрощало дело. Наставник нарочно замедлил шаг, давая отцу возможность обнять соскочившего с колесницы сына. Пусть люди видят. Пусть убедятся сами, кто перед ними…
…Вы с отцом стояли обнявшись, и к вам от угловой трибуны спешила мама, в голос плача от радости. А Первый Колесничий только и мог, что сдавленно повторять: «Вернулся!.. Живой!.. Дождались-таки, мать… сподобились…»
На трибунах тем временем нарастал недоуменный ропот:
— Сын? Какой-такой сын?!
— Ушастик! Клянусь апсарьей ляжкой, Ушастик! Вишь, с батей лобызается!
— Сын возницы? Сута?
— Вот те и сута! Знай наших!
— Наглец! Кшатра душу тешит — и чтоб какой-то сутин сын…
— Гнать хама! Плетей ему!
— Ага, разогнались… ты ему плетей, а он тебе… Вот тут-то, безошибочно рассчитав момент, рядом и возник Наставник Крипа. За спиной его мялись трое брахманов-советников, посланных Грозным в поддержку Наставнику.
— Прошу тебя, уважаемый, назови свое имя, род и варну. — Вежливость Крипы была самой высшей пробы. — Может быть, ты сын раджи? Знатный кшатрий? Потомок богов? Расскажи нам о своей матери и отце и о роде царей, который ты продолжаешь, после чего мы вознесем тебе хвалу.
Ты хмуро молчал, высвободившись из отцовских объятий.
— Если же твой род ничем не знаменит, прошу тебя, покинь сие ристалище, ибо оно освящено для людей прославленных. Тебе ведь известны наши законы?
Брахманы за спиной Крипы согласно закивали, загодя сочиняя для будущей летописи: «И когда было так сказано пришельцу, то лицо его, казалось, склонилось от стыда, будто увядающий лотос, смоченный дождевою водой».
— Не то слово, — процедил сквозь зубы ты, собираясь развить свою мысль о знакомстве с местными законами.
Но тебе помешали.
Расшвыряв загораживавших дорогу слуг, к тебе хмельным вепрем несся здоровенный детина, и накидка из алой кошенили билась за его широкими плечами.
— Карна! — радостно орал Боец на все ристалище. — Друг Карна! Вернулся, сутин сын! Дубина стоеросовая! Знаешь, как я рад тебя видеть?! Нет, ты не знаешь! Здорово ты Серебряного отделал! Молодчина! Я всегда в тебя верил!
— Прошу тебя, царевич, позволь своему другу удалиться, — раздельно произнес Крипа, в мыслях проклиная порывистость наследника. — Ты сам знаешь — ему не место здесь…
— Не место? — прищурился Боец, в упор глядя на Наставника.
К царевичу уже спешила сотня его братьев во главе с Бешеным.
— А кому, позволь спросить, здесь место?! Этому зазнайке Арджуне, которого уволокли отсюда на носилках?! Кому подобает быть на этой арене?!
— Тебе, царевич. Твоим братьям — родным и двоюродным, хоть ты и не любишь последних. Сыновьям иных владык — но не детям возниц.
— Значит, главное в человеке — происхождение?! Великое искусство — дхик! Духовные заслуги — прах! Будь Карна царем…
— Вот именно, — с нажимом подтвердил Крипа. — Будь он царем. Именно так.
— Ты сказал! — злорадно возвестил Боец. — Значит, он будет царем! Кому, как не тебе, Наставник, знать о трех видах царей! И если царем по праву рождения Карне действительно не быть никогда, то вот он, перед тобой, царь— герой, а в будущем — царь-полководец! Эй, достойные жрецы! Да-да, я к вам обращаюсь! (Похоже, брахманы-советники дружно хотели оказаться где угодно, лишь бы подальше от возбужденного Бойца.) Вы-то мне и нужны! Ну-ка распорядитесь: пусть из ложи принесут мое кресло, а также озаботьтесь жареным рисом, черным горохом, топленым маслом и всем, что необходимо для обряда! Я лично возведу Карну, сына Первого Колесничего, в царское достоинство! Прямо сейчас! Имея на это право по Закону как наследник державы Кауравов! А чтобы ни одна зараза не посмела назвать моего друга «царем без царства», я жалую ему земли ангов вплоть до Чампы, его родины! Правь, Ушастик! Железной рукой! Слышите, родичи?! Слышите, дваждырожденные?! Давайте, давайте, шевелитесь, несите все, что нужно!..
— Чем… — голос плохо слушался тебя. — Чем отплачу, владыка?!
Впервые слово «владыка» показалось естественным и единственно уместным.
— Дружбой! — расхохотался первый из сотни братьев, тот, кто отчаянно дрался за приблудного мальчишку, не считаясь родством и титулом. — Дружбой, Ушастик! Чем же еще?! Эх ты, гулена…
* * *
Удивленный ропот трибун не смолкал все время, пока младшие жрецы и храмовые служки под руководством опытных брахманов спешно готовили атрибуты для обряда помазания. Когда еще доведется увидеть возведение суты в цари при всем честном народе! Знатные кшатрии фыркали и пожимали плечами, однако открыто протестовать не решались, косясь на ложи Грозного и Слепца. Что скажут хозяева праздника?
Однако хозяева безмолвствовали.
Наконец жрец-взыватель возвестил о начале обряда, вспыхнули огни в переносных алтарях, и зрители прикусили языки.
Не подадут ли боги знамения — угодно ли им творящееся сейчас на арене?
Где молнии средь ясного неба?
Где ливни цветов?
Но боги молчали, и вскоре обряд успешно завершился. Ошалевшего от такого оборота дела Карну посыпали жареным рисом и черным горохом, усадили в кресло из царского дерева удумбара и торжественно надели на голову золотой венец раджи. Жрецы поклонились новоиспеченному правителю земли ангов, и по подсказке старшего надзирателя[19] Карна встал во весь рост, медленно оглядев собравшихся на трибунах.
Начиная с лож хастинапурских владык и далее, посолонь, согласно предписаниям Закона.
Теперь новому радже должны были поклониться правители сопредельных держав, приветствуя его как равного, однако никто не спешил с поклоном. Только что этого человека, сына суты, хотели с позором гнать взашей с ристалища, а теперь — приветствовать его как равного? Нет уж, увольте! Пусть кто-нибудь начнет первым, а мы подождем… Кто именно? Да хоть те же хастинапурские владыки! Уж ежели они признают нового раджу, тогда и нам поклониться не зазорно будет…
Однако царственный Слепец не мог видеть устремленных на него испытующих взглядов, а Грозный в это время думал о своем и не сразу обратил внимание на возникшую паузу.
Нет, он действительно не ошибся, делая ставку на Бойца! У мальчишки определенно есть задатки будущего мудрого политика. Ведь как изящно разрешил создавшуюся ситуацию! Мигом возвел этого сутиного сына в царское звание — и не только успешно поладил с Законом, но и приобрел себе прекрасного союзника! Собственно, к чему теперь строптивый гордец Арджуна?! Карна, надо честно признать, овладел воинской наукой и искусством Астро-Видьи куда лучше! А теперь, после возведения на трон, он будет верен Бойцу до конца жизни и при любых обстоятельствах, не претендуя на власть над Городом Слона. Превосходно! Что ж, остается только достойно завершить праздник, объявив о начале подготовки к «Приношению Коня» и «Рождению Господина», после чего — пир! Упоить всех до умопомрачения… а там видно будет.
Ага, вон и Наставник Дрона идет к новоявленному радже, чтобы почтить своего ученика, как подобает.
Хорошо.
И хорошо весьма.
5 ПОКЛОН
Дрона шел через все поле, шел быстрей обычного, и сердце Брахмана-из-Ларца вскипало радостью. Сейчас он готов был не поклон отдать — пасть в ноги, лбом ткнуться в сандалию тому, кто увел обезумевшего Арджуну в Безначалье, прочь от реальности Второго мира, прочь от тысяч и тысяч жизней, готовых в миг единый стать тысячами смертей!
— Мой ученик… — впервые Дрона сумел так назвать сутиного сына, впервые слова эти сами легли на язык. — Я…
— Ты явился требовать с меня плату за обучение? Да, великий Гуру?! Экалавья, сын Золотого Лучника, расплатился всего лишь пальцем — что же должен отрезать я? Руку? Ногу? Голову?!
На миг у Брахмана-из-Ларца потемнело в глазах от унижения и тоски. Правота Карны жалила ядовитей бунгаруса, язвила больней каленого железа, наотмашь хлестала по лицу — за что?! Неужели я до сих пор не искупил?! Неужели грех рождения вечно будет преследовать меня?! Дрона захлебнулся отчаянием, а жестокие слова падали из пустоты, не давая Наставнику опомниться, возразить, даже просто встать на колени:
— …Но не утруждай себя размышлениями, ибо плата тебе не причитается!
Закон соблюден: ученик твоего Учителя — не твой ученик! И Польза воистину несомненна! Или ты все-таки попробуешь отыскать лазейку, хитроумный брахман?!
Поднять от земли взгляд было труднее, чем вырвать с корнем гору, но Дрона сделал это — и увидел. Возница Карны стащил с головы колпак, седая коса вольно упала вдоль костлявой спины, и адская бездна Тапана плеснула на Наставника из узких глазниц.
Колпак скомкался в сухих пальцах и отлетел прочь.
Дрона пошатнулся, как от удара, и земно склонился перед своим Учителем.
А люди на трибунах увидели, как вдруг поднялся в своей ложе Грозный. Встал у перил, всмотрелся в происходящее на арене, кусая губы, нещадно терзая седой чуб, — и вдруг тоже поклонился, поклонился так почтительно и низко, как не кланялся до сих пор никому!
Шум морского прибоя прокатился по трибунам. И разом начали подниматься правители сопредельных держав, в пояс кланяясь новому государю, складывали ладони передо лбом брахманы, падали ниц простолюдины…
А тем временем с арены уходил Наставник Дрона. Маленький, сгорбленный брахман, сейчас он действительно походил на древнего, немощного калеку.
Дроне было очень плохо.
Так плохо ему было только один раз в жизни — когда его испугался собственный сын.
* * *
Из отдаленной ложи за всем происходящим внимательно следил гибкий, очень смуглый юноша, вертя в руках отполированную до блеска флейту.
Черный Баламут, правитель Матхуры, год назад убивший своего дядю Ирода и занявший трон.
Часть четвертая РАДЖА
О завистливый, злобный и надменный, алчущий богатства и пренебрегающий советами престарелых, попирающий отца с матерью и радующий своих врагов, о ты, кто неуклонно катится вниз, к полному ничтожеству, — горя в аду, ты вспомнишь еще, как нечистым языком хулил сии бесподобные строки, подобные жемчужному ожерелью!
Глава VIII ГОРИ ОНИ ВСЕ СИНИМ ПЛАМЕНЕМ
1 ПОСЛАНЕЦ
— Истинно реку тебе — нечисто дело! Убили их, сиротинушек, сжили со свету
— и концы в воду! Вернее, в огонь…
— Да кто ж на такое решится?! — Бородач-купчина обтер руки о засаленный халат. С сомнением покачал головой и вновь захрустел перепелиными крылышками, время от времени отдавая щедрую дань вину из цветов махуа-древа.
— Кто? — Его сухопарый собеседник, судя по косо повязанному тюрбану,
караванщик с юга, опасливо огляделся по сторонам. Соглядатаи? подозрительные людишки? Ф-фу, вроде все чисто! — и он продолжил свистящим шепотом: — Известно кто! Кому братья-Пандавы поперек глотки стояли? Кто к трону их и на дух подпускать не хотел?
— Слепец?! — недоверчиво выдохнул бородач. — Богов побойся, дурья твоя башка! Кого винишь?!
— А за Слепцом-то кто стоит — соображаешь? — Караванщик сощурился, ткнул перстом в потолок и жадно припал к своей чаше.
Говорить о таком было страшновато, призрак остро заточенного кола уже маячил в отдалении, но сладкое винишко развязывало язык похлеще царских дознатчиков.
И не хочешь, а трезвонишь.
— Грозный?! — Купец едва не подавился и в свою очередь мазнул быстрым взглядом по таверне. Молодой сута за соседним столом задумчиво жевал рис с куркумой, а остальные посетители сидели достаточно далеко, и стражников среди них не наблюдалось. — Ты что! Грозный — человек святой, Закон уважает — всем бы так уважать!
— А сынок Слепца? Боец? Небось он отца-слеподыра и уболтал, а то и сам втихаря шепнул нужное словечко! Вот и остались от пятерых царевичей и от вдовой царицы одни головешки! Помяни мое слово — скоро Боец на престоле безглазого папашу потеснит, а там и до «Конячьего Приношения» рукой подать: дорожка-то свободна!
— Она и раньше свободна была, — проворчал купец, но было заметно: слова собеседника запали ему в душу.
— Свободна, да занята! — Злая усмешка змеей скользнула по лицу караванщика, знатока дорог, свободных и нет. — Пандавы-то хоть и от среднего братана считаются, а все одно божьи детки, в кого ни ткни! Супротив Свастики не попрешь! Понял, барышник?!
— Ну, ежели Свастика, — вяло согласился купец, поднимаясь из-за стола, — тогда конечно…
К тому времени Карна уже перестал вслушиваться в беседу, за которую купец с караванщиком вполне смогли схлопотать по меньшей мере пару лет темницы, а то и что похуже. Все это он слышал далеко не в первый раз.
Слухами земля полнилась, и не только земля вокруг Города Слона.
После памятного турнира, когда Карне пришлось выдергивать обезумевшего Арджуну в Безначалье, братья-Пандавы словно с цепи сорвались и пошли вразнос. Еще тогда, когда все кланялись сутиному сыну, признавая в нем новоиспеченного раджу, Бхима-Волчебрюх заорал на все поле, что «сволочи место на конюшне и только юродивый кормит собаку жертвенной пищей!» Драться лез, за палицу хватался, едва наставники угомонили. Скандал кое-как удалось замять, но за это время Рама-с-Топором успел незаметно исчезнуть — и растерянный Грозный в огорчении совершенно забыл провозгласить подготовку имперских обрядов от имени Бойца. А потом… потом начался пир, гости упились в дым и через день разъехались.
Момент был упущен.
Впрочем, обо всем этом можно было объявить и позже, через послов, гонцов и глашатаев. Карну даже пригласили на Совет, где обсуждалась подобная идея. Однако обиженная пятерка Пандавов вновь спутала Грозному все планы: братья ушли в глухой загул, напиваясь и буяня во всех злачных заведениях Хастинапура чуть ли не ежедневно. Город мгновенно загудел гонгом под колотушкой, и эхо отдалось от предгорий Кайласы до острова Ланки:
— Неслыханное оскорбление!
— Благородных царевичей, потерявших отца, выставили на посмешище!
— Слепец, погруженный в темноту, видит только ложное, весьма злоумный, он не различает справедливости!
— И как Грозный одобряет такое беззаконие?!
— А пьют-то, пьют-то как! В один дых! Сразу видно: дал бог таланту!.. не то что некоторым…
— Вот кого на престол надоть, братцы…
Подобные речи звучали в городе все чаще и чаще. А поскольку «униженные и оскорбленные» не жалели денег на дармовую выпивку для всех сочувствующих, то голь перекатная вскорости готова была за сиротами в огонь и в воду. Ширились слухи не только о доброте, щедрости, благородстве и прочих великих достоинствах незаслуженно обиженных братьев, но и о якобы имевших место притеснениях со стороны старших родичей. Утверждалось, что по Закону трон должен принадлежать именно им, сыновьям богов…
Удивительно ли, что чаша терпения Грозного переполнилась? Вызвав к себе всю пятерку, он поставил разом протрезвевших Пандавов перед выбором: или безобразия прекращаются с сегодняшнего дня, или чтобы духу их в Хастинапуре не было! Пусть развлекаются где угодно, только не в столице!
И под чужими именами — хватит род позорить.
Как и следовало ожидать, братья избрали второй вариант, через день выехав в известный любому гуляке городок, именуемый на благородном языке «Запретный Плод», иначе Варанавата, а на обыденном — «Кагальник». Название города, располагавшегося в трех днях пути от Хастинапура, говорило само за себя. Обилие питейных заведений на любой вкус, притонов, подпольных курилен и блудилищ создало Кагальнику определенную и весьма устойчивую репутацию.
Самое подходящее место для продолжения загула.
По донесениям посланных Грозным соглядатаев, «войдя в город, герои немедленно посетили дома брахманов, преданных своим занятиям. Затем лучшие из мужей направились в дома градоначальников и колесничных воинов, а также в дома вайшьев и шудр». Иначе, говоря без экивоков, покатились по наклонной плоскости.
Загул постепенно приобретал все больший размах, радуя притонодержателей и блудниц, чьи заработки в эти дни достигли баснословных высот. А окончательно потерявшие рассудок Пандавы кутили напропалую уже не только с шудрами и прочей кабацкой рванью — привычные ко всему жители Кагальника поговаривали о пьянках в квартале псоядцев, а разгром городского кладбища едва удалось списать на проделки пишачей. Хмельное рекой, дым коромыслом, девицы нарасхват, сломанных ребер и носов без счета, и только чудом пока обходилось без жертв, особенно когда Бхима-Страшный начинал показывать свою молодецкую удаль.
Городские власти старательно закрывали глаза на забавы «лучших из мужей», отсылая в Хастинапур запрос за запросом.
Что делать?!
Потеряв надежду на мирный исход дела, Грозный отправил в Кагальник одного из придворных, советника Пурочану. С твердым наказом: призвать Пандавов к порядку и вернуть их в Хастинапур, пред очи регента, который более не собирался попустительствовать сим безобразиям.
Советник уехал — и пропал. Судя по всему, Пандавы, узнав о цели приезда Пурочаны, попросту заперли его в своем доме, не давая возможности связаться с городским начальством и заручиться поддержкой.
На очередном заседании Совета ребром встал вопрос: что делать с буянами? Карна искренне предложил послать отряд стражи для задержания царевичей и доставки их в Хастинапур. Сутин сын… простите, раджа ангов даже соглашался лично возглавить этот отряд — и был изрядно удивлен противлением Грозного с Дроной, которых возможная бойня в Кагальнике никак не устраивала.
Особенно прилюдная.
А советники прятали глаза: участь Пурочаны напрочь отбила у них охоту к поездкам.
Вот тогда-то в зале и объявилась царица Кунти, вдова Альбиноса и мать троих из гулящей пятерки.
— Позвольте матери образумить сыновей, — тихо произнесла царица в ответ на немой вопрос.
На том и порешили.
Отъезд Кунти прошел незаметно, а спустя полторы недели до Хастинапура докатилась скорбная весть: пятеро братьев вместе с матерью и советником Пурочаной сгорели заживо в снятом для жилья доме.
Официальная версия была однозначной: несчастный случай.
Однако народу рот не заткнешь. Болтали разное: сперва полагали, что братья просто спьяну подожгли дом. Потом дом превратился в ловушку, при постройке которой нарочно использовались «конопля, смола и камыш, солома, бамбук и прочие горючие материалы». Вскоре вспомнили и о советнике Пурочане: из посла он стал наемным убийцей. Смущало лишь одно: к чему убийце отправляться на небеса вместе с жертвами? Но мало ли что там могло произойти?
Бывает…
Грозный скрежетал зубами от бессилия: всех в темницу не бросишь и на кол не пересажаешь. Провозглашать на фоне молвы начало имперских обрядов от имени Бойца значило только подтвердить самые нехорошие подозрения. Снова приходилось ждать, пока волнение уляжется. А на тайном заседании Совета решено было направить в Кагальник своего человека и провести детальное расследование: кто же все-таки погиб и погиб ли?!
Вот эту-то миссию и доверили новоиспеченному радже — Карна позавчера вернулся в Хастинапур из столицы ангов, где принимал верительные грамоты.
Совет счел Ушастика самым подходящим кандидатом на роль посла-дознатчика: молод, упрям, вхож в дома как знати, так и простолюдинов, мало кому известен в лицо, воин из воинов, способный в случае чего…
— А ежели окажется, что эти прохвосты все-таки уцелели, — недобро сощурился Грозный, напутствуя Карну, — то вот тебе царская шасана! Найди их, хоть в пекле, и вручи: здесь написано, чтоб они немедленно отправлялись в крепостцу… короче, тут указано, в какую, — на шесть йоджан[20] от Хастинапура. Пусть сидят тише мыши! А ежели ослушаются… тогда у тебя развязаны руки, раджа. Ты меня понял?
— Я тебя понял, Грозный, — кивнул Карна.
* * *
И вот теперь ты сидел в таверне близ городской стены, прислушивался к последним сплетням и обдумывал подробности своей миссии. В голове занозой торчало напутствие Грозного. Жгло. Мешало сосредоточиться. Развязаны руки? С какой целью?! Чего же на самом деле ждет чубатый регент от своего посла?! И чего больше жаждет твоя собственная душа? — убедиться в огненной смерти ненавистных Пандавов, увидеть их сосланными в глушь или встретить братьев в укромном уголке и без свидетелей, вот этими руками, развязанными лично Дедом…
Снаружи тебя ждала запряженная колесница и — дорога в Кагальник.
От свиты ты отказался.
Наотрез.
Кажется, это пришлось Грозному по душе.
2 ПОДОЗРЕНИЯ
Утро с ленцой выползало из-за горизонта. В его серой дымке городок показался Карне тихим и сонным, ничуть не похожим на известное всем «гнездо разврата и пьянства». Впрочем, утомившиеся за ночь пьяницы и развратники сейчас наверняка дрыхли без задних ног, отдыхая от трудов неправедных, дабы к вечеру проснуться, похмелиться и начать по-новой.
Опухший страж, зевая во весь щербатый рот, равнодушно принял въездную пошлину и пропустил раннюю пташку. Даже целью приезда не поинтересовался, соня! Интересно, насколько сложнее тихо выехать отсюда в случае чего?
Ладно, замнем до срока.
Первой мыслью Карны было разыскать дом градоначальника и представиться, объявив о начале официального расследования, но сутин сын вдруг передумал. Успеется. Власти обождут. Да и остановиться лучше на постоялом дворе, уютном, окраинном… а хоть бы и здесь. Тишь да гладь, и стены снаружи обросли мохом. Отличный мох. Мохнат на диво. Сразу говорит о солидности, о достойном отношении к гостям. Отец всегда поучал: «Не верь, сынок, новостройкам! Нагреть местечко — ох много времени требуется!»
Первое впечатление (равно как и отцова мудрость) не подвело Ушастика. К нему вышел сам хозяин, крикнул заспанных слуг, велев распрячь коней и задать им корму, а колесницу поставить под навес. Вода в купальне оказалась теплой, легкомысленная девица притащила короб с ароматическими смолами, в результате чего омовение малость затянулось, а девица малость запыхалась…
Гостей здесь явно ценили. Собственно, от них, от их мошны и зависело процветание всего Кагальника в целом и этого постоялого двора в частности.
Кто станет резать корову, что доится святой амритой?
Улицы постепенно наполнялись людьми: гомон разноголосицы, приветствия, ругань, скрип дверей лавок и притонов. Дважды Карну, безошибочно угадывая в нем приезжего, пытались затащить в курильню, трижды — в кабак и один раз — в блудилище для любителей мальчиков. Отвязаться от назойливых, словно лесные клещи-кровопийцы, зазывал стоило большого труда, приходилось в меру рукоприкладствовать. Не скупясь на тумаки, сукин сын оказался на рыночной площади и пошел бродить по рядам, для вида прицениваясь к товарам, а на самом деле держа уши торчком.
Такие уши, как у Ушастика, и не торчком — смертный грех!
— Дурианы, дурианы, спелые дурианы! Царское угощенье, по бороде течет, сулит славу и почет!
— А вот брадобрей! Брадобрей! Эй, мохнолицые, плати щедрей — омоложу!
— Кинжалы! Кинжалища булатные! Для врагов, для друзей — нет вещи нужней!
Кинжалы были такие, которыми если и резать, то друзей, а если дарить — то врагам: сталь ломкая, заточка гнилая, рукоять сама из кулака вывертывается.
Купить, что ли, для смеху?
— Дорого, говоришь?! Это ж жертвенные чаши, дурья твоя башка, — кашу ты и из плошки похлебаешь! Ну ладно, бери разом дюжину — уступлю…
— Шнуры! Брахманские шнуры! Хоть вешай, хошь вешайся — все едино в рай…
— Привет, Хима! Все хорошеешь? А где толстуха Асти?! — заказала миндаля с изюмом и не заходит!
— Сгинула наша Астинька, — горестно вздохнула грудастая бабенка, явно звезда местного борделя. — Еще той ночью, когда пожар случился.
— Да ну, типун тебе на язык! Может, загуляла где?
— Может, и загуляла. У тебя изюм без косточек? Только сам посуди: разве ж такой толпищей загуливают? Оба сына ее пропали, и племяш, и еще пара дружков— «хорьков»…
— Изюм у меня завсегда без косточек! Обижаешь! И что, с тех пор никто из них не объявлялся?
— Как в воду канули! Все шестеро. Говорила я дурехе: кончай ходить к этим забродам в Смоляной Дом! Они ж с придурью, особенно тот, здоровый! Зальют зенки — куролесить начинают, факелами заместо дубинок воюют. А Асти мне: «Брось, подруженька! Аида вместе! От нас с тобой не убудет, а эти и платят душевно, и кормят от пуза, и поят, и с собой брать разрешают…» Вот и взяла с собой! Небось, если живы, забились в щель с перепугу: и Астинька, и сынки, и племяш, и «хорьки» драные! Власти так и шарят глазами: на кого б пожарище свалить!
— Да ну тебя, прямо сердце прихватило… Вот, бери изюм, я тебе с горкой насыпал. Объявится наша толстуха, помяни мое слово, и все объявятся!
— Твоими устами… — снова вздохнула Хима. — Ладно, и ты нас не забывай: тебе со скидкой!
Красотка подмигнула торговцу сластями и пошла прочь, виляя тугими бедрами.
Карна оценивающе смотрел ей вслед, но думал он сейчас вовсе не о бабьих прелестях, а о незнакомой ему толстухе Асти с пятью сынками-дружками, которых понесло «гулять» в Смоляной Дом как раз накануне злосчастного пожара.
Соучастники?
Жертвы?
Ложный след?
Это он должен был выяснить.
* * *
…День клонился к вечеру, факелы и масляные светильники освещали улицы, из кабаков уже вовсю раздавались песни, смех и пьяный галдеж, тянуло сладковатым дымком из неплотно прикрытых дверей якобы тайных курилен, и блудницы всех мастей умело завлекали мужчин в сети продажной любви.
Наконец-то Кагальник открыто сбросил вуаль приличий!
Увы, собранные за это время сплетни оставляли желать большего. Пожар? Да, пожар. Погибли люди? Да, погибли. Может, братья-Пандавы с матерью. Может, толстуха Асти с приятелями. Может, собачьи кости приняли за человечьи и никто не погиб. Глупости? Может, и глупости. Да только злоумышленники в городской тюрьме — это вам, уважаемый, не похмельная мара! Также судачили об убитом ракшасе-людоеде, до недавнего времени наводившем ужас на всю округу, о пойманной ракшице — то ли сестре, то ли подружке разбойника…
Голова пухла от болтовни.
Самое время нанести визит местному градоначальнику, решил Карна.
3 ХИДИМБА
Поначалу усачи-стражники намеревались погнать взашей наглого суту. Даже хастинапурская грамотка, удостоверявшая личность Карны, не произвела на них особого впечатления, ибо читать доблестные стражи не умели. Тем не менее десятника караула они соизволили кликнуть, и вскоре уже мели усами пыль у ног молодого раджи, а их десятник, рассыпаясь в извинениях, вводил Карну во дворец.
Все как обычно. Ничего иного сутин сын и не ожидал, воспринимая происходящее как должное.
Водянистые глазки градоначальника с первых минут встречи забегали по сторонам. Лебезил, растекался топленым маслицем. Пушок с рыльца ладошкой отирал. Подмигивал: и то сказать, останешься тут праведником, заправляя обителью греха!
Карна отмахнулся от докладов об уплате податей, поддержании порядка и соблюдении моральной чистоты. К делу, любезный, к делу! Что? Выпить? Разумеется, подайте мангового соку. Да, только соку. Ясно?
Ну вот и чудненько.
Градоначальник оказался человеком себе на уме. И скользким, будто матерый подкоряжник. Очевидных вещей он и не пытался отрицать: да, разумеется, его вовремя уведомили, кто такие пятеро особых гостей. Конечно, конечно, он держал зык за зубами! Как можно!
Кроме него самого и тысяцкого городской стражи — ни одна живая душа! Слухи? Мало ли что болтают в городе! Люди всегда болтают. При любом градоначальстве и даже (это между нами!) при любом радже!
Небось в смоле кипеть станут — и то сплетнями обменяются!
Подозрительный дом, прозванный в народе Смоляным? Простите, у вас ложные сведения! Сперва он предложил благородным царевичам свое гостеприимство, но получил отказ! И дом тысяцкого их почему-то не устроил. И даже приличный постоялый двор. Кстати, а где остановился сиятельный раджа? Не желает ли воспользоваться… Ну да, ну да, понимаю: до поры до времени! Видимо, царевичи также жаждали уединения, и посему… Да, конечно, общеизвестно, как братья проводили время! Но кто он, собственно, такой, чтобы запрещать царским сыновьям чудить на свободе? Опять же дело молодое…
Трупы? Опознали? Помилуйте, где тут опознать, обгорели так, что не приведи Яма! Вот советника Пурочану опознали — личная печать, что при нем была, уцелела, по ней и опознали. А остальные? Да кому и быть, как не им?! Пятеро мужчин и женщина! Что? Пропавшая блудница? По имени Асти? Два сына, племянник и пара дружков? В первый раз слышу! Но немедленно наведу справки! Прямо сейчас! Утром? Хорошо, как будет угодно сиятельному радже, утром так утром.
Задержанные? Да, есть задержанные! С этим у нас все в порядке. Что? Нет, еще не выяснили. Палач запил, вот и подзадержались. Но непременно выясним! Они у нас сознаются! Какие будут пожелания? Ах, желаете лично присутствовать при допросе? Пожалуйста! Желание сиятельного раджи — закон! Ведь мы из кожи вон лезем! Кто ж мог знать, что такая беда приключится?! Пусть сиятельный раджа не изволит гневаться и в Хастинапур передаст… Не гневается? Просто приехал разобраться? Радость-то какая! Мы поможем, мы все в полном распоряжении сиятельного раджи! Итак, завтра утром? Очень хорошо, мы все подготовим! Лучших заплечных, лучших допросчиков! Не извольте беспокоиться — признания будут в лучшем виде!..
Ты нисколько не сомневался, что под пытками арестованные признаются даже в прелюбодеянии с храмовыми статуями.
Потому и настоял на личном присутствии.
И все-таки: чего на самом деле хотел Грозный, посылая в Кагальник именно тебя?
Ох, мама, не зря ты ворчала: «Упрям ты, сынок, упрям как мул, чтоб не сказать большего… Когда образумишься?»
Ты полагал, что никогда.
* * *
Розовый спросонья, заспанный лик Сурьи еще только краешком показался над горизонтом. Как бы раздумывал: стоит ли вообще вставать в такую рань или лучше мухурту-другую понежиться в пушистой облачной постели? — а Карна уже стоял перед воротами городской тюрьмы.
На этот раз обошлось без проволочек. Встретил его градоначальник собственной персоной в сопровождении тысяцкого — тишайшего человечка, сутулого и немногословного.
Однако Карне было известно от владельца постоялого двора: именно этот человечек крепко держит в кулаке весь город. Если кто-то и знал правду о случившемся — то это тысяцкий. Впрочем, покамест он не спешил делиться своими знаниями с молодым раджой.
А возможно, и делиться-то было особо нечем.
Одно слово — темная история.
В допросной зале зловеще светилась раскаленная докрасна жаровня — чуть сплюснутая голова ракшаса, вместо мозгов набитая углями, палач деловито позвякивал клещами и крючьями, раскладывая их в одному ему известном порядке, в углу наготове сидел писец горбясь над кипой пальмовых листьев.
Допрос вызвался вести сам градоначальник.
Карна уселся в глубокое кресло с мягким сиденьем алого бархата — расстарались для высокого гостя, подхалимы! Тысяцкий занял табурет у стеночки, подал знак, и вскоре в допросную ввели первого арестованного.
Угрюмый шудра лет пятидесяти, в рваном дхоти, с багровыми следами бича на костлявой спине. Ладони — сплошная мозоль.
— В чем его обвиняют? — тихо поинтересовался Карна у градоначальника.
— Был замечен в подозрительном рытье земли неподалеку от так называемого Смоляного Дома. Не иначе подкоп готовил, стервец! Мы его только позавчера взяли, допросить как следует не успели. Приступай! — махнул он палачу.
Карна всегда полагал, что сперва задаются вопросы, а если злоумышленник запирается или врет, то приходит очередь палача. Однако молодой раджа жестоко ошибся. Незадачливый землекоп ласточкой взлетел на дыбу, хрустнули суставы, горящий веник справно обласкал жертву, и Карну едва не стошнило от смрада паленой плоти, мигом распространившегося по зале.
Градоначальник удовлетворенно потер ручки.
— Итак, вор, готовил ли ты тайный подкоп под дом, известный в городе под названием Смоляного?
— Готовил, готовил, благородный господин! Как сур свят! Признаюсь!
У Карны мигом заложило уши от визга несчастного.
— Очень хорошо. И ты воспользовался этим подкопом в ночь пожара. Верно?
— Нет, благородный господин, я не делал этого! — простонал пытуемый, с ужасом предчувствуя новую порцию боли.
— Я верю тебе. — Голос градоначальника тек медовой патокой, а на губах играла доброжелательнейшая улыбка. — Тогда скажи нам, КТО проник в дом, воспользовавшись проделанным тобой подкопом? Твой сообщник, не так ли?
— Какой сообщник, благородный господин! — Землекоп и заплакал бы, да не получалось: выпученные глаза пересохли заброшенными колодцами. — Хозяин этого дома нанял меня, чтобы я вырыл ему погреб с запасным выходом! Погреб! Клянусь!
Градоначальник многозначительно подмигнул Карне — ваньку валяет[21], скотина! — и опять махнул палачу.
— Погоди! — Карна никогда не считал себя великим дознатчиком, но вопрос сам слетел с языка: — А скажи-ка нам, приятель, КОГДА ты вырыл этот погреб?
— Аккурат в прошлом году, благородный господин! — Счастью землекопа не было предела, едва он понял, что пытка откладывается.
— Та-а-ак. — Взгляд молодого раджи не сулил градоначальнику фиников в меду. — А есть ли тому свидетели?
— Есть, благородный господин! Заказчик с домочадцами, прислуга, Лопоухий Шашанка, мой напарник, а также…
— Меня ввели в заблуждение олухи-осведомители! — пролепетал градоначальник. — Поверьте, они будут сурово наказаны…
Его прервали.
Протяжный, отчаянный вопль донесся из-за стены. Кричала женщина. Безнадежная, звериная тоска морозом прошлась по коже, заставив сутиного сына ознобно передернуться.
Говорят, у разбойников-гондуков для принятия в банду требуется подвесить над костром живого ягненка и дослушать до конца плач несчастного, превращаемого в жаркое.
Если так, Ушастику не светила разбойничья доля.
— Баб пытаем? — Глаза Карны превратились в узкие щели, из которых вот-вот готово было извергнуться адское пламя, и градоначальник в ужасе отшатнулся. — Тоже подкопы роют?! Или на передок больно горячи, стервы?! От искры полыхнуло?!
— Это не баба! — возопил отец города, уже представляя себя на дыбе. — Это вовсе не баба! Это изловленная моими людьми ракшица-людоедка! Запирается, тварь, укрывает местоположение логова…
— Пошли, — коротко бросил Карна, вставая. — Разберемся.
Идя по коридору, он с трудом сдерживался, чтобы собственными руками не свернуть шею семенившему впереди жирному любителю пыток. Словно чувствуя это, градоначальник инстинктивно втягивал голову в плечи, не смея обернуться.
Рваное пламя факелов отбрасывало на камень стен багровые блики, и в их неверном свете бессильно обвисла на цепях женщина.
Да, вначале Карне показалось — просто женщина. И лишь через мгновение он сообразил, что смотрится рядом с ней карликом.
Ну, пусть не карликом — доходягой-недорослем. Ракшица.
Наверное, действительно людоедка.
Самка.
Или все-таки женщина?..
— Всем выйти вон. Я лично допрошу ее.
Палач вопросительно взглянул на градоначальника (старая лиса-тысяцкий, проявив благоразумие, давно исчез) и, видимо, сразу все понял. Миг — и Карна остался наедине с пленницей.
Он подошел поближе, выдернул из стены чадящий факел, присмотрелся.
Вблизи ракшица гораздо меньше походила на дочь человеческую. Тугие груди, каждая размером с добрую дыню, поросли черно-бурым подшерстком. Такая же шерсть, только гораздо гуще, покрывала все мощное тело, кроме ладоней и частично лица. На животе и плечах виднелись обгорелые проплешины, блестя еще дымящимися язвами ожогов. Вонь горелого меха шибала в нос, и Карну заметно подташнивало.
Он постарался дышать ртом, помогло, но слабо.
В сознании пойманной мухой жужжало знакомое по страшным сказкам: «Сегодня после долгого воздержания выпала мне пища, столь приятная для меня! Язык мой источает слюни в сладком предвкушении и облизывает рот. О, мои восемь клыков с очень острыми концами, я всажу вас в нежное мясо, разорву человечье горло, вскрою вены и напьюсь вдоволь свежей крови, теплой и пенистой!»
Ракшица медленно подняла тяжелую косматую голову — и в Карну уперся отрешенный взгляд. Красные глазки слезились и часто-часто моргали. Наверное, по меркам ракшасов она была красива. Для человека же… сизые, вывернутые наружу губы, сплющенная переносица, кабаньи ноздри, морда наводили на мысли о плоде греха обезьяны с тигром, мощные надбровные дуги выпячены арками ворот, если вместо башен их фланкировать космами бровей…
— Пытать пришел? — хрипло поинтересовалась ракшица.
Она старалась казаться безразличной. Видят боги, она очень старалась. Изо всех сил. Но получалось плохо.
Ей было больно и страшно.
— Нет. — Сутин сын отвел в сторону факел. — Просто… давай поговорим. Без пыток.
— Давай! — Ракшица фыркнула с издевкой. — Давай поговорим, красавчик! Думаешь, ты первый такой добросердечный?!
На обыденном она говорила с сильным акцентом.
— Думаю, что первый. — Карна постарался улыбнуться, но улыбка вышла не слишком убедительной. — Как тебя зовут?
— А тебе не доложили? Хидимба.
— Ты действительно… ела людей?
— Бывало, — хмуро подтвердила Хидимба.
— Ты жила одна?
— Нет, с братом.
Что-то дрогнуло в голосе пленницы. И Карну передернуло: похоже, пленница действительно жила с братом — в смысле, запретном для людей.
— Где он сейчас?
— Издеваешься, сволочь?! — Ракшица плюнула в Карну, но промахнулась. — Кишки на руку мотаешь?! Убили его, убили, бык ваш безумный хребет сломал! И меня изнасиловал, херамба!
— Бык? Херамба?!
Карна как коренной чампиец частично владел «упырским» диалектом Пайшачи, незаменимым в отношении ругательств. И знал: «херамба» на Пайшачи в первом значении — «обжора», а во втором ближе всего к слову «извращенец».
Имя же ракшицы — Хидимба — означало «Ярая». Похоже на правду.
— Гады, — шипела Хидимба, уронив голову, и подшерсток ее чудовищных грудей намок от слез. — Ах, г-гады!.. Скоты, волчья сыть…
— Прости. Я действительно ничего не знаю. Я только вчера приехал.
— Врешь!
— Да не вру я, зараза мохнатая! Или мне тоже тебя клещами прижечь для пущей веры?! — озлился сутин сын.
— Не надо, — неожиданно всхлипнула ракшица с пронзительной, почти детской жалобой. — Не надо… клещами… я расскажу…
…Шестеро путников — пятеро молодых мужчин и женщина средних лет — выбрели к логову ракшасов на заре. Хидимба еще спала, когда снаружи послышались дикий рев брата (тоже Хидимбы, то бишь Ярого) и вопли людей.
Ракшица, плохо соображая спросонья, кинулась наружу — и не поверила своим глазам. Брат пойманной рыбой бился в ручищах широкоплечего здоровяка, больше похожего на ракшаса, чем сам Хидимба, вот мохнатая туша взлетела на воздух и с хрустом обрушилась на умело подставленное колено. Хозяин чащоб конвульсивно дернулся и обмяк, бессмысленно глядя в небо слюдяными бельмами.
Истошно закричала женщина, увидев выбравшуюся из логова Хидимбу, — и здоровяк мигом загородил ракшице дорогу.
— Сдохни, падаль! — возбужденно рявкнул он.
Хидимба попятилась, затравленно скуля. Вокруг царил кошмар: минутой раньше она сладко спала в теплом логове, после ночи кровосмесительной, но оттого лишь еще более сладостной любви, жизнь была прекрасна — и вот над братом уже кружат мухи, а человек-убийца приближается к ней, скаля в ухмылке крупные, лошадиные зубы.
— Оставь, Бхима! Пусть живет! — вмешался другой путник: копна волос белее хлопка, небесная синь взора, гибкое тело леопарда, взгляд кречета…
На убийцу он походил не больше, чем яблоня-бильва на гималайский кедр.
— Он сердится, — упрямо помотал головой здоровяк, приближаясь к ракшице.
— Он очень сердится. Вот.
— Оставь, говорю! Позор убивать женщин! — попытался вразумить мордоворота третий путник — по-видимому, старший.
— Женщина? — Здоровяк остановился. — Он любит женщин. Он уже меньше сердится… И, обращаясь к Хидимбе:
— Он прощает, дура! Расставляй ноги — будешь жить. Ну?!
Присутствие зрителей, похоже, ничуть не смущало его.
— …Он доволен! — хохотнул проклятый херамба, оправляя одежду. — Эй, Арджуна, будешь?
И весьма болезненно пнул ракшицу ногой под ребра.
— Вставай, кому говорю!
После третьего пинка Хидимба нашла в себе силы подняться.
— Шевелись, тварь, не то он передумает! Близняшки, седлайте тварюку — ишь, здоровущая! Мама, иди к нему — он сильный, он тебя понесет. Вперед! Давай, давай, сука, чего пасть раззявила?!
И пришлось изнасилованной Хидимбе принимать на плечи двоих пареньков, действительно валившихся с ног от усталости, херамба усадил себе на закорки женщину, которую называл матерью, и вся процессия двинулась на юг, в сторону лесистой Экачакры.
(По слухам, некий мудрец нашел в тех лесах золоченую чакру для метания, оброненную кем-то из богов. «Эка чакра!» — воскликнул мудрец, сунул находку в торбу и пошел дальше. Так и прижилось.)
— Вперед!
…Хидимба тащилась на пределе: вьючную лошадь — и ту нельзя ежечасно награждать тумаками и еженощно насиловать на привалах!
Наконец, на шестой день пути, впереди послышался лай собак, потянуло дымком, близняшки соскочили наземь, и ракшица упала ничком.
— Все, достаточно. Теперь пусть она убирается! — приказал старший.
Проклятый херамба недовольно засопел, но ослушаться не осмелился. Разве что отволок полумертвую ракшицу в кусты и напоследок потешил свою похоть. Странное дело: когда он наконец умчался догонять спутников, Хидимба ощутила в душе некую пустоту. Да, убийца и насильник, да, тяжел на руку и скор на расправу, да, все это правда…
Вздохнув, ракшица побрела обратно — а куда ей было еще деваться?
Спустя неделю изголодавшаяся, осунувшаяся Хидимба, еле волоча ноги, выбрела к старому логову — и тут на нее сверху упала сеть…
* * *
Вызванный лекарь вскоре подтвердил, что ракшица беременна. Это косвенным образом подтверждало ее слова, хотя… она ведь упомянула, что сожительствовала с собственным братом!
Охотники, нашедшие тело убитого ракшаса, в один голос заявляли: у людоеда был сломан хребет и правое запястье. Следы когтей, зубов или людского оружия отсутствовали.
Под обгорелыми руинами Смоляного Дома действительно обнаружили вместительный погреб с запасами контрабандного шелка. Из погреба вел полузасыпанный лаз, уводя за пределы пожарища.
Все было ясно.
Перед отъездом Карна распорядился поселить освобожденную из тюрьмы Хидимбу за городом, под строгим надзором. Даже если предположительно уцелевшие Пандавы не отыщутся в ближайшее время, ребенок, который должен был родиться у Хидимбы, вполне мог прояснить некоторые вопросы.
Градоначальник явно был озабочен решением молодого раджи, но перечить не посмел.
Ранним утром колесница Карны выехала из ворот Кагальника.
Сутин сын шел по следу.
4 ПОДВИГ
Этого брахмана следовало еще при рождении незаметно удавить пуповиной.
И уж наверняка надо было безжалостно оставить его на обочине, а не брать в колесничное «гнездо». Он балабонил без умолку и насквозь проел Карне печенки еще в самом начале их совместной дороги. Считая себя великим знатоком «Канона Зодчих», сей бык среди дваждырожденных твердо намеревался просветить попутчика в тонкостях обустройства селений. Именно обустройства и именно селений. Что вы говорите? Не может быть! Чтобы такая исключительная тема не интересовала такого исключительного молодого человека?! — в жизни не поверю! Итак:
— Град-столица, он же Раджаданья, возводится предпочтительно на берегу реки, обустроен для многочисленных богатых жителей и имеет в центре царский дворец, а также храм Вишну при въезде в пределы!
— Угу, — кивал Карна, потряхивая вожжами и кляня себя за мягкосердечность.
— Обыкновенный град, он же Кевала, четырехвратен и украшен башнями-гопурами, изобилен сторожевыми зданиями и казармами, купеческими складами и оживленными рынками!
— Угу. — Карна со вздохом посмотрел на стрекало.
— Град же, называемый Пура, имеет храмы семи божеств, фруктовые сады и парки, смешанный состав населения — и оживлен гомоном торгующего люда!
— Угу. — Кара за убийство брахмана вдруг показалась Ушастику не столь уж тяжкой. Вечные муки? — дхик!
— Град Кхета возводится близ горы, и в нем предусмотрены жилища для шудр, обнесенные высокой оградой, вокруг града Кхарвата должны лежать плоскогорья, богатые пастбищами, град Кубджака не окружается земляным валом, град Паттана располагается рядом с водными путями…
— Все? — с надеждой поинтересовался Карна.
— Все, — согласился премудрый брахман. — А теперь вы повторите усвоенное — и мы перейдем к обсуждению восьми типов планов для крупных поселений с разнокастовым составом жителей.
— Не перейдем, — был ответ.
— Почему?!
— Потому что приехали. В эту твою… Камышуху.
— В Ветракиягриху[22], — с достоинством поправил брахман, не желая поганить рот именем родины, переведенным с благородного языка на обыденный.
Родное селение мудреца явно не принадлежало ни к одному из вышеперечисленных типов. Так, средних размеров деревенька, обнесенная палисадом. Пруды на окраине обильно заросли ряской и лотосами, к радости местных лягушек, дома обнесены ветхими плетнями, на кольях которых красуются горшки и кувшины, вовсю дымит кузня, и мычание коров благовестом разносится над полями чечевицы и «колючего» проса. Каменного строительства здесь не признавали (за исключением разве что могильных ступ). Дом построить? Раз плюнуть! Четыре столба по углам, стропила сверху, тростниковый настил у бедняков, у богатеев — черепица, пол земляной, стены сплетены из сучьев или бамбуковой щепы, а глиной можно обмазывать, а можно и не обмазывать.
Живи — не хочу.
Копти белый свет, тем более что свету кот наплакал: окон-то нет! А в смотровую щель под крышей много ли солнышка заглянет…
Карна подумал, что, живя в такой вот деревне, он бы и сам по вечерам размышлял о «восьми типах планов для крупных поселений» Как грешник в аду — о райских молочных реках с кисельными берегами.
Иначе уж больно выть на луну захочется.
Брахман резво соскочил с колесницы, подхватил дорожный узелок и вприпрыжку заспешил к ближайшему дому с верандой. Послав ему вослед вздох облегчения, Карна прикрикнул на лошадей, и животные поплелись вдоль единственной улочки туда, откуда доносились оживленные выкрики.
Уставший царь ангийский рассчитывал на ужин и ночлег, чтобы завтра с новыми силами двинуться на розыски братьев-Пандавов, горелых или нет, лошади же мечтали о торбе с овсом и коновязи.
Единственное, на что они точно не рассчитывали, это на пир горой.
Людской водоворот завертел упряжку с легкостью, с какой река в половодье вертит краденым бревном. Карна и опомниться не успел, а в руках у него уже пенилась чаша с крепкой гаудой, зубы сами грызли баранью ляжку, выданную двумя исключительно миловидными девицами, кто-то хлопал гостя по плечу, кто-то орал над ухом хвалебную песнь, а чумазая пацанва облепила колени и норовила потрогать бляхи пояса и кинжал в ножнах.
— Что это у вас? — очумев, кричал Карна в сияющие лица. — Свадьба?
— Свадьба! — хохотали ответно. — Свадьба! Ракшаса Баку на пекле женили! Пей, приезжий! Ешь до отвала!
— Ракшаса? На ком женили?!
— На ком надо, на том и женили! Гуляй, Камышуха! Однова живем!
Залитого жиром и гаудой Карну вскоре вынесло на более или менее спокойный островок: тут властвовал деревенский пандит. Уместясь на трехногом табурете с сиденьем из веревочной сетки, он излагал всем желающим историю кровавой свадьбы ракшаса Баки. Видимо, в сотый раз, ибо голос у пандита изрядно сел, требуя ежеминутного промывания.
По счастью, слушатели были не слишком требовательны.
— Затем, когда пришла ночь, — надрывался пандит, пособляя себе бренчанием вины, — тот герой, захватив с собой пищу, предназначенную для ракшаса, отправился к логову людоеда! И, приблизясь, стал звать врага по имени, поедая сам эту пищу…
Баранина встала Карне поперек горла.
— Явился вскорости ракшас. — Вина фальшивила, но настраивать инструмент не было времени: слушатели торопили, желая насладиться сей же час. — Огромный телом и силою, шел он, взрывая землю, нахмуря брови и кусая губы, и на лбу у него образовались три складки. Увидев героя, поедавшего пищу, ракшас в ярости выкатил глаза и вопросил: «Кто этот глупец, который поедает у меня на глазах эту пищу, предназначенную для меня?!»
— Пищу! — хором откликнулись слушатели. — Для меня!
— А герой, услышав те слова, будто смеясь и не обращая внимания на людоеда, продолжал есть, отвернув лицо. Тогда, испустив страшный рев, зловредный Бака ринулся на героя с намерением убить его. Но даже тогда сей истребитель чудовищ, не обратив внимания на смертельную опасность, все продолжал есть пищу.
— Пищу! — поддержали односельчане. — Продолжал!
— Полный ярости, ракшас ударил тогда обеими руками по спине героя, но могучий, получив сильный удар, не удостоил врага взглядом и продолжал есть. Взъярился ракшас, дыбя все волоски на теле, и вырвал с корнем дерево, желая использовать его вместо дубины. Но герой, медленно доев пищу, встал к бою, радостный и могучий…
— Налей! — бросил Карна бегущей мимо молодухе с кувшином, перед тем до дна осушив свою чашу. Он уже твердо знал, что задержится в Камышухе до утра. Или дольше. Во всяком случае, до тех пор, пока не узнает, куда направился после подвига ракшеубийца, падкий на поедание чужой пищи?
И не было ли у героя некоторого количества братьев.
Видимо, это боги послали Ушастику разговорчивого брахмана-камышухинца…
На рассвете Карна отправился дальше. В качестве награды увозя финальный эпизод из «Сказания об убийстве ракшаса Баки»:
— И благодаря своим достоинствам те пятеро героев стали приятны для жителей Камышухи. Они всегда ночью приносили матери собранную милостыню и ели каждый свою долю, которую мать сама отделяла. Половину съедали укротители врагов вкупе с матерью, а другую половину съедал убийца Баки, обладавший великой силой. Но, горе, горе нам! — услыхав о достоинствах Кампильи, столицы панчалов, покинули нас витязи, оставив по себе лишь добрую память!
Карна гнал коней на юго-запад: через лесистую Экачакру, мимо святых криниц Красных Крыльев, вброд перейдя Господню Колесницу, — в Кампилью.
Перед самой переправой он имел короткую беседу со страшно обожженным гандхарвом, от которого узнал о пятерых паломниках с матерью.
Один из них, беловолосый гордец в мочальном платье явно с чужого плеча, умел факелом отражать летящие стрелы, и огонь тек из ладоней его, сжигая все на своем пути.
— С-суки! — просипел напоследок гандхарв, судорожно дергая культяпками крыльев.
Небеса оказались временно закрыты для бедолаги. И пуще боли мучила обида: так дорого расплатиться всего лишь за вопрос: «Почему брахманы по виду ведут себя в дороге неподобающим образом?!»
5 СКАНДАЛ
У этого людского табора была веская причина пухнуть от тщеславия. Он располагался вокруг знаменитого холма, с вершины которого Грозный и Дрона в свое время решали судьбу Кампильи. Но если табор и пух, превращаясь в совсем уж невообразимое столпотворение, то причины для этого нашлись иные.
Впрочем, о причинах позже.
Вечер валился с небес стремительней перуна Индры, и Карна проклинал тупоумие кампильских стражей. Объехав всю столицу панчалов (как водится, посолонь), он всюду натыкался на запертые ворота и равнодушие караульщиков.
— Откройте! — кричал Карна, задирая голову к зубцам башен.
— Не велено! — мерно отзывались башни — Завтра на заре у южных ворот…
— В чем дело? — Ветер рвал с затылка шапку, и оголодавшие кони ржали, роя землю копытами. — Почему не пускаете?!
— Не велено! — падало сверху эхо. — Завтра на заре…
— Да чтоб вас пишачи разодрали! Объяснить по-человечески можете?!
Тишина, в которой отчетливо слышится знакомое «не велено…»
Выход был один: прибиваться к табору и ждать зари.
У импровизированной коновязи Карна оставил лошадей попечению рябого прохвоста, вожака дюжины сопляков мал мала меньше. Рвение рябого соответствовало цене полученной им пластинки из нагрудного ожерелья гостя, и можно было не сомневаться: лошадей ждет царский прием. В смысле еда, вода и скребница. А большего трудно ждать в этой юдоли слез даже царям.
На всякий случай добавив к пластинке подзатыльник, Карна подмигнул рябому и пошел устраиваться на ночлег.
Это оказалось не так просто: табор являлся уменьшенной копией Великой Бхараты, а значит, требовалось соблюсти бхутову уйму условностей. И в первую очередь Варна-Дхарму, Закон «окраски». Собственно, представителям чистых варн
— брахманам, кшатриям и вайшьям — было проще всего. Их отношения особо не регламентировались, и жрец вполне мог хлебать из одного котла с сотником— копьеносцем или старейшиной цеха ювелиров. Но смешанные касты и сословия, да еще в такой теснотище… эталоном их отношений была чистота брахманского шнура.
Из рук пастуха, цветовода и огородника, а также плотника, медника или золотых дел мастера — из этих рук брахман воду примет. Зато у прачки, у носильщика паланкинов, цирюльника и горшечника, кузнеца, маслодела и винокура
— ни-ни! Даже умирая от жажды. Но эти люди все-таки допускались в храмы, городские и деревенские, в отличие от кожевенников и сапожников, скорняков и уличных плясунов, метельщиков и корзинщиков. Последних и к общему колодцу-то не подпускали — вынуждали рыть свой, отдельный, или в крайнем случае выделяли часть колодезного сруба, к которой дозволялось подходить невозбранно.
Короче, расположившись не у того костра, Карна вполне мог остаться голодным и холодным просто в силу обычая.
Поэтому он временно сложил с себя сан раджи и устроился близ гуртовщиков из Магадхи, деливших тепло и скудный ужин с бродячим коробейником и семьей местного кондитера — сладкое семейство возвращалось в Кампилью от сельской родни.
Самая подходящая компания для сутиного сына.
* * *
— Завтра, говоришь? На заре? А шиш с тмином не выкусишь?! В лучшем случае после полудня…
— Так отчего ж не пускают?
— Не пускают — это полбеды. Сунешь воротнику мзду в мешочке, вот тебя уже и пускают, а кого другого мытарят в три души! Главное, что не выпускают. Тут, паря, мздой не отделаться!
— Ты мне голову не морочь! Пускают, выпускают… Чего ждем, спрашиваю? От Брахмы милостей?!
— Ярмарка в Кампилье. Слыхал небось? А ярмарка — дело бойкое: ты заехал, я выехал! Вот сам и пораскинь умишком: ежели от каждого, кто выехать захочет, грамоту требовать, да еще с печатью Панчалийца или на худой конец градоначальника… Опять же ворота на запоре, окромя южных. Говорю тебе: после полудня заедем, и то в лучшем случае!
— Грамоту? С каких это пор на выезд из города царские грамоты требуются?
— С недавних. А ты че, не слыхал, как красильщика Харшу на глазах у всех соседей головы лишили? Ну, паря, ты прямо как с путей сиддхов свалился… Что? Только приехал, говоришь? Тогда разуй уши и слушай!
Карна разул уши. И узнал от словоохотливого коробейника историю гибели красильщика Харши. Которого неделю назад остановил у самого дома неизвестный человек. Сунул нос в корзину и потребовал, чтобы Харша сей же час подарил ему вон ту одежонку, вон ту тоже и еще ту, которая сбоку притулилась. Все свежевыкрашенные. Одна другой дороже. Ясное дело, Харша лишь расхохотался в голос и послал нахала куда подальше. Только нахал не пошел. Взял красильщика двумя руками за голову, крутанул с подвывертом… и что самое забавное, у всех свидетелей мигом память отшибло. Как Харше голову отрывали — помнят. Кто отрывал — забыли. А еще забыли, как из своих собственных лавок несли убийце все ценности, что близко лежали. Вернее, как несли, помнят, а вот кому… Мрак. Затмение. Лишь одно талдычат, будто сговорились: «Хороший человек. Хорошему человеку не жалко!»
И что главное: заговоришь с ними о гибели Харши — радуются. Впервые красильщик свое имя оправдал[23]. «Собаке, — смеются, — собачья смерть».
— Дурак ты, — подытожил Карна, когда коробейник перевел дух. — Чтоб из-за какого-то красильщика город закрывали? В жизни не поверю!
— Сам дурак, паря! Красильщик — муха, сгинул, и прет с ним! Да только сгинул он в аккурат за день перед «Свободным Выбором» Черной Статуэтки, царевны нашей! Знаешь ведь, как оно бывает: понаехало раджей тьма тьмущая, друг перед дружкой отвагой выхваляются, а царевна носом крутит: выбирает! Довыбиралась, Черная… Вышел на поле молодой брахман. Лук натянул, пустил стрелу каленую, третью, пятую — раджи только зубами от зависти клацнули! Вой подняли: дескать, «Свободный Выбор» не для дваждырожденных! Брахман-стрелок возьми и обидься. Прыг на помост, невесту под мышку и давай ноги делать! Он-то делает, а за ним дружок, тоже брахман, с дубинищей… А за тем еще тройка брахманов, одежонка драная, морды голодные, зато махнут рукой — улочка!..
— Отмахнутся — переулочек! — оборвал болтуна Карна, чувствуя, что напал на верный след. — Ты мне сказок не сказывай, дядя! Ты дело говори! Что дальше было?!
— А ничего и не было, — обиделся коробейник. — Ушли они. И царевну утащили. В народе говорят: боги то были. Светлые суры. А что? Запросто боги. Апсарьи ласки обрыдли, решили земной красоткой развлечься, одной на пятерых.
— На пятерых?
— В том-то и беда, что на пятерых! Панчалийцу вечерочком письмо подбросили, без подписи. Дескать, быть его дщери одной женкой при пяти мужьях, и никак иначе. Пусть радуется. А он, странный человек, не радуется. Кампилью на замок, мышь не выскользнет… Поймаю, говорит, мерзавцев — кровавыми слезами восплачут! Пятый день ловит…
Коробейник порылся в своих обильных пожитках, извлек надорванный пальмовый лист.
— Вот вчерась у глашатая выпросил. Слушай, паря, чего написано: «Уж не поставлена ли мне на голову нога презренного?! Уж не брошен ли мой венок на место сожжения трупов?! Пятимужье в наше просвещенное время — беззаконие, противное миру, и в прежние дни этот закон тоже не часто соблюдался благородными! Хум[24]!» И печать Панчалийца.
— Хум, — согласился Карна. — Всем хумам хум. Да, не повезло панчалам: и красильщика грохнули, и царевну сперли…
— И вообще… — непонятно к чему сообщил молчавший до того гуртовщик.
После чего плотней завернулся в грубое одеяло, шершавое, как терка, которое служило ему и плащом, и сиденьем, и подкладкой для ношения тяжестей на голове, через минуту он уже храпел.
— И вообще, — согласился кто-то из-за спины Карны.
Ты обернулся.
И сразу узнал подошедшего к костру человека, хотя со времени вашей первой и единственной встречи прошло больше четырех лет.
Черная кожа, пухлые девичьи губы, мягкий подбородок, звезды очей лучатся приязнью… Кришна Джанардана.
Черный Баламут.
— А ты-то что здесь делаешь? — малость обалдев от неожиданного свидания, спросил ты вместо приветствия. Баламут тихо рассмеялся:
— Женихался, дружище Ушастик! В «Свободном Выборе» участвовал. Или я, по— твоему, не гожусь в женихи?
— Пастушки надоели?
— И это тоже. Тебе хорошо, ты опоздал… а мы все в дураках остались. Позор!
Тебе очень захотелось утешить этого замечательного парня. Объяснить, что ты вовсе не собирался пополнять собой ряды претендентов на руку царевны, что цель твоего приезда иная, что тебе не меньше оскорбленного Панчалийца или униженных женихов хочется найти похитителей, ибо боги богами, которыми здесь и не пахнет…
Ты даже не сразу понял, что уже идешь с Кришной меж костров — взахлеб рассказывая обо всем этом.
Черный Баламут слушал внимательно, изредка хмыкал и вертел в руках неизменную флейту, но играть на ней не пробовал. Подносил к губам, словно забывшись, косился на тебя, вздрагивал и вновь опускал инструмент.
— Ладно, — наконец бросил он. — Грозный послал, говоришь? Шасану на ссылку выдал? Пошли, Ушастик, свожу тебя кой-куда…
И резко свернул в темноту.
К предместьям Кампильи, что давно спали на том берегу Господней Колесницы.
6 УСЛУГА
…Кислый запах нищеты.
Так пахнет вечная подлива-похлебка из бобов, гороха и чечевицы, это аромат прогорклого масла и жмыха горчичного семени, отрыжка после просяного пива, теснота, редко стиранная одежда, редко мытые тела, треск насекомых под ногтем, чад очага — дыра в земляном полу, снабженная глиняными бортиками, на которых держатся горшки с пищей. Кислятина ворочается во тьме, душит, забивает ноздри грязным пухом, и неудержимо хочется чихнуть, а еще больше — выбежать отсюда на свежий воздух.
Позади шепотом ругается Кришна. Черный Баламут возится с лампадкой, предусмотрительно захваченной из лагеря. Язычок пламени робко выглядывает из масляной жижи и почти сразу прячется. Не хочет рождаться здесь, в грязи и бедности. Кришна уговаривает его, убеждает Семипламенного Агни, что перед светом и тьмой все равны, что…
Зачем ты привел меня сюда, Баламут?
Лоскут света выхватывает стопку травяных циновок в углу. Рядом отгороженный бхитар — божница покровителей дома, куда допускаются только мужчины. Надо полагать, покровители давным-давно махнули рукой на свои обязанности. Кроватей нет. Даже тех, что делаются на скорую руку: рама с веревочной сеткой, положенная на четыре чурбака. Ничего нет. Грязь, божница и циновки.
Вон в углу еще одна.
На циновке спит женщина. Худое тело кажется невесомым, оно парит над травяным плетением, свернувшись калачиком, словно задавшись целью подтвердить чудеса аскезы, правая рука подложена под щеку. Женщине снятся сны, и она морщится, дергает щекой, кусает губы…
Плохие сны.
В том, что они плохие, сомнений нет. Здесь не может сниться рай. Особенно если ты — царица Кунти, которую успели похоронить в мыслях своих сотни и тысячи.
— Где эти? — спрашиваешь ты.
Кришна понятлив.
Ему не надо называть имен.
— На промысле, — кратко отвечает он. — Жрать-то хочется…
Женщина ворочается и стонет.
— Ушастик, — бормочут растрескавшиеся губы, давно забывшие о помаде. — Маленький мой… Ушастик…
Ты с жалостью смотришь на мамину покровительницу. Таким сыновьям, как у нее, надо бы руки-ноги повыдергивать. Довести мать до кошмара! Хорошо хоть жива, а то сгорела б в Смоляном Доме старой ветошью… Разве ей скитаться по лесам, жить подаянием, ноги бить вровень со здоровенными парнями?
Ах, ублюдки!
Ты на миг представляешь на месте царицы свою мать. Руки холодеют, а в ушах маревом возникает и пропадает знакомый звон комариной стаи.
Тело чешется.
Но нищета и насекомые здесь ни при чем.
— Ушастик, — шепот во мраке, кашель, нутряной, сухой кашель, и снова шепот: — Ты не убивай их, ладно?.. Ты же старше… Ну ради меня!.. Не…
— Ладно, — отвечаешь ты.
Сам плохо понимая, что хочешь этим сказать.
Женщина резко открывает глаза и садится на циновке. Ресницы слиплись, по бокам переносицы засохли капельки гноя, а во взоре плещется ужас и отчаянная, невообразимая надежда.
Дикая смесь.
— Карна! Ты!.. Ты…
Тело ее совсем легкое, тебе ничего не стоит подбросить царицу к небу или на руках отнести прямо в Хастинапур, жалость кипит в тебе, страшная жалость, бешеная жалость, способная толкнуть на самые безрассудные поступки.
За спиной сочувственно сопит Кришна.
— Не могу… не могу больше! Забери, забери меня отсюда!.. Пожалуйста… Ведь хуже бродяг, хуже псоядцев! Они говорят: домой нельзя, дома Грозный, дома враги… убьют… Пусть лучше убьют! Живем, как вши… копошимся! Животами все время маемся, у Арджуны чирьи… И смерти, смерти! В Кагальнике, в лесах, близ Камышухи, гандхарва живьем спалили… Забери меня, забери, умоляю!
Тихая мелодия флейты вторгается в сбивчивую речь, и женщина умолкает. Разглаживаются морщины, синевой наливается взор, щеки розовеют. Поет флейта, молчит царица Кунти, уходит ужас из ее глаз, уходит побежденным, оставляя поле боя надежде — воцаряйся! властвуй! повелевай!
Надолго ли?
— Девку эту притащили, — еле слышно говорит царица, глядя в пол. — И так голодаем, к чему нам девка?! Я ж не знала, что они… кричат из-за двери: «Кому, мама?!» Думала — еды принесли, делить хотят. Они всегда так, из-за двери… а я отвечаю: «Это, мол, Бхиме, это близняшкам, это Арджуне…» Ответила. Ответила, дура старая! «Не деритесь, — ответила, — мальчики! Пусть на всех пятерых будет!» Язык сейчас вырвать готова! Своими руками! А они уперлись: нет, мама, раз сказала, так тому и быть… на пятерых. Панчалийцу письмо подкинули. А теперь уходить боимся. Кругом земли панчалов, не спрячешься! На колы гуртом рассажают…
— А красильщика, — машинально спросил ты, — красильщика за что убили? Лавки пограбить захотелось?
— Красильщика? Что ты, Карнушка, не было такого! Троицей клянусь, не было!
— Ладно, — снова отвечаешь ты.
Сари на царице Кунти относительно новое.
Свежевыкрашенное.
С вышивкой.
Ладно… не с ней о том беседовать.
— Ты грамоту от Грозного мне передай — На плечо ложится мягкая ладонь Кришны. — Они в ссылку быстрей, чем в рай, побегут. Им она за счастье. А сам уезжай. От греха подальше. Я ж вижу: у тебя руки чешутся… По дороге почешешь. Я вчера пропуск на отъезд от Панчалийца получил, со всей свитой… вывезу дураков. Договорились?
— Спасибо, — отвечаешь ты, накрывая ладонь Баламута своей. — Спасибо, Кришна. Считай, я твой должник.
— Считаю, — без тени усмешки отвечает Кришна.
И ты забываешь спросить у него: откуда Черному Баламуту стало известно место укрытия Пандавов? Ну, узнать их для неглупого человека было просто: небось на «Свободном Выборе» пошумели изрядно… А дальше?
Следил, что ли?
Зачем?
Ты поворачиваешься, отбрасывая вопросы, как отбрасывают прочь надоедливого щенка, ты поворачиваешься и выходишь наружу.
Да гори они все синим пламенем!
Вслед смотрит царица Кунти.
— Маленький мой… — шепчут белые губы. — Маленький мой… Ушастик…
* * *
Черный Баламут сдержал свое слово.
Единственное, что задело Кришну за живое: люди каким-то образом прознали истинную подоплеку гибели красильщика Харши. Правда, волей молвы место действия перенеслось из Кампильи в Матхуру, а погибший превратился в злоязычного и злоумного владельца прачечной, чуждого милосердию… Впрочем, неважно.
Важным было другое: впервые флейта опробовалась в заведомо провальных обстоятельствах — при большом стечении народа, потрясенного убийством земляка.
И ничего, получилось.
Любят.
Все любят: и кампильцы, и пятерка спасенных братьев, получивших в дар краденые одежды вкупе с прочим барахлом, и мамаша их замученная любит, и Опекун Мира, чей безмолвный приказ погнал Кришну в Кампилью, для знакомства и присмотра за неугомонными Пандавами, и наивный Ушастик, чьи серьги…
Да, серьги.
Жалко.
Глава IX ИНДРОГРАД РОЖАЕТ ГОСПОДИНА
1 ВЫЗОВ
— Скорее! Едут!
Вопль мальчишки-наблюдателя, примостившегося на самой верхушке громадного карпала, сперва всполошил стаю воронья, и птицы черной тучей прянули в небо.
Следом очнулись люди.
Как был, голышом подхватившись с циновок, Карна опрометью вылетел из шатра. И со всех ног кинулся к берегу самой языкатой в мире речушки, прозванной в честь богини красноречия. Видимо, богиня во время оно соизволила омыть здесь ноги, иначе только шутнику или придурку взбрело бы в голову назвать эту поилку для коз — Сарасвати, то бишь «Богатая Водами». Впрочем, Карне сейчас было не до названий, богинь и шутников.
Следом спешил верный слуга с ворохом одежды, поминутно роняя то повязку для чресел, то размотанный тюрбан, то пояс с пряжкой из черненого серебра. К плебейским выходкам господина слуга давно привык. И все-таки негоже знатному встречать еще более знатного, сверкая с кручи голой задницей…
Из-за поворота дороги на противоположном берегу сперва раздался громоподобный топот, а вскоре и показался слон-гигант. Белый. Не боевой: где наконечники на бивнях? где металл налобника? да и беседка на могучей спине сверкает украшениями вместо того, чтоб щетиниться копейными жалами. Но в эту минуту слон казался самим Айраватой-Земледержцем: тяжко попирая землю, он несся ожившим холмом, терзаемый стрекалом в руках бешеного ездока.
И вовсю трубил на бегу, будто узрел самку в течке.
Острый глаз Карны сразу разглядел: ездок не просто бешеный. Он и в самом деле Бешеный. А позади него в углу беседки сидит на сложенных вчетверо коврах Боец. Мрачнее тучи. Губы кусает. Чистый Индра в гневе: того и гляди разразится перуном. Впору ждать, что следом из-за поворота выметнется не отставшая свита, а буйная дружина Марутов с молниями наперевес.
Слон с разбегу вломился в речную гладь, заставив «Богатую Водами» встать на дыбы, и в сверкании брызг пронесся мимо кручи, где ожидал Карна. Бешеный кубарем скатился с его спины, следом прямо из беседки прыгнул Боец, не дожидаясь, пока умелые анги успокоят животное. И оба царевича — косая сажень в плечах, дай волю, гору своротят! — наперегонки понеслись к Ушастику.
Видимо, задались целью перещеголять приятеля в выходках.
Карна шел навстречу царственным друзьям и понимал: тишь да гладь последних месяцев разметана вдребезги.
Как река — слоном.
* * *
…Гонец от Черного Баламута прибыл в Хастинапур на десять дней позже Карны. Сам Карна к этому времени продолжал ломать голову: рад ли Грозный чудесному спасению Пандавов и мирному разрешению дела? Или только делает вид, что рад? Или даже вида не делает?
Во всяком случае, на Совете он туманно заявил:
— Мне не по душе раздор с сыновьями Панду. О Боец, подобно тому, как ты смотришь на царство как на наследие отцов, точно так же смотрят на него и Пандавы!
Регент замолчал, а собравшиеся еще долго переглядывались.
Что хотел сказать этим престарелый сын Ганги?
Короче, гонец от Кришны оказался весьма кстати: привезенные им известия проливали бальзам на рану. Да, братья-Пандавы с матерью успешно добрались до места ссылки. Да, стараниями Черного Баламута удалось примирить разгневанного тестя-Панчалийца с пятеркой зятьев. Баламут оказался выше всяческих похвал: длинная история о прошлых рождениях Черной Статуэтки в его изложении неизменно заканчивалась одним выводом — девица была просто обречена на многомужие. Обречена судьбой. Законом. Богами. Кармой. Обстоятельствами. Случаем.
Достаточно?
Панчалиец счел, что достаточно.
Единственное условие, которое поставил гордый раджа панчалов: его дочь не должна жить со ссыльными. Ответ из Города Слона последовал незамедлительно: крепостца, где сидели битые Пандавы, нарекалась Индроградом[25] (насмешка? намек?) и давалась братьям в удел. Пусть правят. А если местные вожди лесовиков возмутятся…
Увы! Надежда исполнилась лишь частично. Вожди и впрямь возмутились. Результатом было послание из Индрограда в Хастинапур: «Живя здесь, сыновья Панду по велению Стойкого Государя и Грозного убили всех других царей. В нашем лице Веды обрели усердных толкователей, обряды — щедрых устроителей, а народ — доблестных защитников. Ом мани!»
Грозный вкупе со Слепцом тщетно пытались припомнить: когда это они отдавали такое веление «толкователям, устроителям и защитникам»? По всему выходило, что никогда. Но худой мир лучше доброй ссоры, и дело пришлось замять. Тем паче что дань из окрестностей Индрограда теперь поступала исправней прежнего.
Время шло, в Городе Слона игралась свадьба за свадьбой — Слепец усердно женил свое многочисленное потомство, рассчитывая на еще более многочисленных внуков. Женился и Карна, вняв уговорам родителей. И не вняв уговорам доброжелателей: взял за себя тихую девушку, дочь отцова друга, вместо того чтобы закреплять новообретенную знатность женитьбой на невесте с родословной. «Это кони должны быть породистыми!» — заявил сутин сын и ернически заржал в голос, заставив издалека откликнуться всю конюшню.
Доброжелатели разом заткнулись.
Сейчас жена Карны была на сносях, и Ушастик не шибко-то хотел покидать супругу даже на неделю — но пришлось.
Около месяца тому назад из Индрограда пришла очередная депеша. Звали на новоселье. Дескать, обустроясь на новом месте, братья-Пандавы приглашают всех раджей Великой Бхараты почтить их удел своим присутствием. Особенно подчеркивалось: ждут Бойца. Ждут с нетерпением. Мечтая о приезде Слепцова первенца, как воробей в летний зной мечтает о дожде. Как мечтает скупец о сокровищнице Куберы, как брахман — о райских мирах, аскет — о духовных заслугах, а также как этот… как его?.. об этом… как его?!
Короче, ждем.
На Совете было решено не отказывать, да и Боец соглашался на примирение. Опять же интересно было увидеться с беспокойными Пандавами — неужто и впрямь образумились? Сопровождать брата вызвался верный Бешеный, их слепой отец по вполне понятным причинам остался дома с остальными сыновьями, а Грозный ехать и не собирался.
И без новоселий дел по горло.
Вот так и вышло, что, проводив Бойца до мелкой Сарасвати — границы Пандавского удела, — Карна надолго застрял там лагерем в ожидании возвращения друзей.
Сам он, хоть и обладая титулом раджи ангийского, здраво решил не дергать тигра за усы.
А то развопятся потом по городам и весям: «Ах, скорый на руку и язык! Ах, герой, который бесподобен сбивать с толку тех, кто сам впадает в заблуждение! Ах…»
Нет уж, обильные заслугами! Мы и здесь подождем.
Дождался.
2 БЕШЕНЫЙ
— Козлы! Нет, Карна, ты понимаешь…
— Да погоди ты, Бешеный! Отдышись сначала. Вон Боец — в шатре заперся и никого видеть не хочет. А ты тут со своими воплями…
— Да я, пока из этих гадов душу не выну, ног не омою! Спать зарекусь! Нет, ты понимаешь, что удумали, сволочи! Они же публично объявили подготовку имперских обрядов! От своего имени! При куче свидетелей! Нашли в глуши какого— то вшивого брахмана, сделали своим семейным жрецом, а тот и рад стараться… Не удивлюсь, если он завтра объявит весь удел Обителью Тридцати Трех!
— Обряды? Ну и что?
— Как что?! Ах ты, орясина непросвещенная… Ладно, об обрядах потом. Нет, ну каковы суки! Зовут во дворец — выстроили себе халабуду! — сами ласковые-ласковые, коврами стелются… мы с Бойцом губы и раскатали. Заходим в первый зал — а под ногами вместо пола вода. Я одежду подобрал, чтоб не намокла, а эти ухмыляются — пол, оказывается, целиком из горного хрусталя, и снизу рыбки плавают! Смолчали. Идем дальше. Второй зал, стоим на пороге: такой же пол. Я вперед, Боец за мной… Оказалось, это купальня! Мы в нее плюх! — как были, при всем параде. Выбрались наружу, мокрые, вода ручьями, водоросли к роже липнут, а они уже внаглую ржут! И тесть их, и остальные… хотят сдержаться, да рты сами луками гнутся! Понял, зачем нас звали? Ославить, на посмешище выставить…
— А Боец?!
— Что Боец?! Сам знаешь: он в последнее время правильный… И меня удержал. Я уж было к Бхиме, за грудки, а Боец кричит: «Назад!» Ну, обсохли, переоделись, явились на собрание — тут они нам свинью и подложили! Я-ста, мы— ста, сыновья богов и прочее, желаем во славу и величие свершить «Приношение Коня» вкупе с «Рождением Господина»! И брахмана к жертвенному огню пихают. Тот рад стараться: «Сваха! — гундосит. — Вашат! Ом мани!» И все, как на грех, при свидетелях. Я гляжу: Боец встал и вон вышел. Короче, погуляли…
— Вижу, что погуляли. Только при чем тут обряды?
— При том, Ушастик, при том самом. Нас в дороге верный человек догнал. Сказывал: на следующий день скандал у Пандавов случился. Якобы. Тот брахман, что жрецом у них, явился на рассвете. Коров у него разбойники угнали. «Спасайте! — голосит. — Отбейте буренушек!» Рядом как раз Арджуна и случился. Он и рад бы спасать-отбивать, да оружие в тех покоях, где старшенький Пандав с ихней общей женкой уединился. Вот и выбирай: то ли брахмана под обитель подвести, то ли брату всю сласть на корню срубить!
— Выбрал?
— Выбрал.
— Пошел за оружием?!
— За ним, родимым. Коров отбил, а сам себе за грех перед братом кару определил: изгнание. Не то на шесть лет, не то на двенадцать. Короче, шмыгнул в лес и был таков.
— Ф-фу! Хвала богам! Одно неясно — старший Пандав чего, в арсенале жену любил? Сотню шлемов еловцами кверху — и давай, любимая?!
— Идиот! Какая хвала! Пойми, дурья твоя башка: если царь объявит при свидетелях подготовку к имперским обрядам да еще брахман это дело закрепит жертвой, никто не имеет права начинать такой обряд поперек. Пока зачинщик не завершит дело или не провалится с треском! А Арджуна в лесу сидит сиднем… без него не начнут. Дошло?
— Погоди, Бешеный…
— Куда уж тут годить! Да, чуть не забыл: там за нами со свитой царица Кунти едет. Напросилась в Хастинапур. Проведать не хочешь? Она тебя, по-моему, привечает…
3 ЦАРИЦА
Ты стоял перед хрупкой царицей и вспоминал вашу последнюю встречу.
Под Кампильей, в полуразрушенном доме.
Боги! — как она постарела, несчастная вдова несчастного Альбиноса… Маминой ровесницей смотрится. А мама ее сильно старше будет. Морщинки у глаз, губы выцвели, сутулится. Странно: раньше раздражало, когда Кунти затаскивала тебя в антахпур, даря своим вниманием. А сейчас и сам готов пожалеть беднягу: хлебнула горя, пожив с сыночками. Ну ничего, в Хастинапуре отойдет, отъестся…
— Здравствуй, Карнушка, — тихо сказала царица Кунти. — Дали боги свидеться… я уж и не чаяла.
Ты поклонился, сложив ладони передо лбом. Слова не шли на язык, любое выглядело ложью, ложью и несуразицей.
— Говорят, ты женился, скоро отцом станешь… Мне Бхима тоже внука принес. Издалека, из-под Кагальника. Вот, говорит, мама, — нянчи. Сиротка он, дескать, без родительницы остался. Сдохла родительница, туда ей и дорога, заразе-лесовичке… лучше б по-добру отдала. А внук-то страшненький, тельцем мохнат… зато головой плешив. Глазки углями горят. Боюсь я его нянчить. Так Бхима с ятудханом заезжим договорился, чтоб был пастырем ребеночку. Ятудхана Яджей кличут, сам мальчонка мальчонкой, только одноглазый, и морда вроде вареная — а как глянет, хоть стой, хоть падай! Забрал он внука, увез… большие способности, сказал, а к чему способности, не говорит…
Ты молчал.
Слушал.
Тебе было неловко, как если бы царица раздевалась перед тобой, хотелось убежать.
— Сласти у меня на столе стояли, утром служанка занесла. Бхима всю вазочку и опустошил. А к вечеру живот прихватило… еле лекаря вытащили. Сказали: яд. Будь кто другой на месте Бхимы — уже б в раю песни пел. Я позже спрашивала: сласти эти невестка передала. Я ей третьего дня замечание сделала: ладно свекрови, а мужьям уж точно дерзить не положено… Боюсь я, Карнушка. Довези ты меня до дома, ладно?
— Ладно. — Голос отказывался подчиняться, сбиваясь на невразумительный хрип. — Довезу.
— Чуть не забыла, — прозвучало из-за спины, когда ты наконец собрался уходить. — Арджуна в лесу… ну да ты небось уже слышал. Только он не в изгнании, он там аскезе предается. Ради небесного оружия, которое вроде как недополучил. Мне казалось, тебе надо знать…
— Благодарю, царица, — ответил ты.
И быстро пошел, стараясь отрешиться от сказанного.
4 СОВЕТ
— Мой царственный отец! А также ты, Грозный, лучший из кшатриев, и вы, достойные мужи, собравшиеся здесь! — Рык Бойца гулом лавины разносился по огромной зале. — Я все сказал. О позоре и оскорблении, о подлости и хитрости — все. Теперь слово за вами!
Он отступил на шаг назад и коротко кивнул, что должно было, наверное, означать поклон.
— Успокойся, сын мой. Я разделяю твой гнев и обиду, и все мы, здесь сидящие, возмущены поступком Пандавов, ибо нам уже известна суть дела. Эту весть принес нам благородный Кришна, поспевший в Хастинапур раньше тебя. Займи свое место по правую руку от меня и продолжим Совет.
Только сейчас Карна заметил Черного Баламута: тот удобно устроился неподалеку от царского возвышения. Смуглое тело Кришны, умело задрапированное в темно-синие шелка, почти полностью сливалось с эбеновым деревом кресла, углядеть гостя в полумраке залы было не так-то просто.
Кришна приветливо улыбнулся и, казалось, задремал.
— Есть ли у присутствующих здесь мужей, обильных подвигами, соображения по этому поводу? — поинтересовался Слепец.
— Позволь мне сказать, сиятельный раджа, — раздался голос Наставника Дроны.
— Мы все внимание, Наставник. Говори.
— Я не буду сейчас говорить о насмешках и оскорблениях, нанесенных первенцу раджи Хастинапура, — поведя себя недостойно, сыновья Панду в первую очередь сами потеряли лицо. Я буду говорить о том, что ближе мне как брахману,
— о затеянном Пандавами «Рождении Господина». Обычно обряд сей творится лично раджой-зачинщиком либо его прямым наследником с согласия отца — с целью получения титула Махараджи. Следующий за «Рождением…» обряд «Конского Приношения» закрепляет воинское преимущество Махараджи, и он становится Чакравартином-Колесовращателем. Однако же допускается проведение обрядов и косвенными наследниками из царского рода. Пример тому — сотня «Конских Приношений» самого Громовержца, ставшего Владыкой в обход старших братьев. Итак, здесь Закон соблюден, хотя сыновьям Панду и следовало бы испросить позволения у своего дяди — сиятельного раджи. Но сделанного не исправишь. Обряды объявлены.
Дрона выдержал паузу, давая всем возможность вникнуть в смысл его слов.
— Как и любой другой обряд, соответствующий Закону, «Рождение Господина» не может быть насильственно прервано. Также Законом запрещено начинать встречный обряд до окончания (удачного или нет) тою, который был начат первым.
— Позволь спросить тебя, многомудрый Дрона… э-э-э… а сколь долго может длиться подготовка к сему обряду? — поинтересовался один из советников.
Пожилому воеводе было проще наголову разбить каких-нибудь мятежных кашийцев, нежели сражаться с хитросплетениями крючкотворов.
— Обычно само «Рождение Господина» длится около двух лет. Но если какие— либо обстоятельства затягивают проведение уже объявленного обряда, то он может быть отложен на срок до двенадцати лет. При этом оставаясь в силе. Таков Закон. Если же за двенадцать лет обряд не будет завершен, то он считается несостоявшимся — это значит, что богам неугоден новый Махараджа.
Воевода охнул и сунул в рот клок бороды — жевать.
— Ничего себе! — проворчал Карна, отлично понимая злость полководца. — Они, значит, двенадцать лет будут нам жилы на локоть мотать, а мы сиди сложа руки?!
— Именно так, о достойные. — Ответ Черного Баламута был подобен журчанию его флейты, хотя сама флейта сейчас молчала, прячась в рукаве. Но никому не пришло в голову поинтересоваться: кто дал Кришне право встревать без разрешения?!
Слушали.
Как завороженные.
— Именно так. Под предлогом искупления вины за вторжение в братнюю опочивальню Арджуна отправился в добровольное изгнание. Поэтому сыновья Панду отложили «Рождение…» до возвращения Серебряного. Сам же Арджуна в это время наверняка предается аскезе. Цель понятна: получить от своего небесного отца все возможное божественное оружие. Остальные Пандавы тем временем укрепляют Индроград и подыскивают союзников, дабы подкрепить обряд военной силой. И думается мне: они используют все двенадцать лет отсрочки, положенные им по Закону.
— Отец! — Чувствовалось, что Боец с трудом сдерживается, заставляя себя говорить спокойно. — Раз мы не можем запретить этим… Пандавам проводить «Рождение…» и не можем начать встречный обряд, то почему бы просто не двинуть войска на эту занюханную Твердыню Индры?! Обряд обрядом, а война войной! Да мы с Карной просто сотрем их с лица земли! А если боги будут против… что ж, тем хуже для богов!
Карна одобрительно кивнул: Боец высказал его же мысли.
Впрочем, последней репликой наследник сильно подпортил впечатление от речи: богов лучше было не приплетать.
— Сын мой! Среди шести методов политики, как-то: мир, выжидание, угроза, союз, обман и война — последний наименее желателен! Выслушай сначала остальных
— возможно, отыщется и мирный путь.
— Ты обладаешь оком разума, о сиятельный раджа! — Доброжелательная улыбка Кришны плеснула в глаза собравшимся, заставив гнев, обиду и жажду немедленных действий отступить. — Неужели доблестный Боец хочет, чтобы его сочли тираном? захватчиком? братоубийцей?! Не верю! Не может сей благородный муж алкать ненависти подданных, не может он гнаться за славой вероломного царя-убийцы! Разве заявка на обряд — достаточный повод для убийства родичей? Непрочной будет власть, завоеванная такой ценой, и страх воцарится во владениях Кауравов!
Кришна вороном взлетел из кресла, и всем показалось: Черный Баламут вдруг стал выше на целую голову, распространяя сияние на главные и промежуточные части света. Инкрустированные кораллом плиты пола вздыбились головой кобры, раздулись клобуком — и поверх змеиной макушки встал во весь рост темнокожий юноша в позе Господства. Чернец, Пастырь, Кудрявый, Баламут, Рожденный-под— осью, Любовник —он был многорук, являя людям раковину, диск, плуг и палицу, «Рогача» и «Доставляющего Радость»[26], и из тела его вышли тринадцать языков пламени, каждый размером с большой палец.
Хоровод теней закружился «мертвецким колом» по стенам, покрытым белой штукатуркой, отполированной до блеска зеркал: черепаха, вепрь, рыба, человеко— лев, воин, пастух…
— Вы знаете, КТО Я! — гремело отовсюду, обрушиваясь на слушателей, и «Я» звучало как «Мы». — Внемлите: вы под Опекой, и нет опеки надежней! Великой Бхаратой должны править законные цари из рода Куру, а не рвущиеся к трону сыновья Панду, которые напрасно гордятся небесным родством! Тишина.
Благоговейная тишина и терпеливое ожидание: цари с советниками внимают словам Баламута.
— Однако даже суры не могут остановить обряд, если Закон соблюден. Вооружитесь надеждой и терпением! К чему война, кровь и насилие? Лучше вспомните слова мудрого Дроны, лучшего из брахманов: если «Рождение…» не завершается согласно предписаниям, это значит, что богам неугоден новый Махараджа!
Тишина.
Пляшут тени на стенах.
— Вспомните, благородные мужи: что входит в «Рождение Господина»? Обильные жертвоприношения и молитвы, колесничные состязания, ритуальный захват скота, игра в кости… Вот оно! Игра в кости! Вы понимаете меня, достойные?! Уже сейчас Юдхиштхира, старший из братьев-Пандавов, готовится встряхнуть стаканчиком! С детства обуянный страстью к азартным играм, он наводнил Индроград знатоками «счета и броска»: он осыпает их дарами, кормит и поит, желая постичь все премудрости до единой! Вы понимаете, куда я клоню, обильные добродетелями?! Пляшут тени.
Пляшет улыбка на устах Кришны. Пляшет в воздухе указующий перст, и мнится: он упирается в каждого из собравшихся, и еще в потолок упирается он, и еще — в небо.
— Разве забыли вы о родном дяде Бойца-наследника? О брате царицы Гандхари?! Об известном в трех мирах Соколе-гандхарце по прозвищу Китала?! Кто— нибудь слышал о его проигрышах? Нет, нет и еще раз нет! Пандавы упрямы, а старший из них азартен? — отлично! В ослеплении куража можно проиграть многое… Кончена пляска теней. Недвижим пол, угасло пламя.
И Черный Баламут как ни в чем не бывало дремлет в кресле.
Молчание.
Лишь слегка потрескивает желтое пламя в масляных светильниках. Совет думает. Совет сравнивает. Совет…
— Мы благодарны тебе, Кришна, — колоколом прогудел под сводами голос Грозного. — И впрямь война с близкими родичами — гиблое дело. Я… прошу прощения, сиятельный раджа! — вдруг смущенно спохватился седой гигант. — Дозволено ли мне будет продолжать?
— Продолжай, Грозный. — Грустная усмешка тронула губы Слепца. — Все знают: ты — не только мои глаза, но и уста. Продолжай без стеснения.
На мгновение замявшись, патриарх Города Слона вновь заговорил:
— Пусть Пандавы затягивают время, вербуют союзников и готовят обряд. Пусть Арджуна предается аскезе в надежде заполучить все небесное оружие разом, как старьевщик мечтает забрать оптом все обноски столицы, пусть Юдхиштхира мечет кости. Мы промолчим. Мы будем крепить державу и ждать. Кришна прав. А если Пандавы думают, что время работает на них, — они глубоко ошибаются! Я знаю, они рассчитывают не только на союзников и оружие Арджуны. Они надеются также, что я за это время совсем одряхлею, а то и вообще отправлюсь в обитель Индры, что одной серьезной заботой у них станет меньше. Но они просчитались! В случае чего Город Слона давно способен обойтись без Грозного, но и я не собираюсь покидать этот бренный мир! Мой отец, раджа Шантану, даровал мне право самому выбрать день и час моей смерти! Что ж, я тоже подожду. Времени у меня достаточно: побольше, чем у юных выскочек. Да и Боец молод — куда спешить?
Грозный гулко расхохотался и подвел итог:
— Мы будем ждать.
* * *
— Ну, что там, Карна?! — Тринадцатилетний сын Дроны ждал Ушастика во дворе, едва не подпрыгивая от нетерпения.
— Решили погодить, Жеребенок. Войска остаются в казармах. Войны не будет.
— Карна решил опустить подробности, которые к тому же наверняка не слишком интересовали его юного друга.
— Зря! — искренне огорчился Жеребенок, еще только обещавший вырасти в матерого Жеребца. — Небось эти бы не церемонились!
— Слушай, Карна… — Глаза мальчишки загорелись шалым огнем, какого никогда не пылало во взгляде его строгого отца. — А давай вместе их разнесем?! Вдвоем! Ты и я. Да мы от их Твердыни камня на камня не оставим — никакого войска не надо!
— И не совестно? — притворно насупился Карна. — За что ты их так не любишь?
— А ты? — Сын Дроны был скор на язык. — Скоро на шею сядут, в рот удила сунут — что, мало?!
— В самый раз, — вздохнул Карна. Возразить было нечего.
— Так давай! Раз войска в казармах — мы сами…
— Нельзя! — досадливо стукнул кулаком по колену Карна. — Забыл, что ты — брахман? А брахманы могут лишь защищаться, и то не всегда. А я теперь — раджа. Против воли Совета не попрешь. Был бы я, как раньше, просто сутин сын — какой с меня спрос? А теперь нельзя. Понимаешь? Хотел свободы, а получил…
— Понимаю, — понурился Жеребенок. — Все я понимаю… Слушай, Карна, — вдруг снова оживился мальчишка, — а я вчера в Безначалье твои две мантры соединял! Ну, помнишь, ты мне перед отъездом советовал?
— Помню. И как?
— Ой, здорово получилось! Из земли горючие червяки полезли, половину папиного войска спалили, пока он их градом не шибанул! И вот я думаю…
С сыном Дроны Карна сошелся легко и сразу. Жеребец-Ашваттхаман был полной противоположностью своему отцу: порывистый, искренний, переживавший все события удивительно живо — чем-то он сам походил на молодого Карну.
Сейчас Дрона успешно обучал Жеребца искусству Астро-Видъи, не уставая радоваться успехам сына. Наставник даже не догадывался, что Карна тайком от него подбрасывает юному брахману-воину то новую мантру, то удачную мыслишку — дальше сын Дроны додумывал своим умом.
А Карна в свою очередь не подозревал, что в такие моменты он неуловимо походит на сурового и язвительного обитателя Махендры — Раму-с-Топором.
— Ничего, Жеребец, еще повоюем. Дай срок, — улыбнулся Карна, прощаясь.
Молодой раджа не знал, что слова его были пророческими.
До Великой Битвы оставалась четверть века. Пустяк в сравнении с вечностью.
Глава X СОКОЛ БЬЕТ БЕЗ ПРОМАХА
1 ПРЕТЕНДЕНТЫ
— Слыхали новость? Серебряный Арджуна воротился из изгнания! Он побывал на небе, в райских мирах своего отца, великого Индры!
— Хорошее изгнаньице! В такое и я бы со всех ног…
— Везет кшатре! Небось папаша даров от щедрот своих отвалил — обалдеть!
— Везет?! А пять лет аскезы — не хочешь?!
— Какие пять?! Все шесть, а то и семь: стороны света дымились, когда он умерщвлял плоть, вознося хвалы Синешеему Шиве…
— Какому Шиве? У Индры он был, бестолочь!
— Сам ты бестолочь! Дхик на тебя! На восьмой год явился к нему сам Шива в облике горца-оборванца, и заспорили они с Арджуной из-за убитого кабана. Ну, ясное дело, подрались…
— Какого кабана?! С каких это пор аскеты свинскую печенку харчат?!
— Кто подрался? Шива с Арджуной? Да от Серебряного мокрого места…
— Слушай, ты самый умный, да? Все знаешь, да? Сведущие люди правду рассказывают, а ты с глупостями лезешь, да?! Подрались они, говорю, и чем только Серебряный горца того не дубасил: и стрелами, и луком, и кулаками — а тому все до Атмана-Безликого!
— Кулаками — это и впрямь… Богу в рыло… Ладно, а дальше что было?
— А то! Взмолился Арджуна Шиве: даруй, мол, силы победить зловредного горца, глядь — а перед ним сам Шива и стоит! И смеется: очень уж понравились царские тумаки. «Потешил, говорит, проси, говорит, чего хочешь!» Ну, тут Арджуна и загнул от души: оружия, мол, всякого, и побольше…
— И бальзаму от жадности! И тоже побольше!
— Да заткните вы рот этому Бхуришравасу[27]! Пусть человек рассказывает!
— …Ну, тут Трехглазый и отвел его за ручку на небо, к тяте родимому. Так Индре прямо и сказал: «Что ж ты, папаша драный, на сына любимого ваджрой забил?! Живо учи уму-разуму!» И пять лет провел там Арджуна, учась Астро-Видье и любя апсар по-всякому. Но как-то раз сказал он своему отцу «Превзошел я твою науку, но на ком испытать мне свою силу и умение?» И ответил ему Громовержец: «Тренируйся на данавах Вконец обнаглели, племя адово!» И горели в огненных потоках «Облаченные-в-Непробиваемую-Броню», именуемые Ниватакавачами, после чего пришла пора витязю возвращаться в наш бренный мир…
— Явился — не запылился! Первым делом коров у соседей-матсьев стибрил!
— Да это ж обряд, дурья твоя башка! Его братья-Пандавы еще бхут знает когда объявили, да отложили, потому как Арджуна в изгнании был! А теперь, как он воротился, сразу же моления вознесли, жертвы на алтарь — ну и коров угнали, не без того! Нонеча в Слон-Город едут: кости пораструсить, тряхнуть стаканчиком. Ежели их верх — быть Царю Справедливости, старшему из Пандавов, Махараджей, царем царей! А Арджуне — его правой рукой, главным полководцем. Обряд-то как называется? «Рождение Господина»! Вот они его впятером и рожают…
Слухи расползались, подобно изголодавшейся саранче, сжирая все — правду, ложь, быль, небыль, а вслед за ними двинулась из Индрограда в Хастинапур торжественная процессия: пять героев со товарищи.
Сыновья Панду чувствовали себя триумфаторами. Шуми, Великая Бхарата! — скоро ты замолчишь и склонишь голову. Даром, что ли, владыки Города Слона сами прислали приглашение на ритуальную игру в кости…
2 ИГРА
Это был славный день.
День Белого Быка, день Святого Пенджа и Златой Криты, день Тростника и Малой Двапары и еще — Темной Кали[28]. Двадцать седьмой день зимнего месяца Магха.
* * *
…Один за другим торжественно входили они в залу, специально предназначенную для царской игры. Входили, хозяйским взглядом окидывая собравшихся и все то, что скоро будет принадлежать им.
Все пятеро сбрили бороды — впрочем, оставив тщательно подстриженные усы.
Намек на безбородость богов?
Желание выделиться?
Кто знает?.. А кто знает, тот не скажет.
Вот в дверях возник старший — Юдхиштхира, Царь Справедливости. Мягкий подбородок, кроткий взор, ямочки на щеках, лишь нижняя губа портит общее впечатление — брезгливо оттопырена. Ладони у лба, поклон в сторону трона, в сторону Слепца и стоявшего рядом Грозного, и старший Пандав, шурша золоченой парчой одежд, с достоинством подходит к столу, инкрустированному яшмой и сердоликом.
— Время! — звучит голос Царя Справедливости. — Время бросать кости, сделанные из ляпис-лазури, золота и слоновых бивней! Черные и красные, со знаками на них, сколами драгоценного камня-джьотираса! Время! Высокое искусство, которое не стоит обсуждать с низшими, ждет! И пусть никто, побежденный в игре, никогда не отстаивает проигранного богатства. Благо нам!
И кресло принимает первого игрока.
Его брат Бхима ввалился в залу подобно носорогу, поводя по сторонам глубоко посаженными глазками. Борцовское брюхо затянуто алым кушаком, волосатые ноги обнажены выше колен, и низкий обезьяний лоб, увеличенный ранними залысинами, идет морщинами — словно речная зыбь под ветром. Заметив неподалеку от тронного возвышения Карну, Страшный напрочь забыл о поклонах и церемониях, впившись взглядом в ненавистное лицо сутиного сына.
«Он сердится! — беззвучный шепот, эхо, тишина перед обвалом. — Он очень сердится!..»
Грозный нахмурился, но промолчал. Всем был хорошо известен вспыльчивый нрав упрямца Бхимы, полностью передавшийся по наследству и его сыну Плешивцу, ракшасу-полукровке. Уже сейчас, в тринадцать без малого лет, сын Страшного буйством и волшбой наводил ужас даже на своих соплеменников-людоедов.
В игре Бхима разбирался примерно так же, как и в музицировании, но тем не менее занял место за спиной Юдхиштхиры и с вызовом оглядел собравшихся.
— Ты б еще дубину с собой прихватил! — усмехнулся Карна. — Нападем из засады — чем отбиваться станешь, Волчебрюх?!
— От всякой сволочи вроде тебя… Хум! — Бхима сжал кулаки, еле сдерживаясь, чтобы не кинуться в Драку.
— О да! Мы, сволочь, такие! Видимо, только тиграм-царям пристало бродить по лесам и насиловать ракшиц! Куда уж нам, низкорожденным!
— Придержи язык, раджа. Стыдно издеваться над гостем, — сурово одернул шутника Грозный. И, обращаясь к Бхиме: — Я прошу простить нас, благородный царевич, за грубость и несдержанность этого человека!
Неохотный кивок был ответом.
Карна же тем временем тихо давился от смеха. Вся эта комедия, от пролога до занавеса, была оговорена заранее. Владыки Хастинапура принимают гостей с почетом и уважением, но — увы! — им приходится то и дело осаживать выскочку и грубияна Карну. Зато «выскочка и грубиян» имеет полную возможность говорить вслух, что думает, подзуживая гостей и незаметно толкая их на опрометчивые поступки.
У каждого — своя роль: кто шут, кто герой, а хозяин балагана подсчитывает выручку за кулисами.
Арджуна вошел стремительно, вмиг оказавшись на середине залы. Поклон старшим родичам, поклон наставникам — в отличие от Волчебрюха, сын Индры редко забывал об этикете, и Серебряный обводит присутствующих надменным взглядом, презрительно кривя губы. Слепой дядя, Грозный и Брахман-из-Ларца — это особый разговор, но к чему здесь все остальные? Кто они в сравнении с любимым сыном Громовержца, живьем побывавшим на небесах, Бичом Демонов?! Чудесный лук Гандиву, подарок богов, Арджуна прихватил с собой — вы сомневаетесь? смотрите! восхищайтесь! Кто еще во Втором мире удостаивался подобной чести: получить один из трех великих луков, добытых на заре времен при пахтанье океана?! Байка, пущенная кем-то тринадцать лет назад, оказалась пророческой!
Белая грива волос собрана в узел и увенчана диадемой-киритой, звенят, ах звенят браслеты на запястьях и щиколотках, предплечьях и голенях… и тихо вторят перезвону нагрудные ожерелья.
— Здорово, изгнанничек! А лук-то тебе зачем? Застрелиться в случае проигрыша? Или боишься опять забыть его в спальне Юдхиштхиры — вот и таскаешь даже в нужник?!
Сын Громовержца не удостоил Карну ответом и вслед за братьями проследовал к столу для игры.
— Не следует так обращаться к моему лучшему ученику! — прошипел Дрона достаточно громко, чтобы это услышали все, кого боги не наградили глухотой.
Спектакль продолжался.
Близнецы, младшие из Пандавов, чудесным образом ухитрились и в дверь пройти вместе. Красавчики. Щеголи. Даже скучно становится — больше и сказать— то нечего. На них лень было тратить перец язвительного красноречия, поэтому Карна промолчал.
Не стоит переигрывать.
Главное — впереди.
— Итак, мы явились по приглашению многославного Бойца и готовы тряхнуть судьбой. — Юдхиштхира поднялся из-за стола, поигрывая серебряным стаканчиком для костей и самими костями, именно такими, как он их описывал минутой раньше: шедевр ювелира!
Кубики в его руках гуляли рыжими муравьями, словно по волшебству возникая из стаканчика и перекатываясь по ладоням, чтобы снова исчезнуть во тьме исконного убежища, — ни дать ни взять четки в ловких пальцах брахмана. Впору разразиться приветственными кликами. Похоже, Царь Справедливости не зря потратил эти двенадцать лет. Все завороженно следили за руками того, чьим небесным (вернее, подземным) отцом считался Петлерукий Яма-Дхарма, но славить его мастерство остереглись, лишь один из собравшихся кивнул одобрительно.
Дядя Бойца, Сокол-гандхарец по прозвищу Китала, всегда уважал чужое умение.
Учиться можно и у случайного прохожего, если, конечно, ты знаешь, чему хочешь научиться.
— Тряхнем, брат мой. — Боец вышел вперед и остановился напротив старшего Пандава, слегка прищурясь. — Однако в последнее время я больше уделял внимание делам государственным и военной науке, так что недосуг было обучаться играм. Закон тебе известен: я имею право выставить игрока вместо себя.
— Кого же? — В голосе Юдхиштхиры мелькнула растерянность.
Любая неожиданность легко выбивала из колеи Царя Справедливости, предпочитавшего жизнь размеренную и определенную заранее.
Будь его воля, сидел бы он в жалованном уделе тише мыши. Но братья! жена! тесть! Кришна!..
— О, полно беспокоиться! Твоя честь не будет задета. За меня любезно согласился сыграть мой дядя по матери. Раджа Благоуханной, он равен любому из нас — если, конечно, ты заранее не привык к титулу Махараджи! Тебе не зазорно будет сесть с ним за игорный стол, а выиграть — почетно.
— Дудки! — бросил Карна в пространство, ни к кому конкретно не обращаясь.
— Не сядет он с Соколом. Это вам не шишей гулящих раздевать…
Со стороны зрелище напоминало снег, залитый кровью: Юдхиштхира побледнел, но тут же побагровел от гнева. Однако, в отличие от Бхимы, Царь Справедливости умел держать себя в руках.
— Для меня будет честью сыграть с таким достойным кшатрием, — слегка поклонился он Бойцу и затем, подчеркнуто ниже — Соколу. — Прошу к столу.
«В случае моего выигрыша злые языки отвалятся сами собой! Я буду по праву считаться не только Махараджей, но и лучшим игроком во всей Бхарате! Давай же, раджа-Китала, посмотрим, чего ты стоишь на самом деле!» — ясно читалось в глазах старшего Пандава.
Азарт уже охватывал Царя Справедливости, обещая поистине райское наслаждение.
К столу подошел Сокол: чем-то дядя Бойца напоминал сытого хомячка, наряженного в богатое платье, если хомячку шерстку на щеках и висках обильно припорошить белой пудрой.
— Итак, благородный Юдхиштхира, у нас — царская игра. И ставки в ней должны быть царскими.
— Царская игра — это в первую очередь ЧЕСТНАЯ игра?!
Царь Справедливости заглянул в глаза соперника — и захлебнулся тихой безмтежностью Соколиного взгляда.
Бледно-голубых подслеповатых глаз.
— Странно слышать такие речи от тебя, благородный царевич. Но мы собрались не состязаться в красноречии. Итак, согласно проводимому тобой обряду, ты претендуешь на титул Махараджи. Это и будет ставкой со стороны Хастинапура, который представляю сейчас я. Выиграй — и Город Слона со всеми его данниками, а также правителями подчиненных и союзных земель признает над собой твое владычество. А что ставишь ты, несравненный?
Юдхиштхира судорожно сглотнул: ответ он знал заранее.
— Я ставлю свое царство.
— Не вполне равная ставка — один жалованный удел против титула царя царей… Но я согласен. «Бык Шивы» на дюжину кругов? По рукам?
Царь Справедливости еле заметно поморщился. Простонародное «по рукам» резануло его слух. Еще б пальцами прищелкнул, Китала… не на рынке. Иные слова должны звучать в сей зале, где пытают судьбу величайшие из великих, иные слова и в полный голос Зачинщик встал и набрал полную грудь воздуха.
— Итак, — прозвучало под сводами, — мы начинаем игру в присутствии мудрых брахманов и благородных царей… Пусть же исполнится воля богов!
— Пусть исполнится воля богов, — серьезно повторил Сокол. — Бросай первым, Царь Справедливости: я, выступая в роли хозяина, пропускаю гостя вперед. И не оскорбляй меня отказом!
— Благодарю. — Мелодично звякнули кубики, приходя в движение внутри серебряного стаканчика, и веером раскатились по столу.
— «Парный Бык» и «Тростник» на двойке в придачу? Мои поздравления, царевич…
Сокол одним движением ладони смахнул кубики в стаканчик, на этот раз послышался не звон, а тихий шелест — кости вихрем закружились по стенкам убежища.
Чтобы упасть на столешницу троицей вышколенных солдат: сухо, твердо, разом замерев в едином строю.
— Тоже «Парный Бык» — неисповедимы пути игры! За одним исключением: мой «Тростник» вырос на тройке. Итак, первый круг за мной. Прошу, царевич.
Короткое звякание, стук падающих на стол костей: капли дождя, осыпь в горах, мгновения из кувшина Калы-Времени.
Шелест, стук. Хриплое дыхание.
— Златая Крита на всех!
— Круг твой, царевич. Звон, стук, шелест…
— Дюжина, о Царь Справедливости. Полная дюжина. Восемь моих кругов, четыре — твоих. Ты проиграл.
На Юдхиштхиру жалко было смотреть: он взмок, лицо покрылось красными пятнами, глаза лихорадочно блестели, и взгляд бесцельно метался по зале, подобно человеку, когда тот кубарей катится по склону, не в силах ухватиться за торчащие наружу корни.
— …Но имя мое покроется презрением людей, если я не дам тебе возможность отыграться. Что скажешь, мой Владыка?
Дрожь пронизала все тело старшего Пандава. Корень подвернулся-таки под ослабевшую руку, и падение остановилось.
— Я жду.
Взгляд Юдхиштхиры клещом вцепился в седого хомячка.
Намертво.
Желая напиться его крови.
— Ты согласен играть дальше?
— Я… я… Да! — Ценой огромного усилия Царь Справедливости вернул себе самообладание, и голос его был тверд.
Почти.
Даже пятна начали мало-помалу сходить с лица.
— Очень хорошо. Итак, мы, как и прежде, ставим титул Махараджи против… что можешь поставить на кон ты, царевич?
— Я… — Юдхиштхира беспомощно огляделся, ища поддержки братьев, но вместо поддержки обрел четыре укоризны.
Будь вокруг не зала, а поле боя, Пандавы знали бы, что делать…
— Я ставлю своих братьев!
— Ах ты!.. — сунулся было вперед Бхима, но Арджуна удержал силача, схватив за руку, и что-то горячо зашептал Страшному на ухо. Близнецы же сидели молча, отстраненно глядя перед собой. Кажется, они не до конца понимали серьезность происходящего.
— Четверо сыновей Панду против титула Махараджи?
— Да!!!
— Опять неравная ставка. Титул есть титул, а люди есть люди. Впрочем, говорят, что все вы — дети богов… Принято.
Шелест, дробный перестук кубиков, изготовленных из столь редко встречающихся цельных кристаллов ляпис-лазури, звяканье…
— Двойной «Пендж» и Двапара на первом…
— Три пары.
— Полная «Кали».
— «Бык», «Пендж» и «Златая Крита» в прямой последовательности! Дорога Раджи!
— Увы, «Белый Бык» на всех… Осталось решить, как поступить с такими ценными рабами, как твои братья. Но, говорят, Бхаг Троицу любит! Сыграем на посошок?
— Да!.. — Задушенный хрип жертвенного животного, когда нож перехватит горло агнца, бледность лица, холодный пот и безумный огонь азарта во взоре.
Тот же огонь, что в облике чудовища Мады грозил пожрать Обитель Тридцати Трех, пока мудрец Чьявана не распределил гибельную мощь меж четырьмя пороками: пьянством, любострастней, охотой ради забавы и игральными костями.
— Что же поставишь ты на этот раз?
— Себя! — не задумываясь, выдохнул Юдхиштхира.
— Против титула Махараджи? Нет, так не пойдет. Впрочем… в случае победы ты отыграешь жалованный удел и свободу братьев. Согласен?
— Согласен!
Юдхиштхира был уверен в выигрыше. И игроцкое мастерство здесь ни при чем. Ему ДАДУТ выиграть. Да, их поставили на место, с треском провалив «Рождение Господина», — чего еще желать надменному Хастинапуру?! Не хочет же, в самом деле, царственный Слепец, чтобы его племянники остаток жизни провели в рабстве у собственного дяди и его сыновей?!
Что скажут люди?!
— Я жду, о Царь Справедливости! Бросай. Когда рука Юдхиштхиры легла на серебряный стаканчик с костями, она почти не дрожала. Звон, перестук, шелесг.
— Я весьма сожалею… раб. Игра окончена.
3 РАБЫ
Потрясенное молчание разорвал злорадный возглас Карны:
— Поздравляю с выигранным титулом, Пандавы! Ты говорил о сволочи, Бхима? И впрямь трудно мне сравняться с вами: рабом я не был никогда!
— Он вырвет твой поганый язык! — побагровел Волчебрюх. — Хум! Он сердится!..
— Что? — удивленно моргнул Боец, до того сидевший по правую руку от слепого отца и чистивший ногти крохотным ножичком. — Раб оскорбляет раджу? Чей— то язык здесь действительно лишний… Как считаешь, Карна? Или для начала ограничимся дюжиной плетей? Ради вразумления?
Не дожидаясь ответа, Боец обернулся к кузенам, похожим сейчас на куриц, даже не мокрых — ощипанных и готовых к котлу с кипятком
— Ну что, вы, так жаждавшие славы богатства и власти над всем миром, — вы удовлетворены? Теперь у вас нет никаких забот: царство, богатство, жены… кстати, о женах! Что говорит Закон о супругах рабов? Эй, слуги, приведите-ка сюда Черную Статуэтку — мы желаем взглянуть на наше новое приобретение.
— Желаем! — поддержал брата Бешеный. — И поскорее!
— Остановитесь, царевичи, — попытался вмешаться Видура-Законник, дядя победителей и побежденных. — Ведь Юдхиштхира проиграл царство, братьев и себя, но не дочь Панчалийца!
— Все имущество, принадлежавшее ранее рабу, принадлежит его господину. В том числе и жена, — жестко осадил непрошеного миротворца Карна.
В зал вбежал посыльный слуга и ткнулся лбом в пол.
— Где Статуэтка? — грозно свел брови на переносице Бешеный.
— Царевна… э-э-э… она отказалась признать себя рабыней! И не пошла со мной, сославшись на начало месячных очищений, о сиятельный господин!
— Отказалась? Очищения у нее?! Хорошо же, я сам приволоку сюда эту упрямую ослицу! — И Бешеный, полностью оправдывая свое имя, в ярости выбежал из залы.
Вскоре послышался отчаянный женский визг, и в дверь ворвался торжествующий брат Бойца. Жену пятерых Пандавов он, не мудрствуя лукаво, тащил следом за косы, как базарный «хорек» провинившуюся шлюху.
— Ублюдок! — взревел Бхима, насилу удерживаемый более благоразумным Арджуной. (Похоже, Серебряный, в отличие от брата, не очень-то жаловал общую супругу, предпочитая ей свою «отдельную» жену — сестру Черного Баламута, которую «украл» с тайного согласия Кришны.) — Клянусь, что гореть ему в аду, если он не напьется твоей поганой крови, Бешеный!
— Ага, так ОН еще и упырь, — спокойно констатировал Карна, на которого вопли Волчебрюха не произвели особого впечатления.
— Молчи, раб! А то велю тебя оскопить. Ну что, хороша рабынька?! — осведомился Бешеный, отдуваясь.
Представление продолжалось. Надвигалась кульминация. По предварительному сговору выскочек-Пандавов следовало не просто поставить на место — их требовалось унизить настолько, чтобы в будущем и речи не могло быть о претензиях на престол. Впрочем, у сутиного сына на этот счет имелось особое мнение, хорошо известное Совету.
Убить.
Всех.
В бою честном или каком придется.
Чтобы раз и навсегда покончить с зерном мятежа.
Впрочем, Совету и аватаре Опекуна виднее…
— Чего молчите? — не унимался Бешеный. — Как рабынька, спрашиваю?!
— Дешевка, — скривился Карна. — Строптива больно. Ее бы вожжами для пущей сласти… Эй, красавица, разуй уши: все твои мужья — отныне рабы. Старший проиграл все и всех. Предлагаю выход: избери себе нового мужа, одного, как положено по Закону, — и избегнешь рабства.
Черная Статуэтка затравленно озиралась по сторонам. Похоже, она уже склонялась к мысли внять дельному совету, когда взгляд ее встретился со взглядом Бхимы.
«Выбери! — кричали маленькие налитые кровью глазки. — Выбери, сука! И я сверну тебе шею голыми руками, пусть даже вся Свастика встанет на моем пути!»
— Я верна прежним супругам, — тихо произнесла царевна.
— Ну, тогда пошла вон! — провозгласил Бешеный. — Ступай в антахпур, дуреха! Полы вымой или это… ну, ресницы кому накрась! Брысь!
— Погоди, брат! — остановил его Боец. — Может быть, упрямица приглянулась кому-нибудь из наших друзей? Почему бы не сделать доброе дело и не уступить ее тому, кто пожелает? За совершенно символическую плату…
— Он тебе ноги вырвет! Чресла наизнанку! — взревел Бхима.
— Молчи, раб!
— Плетей ему!
— В колодки!
— Да кому такие рабы нужны? Скормить их шакалам!
— Он тебя самого шакалам!..
— Да подари ты эту Черную царице Кунти! Думаю, свекровь обрадуется, — усмехнулс Карна.
Это была условная фраза. В зале нарастал безобразный шум, сыпались угрозы и возмущенные выкрики, пахло дракой — пора было заканчивать балаган. Пандавы смешаны с дерьмом, достаточно. Хотя была б его воля…
— Тихо! — возглас Слепца рокотом гонга раскатился по зале, и шум разом стих.
— Ведите себя достойно, о цари! И вспомните наконец о Законе. Верно, у раба нет имущества, все оно переходит к его хозяину. Но прежний брак раба расторгается сам собой, и прежняя жена становится свободной. Черная Статуэтка вправе сама решать, что ей делать дальше. Видура, брат мой, ты слывешь у нас знатоком Закона — подтверди, верны ли мои слова?
— Слова сиятельного раджи подобны святой амрите. — Видура низко склонился под невидящим взором Слепца.
Этого лизоблюда-законника ни во что не посвящали: всем были хорошо известны его пропандавские настроения.
А посему в ответе Видуры никто и так не сомневался.
— Слышите, кшатрии? Вы оскорбили свободную женщину, которая ни в чем не повинна! Подойди ко мне, милая: я хочу попросить у тебя прощения за грубость и невежество собравшихся здесь людей.
Дочь Панчалийца молча припала к ногам Слепца, содрогаясь от рыданий, и владыка отечески погладил растрепанные косы.
— Не держи зла на меня, моих сыновей и их друзей. Сказано — забыто. Чтобы загладить нашу вину, я готов во искупление выполнить любую твою разумную просьбу. Проси!
Что-то дрогнуло во взгляде Черной Статуэтки. Слепец заранее догадывался — да что там! — знал, о чем попросит дочь Панчалийца. Но слепой раджа не мог видеть зарницы, сверкнувшей под тщательно выщипанными бровями. Верная жена просто обязана попросить свободы мужу… мужьям. Но если вымолить свободу лишь для одного, который положен Законом всякой порядочной женщине? Пишач сожри все предначертания и карму былых рождений! — сколько можно угождать всей ненасытной пятерке?! Тогда свобода которому? Разумеется, Бхиме! Этот дикарь хоть и груб, но, по крайней мере, он по-своему любит ее, а на ложе… о-о-о! Опять же этим можно крутить как угодно, зато остальные ублюдки…
Увы, Черная Статуэтка не была дурой. И прекрасно понимала: люби ее Бхима в десять раз больше, и то он придушит красавицу, едва только поймет ее замысел.
Ради братьев этот великан, этот ракшеубийца, неутомимый любовник и неистовый воитель…
А жаль.
Очень жаль.
— Я прошу тебя даровать свободу всем моим мужьям. — Статуэтка твердо взглянула в незрячие бельма Слепца.
— Да будет так, — степенно кивнул раджа. — Вы свободны! А в придачу я заново жалую вам прежний удел. Возвращайтесь домой и не держите на нас зла. Пусть никто не сможет сказать, что раджа Хастинапура несправедливо обидел своих племянников. Живите спокойно в Твердыне Индры — но помните сегодняшний день. Смирите гордыню. Все. Можете идти.
* * *
Собравшиеся в зале молча расступились.
«Рождение Господина» стало выкидышем.
Цель была достигнута: владыкам Хастинапура не нужны мученики, «безвинно пострадавшие и обманутые бесчестными родичами», а подобный слух наверняка распространился бы в народе. Им не нужны Пандавы, которым будут сочувствовать. Именно такие: посрамленные, растерянные, потерявшие лицо неудачники, которым, как швыряют кость приблудившейся собаке, швырнули их же собственный удел, недостойные ни жалости, ни сочувствия, выставленные на посмешище — именно такие Пандавы полностью устраивали Слепца с Грозным.
От этого удара им уже не оправиться. Вскоре можно будет объявлять +рождение Господина» от имени Бойца и завершать объединение империи.
Оставалось закончить представление, перед тем как выходить на аплодисменты.
Юдхиштхира шел последним, низко опустив голову, не в силах никому взглянуть в глаза. И дернулся, словно от удара плетью, когда у самого выхода его догнал вопрос Сокола:
— Удача переменчива, Царь Справедливости! Тряхнем судьбой напоследок?
— Я больше не играю… не играю на царство, — был ответ.
— Отлично.
— Я не играю… на братьев.
— Бесподобно!
— Я не играю… на себя самого.
— Превосходно! Тогда на что же ты играешь?
В это мгновение у Карны, которому все было известно заранее, вдруг создалось отчетливое впечатление: сейчас они перегибают палку.
Надо было остановиться — или убить всех пятерых.
Но сутин сын уже не в силах был что-либо изменить.
4 СЕТОВАНИЯ
Черный Баламут сказал:
— О Пандавы, друзья мои, окажись я тогда рядом, не случилось бы с вами этой беды! Пусть даже меня и не звали, я все равно пришел бы на игру. Заручившись поддержкой благоразумных, я предотвратил бы игру, указав на многие присущие ей скверны! Я живо описал бы, как губит игрок достояние свое, коим не успел насладиться, и как ненасытно увлечение азарта. Я рассказал бы, как неслыханно грубы речи игроков, как пагуба ищет их подобно дикому зверю! О, лишь потому, что меня не было рядом, постигла моих друзей печальная участь!
Черная Статуэтка сказала:
— Не в своем уме ты был, о первый из моих мужей, когда в злой час проиграл царство свое, богатство, оружие, меня и братьев! Позор мудрости твоей и добродетели, позор силе Бхимы, позор искусству лучника Арджуны, если супругу вашу честят в собрании на чем свет стоит! Запомни слово мое: будь враг горой или океаном — и то мудрый не рыдает втихомолку, а всегда ищет ему всяческого вреда и погибели! Вот на чем основывается успех людей, а отнюдь не на безрассудных поступках или бесплодных сетованиях!
Бхима сказал:
— Только из-за тебя, о старший брат мой, похитили у нас царское могущество, как у безрукого — еду, как у хромого — стадо! Только для того, чтобы угодить тебе, одержимому азартом, подвергли мы себя столь тяжким лишениям. Плохо сделали мы — и теперь сожалеем о том! Забыл ты, что, какой бы грех ни совершил царь при овладении землей, он искупит это впоследствии обильными дарениями. Вспомни о Пользе, царь, и не вздумай исполнять обещанное!
Арджуна сказал:
— Не стал бы я ратовать за твое возвращение на престол, о Царь Справедливости, ибо ты вопреки здравому смыслу привержен игре! Из-за тебя, бессильного отвергнуть удел нечестивых, мы все ввергнуты в ад. Ты — игрок, и царство погибло из-за тебя, о, не жду я от тебя благодати!
Царь Справедливости ответил:
— То, что я совершил, воистину подло, и именно я — корень наших бедствий! Отсеките мне голову, ибо я — ничтожнейший из людей, а из-за моей греховности напасти преследуют всех вас! Я труслив, бездеятелен и жесток и, словно евнух, лишен мужества! Я должен был отказаться от игры, едва услышав последнюю ставку: «В случае проигрыша двенадцать лет живи с братьями в дремучих лесах, тринадцатый же год скрывайся под чужим именем. Буде соглядатаи разведают ваше местопребывание — срок изгнания удвоится. Но если проиграем мы, то изгнание ждет всю сотню братьев-Кауравов!» Так сказал мне нечестивый глупец, лживый и злобный, известный меж людьми под именем Бойца…
И лишь брат Черного Баламута, Рама-Здоровяк по прозвищу Сохач, сказал:
— Не должно обвинять Кауравов в захвате царства путем обмана, ибо не было лжи, а было лишь состязание в мастерстве! Игральные кости изменчивы, а азарт пагубен. Кто просил Царя Справедливости играть с сильнейшим, чем он, кто заставлял его продолжать игру, увеличивая ставки?! И тут никакого упрека не может быть сделано искусному Соколу с его друзьями!
Но Здоровяку ответят хором:
— Есть два разряда людей: храбрые и трусы. Какова душа у человека, так и говорит он. Не будь ты братом Кришны…
* * *
…Жаркая планета Шанайшчара, окруженная кольцами и сулящая несчастья, теснила созвездие Красной Девицы, сильно огорчая живущих на земле. Уголек, багровый воитель небес, лицом поворачивался к созвездию Джьештха, достигая четырехзвездного Венца Молний, а планета Великая Тварь достигала светила Отваги. Демон Раху приближался к солнцу, меняло положение пятно на лике луны, кони источали слезы, орлы захлебывались хриплым клекотом, больше похожим на вороний грай, а слоны обильно испражнялись красной глиной. Дэв кликал на вершине древа Ветасы, шакалы брехали на червленые щиты, кровавые зори смерть возвещали, черношеие стервятники парили в воздухе при наступлении сумерек, и в тучах, похожих на скопища сурьмы, трепетали синие рыбы молний.
До Великой Битвы оставалось тринадцать лет.
Бхутова дюжина.
Часть пятая СЕКАЧ
О зловредный, порицающий наше писание и наш образ мыслей — ты подобен ослице, будучи мягким по действиям своим и свирепым по крику! Твои признаки выдают в тебе евнуха Вставай же, о трус несчастный, вчитайся, преисполнись восторгом, воскликни «превосходно!» — и вспыхни ярким костром, но не тлей подобно гнилой рисовой шелухе! Ом мани!
Глава XI СКАЗАНИЕ ОБ УСИЛИЯХ ЦАРЕЙ
1 РАЗГОВОР
— Да, папа, ты прав: я лысею. Вон какая плешь… точно сковородка. Потому и тюрбан ношу, чтобы не отсвечивать. А к цирюльнику не пойду и к себе звать его не стану. Эко диво — лысина! Их всех раздражает, что я не хочу брить голову, красуясь меж ними кшатрийским чубом. Что раджа ангийский по сей день проводит домашние обряды с сутами и по закону сут. Что отказался сыновьям сразу давать сотню, демонстративно вышвырнув из-под отцова крыла рядовыми, — они сейчас под Ориссой, и Бык-Воитель, и младший… сотники.
Не с плеча батюшки дадено: хотел Грозный, не хотел, а пожаловал, за честную службу.
И маму я не позволил хоронить, как мать раджи. Я знаю, ты тоже не хотел всего этого: толпа притворщиков, пламя до неба, стая храмовых брахманов кружит над костром, глашатаи в городе вопят о трауре… Шиш им всем! Тихо жила, тихо и ушла. Хвала богам, внуков дождалась, ты же помнишь, как она хотела внуков? Успела, постояла над колыбелями… и оставила нас одних. Только царица Кунти, мамина покровительница, пришла на похороны по обряду сут. Не побрезговала. Плакала над мамой. Честно плакала, куда там наемным плакальщицам! — я сам видел. Знаешь, папа, я никогда не мог понять, отчего царицу судьба наградила такими сыночками! Сама ведь тише воды, лишь о покое и грезит, старая уже, седьмой десяток вовсю стучит, а по сей день боится, из Хастинапура ни ногой. Видать, крепко жизнь в лесах да в сыновнем уделе запомнилась.
До конца дней.
Наверное, потому, что сама из приемышей…
Мы редко видимся, папа, мы редко молчим, сидя напротив друг друга и прихлебывая крепкую гауду. Я — цепной пес, о Первый Колесничий, я — ловчий леопард Хастинапура, я кружу по Великой Бхарате, я по уши в дерьме, двенадцать лет я делаю грязную работу за них всех… может быть, именно поэтому я не хочу брить голову, становясь похожим на Грозного?! В Магадхе вырезали наш гарнизон? по пути разворовали дань андх-раков? семена мятежа вновь проросли в пределах княжества Каши?! — вскоре там появляюсь я. Тот Карна, которым матери пугают детей. Дуры! — их сопляки все равно мечтают вырасти такими, как неистовый Сутин Сын, и сколько бы я ни разочаровывал их… Иногда мне кажется, что проклятие Рамы-с-Топором сбылось: его наука не впрок мне. Я не обрушивал на твердыни небо: мне доставало послать на приступ воинов и самому встать в первых рядах. Я не жег разбойников или мятежников «Южными Агнцами» — хватало стрел. Сила солому ломит, но не все в нашей жизни — солома, да и сила далеко не все.
Папа, если бы изгнанники-Пандавы волей случая оказались у власти, если бы Царь Справедливости сидел на хастинапурском престоле, Серебряный Арджуна занял бы при нем то место, которое при Бойце занимаю я. Место ручной грозы, место божьего гнева — лобное место. Не смешно ли?! — мы оба, ненавидящие друг друга до колик, до ломоты в костях, словно два двойника!.. Да, папа, ты опять прав: это не смешно.
Поверь своему Ушастику: я знаю толк в ушах. А из-за орисской ночи длинных ножей, из-за кашийской гордыни, из-за смуты у панчалов и странных банд близ Виратапура, умеющих сражаться строем, — из-за всего этого торчали знакомые уши. Я из кожи вон лез, чтобы ухватиться за них, я знал: когда мы столкнемся, этот день станет для Пандавов днем встречи с их небесными родителями, но столкновение все откладывалось. Надо было убить их еще тогда, пока они не стали мучениками. Символом. Идеей. Знаменем смутьянов, каких навалом на просторах Великой Бхараты! Только поздно.
Поздно.
Срок истек.
Стяг с обезьяной, тотемом Арджуны, открыто развевается в землях матсьев— изменников, и семь акшаухини войска стоят вокруг.
Мы ведем с ними переговоры, папа. Ты представляешь?! — мы обмениваемся послами, плетем паутину из слов Закона и Пользы, а когда я говорю, что с мятежниками переговоров не ведут, и требую двинуть в земли матсьев наши армады… Ясное дело! Что может посоветовать эта сволочь, этот мерзкий Карна, кроме как очередную подлость?! Знамя Грозного, голубой штандарт с пятью звездами, должно быть чистым, аки речная гладь! Стяг Дроны с изображением алтаря — чист!.. Я не говорю уже о белом знамени Слепца. Увы! — один слон с полотнища, которое развевается над Бойцом, рвется в бой, но остальные за уши оттаскивают его назад.
Они все смеялись, когда я избрал своим гербом слоновью подпругу.
Они ищут корысть.
Искал ли корысть Боец, когда восьмилетним мальчишкой вступился за безвестного холопа, когда дерзил наставникам, не давая прогнать меня, когда дарил царство вопреки мнению родичей и на вопрос: «Чем я смогу отплатить тебе за щедрость?» — ответил коротко и однозначно: «Дружбой, Ушастик, дружбой».
Вот и вся корысть.
…Мне скоро пятьдесят, папа. Внуки зовут меня дедом. Остальные — по— разному.
2 ДОНОС
— Ознакомься, раджа! — Грозный через все покои швырнул тебе сверток: несколько пальмовых листьев, скрученных в трубочку и перевязанных шелковой нитью.
Тебе требовалось лишь сделать шаг вперед и протянуть руку.
Сверток упал на пол. Покатился по плитам, по мозаике, по коралловым инкрустациям и пластинам нефрита. Замер у ножки стола.
Ты остался стоять на месте. Впрочем, Грозный не обратил на это внимания. Чубатый гигант расхаживал по апартаментам, думая о своем, и дела ему не было следить: поймает раджа то, с чем радже было ведено ознакомиться, или подберет упавшее с пола?
Он уже много лет звал тебя так: раджа. Очень много лет. Достаточно, чтобы привыкнуть. Просто раджа. Никогда — «сиятельный раджа», или «могучий раджа», или хотя бы просто — «раджа ангов». Ни разу ты не слышал от престарелого регента обращений церемонных и ни к чему не обязывающих типа «надежда державы», «обильный заслугами» или «бык среди кшатриев», хотя многие смутьяны, ощутив на себе тяжесть твоей карающей длани, давно прозвали тебя Вришей, то есть Быком. В последнее время близкие люди стали звать тебя Радхеей, Сыном Радхи[29], отдавая дань уважения прекрасной женщине, что родила такого сына. Гангея Грозный никогда не произносил такого слова: Радхея. Воеводы и рядовые дружинники, которых ты не раз водил в походы, прозвали тебя Васушеной — Благим Воителем. Регент не знал никаких Благих Воителей и знать не хотел.
Слушай, раджа.
Сделай, раджа.
Ознакомься, раджа.
Пожалуй, если бы могучий старец однажды назвал тебя сутиным сыном, пускай даже прилюдно, — ты бы обрадовался.
…Ты наклонился и поднял сверток.
Распустил узел.
Вгляделся.
— Читай, читай, — рокотнуло из угла. — Читай внимательно, раджа. Вот что передали мне накануне приезда Черного Баламута в качестве посла. Это запись беседы Пандавов с Кришной перед его отправлением.
Ты машинально кивнул, и муравьи букв заплясали перед глазами.
* * *
Царь Справедливости сказал:
— В этом мире живут лишь богатые, а люди, лишенные богатства, скорее мертвы. Ибо от бедного отворачиваются родные, друзья и жрецы, подобно тому, как птицы избегают дерева, не приносящего плодов. Богатство есть высшее из установлений, все зиждется на нем. Мы не в силах каким-либо законным путем расстаться с благосостоянием, какое было у нас! Только оставлением мысли о войне может быть достигнут мир между нами либо же путем истребления врагов под самый корень!
Стойкий Государь, дядя наш, обладающий оком разума, не соблюдает Закона. Из-за корыстолюбия сына своего он следует указаниям глупцов. Таким образом, царь поступает лицемерно по отношению к нам, действуя своекорыстно ради своего собственного блага.
Мы не хотим отказаться от царства и не хотим гибели своего рода. Что делать нам?!
Черный Баламут ответил:
— Победа или смерть в бою предписана кшатрию Создателем. Бедность не может быть для него похвальна. Пока, о царь, ты будешь мягок к врагам, они отнимут у тебя царство! Так не проявляй же сострадания к тем, кто в поступках своих руководствуется исключительно злонравием! Они заслуживают смерти пред лицом всего мира, а тем более перед твоим! Убей же их, губитель недругов, и не сомневайся нисколько!
Царь Справедливости сказал:
— Отправляйся к Кауравам, о Баламут! Ты знаешь нас, ты знаешь наших противников, ты знаешь наши цели, ты знаешь также, что говорить.
Кришна ответил:
— О да! Я отправлюсь туда и устраню сомнения всех людей, у которых существует еще двойственное мнение относительно справедливости. Там, среди царей, я перечислю все твои достоинства, а также все пороки Бойца! И, слушая меня, когда я буду говорить свою речь, благотворную и согласную с Законом и Пользой, все сочтут тебя обладающим добродетельною душой, а относительно Бойца убедятся, что одержим он жадностью! Я буду поносить его среди горожан и поселян, перед стариками и малолетними, при стечении представителей всех четырех варн! Так я склоню их к миру, о царь! Тебе же следует пока привести в готовность оружие и доспехи, повозки и колесницы, боевых слонов и знамена, пусть воины твои приложат старания, совершенствуя свое искусство. И все, что может потребоваться для войны, ты собери заранее, о царь!..
Бхима сказал:
— Не следует тебе, о Кришна, говорить резко с Бойцом. Отнесись к нему мягко. По природе своей нечестивец, со злодейской душою, он опьянен властью и враждебен к нам, непрозорливый, дерзкий в речи, свирепый и злопамятный, он не поддается наставлениям, злонравен и склонен ко лжи. Противореча даже своим друзьям, лишенный чувства справедливости, презревший правду, подвластный порывам гнева, полагающийся на свой дурной нрав, он по природе своей стремится причинять зло, как змея под пятой. Поэтому говори с ним мягко и спокойно, в дружелюбном тоне. Действуй таким путем, и ты восстановишь добрую братскую дружбу меж нами!
Действуй таким путем, о друг наш!
Кришна ответил:
— Разум твой склоняется к миру, о герой! Увы, подобно скопцу, ты не обнаруживаешь никаких признаков мужественности у себя! Сердце твое трепещет, разум повержен в смятение, а чресла онемели — вот почему ты желаешь мира. Благо тебе! — я попытаюсь достичь примирения, не ущемляя ваших интересов…
Арджуна сказал:
— Поспешай же исполнить то, что ведет к общему благополучию Пандавов и Кауравов. Еще отправляясь в изгнание, мне стало ясно, что нечестивый Боец со сторонниками должен быть убит мною. Постарайся же ради друзей, о Баламут, хотя для меня остается пока непонятным, какой образ действий ты избираешь: мягкий или иной? Если же ты считаешь предпочтительным немедленное уничтожение врагов, то пусть это совершится как можно скорее — к чему раздумывать?! Мир? — скорее зерно произрастет на бесплодной почве, поэтому делай то, что считаешь полезным для нас!
Кришна ответил:
— Поле очищается от сорняков мудрым пахарем. Я сделаю все, что в пределах человеческих усилий. Но Боец, отринув справедливость, никогда не пойдет на мир ценою уступки царства, также и Царь Справедливости не откажется покорно от трона. Все, что можно будет сделать словом и делом, я сделаю, но не надеюсь я на мир с врагами!
Близнецы сказали:
— Семь акшаухини войска собрались здесь по твоей милости, о Баламут! При виде этих мужей-тигров, во всеоружии готовых к битве, кто из людей не содрогнется?! Тебе следует действовать таким образом, укротитель врагов, чтобы началась война. Если даже Кауравы и предпочтут мир, то и тогда ты должен вызвать войну с ними! А если старшие братья наши склонны следовать добродетели, пренебрегая долгом, то мы сами желаем сразиться с врагами в битве!
И воины кругом ударили мечами в щиты, приветствуя геройскую речь.
Черная Статуэтка сказала:
— Грех убить невинного, но не меньший грех пощадить того, кто заслуживает смерти! Действуй же, о Кришна, таким образом, чтобы этот грех не коснулся тебя!
И все подытожили:
— Друг Пандавов, ты заодно — несравненный друг всех Кауравов! Между нами и сыновьями Слепца должно быть достигнуто полное согласие. Поехав в Город Слона, ты скажешь то, что нужно, о Баламут! Благо тебе!
3 УГРОЗА
— Что скажешь, раджа?
Ты аккуратно свернул листы в трубочку и заново обвязал скользкой нитью.
— Ты доверяешь своим лазутчикам, Грозный?
Косматые брови регента поползли вверх. Вы были наедине, но даже в таком случае прямое обращение «Грозный»…
Мосластые пальцы дернули кончик чуба. Раз, другой…
— Это не лазутчик, раджа. Ему можно доверять в силу благородства происхождения.
Теперь настала твоя очередь поднимать брови. Благородство происхождения?
Как основа для доверия? Не шаткий ли мостик, господа мои?!
Раздражение скомкало лицо регента, но черты его мало-помалу разгладились. Умение владеть собой — признак величия. Достойный не поддается гневу. Что-то он хотел услышать от тебя, хитроумный Грозный, что-то ожидаемое с самого начала, предугаданное, отвечающее затаенным чаяниям самого регента, а ты юлил, уходя от ответа.
— Это царь западных мадров Шалья, раджа.
— Дед по материнской линии младших Пандавов-близнецов?! Что он делает здесь, в Городе Слона?!
— Предложил свои услуги в будущей войне… я имею в виду, если война станет неизбежной. А в доказательство своей преданности привез из лагеря Пандавов эти сведения, которые ему удалось с риском для жизни приобрести у личного писца Кришны.
— И уже поэтому он заслуживает доверия? — задумчиво повторил ты первый вопрос.
— Да! Трижды да! Я ему верю! А твое неверие меня не интересует! Слушай, раджа, если бы меня заботило твое мнение относительно честности царей, я так бы прямо и спросил! Но я спросил другое: что ты думаешь о похищенных записях?! Отвечай!
Ты проглотил обиду.
Сейчас не время… не время… боги! — о временах былых ты думал чуть ли не как о райских бдениях. Тогда чрево твое мигом выворачивало наизнанку от одного намека на оскорбление, тогда ты мог вломиться в дворцовые казематы, кулаками ответить всем этим достойным владыкам и дерзить в ответ на утонченное хамство. О, тогда…
Разум державного мужа, доверху полный государственных соображений, — стал ли ты счастливее, обретя его?
— Отвечаю, Грозный. Если отбросить в сторону надежность лазутчика… Сведения двойственны даже в случае их правдивости. «Грех убить невинного, но не меньший грех пощадить того, кто заслуживает смерти! Действуй же, о Кришна, таким образом, чтобы этот грех не коснулся тебя!» Какой грех из двух не должен коснуться Баламута? Далее: я слабо верю в двойную игру Кришны. До сих пор он показывал себя верным сторонником Хастинапура (как и его небесный владыка), а заодно прекрасным советчиком. Вспомни, именно он остановил тебя с Бойцом, когда вы хотели сразу после изгнания Пандавов объявить имперские обряды! «Даже сверши вы задуманное, — сказал Кришна, — все равно новый Чакравартин останется в памяти народа как притеснитель братьев! Люди сейчас сочувствуют Пандавам. Если бы они были мертвы, сочувствие вскоре иссякло бы, а так…» И Боец потратил все двенадцать лет, пытаясь найти изгнанников и уничтожить их! Он поступил верно, я сам бы так поступил на его месте, ни за что не заняв престол Колесовращателя до победы над врагами…
— Он поступил верно, раджа. Дюжина лет шакалу под хвост! Люди сочувствуют, люди подумают… Чушь! Ересь! Впрочем, вы так и не сумели отыскать Пандавов, пока те не объявились сами, отгородившись семью акшаухини войска.
— Ложь, Грозный! Тебе прекрасно известно: именно я сумел вытащить гордеца Арджуну в поле, инсценировав угон скота у матсьев! Я распустил слухи о присутствии среди налетчиков Брахмана-из-Ларца с сыном, Бойца с Бешеным, этого негодяя Карны — и тебя, тебя, мой владыка! Арджуна клюнул, раскрылся, ринулся вдогон, желая одним махом срубить верхушку Хастинапурской пальме, но когда я напомнил о клятве и проигрыше…
Несколько седых волос осталось в пальцах регента.
Через секунду смятое серебро упало на пол.
— Да, Грозный. Это ты согласился со звездочетами, которых наняли Пандавы. Ты признал правоту их определения! Скрипя зубами, я даже вызубрил его наизусть, как памятник глупости человеков! «Деления времени определяются мухуртами и днями, половинами месяца и месяцами, а равным образом выражаются временами года и годами. Из-за частичных их избытков и вследствие отклонения небесных светил получается избыток из двух месяцев каждые пять лет. Для тринадцати лет изгнания получается излишек в пять месяцев и двенадцать ночей — таково наше мнение. Поэтому великий Арджуна имел право являться в поле под своим именем». Каково?! Излишек! В пять месяцев и двенадцать дней! Имел полное право!
— Замолчи!
Ты покачнулся от этого крика: столько гнева и муки было в нем.
— Замолчи, раджа, — уже спокойнее повторил Грозный. — Тебе легко: ты не должен бояться умыть руки в крови внуков. Но мы отвлеклись. Вернемся к Кришне— послу.
— Вернемся. У нас есть всего два решения: или Черный Баламут друг обеим сторонам, желающий мира, или это провокатор, целью которого является сделать войну неизбежной. Я рекомендовал бы проследить его движение к Хастинапуру. Расставить по дороге шатры с хлебом-солью, послать слуг с богатыми дарами, подготовить рабынь для услады… и всем дать задание: следить за Баламутом. Если мнение соглядатаев сойдется на том, что Кришна едет с миром, пряча за пазухой войну… Тогда он не посол-миротворец. Тогда его следует по приезде заключить в темницу и как следует допросить. Возможно, даже с пристрастием. А Пандавам отправить гонца с предложением лучше выбирать послов. Я все сказал, Грозный.
Ты смотрел на регента и чувствовал: только что ты ткнул палкой в открытую рану. Грозному было больно.
И боль выплеснула наружу то, что старик тщательно скрывал.
— Я нарочно пригласил тебя, раджа, желая выслушать мнение человека подлого звания. Только низкорожденный мог препираться с мудрыми звездочетами, только простолюдин мог усомниться в честности царя Шальи, только подлец способен предложить арестовать посла, и только нечестивец дерзнул бы поднять руку на аватару Опекуна Мира. Перед тобой у меня был Наставник Дрона, и его мнение было мнением благородного человека. Убирайся вон, я больше не хочу тебя видеть.
Странно: раджа ангов куда-то исчез. Растворился при этих словах, как кусок смолы на огне, опал на травы души утренним туманом. Сутин сын рассмеялся, и странно звучал этот вольный смех в сумраке личных апартаментов Гангеи Грозного.
— Мы с тобой наедине, старик. — Ты подошел вплотную к седому гиганту и едва не рассмеялся во второй раз: вы оказались одного роста. — Ты расточаешь оскорбления подобно шлюхе, которой забыли заплатить. Говорят, когда-то сын Ганги победил Раму-с-Топором в честном поединке? Я, сын возницы, не верю этому. Но не спеши хвататься за соломинку Астро-Видьи и не зови стражу. Только побоища нам не хватало накануне дня, когда войска ждут последнего приказа! Просто запомни: если еще раз, наедине или прилюдно, ты посмеешь задеть мою честь…
Тишина.
Страшная тишина, готовая прорваться раскатом грома.
— Я не стану биться с тобой, старик. Я даже не стану биться вместе с тобой в качестве твоего союзника. Ты понял меня? До тех пор, пока будет жив Грозный, сутин сын не выйдет в поле. А теперь решай, что тебе слаще: оскорбления или союзник, каких немного в Великой Бхарате. Я все сказал, Грозный.
Ты уходил не оглядываясь.
Тишина молчала за спиной.
4 ПОСОЛ
— …Встань и говори.
— Государь! Посольство сыновей Панду вступило на земли Кауравов! Через день посол Кришна прибудет в Хастинапур. Но он…
— Что — он? С послом стряслась беда?!
— Нет, государь! Он пребывает в полном здравии и едет сюда, просто он… Черный Баламут наотрез отказывается от гостеприимства! Я помню веление сиятельного раджи: «Да будет раскинуто по всей дороге от Твердыни Индры до Города Слона, на расстоянии половины йоджаны друг от друга, множество шатров, изобилующих всяческими драгоценностями! Доставьте туда превосходные сиденья со всевозможными удобствами, красивых женщин, благовония, изящные одежды, отличные яства и напитки! Да возрадуется высокий гость!»
— Ну?!
— Государь, не вели казнить! Увы, Кришна избегает твоих шатров! Он едет почти без остановок, а вчера вечером, став на ночлег у селения Врикастхала, приказал разбить свой лагерь как можно дальше от оплота твоего гостеприимства!
— Та-а-ак, — медленно протянул Грозный, стоявший по правую руку от трона.
— Миротворец, значит…
Из головы не шел вчерашний разговор с сутиным сыном.
— Ты свободен. Иди, — махнул Слепец гонцу, и тот, пятясь и кланяясь, поспешил покинуть тронный зал. От греха подальше.
— Не стоит торопиться, — бесцветно уронил незрячий раджа, когда двери за гонцом закрылись. — Не стоит…
И встал во весь свой немалый рост.
— Я подарю Баламуту шестнадцать златых колесниц, запряженных вороными бахлийцами! Я дам Черному восемь боевых слонов с бивнями длинными, как дышло у плуга! Я дам ему сотню девственниц и еще сотню безбородых юношей! Восемнадцать тысяч шерстяных одеял, доставленных нам горцами, я дам Пастырю! Тысячи антилопьих шкур из страны чинов, груды драгоценных камней получит от меня Кудрявый! Повозка моя, запряженная мулами, способна за день проехать четырнадцать йоджан — я дам ее гостю! Я стану поставлять ему продовольствия в восемь раз больше по сравнению с тем, сколько у него свитских людей и упряжных животных! И если после этого… после этого… если он…
— Вот именно, — хмуро кивнул Грозный. — Если он. Проклятие: почему всегда сбывается именно то, во что не хочется верить?!
* * *
Торжественно завывают карнаи. Грохочут панавы[30] высотой до пояса рослому барабанщику. Медленно раскрываются створки ворот Голубого Лотоса, дабы с почетом впустить в город долгожданное посольство. Седобородые брахманы отдают храмовым служкам последние приказания: куда поставить почетную воду, куда — воду для омовения, куда — ритуальное угощение и медвяный напиток для гостя.
Площадь перед воротами усыпана благоухающим ковром цветов, и вдоль стен толпится празднично одетый народ: встретить знаменитого Кришну хотели многие, но далеко не всех пустили на площадь.
— Едут, едут! — слышатся издали радостные клики.
Раненым вепрем взвивается медь карнаев, надрывается барабанная кожа, ворота распахиваются шире — и взорам собравшихся является жемчужного цвета колесница, влекомая четверкой белоснежных иноходцев.
Черный Баламут стоит в «гнезде». О чудо! — на вид ему никак нельзя дать тех без малого пятидесяти лет, которые он успел прожить в бренном Втором мире: строен, гибок, ни единой морщинки на смуглом, почти черном лице.
Юноша.
Воплощенная прелесть.
Собственно, а чего вы ждали, почтенные?! Как-никак полная аватара самого Опекуна Мира!..
Вот только на торжественный прием и приветственные крики Черный Баламут не обращает никакого внимания. Стоит истуканом, безразлично глядя прямо перед собой, и даже не улыбается.
Возможно ли?!
На середине площади колесница замедляет ход, и к ней тут же спешат встречающие, желая почтить гостя щедрыми дарами. Косой взгляд на угощение и почетную воду, брезгливые складки уродуют чело, и Кришна слегка трогает своего возницу за плечо.
Сута поспешно сдает назад, прочь от хастинапурцев с их дарами и недоумением, и упряжка Кришны, каким-то чудом обогнув загораживавших ей дорогу людей, устремляется дальше по улице! Вслед за ней мчится, не сбавляя хода и едва не задавив двух замешкавшихся служек, вторая колесница, багрово-красного цвета, а там уже вовсю грохочут копыта конной полусотни сопровождения.
Старик брахман, которому была поручена встреча посла, не выдержал и заплакал. Мелкие старческие слезы катились по его щекам, ныряя в ущелья морщин, но старик, казалось, не замечал этого.
— Позор… неслыханно… — беззвучно шептали дрожащие губы.
Не будь самоубийство тягчайшим грехом, дваждырожденный знал бы, что ему делать.
* * *
— Отец, ты слышал?! Кришна въехал в Хастинапур, но пренебрег священными дарами!
— Может быть, наши люди чем-то обидели его?
— Чем? Все шло согласно ритуалу… Знаешь что, отец? Давай-ка я сам встречу Черного Баламута! Мы ведь всегда считали его нашим другом и союзником
— не мог же он столь резко переметнуться на другую сторону! Я поговорю с ним!
— Хорошо, Боец. Ты уже давно не мальчик и умеешь подбирать слова. Иди.
Когда за сыном закрылись двери, раджа медленно провел рукой по лицу, словно стирая с него липкую паутину.
— Кажется, мы все забыли об одном, — задумчиво произнес Слепец, уставясь бельмами в одному ему видимые дали. — Кришна не только наш друг… или враг. Он с самого начала больше бог, чем человек. А пути богов неисповедимы…
— Я приветствую тебя, друг мой Кришна! Прошу, войди в мое скромное жилище и будь моим гостем! Вода для омовения и стол уже ждут тебя. Может быть, ты желаешь чего-то еще? Только скажи — и я все исполню!
Мгновение поколебавшись, Черный Баламут коротко кивнул и последовал за Бойцом. Дворец, который сын Слепца скромно именовал «жилищем», гостеприимно распахнул перед ними узорчатые двери, дохнув навстречу ароматом гандхарийских благовоний.
Войдя в пиршественный зал, Кришна остановился как вкопанный перед столом, уставленным яствами, и небрежно отмахнулся от слуг, спешивших к нему отовсюду.
— В чем дело, Кришна? — Изумление Бойца было неподдельным.
— Не пристало мне пользоваться гостеприимством и вкушать пищу в доме врага, — холодно ответил Черный Баламут.
Это были первые слова, произнесенные им с момента въезда в Город Слона.
— Врага? С каких пор мы стали врагами, Кришна? Что случилось?!
И тут прекрасное лицо Черного Баламута неожиданно ожило, алый рот изогнулся улыбчивым луком, и гость наконец взглянул в глаза хозяину.
— Я посол, Боец! А тебе ведь известно: посол должен в точности исполнять волю пославших его. Я не волен в своих речах и поступках и действую согласно указаниям сыновей Панду. Но теперь я исполнил свой долг, сколь ни тягостно мне
это было, и могу наконец говорить от себя лично. Я по-прежнему твой друг, о Боец!
При этих словах у сына Слепца вырвался облегченный вздох.
— Хвала Вишну-Дарителю — а то я уж начал было сомневаться! Прости меня за то, что усомнился в твоей дружбе и добрых намерениях, о Кришна!
— В том нет твоей вины, и не за что тебе просить у меня прощения. Если на ком и лежит вина, то только на пославших меня Пандавах!
— Да-да, ты снова прав, Кришна! Омойся же скорее с дороги и садись за стол, друг мой!
— Не могу! — печально развел руками Черный Баламут. — Не имею права. Я обещал — и исполню данное мною слово. Не держи на меня зла, благородный раджа, но запретно для меня воспользоваться твоим гостеприимством. Лишь в доме Законника Видуры было дозволено мне остановиться и вкушать пищу, что я и намерен сделать. Увидимся завтра, в зале собраний, где я передам вам послание сыновей Панду. Я искренне надеюсь, что мне удастся вас примирить.
Последняя фраза показалась Бойцу по меньшей мере странной.
* * *
Сегодня тронная зала была полна. Присутствовали не только Слепец с Грозным и Дроной, не только Боец с Бешеным, Карна и доверенные советники, но
также и вся сотня сыновей раджи Хастинапура, столичные военачальники, умудренные опытом брахманы из храмов, даже царица Гандхари впервые за всю жизнь испросила у мужа разрешения присутствовать на Совете, и ее просьба была удовлетворена.
Ждали посла. Черный Баламут задерживался, гонец за гонцом возвращались разводя руками, и по залу гулял приглушенный шепот — собравшиеся обсуждали последние события.
Наконец глашатай возвестил о прибытии посла Пандавов. Высокие двери мягко, без скрипа, распахнулись, и в залу быстрым шагом вошел Кришна в сопровождении одного из своих многочисленных родственников, также темнокожего.
Сопровождавшая посла свита и охрана осталась снаружи.
— Как посол наследников Лунной династии, сыновей Панду, я приветствую раджу славного города Хастинапура, а также тебя, Грозный, ревнитель Закона, и тебя, злокозненный Боец! — Черный Баламут легко поклонился.
Вообще-то послу полагалось кланяться куда ниже, но не это вызвало возмущенный гул в зале. Вслух назвать законного наследника престола «злокозненным»?! Неслыханно! Да и вообще, как смеют Пандавы величать себя «наследниками Лунной династии»?! А кто же тогда сотня сыновей раджи во главе с Бойцом?!
Лицо Бойца начало медленно наливаться краской. Но сын Слепца прекрасно помнил вчерашние слова Кришны, так что стрела его гнева нашла истинную цель.
Как скоро найдут ее настоящие стрелы! Слепец поднял руку, и шум в зале быстро смолк.
— Мы в свою очередь приветствуем тебя, достойный посол. Говори, что велели передать тебе сыновья Панду. Мы слушаем.
— Я приехал с предложением мира, ибо сыновья Панду не желают кровопролития, в отличие от Бойца, толкающего царство к гибели, а также его безумца-брата Бешеного и подлого сына суты по имени Карна, безрассудно возведенного в царское достоинство. Я взываю к мудрости раджи Хастинапура, который хоть и слеп, но куда более дальновиден, чем его неразумный сын, и к тебе, Грозный, кто всегда славился своей рассудительностью и благоразумием! Грешно проливать кровь родичей! Решим же дело миром.
Кришна умолк, и Слепец, недолго колебавшись, счел нужным ответить:
— Хоть сыновья Панду и хулят твоими устами моих сыновей и царя Карну, снискавшего славу в трех мирах, но мы готовы выслушать и обсудить их предложения. Ибо Хастинапур также отнюдь не жаждет войны и кровопролития. Говори дальше, достойный посол, если тебе есть что сказать.
— Тогда внимайте мне, Кауравы! Сыновья Панду, как я уже говорил, не хотят войны с вами, ибо в этой войне наверняка погибнут все великие герои. Будучи уверены в своей победе, Пандавы не желают всеобщей гибели. Ибо кто сможет противостоять в битве божественному Арджуне, обучавшемуся искусству Астро— Видьи у своего небесного отца?! Кто посмеет сразиться с могучим Бхимой, когда глаза его покраснеют от гнева?! Кто осмелится причинить вред благородному Юдхиштхире и прекрасным близнецам Накуле и Саха-деве?! Разве что злонравный и зломысленный Боец, рожденный в конце юги для убийства родичей, решится на такое!
Руки Бойца, слушавшего речь Кришны, сами собой сжались в кулаки: он едва сдерживался, больше всего на свете желая вколотить похвальбу в глотки двоюродных братьев, чьи слова был вынужден передавать Черный Баламут.
И это называется мирное посольство?!
— С ранних лет чинили дурно воспитанные сыновья Стойкого Государя многие каверзы благородным Пандавам: не раз покушались на их жизнь, всячески издевались, травили и оскорбляли. А когда сыновья Панду затеяли благочестивый царский обряд, то, пригласив известного мошенника Сокола, прозванного меж людьми Киталой, обманом выиграли у них царство, унизили и обрекли на долгое изгнание. Сейчас же, видя тщету своих хитростей, в отчаянии хочет неразумный Боец развязать братоубийственную войну, не ведая, что творит, ибо погибнут в той войне отнюдь не Пандавы, а сам он со всеми своими братьями, друзьями и родственниками!
В зале нарастал негодующий шум. Лицо Грозного окаменело — даже он, патриарх Лунной династии, много повидавший на своем веку, сейчас готов был поддаться ярости.
Спокойными оставались двое: Черный Баламут и Карна, которому с самого начала все было ясно.
— И тем не менее благородные Пандавы предлагают мир вам, правители Города Слона! Их условия просты и справедливы. Примите их — и вечный покой воцарится в землях рода Куру, и вся Великая Бхарата склонится перед вами! Ибо если вы объедините свои силы с сыновьями Панду, признав их требования справедливыми и смирив свою гордыню, — кто тогда сможет противостоять вам во всем Трехмирье?!
— Короче, посол! — процедил сквозь зубы Грозный. — Не на базаре…
Черный Баламут сделал вид, что не расслышал реплики сына Ганги, но тем не менее наконец перешел к делу:
— Условия сыновей Панду просты: отдать им то, что и так принадлежит им по Закону. Половина царства должна быть возвращена Пандавам, чтобы вы и они могли совместно править Великой Бхаратой. Если же в силу жадности или тщеславия владыки Хастинапура не пожелают разделить царство между Слепнями и Пандавами (гневные выкрики не помешали Кришне закончить) по справедливости, то даже в этом случае благородные Пандавы готовы пойти на уступки!
Карна еле-еле сдержал смех. Уступки? Интересно, какие же?
— Пусть им будет выделено всего пять деревень — как знак дружбы и мирных намерений, а также будет признано их верховное владычество над всеми землями Кауравов. Всю власть и земли сыновья Панду немедленно возвратят тебе, сиятельный раджа, удовольствовавшись, как и прежде, Твердыней Индры, своим уделом и пятью жалованными деревнями, а ты, раджа, будешь править, как и встарь, под надежной защитой пяти братьев и их войск. Таковы скромные условия братьев Панду, выполнение которых приведет к миру и благоденствию народов!
И тут Боец сорвался.
— Замолчи! — раскатился по зале крик сорокапятилетнего воина, да так, что в испуге дрогнуло пламя в масляных светильниках. — Я знаю: ты, Кришна, лишь уста для чужой речи… но замолчи, ради всего святого, пока я не ударил тебя! Иди и передай же зарвавшимся наглецам: мало того, что они многократно оскорбили меня, моего дядю, моих братьев и моих друзей подлыми наветами и неприкрытой ложью! Благородные цари и безупречные брахманы были свидетелями той игры, и никто из них не воскликнул: «Обман! Нечестно!» Мало того, что они пытаются поссорить меня с отцом и учителями, пред которыми я чист словом и делом! Так эти дети блуда еще и заявляют права на то, что им никогда не принадлежало и принадлежать не могло! Пока жив мой отец, раджа Города Слона, Пандавам и Кауравам должно повиноваться ему как единственному законному правителю, а не ставить условия и собирать войска, готовясь поднять бунт! Лишь безумец отдает свой дом врагу, надеясь из милости получить имущество обратно! Я похож на безумца, Кришна?! похож ли на безумца Грозный?! мой отец?! Отвечай! Или лучше оглядись и скажи мне: есть ли где такой человек, который, соблюдая закон кшатриев, рискнул бы попытаться победить нас в битве?! Молчишь?!
И, не дожидаясь ответа, Боец быстрым, размашистым шагом пересек залу, в сердцах хлопнув за собой дверью.
Карна и Бешеный последовали за разъяренным другом.
Здесь ждать уже было нечего.
— Теперь вы сами убедились в неразумности и злонравии сего мужа, — грустно сказал Черный Баламут, когда закрылась дверь за последним из покинувших залу людей. — Он глух к голосу разума и доброты, жадность и гордыня обуяли его. Так не лучше ли, царь, пока не поздно, схватить твоего сына, а также брата его Бешеного и злодея Карну, а также всех их сторонников, дабы передать их связанными благородным Пандавам для справедливого суда? Этим ты докажешь сыновьям Панду свою дружбу и благие намерения, после чего вы легко сможете заключить мир! Подумай над этим, о царь, — еще есть время!
Пока все остолбенело слушали этот удивительный вывод, родич Кришны, явившийся вместе с послом, тише мыши выскользнул из залы.
Впрочем, объявись сейчас в зале сам Индра или исчезни потолок — это тоже вполне могло остаться незамеченным.
— Опомнись, посол! Что ты предлагаешь мне?! Схватить собственных сыновей вместе с верными сторонниками и передать в руки их врагов?! — Голос Слепца был подобен рыку пробуждающегося льва, и все отчетливо ощутили, как под сводами медленно сгущаются грозовые тучи…
5 РАЗВЯЗКА
— …К оружию, ядавы! Нас предали! Проклятый Боец велел схватить и заточить в темницу посла, любимого нами Кришну! К оружию!
Крики, лязг оружия, топот ног. Воины полусотни сопровождения, до того мирно жевавшие бетель в павильонах парка, со всех ног бежали ко входу во дворец. Схватить посла? Святотатство! Боги покарают нечестивцев из Города Слона! Но боги далеко, и сейчас все зависит от них, ядавов-соплеменников, тех, чей святой долг — охранять посла, земляка, аватару Опекуна Мира!
Однако дворцовая стража тоже времени зря не теряла: клич медной турьи и вопль «Тревога!» мигом ответили пламенному призыву родича Черного Баламута.
И когда пятеро самых быстроногих ядавов подбежали к мраморным ступеням — навстречу им ощетинились копьями и мечами «алые ленты», личная гвардия Грозного.
Измена! Попытка прорыва в зал Совета! Покушение на правителей Хастинапура! Трубить общий сбор! Тревога!
К оружию, Кауравы!
Долг столкнулся с долгом, честь с честью, металл с металлом. Звенит меч о бронзовый нагрудник, копье скрежещет по вовремя подставленному щиту, выхаркивает жизнь смертельно раненный воин, пытаясь дотянуться, достать кинжалом, ткнуть хотя бы в ногу…
Трое из пятерых отступили, их друзья остались лежать у сандалий загородивших вход стражников, но на ступени уже накатывала новая волна атакующих. Их было много, больше двух десятков, и сзади к ним спешили остальные ядавы, сбегаясь со всех сторон. «Алые ленты» попятились, сохраняя строй. Теперь они тоже несли потери, и было еще неизвестно, поспеет ли вовремя подкрепление из дворцовых казарм, куда с отчаянным криком уже несся кто-то из слуг.
Блеск стали, кровавые всплески, булькающий хрип…
— Прррекррратить!!!
Громовой рев расшвырял воинов в стороны, словно на миг обретя материальность, и намечавшаяся бойня оцепенело замерла.
На ступенях, в центре «алых лент», стоял безоружный Боец, как бы между делом придерживая готовых ринуться в бой Карну и Бешеного. Также безоружных, но от этого не менее опасных.
— Что здесь происходит? Кто старший? Доложить!
Вперед выступил кряжистый десятник, склонился перед царевичем, не удосужившись утереть кровь с рассеченной щеки.
Алая лента свисала ему на лоб, делая гвардейца похожим на восставшего мертвеца.
— Попытка прорваться в зал Совета, мой господин! Мы выполняем свой долг!
— Ясно…
— Это ложь, царевич! Вернее, это не вся правда…
Боец резко обернулся.
Перед ним стоял смешной пузанчик с лицом, изрядно битым какой-то кожной болезнью. Верхнюю губу пузанчика косо оттягивал белый рубец, отчего казалось, что человек все время скалится в глуповатой усмешке. Впору было расхохотаться, тыкая пальцем в героя, но мешал совсем не смешной шестопер, которым пузанчик небрежно поигрывал. Боец, сам большой любитель подобного оружия, вполне мог оценить и шестопер, и хватку его владельца.
— Дозволишь продолжить, царевич?
— Говори. Кто ты?
— Мое имя — Критаварман. Я кшатрий по рождению, как и ты, сейчас командую полусотней сопровождения посла Кришны. Прости, царевич, но нам сообщили, что ты распорядился арестовать посла, и мы поспешили на выручку Черному Баламуту. У каждого свой долг, и тебе это известно лучше других.
Впору было отметить это «кшатрий, как и ты».
И еще ключевое слово «сейчас». Сейчас он, видите ли, командует! А что делает в остальное время?!
Чешет нос концом железного пера? — не поранься, командир!
— Та-а-ак, — протянул Боец, невольно копируя манеру Грозного. — Значит, Я распорядился арестовать Кришну? Почему же тогда МНЕ об этом ничего не известно?! Мне, а также моему брату, а также владыке ангов, все это время находившимся рядом со мной?.. Впрочем, я вижу, что словам наследника престола здесь уже не верят. Идемте! Критаварман, возьми с собой двух воинов по своему выбору. С оружием! Пусть идут по обе стороны от меня. Мы выслушаем клевету и наветы, а если вам покажется, что я лгу… Вперед! Поглядим, много ли волос упало с головы вашего любимого Кришны! Стража, пропустить нас!
* * *
— Измена! Боец приказал арестовать посла!
Зала взорвалась криками возмущения. Не может быть! Неслыханно! Неужели прав Черный Баламут и царевич пал столь низко?!
Снаружи уже доносился шум боя.
— Боги карают заблудших слепотой, — пропела флейта, и, как ни странно, среди общего гомона все отчетливо услышали ее журчание
— Измена! Предательство! Это доверенные люди Бойца! Они пытаются прорваться сюда, чтобы схватить Кришну!
Дверь распахнулась от пинка.
На пороге стоял Боец в сопровождении трех вооруженных воинов.
— Как ты посмел?! — Глотка Грозного клокотала едва сдерживаемым гневом. — Как ни оскорбительны были речи Кришны, он лишь выполнял волю пославших его! Как ты посмел покуситься на посла, щенок?!!
— Разуй глаза, Грозный! — Едва ли бешенство Бойца уступало гневу Деда Кауравов. — Эй, кто-нибудь, подымите Деду веки! Со мной — воины ядавов и их воевода! Это с ними, по-твоему, я пришел арестовывать их посла?! Отвечай! Молчишь? Все молчите?! Проглоти свои упреки, сын Ганга, и пусть тебе будет стыдно! Хотя бы единожды за всю твою долгую жизнь!
И, обернувшись к растерянным ядавам:
— Вы тоже ослепли?! Невредим ли ваш драгоценный Баламут? Или, может быть, он связан, закован в цепи? Вокруг него вооруженные стражники? Заплечных дел мастера? Нет? Вы это признаете? Ваши воины снаружи, а посол — в зале. Кто мешает мне двинуть бровью, и всех вас рассажают на колья, а Кришну волоком потащат в казематы?! Так?
— Воистину так, царевич, — угрюмо потупился пузанчик Критаварман, сунув шестопер за кушак. — Чем можем мы искупить свою вину перед тобой — за то, что усомнились в твоей честности и благородстве?
— Ничем. Вашей вины в этом нет. Вы выполняли приказ. Скажите только, КТО оклеветал меня, — и я не буду держать зла на вас! Кто?!!
— Я скажу! — яростно полыхнул взор Критавармана, и пузанчик словно стал вдвое выше ростом. — Это был родич Кришны по имени Правдолюб, приехавший вместе с нами! Из-за сучьего выкидыша погибли мои люди! Где он?! Я не вижу здесь этого презренного шакала!
— Негоже послу доле задерживаться там, где только что пролилась кровь его соотечественников! — Тихая мелодия флейты заструилась по зале к выходу. — Я уезжаю, Кауравы! Переговоры окончены.
Никто не препятствовал Кришне. Люди отворачивались и расступались перед послом.
И смеялся с фрески Шестиликий Сканда, божество войны.
* * *
Кто-то тронул тебя за плечо, и ты резко обернулся. Перед тобой стоял Критаварман, командир посольского сопровождения.
— Можно поговорить с тобой, раджа ангов?
— Можно, — махнул рукой ты. — Присаживайся, ядав.
Вы присели на скамью в одной из многочисленных беседок дворцового парка. Помолчали.
— Что скажешь, о гордость Хастинапура?
— Дерьмо, — буркнул ты. Подумал и поправился: — Все дерьмо. Собачье.
— В самую точку, — согласился ядав. — Вообще-то я хотел поговорить с царевичем, но он сейчас занят. А в тебе, вижу, я нашел понимающего собеседника.
— И в самом скором времени — врага, — подытожил ты.
— Это еще почему? Полагаю, в этой войне войска ядавов выступят на вашей стороне. Опять же, полагаю, тебе и владыкам Хастинапура стоит об этом знать заранее.
— Ты уверен?!
— Абсолютно. — Верхняя губа пузанчика вздернулась еще выше.
— Что ж… я, наверное, должен быть рад? Но что скажет по этому поводу Кришна?
— Черный Баламут? А какое мне дело до того, что он скажет? У него своя жизнь — аватарная, а у нас своя — земная. Прощай — и помни о моих словах.
— Насчет жизней, своих и чужих?
— И насчет этого тоже. — Рябой пузанчик уже не улыбался.
..Когда после Великой Бойни от всего войска Кауравов останутся трое, среди них будет некий Критаварман, чье взрослое имя означает Чудо-Латник. Царь из рода бходжей, военачальник объединенных сил бходжей, ядавов, андхраков, куккуров и вришнийцев.
Еще спустя несколько лет его попытка отомстить клеветнику Правдолюбу послужит причиной земной смерти Черного Баламута.
Чудо-Латник плохо прощал обиды.
6 ПРИЗЫВ
Война. Война — это хорошо, как бы кощунственно ни звучали такие слова. Наконец-то честная битва вместо всех этих остобхутевших интриг, недомолвок, хитростей, уступок… Ведь давно уже было ясно, что Пандавам и Кауравам тесно под одним небом! Он, Карна, всегда говорил…
Ладно. Все. Обратного пути нет — спасибо «миротворцу» Кришне!
Да, Кришна…
Вне всякого сомнения, это он, а не болван Правдолюб затеял дурацкую историю с мнимым арестом. Глупую историю. Шитую белыми нитками. Как непохоже это на Черного Баламута, умницу, каких поискать! Или похоже?! Ведь цель провокации могла быть совсем иной! — дошло вдруг до сутиного сына. Не выставить Бойца подлецом, не поссорить его с родичами и заключить мир, устранив злодея-наследника… Совсем наоборот! Не допустить мира! Сделать войну неизбежной!
Отказ от даров и гостеприимства, оскорбительные речи в Совете, неприемлемые требования, выдвигаемые сыновьями Панду, и под занавес — наглая провокация с трупами на просцениуме!
Мир?
О чем вы толкуете, уважаемые?!
Но… что же тогда получается? Получается, что Кришна — наш союзник?! Губитель Пандавов?! Ведь он не может не знать: сил у нас в полтора раза больше, чем у сыновей Панду! Да и переход собственных земляков на сторону Хастинапура он вполне мог предвидеть. Мир был бы куда более выгоден Пандавам, чем нам. Значит… Неужели всеобщий любимец Кришна, аватара Вишну-Опекуна, единодушен с сыном суты: война?!
Война до победного конца!
Голова кругом идет…
Тонкий комариный звон нарастал в ушах исподволь, незаметно, и задумавшийся раджа не сразу обратил на него внимание. А когда наконец осознал, что происходит, алая завеса уже окутала голову, заливая мир свежей кровью, превращая уши в маленькие барабанчики, и до Карны на пределе слышимости долетел слабый отзвук.
Флейта.
Почти сразу перед глазами возникла туманная фигура.
— Я жду тебя на закате солнца, — журчание, плеск, покой и утешение, — у дороги, выходящей из ворот Голубого Лотоса. В четверти йоджаны от города. Приходи. Я буду ждать.
— Я приду, Кришна!
— Ждать… ждать… — Образ Черного Баламута поблек и растаял. Быстро стихал звон в ушах, и гасло мерцание в сердоликах серег.
Мир становился прежним.
Надолго ли?
Глава XII СКАЗАНИЕ ОБ ОСУЖДЕНИИ КАРНЫ
1 ПЕСНЬ
…Издали это напоминало нить жемчуга, скомканную в горсти и брошенную на дорогу. Ты подъехал ближе и остановил своих чубарых рядом с белой колесницей, запряженной белыми иноходцами. Цвет жизни. Цвет рождения, благополучия, белизна счастливых дней. И Черного Баламута нет в «гнезде». Символично, знаете ли… Ты спрыгнул наземь и подошел к обочине. Отсюда склон спускался прямо к реке, и там, на берегу, сидел темнокожий юноша в желтых одеждах.
Сапфир в золотом перстне, оброненный кем-то в сумерках.
Кришна сидел спиной к тебе, на камне, сходном с горбатой жабой, и бросал в темную воду гальку за галькой. Брызги на миг вспыхивали закатным фейерверком, чтобы секундой позже рухнуть обратно, во тьму. И это тоже было символично.
Ты спустился вниз и сел рядом. Прямо на траву, мокрую от вечерней росы. Обхватив колени руками и удобно умостив поверх подбородок. Со стороны вы вполне могли показаться отцом и сыном, для полной идиллии не хватало лишь матери с кожей цвета агата.
Нет.
До идиллии не хватало многого.
Ты поднял гальку и тоже кинул ее в воду.
— Уезжаешь? — спросил ты, чтоб хоть что-то спросить.
— Да. И ты едешь со мной.
Галька плюхнулась косо, ребром, и речная гладь с чавканьем утащила добычу на дно. Без брызг.
— И что я там буду делать? — Шутка Кришны не показалась тебе забавной.
— То же, что и всегда. Сражаться. Только на этот раз, впервые в жизни, ты будешь сражаться на правильной стороне.
Комар с противным писком опустился тебе на щеку, и ты машинально прихлопнул кровопийцу.
— Как ты себе это представляешь, Кришна? Волей судьбы все мои друзья находятся здесь, в Хастинапуре, а все враги, по непонятной роковой случайности, — там, вокруг мятежных сыновей Панду. Послушай я тебя, уж не знаю зачем, меня дурно приняли бы там и косо посмотрели бы здесь, — говоря это, ты никак не мог отделаться от странного ощущения.
Слова выходили кислыми, и казалось, что их уже произносили до тебя или произнесут после, слова отдавали оскоминой, рот наполнялся вязкой слюной, и ты замолчал.
Зря ты, пожалуй, приехал сюда.
Зря.
Черный Баламут достал из рукава флейту, повертел ее в пальцах и с плохо скрываемым сожалением сунул обратно.
— Ты не понимаешь, — сказал он. — Ты похож на юродивого, который слюнявым ртом тянется к яду, а лекарь не в силах объяснить глупцу, почему этого не стоит делать. Ты похож на младенца, которому вздумалось поиграть с коброй, а мать опять же бессильна воздействовать на него уговорами. В такие минуты полезнее действовать, а объяснять потом… или вовсе не объяснять.
— Не объясняй, — кивнул ты. — Не надо. Нет таких объяснений, после которых я согласился бы стать изменником и убивать своих.
Помолчав, ты добавил:
— Пожалуй, для этого надо родиться царем. Или богом. А я родился сутиным сыном.
— Убивать! — Кришна раздраженно воздел руки к небу. — Умирать! Чушь! Мара! Неизбежно умрет рожденный, неизбежно родится умерший, если ж все это неотвратимо, то к чему здесь твои сожаления?! Когда гибнут тела, Господь Твой ни в одном из них не погибает, это значит — о тварях смертных сожалеть ты, Карна, не должен!..
Закат брызнул тебе в глаза. Захлестнул фейерверком красок, буйным половодьем, топя в себе, растворяя без остатка. Пение звездных цимбал обожгло слух, стаей кречетов взлетела трубная медь, и крылатые гандхарвы склонились к сладкоголосым винам, хором славя Неизреченного и Несотворенного. Сонмами сонмов воспарили в пространстве святые царственные мудрецы, блистая кротостью взора, павшие на поле брани герои, аскеты, завоевавшие небо подвижничеством, чей пыл духовный пламенел, как солнце, — во всей красе, в ярком свечении, каждый в своем небесном доме, озаренном добродетелью.
«Сваха! — ликующе вознеслось кругом. — Вашат!»
— Когда в битву с врагами вступает, исполняется радости кшатрий, словно дверь приоткрытую рая пред собою увидел внезапно! Уравняв с пораженьем победу, с болью — радость, с потерей — добычу, начинай, Карна, свою битву!.. И тогда к тебе грех не пристанет…
Семь пылающих солнц зажглись над тобой семь пламенных печатей. Все — дерево и трава, сухое и влажное — обратилось в пепел, и следом на мир обрушилось пламя. Разоряя землю, достигая пределов геенны, оно ширилось, скалясь огненной пастью, но и это еще был не конец. Тучи, прорезаемые пучками молний, сгустились вокруг, мрачные, с ужасающим грохотом заволокли они свод небес — и грозная лавина вод рухнула на Вселенную, гася пожар. Волна вставала за волной, им не было числа, и Прародина воцарилась кругом, в мире без тверди, без небес, где лишь ты, чудом уцелевший, мятежной душой носился над водами.
«Ом мани! — смеялась кипящая пустота. — Дхэйлилайя!»
— Я не всякому глазу доступен, Я сокрыт пеленой своей майи, мир Меня, ослепленный, не знает, и подвластные майе невежды презирают Меня в смертном теле — их надежды и действия тщетны, тщетно знание разумом бедных…
Ты странствовал по мрачным хлябям Предвечных вод, не зная сна, не находя приюта. И на исходе вечности взору открылся огромный мощный баньян. Древо— исполин. На широких ветвях его раскинулось ложе, устланное дивными покрывалами, и в нем покоилось дитя с ликом, словно полная луна, и прекрасными, как лепестки лотоса, глазами. Ты изумлен: как уцелело это юное существо в час гибели Мироздания? Ты… ты… ты…
Ледяные ладони властно ударили по ушам. И ты, последний человек мира старого, отряхнувший с ног его постылый прах, ты, первый человек мира нового, в котором нищие духом гурьбой войдут в Обитель Тридцати Трех, а блаженные унаследуют райские чертоги, — ты перестал быть. Совсем.
* * *
Комар с противным писком опустился тебе на щеку, и ты машинально прихлопнул кровопийцу.
Зря ты, пожалуй, приехал сюда.
Зря.
Черный Баламут достал из рукава флейту, повертел ее в пальцах и с плохо скрываемым сожалением сунул обратно.
Посмотрел на замшелый бок камня, служившего ему сиденьем.
Ты удивился: в продолговатых глазах Баламута, подведенных по краям сурьмой, далеко, на самом дне, плескался суеверный ужас.
А на боку камня отвратительной пятипалой язвой зиял отпечаток ладони. Выжженный отпечаток. И россыпь мелких камешков, похожих на дождевые капли, рассеялась рядом в траве: словно каменное тело сплавилось от страшного огня, брызнув во все стороны лужей, в которую швырнули гальку.
Зачем-то ты посмотрел на собственную ладонь.
Ничего особенного.
Линии жизни, судьбы, заслуг и прегрешений… ладонь как ладонь.
— Ты не понимаешь, — сказал Кришна, и тебе показалось, что эти слова уже произносились раньше или будут произнесены позже, слова выходили шершавыми, и в горле от них, от чужих слов, стоял ком свалявшейся шерсти. — Ты похож на слепого щенка, который ползет к краю пропасти, а лай матери лишь подталкивает его вперед. В такие минуты полезнее действовать, а объяснять потом… или вовсе не объяснять.
— Не объясняй, — кивнул ты. — Не надо. Нет таких объяснений, после которых я согласился бы стать изменником и убивать своих.
Помолчав, ты добавил:
— Пожалуй, для этого надо родиться царем. Или богом. А я родился сутиным сыном.
— Глупец! Ты родился и тем и другим! Думаешь, я зря спрашивал тебя о твоем отце — еще тогда, при первой нашей встрече, когда ты чуть не сжег дерево подо мной?! Твоя настоящая мать — не та безродная женщина, чей прах мирно спит на кладбище! Тебя родила царица Кунти, неразумно опробовав дарованную ей мантру! А твой подлинный отец сейчас садится за горизонт! Ты — дитя Лучистого Сурьи, ты — полубог, сын Локапалы Юго-Востока, ты — старший из братьев— Пандавов!
— Да? — безучастно спросил ты, прикусывая сорванную травинку.
— Да! Ты мой двоюродный брат по матери! Ты равен мне по праву рождения! Идем со мной — и все цари, собравшиеся ради дела Пандавов, станут целовать прах от твоих стоп! Пусть Юдхиштхира, сын Петлерукого Ямы, будет наследником престола, царствующим под твоим скипетром! Пусть он восходит на колесницу следом за тобой, неся белое опахало! Пусть сын Ветра, могучий Бхима, подымет
над тобой зонт, пусть гордый Арджуна, сын Громовержца, возьмет в руки поводья твоей упряжки, пусть близнецы хором поют тебе хвалу! Пусть их общая жена придет к тебе на шестой день! Пусть радуются друзья и трепещут враги! Царствуй, сын Солнца, сын животворного Вивасвята!..
И Черный Баламут осекся.
Хохот был ответом его пламенной речи. Ты шлепнулся на спину, сотрясаемый пароксизмами смеха, ты хрюкал и бил руками по мокрой траве, ты задирал ноги к фиолетовому небу, словно стремясь пнуть первые звезды и зеленоватый медяк ущербной луны, оглушительные раскаты рвались из твоей груди — и вдалеке испуганно откликнулись шакалы.
Так смеются на площадях, когда балаганный вибхишака пнет в зад тупого мытаря, так смеются над гордецом, плюхнувшимся в лужу, полную слоновьего навоза, так хохочут, не думая о завтрашнем дне.
— Я… я… — Голос отказывался повиноваться тебе, и его приходилось смирять, будто жеребца-двухлетку, не знавшего удил. — Ох, Кришна! Нет, я понимаю — лучшие побуждения и все такое… Я даже могу поверить, что ты не врешь! Но какое — вдумайся, скинь с себя божественную мудрость! — какое может иметь значение, кем и от кого я рожден на самом деле?!
— Для кого я стараюсь? — спросил Черный Баламут у лунного медяка.
— Нет, для кого я стараюсь, из кожи вон лезу?! — спросил он у реки и леса на том берегу.
— И что в награду?
Молчали река и лес, молчала луна, молчала ночь, тихо подкравшаяся к вам, и тишина скорбно кивала головой.
— Я рожден сутиным сыном, — ответил ты Кришне, луне, лесу, реке и тишине.
— А ты, Кришна, рожден барышником. Из меня плохой царь, а из тебя, наверное, плохой бог. Впрочем, неважно. Ты что, всерьез полагаешь, будто Ушастика можно купить за такую малую плату, как трон и небесное родство? Ты мелок в сравнении с Бойцом — тот отдавал мне царство ангов, ничего не требуя взамен, кроме дружбы… А ты требуешь, чтобы я лишил свою мать жертвенной лепешки! Ты
требуешь, чтобы я повернулся спиной к старику, который учил меня держать поводья в руках! Ты требуешь от меня предать друзей, покрыть свое имя позором, переступить через самого себя — и все это лишь за чин владыки— полубога?!
— Послушайся ты меня, — устало сказал Черный Баламут, — войны не было бы вообще. Боец не станет драться с тобой, особенно если твои права на хастинапурский трон подтвердятся должным образом. И Царь Справедливости откажется от притязаний на власть, узнав о твоем старшинстве. Война и мир в твоих руках, глупый Карна! Ты встал.
— Я ухожу, Кришна. Считай, что этого разговора не было. Я много хотел сказать тебе и о многом спросить… теперь не хочу. До встречи.
Невидимые когти вцепились в мочки твоих ушей. Багрянец окутал голову, сквозь него лицо Кришны выглядело пепельно-бледным, мертвым, вытесанным из чунарского песчаника, и слова сами легли на язык, правильные слова, единственные слова, от которых не несло падалью и не забивалось горло шерстяным комом.
— Ты лжешь, Кришна. Не в моих руках судьбы войны и мира — вернее, не только в моих. О Баламут, при том великом жертвоприношении оружию ты будешь верховным надзирателем, обязанности жреца-исполнителя также будут принадлежать тебе! Если мы выйдем из этой гибельной битвы живыми и невредимыми, то, быть может, увидимся с тобою снова! Или же, о Кришна, нам предстоит, несомненно, встреча на небесах! Сдается мне, что так или иначе мы обязательно встретимся с тобой, о безупречный…
«Встретимся?» — подмигнула луна.
«Встретимся?» — замерцали звезды, и тишина отпрянула прочь.
«Встретимся ли?» — переглянулись лес с рекой и правый берег с левым.
Ты пошел вверх по склону не оглядываясь.
— Погоди! — догнал тебя у самой колесницы громкий окрик. — Постой, Карна… обожди…
За тобой бежал Черный Баламут, скользя по косогору, спотыкаясь, падая — и все-таки спеша.
За тобой.
Желтые одежды Кришны были в грязи.
2 АВАТАРА
— Мы похожи с тобой, Карна: рожденные для неба, мы родились в дерьме.
Но речь сейчас не о тебе.
Обо мне.
С младых ногтей я чувствовал в себе силы повелевать Мирозданием, я, новорожденный молокосос, Господь с пролежнями на заднице, и еще я понимал, что живу под Опекой. Ты никогда не знал, что это такое — быть перчаткой для чужой руки, дверью для почетного гостя, который волен входить и выходить, когда ему вздумается, и пусть чернь молится потом на опустевшую перчатку или покрывает лаком дверные створки!
Я царь, я раб, я червь, я бог!
Два разума смешивались в Кришне, как смешиваются вода и вино: острый рассудок небожителя выводил письмена на чистом листе детского сознания, и когда Опекуну требовалось удалиться по своим делам, я сходил с ума от этого раздвоения, от самого себя и следов Его, плохо понимая, где я, где не-я!..
Я убивал демонов и пачкал пеленки, я творил чудеса и воровал масло из чужих горшков, я бросал под облака груженые повозки и плакал, привязанный за ногу к кровати… И однажды я понял: прожив жизнь богом, я умру. Сдохну, как последний псоядец, и что с того, если у меня будут царские — нет, божественные! — похороны? Рука покинет перчатку, гость забудет о парадном входе, дверь заколотят досками крест-накрест, я стану ненужен… о, возможно, я даже попаду в рай! Я наверняка попаду в рай, я войду в Вайкунтху, озираясь по сторонам… Не хозяином, каким привык себя чувствовать согласно чужому и чуждому замыслу, не господином — приживалой, нахлебником, холопом, одаренным за верную службу! Рай с барского плеча?!
В этот день я покончил с детством, в этот день я возненавидел Опекуна Мира за его щедроты, в этот день малыш Кришна стал Кришной Джанарданой, Черным Баламутом.
…Мы похожи с тобой, Карна: рожденные для свободы, мы родились в оковах.
Но речь сейчас не о тебе.
Обо мне.
Мой надсмотрщик был не снаружи — внутри меня. Спрятаться? убежать? обмануть?! — пустые надежды. В любую секунду мое тело могло перестать быть моим, а мысли выворачивались наизнанку, становясь достоянием хозяина. Смешно!
— именно в такие минуты досмотра и захвата я с особенной остротой ощущал себя божеством… Кнут и пряник, удар и ласка — все это был я сам и в то же время — не-я. Любовь человеков слеталась ко мне, трепеща крылышками, как пчелы слетаются к расцветшей лилии… это он, Вишну-Даритель, был лилией. Гимны воспевали меня, клубясь дождевыми облаками… это он, повелитель Вайкунтхи, был дождем, и облаками, и заправилой вселенского хора.
Он дал мне все, не оставив ничего, даже свободы воли!
И тогда я взял в руки флейту. Я вложил в ее дыхание всего себя, о каком мечтал, себя-воздух, себя-воду, себя-порыв… Тебе доводилось слыхать поговорку: «Без Кришны нет песни»?! Это правда. Потому что я плясал под дудку Опекуна, а вы все плясали под мою дудку! Вишну радовался, не замечая: пока мои пальцы бегают по ладам, а звуки вольно рвутся наружу, ему нет дороги в мое сознание. В эти минуты я был свободен, в эти минуты я сам был Опекуном, а Он был лишь сторонним зрителем! Кукловод отпускал ниточки и радовался прихотливым затеям куклы… Ах, как я ненавидел его!
И как я ненавидел себя за то, что не могу играть вечно!
…Мы похожи с тобой, Карна: рожденные для власти, мы родились слугами.
Но речь сейчас не о тебе.
Обо мне.
Я научился угождать всем. Людям, которые хотели видеть во мне земное воплощение Опекуна — и в конечном итоге полюбили меня больше, чем небесный оригинал. Опекуну Мира, который жаждал земной империи и радовался моему усердию — вплоть до разжигания войны, где должны погибнуть мятежники-Пандавы, последний оплот сопротивления. Пандавам я нравился тоже, равно как и Кауравам,
— мои советы отвечали чаяниям всех, следуя им, вы получали то, чего хотели! Ведь даже ты, желающий этой войны, как пьяница вожделеет к заветному кувшину, был доволен мной, когда понял, что наши желания сходятся…
Не ври, я знаю: и ты был доволен.
Ни разу я не противоречил смертным и богам. Приближается день, когда Великая Бхарата вцепится сама в себя, когтя собственное тело. Мой день. Потому что я еще заранее решил: победа или поражение, но никогда больше Вишну-Опекун не будет властен над Черным Баламутом. Угождая, я сам выверну его замысел наизнанку: гость станет хозяином, перчатка — рукой, а небожитель вкупе с ему подобными — лишь отражениями маленького Кришны! Как я добьюсь этого? каким путем? каким способом? — нет, Карна, я отвечу тебе лишь в одном случае.
Если ты отринешь ложные стремления и пойдешь со мной.
Чтобы самому стать богом.
Ты, Васушена, чье боевое прозвище имеет второе, тайное значение: Рожденный-с-Драгоценностями. Я не знаю, зачем твоему небесному отцу вздумалось одарить тебя панцирем и серьгами, добытыми на заре времен при пахтанье океана… Возможно, Лучистый Сурья просто хотел пошутить. Возможно, он предвидел что-то свое, неясное мне. Возможно. Все возможно, Ушастик. Но эти серьги, которые служат тебе пустым украшением, — для меня это единственная вещь в Трехмирье, чья сила вожделенна и недоступна. Будь серьги моими, Вишну— Дарителю был бы навсегда заказан ход в душу Черного Баламута! Ты же видишь, я откровенен с тобой, даже не играя на флейте, потому что божественный надсмотрщик и так глух сейчас к нашей беседе! Глух и слеп, ибо я стою рядом с тобой, рядом с серьгами-мечтой… этого достаточно. О, я не прошу тебя отрезать уши на мою потребу, я не столь наивен! — я просто молю тебя всегда быть рядом со мной, и мы рука об руку войдем в райские сферы! Войдем, чтобы их обитатели склонились перед нами, пали ниц и хором возгласили: «Вашат!»
…Мы похожи с тобой, Карна: рожденных летать заставили ползать.
Но речь сейчас не о тебе.
И не обо мне.
Речь о нас.
Ну хочешь, я встану перед тобой на колени?..
* * *
Светляки звезд щедро усыпали фиолетовое покрывало небес, ночная бабочка искала пристанище, шевеля мохнатыми усиками, и река плескалась в темнице берегов, давно привыкнув к свободе в пределах русла.
Разве что весной, во время половодья… но до весны еще надо было дожить.
На дворе стоял первый день зимнего месяца Магха.
Последнего месяца зимы.
— Поздно, Кришна, — сказал ты. — Поздно. Если бы ты попросил меня об этом во время нашей первой встречи или потом, у панчалов… А сейчас поздно. Я немолод и недоверчив. Не лги самому себе: ты боишься не смерти и райской милостыни, ты боишься жизни. Жизни не-богом. И ради этого готов вытереть ноги миллионами других жизней не-богов, после чего возьмешь подстилкой небо. Уезжай, Баламут. Уезжай скорее. Иначе сутиному сыну будет очень трудно сдержаться… Убирайся прочь!
Эхо твоего крика еще долго неслось по пятам жемчуга в ночи.
Белая колесница с черным ездоком удалялась на юг.
В сторону света, подвластную Адскому Князю.
3 ОТЕЦ
…Предутренняя мгла пеленала тебя в сырой сумрак, а ты сидел, сгорбившись, на берегу реки — и ждал. Ждал рассвета, сам себе представляясь скорченным каменным идолом, на котором равнодушно оседают капельки росы.
Яд Кришны все-таки проник в твои вены, стрела на излете достигла цели.
Ты хотел еще раз взглянуть Ему в лицо, нет, не Баламуту, а тому, на чей лик ты всегда взирал спокойно, без рези в глазах — и не понимал, как может быть иначе? Тому, кто всегда одаривал тебя теплом и покоем в тяжелые минуты.
Ты хотел взглянуть в лицо своему небесному отцу.
Сурье-Вивасвяту.
Ты бросил меня, отец. Наверное, боги всегда бросают своих смертных детей. Ни к чему далеко ходить за примерами — вся пятерка братьев-Пандавов, обезьяний царь Валин-Волосач, Гангея Грозный… Так было, есть и будет. Наверное, так и должно быть. Смертным не место в Первом мире, уделе небожителей, а сурам не место здесь, на земле. Пожалуй, ты оказался еще не худшим из отцов — ты хотя бы оставил мне дар: чудесный доспех-татуировку и серьги, которые так нужны Черному Баламуту. Другим не досталось и этого. Но… извини, у меня уже есть отец. Первый Колесничий из маленького городка Чампы, потомственный сута, человек простой и безыскусный, плоть от плоти этой грешной земли. Я вырос его сыном, а не твоим, солнцеликий бог!
Туманная мгла рванулась посередине, расползлась клочьями, спеша укрыться в темных оврагах, и над горизонтом показался краешек встающего светила.
Ну, вот и ты. Ты слышал меня?
«Я слышал тебя. Ты во всем прав, сынок. Я не в силах подолгу оставаться на земле, и я не мог взять тебя на небо. Ты во всем прав. Я думал, это шутка, любовное приключение, но шутка вышла не смешной. Прости, если сможешь».
Ты не знал, что звучит сейчас в твоем мозгу: отголоски собственных мыслей или Сурья действительно ответил на зов? Впрочем, какая разница?
Какая разница, Лучистый? Наверное, я должен бы радоваться, что я — сын бога, что трон Лунной династии вполне может принадлежать мне… Но я не рад этому. Спасибо за тепло твоих лучей, которое не раз помогало мне, за доспех и серьги, которые не раз выручали меня… Спасибо. Прими мою благодарность еще и за то, что я — сутин сын из города Чампы. Мне не нужна Великая Бхарата, и меня не манит участь бога.
Участь суров.
«Участь суров — суровая участь, мальчик мой. Я и не ждал другого. У каждого — своя дорога. Моя пролегает через небосвод, изо дня в день, из века в век, твоя же… Я не вправе порицать тебя за твой выбор. Я вообще не вправе порицать тебя. Одно скажу: ты был совершенно прав, когда не отдал серьги Черному Баламуту. Помни: серьги и панцирь! Они составляют одно целое с тобой. Надеюсь, дар того, кого ты не станешь звать отцом, еще послужит тебе…»
Тихий шепот в твоей голове умолк, и ты тоже молчал, наблюдая, как медленно всплывает над горизонтом солнечный диск.
Позади послышались приближающиеся шаги.
Ты не обернулся — ты знал, кто это.
4 МАТЬ
Царица Кунти тихо присела рядом, и минуту или две вы вместе смотрели на восходящее Солнце. Старуха, как и ты, глядела на светило не щурясь, и на какой-то момент ты ощутил тайное родство с ней, которая некогда впустила тебя в этот беспокойный мир. Впустила с тем, чтобы тут же отправить в опасное плавание по реке жизни, изобилующей порогами и водоворотами, один на один с судьбой подкидыша…
Это чувство вспыхнуло робким огоньком лучины, чтобы сразу угаснуть под налетевшим порывом ветра, оставив лишь горький привкус дыма.
Ты повернулся к сидевшей рядом старухе. В душе не осталось ничего, кроме дымной горечи. Она переполняла тебя изнутри, и ты уже не мог, да и не хотел мешать ей вырваться наружу.
— Зачем ты здесь, царица? Настала твоя очередь покупать меня? И что же ты мне предложишь? Материнскую ласку? Трон Великой Бхараты? Райские миры? Или, как мать, просто попросишь меня перейти на сторону твоих сыновей? В надежде, что я не смогу отказать ТЕБЕ?
— Я знаю, Черный все тебе рассказал. — Кунти говорила глядя мимо, словно обращаясь к самой себе. — Да, когда-то я родила тебя и, спасая твою жизнь, пустила в корзине вниз по реке. Тебя воспитала другая женщина, и ее ты считал своей матерью… До сих пор считаешь.
— Да, царица! — Сейчас ты был жесток и не хотел быть другим. — Моя мать умерла, а другой у меня нет и никогда не будет.
— Я знаю, — глухо повторила Кунти. Глаза ее были сухими.
— А раз знаешь, то зачем пришла? Я останусь верен Бойцу, своему единственному другу. И не потому, что он подарил мне земли и царский титул! Потому, что он ничего не попросил взамен! Ничего, кроме моей дружбы. Я не предам его даже ради матери… вот видишь, сам не желая того, я назвал тебя матерью. Прими это и уходи.
— Ты всегда был упрям. — По губам старухи скользнула горькая улыбка, куда горше той горечи, что переполняла сейчас твою душу. — Стократ упрямее, чем Арджуна. Просто ты никогда не замечал этого. Ты не отступишься. Ты пойдешь до конца, и тут я ничего не в силах изменить. Но… просто я с ужасом представляю, как все вы, мои сыновья, сойдетесь на поле брани и будете безжалостно убивать друг друга! Я уже вижу это, Карна! Я счастлива была бы ослепнуть, но слепота не поможет: я вижу это всякий раз, едва закрываю глаза!
Ты молчал долго.
Горечь в душе выгорела, и все выгорело, и не осталось ничего. Разве что где-то в глубине, на самом дне, тускло тлел последний уголек — тлел и никак не хотел гаснуть.
— У тебя всегда было пять сыновей, царица. — Губы ворочались с трудом, и язык отказывался повиноваться. — С того самого дня, как огонь принял твоего мужа и его младшую жену. Я клянусь, что если это будет зависеть от меня, то у тебя ВСЕГДА останется пять сыновей! Я не стану убивать никого из своих… братьев — никого, кроме Арджуны! Кто бы из нас двоих ни погиб в битве, у тебя останется пять сыновей: или с Арджуной без Карны, или с Карной без Арджуны.
Ты замолчал и только смотрел, как исподволь набухают слезами глаза, ранее спокойно взиравшие на Солнце, глаза родившей тебя старухи, как первая слезинка неуверенно выползает на щеку, изборожденную мелкими морщинами…
Ты не выдержал — отвернулся.
И тупой болью отдалось в затылке прошелестевшее сзади:
— Спасибо тебе… сынок! Я понимаю — ты не мог сделать большего. Спасибо.
И — медленные шаркающие шаги.
Царица уходила.
Чтобы в следующий миг невольно отшатнуться: беловолосый красавец возник перед ней прямо из воздуха.
Он был до боли похож на вспыльчивого Арджуну, великого гордеца и великого воина, — только отец Арджуны сейчас смотрелся заметно моложе сына.
Время бессильно пред сурами.
Кунти остановилась как вкопанная — и в следующий миг выпрямилась стройной ашокой, словно пытаясь сбросить тяжесть прожитых лет.
— Ты пришел убить его, сур, — это был не вопрос. Старуха знала. Думала, что знает. Ведь это же ясно как день… — Но сначала тебе придется убить меня!
И тут случилось неожиданное. Индра шагнул вперед, вздохнул и бережно обнял старую царицу за плечи, привлек к себе…
Ты стоял и смотрел.
5 СЕКАЧ
— Я пришел не убивать. Даже если б захотел — я не смог бы… Почему? Тебе не нужно этого знать. Иди, Ладошка. Нам надо поговорить: мне и моему племяннику.
Бог подождал, пока со стороны дороги не донесся стук копыт упряжки, на которой приехала царица, и только тогда повернулся к тебе.
— Интересно, а что ТЕБЕ от меня надо? — Тебе действительно было интересно. Ты пытался вспомнить боль, ненависть, гнев — все, что испытал в свое время на Махендре, когда этот бог червем вгрызался в твою плоть.
Странно: ненависти не было. Гнева, боли… нет. Было только недоумение: зачем он явился?
— Сам не пойму. — Индра очень по-человечески развел руками, шагнул вперед и уселся прямо на траву, на то самое место, где минутой раньше сидела царица. И тоже стал смотреть на Солнце.
Не моргая.
Ты подумал и сел рядом.
— Даже если мне что-то от тебя надо, это ведь ничего не изменит. Верно? — спросил Громовержец после долгой паузы.
— Верно, — кивнул ты.
Снова — молчание.
Безмятежное раннее утро. Тают последние клочья тумана, Сурья поднимается все выше: скоро начнет припекать. Еле слышно журчит река. Покой, тишина. Даже комары куда-то пропали. Благодать, да и только. Сидел бы так, кажется, целую вечность.
А закроешь глаза — и мнится: небо заволокло грозовыми тучами, недобро ворчит, собираясь с силами, гром, где-то на юге полыхают далекие зарницы, словно вспышки затаенного гнева. Порывами налетает холодный 4ветер —
предвестник скорого ненастья, и мерно плещут свинцовые волны безбрежного мертвого океана.
Ты открыл глаза.
Снаружи ничего не изменилось — рождался новый день.
А внутри рождалась буря.
— Когда выступаете? — поинтересовался Громовержец.
— Не знаю. Скоро, наверное. Это решать Грозному.
— Ладно! Что суждено, то суждено. Прощай.
Индра звонко хлопнул себя ладонью по колену и резко поднялся.
— Постой! — это вырвалось у тебя само собой, помимо твоей воли.
Уходящий бог обернулся.
— Зачем ты все-таки приходил?
— Какая разница! — безнадежно махнул рукой Индра.
Странно: сейчас он был совсем не похож на сына.
— Нет, все же ответь мне: чего ты от меня хочешь?! В последние дни все от меня чего-то хотят, и ты — не исключение!
Ты уже почти кричал, не сознавая этого.
Глаза Индры едва уловимо сверкнули, и в воздухе мгновенно разлилось дыхание надвигающейся грозы.
Острый аромат неизбежности.
— Хорошо! — Теперь голос бога рокотал, как гром, внутри тебя. — Я скажу. Но ответь сначала, чего хочешь ТЫ?! Ты сам?!
— Я?! — на мгновение опешил ты.
— Да, ты! Скоро будет война, будет большая битва — чего в ней хочешь ты?
— Разве не ясно? — Только небожителю мог прийти в голову подобный вопрос.
— Я хочу нашей победы. Победы Хастинапура. Чего же еще?
— И ты будешь сражаться ради этого?
— Конечно!
Он тебя что, совсем за дурака держит? Или сам умом слабоват стал?
— Вы победите. И знаешь почему? — В голосе божества тебе чудится усталость и безнадежность.
— Знаю. У нас больше войск, у нас…
— Нет! — яростно рычит Индра, и в вышине эхом откликается гроза. — Вы победите, потому что на стороне Города Слона будешь сражаться ТЫ!
И в этот миг ты понимаешь, что Громовержец говорит правду. Но почему?
— Почему? — Оказывается, ты произнес это вслух. — Я отвечу тебе! Потому что ты НЕУЯЗВИМ! Неуязвим даже для оружия богов! Твой панцирь и серьги, подарок чувствительного Сурьи, — они делают тебя неуязвимым! Никто не в силах противостоять тебе! Для тебя не существует противников! Ты ОДИН способен выиграть предстоящую битву! Один против всех. После победы передай мои восторги Раме-с-Топором: он воспитал достойного ученика!.. Он — и шутка Лучистого Сурьи, моего брата и твоего отца…
Кажется, Индра хотел сказать что-то еще, но внезапно сник.
— Теперь ты знаешь. Прощай. — Бог снова повернулся, чтобы уйти.
А в твоей голове все продолжал звучать его голос: «Никто не в силах противостоять тебе! Для тебя не существует противников! Ты один способен выиграть предстоящую битву!»
Вот оно, всемогущество! Исполнение сокровенных желаний! Уничтожать врагов толпами, смеясь над их жалкими потугами. Давить, как муравьев. Топтать боевыми сандалиями. Ведь они безоружны против тебя!
Безоружны?!
Да!
Значит, ты будешь убивать безоружных?!
А что ты делал до сих пор? Сражался? Убивал? Что же изменилось, Карна? Ведь панцирь и серьги были на тебе с самого рождения!
Но ведь ты не знал, не знал!..
В ушах, туманя сознание, стремительно нарастал знакомый комариный звон, и сквозь него стрелами пробились слова, незнакомые, чужие, но от слов этих замерло сердце:
…Мне не суметь Влитые в плоть Латы алмазные снять!..[31]Не суметь… никогда… никогда! Ты с усилием проглотил застрявший в горле ком — и не узнал своего голоса:
— Постой, Громовержец…
Как ты говорил, друг мой Экалавья, отрезавший себе палец, чтобы расплатиться с тем, кого считал Учителем? «Свобода — это возможность выбирать»? Ты был прав. И сейчас я сделаю СВОЙ выбор. Потому что я — упрямый сутин сын.
Потому что я — свободен.
На миг ты увидел собственное отражение в изумленных глазах бога: ослепительное сияние проступившего сквозь кожу доспеха, маленькие солнца раскалившихся докрасна серег в мочках ушей, горящий взор, плотно сжатые губы… И нож в руке. Почти такой же, как был тогда у Экалавьи, свободного сына Золотого Лучника.
— Возьми… червь!
…Боль ты почувствовал не сразу.
* * *
Ты стоял на берегу реки, и ласковые руки-лучи Сурьи осторожно, словно боясь причинить боль, трогали твою новую кожу. Молочно-белую нежную кожу без малейших следов татуировки.
Не хватало еще чего-то. Ты не сразу сообразил, что это просто исчезла привычная тяжесть серег, оттягивавших мочки ушей.
Что ж, придется привыкать жить заново. С новой кожей, с новым именем— прозвищем.
Да, с новым именем.
Потому что когда окровавленный панцирь упал к ногам Громовержца, а серьги звкнули о белое золото пекторали, бог странно посмотрел на тебя, а потом перевел взгляд выше, туда, где взбирался в зенит гневно сверкающий лик Сурьи.
— Взгляни на своего сына, брат! — громыхнул рык Крушителя Твердынь. — Вот кто поистине достоин того прозвища, которое носишь ты. Отныне он — Вайкартана[32]! Перед тем как исчезнуть, Индра низко, до земли поклонился тебе.
Секач? — спросил ты сам себя и счастливо рассмеялся. Жить было легко, ждать боя было легко, и мысли о возможной гибели были легкими, пуховыми, воздушными… Ладно. Секач так Секач. Скоро твои враги узнают и второй смысл этого слова!
Чубарые заржали, и колесница рванулась по краю дороги.
По краю обрыва между прошлым и настоящим. По краю.
До Великой Битвы оставалось меньше месяца.
6 БОГ
…Они встретились на полосе нейтральной земли. Царь Справедливости, даже не взглянув в сторону Карны, важно проехал дальше.
«К Грозному едет. За благословением небось… Боится, родственничек!» — презрительно усмехнулся высланный вперед Карна.
Зато вторая колесница остановилась рядом.
— Что, не ладишь с Гангеей? — прищурился Кришна, лично правивший лошадьми. Ответа он не дождался и продолжил: — Знаю, не ладишь. Не любит он тебя, да и ты его не жалуешь. Союзнички… В последний раз предлагаю: переходи к нам! Я не прошу тебя воевать на нашей стороне, я и сам поклялся быть в этой битве не более чем возницей. Просто будь рядом со мной!
В ответ сутин сын медленно стащил с головы высокий шлем с чешуйчатыми нащечниками.
Кажется, Черный Баламут все еще продолжал что-то говорить, предлагать, уговаривать, но вот он в упор взглянул на улыбающегося Карну.
И осекся на полуслове.
В первое мгновение Кришна не поверил своим глазам. Он смотрел — и не верил, не хотел верить, сопротивлялся всем существом, пауза затягивалась, проклятый сутин сын улыбался…
Наконец Черный Баламут тряхнул головой, словно отгоняя наваждение. К рукам Карны, частично скрытым воронеными наручами, он даже не стал присматриваться — нетрудно было догадаться: доспех постигла участь серег.
— Дурак! — Прекрасное лицо Черного Баламута на миг стало уродливым, чувственный рот отвердел, и лошади заржали от боли: стрекало прошлось по их спинам, а поводья удержали на месте. — Ах, дурак… Оставайся здесь! Сдохни! Ты даже не знаешь, чего лишился, тварь земная!
Сквозь презрение в голосе аватары Опекуна пробивались недоумение и растерянность.
— Знаю, Баламут. Знаю. Видишь, иногда легче самому освежевать себя, чем примерить диадему владыки. А теперь — убирайся! Я не хочу тебя видеть.
— Может, ты еще и проклянешь подлого Баламута?! — Сегодня собственный голос плохо слушался Кришну, и издевка выворачивалась наизнанку, превращаясь в страх. — Ну, давай же: «Если есть у меня духовные заслуги…» Я жду!
— Проклятие — оружие отчаявшихся, Кришна. Нет у меня духовных заслуг, нет и отчаяния. К чему мне проклинать тебя — ты сам себя проклял! Ступай и живи с этим!.. И поверь мне: еще минута, и я без всяких проклятий убью тебя, убью просто и безыскусно, прямо сейчас, на глазах у всех!
Черный Баламут молча хлестнул лошадей поводьями, разворачивая колесницу на месте, — Карна оценил искусность маневра. И все же Кришна не выдержал, обернулс через плечо:
— Но почему?! Почему не мне?! Если ты все равно отдал…
— Ты тоже не ответил мне на один вопрос, Баламут. Теперь мы квиты. Прощай. Поле Куру ждет нас.
По равнине Курукшетры, пожирая пространство, словно время, то ничтожное время, которое еще оставалось до начала Великой Бойни, неслась прочь колесница Черного Баламута. Карна смотрел ей вслед и думал, что Кришна — все-таки бог, хочет он того или нет.
Громовержец тогда тоже не смог понять — почему?
7 ОСУЖДЕНИЕ
Грозный сказал:
— А этот неизменно любимый твой друг, о царь, который всегда подстрекает тебя на битву с добродетельными родичами, этот низкий и подлый хвастун Карна, сын Солнца, твой советник и руководитель, этот близкий приятель твой, надменный и слишком вознесшийся, отнюдь не является ни колесничным, ни великоколесничным бойцом! Бесчувственный, он лишился своего естественного панциря! Всегда сострадательный, он также лишился своих дивных серег! Из-за проклятия Рамы-с-Топором, его наставника в искусстве владения оружием, и слов брахмана, проклявшего его по другому случаю, а также благодаря лишению боевых доспехов своих он считается, по моему мнению, в лучшем случае наполовину бойцом!
Дрона сказал:
— Это именно так, как ты сказал, о могучий! И сказанное никак не может быть ложно. Перед каждым сражением он бахвалится, но когда доходит до дела, его видят отвратившимся от участия в нем. Сострадательный не ко времени и нерадивый в большинстве случаев, Карна из-за этого является, по-моему суждению, только половинкой колесничного бойца!
Услышав эти слова, сын возницы с широко раскрытыми от гнева глазами сказал Грозному, уязвляя его словами точно стрекалом:
— О Дед наш, хотя и невинен я, все же ты из неприязни ко мне терзаешь меня упреками на каждом шагу. И я понимаю ваш замысел с сим белобородым Брахманом-из-Ларца! Один я уничтожил бы силы Пандавов вкупе с вождями, но мужи Совета не желают гибели родичей!.. Да будет так! Грозный назначен в предводители войск, а заслуги всегда приписываются военачальникам, но никоим образом не рядовым воинам. Поэтому я вовсе не стану сражаться, пока здравствует сын Ганги! Но когда Грозный будет повержен, вражеские махаратхи узнают мощь сутиного сына…
Тысячи лет подряд сказители будут повторять друг за другом эти слова, не изменив даже запятую, на память цитируя «Великую Бхарату», и слушатели станут внимать, повторяя про себя:
— Это именно так, как ты сказал, о могучий. И сказанное никак не может быть ложно… не может… ложно…
Слушатели побоятся спросить у многомудрого пандита: почему же книги сказания сказаний, книги повести о победе добродетельных Пандавов над злокозненными врагами называются по именам Кауравских воевод — «Книга о Грозном», «Книга о Дроне», «Книга о Карне»?!
Слушателям будет очень хотеться хоть на миг увидеть все своими глазами.
И встать на Курукшетре плечом к плечу с теми или другими, даже если это будет последнее, что случится в их жизни.
КНИГА ПЕРВАЯ ИНДРА-ГРОМОВЕРЖЕЦ ПО ПРОЗВИЩУ ВЛАДЫКА ТРИДЦАТИ ТРЕХ
Бали сказал:
— Раньше, о Индра, пред моим гневом все трепетало, Нынче же я постиг вечный закон сего мира.
Раз уж меня одолело Время, чтимого владыку гигантов, То кого иного, гремящего и пламенного, оно не одолеет?!
Тебя также, царь богов, Многосильный Индра, Когда придет час, угомонит могучее Время, Вселенную оно поглощает, поэтому будь стойким!
Ни мне, ни тебе, ни бывшим до нас его отвратить не под силу…
Махабхарата, Книга о Спасении, шлоки 26, 40, 56—57Зимний Месяц Магха, 29-й день ДОСПЕХ С ЧУЖОГО ПЛЕЧА
Проникшийся величием сказанного здесь никогда не вкушает скоромного, к супруге приходит только в положенное для зачатия время, соблюдает пост и ест лишь по вечерам! Но и при нарушении законов людских и человеческих лишь одна строка из сего святого писания дарует небо и освобождает ото всех грехов! Вспоминайте же нашу мудрость всегда: во время приема пищи, в час сношения с супругой и в суетный миг ловли барыша — да будет вам благо!..
Глава III ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЬ ГОСПОДА
1
… И сотряслось Безначалье. Небо плакало камнями, созданными из грешных помыслов, покрытые слизью волосы прядями свисали вниз, щекоча язвы Прародины, однокрылый, одноглазый и одноногий перепел, воцарясь в зените вместо солнца, изрыгал дурно пахнущую кровь. Метеоры рвали горизонт в клочья, и кровавые ошметки громоздились погребальным курганом, чтобы вновь и вновь лопаться распоротым чревом, выплевывая наружу требуху Мироздания. Волны Предвечного океана сшибались рогатыми быками, слонами в течке, чьи виски давным-давно лопнули от переполнявшей их мады, брачный танец их походил на блуждание слепых гор, и пламенные стрекала перунов лишь ярили исполинов, заставляя убыстрять пляску «мертвецкого кола».
Костяная ваджра каменела в кулаке, стряхивая брызги молний с каждого зубца, космы накидки плевались зеленоватыми искрами, сошедшими с ума светляками, пеной конца света, — мерцание это заставляло дальний берег биться в истерике, исходя лавинами озноба. Снег шел, чтобы сразу растаять и стечь белесым гноем, ливень закипал на лету: все три мира смешивались в одно безнадежно исковерканное целое, быль становилась небылью, правда — ложью, и даже ярость Крушителя Твердынь не могла быть полностью уверена в том, что она
— именно ярость, именно Крушителя и именно Твердынь.
Эра Мрака заканчивалась, не успев начаться.
Тысячи голов Опоры Вселенной исходили надрывным шипением, костяные гребни их обугливались от ласки молний, и могучие извивы чешуйчатой плоти…
* * *
Так вот, всего этого не было.
Молний, ярости, светопреставления — не было.
Совсем.
Понурясь, я тихо брел себе без смысла и цели по свинцу Прародины, над которым всего три дня назад бился с огненной пастью: шаг, другой, третий, тридцать третий…
Владыка Тридцати Трех шагов.
И все мне казалось: рядом идет высокий воин, упрямый сутин сын, понимавший свободу иначе, чем понимаем ее мы, суры-небожители. Нас ведь амритой не пои — дай сыграть в блестящие камушки, каждый из которых беззвучно кричит:
— Не трогай меня!.. Пусти, сволочь!
Теперь я уже не мог сказать: «Мы смотрим — они живут. Божественные бирюльки — и смертная правда. Молния из земли в небо. Клянусь Судным Днем! — мы похожи не более…» Теперь это было бы ложью. Теперь это «они» упрямо превращалось в «мы», и разорвать нашу связь было гораздо сложнее и болезненнее, чем содрать приросший к коже доспех. Прав был Брихас, когда отсоветовал мне брать панцирь среди прочих даров вспахтанного океана… трижды прав. Панцирь и серьги. Коварные игрушки времен, о которых разве что Брахма в состоянии сказать: «Да, помню…» — и то соврет.
Отданные смертному, они ставят его вровень с небом.
Отданные суру, Локапале, одному из Свастики…
Гроза бушевала не в Безначалье: она бушевала во мне, разрывая сети, опутавшие Миродержца, позволяя идти куда угодно, выдувая из темных закоулков сознания хлам, копившийся там веками, срывая пыльную кисею паутины… Сквозняки гуляли из угла в угол, затхлый воздух становился пронзительно свежим, пахло грозой, пахло истиной, способной вспороть рассудок, словно рыбье чрево, вывалив скользкие потроха на всеобщее обозрение, и чужак шел рядом, молчаливо соглашаясь:
— Да, наверное, ты знал это и раньше…
Увы, Секач, ты мог быть свободным, не прибегая к отцовскому дару. Я так не могу. Мне тоже нужны были серьги, как Черному Баламуту, мне тоже нужно было со звоном рвануть внутренние цепи, чтобы наконец понять давнюю фразу Бали— Праведника, князя дайтьев и асуров:
Многие тысячи Индр до тебя были, Могучий, Многие тысячи Исполненных мощи после тебя пребудут.
И не твое это дело, Владыка, и не я тому виновник, Что Индре нынешнему его счастье незыблемым мнится…
Теперь я понимал.
Многие тысячи — до, многие — после, и понадобилось босиком выйти на раскаленный рубеж эпох, испытать бессилие, любить время, шаг за шагом пройти три тернистые дороги, три человеческие жизни, понадобилось научиться моргать, думать, не спешить, пришлось разбить лоб о нарыв Курукшетры, примерить доспех— кожу и вырванные с мясом серьги, чтобы наконец вздохнуть полной грудью и сказать самому себе, себе и бешеному чужаку, что третий день шел со мной рука об руку:
«Да. Теперь — да».
2
Таинственны мудрости древней скрижали, Сколь счастливы те, что ее избежали. * * * Бессмертна от века душа человека — Но гибнет от старости тело-калека, Страдая от хворей, напастями мучась. Увы, такова неизбежная участь Души, что, меняя тела, как одежды, Идет по Пути от надежды к надежде, От смерти к рожденью, от смеха к рыданью, От неба к геенне, от счастья к страданью. Дорога, дорога, дорога, дорога, Извечный удел человека — не бога. Ведь те, кто вкусили амриту благую, Телами со смертью уже не торгуют, Для плоти их тлена не сыщешь вовеки — Завидуйте им, муравьи-человеки! У тела бессмертного участь другая: Оно не потеет, не спит, не моргает, Не ведает боли, не знает старенья, Достойно назваться вершиной творенья, Вовек незнакомо с чумой и паршою — Но суры за то заплатили душою, И души богов, оказавшись за гранью, Подвержены старости и умиранью. Дряхлеет с веками, стара и убога Душа всемогущего, вечного бога — Становится пылью, становится прахом, Объята пред гибелью искренним страхом. Сухою листвой, что с деревьев опала, Осыплется наземь душа Локапалы, Сегодня умрет, что вчера шелестело, — И станет бездушным бессмертное тело. О скорбь и страданье, о вечная мука! — Коль в суре поселится серая скука, Наскучат утехи, любовь и сраженья, Наскучит покой и наскучит движенье, Не вспыхнут глаза грозовою зарницей, И мертвой душе станет тело гробницей! О горы, ответьте, о ветры, скажите: Куда подевался иной небожитель? Ни вскрика, ни стона, ни слова, ни звука — Лишь скука, лишь скука, лишь серая скука… Но изредка ветра порыв одичалый Доносит дыханье конца Безначалья: «Мы жили веками, мы были богами, Теперь мы застыли у вас под ногами. Мы были из бронзы, из меди, из стали — О нет, не мертвы мы… мы просто устали. Ужель не пора нам могучим бураном Приникнуть, как прежде, к притонам и храмам, И к вспененным ранам, и к гибнущим странам, И к тупо идущим на бойню баранам?! Мы жили веками, мы были богами — Но нету воды меж двумя берегами». * * * О знание темное Века Златого! — Воистину зрячий несчастней слепого… * * * Менялась основа, менялося имя, Один на престоле сменился двоими, Менялись владыки, как служки во храме, — И Свастики знак воссиял над мирами. Их было четыре, а стало их восемь — Чьим душам грозила холодная осень, Кто плечи подставил под тяжесть святыни, Не ведая, чем он поддержан отныне. Назначено так на рассвете творенья: Есть тапас и теджас, есть Жар и Горенье, Есть дар аскетизма и пламенность сердца — Последним поддержана суть Миродержца. Когда подступает душевная мука, Когда в Локапале поселится скука, То смертный, чей дух воспарял, пламенея, Чье сердце удара перуна сильнее, Навеки покинув земную дорогу, Отдаст свою душу уставшему богу — Чтоб пламенность эта, чтоб это Горенье Мешало души Миродержца старенью, Чтоб честь не линяла, чтоб совесть не слепла, Чтоб феникс отваги поднялся из пепла, Чтоб щедрость дарила, чтоб радость явилась… Чужое Горенье своим становилось! Вот так Миродержец с судьбою большою Лечил свою душу чужою душою, И крепла опять сердцевина больная — Не зная, не зная, не зная, не зная…3
…Они брели мне навстречу, по колено проваливаясь в свинец.
Чубатый гигант в одеяниях цвета запекшейся крови приблизился первым.
— Здравствуй, Секач, — сказал Яма, Адский Князь, Локапала Юга.
— Здравствуй, Грозный, — ответил я, не отводя взгляда.
И мы оба повернулись к Миродержцу Запада, Варуне-Водовороту, в чьих зеленых кудрях пеной блестела обильная седина.
Повернулись, чтобы как подобает приветствовать Брахмана-из-Ларца.
Я не стал спрашивать, что им известно и откуда. К чему?! — если из-за спины Варуны с показной робостью выглядывала голубоглазая богинька, придерживая на плече неизменный кувшин.
Капли тяжко шлепались на гладь Прародины и сразу тонули, уходя в пучину.
Да, наверное, если бы позавчера я начал прямо с жизни Карны, чья смерть являлась мне в пекторали панциря…
— Шлендра ты, — ласково бросил я Времени. — Маха-шлендра. Одно на уме?!
— Я такая, — подбоченилась Кала, умудрившись не уронить при этом свой кувшин. — Прости, Владыка: мы тебя ждали-ждали… Нездоровилось, да? А мы потом к тебе в Обитель… ой, а там Словоблуд, там Опекун, Десятиглавец… Пришлось чуть ли не силой им языки развязывать!..
И осеклась.
— Они явились ко мне в шатер, — бесцветно прогудел Яма, терзая чуб, побелевший за сегодняшний день. — Ночью, в часы перемирия. Все пятеро Пандавов во главе с Черным Баламутом. Воззвали к обету Гангеи не отказывать просящему и задали вопрос: каким образом можно убить меня? Я ответил. Назавтра Арджуна расстрелял меня, закрывшись Хохлачом, — я не мог поднять руку на того, кто родился женщиной, — и вынудил избрать день и час моей смерти. К чему мне было жить после этого?!
— Они убили слона, назвав его именем моего сына, — уронил маленький Варуна, глядя вдаль. — «Жеребец пал! — сказали они, следуя совету Черного Баламута. — Почему ты еще сражаешься, бесстыжий брахман?!» Я не поверил. Но они настаивали, а сына не было видно поблизости. Тогда я спросил Царя Справедливости: правда ли это? Он никогда не врал… раньше. После его ответа мне все стало безразлично. Я отвратился от битвы и сел безоружный на землю. Да, мне отрубили голову, как жертвенному барану! — но к чему мне было жить после этого?!
— Мне подсадили возницу-предателя, — сказал я, чувствуя, как знакомая ненависть заставляет кулаки сжаться. — Во время боя он загнал колесницу в трясину, и Арджуна метнул в меня, лишенного возможности маневрировать, «Прошение Овна», запрещенное в поединках смертных. Правда, надо отдать ему должное, он выждал некоторое время. Еще бы! — понимая, что сутин сын мигом раскусит предательскую уловку, он любезно позволил мне своими руками убить изменника. Отличный способ заткнуть болтливый рот!.. Я обманул Арджуну. Я оставил возницу в живых — и правильно сделал. Говорят, царь Шалья после моей смерти еще полтора дня удерживал позиции…
Я замолчал.
Трое Локапал стояли и смотрели друг на друга.
Моргая.
— Ну и чем мы лучше Черного Баламута? — тихо спросил я. — Чем мы лучше упыря-пишача из лесов Пхалаки?! Чем?!
— Тем, что не знали, — ответил зеленоволосый Варуна, и Адский Князь кивнул, соглашаясь. — Мы не знали. Мы не готовились заранее… А впрочем, ты прав. Чем мы лучше?
Со стороны берега донесся грохот.
Секундой позже стая «Южных Агнцев» подняла столбы воды вокруг нас.
Когда я разглядел, кто стоит у самой кромки берега, я мысленно согласился с его поступком: лучшего способа докричаться до нас не было.
Волны покорными псами лизали босые ноги старика, изредка стараясь подпрыгнуть и дотянуться до пушистого кончика косы, адская бездна Тапана текла смолой в узких глазницах, и беззвучно мычал с секирного лезвия белый бык.
— Мальчики… — шептали сухие губы. — Мальчики мои…
Трое Локапал, склонив головы и сложив ладони у лба, стояли перед Рамой-с-Топором.
Трое учеников — перед Учителем.
Наконец аскет успокоился и в свою очередь поклонился нам.
— Я счастлив приветствовать Миродержцев Востока, Юга и Запада. Прошу простить мне столь бесцеремонное вторжение…
Легкая улыбка осветила костистое лицо аскета, и мы улыбнулись в ответ.
— …но у Шивы-Разрушителя не оказалось под рукой лучшего посланца, чем я, многогрешный.
— Посланца? — разом выдохнули три глотки, и тихо ахнула за спиной Кала— Время. — Под рукой?!
— Увы, это так. Просто Синешеий просил передать вам: минуту назад бешеный сын Дроны напал на спящий лагерь победителей. Шива полагал, это будет интересно узнать всей Свастике.
И я раскинул руки крестом, отдаваясь Жару Трехмирья.
Чтобы в самом скором времени оставить Безначалье.
4
…Багровое пламя цвета одежд Владыки Преисподней полыхнуло нам в лицо, но стоявшие рядом со мной Яма и Агни были здесь ни при чем.
Это был Второй мир.
Это была Курукшетра.
Это яростный Жеребец, сын Наставника Дроны, обрушивал на спящих врагов ненасытное пламя своей мести.
Мы стояли и смотрели.
Простой смертный, пусть даже и сын сура, мало что сумел бы разглядеть в том безумном аду, что разверзся прямо перед нами, когда мы, вся Свастика в полном составе, вместе с Временем и престарелым аскетом возникли в сотне шагов от лагеря победителей. И сейчас Я-Карна был рад, что Я-Индра в силах видеть все. До мельчайших подробностей. До боли в висках, до скрежета зубовного.
Мы не пытались ринуться в схватку: наш черед еще настанет.
Мы стояли и смотрели.
Смотрели, как сын Дроны проклинает сам себя, как он вершит свой суд по новому Закону, Закону Пользы, провозглашенному Черным Баламутом.
Огненный смерч кольцом охватил лагерь, испуская надрывный рев, не давая никому вырваться из ловушки: вот обезумевший от ужаса полуголый мужчина сломя голову кинулся прямо в огонь, прикрыв лицо руками. Наверное, он надеялся прорваться — и через мгновение он действительно выпал наружу… дымящаяся черная головня.
Пламя не выпускало живых.
Только мертвых.
А по бокам единственного прохода, остававшегося в стене рукотворного пекла, стояли двое: Критаварман, царь бходжей, и наставник Крипа. Парные мечи брахмана и шестопер кшатрия работали без устали, и те счастливчики, кто уже, казалось, сумел вырваться из Преисподней, обретали покой прямо здесь, груда изрубленных тел у выхода из лагеря стремительно росла.
Внутри же безраздельно царил демон по имени Жеребец. О, сын Дроны умел убивать! Он не разменивался на мелочи: тому, кто уже однажды посмел выпустить на свободу «Беспутство Народа», терять было нечего! Губы его выплевывали мантру за мантрой, и проливался с неба дождь из зазубренных чакр, тучи возникавших из ниоткуда стрел косили выбегающих из шатров воинов, и яростными углями горели в дымном зареве глаза Брахмана-из-Ларца во втором колене.
Но для избранных Жеребец жалел небесного оружия.
Нырнув в один из шатров, он за волосы выволок наружу Сполоха, вымоленнре дитя Панчалийца, — именно Сполох предательски отсек голову Наставнику Дроне, когда обманутый старик отвратился от битвы.
Безжалостные удары ног обрушились на тело, скорчившееся у откинутого полога, хрустнули ребра, изо рта Сполоха брызнула кровь. На мгновение он нашел в себе силы приподняться:
— Дай мне встать и сражайся, как подобает кшатрию! Лицом к лицу!
Черные сгустки слов упали впустую: Жеребец лишь презрительно расхохотался смехом безумца.
— Я не кшатрий. И, наверное, я уже не брахман. Разве ты встал лицом к лицу с моим отцом, когда хватал его за седые волосы?! когда отсекал ему голову?! когда поднимал ее для всеобщего обозрения?! Даже безоружному, ты побоялся взглянуть ему в глаза! И ты еще смеешь требовать благородной смерти?!
Под пятой боевой сандалии треснули пальцы, удар под ложечку заставил тело избиваемого выгнуться рыбой, которую живьем швырнули на сковородку, сухой веткой переломилась правая рука Сполоха, когда он попытался закрыть лицо: теперь из-под разорванной кожи клыком оскалился белый обломок кости, и кровь обильно текла по предплечью.
— Тогда хотя бы прикончи меня оружием, как воина!
— Ты не воин! Ты — мерзкая собака, и это сравнение — оскорбление для всей песьей породы! Нет, падаль, ты достоин одного: чтоб тебя забили ногами!
Вскоре в кровавой пыли у ног Жеребца копошилась груда лохмотьев, ничем не напоминавшая более человека, а мститель все продолжал в остервенении наносить удары.
К нему бросились трое опомнившихся воинов, успев разыскать свои топоры, но Жеребец даже не взглянул на них. Продолжая измываться над жертвой, он завыл зимним волком, завыл почти членораздельно — и ответный вой огласил окрестности.
Заклятие Тварей!
Миг — и горящий лагерь наводнили сонмища косматых тел, бежавших к Жеребцу воинов разодрали в клочья и пожрали, вырывая из лап соперника кровавые ошметки. Клыкастые пишачи-трупоеды, ракшасы с вытаращенными буркалами, скользкие бхуты с когтями-крючьями, способными в момент располосовать слоновью шкуру, — обезумевшая от запаха свежей крови и обуянная жаждой убийства нежить обрушилась на лагерь недавних победителей.
А чуть поодаль, по другую сторону огненной стены, возник знакомый светящийся треугольник.
«Мертвая» бирюза, неистовая зелень глаз без зрачков.
Явившийся лично Синешеий Шива, Владыка Тварей, наблюдал за тем, как резвится его свита, призванная заклятием Жеребца.
— Откуда?! — Дыхание сбилось, и мысль оборвалась, так и не успев стать до конца высказанной, но стоявший рядом Рама-с-Топором ответил мне:
— Жеребец воззвал к Шиве еще вечером, когда наткнулся на умирающего Бойца с раздробленными бедрами. Как ни странно, Разрушитель явился сей же час и благословил сына Дроны на ночной налет. А меня за вами отправил…
Я молча кивнул.
Говорить не хотелось. Вот это уже настоящий конец света: когда люди и демоны с благословения богов убивают спящих!
Вот он — новый мир, рождающийся из агонии старого!
Смотри, Громовержец!
Смотри, Секач!
Кто здесь люди, кто боги и кто демоны?! — здесь, где стерты различия, попран Закон, воспета Польза, а из всей Любви осталась лишь любовь к убийству!
Мы стояли и смотрели.
…Одним взмахом меча Жеребец вспорол чрево Хохлачу — второму «Ребенку-на-Погибель», дочери-сыну мстительного Панчалийца, — и человек, чудом сменивший врожденное естество, живой щит против Гангеи Грозного, рухнул под ноги убийце, судорожно пытаясь собрать ворох дымящейся требухи.
Словно хотел удержать улетающую душу царевны Амбы, отомстившей-таки в следующем рождении своему обидчику.
За все надо платить, царевна!
А за месть — вдвойне.
Да, вдвойне! — и падали один за другим юные сыновья братьев-Пандавов, сраженные безжалостным Жеребцом.
Резня продолжалась.
Оборвав привязь, кони и слоны топтали людей, земля превратилась в кровавую кашу, в которой натужно чавкали ноги и копыта людей, нелюдей и животных, ослепнув от бьющего со всех сторон смрадного пламени, оглохнув от стонов и криков, трубного рева слонов и конского ржания, воины поражали друг друга, и как нож сквозь масло, как плуг, взрывающий рыхлую землю, неотвратимо и целеустремленно шел через этот ад Рама-Здоровяк по прозвищу Сохач. Его смертоносная соха, сверкая в багровых отблесках, мерно вздымалась и опускалась, унося очередную жизнь. И первая борозда мира нового тянулась через умирающую в корчах реальность мира старого — борозда, которую прокладывал тот, кто отвратился от Битвы, чтобы сейчас принять участие в Бойне.
— Тезка никогда не любил убивать. Но сегодня… сегодня он вызвался сам, — словно издалека донесся до меня голос Палача Кшатры.
…По лагерю бродили порождения ночи, обгладывая раненых, даже не удосужась предварительно добить несчастных. Гора трупов окончательно завалила вход, и страшные привратники устало вытирали оружие об одежду тех убитых, на ком она была: их работа закончилась. Сорвавший голос Жеребец прекратил швыряться мантрами и взялся за нож, облегчая задачу пишачам и ракшасам.
Отчаянно зашумели, как от внезапного порыва бури, ветви деревьев над нашими головами. Послышался треск, неподалеку на прогалину приземлился Лучший из пернатых с Опекуном Мира на спине — и почти сразу вокруг начали возникать остальные: видно, наскучило им ждать в Обители.
А рядом со светящимся треугольником встала Тысячерукая Кали, прекрасный ужас нашего рода.
— Эх, жаль, опоздали! — разочарованно пророкотал у меня над ухом знакомый бас, без сомнения, принадлежавший Десятиглавцу.
— На подходе Брахма, — шепнул мне верный Словоблуд, и я только кивнул в ответ. Значит, так надо. Где Свастика, там и Троица. Как же без Брахмы…
Словоблуд хотел добавить что-то еще, но не успел: из чащи полыхнул ослепительный фейерверк. Сперва я решил, что старенький Брахма избрал такой необычный способ явления, но вскоре понял, что Созидатель здесь совершенно ни при чем.
Он-то как раз явился тихо, я едва не проморгал его прибытие в этот балаган, отнюдь не усыпанный лепестками киншуки.
Сноп искр, похожих на жала острог, рванулся к Жеребцу, как раз дорезавшему очередную жертву. Сын Дроны прохрипел два слова: мерцающее покрывало окутало его, и острия жадно впились в призрачную вуаль, угаснув вместе с ней.
— Умри, осквернитель!
Три колесницы вихрем влетали на территорию разгромленного лагеря: вся пятерка братьев-Пандавов в сопровождении Черного Баламута, — заночевав у реки, они были разбужены грохотом и еле успели примчаться на помощь.
Чтобы сразу понять: помощь не требуется.
Сегодня настала ночь мести — единственное, что было в цене.
Пандавы не видели нас: взоры, кипящие лавой праведного гнева, стрелами жалили сына Дроны, осмелившегося воевать с победителями их же оружием.
Мог ли Жеребец, встав на дыбы, выстоять против них всех? не мог?
Какая разница?!
Вот и пришел наш черед.
Старший из Пандавов слегка придержал среднего, рвущегося вперед быком на красную тряпку: понимал, умница, что сначала должен ударить Арджуна, боец из бойцов, — и лишь потом…
Он всегда все правильно понимал и при этом всегда ошибался!
Мой сын — мой враг еще только накладывал стрелу на тетиву своего лука Гандивы, готовясь превратить ее в подобие перуна, а я уже был рядом с Жеребцом.
— Ну что, Витязь, забывший о чести кшатрия и ставший слугой собственного суты, ты еще помнишь о своем обете?
Ответ Арджуны был мгновенным, но удар настоящего перуна все же опередил его стрелу, брызгами расплескав ее вместе с жизнью былого Витязя.
Мой сын — мой враг умер, как подобает воину.
Хорошо есть, и хорошо весьма: пусть лучше он и его братья погибнут сейчас в бою, чем останутся жить любовниками-бхактами, марионетками Черного Баламута.
Самые жестокие хозяева — это бывшие рабы.
Так, Опекун?
Так, Кришна?
— Тебя называли Царем Справедливости, — неспешно проговорил Адский Князь, в упор глядя на оцепеневшего Юдхиштхиру. — Я зовусь так же. В этом мире осталось слишком мало справедливости для нас обоих.
И безжалостная удавка Петлерукого Ямы захлестнула горло старшего из Пандавов.
Отец душил сына, и из отцовских глаз на хрипящую жертву внимательно смотрел Гангея Грозный по прозвищу Дед.
— Мальчики, я люблю вас. Поверьте, так будет лучше. — Тенета Варуны обвалом рухнули на близнецов, в страхе прижавшихся друг к другу, сплющивая, сдавливая их тела, превращая двоих в одного, а одного — в мясной ком, агонию последних судорог.
«Закон… Закон соблюден, а Польза несомненна!» — шептали губы убийцы, и взгляд его из черного становился серым.
— Я обещал отдать твой труп шакалам. — Рама-Здоровяк надвигался на Бхиму-Страшного, подобный сошедшей со своего места горе. — Здесь нет шакалов. Впрочем, думаю, пишачи с успехом их заменят.
Бхима взмахнул палицей, пытаясь защититься от удара боевой сохи, — и тусклое от крови лезвие отсекло его руку вместе с зажатым в ней оружием.
Следующий удар размозжил Бхиме голову.
Все было кончено.
Мы стояли и смотрели.
Смотрели на темнокожую, по-юношески гибкую фигуру пятидесятилетнего Кришны, который остался теперь один.
Впрочем, он так и прожил всю свою жизнь — один.
Мятежную аватару Опекуна было бы непросто различить во мраке — если бы не легкое свечение, окружавшее его призрачным ореолом, светляки добровольно отданных душ, мерцание тапаса, накопленного великим скрягой.
Лишь трое из погибших на Поле Куру сумели пробить броню этого жуткого кокона.
Трое нынешних Локапал.
Черный Баламут улыбался.
Мы сами только что сделали еще один шаг навстречу новому миру — миру Господа Кришны.
5
— Один против всех? — задумчиво осведомился Черный Баламут, стоя между трупами. — Что ж, не я первый, не я последний… Замечу лишь, что задумывал финал несколько иначе, но, судя по вашим лицам, выбирать не приходится. Итак, друзья мои!
Флейта сама выпорхнула из его рукава. Смуглые руки вознесли певучий бамбук высоко над головой — и с размаху сломали об колено.
— Полагаю, эта безделушка мне больше не понадобится. С Любовью покончено… в некотором смысле. Ну-ну, друзья мои, не хмурьте брови, не тратьте желчь понапрасну: мы ведь с вами люди разных времен! Вернее, мы с вами боги разных эпох: вы из Эры Закона, а я, как легко догадаться, из Эры Пользы, которую вы по недомыслию зовете Эрой Мрака. Вы повинуетесь, а я выбираю, вы следуете, я же ищу верный путь! Вот и сейчас: я смеюсь над вами со всеми вашими тенетами, ваджрами и трезубцами, я смеюсь, а вы скрежещете зубами и ничего не можете сделать Черному Баламуту! Ничегошеньки! Ибо Закон берет вас за шкирку, словно напроказивших кутят, и властно говорит вам: накопленный Жар может и должен быть обменен на соответствующий дар. А о способах накопления Жара ваш Закон помалкивает, соглашаясь с возможностью добровольного дарения… Это хорошо есть, друзья мои, и хорошо весьма!
Мы слушали его: Троица и Свастика, суры, люди, ракшасы, участники вселенского фарса — и позади всех стоял смешной карла в шутовской ермолке, освободившийся после разрушения смертной темницы Дьяус-Небо.
А вокруг молчало Поле Куру, кровавая пашня, возведенные войной подмостки.
— Итак, милые, чего же я хочу? Чего хочу за то, что был аватарой этого щенка, возомнившего о себе невесть что? Чего желаю за Опеку и хлыст, бич и стрекало?! Чего жажду взамен утерянного величия, которое было не моим, чем утешу себя, отдав вам Жар миллионов своих любовников, не смевших разлюбить Баламута даже в дерьме этой Великой Бойни?! Чего попросит у замечательного дедушки Брахмы сей мерзавец Кришна, злой гений, созданный для унижения собственых создателей?! Аскет без аскезы, святой без святости, ничтожество-Абсолют, обильный подвигами, коих не совершал?!
Тишина.
Гулкая, набатная тишина, от которой хотелось оглохнуть.
Он был прав: мы из Эры Закона.
Мы вынуждены слушать и следовать.
Черное лицо Баламута превратилось в каменную маску, в бастион с узкими бойницами, откуда насмешливо скалилась неизбежность, слова срывались с чувственных губ гранитными глыбами, возводя мавзолей прошлому и постамент грядущему:
— Да восстанут из мертвых братья-Пандавы! Да воздвигнется на земле собранная ими Великая Бхарата! И да вознесется над Трехмирьем верховный бхаг… нет, Бхагаван Кришна, низведя вас всех до уровня полубогов! Отныне его станут считать рукой, а Опекуна Мира — перчаткой, и толпы склонятся перед Бхагаваном, Творцом невиданного доселе миропорядка, воскликнув единодушно: «Харе Кришна!» Ты слышишь меня, Брахма-Созидатель, меняла этого рынка, который высокопарно именуют Вселенной? Ты слышишь меня, требующего соблюдения старых правил на заре нового бытия?! Да будет так!
Тишина.
Лишь вертятся в бешеной пляске хороводы теней вокруг Черного Баламута: сгустки Жара, крупицы тапаса, несокрушимый панцирь, неразменная монета… Плотный переливающийся кокон окружал гибкого красавца, кокон-броня, где не таилось ни боли, ни страха — только любовь. Любовь, которая заставляла бойцов обеих сторон избегать в сражении Господа Кришну, беречь как зеницу ока, отводить в сторону удар, прощать обман, внимать Песне… высшая любовь. Сотни, тысячи, миллионы безжалостно спрессованных душ, душ бхактов-любовников, нитей в черном покрывале, крупиц топлива, сгоревшего на Курукшетре! Не зря пустовали райские миры и Преисподняя, не зря пошатнулись основы основ, не зря возмутились воды Прародины…
Нет, не зря.
Польза была несомненна.
Мы все смотрели на Четырехликого Брахму.
А я еще успел подумать, что Эра Пользы все-таки не наступила окончательно. Иначе любой из нас мог бы попросту рассмеяться в лицо Баламуту, плюнуть ему под ноги и поступить в соответствии с собственной пользой… во вред Кришне. Выполнять его сумасшедшие требования?! Следовать Закону?! О чем вы, уважаемые?! Две эпохи стояли друг напротив друга, две эпохи застыли в ожидании: одна — чтобы выполнить и уйти, другая — чтобы получить и остаться.
Иначе не могли.
Не умели.
Мне было искренне жаль и ту и другую.
…Индре раньше не доводилось видеть Брахму-Созидателя в образе «Великого Патриарха» — я никогда ничего не просил, а обряд Дарования обычно происходил без посторонних. Думаю, Черному Баламуту это тоже было в новинку. Он вздрогнул и попятился, видимо вспомнив, что одним из прозвищ Брахмы было Дед.
Как и у Грозного, вернее, у Грозного, как у Брахмы.
Нимб воссиял над четырехликим божеством, зажегся в ночи маленьким солнцем, дикой, невозможной белизной сверкнули одеяния, а кожа налилась киноварью, словно обагрившись свежей кровью. Стая диких гусей тоскливо закричала над нами, раздирая мрак небес, четыре стороны света сотряслись в предвкушении, и листья на деревьях зазвенели маленькими гонгами. Правая верхняя рука Брахмы вознесла над нашими головами сосуд для священного масла, разбрызгивая вокруг густую жидкость, пальцы левой верхней перебрали бусины четок, знака высшего аспекта Созидателя, нижние же руки выражали дарование милости и уничтожение врагов — удивительно, но эти противоречащие друг другу символы сейчас показались мне предельно естественными!
Пауза.
Ожидание.
Смерть семени и жизнь ростка.
Наконец многочисленные губы Четырехликого разлепились для ответа.
— Недостаточно заслуг, — ясно прозвучало в тишине. — Проси меньшего.
Полагаю, Черный Баламут в этот миг проклял себя за расходование накопленного Жара во время битвы: одно «Беспутство Народа» должно было стоить ему изрядной толики тапаса… Да и забавляться в Безначалье, являясь троим Локапалам в облике огненной пасти, пробовать силы, закутавшись в плащ-невидимку, сотканный из миллионов разных личностей, — мальчишество! безумство! поступок тщеславного глупца!
— Проси меньшего, — повторил Брахма, и четки быстрей заструились меж его тонкими пальцами. — Я жду.
И тут, растолкав всех, вперед выбежал малыш Вишну. Глаза его горели двумя безумными звездами, волосы растрепались, обнаженный торс взмок от пота — странно, но сейчас он был как никогда похож на собственную аватару! Словно собака в поисках хозяина, малыш заметался на открытом пространстве, надсадно хрипя и пытаясь вытолкнуть из глотки невидимый кляп.
— Дайте! Дайте ему… умоляю!
Ничего не понимая, мы следили за Опекуном Мира.
Сошел с ума?
Не вынес разрыва со своим же воплощением?!
— Дайте!..
Наконец он остановился перед Черным Баламутом, дрожа всем телом.
— Я… я тебя породил… — прозвучали странные слова, заставив нас передернуться от озноба, — я тебя и люблю! Тебе не хватает? Не хватает, да?! Хорошо! Я, Вишну-Даритель, Опекун Мира, при свидетелях отдаю собственный Жар этому существу, требующему звания Бхагавана! Весь тапас, накопленный благодаря ему же, сумевшему разорвать пуповину, весь плод моих страданий, милостыню мук — отдаю! Да будет так!
Мерцающий плащ-кокон вокруг Баламута просиял звездным небосводом и погас.
— Недостаточно, — отрезал Брахма, играя четками. — Проси меньшего.
Упав на колени, малыш Вишну смотрел на нас мокрыми от слез глазами.
— Дайте! Пусть сбудется!
Что-то он понимал, мой младший брат, мой беспокойный Упендра, строитель Великой Бхараты… что-то он понимал, чего не понимал никто, и предложенное им было горячечным бредом, согласиться с которым можно лишь на краю пропасти — а где сейчас стояли мы?!
Опомнись, малыш!
Опомнись, Индра!
Секач, не делай этого!..
…Властная рука отстранила меня. Тяжко ступая, вперед прошествовал тощий оборванец, подпоясанный коброй. Гирлянда черепов болталась у него на шее, издавая костяной стук, а котомка хлопала по спине, при каждом ударе выплевывая горсть пепла. Сегодня Шива-Разрушитель не пожелал принимать ни один из целого собрания своих устрашающих образов, ограничась тем, что мы видели.
Баламут отступил на шаг, когда Шива остановился перед ним.
— Я внял просьбе Опекуна Мира, светоча Троицы, — тихо произнес Разрушитель, и малыш заскулил у его босых ног. — Я отдаю Черному Баламуту треть собственного Жара, отдаю при свидетелях, и сказанное мной не может быть ложно. Да будет так!
На миг меня ослепил блеск трезубца, невесть откуда взявшегося в руке Шивы, и почти сразу страшным огнем полыхнул в ответ кокон Баламута… занялся Пралаей, пожаром светопреставления, вынудив реальность дрогнуть зыбкой пеленой, — и угас.
— Недостаточно, — донеслось от Брахмы, стоявшего в ожидании. — Проси меньшего.
И тогда я, Стогневный, Стосильный и Стоглупый, шагнул вперед, встав рядом с Шивой и малышом.
«Назад! — истошно вопило все мое существо. — Назад, дурак! Ты не понимаешь, что делаешь!»
Да.
Не понимаю.
И, наверное, уже никогда не пойму.
Но внутренний сута гонит упряжку по краю пропасти, заставляя коней исходить пеной, камни летят из-под копыт и колес, а значит, прошло время раздумий, как прошло и время молний.
Дыхание наполнилось грозой, руки сами раскинулись крестом, и впервые возглас «Хорошо есть, и хорошо весьма!» прозвучал легко и естественно, словно признав за мной право на себя.
— Я, Индра, Локапала Востока и Владыка Тридцати Трех, внял мольбе Опекуна Мира! И именем Свастики Локапал добровольно отдаю Черному Баламуту десятину Жара Трехмирья, чтобы сбылось несбыточное и явилось требуемое… Да будет так!
Не произошло ничего.
Не вспыхнул кокон, не ударил гром, трезубцы не заблистали в ночном мраке, и мертвые не восстали ото сна. Разве что малыш поднялся с колен, и Четырехликий Брахма мягко отодвинул меня в сторону, приблизясь к Разрушителю и Опекуну.
Троица стояла перед Черным Баламутом.
Все было взвешено, сосчитано и измерено.
— Куда идешь? — спросил Шива, отчетливо произнеся ритуальную формулу встречи почетного гостя.
— Куда идешь? — срывающимся голосом повторил малыш, и правая рука Разрушителя легла ему на плечо.
— Иди куда хочешь! — подвел итог Брахма, и ритуальная формула прощания с почетным гостем вдруг прозвучала непривычно: задумчиво и чуточку грустно.
— Иди куда хочешь!
И Золотое Яйцо раскололось пополам.
ЭПИЛОГ
…Стенанья роз колеблют небосвод, Грустит вода, погрязшая в овраге, Змея течет из-под гнилой коряги, И холм творит немое волшебство. Пора слагать таинственные раги О том, что было живо и мертво, Трусливо и исполнено отваги, Вставало твердью из предвечной влаги, Считалось всем, взойдя из ничего, Пора уйти в глубины естества И научиться складывать слова, Как складывали их былые маги. Граница меж мирами — лист бумаги, Последняя строка всегда права, Вот двор, трава, и на траве дрова, И не болит с похмелья голова, Дурман осенних туч пьянее браги, Засиженное мухами окно Откроется меж буднями и сном, И ты не вспомнишь: порванные флаги, Огонь, тела… и черное пятно Над нами. Над тобой и надо мной.[33]Воспевайте святое имя! воспевайте святое имя! воспевайте святое имя! В Эру Мрака нет иного пути к духовному осознанию! нет иного пути! нет иного пути!
Торжественный въезд в Хастинапур прошел в угрюмом молчании. Редкие тюрбаны взлетали в воздух, цветочный ковер быстро увядал под копытами и колесами, превращаясь в дурно пахнущую грязь, горожане прятали глаза, и опустевший дворец напоминал заброшенное кладбище.
Из миллионов ушедших на Поле Куру вернулись семеро: братья-Пандавы, Черный Баламут и его родич, небезызвестный Правдолюб.
А по пятам триумфаторов адскими выкормышами неслись проклятия вдов и сирот. Также отравляла праздник выходка престарелого Слепца: раджа встретил племянников на ступенях и возжелал первым из всех обнять непременно Бхиму, убийцу своих сыновей. Хвала прозорливости Кришны! — Баламут толкнул в объятия старика ближайшего стражника в железном доспехе, и вскоре на земле валялся труп в покореженной броне.
Слепца официально объявили невменяемым от горя, сослав вместе с женой на поселение в лесную обитель. К общему сожалению, за сосланными последовали Видура-Законник и царица Кунти — брат незрячего раджи и мать троих из пятерки Панданов. Переубедить не удалось «И не пытались…» — роптали злые языки. Ложь! — пытались, искренне пытались, но все оказалось тщетно. Старики упрямее ослов Впрочем, жизнь мало-помалу брала свое. Имущество павших было поделено наследниками, отгремели тризны, стих плач, а женщины рожали почти исключительно мальчиков, не стесняясь ради замужества пренебрегать варной и родом супруга — особо выбирать-то не приходилось! И на семейном совете в Городе Слона было решено начать «Конское Приношение» — давнее «Рождение Господина» публично признали сорванным из-за козней и зависти, а значит, на самом деле состоявшимся.
О чем повсеместно кричали глашатаи. Надев венец Махараджи, старший из Пандавов лично вывел из ворот столицы черного коня с белой звездочкой во лбу, вывел и хлестнул нагайкой по крупу.
Следом двинулось наспех собранное войско во главе с Серебряным Арджуной.
Вести, вскоре затопившие Хастинапур весенним половодьем, радовали и огорчали одновременно. Да, мощь оружия заставила окрестные уделы вслух признать владычество Города Слона, но наследники погибших на Курукшетре царей оказались заносчивей, чем родители, и головы склоняли только под нажимом силы. Да, Арджуна покорил воинственных тригартов, но был опасно задет стрелой и уронил свой знаменитый лук Гандиву на землю. Да, пало на колени Пятиречье, но сперва гордые синдхи дали захватчикам бой, зубами цепляясь за каждую пядь родной земли, и когда Серебряный рискнул прибегнуть к небесному оружию… Первые же слова мантры вызова ввергли его в столбняк, и вместо явления огненных стрел пришлось пережидать слабость, прячась за спинами щитоносцев. А в Кошале витязь вообще был смертельно ранен, волосок его жизни грозил лопнуть в любую минуту, и лишь чародейство тамошних ятудханов сумело вернуть героя к жизни — чтобы «Конское Приношение» продолжилось.
По Великой Бхарате шел черный конь, а следом шел Арджуна, сын Громовержца.
Медленно.
Спотыкаясь.
Отдыхая после каждого шага.
Но — шел.
По возвращении в Город Слона финал обряда пришлось отложить до лучших времен — конь явился тощий, в репьях, кожа да кости, и показывать его народу, прежде чем подкормится, не хотелось.
То же относилось к полководцу.
Впрочем, нет худа без добра: в северных Гималаях по наводке Черного Баламута нашли сокровищницу Стяжателя Богатств, бога Куберы. Посланный караван успешно добрался от Хастинапура к кладу и вернулся обратно, нагруженный золотом, что существенно подняло настроение. Опять же радовало сообщение караванщиков: близ сокровищницы не обнаружилось ни якшей-стражей, ни самого бога-хозяина — видать, Кубера благоволил отдать клад в руки Пандавов!
Хмурился один Баламут и все выспрашивал погонщиков с охранниками: действительно ли они не видели в горах ни одного якши?!
Ну хоть самого завалящего?!
Погонщики клялись всем святым, охрана била себя в грудь, Баламут кивал и начинал расспросы заново.
Наконец черный конь отъелся на вольных пастбищах, а брахманы получили задаток деньгами и телеги казенного риса, дабы вершили обряд с тщанием. Животное торжественно заклали на центральной площади, разъяли на части, пристально вглядываясь в каждую, затем заставили Черную Статуэтку возлечь рядом с кровоточащими останками. Когда и эта часть обряда была выполнена, общую жену Пандавов отпустили с миром — отмываться и приходить в себя, конину же публично сожгли на костре из душистых поленьев, а кости раздробили и достали костный мозг.
Мозг этот потом долго варили в котелке, на стенках которого искусный гравер изобразил особо выдающиеся подвиги братьев во время Великой Битвы. Пар вздымался вверх, к небесам, Пандавы стояли вокруг котла и по подсказке старшего жреца усердно втягивали ноздрями жирные струйки.
От мясного запаха мутило.
После чего Царь Справедливости был во всеуслышание объявлен Колесовращателем всея Бхараты.
На следующий день Черный Баламут покинул Хастинапур, несмотря на уговоры погостить до середины весны.
Он возвращался в Двараку, столицу ядавов.
На прощание Кришна раздраженно поинтересовался у новоявленного Колесовращателя: почему брахманам было заплачено втрое против обычного?! Что, денег павлины не клюют?! Ответ был прост: от стоимости зависит святость обряда (так сказали обильные добродетелями), а по старым расценкам моления не доходили до ушей богов.
— Теперь дошли? — поинтересовался Черный Баламут, прыгая на колесничную площадку.
Колесовращатель лишь равнодушно пожал плечами.
«Это у тебя спросить надо!» — явственно читалось на его лице.
Следует отдать должное: начало царствования Пандавов было отмечено и рядом благоприятных признаков. Охотники вкупе с бортниками единодушно утверждали, что из лесов напрочь исчезли ракшасы, и — странное дело! — никто не всплакнул по безвременно ушедшим людоедам. Опять же радовало отсутствие претов в темных местах, упыри-пишачи иногда являлись беременным женщинам, а также подросткам, но показания свидетелей были абсолютно недостоверны и противоречивы, скользкие бхуты гурьбой покинули кладбища, и пучеглазые якшини не совращали больше молодых отшельников.
Впрочем, небесные апсары отшельников тоже не совращали: отнюдь не по причине стойкости ушедших от мира, а по причине отсутствия апсар.
Расстраивались только ятудханы: Живцы-веталы перестали откликаться на их зов. А тайные яджусы, пусть даже и исковерканные должным образом, действовали слабо, причем предсказать результат заранее было практически невозможно.
Увы, душевная скорбь ятудханов никого, кроме них самих, не интересовала.
В заброшенных ашрамах стали все чаще находить покойников: аскеза быстро приводила к смерти, и то, что раньше позволяло накопить море Жара, теперь влекло за собой истощение и гибель. Одним из первых погибших от истязания плоти был Видура-Законник, вестник горя сообщил также, что в пламени лесного пожара сгорел несчастный Слепец с обеими царицами. Правда, в качестве утешения было передано: пожар занялся от священного огня, разведенного каким-то подвижником, и сгоревшие по этой причине непременно обретут райские сферы.
Если не статус полубогов.
Жизнь шла своим чередом, население мало-помалу увеличивалось, дождь падал сверху вниз, деревья росли снизу вверх, коровы исправно мычали и телились, цари царствовали, с интересом выясняя, что за пределами Великой Бхараты внезапно объявились иные страны и народы, о которых раньше не доводилось и слыхом слыхивать, Второй мир становился больше, распухая жабой в преддверии ливня, зато дождаться откликов от Первого и Третьего миров не могли даже самые благочестивые из жрецов-взывателей…
А в крепкостенной Двараке тихо спивался Бхагаван Кришна, наконец уяснив суть шутки, сыгранной с ним. Величайший замысел обернулся величайшим крахом, и Баламут богохульствовал, проклиная тот миг, когда решил сразиться с Опекуном Мира его же оружием — хитростью и умением находить лазейки в стенах Закона. Ошибка заключалась в досадной мелочи, непростительной оплошности: в разнице между двумя состояниями, между Бхагом и Бхагаваном, между Господом и Господином.
Если Бхаг на благородном языке означал «Господь-Действующий», то образованная от него превосходная степень означала, в свою очередь, «Господин», «Господь-Отсутствующий». И употреблялась она в качестве крайне уважительного обращения к отсутствующему меж собеседниками человеку.
Или не-человеку.
Или… или-лили.
Ведь обращение «милостивый государь» тоже далеко не всегда означает, что речь идет действительно о государе, исполненном милости!
Заметить этот прокол в требованиях Черного Баламута, увлеченного грядущим величием, мог воистину только малыш Вишну, и по ночам Кришна вскакивал от эха:
— Дайте! Дайте ему… умоляю!
Колоссальная волна Жара — легионы душ бхактов-любовников, подарок Опекуна, треть тапаса Шивы, десятина Жара Трехмирья, — высвободившись в результате Дарования, создала новый мир.
Мир Бхагавана Кришны.
Мир Господина, Господа-Отсутствующего.
Эру Мрака, эпоху Пользы.
И толпы, исправно кричавшие на площадях и в храмах «Харе Кришна!», все меньше и меньше отождествляли любимое божество со стареющим ядавом, удивительно чернокожим для своего рода.
Бхагаван Кришна отсутствовал, внимая (или не внимая) славословиям, Черный Баламут был здесь, рядом, и это являлось залогом его ничтожества.
— Дайте! Дайте ему… умоляю!
Флейтист жил в мире сбывшейся мечты: свободный, он внимал речам о полубоге Вишну, который является лишь отражением самого Абсолюта, воплощенного в Бхагаване, достучаться до которого можно лишь чистым душам, бескорыстным возлюбленным…
Однажды его упрекнули в недостаточной любви к Кришне.
— Харе, харе, — криво улыбаясь, ответил Баламут. Он уже знал, что скоро умрет. И боялся шагнуть за грань.
* * *
…Какой такой, понимаешь, Бхагаван? Знать не знаю!
— Ты че, дружбан, совсем уже зенки залил?! Не знает он… Дык Черный Баламут, Господь наш разлюбезный!
И тощий оборванец, оскалясь гнилозубой ухмылкой, весело хлопнул по плечу приятеля-сотника, изрядно захмелевшего после кувшина медовухи. На рубахе из чинского шелка, и без того заляпанной жиром, остался отпечаток пятерни — рядом с казенным оплечьем, украшенным воинской бахромой.
Судя по цветному тилаку на лбу сотника, тот явно принадлежал к варне кшатриев. Что же касается оборванца, то его тилак наполовину стерся (а вполне вероятно, был стерт умышленно), но и так за три йоджаны было видно, что обладатель гнилых зубов в лучшем случае является шудрой, если не чандалой— псоядцем!
Ишь, ручищи… небось углежог или скорняк — за год не отмоешь!
Псоядец, хлопающий по плечу кшатрия?! Да раньше такого и на порог бы не пустили в питейное заведение, куда заглядывают уважаемые люди. Кшатрий, позволяющий чандале подливать себе в чашу?! О-хо-хо, времена наши тяжкие, изобилующие развратом и непотребствами, а также идеями о равенстве и братстве…
— А-а, этот… — протянул сотник. — Ну да, Бха… тха… ха! Видали такого! Клянусь собственными потрохами, видали! — когда в Двараку послов сопровождали. Я еду, а Он, понимаешь, идет. Пешком. По стеночке. Пьян был, понимаешь, как… как… и вообще: это все дравиды придумали. Про Бха-гхавана. Для смущения умов.
— Ну ты, арийская морда! Ты полегче! Нажрался свинья свиньей, а туда же!
— Я? Это я — нажрался?! Да я океан… одним глотком! Пшел вон, клеветник!
— Сотник попытался замахнуться, но едва не подбил себе глаз и бессильно уронил руку на столешницу. — Это Он был пьян, а не я! Пьян, как… как бог! Вот. Ну я тогда еще, понимаешь, и подумал… О чем это я подумал? А, вспомнил! Подумал: раз этому, который теперь главный на небе, с утреца можно, то чем мы хуже?
— А ничем! Ничем не хуже! — с готовностью согласился оборванец, придвигая к себе кувшин с остатками медовухи и поспешно наполняя жертвенную чашу с резьбой по ободку. — Совершим же возлияние в честь…
— Совершим! — Сотник плюхнулся мордой в блюдо и захрапел во всю глотку, присвистывая красным сплющенным носом.
Оборванец проворно допил хмельное, крякнул и направился к выходу, по дороге как бы невзначай мазнув рукой по поясу собутыльника.
В результате кожаный мешочек с серебром переменил владельца.
— Ну?!
— Порядок! — возвестил гордый оборванец толпе кабацкой голи, поджидавшей его снаружи, и потряс перед сизыми рожами добычей. — Гуляем?
— А может, лучше в блудилище сходим? Говорят, у тетки Урмилы две брахманские женки объявились! Таких углом поставишь, одну сзади, вторую спереди…
— Ты б помылся прежде, козлина!
— Сам козлина! Баня, между прочим, денежек стоит! А у тетки Урмилы платишь — бери… Хошь мытый, хошь немытый: кому какое дело! Польза — она и есть Польза!
— Это верно! Гуляй, братва, однова живем! И-эх, а мал-ладого падагоптра несут с пр-рабитой головой!.. Разлюли малина…
* * *
Рай?
Прежде запретные удовольствия теперь предлагались открыто, бесстыже сверкая разноцветьем вывесок: от хмельного и дурманных курений до каких угодно естественных и противоестественных утех с женщинами любой варны, мальчиками, животными, специально отшлифованным изнутри бамбуком…
Чего изволите?!
Рай?
В Двараке, стольном граде Черного Баламута, люди раньше других усвоили: время Закона ушло. И на смену ему идет время Пользы. Выгоды. Тот же пострел, кто осознает это первым, успеет урвать себе больше других.
Ядавы осознали.
Первыми.
Или одними из первых.
Что толку гнить в лесном ашраме, размышляя о Вечном и запивая коренья ключевой водой? Что толку в аскезе и кшатрийской чести, если боги перестали являться к аскетам и царям, дабы одарить их согласно накопленным заслугам? Что толку в купеческом слове, если честность грозит разорением в этом приюте мошенников?! Надежда на райские миры после смерти, говорите? Дхик! Возлюбим нового Бхагавана, возлюбим всем сердцем — и пусть катятся к Великой Матери все заслуги вместе с их плодами! За Бхагаваном как за каменной стеной!
Даром, что ли, сказано:
Даже если ужаснейший грешник Чтит Меня безраздельной любовью, То и он именуется «праведник», Ибо он рассудил безупречно. Тот, кто знает, — не видит различий Между брахманом-дваждырожденным И коровой, слоном, собакой Или тем, кто собаку съедает…Что говорите? Здесь, на земле? Рядом живет? Гауду глушит, не просыхая? Ну да, конечно! Кто ж не знает Черного Баламута, нашего любимца! Пусть пьет! Он у нас — земное воплощение Бхагавана, ему все можно! А раз ему — значит, и нам не заказано…
Что? Сам Бхагаван и есть? Собственной персоной?! Это Баламут-то? Ну, вы и загнули, господин хороший! Хотя… бхут его разберет! В общем, наливай!
Опустели обители, и лишь наиболее стойкие или просто упрямые отшельники еще продолжали истязать свою грешную плоть, не спеша податься в торговцы, сборщики податей или, на худой конец, в храмовые жрецы. Да и то сказать, торговать тоже уметь надо, особенно в наш век Пользы, когда чуть зазеваешься — на ходу подметки обрежут! А в храмах сейчас сплошное запустение: брахманы дерут втридорога, паства упирается, сквалыжничает, вот и приходится дваждырожденным, которые порасторопнее, бродить по миру с сумой: подайте на молельню в Брахмагири! киньте монетку на святую криницу Собачьей Шерсти! а вот Пруды Рамы! кому омыться, очиститься, скинуть грешок-другой?!
Нет, уважаемые, лучше заняться каким-никаким мирским промыслом: зубы-то на полку рядом с утварью не положишь!
Чудес на свете не бывает, божественных явлений шиш дождешься, предсказания врут, обряды впустую — к чему швырять деньги на ветер, кормить этих дармоедов? Пользы от них — шакал наплакал! Пусть сами зарабатывают свой хлеб в поте лица своего!
Польза.
Госпожа наша! — теперь ты диктуешь все и вся, только иные это еще не допоняли. Но поймут, и очень скоро!
Этот лес чандалы-псоядцы рубили? Ну и что? Мне-то какая разница? Бревна как бревна, хоть избу строй, хоть костер пали! А пошлина вдвое меньше. Вот и беру. Не один ведь беру: артелью стараемся… Скверна? Просека на просеке? А идите-ка вы со своей скверной знаете куда? Время — деньги, а тут вы с вашими просеками!
Замужем? Можно подумать, я не знаю! И мужа ее знаю, сосед он мой! Как нам не стыдно? А никак не стыдно! И так не стыдно, и сяк не стыдно, и вот эдак тоже! Вон поглядите, кстати: муж ее куда направился? В блудилище, ясное дело! Там моя супружница в окошке деньги принимает, а когда запарка, то и пособит… Стыдитесь сами, хорошие мои, ежели вам невтерпеж, а с вашими заповедями к градоначальнику сходите. Он ближнего любит, у него темницы пустыми не простаивают…
Рай?
Ад?
Наивные люди: рай, ад… ведь ясно сказано новыми проповедниками: «У того, кто считает духовным учителем самого себя, глупый ученик!» А раз так, раз я — пыль, прах, и жить мне на земле сущие пустяки…
Рассвет эры Пользы властно вступал в свои права.
Однако Закон еще таился по углам. И, уходя, успевал карать кое-кого из тех, кто слишком быстро сбросил его со счетов.
* * *
Зловещие знамения одно за другим наводили трепет на жителей крепкостенной Двараки. Некий черный как уголь человек с безволосой головой повадился бродить по улицам города, заглядывая в окна домов и лица прохожих, — ядавы в испуге шарахались от него, как от чумного. Человек молча глядел на них пустыми глазницами и шел дальше, и многие шептали, что это сама Смерть в тайном облике разгуливает по улицам. Поминалось всуе имя Черного Баламута, но болтунам живо поукоротили языки. Говорили также, будто дюжина подвыпивших смельчаков истратила на незнакомца пару колчанов, но стрелы не причинили чернецу вреда, а герои-стрелки вскоре умерли в страшных мучениях от неизвестной болезни.
Вороний грай днем и ночью оглашал окрестности Двараки, вторя пронзительному свисту ветра, полчища крыс заполонили кварталы, и ночные кошмары терзали ядавов, едва горожане забывались тревожным, беспокойным сном.
В отчаянии взывали они к Бхагавану, но молчал Отсутствующий, курился фимиам старым богам, оставившим детей своих в скорбный час, но тщетны были молитвы и бессмысленны второпях приносимые жертвы. Те же, кто успел
приспособиться к новой жизни, только смеялись над своими богобоязненными соплеменниками: кошмары? вороны? знамения?
Пить надо меньше… или больше.
И перестали ядавы почитать богов и брахманов, старших и наставников, возлюбив лишь собственную выгоду и услады тела. И смеялись они над испуганными, говоря: «Мы живем по Закону! Польза — вот наш новый Закон! А ее мы блюдем свято…»
И искренне думали, что им удалось обмануть Судьбу.
А глядя на ядавов, постепенно перенимали их образ жизни и соседние народы.
* * *
Лишь немногие в Великой Бхарате понимали, куда катится империя.
Лучше всех понимал это Черный Баламут.
Уши его полнились проклятиями вдов, несшимися вслед через годы и пространства с усеянного трупами Поля Куру, плач настигал Бхагавана, заставляя втягивать голову в плечи. Надо было действовать, пока не стало слишком поздно. Убитая Эра Закона вцепилась в своего палача, не желая отпускать его.
«Дайте! Дайте ему… умоляю!»
Впрочем, может, это и к лучшему?! — внезапно снизошло на Кришну озарение. Врага надо бить его же оружием. Мой враг — цепляющееся за меня прошлое?! Отлично! Засучим рукава, как засучивали встарь!
Ядавам необходимо очиститься! Провести грандиозный обряд, совершить великое паломничество, принести обильные жертвы, смыть с себя скверну — и тогда скользкие пальцы трупа-Закона лишатся цепкости.
Что ж, попробуем ненадолго повернуть Время вспять! В конце концов, удалось же Пандавам завершить «Приношение Коня», хотя сил для этого понадобилось втрое больше, чем предполагалось?! Удалось!
И ему удастся! Бхагаван он или тварь дрожащая?!
В глубине души Черный Баламут понимал, что хватается за соломинку, что проклятия, пророчества и знамения, вцепившиеся в него мертвой хваткой, не отпустят свою добычу. В мире, сотворенном Творцом-Отсутствующим — им самим! — он бессилен что-либо изменить…
Но не попытаться он не мог!
И вот снова вспыхнули жертвенные огни в храмах, славящие мудрость Бхагавана брахманы вернулись к своим обязанностям, денно и нощно звучали над Дваракой святые гимны, заглушая грай ворон, стражники наводили порядок на улицах… Черный Баламут и его соплеменники готовились к совершению великого очистительного паломничества.
Через месяц мужчины Двараки во главе с Кришной, облаченным в шафрановые одежды, на многих колесницах, слонах и повозках выступили по направлению к Прабхасе, дабы омыться в священных водах.
Баламут пытался дважды войти в одну и ту же реку.
* * *
Священные воды Прабхасы открылись перед ядавами сразу, рывком, словно некий гигант-данав отбросил в сторону ширму, скрывавшую плес от людского взора. Бхагаван тронул погонщика за плечо, и белый слон, на котором восседал Господь-Господин, послушно остановился.
Кришна смотрел на раскинувшийся перед ним простор, лазурь меж двумя берегами, ласково играющую солнечными блестками, и в душе его постепенно воцарялся благостный покой. Никаких дурных знамений! Исчезло воронье, что всю дорогу со скрипучим карканьем вилось над головами паломников, стих колючий ветер, лопнула и расползлась гнильем грязно-бурая дерюга туч…
Закон отступился, не в силах покарать тех, кто на время смиренно вернулся в его лоно! А потом… Потом старый доходяга-Закон уйдет окончательно, и все будет в порядке. Все-таки Кришна сумел!
Да и как могло быть иначе — в мире, сотворенном им самим?!
Сейчас надо будет велеть, чтоб разбивали лагерь, а на рассвете, согласно обычаю, будут воздвигнуты жертвенники, нужные слова произнесутся в нужное время, былое восстанет ото сна — и люди с Бхагаваном во главе смиренно войдут в священные воды, омывая тело и душу, отбрасывая прочь все то, что совсем недавно грозило им гибелью.
Все будет именно так.
Потому что так хочет Господь, творец этого мира!
Ом мани.
* * *
…Тихий и теплый вечер шерстяным покрывалом укутывал плечи усталых ядавов. Загорались костры, слышались шутки, смех, кое-где затянули песни — тягостные предчувствия и гибельные знамения последних дней быстро улетучивались из памяти. Ядавы воспряли духом. Все будет хорошо! Их Господь с ними, он не оставил их в беде. Завтра утром…
Впрочем, до утра еще далеко, вся ночь впереди, и не грех священными возлияниями отметить столь удачное окончание паломничества!
Что вы говорите? Обрядовые чаши куда-то запропастились? Да бхут с ними, с обрядовыми… давай какие есть. А я и из горлышка хлебну. Ничего-ничего, вознесем хвалы, и все пройдет как по маслу. По топленому. Вот, я его уже в костер плеснул. Через руку? Не так надо было? А как? Тебе-то какое дело, дубина, брахман я или нет? Сойдет! Короче, наливай! Во славу…
Мелькали в кровавых отблесках костров разгоряченные лица паломников. Чаши с хмельной гаудой и сурой шли по кругу. Нестройные песнопения, которые, по идее, должны были освятить возлияния, вскоре беспомощно смолкли и сменились веселым галдежом, постепенно перераставшим в бессвязные пьяные выкрики.
— А ты? Где ты был, когда я на Поле Куру кровь проливал?! В Тедженте отсиживался?!
— Ты?! Это я, я пострадал за отечество, а ты, шакал паршивый…
— Я шакал? Нет, я шакал?! Умри, падаль!
Алым высверком полыхнул обнаженный клинок. Короткий свист рассекаемого воздуха, предсмертное хрипение…
— Братан! Люди, эта сука братана зарезала! Получи!
— Бходжи! Наших бьют! К оружию!
— Эй, вришнийцы! Мужественные Бараны, спина к спине!
— Это все из-за вас, осквернители!
— Убивайте их, убивайте!.. Бхагаван разберет, где свои…
От соседних костров уже бежали вооруженные люди, и сполохи пламени в испуге отшатывались, выхватив из темноты искаженные яростью лица.
Резня мгновенно распространилась по всему лагерю. Пьяное безумие охватило ядавов, и они убивали друг друга с остервенением бешеных зверей. От разбросанных кострищ занималась трава, кустарник, и вскоре весь лагерь уже был объят пламенем.
Черный Баламут в оцепенении смотрел на происходящее. А перед глазами у него стоял догорающий лагерь Пандавов в том, прошлом мире и — трупы, трупы, трупы…
Все повторялось вновь — в другом месте и по-другому, но он не сумел этого избежать. Когтистая лапа уходящего Закона дотянулась до племени, взлелеявшего колыбель с черным младенцем, — через годы и йоджаны, через, казалось бы, уже непреодолимую границу между новым и старым миром.
Проклятия сбываются.
Так было, есть и… будет?
Нет!
Не бывать вовеки!
Бхагаван в ярости вскочил, и в руках его, словно по волшебству, появилась тяжелая железная палица. Побоище? Безумие?! Отлично! Он сам, Господин этого мира, исполнит предначертанное! Пусть погибнут те, кому это суждено было на веку, — но Бхагаван останется!
Умрите, любя Меня!
Бхагаван схватил за плечо перепуганного мальчишку, искавшего спасения за спиной живого бога.
— Бери колесницу, скачи в Хастинапур! Мне нужен Арджуна! Скажи: Господь кришна призывает Обезьянознаменного! И поторопись!
Вскоре громыхнул топот копыт: мальчишка был счастлив умчаться хоть на край света, хоть в Преисподнюю, лишь бы не смотреть в безумные глаза Бхагавана.
Из темноты возник юркий коротышка с окровавленным ножом в руке. Задержись Кришна на минуту, он узнал бы в коротышке Правдолюба, своего родича, — но Черный Баламут без колебаний обрушил на голову человека удар своей смертоносной палицы.
Мне отмщение!
Аз воздам!
Н-на!.. смерть осквернителям!
* * *
Уже светало, когда Кришна выбрел к берегу реки. Позади осталось ночное побоище, уничтожившее весь род Яду, угли вместо лагеря, и — трупы, трупы, трупы…
Все повторилось.
И снова он выжил — один из всех.
Если б он еще понимал, зачем ему эта проклятая жизнь…
Черный Баламут не сразу заметил могучую фигуру Рамы-Здоровяка — сводный брат недвижно сидел на берегу.
Баламут подошел и опустился рядом на траву, мокрую от росы.
Помолчали.
— Рода Яду больше нет, — тихо проговорил Кришна.
«Я знаю», — был молчаливый ответ.
— Но мы-то остались! Мы с тобой — живы!
Здоровяк молчал.
— Я — Бхагаван этого мира! Я смогу все исправить!
Сводный брат Господина молчал.
— Ты не веришь мне. И, в общем, правильно не веришь. Я сам не верю себе… Что же будешь теперь делать ты?
«Я не хочу больше жить. Я умру. Сейчас. Эй, тезка, далекий мой тезка, ты слышишь меня? Я уже иду…»
Исполин глубоко вздохнул и понурил голову. Его могучее тело словно сразу стало меньше, съежилось, и Кришна увидел, как из груди брата ползут нескончаемые чешуйчатые кольца.
Великий Змей Шеша, Опора Вселенной, чье имя означает «Последний» и чьей земной ипостасью был Здоровяк, возвращался домой.
Кришна сидел и смотрел, как течет по реке к океану гигантская душа Змея, а когда все кончилось, Черный Баламут взглянул в успокоившуюся воду — и отшатнулся.
Из воды на него глядело лицо старика.
Творец?
Смертный?
Все это уже не имело для Отсутствующего значения.
«Несчастный! Ты получил то, чего хотел!» Но он хотел совсем иного! Впрочем… чего он на самом деле желал ТОГДА, когда гордо потребовал у Брахмы дара за собранный им чужой, краденый Жар?
Чего он хочет сейчас, хочет искренне, так, как не хотел никогда и ничего в своей земной жизни?!
Кришна с усилием поднялся на ноги и побрел куда глаза глядят.
И когда впереди за деревьями мелькнула фигура одинокого охотника, Черный Баламут сделал последнее, на что еще был способен…
Охотник, не торопясь, подошел к лежавшей на земле огненно-рыжей лани, которую он сразил каленой стрелой, — и в ужасе замер, глядя на мертвое тело гибкого смуглого юноши в шафрановых одеждах.
Юноша улыбался мертвыми губами.
* * *
Когда страшная весть долетела до Города Слона — на следующее же утро из ворот Голубого Лотоса вышел воинский отряд. Во главе отряда ехала колесница величайшего из бойцов — Серебряного Арджуны, покорителя народов, убийцы Грозного с дерзким Секачом. Белая грива кудрей витязя уже была далеко не похожа на кипу хлопка — скорее на снежную вершину Кайласы, да и в окладистой бороде обильно сверкали седые пряди. Близясь к шестидесятилетнему рубежу, Арджуна и выглядел на все свои годы, но в «гнезде» до сих пор держался прямо, на зависть молодым, и лук в руке героя по-прежнему грозил врагам.
Бывший ужас Курукшетры спешил к своему бывшему суте, живой царь — к мертвому богу.
Дварака встретила героя скорбным плачем и дымом погребальных костров. Груженные бесчисленными трупами телеги въезжали в город, траурной веренице не было конца, погребальные костры горели день и ночь напролет, заволакивая небо жирной копотью, вдовы бросались в огонь вслед за погибшими мужьями, и Арджуне казалось, что теперь это будет продолжаться вечно.
Тело Черного Баламута привезли в закрытом саркофаге из священного дерева Дару[34], и Арджуна не счел нужным проверять, чьи останки в действительности покоятся в скорбной домовине. Господь Кришна, Черный Баламут, ушел из земной жизни. Подглядывать и сомневаться — недостойно.
По городу ползли слухи о приближающемся наводнении: дескать, Великий Змей пробудился ото сна и теперь раскачивает землю, норовя утопить в океанских волнах все живое.
Толпы беженцев, потянувшиеся через Двараку, подтверждали опасения.
Надо было спасать живых, и Арджуна распорядился спешно готовить караван, чья дорога лежала в Хастинапур: Город Слона оставался единственной более или менее надежной твердыней в рушащемся мире.
В первую очередь Серебряный приказал собираться в дорогу многочисленным женам — теперь уже вдовам — Черного Баламута с их малолетними детьми. Это было последнее, что он мог сделать для покойного Бхагавана.
Для своего возницы.
В покоях Кришны царило запустение. Покрывшиеся пылью и паутиной кресла, застеленные златоткаными скатертями столы, светильники, в которых высохло масло, сор и дохлые, хрустящие стрекозы на полу…
В глаза Арджуне бросилась обгорелая кипа пальмовых листьев в углу одной из комнат. Серебряный нагнулся, отряхнул пепел… Несколько листов уцелели — лишь слегка обуглились по краям, и Арджуна стал читать неровные, прыгающие строчки, словно буквы благородного языка внезапно охватило бешенство:
«О Эра Мрака! — несправедливость на три четверти воцарилась в мире, а на долю добродетели осталась четвертая часть. Коротка жизнь человеческая, больны мужество, ум и сила, едва тлеет духовная мощь! Люди торгуют Законом, точно мясом, из-за краткости века ученые отныне не в силах постичь науку, высокие стали средними, а средние — низкими.
В пищу идет козье и овечье молоко, а также рыбья печень, даже твердые в обетах, поддавшись алчности, подняли руку друг на друга. Отец пошел против сына, а сын — против отца, брахманы погрязли в разлагольствованиях, забыв моления и возлияния, решасъ обсуждать и оспаривать Веды. В низинах растят урожай, в ярмо впрягают коров, годовалых телят используют для перевозок, а родичи хвалятся убийством родичей, не встречая нигде осуждения!
Кшатрии превратились в терние людское: не защитники, а стяжатели, они находят удовольствие лишь в наказании. Варны смешались в единое месиво, жажда обогащения превратила торговые сделки в сосредоточение обмана, и обряды исполняются как придется. Без всякой нужды губятся деревья и целые рощи, в храмах положили останки трупов, поклоняясь им, аки святыне, и даже наставнику одалживают только под залог…»
И дальше, на полях, мелким нервным почерком, знаками языка обыденного:
«…дурак! Пыжился, надувался пузырем… Творец! А ведь и вправду Творец — радуйся, гордись, недоумок! Или все не зря? Предопределение… неизбежность, чьим орудием я стал не по воле этого небесного хлыща, а по воле рока, который над всеми нами… всеми… нами… Кто-то должен был разорвать пуповину, и не вина повитухи, что ребенок оказался уродом! Или вина? Моя вина, моя величайшая вина?! Или… голова болит, болит, болит… Они теперь сеют рис террасами, потому что моления об урожае остаются пустым сотрясением воздуха! И посевная начинается летом, ибо проще полагаться на муссоны, чем на святость брахмана— взывателя, проще собрать рис в начале зимы, чтобы сразу засеять землю хлопком и бобами, до следующего цикла. Они справляются сами!.. Чаша… где моя чаша?! Осколки… черепки… прах. Откуда бралась огненная мощь стрел при произнесении „Прадарана-мантры“? Из каких далей?! Не из этого ли мира, моего творения?! Я видел: горшок с таркшьей, серой и всякой прочей дрянью взрывается хуже, но для этого требуется всего лишь промасленный фитиль и огниво, а раньше требовалось Слово, Дело и Дух! Что я создал ?! Что я выпросил?., что… И ведь это — только начало! Абсолют включает в себя все: даже подлость, даже собственное бессилие… голова болит…»
И на последнем уцелевшем листе, корявой вязью вульгарного диалекта Пайшачи:
Священным чудищем хочу я быть, уродом из камня черного, под сводом гранатового храма, в Бенаресе. И созерцателем, трагически бесстрастным, глазами узкими глядеть перед собой, глядеть туда, где в небе ярко-красном ужасный Шива мчит дорогой золотой строй тяжких колесниц сквозь аспидные тучи: сверкание колес и молнии огней, резня кровавая и бег коней летучий, и море алое с мильярдами очей! Проклятие тебе перед лицом костров, ничтожный человек, объевшийся надеждой, когда убийства жгут кровавою одеждой всю жизнь, распятую в пустотах вечеров![35]Арджуна аккуратно сложил уцелевшие листки и спрятал их в походную суму.
«Последняя Песнь Господа, — подумал он. — Надо сохранить. Отдам кому-нибудь из мудрых… Вьясе отдам. Черному Островитянину».
* * *
Ночью Арджуне приснился сон. Они с братьями были мертвы, их остывающие тела скорчились на земле, а над трупами стоял сын Наставника Дроны. За его спиной возвышалась фигура Темной Богини, покровительницы гибельной отваги, одна из неисчислимых рук божества лежала на плече убийцы, и улыбка Кали светилась во мраке.
Смертная тоска охватила Арджуну при виде этой улыбки, лунного серпа во мраке… Он попытался вскочить, крикнуть — и проснулся.
Было еще темно. Сын Громовержца поднялся, ощущая противную ломоту в коленях, затеплил лампадку, кашляя от вони горелого масла, бронзовое зеркало стояло на подставке у стены, и из его глади на Арджуну смотрел он сам.
Седой старик, худой, сутулый, лицо прорезали морщины, борода торчит клочьями, а в глубине некогда синих глаз полновластно царит страх.
Да, страх, который прежде боялся этой лазури как чумы.
Или только делал вид, что боится?
Арджуна не знал ответа.
* * *
На рассвете караван выступил из Двараки. Двигались молча. С хмурого неба срывалась мелкая морось, дорога размокла, и мулы с натугой тащили по чавкающей грязи телеги, где восседали вдовы Бхагавана, лелея нехитрый скарб.
Ближе к вечеру, когда начало смеркаться, дорогу каравану заступили вооруженные люди.
«Абхиры, — криво усмехнулся Арджуна, хорошо зная повадки этого разбойничьего племени. — Что ж, это не Секач и не Грозный…»
И, не торопясь, наложил на тетиву первую стрелу.
Воины-хастинапурцы придвинулись друг к другу, сомкнули щиты и взяли копья наперевес. Казалось, их поведение лишь раззадорило разбойников: с удалым гиканьем они кинулись вперед.
Арджуна видел, как стрелы его раз за разом находят свои цели, как валятся на землю убитые абхиры, но врагов было слишком много, а потуги Обезьянознаменного лишь озлобляли налетчиков. Старик с луком интересовал их в последнюю очередь, ни одного дротика не полетело в сторону Арджуны, а там и вовсе случилось невероятное: опустел первый из двух чудесных неистощимых колчанов героя!
Вскоре иссяк и второй, а запасная тетива лопнула с противным взвизгом.
Строй защитников каравана к тому времени распался, и абхиры методично приканчивали самых невезучих — кто не успел спастись бегством.
А потешный старик, который спрыгнул с повозки и принялся бить разбойников своим луком, вызывал лишь общий хохот.
Наконец атаман шайки вырвал лук у седого дурака и отшвырнул оружие в сторону.
— Уймись, дедушка! Добром прошу: уймись, не позорь свои седины! Развоевался, понимаешь…
И, подхватив на плечо одну из вопящих вдов Черного Баламута, поволок добычу в кусты, явно собираясь использовать бабу по ее природному назначению и выбросив из головы взбалмошного деда.
Разбойники были увлечены грабежом, счастливчики из хастинапурских вояк успешно смазали пятки салом, а вдовы Кришны оплакивали свою горькую участь, машинально присматривая себе абхиров помоложе, и никому не было дела до бесполезного старика, рыдающего в грязи…
* * *
Когда через месяц жалкие остатки каравана добрались до Города Слона, Арджуна метался в бреду на замызганной телеге и никого не хотел узнавать. Он плакал, кричал, все порывался куда-то бежать, чего-то требовал… Месяц ушел на то, чтобы поставить его на ноги.
Наконец он появился в зале Совета: исхудавший, с ввалившимися глазами, тряся курдюком дряблой старческой кожи, провисшей под подбородком.
Старший из Пандавов, восседая на троне, сейчас выглядел младше своего брата.
Кроме них двоих, в зале никого не было.
— Я все знаю. — Царь Справедливости сбежал по ступеням и обнял бывшего Витязя. — Я все… все… Тебе не успели передать: Дварака скрылась под водами моря. Пожалуй, так даже лучше. Пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов. Иногда мне кажется, что Великая Бхарата умирает по той же причине: ею правят ожившие трупы!
— Ты тоже?! — задохнулся Арджуна. — Ты тоже видишь этот сон?!
— Я тоже. И близнецы. И, по-моему, Бхима, хотя он никогда не может вспомнить, что именно ему снилось. Он только воет по утрам… Челядь разбегается, не в силах этого слышать.
Арджуна ничего не ответил. Они долго стояли молча, обнявшись, — два брата, два обломка былого.
— Мне надо к Черному Островитянину, — наконец сказал младший.
— Да, — ответил старший. — Да, конечно… Как только ты до конца поправишься. На это ушел еще месяц.
* * *
…Черный Островитянин долго смотрел на опаленные листы с последней Песней Господа.
— Отдыхайте, — бросил он гостям. И ушел в дом.
* * *
За спиной осталась переправа через кровавую Ямуну, мерно поскрипывали колеса, неспешной рысцой трусили кони, а в сознании братьев все еще звучали прощальные слова мудреца-урода:
— Гости, вы стали хозяевами. Поспешите. Может быть, вам повезет.
Через полгода, отдав последние распоряжения, пятеро братьев и их общая жена Черная Статуэтка тихо вышли из ворот Хастинапура.
Их никто не провожал.
* * *
На востоке, достигнув побережья, Арджуна бросил в соленые воды свой знаменитый лук Гандиву, возвращая Повелителю Пучин взятый когда-то дар.
Имело ли значение, что это были совсем другие пучины?
Затем они свернули на юг, посетив берег реки Кришны, на западе долго смотрели в море, скрывшее от взора улицы и дворцы Двараки, и наконец север явил им заснеженные вершины Химавата.
Великая Прадакшина, священный обход державы, завершилась.
* * *
…Шесть человек шли через Гималаи.
Пять стариков и одна темнокожая старуха.
По осыпям и ущельям, карабкаясь на крутые склоны, сбивая ноги в кровь, умываясь из ручьев, питаясь кореньями, запекая в глине редких ящериц, оставляя на шипах ююбы клочья одежд, — на север, на север…
В сторону жизни.
И за упрямцами мелко семенила лохматая собачонка, увязавшаяся следом еще от земель киратов.
«Пешком в рай? — неслась по их пятам молва, неслась и расшибалась вдребезги о равнодушный монолит гор. — Безумцы? Святые? Подонки? Герои?! Где Польза, ответьте?! — где же Польза?!»
Шестеро людей брели через Гималаи, не вслушиваясь в эхо Великой Бхараты.
На очередном привале вместо одного костра пришлось зажечь два, и этой ночью никто так и не сумел заснуть, слушая вой лохматой бескорыстной плакальщицы.
Дальше шли пятеро.
Пятеро мужчин.
Пятеро вдовцов — и одна собачонка.
Еще через неделю погиб первый из близнецов: отравился эрака-травкой, чьи сочные стебли жевал тайком, отстав от спутников. Второй близнец до самого вечера нес труп на руках, только рыча на уговоры остальных, и все казалось: он несет самого себя, свою душу, зная, что без нее умрет и он.
Так и случилось, когда руки отказались тащить скорбную ношу.
На погребальные костры не оставалось сил, и дальше пошли трое.
Следом бежала собачонка, тоскливо скуля.
Когда горный барс рухнул на спину тому, в чьих кудрях седина до сих пор соперничала с белизной хлопка, — старик, извернувшись, мертвой хваткой вцепилс зверю в глотку, и они катались по щебню под заливистый лай, пока самый широкоплечий из бродяг не обрушил каменную глыбу на затылок хищника.
Когда барса оттащили, под ним улыбался счастливой улыбкой мертвец с распоротым животом.
Широкоплечий умер вечером, в пещере, где двое остановились на ночлег.
Умер просто так: сел в углу и перестал дышать.
Еще через три дня сердце Гималаев, которое не скоро назовут Шамбалой в честь небесной коровы, раскрылось перед последним и собакой.
О дальнейшем сохранится мало. Скажут, что дверь от земли до неба встала перед путником. Скажут, что створки ее были распахнуты настежь, но проход загораживал грозный привратник. Добавят еще, что, глянув привратнику через плечо, путник увидел рай и ад, и враги его были в раю, а братья с женой — в аду.
Этому удивительному событию найдутся сотни толкователей, они рассмотрят сей факт с сотен разных точек зрения, но толкователи и точки зрения — это немногое, в чем мы не испытываем недостатка.
— Пропусти, — склонил старик голову перед вечно молодым привратником. — Я помню тебя: ты — сын Наставника Дроны… ты — ночной убийца. Пропусти меня, пожалуйста… или убей еще раз. Я больше не могу здесь.
Серые глаза привратника уставились на лохматую собачонку, что терлась у окровавленных ног старика.
— С собакой в рай? — был ответ, а может, только ветер просвистел в ущелье. — Проходи, несчастный, но ее оставь здесь.
И тогда взгляд старика, кого давным-давно звали Царем Справедливости, вспыхнул былым огнем.
— Нет, — покачал он головой и присел на ближайший валун, ибо изношенное тело отказывалось служить, ибо шестьдесят лет отныне считались возрастом дряхлости. — Мы дошли вместе и вместе пойдем дальше. Или останемся здесь. Хотя… спроси у нее, сын Наставника: может быть, она захочет пойти сама? Спроси, пожалуйста, и я с радостью уступлю дорогу псу…
Высилась дверь от земли до неба, лохматая собачонка жалась к ногам Царя Справедливости, и слезы текли по каменному лицу привратника.
А вокруг смыкались Гималаи.
До ближайшего конца света оставалось четыреста тридцать две тысячи лет.
Пустяк в сравнении с вечностью.
Декабрь 1996—ноябрь 1997г.
ГЛОССАРИЙ ИМЕН
АГАСТЬЯ — мудрец-риши, глава южных отшельников. Родился от общего семени Митры и Варуны, которое истекло при виде апсары Рамбху. Выпил море, приказал горе не расти и вообще славен подвигами.
АГНИ — бог огня, посредник между людьми и богами, возносящий жертвы на небо. Прозвища: Вайшванара — Всенародный, Семипламенный и т. д.
АДИРАТХА — Первый Колесничий, уроженец города Чампы, приемный отец Карны— Секача.
АДИТИ — Безграничность, мать богов-АДИТЬЕВ (т. е. сыновей Адити).
АЙРАВАТА — белый слон Индры, добытый во время пахтанья океана, один из четверки Земледержцев.
АМБА — Мать, старшая из трех бенаресских царевен, похищенных Грозным. В следующем воплощении явилась причиной смерти Грозного.
АМБАЛИКА — Мамочка, младшая из трех похищенных бенаресских царевен, мать Панду-Альбиноса.
АМБИКА — Матушка, средняя из трех бенаресских царевен, мать Слепца— Дхритараштры.
АРДЖУНА — Серебряный, третий из пяти братьев-Пандавов, рожденный царицей Кунти-Притхой от Индры. Прозвища: Белоконный, Бибхатс (Витязь, Аскет Боя), гудакеша (Густоволосый), Дхананджая (Завоеватель Богатств), Киритин (Носящий Диадему), Пхальгуна (Рожденный под созвездием Пхальгуни), Савьясачин (Левша, Обоерукий), Виджая (Победоносец), Обезьянознаменный и др.
АРУНА — Заря, колесничий Солнца.
АСИТА — Мрачный древний мудрец, повелитель темноты и магии.
АШВАТТХАМАН — Жеребец, Лошадиная Мощь, Конь-Человек, сын Дроны и Крипи, великий воин-брахман.
АШВИНЫ — «Всадники», дети Сурьи от его супруги в облике кобылицы, боги утренних и вечерних сумерек.
БАКА — ракшас-людоед, родич Хидимбы, убитый Бхимасеной.
БАЛАРАМА — Рама-Здоровяк, сводный брат Черного Баламута, считался воплощением Великого Змея Шеша, прозвище — Халаюдха, т. е. Сохач, Плугоносец (любимое оружие).
БАЛИ — Дарующий, один из гигантов-дайтьев, путем подвижничества и благочестия ставший владыкой Вселенной. Обманут и низвержен Вишну в облике карлика.
БАХЛИКА — Жертвователь, старший брат царя Шантану, в престарелом возрасте участвовал в Великой Битве на стороне Кауравов.
БРАХМА — Созидатель, один из Троицы.
БРИХАС — он же Брихаспати, Владыка Слов, Наставник богов (Сура-Гуру), родовой жрец Индры, владыка планеты Юпитер, автор военного трактата и разных политических теорий. Отец Бхарадваджи-Жаворонка, дед Дроны, Брахмана-из-Ларца.
БХАГАВАД-ГИТА — Песнь Господа. Еще есть Повторная Песнь.
БХАРАДВАДЖА — Жаворонок, великий мудрец, сын Брихаса и отец Дроны.
БХАРАТА — Благородный, родоначальник Лунной династии.
БХИМА — Страшный (он же Бхимасена — Страшное Войско), второй из братьев— Пандавов, сын царицы Кунти-Притхи от Ваю-Ветра, Миродержца Северо-Запада. Прозвище: Врикодара — Волчья Утроба.
ВАЛИН — Волосач, могучий сын Индры от обезьяны, победитель Десятиглавца. Предательски убит из засады Рамой Дашаратхой, аватарой Вишну.
ВАРУНА — бог пучин, Миродержец Запада, старший из братьев-АДИТЬЕВ. Был верховным божеством в паре с Солнечным Митрой, потом стал одним из Локапал.
ВАСИШТХА — Лучшенький, мудрец-риши, семейный жрец Солнечной династии (Кауравы — Лунная).
ВАСУ — Благие, восемь божеств, подвластных Индре.
ВАСУДЕВА — Благой Бог, имя земного отца Черного Баламута из племени ядавов.
ВАЮ — бог ветра, Миродержец Северо-Запада.
ВИДУРА — сын Вьясы-Расчленителя (Кришны Двайпаяны) от рабыни-шудры Гопали, брат Слепца и Альбиноса. Прозвище — Законник.
ВИЧИТРА — (он же Вичитравирья), Дважды Блестящий, или Дважды Отважный, сын царя Шантану от Сатьявати, умер от полового истощения.
ВИШВАКАРМАН — Всемогущий, зодчий богов.
ВИШВАМИТРА — Всеобщий Друг, кшатрий, добившийся подвижничеством брахманского статуса, дядя Рамы-с-Топором.
ВИШНУ — Опекун Мира, один из Троицы, младший из богов-АДИТЬЕВ, отсюда прозвище Упендра — Малый Индра.
ВРИТРА — Вихрь (второе значение — Враг), дракон-брахман, Червь Творца, убитый Индрой.
ГАНГА — богиня реки, дочь Химавата и мать Гангеи Грозного. Течет во всех трех мирах.
ГАНГЕЯ — Сын Ганги (догл.) от царя Шантану, земное воплощение Дьяуса— Неба, регент Города Слона. Прозвища: Бхишма — Грозный, а также Дед.
ГАНДХАРИ — Благоуханная, жена Слепца-Дхрита-раштры, мать сотни братьев— Кауравов и одной девочки.
ГАНЕША — Владыка Сонмищ, сын Шивы, слоноголовый бог мудрости и письменности.
ГАРУДА — Проглот, гигантский орел, ездовое животное (вахана) Опекуна Мира.
ГОПАЛИ — Пастушка, рабыня-шудра у царицы Амбалики, мать Видуры-Законника от Черного Островитянина.
ГХРИТАЧИ — Масляная, выдающаяся апсара.
ДАКША — Южанин, сын Брахмы, великий мудрец и тесть Шивы (за что и пострадал).
ДЕВАКИ — Божественная, мать Черного Баламута ДЕВОЛ (ДЬЯВОЛ) — Боговидец, великий мудрец и подвижник, олицетворение тьмы.
ДЖАИТРА — Победная, название колесницы Индры.
ДЖАМАДАГНИ — Пламенный Джамад, мудрец-отшельник из рода Бхаргавов (потомков Бхригу), отец Рамы-с-Топором.
ДЖАНА — Родительница, выдающаяся апсара.
ДРОНА — Брахман-из-Ларца, искусственно созданный сын Бхарадваджи— Жаворонка и внук Брихаса-Словоблуда.
ДРУПАДА — Дубина, Деревянный Брус, царь Панчалы. Отец Черной Статуэтки, общей жены пятерых Пандавов, Сполоха (Дхриштадьюмны), убийцы наставника Дроны, и Хохлача (Шикхандина), причины гибели Грозного.
ДУРВАСАС — Оборванец, мудрец-юродивый с отвратительным характером. Одна из ипостасей Шивы.
ДУРГА — Труднодостижимая, воинственная ипостась супруги Шивы.
ДУРЬЙОДХАНА — Боец, старший сын Слепца-Дхритараштры от Гандхари, фактический царь Хастинапура. Враги зовут его Суйодхана — Слабак.
ДУХШАСАНА — Бешеный, брат Дурьйодханы.
ДХАНВА — он же Дханвантар, врачеватель богов. Почитался создателем Веды врачевания — Аюр-Веды.
ДХАРМА — Держава, Долг, Закон, персонифицированная ипостась Ямы-Дхармы, Царя Смерти-и-Справедливости.
ДХРИТАРАШТРА — Стойкий Государь, слепой царь Кауравов, брат Панду— Альбиноса, отец сотни братьев-Кауравов и муж Гандхари. Сын царицы Амбики (Матушки) от приглашенного для этой цели Черного Островитянина.
ДХРИШТАДЬЮМНА — Дерзкий Огонь, Сполох, сын Друпады-Панчалийца, родившийся вместе с остальными детьми из алтарного огня на погибель врагов (Дроны, Грозного и т. д.). Этническое имя — Панчалиец, как и у его отца.
ДЬЯУС — мелкий божок из Восьмерки Благих, в прошлом — единовластный бог Дьяус-Небо.
ИНДРА — Владыка, бог грозы, Громовержец, Миродержец Востока. Один из братьев-АДИТЬЕВ. Прозвища: Шатакрату — Стосильный, Шатаманью — Стогневный, Шакра — Могучий, Пурандара — Крушитель Твердынь, Магхаван — Щедрый, Махендра — Великий Индра, Ваджрабхарт — Громодержец, Аджа — Агнец (Овен в смысле знака Зодиака), Аджайкапада — Одноногий Овен (полное название созвездия), Васава — Владыка Благих, родовое имя Индры.
КАЛА — Время. Одна из ипостасей — КАЛАНТАКА, т. е. Время-Губитель.
КАЛИ — Темная, богиня отваги и насильственной смерти, а также злой судьбы. Символ Эры Мрака, ипостась супруги Шивы.
КАМА — Страсть, бог любви, прозвища: Цветочный Лучник, Манматха — Смущающий Душу.
КАНСА — Кубок, царь Матхуры, дядя Черного Баламута по матери, из-за предсказания смерти от руки племянника старался убить всех сыновей сестры и вообще окружающих младенцев, за что получил прозвище Ирод (не путать с царем Иродом, в смысле Геродом Великим, времен рождения Христа, на санскрите Ирод (Дхармад) — Выполняющий-Долг).
КАРКОТАКА — Рак, созвездие Зодиака.
КАРНА — Ушастик, добрачный сын царицы Кунти-Притхи (матери братьев— Пандавов) от Сурьи-Солнца. Усыновлен возничим Адиратхой и его женой Радхой— Молнией, отсюда прозвище — Радхея. Прозвища: Вайкартана — Секач, Васушена — Войско Благих (второе значение — Рожденный-с-драгоценностями), Вриша — Бык. Непримиримый враг Пандавов, особенно Арджуны.
КАШЬЯПА — Черепаха, божественный мудрец. Внук Брахмы, сын Маричи, отец суров, асуров и прочих существ.
КРИПА — Жалец (имя происходит от слова «Жалость»), брахман-воин, рожденный без матери, первый учитель Пандавов и Кауравов, сын мудреца шарадвана.
КРИПИ — Жалица, сестра-близнец Крипы, жена Дроны, мать Ашваттхамана КРИШНА ДВАЙПАЯНА — Черный Островитянин, прозвище Вьяса (Расчленитель), составитель Махабха-раты, добрачный сын Сатьявати (будущей жены царя Шантану), подлинный отец Слепца, Альбиноса и Видуры.
КРИШНА ДЖАНАРДАНА — Черный Баламут, рожден в племени ядавов от Васудевы (Благого Бога) и его супруги Деваки (Божественной). Основная земная аватара Вишну. Прозвища: Адхокшаджа — Рожденный под осью, Ачьюта — Стойкий, Бхагаван — Господь, Варшнея — Из-рода-Вришни (тотем Мужественного Барана), Говинда — Пастырь, Кешава — Кудрявый, Хришикеша — Курчавый, Хари — Буланый (Уносящий— грехи-подобно-буланому-коню), Шаури — Герой и т. п.
КРИШНИ ДРАУПАДИ — Черная Статуэтка, дочь царя панчалов Друпады, общая жена всех пяти братьев-Пандавов.
КУБЕРА — Урод (второе значение — Кубышка), бог богатства, трехногий, одноглазый и восьмизубый. Миродержец Севера.
КУМАР — Княжич, эпитет Сканды, бога войны.
КУРУ — царь из Лунной династии, по чьему имени названы Кауравы.
ЛАКШМИ — богиня счастья, супруга Вишну.
МАДРА — Радость (на санскр. в конце имени ставится долгое «и», что в русском языке традиционно обозначается как «а», так и «и»), дочь царя Мадры (имя и страна), вторая жена Панду-Альбиноса, мать младших Пандавов-близнецов Накулы и Сахадевы, рожденных от богов Ашвинов. Дочь царя мадров Шальи, колесничего Карны. Овдовев, последовала за мужем на костер.
МАЙЯ — демон-асур, зодчий асуров и богов, великий мастер.
МАРА — Князь-Морок, Владыка Иллюзий.
МАРУТЫ — сыновья Шивы, божества бури, дружина Индры.
МАХАЛИ — колесничий Индры.
МАХИША — Буйвол, восставший асур, убитый Дургой.
МЕНАКА — выдающаяся апсара.
МИТРА — Друг, божество солнечного света. Правил в паре с Варуной, а когда им на смену пришла Свастика Локапал, удалился в изгнание.
МОРЕНА (Мриттью) — Смерть.
НАКУЛА — Единственный, четвертый брат-Пандав, сын царицы Мадри от богов— Ашвинов, брат-близнец Сахадевы.
НАХУША — Змий (второе значение — Свояк), царь, отец Яяти-Лицемера. Получив дар дурного глаза, занял место Индры, но за самодурство был низвергнут и стал нагом.
ПАНДУ — Альбинос, сын Черного Островитянина и Амбалики (Мамочки), брат Слепца и Видуры, номинальный отец братьев-Пандавов.
ПАРАШАРА — Спаситель, великий мудрец.
ПАРАШУРАМА — Рама-с-Топором, Палач Кшатры, сын Пламенного Джамада из рода Бхригу (отсюда родовое имя Бхаргава).
ПРАТИПА — Встречающий, царь из Лунной династии, отец Шантану, дед Грозного.
ПРАХЛАДА — Дружественный, один из царей асуров.
ПРИТХА — Ладонь, жена Панду-Альбиноса и мать первых трех братьев— Пандавов. По приемному отцу зовется Кунти. Дочь царя Шуры (деда Черного Баламута) и соответственно родная тетя самого Черного Баламута.
ПРИШАТА — царь панчалов, отец Друпады.
ПУРОЧАНА — хастинапурский советник, сгорел в Смоляном Доме.
РАВАНА — Ревун (синоним слова Рудра), царь ракшасов. Сводный брат бога Куберы. В данном случае имя может означать также «Тот, кто заставляет реветь». Он же — Десятиглавец.
РАДХА — Молния, жена Адиратхи (Первого Колесничего) и приемная мать Карны— Секача.
РАХУ — Вор, демон, воровски вкусивший амриты и ставший бессмертным. Его отрубленная голова проглатывает Солнце и Луну. Также имя жены Пламенного Джамада, которую убил ее сын, Рама-с-Топором, по приказу отца.
РОХИНИ — Красна Девица (второе значение — Возрастающая), младшая жена Васудевы (отца Черного Баламута) и мать Баларамы. Здесь же: имя звезды, жены сомы-Месяца.
РУДРА — Ревун, первое имя Шивы.
РУКМИН — царь бходжей, ученик царя оборотней Друмы, уклонившийся от Великой Битвы.
САТИ — Добродетельная, дочь мудреца Дакши, первая жена Шивы.
САТЬЯВАТИ — Аромат Правды, подкидыш-рыбачка, в дальнейшем жена царя Шантану, мать Черного Островитянина. Прозвище — Кали, т. е. Темная.
САТЬЯКИ — Правдолюб, родич Черного Баламута и сторонник Пандавов.
САХАДЕВА — Ровесник Богов, пятый брат-Пандав, близнец Накулы.
СОКОЛ — (санскр. ШАКУНИ) правитель Благоуханной, брат Гандхари, жены Слепца-Дхритараштры, дядя Кауравов, искусный игрок в кости по прозвищу Китала.
СОМА — Месяц, бог луны и ритуального напитка, Миродержец Северо-Востока.
СУРЬЯ — Солнце, один из богов-Адитьев, Миродержец Юго-Востока, отец Адского Князя Ямы-Дхармы. Прозвища: Савитар — Спаситель, Вивасват — Лучезарный и т. д.
ТАКШАКА — Тесло («такш» — тесать), один из змеиных царей.
ТВАШТАР — Творец (более точно — Плотник), архаическое божество.
ТРИМУРТИ — Троица, первоначально Индра-Сурья-Агни, позднее Брахма-Вишну— Шива.
УМА — Блондинка, дочь горного великана Химавата, сестра Ганги и жена Шивы.
УПАРИЧАР — Воздушный Странник, раджа матсьев.
УРВАШИ — Вожделение, знаменитая апсара.
УЧЧАЙХШРАВАС — Остроух, белый конь Индры, вышедший при пахтанье океана.
УШАНАС — Наставник асуров (Асура-Гуру), владыка планеты Шукра (Венера).
ХАСТИНАПУР — Город Слона или Город Хастина (основатель), столица Кауравов. Примерно 101 км к северо-востоку от Индрапрастхи, столицы Пандавов.
ХИДИМБА — Ярая, ракшица, родившая от Бхимасены ракшаса-колдуна Плешивца, сторонника Пандавов.
ХИМАВАТ — горный великан, олицетворение Гималаев. Отец богини Ганги и Умы, супруги Шивы.
ХИРАНЬЯДЖАМБХА — Златоклык, ракшас из войска Раваны, позднее служил царю Кансе.
ХОТРАВАХАНА — Наездник Обрядов, глава обители близ Шальвапура.
ЧИТРАВИРЬЯ (ЧИТРА) — Отважный (он же — Читрасена и т. п.), царевич Города Слона, сын Сатьявати и раджи Шантану. Погиб молодым на охоте, не оставив потомства.
ШАЛЬВА — раджа шальвов, чью невесту похитил Гангея Грозный.
ШАЛЬЯ — царь мадров, отец царицы Мадри, второй жены Панду-Альбиноса (Пандавы Накула и Сахадева — его внуки). Собирался принять сторону Пандавов, но после передумал и выступил за Кауравов, будучи возницей Карны-Секача, оскорблял последнего и способствовал его гибели. Впрочем, после возглавил войско Кауравов и погиб в бою.
ШАМБАЛА — божественная корова.
ШАНТАНУ — Миротворец, царь Лунной династии, отец Гангеи Грозного, которого родила от него богиня Ганга.
ШАРАДВАН — Годовалый, мудрец-воин, отец Крипы и Крипи. Второе имя — Гаутама (по отцу Готаме).
ШАЧИ — Помощница, богиня удачи, дочь чудовища Пуломана и жена Индры.
ШЕША — Последний, Великий Змей о тысяче голов, Опора Вселенной.
ШИВА — Милостивец, один из Троицы, символ Разрушения. Эпитеты: Бхутапати
— Владыка бхутов (нежити), Гириша — Горец, Пашупати — Владыка Тварей, Дурвасас
— Оборванец, Капардин — Носящий Капарду (прическу узлом в форме раковины), Махешвара — Великий Владыка, Нилагрива — Синешеий, Стхану — Столпник, Хара — Разрушитель, Шанкара — Усмиритель, Шарва — Стрелок-Убийца и т. д.
ШИКХАНДИН — Хохлач, дочь-транссексуал царя панчалов Друпады, воплощение Амбы-Матери, рожденная на погибель Грозного.
ШУКРА — Светлый, планета Венера и прозвище ее владыки Ушанаса.
ШУРА — иначе Шурасена, Тесное Войско, царь вришнийцев и ядавов, отец Кунти-Притхи, дед троих из пятерки братьев-Пандавов, также дед Черного баламута.
ЭКАЛАВЬЯ — горец-нишадец, сын Золотого Лучника, отрезавший себе палец по требованию Наставника Дроны. Во время Великой Битвы сражался против Пандавов и был предательски убит Кришной.
ЮДХИШТХИРА — Стойкий-в-Битве, старший из братьев-Пандавов, сын царицы Кунти и Ямы-Дхармы. Прозвища: Аджаташатру — «Тот, чей соперник еще не родился», Дхармараджа — Царь Справедливости, Самодержец и т. д.
ЯМА — Близнец, сын Сурьи-Солнца, Владыка Преисподней, Миродержец Юга. Прозвища: Антака — Губитель, Дхармараджа — Царь Справедливости, Самодержец, Адский Князь и т. д.
ЯЯТИ — Лицемер, пятый царь Лунной династии. От его старшего сына Яду, не согласившегося уступить отцу свою молодость, пошел род ядавов (где родился Черный Баламут), от согласившегося праведного Пуру — род Пауравов, т. е. Пандавов и Кауравов.
Примечания
1
Снуха — молочай.
(обратно)2
Наги — демоны-змеи, иногда оборотни.
(обратно)3
Парибарха — калым, магарыч, выкуп за невесту.
(обратно)4
Десятиколесничный — Дашаратха (санскр), родовое имя царей Солнечной династии, включая Раму, победителя Раваны.
(обратно)5
Арбуда — сто миллионов.
(обратно)6
Бхакты — «любовники» в основном значении.
(обратно)7
Тар — горный козел весом до 100 кг.
(обратно)8
Варта — охрана (санскр.). Соответственно «охранник» — вартовой.
(обратно)9
Товарьяман — «друг благородного человека», побратим.
(обратно)10
Махаратха — великоколесничный боец (санскр).
(обратно)11
Подрывающий Чистоту — дословный перевод названия смешанной касты «Кшаттри», когда отец принадлежит к варне кшатриев, а мать — шудра. Видура-Законник, сводный брат Слепца с Альбиносом и внук Грозного, принадлежал именно к такой касте, и его прозвище было — Кшаттри.
(обратно)12
Вакра — Кривой (санскр) Эпитет применяется к любому предмету, используемому не по назначению, или к любому действию в противоестественном направлении.
(обратно)13
Шасана — указ, грамота, ордер.
(обратно)14
Мухурта — сорок восемь минут.
(обратно)15
Бхандыга — барышник (от «бханда» — барыш).
(обратно)16
Коиль — кукушка. Аналог соловья в индийской поэзии.
(обратно)17
Лук Индры — радуга.
(обратно)18
Махендра — «Великий Индра».
(обратно)19
«Брахман» в основном значении — «надзиратель».
(обратно)20
Шесть йоджан — примерно 101 км.
(обратно)21
Ваня — «подкоп» (санскр.), ванька — уменьшительно-презрительная форма. «Валять ваньку» — одновременно и «рыть подкопчик», и «увиливать под землей».
(обратно)22
Ветракиягриха — «Место, изобилующее камышом».
(обратно)23
Харша — имя божества радости.
(обратно)24
Хум — бранное выражение порицания, осуждения.
(обратно)25
На санскрите — Индрапрастха, означает «Индрова Твердыня». Твердыня, укрепленный город на обыденном — «град».
(обратно)26
Названия лука и меча Кришны.
(обратно)27
Бхуришравас — Болтун, во время Великой Битвы потеряет руку от стрелы Арджуны и голову — от меча родича Кришны.
(обратно)28
Наименования граней игрального кубика, от шести до одного, игра велась тремя или пятью кубиками, имевшими собственные имена, и комбинации значили не меньше, чем общая сумма или количество дублей. Имелись и другие варианты игры.
(обратно)29
Радха — Молния (санскр), соответственно Радхея — Сын Молнии, Молниеносный.
(обратно)30
Панава — вид барабана.
(обратно)31
Стихи Юлия Буркина.
(обратно)32
Вайкартана — Секач, Рассекающий Тучи Первоначально — прозвище Сурьи, бога-Солнца.
(обратно)33
Приписывается Царю Справедливости.
(обратно)34
Дару — гималайский кедр.
(обратно)35
Стихи Э. Верхарна «Там».
(обратно)

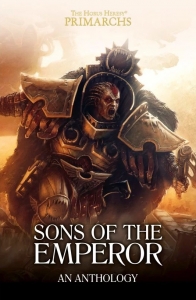



Комментарии к книге «Иди куда хочешь», Генри Лайон Олди
Всего 0 комментариев