Елизавета Дворецкая Гроза над полем
Предисловие
«Ночь Богов» принадлежит к тому же циклу, что и «Лес на Той Стороне», но продолжением его не является, а обладает самостоятельным сюжетом. В описании реки Угры и ее населения между этими двумя романами есть заметные несоответствия – объясняется это тем, что со времени работы над «Лесом на Той Стороне» автор лучше познакомился с историческими материалами и подробнее разработал тему.
Жанр предлагаемого произведения автор определить затрудняется. Действие происходит в нашем мире, в нынешней Центральной России. При написании книги использовался максимум доступных автору исторических сведений о жизни восточных славян и днепровских балтов в первой половине IX века. Все это дает книге право претендовать на звание исторического романа. Но сам этот максимум сведений объективно настолько мал, что автор, даже стоящий на самых реалистических позициях, неизбежно напишет по большей части фантастическую книгу. Во всех подробностях можно описать глиняные горшки, устройство печей или оборонительных валов – те вещи, которые доступны археологам, но для художественной части произведения это почти ничего не дает. О том, что действительно важно для писателя, мы знаем так мало, что большую часть поневоле приходится домысливать.
К тому же писатель, желающий как можно точнее воспроизвести картину жизни древних славян, должен принять как реальность все то, что его герои считали реальностью, даже если оно выходит за рамки наших представлений о возможном. В итоге получилось нечто далекое от традиционного исторического романа, но от традиционного фэнтези находящееся, пожалуй, еще дальше. Обоснование исторических и мифологических концепций см. в Послесловии, значение историзмов – в Пояснительном словаре в конце книги.
Глава 1
830 год, месяц кресень, среднее течение Угры
Ранним утром, когда над вершинами берез еще висели белые полосы тумана, молодая стройная женщина пробиралась по тропинке через лес. Одета она была в единственную рубаху из серого небеленого льна с пояском из простой двухцветной тесьмы, голову покрывал вдовий повой с двумя медными заушницами. Тропинка вывела ее на широкую поляну, где разместилось несколько землянок Варги.
Когда-то очень давно место обитания бойников считалось тайным и запретным для посторонних, особенно для женщин. Но за многие годы тайное стало явным, к Варге протоптали заметную тропу. Едва ли нашлась бы в Ратиславльской волости хоть одна женщина, которая ни разу, хотя бы в пору детского безрассудного любопытства, не подкрадывалась бы сюда вместе с сестрами, чтобы хоть одним глазком взглянуть на полуземлянки, в которые с такими таинственными предосторожностями уходят по достижении двенадцати лет их братья и откуда возвращаются лет через пять-шесть с таким важным и загадочным видом.
У этой женщины никогда не было братьев. Но уж конечно, она, для которой в окрестных лесах не имелось тайн, отлично знала дорогу сюда.
Все полуземлянки еще стояли тихие, на поляне у широкого кострища никто не возился, топор не стучал. С трудом переводя дыхание после быстрой ходьбы, утренняя гостья изо всех сил заколотила кулаком в дверь самой большой.
Почти сразу изнутри раздался голос:
– Ну, какой леший там колотится? Иду уже, иду!
Видимо, на самом деле Гуляйка не опасался, что к ним пожалует леший, потому что распахнул дверь, ничего не выспрашивая. Увидев гостью, он удивленно поднял брови:
– От оно! А тебе чего тут надо?
– Варга Лютомер дома? – сразу спросила женщина. – Пусть выйдет.
Гуляйка хмыкнул:
– Ты что, девка,[1] сдурела? Сейчас он к тебе побежит, аж из портков выпрыгнет! Что у вас там стряслось? Тебя кто прислал? От князя?
– Никто не прислал, сама я! – Женщина начала злиться. – Поди позови, ну, Гуляюшка! – Не показывая досады, она расплылась в сладкой улыбке. Будучи существом бесправным, но хитрым, она предпочитала ни с кем не ссориться. – Важное дело у меня, ему очень надо знать! Он и тебя не похвалит, и меня не пожалует, что мы с такой вестью важной мешкаем!
– Гуляйка, кто там? – крикнул из глубины полуземлянки десятник Дедила.
Варга просыпалась, бойники потихоньку одевались, позевывая, собираясь к ручью умываться.
– Да Галица прискакала! – ответил парень. – Говорит, дело важное к варге Лютомеру.
Дедила, на ходу натягивая рубаху, подошел к двери и выглянул на свет. Неглубокая полуземлянка была опущена в землю едва по колено, но Галица согнулась, чтобы не смотреть на мужчин сверху вниз.
– Чего тебе? – не трудясь здороваться, спросил десятник. – Кто прислал?
– Здравствуй, Дедила, да будет с тобою Ярилина милость! – Женщина низко поклонилась. – Я вам такую весть важную несу!
– В Ратиславле стряслось что-нибудь? Ну, говори, чего лису за хвост тянешь?
– Была я там, на Ивовом ручье, – Галица махнула куда-то на закат, – и видела на реке людей чужих, незнакомых, все мужчины, да с оружием! Идут на двух ладьях, издалека, видать. И сами не наши, и вид у них такой, чужедальний.
– Много? – Дедила сразу стал серьезным.
– С два десятка будет. Я из-за кусточков смотрела, боялась, как бы не заметили меня.
– Может, купцы? Варяги?
– Да нет, не похожи. Никаких товаров при них нет, так, припасы, может, в мешках. Да и вид такой суровый! А самый главный у них молодой, в шапке шелковой заморской, и важный такой, суровый, прямо крагуй![2]
– Куда правили?
– А прямо к Ратиславлю и правят.
– Давно видела?
– Да вот только! Только и времени, что сюда добежать! Я себе думаю: надо людей предупредить, а чем до Ратиславля бежать, лучше к варге Лютомеру пойду, он и ближе, и люди у него…
Не дослушав – мысли Галицы никого тут не занимали, – Дедила повернулся и ушел будить варгу – вожака лесного братства «волков». Вскоре бойники, на ходу затягивая пояса, высыпали из низких дверей. Много времени на сборы им тратить не приходилось – для того они и жили здесь, чтобы первыми выходить в случае какой-либо опасности. Понимая, что ладьи пришельцев не стояли на месте все то время, пока Галица бежала к Варге и они собирались, Лютомер сразу повел дружину к Ратиславлю.
По дороге торопились – мало того, что бойники должны первыми выходить навстречу всякому врагу, но и честь его обнаружить никак нельзя было уступать кому-то другому, да еще женщине! Обсмеют, скажут, девки вас обскакали!
Под началом у варги Лютомера сейчас находилось около четырех десятков отроков и парней, собранных со всей волости. Большинство молодых «волков» по завершении обучени возвращались домой, но некоторые, прижившись в Варге лучше, чем могли бы прижиться дома, не желали менять лесную жизнь на тяжкий труд земледельца и оставались, сами начиная обучать новых «волчат». Такие, отказавшись от возвращения в род, проходили особые посвящения, после которых теряли старые имена и принимали новые – волчьи. Таких называли «отреченными волками». Из них в Варге сейчас жило двое стариков, уцелевших от предыдущих поколений, – Ревун и Хортогость. Этим было лет сорок, а может, пятьдесят, а может, девяносто – юные «волчата» уже не замечали разницы, им двое стариков казались осколками давно минувших веков. Бойникам ведь редко удается состариться, и поколения у них меняются быстро. Из молодых тот же путь избрали Хортомил, Чащоба, Серогость, Лесомер, Дедохорт и Яроволк. От прочих их отличали волчьи шкуры, которые они носили на плечах вместо плащей. Летом, когда жарко, они подвешивали к поясу полоску шкуры с волчьей лапы с когтями. Охотиться на «своих» волков, то есть живущих поблизости от Варги, обычай запрещал – как запрещал и наносить какие-либо обиды жителям своей волости, – но как люди, так и волки бывают чужие, победа над которыми приносит честь и добычу. Прошедшие волчьи посвящения приобретали, как говорили, способность к оборотничеству, благодаря чему в окрестных весях их уважали и побаивались.
На Угре сложился обычай, согласно которому возглавлял «волчье братство» сын или младший брат князя, что обеспечивало и братству, и князю взаимную поддержку. В последние семь лет это место занимал старший сын угрянского князя Вершины Лютомер. Даже незнакомый легко угадал бы, кто в этой «волчьей стае» главный, – высокий, широкоплечий, но стройный, он двигался легко и бесшумно, как настоящий лесной зверь, но в случае надобности в нем просыпалась огромная, неутомимая сила. Рожденный старшей женой Вершины, волхвой Семиладой, имея среди своих предков многих прославленных воевод и могучих волхвов, он в совершенстве владел древним священным искусством пробуждения в себе этой силы, чарами старинных мужских союзов. Уже лет десять он возглавлял общину угрянских бойников, приняв власть над Варгой из рук Ратислава, своего дяди по отцу, погибшего в одном из походов. Но все знали, что силами и способностями Лютомер превосходит стрыя, как, несомненно, со временем превзойдет его славой. По матери Лютомер происходил из древнейшего рода жрецов и кудесников и считался сыном бога Велеса. Соединяя в себе силы и умения волхвов и бойников, он владел многими тайнами и даже умел перевоплощаться в волка, предка и покровителя мужских союзов.
Отец Лютомера, князь Вершина, жил на холме над Угрой неподалеку от Варги. Вернее, «волчье логово» когда-то устроили поодаль от поселения, но за сто с лишним лет многие участки леса вокруг Варги выжгли и распахали, а потом опять забросили. Некоторые места были распаханы и заброшены уже по три раза, и земля истощилась настолько, что здесь не рос даже лес и старые лядины зияли проплешинами. Хортогость уже не раз заговаривал о том, что Варге пора подыскивать себе новое место – поглубже в лес, подальше от людей.
Ратислав Старый, основатель Ратиславля, пришел сюда со своим родом с запада, от верховий Днепра. Постепенно расселяясь, кривичи нуждались в новых землях для пашен и продвигались все дальше на восток. Когда-то давно земли по берегам Угры и других притоков Оки занимали во множестве племена голяди, но в последние века они вымирали и уходили дальше на север. Славянские роды – как правило, младшие сыновья с женами и подросшими детьми или ватаги бойников, желающих обосноваться в новых местах, – иногда подселялись в поселки голяди, заключая с ней ряд, иногда занимали брошенные много лет назад городища на высоких местах. Такое же брошенное городище занял и Ратислав Старый – подновил оползший вал, поставил поверх него крепкий частокол. Сейчас, более века спустя, род разросся и не помещался внутри старого вала – цепочка полуземлянок, соединенных бревенчатыми наземными переходами, уже стояла снаружи. Это сыновья стрыйки Молигневы, Солога и Хмелиня, женившись, поставили себе жилища здесь. Сам Солога, старший ее сын, сейчас стоял на пороге своего жилья, держа в руке топор на всякий случай и внимательно глядя на реку.
Лютомер и бойники вышли из леса как раз вовремя – к отмели, где лежали ратиславльские лодочки, подходили две чужие ладьи, наполненные людьми. У всех имелось оружие – топоры, копья. Однако, бросив на нежданных гостей один быстрый взгляд, Лютомер облегченно вздохнул и усмехнулся:
– У Галицы от страха в глазах помутилось – оковцев не узнала. Это же Доброслав! Помнишь его, Дедила?
– Они, пожалуй! – Десятник вгляделся и кивнул. – Я и сам не сразу вспомнил. Сколько ж их не было?
– А полгода почти и не было. Как реки встали, так они проехали.
– С чем плывут, вот бы узнать! – заметил другой десятник, Хортомил, и усмехнулся: – А то если они к смолянам зазря съездили, может, хотят нас завоевать в утешенье?
– Щас мы их утешим, – пообещал Лесога и сплюнул. Несмотря на свой малый рост, он считался знатным бойцом и ничего на всем свете не боялся.
– Ну, ну! – насмешливо осадил его Дедила. – Они тебя уже знают! Отойди от берега, а то и пристать не решатся!
Лютомер тем временем уже направился вниз по тропе. Заметив бойников, приезжие не спешили выходить из лодок, хотя те уже встали на мелководье.
– Здоров будь, Доброслав Святомерович! – Лютомер приветственно махнул рукой. – Выходите, благо вам будь на земле угрянской, если сами не со злом пришли!
– Здоров будь и ты, варга Лютомер! – ответил ему рослый, худощавый, неширокий в плечах, но жилистый и сильный мужчина лет двадцати пяти. Это его Галица называла «крагуем» – и правда, что-то общее с суровой хищной птицей замечалось в выражении его лица, с тонкими чертами и горбинкой на носу, с темными глазами, унаследованными от бабки, которая у него была то ли хазарка, то ли булгарка. Темно-русые волосы покрывала шапка с богатым шелковым верхом.
Доброслав первым поднялся по тропе на крутой берег, за ним потянулись его люди, вытащив ладьи на песок. Старший сын князя Святомера, правившего в землях русов-вятичей[3] на верхней Оке, еще зимой, в студен-месяц, проезжал со своей дружиной и двумя оковскими старейшинами через Угру, направляясь к Днепру, к князю смоленских кривичей Велебору. Лютомер хорошо помнил рассказы вятичей о событиях, побудивших их отправиться в дальний путь на запад, о невиданных каменных крепостях, которые начали строить хазары на рубежах славянских земель, о войне прошлого лета, когда даже сын лебедянского князя Воемира попал в плен и таскал камни на строительстве. Понимая, что крепости строятся неспроста и в будущем обещают русам много неприятностей, князья наметили на следующее лето большой поход и стали искать союзников. Сюда, на Угру, приезжал сам оковский князь Святомер и звал князя Вершину присоединиться к походу, соблазняя богатой добычей, которую можно захватить в изобильных хазарских городах. Но князь Вершина имел благовидный предлог отказаться: будучи по происхождению потомками днепровских кривичей,[4] угряне признавали над собой верховную власть смоленского князя и без его согласия ввязываться в войну не имели права. Признав справедливость этих доводов, князь Святко отправил старшего сына на Днепр, надеясь склонить к союзу самого князя Велебора.
Со времени отъезда послов прошло уже полгода, и вот они едут восвояси. Спрашивать, удачным ли оказалось посольство, было еще рано, но Лютомер, окидывая быстрым взглядом лица Доброслава и его людей, заподозрил, что поздравить не с чем. Никого нового с ними не оказалось, кто уезжал, тот и возвращался.
– Здравствуй, боярин Волерад! Привет тебе, Выгляд! Здоров ли, Бегиня? – приветствовал он оковских старейшин, сопровождавших Доброслава, пока те проходили мимо него от лодок по тропинке к Ратиславлю.
Вятичи кланялись в ответ, но на их лицах отражалось предчувствие неприятных разговоров, которые им придется здесь вести. Лютомер провожал их невозмутимым, даже веселым взглядом, по привычке слегка щурясь, словно желая спрятать свои мысли, но подмечал их озабоченность и старался прикинуть, чего теперь ждать. Если бы князь Велебор дал согласие на поход, вятичи ехали бы веселые. Скорее всего, согласия он не дал. Неужели снова будут уговаривать угрян выступить без согласия светлого князя? Доброслав, конечно, упрям, как гора каменная, но должен же понимать, что взялся за безнадежное дело?
Ибо угряне совершенно не жаждали участвовать в тяжелых и кровопролитных хазарских войнах, о чем явственно давали понять вятичам еще зимой. Угра располагалась далеко от тех мест, куда могла добраться хазарская конница, и угряне не собирались рисковать ради сомнительных выгод, которые мог дать им Русский каганат и его восточная торговля.
– Прошу, будь нашим гостем, Доброслав Святомерович! – Лютомер с подчеркнутой вежливостью поклонился княжичу, который прошел мимо него последним. – Сейчас скажу и баню приготовить, и стол накрыть, а там уж и поговорим.
В баню каждый, кто проделал долгий путь, отправлялся первым делом – смыть все то нехорошее, что могло к нему прицепиться по дороге через глухие леса. Пока гости мылись, у князя Вершины было время приготовиться к их приему. Он уже к тому времени поднялся и сидел за завтраком, намереваясь объехать свои поля и посмотреть всходы, но поездку пришлось отложить. Прослышав о госте, старейшины Ратиславичей собрались в братчину – самую просторную из старых землянок. Когда-то в ней жил сам Ратислав Старый, а после его смерти сыновья, к тому времени все женившиеся и поставившие рядом собственное жилье, стали собираться здесь для совместных трапез, праздников, на совет или просто – скоротать время вечером за разговором. Для женщин имелась другая такая же постройка – беседа, где они собирались в основном по зимам прясть и шить.
Ратислава Старый сам был не простого рода и вел свое происхождение от древних смолянских князей. Забравшись так далеко на восток и приобретя со временем большую власть и влияние над угрянами, то есть потомками кривичей и голяди, во многом перемешавшихся между собой, его внук, тоже Ратислав, большой удалец и кудесник, носивший прозвище Космат, отказался платить дань Смоленску. Дело чуть не кончилось войной, но в конце концов между Ратиславлем и тогдашним смоленским князем Зареблагом был заключен ряд: дочь Космата Мыслена стала младшей женой Зареблага, а сам Космат получил право называться угрянским князем, самостоятельно собирать дань с Угры и окрестностей, отдавая четвертую ее часть смолянам. И так с тех пор продолжалось уже почти век. Угрянские князья понемногу расширяли свои владения и сейчас добрались уже до истоков реки Рессы, южного притока Угры. Сначала звание угрянского князя носил старейшина рода, но со временем решили закрепить его, чтобы не толкать кровных родичей к раздору, за старшим сыном прежнего князя. Князь Вершина стал третьим, кто получил власть именно так. Старейшиной над Ратиславичами считался его двоюродный брат Богомер. Он решал дела, относящиеся к самому роду, а Вершина – дела всей угрянской земли. И похоже, что именно такое дело и явилось в Ратиславль этим туманным утром в лице оковского княжича Доброслава.
Несмотря на почетное звание, жил угрянский князь почти так же, как любой простой человек: каждый год он сам брал в руки топор и отправлялся «подчерчивать» лес, то есть подрубать деревья на выбранном под новое поле участке, чтобы подсохли, а потом рубил уже высохший лес, «подчерченный» пару лет назад. Сам он, с благословения Велесова волхва Велерога – тоже родича, по весне, как стает снег и все высохнет, подносил огонь к поваленным стволам, а как сгорят, сам проводил первую борозду ралом с железным наральником, в которое был запряжен крепкий рабочий конек. Сам он и первым бросал в борозды семенное зерно ржи или ячменя, чтобы благословение богов, лежащее на их далеком потомке, перешло на нивы и одарило род изобилием и благополучием.
Собственной дружины, как князья в тех землях, что постоянно воюют с внешними врагами, угрянский князь не держал. Работы для такой дружины находилось, слава чурам, очень мало, а кормить ее надо круглый год. В случае опасности его войском становились все взрослые мужчины племени, а сродники Ратиславичи – ближней дружиной. Для разных поручений, грозящих той или иной опасностью, или дальних поездок он использовал бойников – в тех молодая удаль играет, они и сами рады с кем-нибудь сцепиться.
Его жилище – несколько просторных полуземлянок, в каждой из которых обитала одна из жен со своими детьми и челядью, – мало чем отличалось от жилищ прочих Ратиславичей, и сам князь Вершина – крепкий мужчина сорока с небольшим лет, с красивыми русыми кудрями, чуть тронутыми сединой, – лицом походил на родичей, собравшихся послушать, что скажут приезжие. Чужих здесь не видали, бывало, годами, поэтому ради такого события отцы семейств отложили дела.
Многочисленные сродники толпились перед братчиной, стремясь поглазеть на гостей. От четырех жен (сейчас в его доме из них жили три) боги послали угрянскому князю шесть сыновей и семь дочерей. Старшие дочери, которым понравился стройный красивый гость, прихорашивались – для любой из них было бы совсем не плохо войти в его дом хотя бы второй женой. Но Доброслав, в сопровождении Лютомера проходя к братчине, равнодушным взглядом скользнул по хорошеньким, румяным лицам Молинки, Русавки и Ветлицы. Гораздо больше для него значила встреча с их отцом.
Братчина, просторное сооружение из толстых бревен, под двускатной соломенной крышей с конским черепом на коньке, отапливалась по старинке, как при Ратиславе Старом, – открытым очагом посреди земляного пола. Возле очага стояли деревянные чуры – вместилища родовых духов, которым по праздникам приносили жертвы и перед чьими темными, едва намеченными ликами обсуждались важные дела, заключались договора с соседями и приносились клятвы. Мужчины Ратиславля – отцы и деды малых семей – рассаживались на длинных скамьях вдоль стен. Женщины и дети толпились снаружи, разглядывая гостей. Приехавшие с Доброславом тоже ожидали поблизости. Женщины, кто посмелее, пытались их разговорить, но вятичи отмалчивались – видимо, Доброслав велел им придержать языки.
Проводив в братчину вятичских гостей, Лютомер хотел выйти, но князь Вершина сделал ему знак остаться. Будучи бойником, Лютомер считался находящимся вне рода и не имел права говорить в собрании его мужчин, но Вершина именно в нем видел своего наследника, не оставляя надежды, что со временем Лютомер отдаст власть над Варгой кому-то из младших братьев, вернется в род, найдет достойную жену и станет новым угрянским князем. Лютомер не опровергал этих надежд, но исполнение их пока оставалось в туманном будущем. Нельзя править и человеческим, и лесным миром, а Лютомер еще не решил, к чему его душа лежит больше. Тем не менее он не сторонился дел рода и принимал в них участие, насколько это было нужно и возможно. Поэтому сейчас, кивнув в благодарность, он скромно присел у двери, между самых младших, недавно женившихся и еще не обзаведшихся детьми молодых мужчин. Среди простых Ратиславичей Лютомер и впрямь выделялся, и видно было, что он тут не совсем свой, – его отличали и длинные волосы, собранные сзади, и волчья накидка мехом наружу, как носили только бойники. Русые волосы его уже немного тронула седина, из-за чего они почти сливались по цвету с шерстью накидки. Лицо его стало внимательным и замкнутым – в душе шевелились, как тайком заползшие змеи, нехорошие предчувствия, что Доброслав привез им новости, которых Ратиславичи не ждут и которым совсем не обрадуются.
Доброслав поклонился сначала чурам, потом князю Вершине, сидевшему на особой скамье перед очагом, потом на все стороны:
– Здравствуй, князь Вершина! Да пошлют боги великие мир твоей земле, благополучие племени, богатство дому, умножения роду!
– Здравствуй и ты, Доброславе! – Вершина приветливо кивнул и указал место, нарочно оставленное для гостей: – Садись. Садитесь, бояре оковские. Ну, рассказывай. Как доехал? Хорошо ли встретил тебя князь Велебор?
– А ты ничего и не знаешь, князь Вершина? – отозвался Доброслав. На лице его мелькнуло немного небрежное сочувствие, даже насмешка над этой неосведомленностью.
– А что такое? Откуда нам новости-то узнать – с тех пор как лед сошел, никто с той стороны не приезжал еще. Что ты мрачный такой? Или поссорились?
– Нет ли там войны какой, сохрани Перун? – с беспокойством спросил Богомер.
– О войне пока не слышно. Только князь Велебор умер.
Ратиславичи дружно охнули при этом горестном известии, даже князь Вершина не удержался от возгласа и переменился в лице.
– Умер? Отчего же?
– Судьба! – Доброслав развел руками. – Да он и не молод уже, у самого дети взрослые, и здоровьем был небогат. Умер хорошо – уснул с вечера, а утром не проснулся.
– И с детьми не простился? – охнул Витень.
– Детей его и дома не было – на охоту уехали. А как вернулись – отца уж обрядили.
– Кто же ему наследовал? – спросил Лютомер. Новость, превосходившая все его ожидания, так потрясла, что он решился подать голос, но никто его не осудил, потому что вопрос он задал самый правильный. – Старший сын? Зимобор?
– Не угадал ты, Ярилин волк! – Доброслав насмешливо глянул на него. – Княжич Зимобор в ночь перед погребением исчез и следов не оставил. Точно нави унесли. Жив ли, нет ли – только боги ведают.
– Так кто же теперь князь? – нетерпеливо спросил Вершина.
– А князем своим выкликнули смоленские кривичи… дочь Велебора, Избрану.
В ответ раздался новый возглас всеобщего изумления.
– А меньшой-то сын его что? – воскликнул племянник Вершины, сын его старшего покойного брата. Поскольку он родился старшим сыном у старшего сына прежнего князя Братомера, то ему, как вероятному наследнику угрянского стола, по праву досталось родовое имя Ратислав. Но его отец, Боровит, умер еще при жизни деда, не успев стать князем и тем самым лишив своих детей надежды на обладание властью. Но Ратислав Боровитович не таил за это обиды на судьбу и родичей, а своим здравомыслием и честностью заслужил почтение и рода, и соседей. – Тоже пропал, что ли? У Велебора же двое было, и оба уже взрослые!
– Меньшой не пропал, а выкликнули смоляне княжну Избрану, – почти с удовольствием ответил Доброслав. – И волхвы их говорят, что она днепровским кривичам счастье принесет. Не знаю, как смолянам, – он горько усмехнулся, – а нам от нее пока одни беды. Князь Велебор дружбу нашу принял и с войском обещал помочь. А княгиня Избрана от его обещаний отказалась.
Доброслав стиснул зубы, не в силах сохранять равнодушный вид. Он стыдился того, что съездил в такую даль напрасно и не оправдал надежд своего отца, пославшего его на Днепр, и мучительно было вспоминать, как беспомощно он выглядел перед женщиной, новопровозглашенной княгиней днепровских кривичей-смолян, которая с каким-то мстительным торжеством взяла назад обещания, данные ее покойным отцом.
– Значит, отказалась от союза? – с сомнением повторил князь Вершина. Он не мог так сразу поверить в эти значительные перемены, обещавшие и ему сложно предсказуемые последствия. – Княгиня Избрана Велеборовна, стало быть… Ну, дела!
– Вот ты и думай, князь Вершина! – сказал Доброслав. – Вы и думайте, угряне! – Он оглядел удивленные, озадаченные, встревоженные лица, окружавшие его со всех сторон. – Что это за князь такой – баба, вдова! Нет у вас больше князя, кривичи угрянские! Сами теперь думайте, как дальше жить! И чтобы с такой долей не пропасть, не лучше ли вам будет иных товарищей себе поискать? Там, где у власти крепкие мужи стоят, а не глупые бабы! Ведь вы вятичам не чужие. И на Угре немало вятичей уже живет, и сам ты, князь Вершина, с нашими князьями и волхвами в родстве.
Он обернулся и глянул на Лютомера, к которому это главным образом относилось. Когда-то в молодости князь Вершина привез себе с Оки знатную жену – волхву Семиладу, через детей которой, Лютомера и Лютаву, князь Вершина состоял в родстве с оковскими князьями. Но если князь Вершина надеялся благодаря этому родству избежать посягательств оковских князей на его земли, то те, в свою очередь, надеялись, что родича будет легче прибрать к рукам. Впрочем, дети Семилады состояли с нынешними князьями вятичей в родстве седьмой степени, то есть кровным оно уже не считалось и даже позволяло новые браки.
– Погоди! – Князь Вершина с досадой махнул рукой. – Ты уж очень спешишь, Доброславе. Прямо сейчас тебе все подай! Молодой еще, успеешь! Соберем сперва народ, объявим твои новости. Пусть люди думают.
– Ну, пусть думают, – согласился Доброслав. – Только я, если ты позволишь, сам с угрянами говорить буду.
– Захотят тебя послушать – поговоришь. Ну, отдыхай покуда. Бабы вам поесть собирают, – Остряха, глянь, не готово там?
– Не затягивай, князь Вершина. Мне долго отдыхать некогда. Пока я ездил, не началось бы у нас опять… Ничего с Оки не слышно?
– Никого не было у нас с той стороны покуда. Хазар опасаешься?
Доброслав не ответил, но и так все понимали, что их, проклятых. Уже не первый век русские племена – донские лебедяне, воронежские поборичи, днепровские поляне, бережане, гнездиловичи, ярковичи, жившие ближе к далеким теплым морям, вели почти непрекращающуюся войну с Хазарским каганатом, одной из самых могучих держав, известных славянам. Шесть-семь лет назад три могучих русских племени – с верхнего Дона, верхней Оки и Днепровского Левобережья – мы наконец объединились и провозгласили свою державу, Русский каганат. Объединенными усилиями они не только давали отпор хазарам, но и причиняли им немалый урон, вторгались во вражеские земли, из-за чего хазары были вынуждены просить помощи у Византии. Но, несмотря на успехи, русам дорого обходились эти войны. Русские князья – Святомер оковский, Ярослав киевский, носивший титул кагана русов, Воемир донской – постоянно искали союзников.
Князь Вершина предложил гостям выбор: разместиться по одному – по двое в жилищах Ратиславичей, где сколько найдется места, или раскинуть шатры на луговине, и Доброслав выбрал второе – в конце весны в печах уже не имелось необходимости. Приезжие принялись устраиваться на отдых, а князь разослал гонцов по ближайшим вервям. В честь такого важного события, как смерть смоленского князя, предстояло созвать старейшин со всей Угры и притоков, и вече могло состояться не ранее чем дней через десять. Доброславу эта задержка причиняла большую досаду, но он понимал, что иначе нельзя. По мере расселения славянских племен, уходивших вдоль рек все дальше и дальше от древних прародин, созывать общеплеменные веча даже малых племен становилось затруднительно, но настолько важный вопрос, как смена светлого князя, мир или война, обсуждать можно было только так. А сам князь Вершина даже радовался задержке, которая давала ему возможность все обдумать и предварительно обсудить с родичами.
Первоначальный совет собрался сам собой – Ратиславичи вовсе не расходились, проводив Доброслава, а тут же принялись обсуждать новости. Ради важности дела князь Вершина даже послал за сыновьями, чтобы не пересказывать им потом, а также за старшей жрицей, своей сестрой Молигневой, которая, хоть и баба, могла иной раз подать дельный совет. Вслед за ней пришла и княгиня Володара – самая молодая из его жен и самая знатная, взятая из смоленских земель и родившая Вершине троих младших сыновей, старшему из которых сейчас было пять лет.
Трое его старших сыновей все родились от разных матерей и совершенно друг на друга не походили. Лютомер, первенец, своей сединой в русых волосах, затягивающим взглядом и неуловимым отпечатком дикости, дыханием Леса, которое сквозило во всем его облике, внушал трепет даже родичам, но именно его слово, слово наследника, главы бойников и просто умного человека, весило немало. Девятнадцатилетний Хвалислав, сын хвалиски Замилы, молчал, опасаясь ляпнуть какую-нибудь глупость; будучи горячим и честолюбивым, он пока не имел того боевого опыта, что был у Лютомера, и сейчас с замиранием сердца ждал, не выпадет ли и ему наконец случай отличиться в ратном поле.
Третий сын, Борослав, Вершине приходился, строго говоря, не сыном, а племянником – он родился от младшего Вершининого брата, Радовита, умершего двенадцать лет назад. Вершина тогда взял братову вдову к себе – не маяться же ей одной, когда в роду мужиков хватает! – и ее самая младшая дочь, Золотава, родилась от него. Но благодаря этому семнадцатилетний Борята стал считаться княжеским сыном и занимал место рядом с Хвалисом, впереди прочих двоюродных братьев.
– Неужели правда, что князь Велебор умер? – толковали Ратиславичи. – Понятное дело, года голодные прошли, и не он один… Да, от Марены, как говорится, нету коренья!
Князя Велебора на Угре видели, может быть, два раза, – обходя полюдьем свои владения, так далеко на восток он почти не заезжал, довольствуясь теми дарами, которые князь Вершина присылал ему на Днепр. Он был хорош уже тем, что не вмешивался в угрянские дела и войска с Угры требовал всего два раза. Ожидаемые перемены могли быть только к худшему, раз уж на Днепре завелся новый князь, да еще, чудно сказать, женщина!
– Она – единственная дочь княгини Дубравки, внучка Гневомилы! – вспоминала Молигнева. – Род хороший, и женщины в нем все были мудрые!
– Да ладно, мудрые! – отвечал ей волхв Велерог. – Ведь она сама два раза здесь была – когда ее замуж за Рудомера оковского везли и когда она потом от вятичей назад восвояси бежала. Сама она, конечно, дева бойкая и собой красивая, но не волхва! Не дали ей боги мудрости, не призвали к служению. Только и может, что на большие праздники возле жертвенника стоять. Ни воевать ей, ни с богами говорить – нет, не выйдет толку!
– А ведь если и впрямь Велебор умер, а на стол смоляне девку посадили, то нам под девкой жить не годится! – говорил тем временем Богомер, не дожидаясь, пока служители богов разберутся, как там у новой смоленской княгини по их части. – С ума они, смоляне, сошли, что ли? Девку! Мужики, что ли, перевелись у них?
– Может, неправда? – усомнился старейшина рода Мешковичей, по имени Немига. Мешковичи жили близко – их дети играли с юными Ратиславичами, их женщины ходили к ратиславльским шить и болтать, поэтому все новости перелетали туда-сюда мгновенно. К тому же Немига женил своего старшего сына на дочери Богомера и заседал в здешней братчине на полных правах свата.
– Нет, не будет Доброслав в таком деле лгать. – Князь Вершина покачал головой. – Видно, совсем худые дела у смолян. Может, у них война какая, всех мужиков княжьего рода перебили?
– У них война, а мы и не знаем? – не поверил Толигнев, кормилец Хвалислава. – Кабы война, прислали бы к нам за ратниками. Помнишь, тогда князь Велебор с полотеским князем Столпомиром воевал, мы тут тоже войско собирали.
– Эх, молодые мы с тобой еще были, Толига, брат ты мой! – Вершина усмехнулся и даже взъерошил свои русые кудри под шапкой, и сейчас еще густые и красивые, несмотря на седину. – Молодые, неженатые!
– Ладно, старое вспоминать. – Богомер с суровым видом разгладил усы, похоже, скрывая усмешку. Как раз из того похода он привез свою первую жену. – Раз такие дела, надо и нам к смолянам посольство собирать, новой княгине в верности клясться и дары приносить.
– Эй, эй, погоди! – переполошился Толигнев. – Осади назад! Уже он и дары принес, и в верности поклялся! А я, может, не хочу? Мы, может, не желаем бабе кланяться! Ты-то, княже, что скажешь?
– Людей соберем, спросим, – уклончиво ответил Вершина. – А спешить и впрямь некуда. Они там девку на княжий стол посадили – нас не спросили, хотим мы, угряне, такую княгиню иметь или не хотим. А раз не спросили, то теперь и мы сами за себя решаем, как нам дальше жить.
– Это ты правильно сказал! – одобрил Толига и повеселел.
– В самом деле, что ли, с хазарами воевать задумал? – почти испугался сват Годила, брат второй княжьей жены, Любовидовны.
– Зачем сразу с хазарами?
– А как же еще? Между смолянами и вятичами мы одни не проживем, – либо под руку смоленского князя, либо вятичского идти надо. А идти под вятичей – с хазарами воевать. Доброслав, вон, уже сказал. Да и без него понятно. Может, эта княгиня новая и не станет в наши дела лезть, так и пусть ее… Правильно Богоня говорит. Надо дары собирать да послов на Днепр снаряжать…
– Не надо никаких послов! – закричали разом Толигнев и Немига. Махнув рукой в сторону свата, Толига добился тишины, вскочил на ноги и торопливо заговорил: – А другие-то кривичские князья обрадуются, что ли, что на Днепре баба в князьях? И полотеский князь, и плесковский, и изборские соколы, и дешнянский, какие там есть еще, сейчас все на смолян войной пойдут, будут землю ничейную к рукам прибирать. А с кого она, Велеборовна, войска потребует? С нас, вестимо! Так что не с хазарами, так с кривичами воевать придется! А с кривичами мы воевать не будем! Мы сами кривического корня, от общего деда род ведем, и я со своей кровью воевать не стану! Велес и чуры нас за такое дело проклянут!
Отцы кричали и спорили долго; женщины, слушая под дверью, ловили долетающие обрывки голосов. Пока что ничего не прояснилось, и сам князь Вершина по большей части молчал. Это был неглупый человек, в меру отважный, в меру осторожный. Племени угрян предстояло принять важное решение, и отсидеться в своих лесах явно не получится.
– А я вот еще что думаю, – заметил Велерог. – Раз мы теперь не под рукой смоленского князя, а вроде как сами по себе, князь вятичский-то не придет нас воевать? Вятичи-то вон где – рукой подать! Увидят случай всю Угру в свои руки забрать – куда мы без Смоленска? Или хотите вместо Велеборова рода светлому князю Святке кланяться и дань платить?
– Да ему бы свое удержать, Святке-то! – напомнил Толига. – С Дону хазары повадились к нему ходить, а там ведь самый хлеб! Не леса, как у нас, где пока себе хоть с убрус пашню раскорчуешь, все жилы надорвешь! Там чистое место, как скатерь, знай паши! А земля какая! Купцы рассказывали. Не то что у нас. Они, придонские, хлебом этим живут да еще торгуют. А хазары их с тех земель вытесняют. Вот они и просят помощи.
– А пусть-ка выкусят! – воскликнул Годила. – Чтобы мы, угряне, свою кровь проливали, для них, оковских, земли отвоевывали! А пусть выкусят! Нам до тех земель далеко, нам все равно там не пахать. Мы уж тут как-нибудь управимся. Хоть ты и говоришь, Толига, пашню тяжело корчевать, зато своя она, пашня, никакие хазары-булгары сюда не придут ее топтать. А эти там, на Дону, пусть сами справляются. Я и знать-то не знаю, что там за Дон такой и где он есть.
– Зато торговать через Дон с другими землями южными можно, – заметил Вышень, нынешний глава одной из младших ветвей Ратиславичей. Он был довольно ловок в торговых делах и неоднократно ездил по поручению Вершины продавать излишки дани. – Наши меха на Дон возить, на Волгу и за Хвалынское море – лучше ничего не придумаешь.
– Да и там хазары пошлины дерут, дальше Дона ведь не пускают. – Богомер махнул рукой: – Ну его, Дон этот. Тут Годила правильно говорит. Не нужны нам степи донские, а коли князю Святке нужны, пусть сам воюет.
– Так ведь он без войска и хлеба не даст, – напомнил Дерюга, глава рода Коростеличей, жившего в ближайшем соседстве. Он тоже прибежал в Ратиславль предупредить о вятичах и успел сразу после них, с самым небольшим опозданием.
– Обойдемся! – Богомер махнул рукой. – Всего-то ничего потерпеть осталось.
– Сплюнь! – перепугался Немига и торопливо постучал по деревянной лавке. – Хвали хлеб в закромах! До жатвы еще вон сколько – мало ли что!
– У тебя, старейшина, еще есть чем терпеть, – обиженно заметил Дерюга. – А мы чуть ли не с новогодья кору да белокрылку едим. Вот не присудил ты нам, княже, тогда Кривой лужок в зарод…
– Да что вам с того лужка, там коровы все траву выели, не взойдет там ничего! – опять принялся утешать его Годила.
– По се поры не померли, стало быть, до жатвы доживете, – отрезал Богомер. – Или ты, дед, воевать хочешь? Внуки лишние есть?
Дерюга обиженно отвернулся – воевать он не хотел, и возразить ему было нечего.
– Ладно, подумаем еще, – решил князь. – А то сами передеретесь, куда там хазарам! Да смотрите, гостя не злите мне пока. Чтобы он и сам не злился, и батьку своего, если что, успокоил. Надо ведь еще и о том помнить – а ну как князь Святко от хазар отобьется, а зимой на нас пойдет?
– До зимы приготовимся, – веско пообещал Богомер, который и сам уже об этом подумал. – Сперва решить надо, что со смолянами делать. А с вятичами разберемся как-нибудь.
Князь Вершина распустил родичей, люди разошлись из братчины по своим делам, а Лютомер с бойниками отправился восвояси. Парни возбужденно обсуждали новости – в случае той или иной войны именно им предстоит идти в бой в первых рядах.
Возле самого Ратиславля они встретили Галицу, которая только теперь возвращалась из леса. Она улыбнулась Лютомеру, но он, к ее тайной досаде, ничего не заметил. Да и с какой радости он, старший сын и наследник князя, будет замечать улыбки какой-то вдовы-холопки из домашней челяди Вершины? С тем же успехом ему могла бы улыбаться какая-нибудь коза.
В Варге Лютомер собирался первым делом рассказать обо всем сестре, но дома ее не нашел.
– Приходила, уж как вы ушли, Немигина дочь, – доложил Хортогость. – Наша с ней и убежала. Да тут они где-нибудь, на бережку. Покличьте, или я вон Гуляйку пошлю. Далеко-то не уйдут.
– Я сам найду. – Лютомер кивнул.
Куда могла пойти его сестра, он очень хорошо представлял. А не знал бы – нашел бы по следу. Даже в обычном человеческом облике сын Велеса сохранял многие звериные качества – быстроту, осторожность, неутомимость, тонкий слух и острый нюх. А уж свою родную сестру, с которой они сжились за последние шесть лет ближе некуда, он нашел бы даже в чужом лесу, не то что в своем, где хоть с каждым деревом здоровайся.
Когда утром явилась Галица, Лютава еще только встала и расчесывала волосы, поэтому даже не успела толком понять, что случилось и куда вдруг сорвался брат вместе со всей дружиной. Правда, Хортогость пересказал ей речи Галицы, но Лютава все равно недоумевала и очень обрадовалась, когда в дверь опять постучали. Притом постучали именно к ней – она жила отдельно от всех, в маленькой полуземлянке на самом краю поляны. Выскочив наружу, Лютава увидела Далянку.
Отец Далянки был главой Мешковичей – одного из многочисленных и богатых родов, жившего неподалеку от Ратиславля. Его род по старой памяти считался голядским, но еще лет сто назад они научились у пришельцев-славян ковать железные наральники и распахивать пашню. Благодаря многочисленным бракам с кривичами они и между собой стали говорить по-славянски, и из всех Мешковичей голядскую речь помнила теперь только старая бабка Шваруса. Бабка же дала внучке имя Дайле, которое соседи и родичи быстро переделали в Далянку. Девушка словно взяла все лучшее, что могли ей дать оба народа: высокие скулы подчеркивали прелесть больших темно-голубых глаз, а золотистые волосы обрисовывали продолговатое лицо мягким сиянием. Нрава Далянка была покладистого и приветливого, со всеми дружила и ничуть не гордилась своей красотой.
Лютава заметно уступала подруге красотой, но это ее нисколько не огорчало. Старшая дочь князя Вершины, единственная родная сестра Лютомера, очень походила на брата: высокая, худощавая, узкобедрая, с продолговатым лицом, широким ртом и узкими, немного близко посаженными серыми глазами. Кожа у нее была смугловатой, и летний загар прилипал к ней накрепко, не сходя даже за долгую зиму. Вот волосами она могла гордиться: русые, длиной до колен, густые, мягкие и слегка волнистые, истинно как у берегини. В двенадцать лет, после первого взрослого посвящения, она оставила отчий дом и с благословения матери ушла жить в Варгу, к своему брату Лютомеру и его побратимам-бойникам. В этом тоже проявился след древнего обычая: среди бойников должна находиться одна-единственная женщина, жрица Марены, которая в древности являлась и наставницей, и сестрой, и женой всем побратимам. Последнему парни, конечно, очень бы обрадовались: общества женщин им здесь не хватало, а в Лютаву некоторые из них были прочно, хотя и тайно влюблены и не променяли бы ее ни на какую другую девушку. Но вот тут их ждало разочарование: на ней лежал какой-то зарок, не позволявший ей свободно распоряжаться своей любовью.
– Ох ты, кто пожаловал! – При виде подруги Лютава обрадовалась. – Что ты прибежала с утра пораньше? Или вас уже грабят лиходеи речные?
– Какие лиходеи? – Далянка удивилась. – Случилось что-то?
– А ты не слышала?
– Нет.
– К нам чуть ли не на рассвете Галица прискакала. Трещала, что по реке идет ладья, а в ладье молодцы чужие, незнакомые. Да все при оружии. Ну, мы-то не сильно испугались, а по реке народ, боюсь, всполошится.
– Я не знаю, у нас не было никого. – Далянка покачала головой. – Выйди, поговорить хочу.
– Пойдем. Хортога, я к реке схожу! – крикнула Лютава, чтобы ее не искали, и вышла.
Две девушки пошли через светлую рощу – солнце уже заливало вершины берез, но внизу была прохладная, приятная полутьма. Волки, как известно, любят устраивать свои логова на болотах, выбирая сухое местечко среди топей, поэтому и обиталище «волчьего братства» полагалось устраивать в похожих местах. Но людям на болоте не жизнь – сырость, комарье, – поэтому первые угрянские бойники облюбовали место между Угрой и ручьем, который с тех пор стал называться Волчьим. Кругом вода – значит вроде как на острове, поэтому обиталище угрянских «волков», кроме собственно Варги, звали в волости еще Волчьим островом.
Пройдя через рощу и покинутую пять лет назад лядину Переломичей, девушки вышли к берегу Угры. Из-за кустов доносился заунывный голос пастушьего рожка, – судя по тому, как он то начинал гудеть, то умолкал и начинал снова то же самое, это старший пастушонок обучал младшего. Там пасли все те же Переломичи, отвоевав у Коростеличей право на прибрежную луговину, которую те хотели прошлый год распахать. К князю Вершине приходили судиться, а как добром дело не решили, то старейшины обоих родов выставили бойцов на божий суд. Хорошо, что по таким делам бьются без оружия, так что все кончилось вывихнутой рукой коростельского мужика Навара, а торжествующие Переломичи и дальше пасут там своих коровенок.
На полянке росла старая береза с искривленным стволом, на который можно было сесть, как на скамью. Там устроилась Далянка, а Лютава сразу подошла к берегу и села, подобрав подол рубахи и спустив босые ноги в воду. Купаться пока не пришла пора, но солнце припекало уже так, что хотелось освежиться. От реки тянуло прохладой, темные в тени струи колыхали длинные зеленые стебли водяных трав. Над водой зависла стрекоза с синим тельцем и прозрачными крылышками. Лютава глубоко вздохнула, словно пыталась втянуть в грудь всю прелесть этого мира, полного сил и свежести в конце весны, когда каждая травинка налита благодетельной силой Ярилы и стремится жить, жить, жить…
– Ты чего третьего дня не приходила, мы на лугу собирались? – спросила она, обернувшись.
– Да бабка Шваруса посадила нас всех горшки лепить! – Далянка улыбнулась. – Говорит, побили все, а по весне под молоко нужно. Знаешь, у Рушавки так ловко получаться стало! Лучше всех!
– А вчера?
– А вчера к нам Галица заходила, даже ночевать оставалась. Заболтала, я и не заметила, как время прошло.
– А, вот откуда ее несло, непутевую! – Лютава усмехнулась. – Я уже подумала: какого лешего она с утра пораньше в такой дали от дома рыщет?
– Да ты слушай. Говорила, куму зашла проведать к Овсяничам, да замешкалась, вот к нам под вечер и забрела. Тоже, дескать, проведать. Замила ей велела вызнать, как мы поживаем и все ли у нас благополучно.
– С чего это Замилке вдруг о вас беспокоиться? – Лютава пожала плечами. – Может, хочет чего? Может, думает твоих старших задобрить ради своего галчонка ненаглядного?
Галчонком старшие женщины по старой памяти называли княжича Хвалислава, который с детства выделялся своими черными волосами и темными глазами среди ратиславльских детишек, и многие переняли у них это прозвище.
– Это еще что! – Далянка вздохнула. – Если бы просто задобрить! Нет, она правда у Овсяничей была, пирогов принесла, с яйцами, какие Журавиха печет. Дескать, Замиле послали. Меня тоже угощала. Только ты знаешь… Как я того пирога поела, так и чую… – Она запнулась.
– Что? – Лютава повернула голову и посмотрела на нее.
– Ну, не знаю, как и сказать. Что-то такое чую… Будто мурашки по всему телу бегут, и беспокойство какое-то такое… То ли голодна я, то ли хочу чего-то, а чего – не пойму. Внутри все шевелится, то ли бежать хочется куда-то… Ну, не знаю. А ночью…
– Что – ночью?
Лютава встала и подошла к ней, внимательно оглядывая подругу. Теперь она заметила, что Далянка какая-то не такая – что-то неуловимо странное появилось в выражении ее всегда ясного и приветливого лица с чуть приподнятыми, как будто в улыбке, уголками губ – какая-то тревога, неуверенность, глубокое внутреннее удивление. Тонким нюхом кудесницы Лютава уловила запах ворожбы и дальше слушала, не сводя с Далянки внимательного острого взгляда.
– А ночью снится мне… Ну… Хвалис снится. И таким красавцем кажется, словно лучше и на свете нет. Будто обнимает он меня, слова разные говорит… А я слушаю, и так хорошо мне… Аж вспотела во сне. Вертелась, Рушавку разбудила. И как проснулась – все о нем думаю. Вот и думаю – с чего бы это?
Далянка вопросительно посмотрела на Лютаву. Второй из княжеских сыновей никогда ей не нравился, и внезапно вспыхнувшие чувства удивили в первую очередь ее саму. А привычка советоваться с Лютавой у нее была давняя – на два года старше, дочь волхвы и внучка волхвы, покровительница Варги, Лютава казалась ей сильной и мудрой, как сама богиня Марена.
– Ну-ка, погоди…
Для такого простого дела Лютаве не требовалось особых приготовлений. Она прикрыла лицо руками, чтобы не мешал свет Явного мира, и тихо забормотала под нос:
– Мара-Марена, матушка гневна, темные ночи, звездные очи, горе вздымала кощные чары…
В таких случая совершенно все равно, что говорить. Заговор только настраивает сознание на восприятие Навного мира, открывает «навное окно», а слова у каждого свои – главное, чтобы они помогали и настраивали именно тебя. Росомана, волхва из рода Гореничей, вообще стучится в свое «навное окно» при помощи колыбельной песенки, под которую ее когда-то качала старая волхва Плескава, ее прабабка, – с детства Росомана привыкала, что под эти слова сознание «уплывает», и пользовалась ими всю жизнь.
Призыв к Марене, божественной покровительнице Лютавы, сразу возымел действие: перед глазами потемнело, по коже побежали мурашки, а потом она словно затвердела, как каменная, – это дух обнаружил свою иную, по сравнению с телом, природу. Внутренний взор устремился вперед – и в самом сердце Далянки Лютава увидела темное пятнышко. Оно было живое и шевелилось, высасывая из души теплую силу и вкладывая взамен чужую волю.
Лютава издала короткий злобный рык, как настоящая волчица, – так ее разгневала чья-то попытка завладеть Далянкиной душой. С диким воплем она прыгнула вперед – сама Далянка от неожиданности и испуга отшатнулась и упала на траву.
Черный комочек выскочил из сердца и растаял.
Лютава постояла, приходя в себя – в прямом смысле. По коже опять побежали мурашки, как будто она «отсидела» все тело разом. Она отняла ладони от лица, зажмурилась – яркий свет весеннего дня резанул по глазам. Далянка сидела на траве и в ужасе смотрела на нее.
– Не ушиблась? – Лютава подошла и протянула руку: – Давай подниму.
– Не-ет… – Далянка уцепилась за ее сильную загорелую руку и поднялась. – Дура я… Уж сколько раз видела, а каждый раз так страшно…
– Страшно было вчера, – сердито ответила Лютава. – Она ведь, дрянь такая, тебе подсадку подсадила, приворожить к Хвалису пыталась. Ну, я им дам! Вот ведь придумала! Ну очень хочет Замилка Хвалиса на тебе женить. Не добром, так приворотом. Да их убить мало!
– Ну что ты – ведь он тебе брат!
– Леший ему брат!
– Да если бы хоть леший! У него же тут родни никого, только через князя Вершину. А мать – пленница, бывшая роба. У Люта, у Боряты, у младших ваших всех родня знатная. А у Хвалиса никого! По матери ни рода, ни племени. Вот он и хочет хоть как-нибудь корень пустить, хоть через жену.
– Ну, если ты такая добрая, то выходи за него! – с ожесточением ответила Лютава.
– Да что ты! – Далянка отмахнулась. – Не хотела я за него выходить и не хочу. Я ему на прошлую Макошину неделю сказала – не пойду, и не думай. Просто тебе объясняю.
– Спасибо за науку. А то я бы сама не додумалась.
– Что ты такая злая?
– Я не злая! Была бы злая, давно бы сама Замиле гостинец приготовила. На нее и у меня сил хватит. А не хватит – своих попрошу.
– Ну, ты уж слишком! – Далянка даже испугалась. Она верила, что у Лютавы хватит сил и умения даже на смертную порчу, но все же речь шла о людях из своего рода!
– А не то – так отцу бы нажаловалась. Пусть бы знал, чем его жена любимая балуется. За приворот убивают, случается.
– Да ну тебя, такие страсти рассказываешь! – Далянка нахмурилась. – Не случилось же ничего.
– А ты хочешь дождаться, пока случится? Это они к завтрашнему дню постарались – ведь завтра Ярила Мокрый! Вот и думают: подсадку посадить, чтобы ты денька два по нему страстью потомилась, а там – хоровод, гулянья, песни-игры, все такое – и готово дело! Галица эта тоже – ходит тут везде, поршнями шмыгает! Дошмыгается!
– Ой, смотри! – Далянка покачала головой. – Я знаю, почему ты злишься. Боишься, как бы князь Вершина Хвалису слишком много не оставил, Люта не обделил.
– А думаешь, не может?
– Может. Мой отец то же самое говорит. А мать знаешь что ему отвечает?
– Ну?
– Что в погоне за властью вы дух свой погубите. Какой бы ни был, он ваш брат по крови. Какой ни есть, а вашего рода. На свой род руку поднимать – сама знаешь, чего я тебе объяснять буду? Проклянете сами себя из-за него, вам оно нужно?
– А дать им пакостничать – лучше? И я за тебя заступиться не могу? Да я загрызу их обеих, если еще…
– Девушки, да вы никак деретесь? – Из-за берез показался Лютомер, с любопытством разглядывающий взволнованную Далянку и разгоряченную, рвущуюся в бой Лютаву. – А можно сначала, а то я проглядел?
– О! – Увидев его, Лютава сразу забыла, о чем они с Далянкой говорили. – Ты вернулся! Ну, рассказывай! Что там за напасть?
– Идет на нас туча черная – и князь Святко, и хазары, и люди с песьими головами! – Лютомер усмехнулся, подходя к ним. Далянку он при этом окинул выразительно-мужским, оценивающим взглядом, слегка улыбаясь, – Далянка, хоть и была с ним отлично знакома и знала, что это ничего особенного не означает, слегка покраснела и опустила глаза, подавляя улыбку. Сестру Лютомер сразу взял за руку и прижал ладонью к своей груди. – И решило вече отдать дань из пяти десятков самых красивых девушек. Так что собирайтесь, первыми пойдете.
– Да ну тебя! Ты чего, братец, несешь? – возмутилась Лютава. – Напророчишь ведь! Как будто нам своих забот мало! В чем там дело-то, говори!
– Доброслав оковский приехал. Помнишь его? Новости – одна другой веселее. Смоленский князь умер, старший сын его сгинул, а в князьях у них теперь сидит княжна Избрана. Та, что за Рудомером оковским была, да овдовела. Вы ее не видели, поди, – когда ее туда везли, вы еще сами девчонки были. А я ее помню. Теперь она – над нами светлая княгиня. А Доброславу от ворот поворот дала – в войске отказала, а он теперь войска требует от нас, чтобы с хазарами на Дону воевать. Под свою руку приглашает Угру Святко оковский, короче.
– Постой! – У Лютавы закружилась голова от такого обилия новостей. – Неужели правда?
– Да я не заметил, чтобы он врал.
Девушки переглянулись. Они никогда не бывали в землях смолян и не видели князя Велебора, поэтому особой скорби не ощущали, но понимали, что смена князя на Днепре может иметь последствия и для Угры, то есть для них. Но какие?
– Вот наши отцы и деды призадумались, – продолжал Лютомер. – То ли новой смоленской княгине ехать дары приносить, то ли под руку Святомеру оковскому идти. Под девкой ходить отцу как-то обидно, да и наплачемся мы с такой княгиней – на нее сейчас только очень ленивый воевать не пойдет, а войско с нас будут требовать. А к Святке в родню проситься – идти с ним воевать хазар.
– Словом, и здесь хорошо, и там весело! – окончила Лютава. – Так и что отец решил?
– А он молчит пока, только глазами так с одного на другого. – Лютомер показал, как князь Вершина в братчине только посматривал на спорщиков.
– А ты как думаешь?
– А я думаю, что с дарами мы спешить не будем. Сейчас время удобное – можно так устроиться, чтобы никому больше дань не платить, а только собирать – и с Угры, и с притоков, и с Жижалы, и с Болвы, если повезет… Мало ли хороших рек на свете, и везде люди живут!
– Ни княгиня смоленская, ни князь оковский не обрадуются, если мы так захотим жить!
– Правильно мыслишь! Но, знаешь, на всякую кашу ложка найдется. Если подумать, то можно так сделать, чтобы нас ни русы, ни кривичи не трогали. Но про это рано говорить, подождем, что еще вече скажет. А вы пока не хотите в Ратиславль погуляться, на гостей посмотреть?
– Эка невидаль! – Лютава фыркнула. Доброслава она помнила по зиме, и он ей совсем не понравился.
– Ну, пусть они на вас посмотрят. Может, Доброслав как увидит вашу красу ненаглядную, так забудет, зачем приехал.
Далянка улыбнулась – у нее и так хватало женихов, и еще один сраженный ее голубыми глазами оказался бы явно лишним. Лютава насмешливо поджала губы – она не обольщалась насчет своей красоты и не наделась своим видом кого-то повергнуть в беспамятство. Лютомер приобнял ее одной рукой, прижал к своему боку, и Лютава прильнула к нему, как к самой надежной опоре. Привыкнув жить рядом со своим братом, сильнее которого не нашлось бы на Угре никого, она ничего по-настоящему не боялась.
Глава 2
Было уже за полдень, когда Галица добрела до Ратиславля. Варга Лютомер со своими бойниками уже успел сделать все свои дела и отправился обратно – она видела его, подходя к валу, но он на нее даже не глянул. Молодая женщина и без того находилась в не лучшем настроении, а теперь в сердце кипела злоба на весь свет. Только кого она занимает, ее злоба или ее любовь? Бывшая роба, дочь иноземной пленницы и неведомого отца, домашняя утварь, все равно что лавка или лохань!
А разве она чем-то хуже других? Галица была стройной женщиной – тонкой в поясе, с длинными ногами и высокой грудью, так что многие мужики оглядывались, когда она проходила мимо, одетая только в рубаху из небеленого льна. И лицо ей досталось не из худших – с довольно правильными чертами, немного вздернутым носом, желтовато-серыми глазами и длинными черными ресницами. Она могла бы быть привлекательной, если бы не портил ее улыбки выступающий верхний клык с правой стороны, какой-то особенно белый и выдвинутый вперед из ряда зубов. Из-за этого клыка ее дразнили в Ратиславле упырицей, но она никогда не обижалась, а только улыбалась всякому, глядя, как собака, так умильно и примирительно, словно говоря – ну я же такая безобидная, какой же вред от меня может быть? Но несмотря на это показное дружелюбие, в Ратиславле ее не любили, женщины сторонились, да и мужчины, заглядевшись было, потом отворачивались и сплевывали на всякий случай.
На княжьем дворе шевелилась обычная дневная суета.
– Явилась! – так приветствовал Галицу ключник Крыка, хромой, но шустрый мужик с дремучей рыжей бородой.
Он возглавлял княжескую челядь, состоявшую из пленников, в разные годы захваченных в походах. К этим людям принадлежала и мать Галицы – еще молоденькой девушкой она попала в плен во время похода на северскую землю. Большую часть пленников князь Братомер тогда продал варягам, которые охотно скупали полон, захваченный в межкняжеских сражениях, и возили в Итиль продавать арабским купцам. А молодую девушку с бойкими глазами тогдашняя старшая княгиня Темяна оставила себе в услужение. Как ее звали, она не говорила, и ее стали называть просто Северянкой. Здесь она прожила жизнь, родила дочь, выкормила Хвалиса, сына такой же пленницы, только от князя, и умерла несколько лет назад. Когда новорожденному Хвалису потребовалась кормилица, князь Вершина подарил недавно родившую Северянку Замиле, и с тех пор ее дочь тоже считалась собственностью младшей князевой жены. После смерти матери Галица осталась одна на всем белом свете, не зная ни своего отца, ни даже имени сгинувшего материнского рода. Несколько лет назад, когда Галица нашла себе жениха, Замила уговорила мужа отпустить ее на свободу и даже собрала кое-какое приданое. Но вскоре Галица овдовела, а в семье мужа не прижилась и вернулась в Ратиславль.
– Где ты бегаешь, лешачиха, с самого рассвета нет тебя! – ворчал Крыка. Сам такой же раб, он, однако, гордился связкой ключей на поясе и строго следил, чтобы челядь не бродила без дела.
– Ну что ты, Крыкушка, с самого утра злой такой! – умильно улыбаясь, примирительно заговорила женщина. – Ты не помнишь разве, я у тебя вчера просилась к Овсяничам, меня и Замила посылала.
– Так то вчера!
– Я и дома не была с тех пор, мне еще велено было зайти Мешковичей проведать, вот я зашла, да и задержалась.
– А пироги где? Они обещали прислать. – Крыка огляделся.
– Так Немигиной боярыне снесла.
– Вот дура баба! – Ключник аж хлопнул себя по коленям в досаде. – Дождешься ты у меня, лешачье отродье! Весь день дома не была, бегала незнамо где, не ночевала, да еще и с пустыми руками пришла! А работать за тебя кто будет? Тебя зачем здесь кормят?
– Пришла? – Галицу окликнула другая челядинка, по имени Новожилка. – Замила тебя спрашивала. Велела, как придешь, сразу к ней идти.
– Вот видишь, батюшка! – Галица широко улыбнулась, будто ничуть не держала обиды за все эти попреки. – Хозяйка меня зовет. Я пойду к ней, ты уж не серчай.
– Как придешь, сразу за жернов, у нас гости, хлеба надо больше! – прокричал Крыка вслед, когда она уже пошла к двери.
Владения хвалиски Замилы состояли из двух клетей, разделенных деревянной перегородкой, и в каждой имелась своя печь. В большей половине обитали дети и собственная челядь младшей жены, а меньшая служила спальней ей самой и по большей части – князю Вершине. Двадцать лет назад молодому тогда еще княжичу Вершиславу Братомеровичу вздумалось ограбить караван купцов, шедших из Хорезма через Волгу дальше на северо-запад. Продавая им собольи шкурки, он заметил, что серебра у покупателей осталось еще предостаточно, и решил взять его более простым способом. Налет почти удался, не считая того, что половину серебра купцы успели опустить где-то в реку и его так и не нашли. Зато среди добычи обнаружилась молодая смуглокожая рабыня, которую возил с собой один из погибших купцов. Вершина забрал ее себе и вскоре так полюбил, что стал считать своей законной женой. Первое время пленница очень дичилась, не понимая ни слова по-славянски, отказывалась есть пищу, приготовленную руками «неверных», никак не желала появляться на людях с открытым лицом. Умываться она ходила только на реку, отказываясь от обычной лохани, и горько плакала, когда из-за подступающих холодов купаться в Угре, куда она отправлялась по вечерам, стало нельзя.
Но постепенно эти ее «странности» прошли: голод и холод не тетки, а без присутствия на пирах и праздниках она никогда не смогла бы утвердиться в положении законной жены. А забраться повыше ей хотелось: смуглянка оказалась весьма честолюбива. Конечно, Вершина не мог назвать княгиней хвалиску и бывшую робу, когда в его доме жили сперва Семилада, а потом Володара – знатные женщины из рода князей, волхвов и воевод. Но Замила, хоть и звалась младшей женой, жила не хуже старших, щеголяя не менее дорогими одеждами и украшениями, посудой, разными ценными и забавными вещичками, которые иной раз привозил с далеких торгов расторопный Вышень.
Теперь, по прошествии двадцати лет, она оставалась еще красивой, хотя стройный некогда стан расплылся после четырехкратных родов – двое первых ее детей умерли совсем маленькими, – а возле огромных темных глаз появились морщины. Ее сын, который поначалу почти не отличался от прочих холопьих детей, рос со своей молочной сестрой, они играли вместе, в то время как другие дети сторонились смуглого и темноволосого сына хвалиски. Многое их роднило: и Хвалис, и Галица родились от матерей-пленниц, одиноких, чужих и бесправных в Ратиславле. Одиночество и нелюбовь окружающих сблизили женщин. Со временем их положение стало сильно различаться: князь Вершина, привязавшись к Замиле, возвысил ее до положения жены и матери наследника, и вот уже много лет она одевалась в лучшие привозные ткани, имела в своем распоряжении две клети и собственную челядь, а Северянка так и оставалась робой до самой своей смерти, но Замила не забывала прежней дружбы, доверяла ей и во всем с ней советовалась. После смерти матери эту дружбу унаследовала Галица и была постоянной, хотя и тайной советчицей хвалиски.
Войдя, Галица застала в клети не только саму Замилу, но и Хвалиса. При виде нее княжич в нетерпении встал.
– Ну, что? – воскликнул Хвалислав. – Удалось?
– Здравствуй, княгиня, и ты, княжич, сокол ясный! – Галица низко поклонилась. – Как твое здоровье, заря ты моя ненаглядная?
– Ничего, – обронила хвалиска. – Ты говори лучше. Ты была у них? Все сделала?
– Сделала я, сделала, матушка моя, – Галица поклонилась. – Заговорила я пирожок крепким заговором, чтобы в сердце девичье страсть горячую, пламя палючее вложить. И съела она пирог, и вошел в нее Ярилин дух. Теперь сладится дело. Завтра она на тебя, сокол ты наш, уже совсем другими глазами смотреть станет. Получишь ты невесту знатную и добрую, все будет, как сам захочешь. Только вот еще что…
– Что?
– А вот что. – Галица подошла поближе к хозяйке, склонилась и зашептала: – Сокол-то наш не только за невесту сражается, ему еще за престол отцовский побороться бы надо. А мешает ему только Лютомер, потому как после Лютомера он – старший. Кабы не оборотень, то сокол наш уже сейчас мог бы наследником зваться, и тогда не такие еще невесты наши были бы, как Далянка Немигина. Тогда бы к нему княжны иноземные сами прибежали.
– А куда же он денется, Лютомер? – не поняла Замила. Она очень хотела иметь для себя и сына все самое лучшее, но быстротой соображения не отличалась.
– Ну, мало ли куда? – Галица с намеком пожала плечами. – Судьбу наперед никто не знает. А судьбе и помочь можно… Только ты, княгиня, пообещай, что если я тебе помогу, и ты меня не забудешь.
– А чего ты хочешь?
– Хочу мужа знатного, богатого, и приданого, чтоб ему не стыдно было меня в дом взять и большухой назвать. Всю жизнь в челяди живу, хочу в боярынях пожить, сама хочу своей челяди приказывать. Довольно я спину наломала!
В голосе женщины зазвенели гнев, давно копившаяся досада, негодование на судьбу, которая одним дает все – крепкий сильный род, довольство, счастье, а другим только одиночество, бесправие, корки с чужого стола.
– Где же я его возьму? – Замила развела руками. – Боярина хочешь! Какого-нибудь еще мужа найти можно, приданое я тебе раз дала и еще раз дам, не пожалею, но чтобы боярина! Кто же согласится?
– Найдется кто-нибудь. Как станет твой сын князем, а я – княжеской сестрой, и за такую невесту старейшины и бояре передерутся. Обещай, что сделаешь, как я сказала, тогда я тебе помогу.
– А ты сумеешь? – с сомнением спросил Хвалислав. Конечно, избавиться от Лютомера он бы не отказался, но странно было слышать такие вещи от челядинки. На кощуну больше похоже – где младший сын всех старших одолевает.
– Сумею! Или ты думаешь, сокол мой, что я только зубы больные могу заговаривать? Я не то еще могу… – почти прошептала Галица. – Поклянись, что сделаешь меня боярыней знатной, тогда я тебя князем сделаю.
– Все будет, как ты скажешь! – вполголоса воскликнул Хвалислав. – Только помоги.
Он верил ей и не верил, но при взгляде на Галицу ему вдруг стало жутковато. Хвалис знал ее с рождения и помнил, сколько самого себя. Он привык, что Галица всегда где-то рядом, под рукой, но никогда не воспринимал ее всерьез. Даже к ее славе как травницы и ворожеи он относился легко – любая женщина знает какие-то простейшие заговоры, которые могут понадобиться каждый день. Ходили слухи, что Галица умело делает приворот и отсушку, потому он и заговорил с ней о Далянке. Но теперь в ней появилось нечто новое. Какая-то особая сила загорелась в ее изжелта-серых глазах, и лицо, всегда украшенное широкой игривой улыбкой, вдруг стало строгим, резким, даже пугающим. Так она казалась гораздо менее привлекательной, но внушала почти трепет. Сразу вспомнились разговоры, что старый бортник Просим, в семье которого она жила замужем, научил ее такому, что знает далеко не каждая ворожея. И то, будто они хорошо ее знают, – не более чем видимость. Совсем они ее не знают, ни капельки, хоть и прожили бок о бок с ней всю жизнь.
– Ты попробуй с гостем-то нашим подружиться, – еще посоветовала Галица своему молочному брату.
– С каким гостем?
– С оковским княжичем, что сегодня приехал. Ну, войска просить, с хазарами воевать.
– Не даст все равно ему отец войска, так и что мне с ним дружить? – Хвалис пожал плечами. – А ему что за дело до моих печалей – свои бы избыть.
– Ой, зря ты так думаешь, сокол! – Галица выразительно покачала головой. Самому Хвалису собственные печали заслонили весь белый свет, но она, челядинка, чье место у жернова да у прялки, умела видеть, как оказалось, гораздо дальше него. – Ему здесь друг нужен, а тебе на Оке друг не помешает. Его отец, оковский князь, большую силу имеет. Глядишь, и будет тебе польза от этой дружбы.
Выйдя опять в большую клеть, Галица смирно устроилась возле жернова, и ни Крыка, проверявший, как челядь выполняет свою работу, ни кто-то из Ратиславичей не мог заподозрить, какие большие перемены для них всех вызревают в уме этой молодой, улыбчивой, совершенно заурядной женщины.
Назавтра, собираясь на Ярилину Плешь, Молинка и Далянка зашли за Лютавой, как обещали, но дождались ее не скоро. Сидя на поваленной березе неподалеку от Варги, девушки сплели себе по венку и спели три песни, а Лютава все не выходила.
Из-за деревьев, за которыми пряталась поляна, долетали голоса, свидетельствующие о поспешных сборах. Наконец на тропинке показалась целая толпа парней и подростков – почти все нынешние обитатели Варги. Умытые, непривычно хорошо одетые, с тщательно расчесанными волосами и плетеными тесемками на лбу – у всех одинаковыми, поскольку это знак рода, – бойники выглядели непохожими на себя, а Теребилу, которому кто-то убрал с лица расчесанные волосы и опрятно заправил буйные кудри за уши, Далянка даже не сразу узнала. Сами парни тоже чувствовали себя непривычно и все одергивали свежие жесткие рубахи, поправляли пояса.
Завидев у березы двух девушек, старшие из парней бурно обрадовались. Еще бы не обрадоваться – в ожидании этого дня они только и думали, что о девушках, и вот они уже ждут у ворот, да какие девушки! Молинка, вторая после Лютавы дочь угрянского князя Вершины, была невысокой, немного полноватой – в самую меру, приятных округлостей, как говорил неравнодушный к ней Бережан, с толстой темно-русой косой, с белым лицом, ярким румянцем, густыми черными бровями и светло-карими глазами. Далянка же благодаря своей мягкой, но выразительной красоте считалась не менее завидной невестой, чем княжеские дочери.
– Девушки! Вы за нами! Заждались небось! Здравствуй, Далянка! – загомонили парни.
Строго говоря, бойники не рассчитывали даже сегодня добиться какой-то особой благосклонности таких знатных и красивых девушек, но не могли удержаться и вились вокруг них, притянутые неодолимой силой Лады и Ярилы. С самого рассвета парни пребывали в лихорадочном волнении, только проявлялось оно у всех по-разному: одни громко и подробно живописали, чего ждут от Ярилиных игрищ, другие молча то краснели, то бледнели. И только мальчишки из младших просто галдели и резвились, радуясь большому празднику, нарушавшему однообразие обыденной жизни.
Смеясь, девушки отвечали на приветствия и не сразу разглядели среди парней Лютаву. Она шла последней и на ходу торопливо расправляла кисти пояса, приглаживала волосы – русые пряди образовывали на ушах как бы петли, на которых сверкали вычищенные к празднику серебряные заушницы. Эту прическу особенно любили девушки-вятичанки, и на Угре она в последние годы приживалась, тем более что мать Лютомера и Лютавы тоже была вятичанкой с верхней Оки.
– Посмотрите, у меня там все ровно? – вместо приветствия обратилась она сразу к обеим подругам, пытаясь на ощупь определить, как лежат на волосах заушницы. – А то с этой оравой разве что путное сделаешь? Приду сейчас вся кривая-косая, как кикимора, люди засмеют.
– Да ты столько собиралась, мы уже хотели без тебя идти! – отозвалась Молинка, пока Далянка осматривала прическу и венчик Лютавы. – Еще чуть-чуть – и как раз на Купалу бы успела!
– Ага, вам хорошо! У тебя один брат, у Далянки два, а у меня вон, и не сочтешь! – Лютава махнула рукой в сторону своей «стаи», зазвенев бронзовыми бубенчиками на браслете. – Теребила, не трожь волосы! – прикрикнула она на парня, который от волнения все норовил взъерошить свои старательно уложенные кудри. – И так два гребня об тебя обломала! И каждый: Лютава, пришей! Лютава, зашей! Лютава, помоги! Вроде здоровые лбы, в драке не теряются, а как на праздник, так словно дети малые!
– Кто бы говорил! Матушка нашлась! – огрызнулся Теребила, но, однако, спрятал руки за спину. Он был среди бойников одним из старших – где-то зимой ему сравнялось двадцать два или двадцать три года, если бабки не сильно обсчитались, а Лютаве этой весной исполнилось восемнадцать, так что она – и мать, и сестра лесного братства – на самом деле была моложе некоторых «сыновей».
– Да ладно тебе, не бранись! – раздался позади низкий голос, и девушки невольно вздрогнули – как всегда, они не заметили, как появился Лютомер. – Целый год дожидались, пока опять Ярилины дни придут, вот парни и раздухарились. Вон, Милята как покраснел с утра, так еще и не отойдет!
– Видно, сон хороший видел! – дополнил десятник Хортомил.
Парни захохотали, стали наперебой описывать, что именно Милята видел во сне, заглушая его возмущенные оправдания, что он-де и не думал краснеть, а кто в этом сомневается, сейчас сам у него покраснеет.
– Ну, вырядились, ну, птицы ирийские! – прозвучал вдруг поблизости веселый женский голос. – Жениться, что ли, полетели соколы? Тебе, Прочко, еще рано, нет тебе моего благословения!
Вокруг засмеялись – Прочко, очень бойкий и непослушный тринадцатилетний отрок, еще не дорос до посвящений, после которых можно жениться. Одновременно все бойники, обернувшись на голос, стали кляняться.
– Здравствуй, мать Темяна! Здравствуй, мать Числомера!
Неподалеку от Варги из леса выходила еще одна тропинка. Она вела к небольшому святилищу Марены, спрятанному в густом лесу. Обычные жертвы Матери Мертвых приносили перед ее идолом в святилище Велеса, а в лесном Маренином только сжигали тела умерших. Место, где умерший непосредственно переходит во владения Темной Матери, обычным людям вообще не следовало посещать. Там же постоянно жили две жрицы – Темяна и Числомера. Темяна на самом деле приходилась князь Вершине матерью, а Лютомеру и Лютаве, следовательно, родной бабкой. Она тоже с молодости была посвящена Марене, а после смерти мужа оставила род и ушла жить в святилище, справедливо рассудив, что «в белом свете» ей больше делать нечего. Она руководила каждым погребением и провожала умерших. Именем бабки Темяны матери пугали непослушных детей: по достижении семилетнего возраста каждого мальчика и девочку отводили в лес, и там Темяна, воплощение грозной темной богини, проводила испытания, задавала вопросы и «перепекала» дитя возле огня, после чего оно возвращалось в род. Поговаривали, что несправившихся она сама и съедает во славу своей покровительницы. И хотя каждый знал, что никого она еще не съела, даже взрослые, вспоминая собственное посвящение, кланялись ей при встрече с таким же благоговейным почтением, как в детстве.
Числомера, довольно молодая бойкая женщина, происходила из рода Залешан, но овдовела еще совсем юной и теперь воплощала в Ратиславльской волости «зрелую Марену», промежуточную ипостась между «старой Мареной» – Темяной и «молодой Мареной» – Лютавой. Тем парням, что постарше, вид ее внушал очень приятные чувства. Приближаясь к своему семнадцатилетию и собираясь вернуться в род, парни проходили у нее еще одно посвящение, тоже немного страшное, но скорее приятное, постигали тайны, без которых никак нельзя взрослому мужчине, кому скоро жениться.
Сейчас обе жрицы направлялись в святилище Велеса за своей долей жертв – ибо любой Ярилин праздник не обходится без жертв Велесу, и наоборот. Попрощавшись с волхвами, бойники тронулись в путь по широкой тропе. Хортогость – рослый, широкий, немного сгорбленный мужик лет пятидесяти, с широкой черно-пегой бородой – стоял у кострища и провожал глазами своих питомцев. Когда-то и он двенадцатилетним отроком пришел в Варгу да так и прижился здесь, обучая младших, и не завел никакой другой семьи. Во времена его молодости бойники пробирались к местам весенних игрищ тайком – подкрадываясь, как настоящие волки, хватали девушек и уносили в чащу, а родичи похищенных потом не шутя выслеживали их и мстили – многим это в те времена стоило жизни. А теперь вон как – нарядились да пошли открыто, с самого утра.
– Ты смотри, Хортога, что делается! – Бабка Темяна взмахнула клюкой, у которой на верхушке была вырезана голова лебедя – священной птицы Марены. – И это «волки» называется! Совсем молодежь распустилась – на праздники к людям ходят! Куда только белый свет катится!
– Да ладно, мать, что сделается-то? – примирительно отозвался Хортогость. В душе он по-хорошему завидовал нынешним бойникам, которые не были так оторваны от людей, как он и его ровесники, давно уже сложившие головы в разных стычках и сражениях. – Мы же оружия на людях не носим, а если задерется кто, то свои же уймут. А Докуку варга брать не велел, пусть сидит, котел чистит, раз такой дурной.
– Чего да чего? – ворчала бабка. – Скоро докатимся – гостей будем в Варгу водить! И так вон, дорогу протоптали, хоть на санях езжай! Никакого уважения! Ну какие ж они волки! Звание одно! Скоро ночевать домой ходить начнут, а там от бойничества и памяти не останется, басни одни!
– Ну ладно, мать, они же ребята молодые! – попыталась утихомирить ее Числомера. – Повеселиться и волкам хочется! Я тоже вот под вечер пойду на Ярилину Плешь поплясать!
– Вот подрастут, в роды вернутся, тогда бы и веселились! А то – волки, а к людям на праздник ходят! Какие же это волки!
Продолжая ворчать, старуха направилась вслед за ушедшими бойниками. Хортогость ушел в землянку.
Путь лесных побратимов лежал к Перунову дубу, расположенному на пригорке над рекой неподалеку от Ратиславля.
– Ой, смотри, все собрались уже, быстрее! – Молинка, заметив у пригорка большую толпу, пестрящую белыми, розовыми, серо-голубыми, бледно-зелеными, желтыми пятнами нарядных крашеных рубашек, побежала вперед, потом обернулась, в нетерпении подпрыгивая и звеня подвесками в ожерелье: – Далянка! Из-за тебя не начинают. Давай бегом! Весну проспим, Ярилу упустим, ты понимаешь, что с нами за это сделают!
– Да не упустим, ладно тебе! – ответила Далянка, однако прибавила шагу. – Ярила-то сам с нами.
Молинка оказалась права: их ждали с нетерпением, и, когда ватага бойников с конем и тремя девушками показалась из леса, толпа забурлила, раздались приветственные крики, угряне замахали руками, закричали, призывая их поторопиться. Старшая жрица Молигнева держала на вышитом полотенце свежий каравай и пучок сухих ячменных колосьев, сберегаемых с прошлого года. В честь праздника она нарядилась в самые лучшие красные рубахи с вышивкой, в праздничную поневу, затканную знаками земли и засеянного поля, а на голове ее красовался старинный головной убор с рогами вроде коровьих, на которых висели кисточки из красных нитей и серебряные бубенчики. Имеющая шестеро здоровых детей и четверых внуков, полная, пыщущая здоровьем и жизненной силой, старшая жрица воплощала саму Макошь угрянской земли. Причем ее младшие дочери еще не вышли замуж, а стало быть, и саму Молигневу в старухи было зачислять рановато – многие мужики с удовольствием поглядывали на ее мощную грудь и широкие бедра.
– Далянка! Где ходишь! – закричал ее старший сын, Солога, призывно размахивая руками. – Мы уж думали, тебя волки съели! Хотели уже Русавку вести!
– Иду я, иду! – Далянка подбежала к Молигневе.
Бойники тем временем смешались с толпой, каждый из подростков кинулся к своим родичам. Теперь, когда желание повидаться с матерью уже не расценивалось как измена братству и не каралось смертью, «волки» довольно часто виделись со своей родней, но все же женщины охали, обнимали сыновей, расспрашивали, как жизнь в Варге. Отцы радовались, как хорошо растут и крепнут их отпрыски, допытывались об успехах, вспоминали время своего бойничества. Там и здесь раздавалось: «Ну, совсем здоровый парень вырос, скоро женить пора! Когда домой-то вернешься, а, Соколик?» В старинных песнях, которых Лютава знала множество и пела побратимам зимними вечерами, часто говорилось об этом – как мать и отец уговаривают бойника не возвращаться к братьям, остаться с ними, даже опаивают его сонным зельем, чтобы забыл братство… И все это очень печально кончается!
Далянке и Лютомеру женщины водрузили на головы заранее приготовленные венки из цветов и зелени, такие оромные и пышные, что из-под них не было видно лиц, да и сами они почти ничего не видели. Такими же пышными травяными жгутами их опоясали, еще по одному венку надели на шеи вместо ожерелий. Поскольку покровителем бойников является Ярила, то «Ярилу» на весенних праздниках по обычаю выбирали из них. А Лютомер к тому же считался сыном Велеса, то есть – Ярилой,[5] и последние десять лет именно он ходил по полям в пышном венке, держа за руку самую красивую девушку волости. Три последних года это была Далянка. Лютомеру давно пришла пора выбирать жену – у его ровесников уже бегали семилетние дети, – поэтому люди со дня на день ждали, что он объявит о возвращении в род. Его будущую жену, а свою будущую княгиню видели в Далянке, которая и собой хороша, и родом знатна. Женщины восхищались, глядя на эту статную пару, молодежь завидовала.
И только один человек не мог смотреть на этих двоих – княжич Хвалислав. Лютомер несокрушимой стеной стоял на пути ко всему, в чем он и видел свое счастье, – к угрянскому столу и к Далянке.
Жрица Молигнева с одной стороны, а Лютава – с другой взяли Лютомера и Далянку за руки и повели по тропе в поля. Толпа молодежи и женщин двинулась вслед за ними.
Ярило-Ярила, яви свою силу сила! — первой запела Молигнева. Ярила по полю ходит, Весну красну деву водит, В землю семя роняет, Нежить прочь прогоняет, В небе солнцем играет, Живушку закликает![6]И вся толпа дружно отвечала ей:
Ярило-Ярило, яви свою силу! Ярило-Ярило, яви свою силу!Дойдя до первого поля, шествие остановилось. Лютомер схватил Далянку в объятия и покатился вместе с ней по всходам на краю поля – чтобы передать растущим посевам благодетельную силу юного бога. Другие парни тоже похватали ближайших девушек и тоже принялись кататься, делясь с нивой своей молодой силой и удалью. Стоял визг, крик, смех, женщины хлопали в ладоши, иной раз покрикивали, чтобы «Ярилы» не заходили далеко в поле и не слишком мяли драгоценные ростки.
Покатавшись, поднявшись на ноги, уняв головокружение, со смехом поправив свои травяные и цветочные уборы, народ двинулся дальше. На каждом поле шествие останавливалось, вокруг Ярилы и Лели выстраивался хоровод, угряне плясали и пели:
Ходил-бродил Ярила по всему белу свету, Полю жито родил, а людям чады плодил, Куда Ярило ногою, там жито копною, Куда он взглянет, там ярь взыграет! Гой! Слава!Ходить предстояло долго, и хватало этого занятия почти на весь день. Вся местность вокруг Ратиславля представляла собой череду когда-то выжженных, распаханных, а потом заброшенных участков. Шествие проходило мимо давно покинутого поля, где уже шумел распустившейся листвой молодой лес, потом мимо недавно оставленной лядины, где только топорщились кусты и всякая сорная трава, чтобы попасть наконец к «новому полю», где по обочинам еще виднелись серые груды золы и чернели угли, а на самой пашне зеленели молодые всходы ячменя или ржи. Далее лежал «подчерченный» участок, где подрубленные деревья сохли на корню, потом опять давно заброшенный кусок земли, и все сначала.
Обойдя все ближайшие поля и заглянув во владения каждого из родов, что присутствовали на празднике, шествие повернуло к Велесовому святилищу. Старики к тому времени уже отобрали несколько черных баранов и принесли в жертву Велесу. Из глубокой ямы, служившей жертвенником Нижнему миру и его владыкам, уже поднимался дым от огня, на котором горели предназначенные богу части – головы и ноги туш. Остальное уже жарилось над кострами, разведенными прямо перед воротами.
Когда приблизился вечер, охрипшая от пения Лютава уже не чуяла под собой ног. Молодые мужики и неженатые парни бились на кулачках, старшие смотрели, подбадривая сыновей и внуков, подъедая остатки жертвенного мяса, пили медовуху, пуская братину по кругу, пели песни хмельными голосами.
Молодежь, слегка передохнувшая после обхода полей, тем временем подтянулась на Ярилину Плешь – так называлась широкая поляна над рекой. Парни уже развели несколько костров и приготовили колесо, обмотанное соломенными жгутами и обмазанное смолой. Все были уже усталые, возбужденные песнями, медом и хороводами, на праздничных рубашках уже виднелись пятна, венки помялись и поникли, но расходиться никто не собирался. Продолжались хороводы и песни, затевались игры: вспотевшие от бега, разгоряченные парни и девушки гонялись друг за другом, от Ярилиной Плеши далеко разносился визг, смех, крики. Бойники веселились больше всех – сегодня им можно обнимать девушек и знать, что за это ничего не будет. А уж дальше – кто как договорится… И в середине хоровода бойчее всех выплясывала Числомера – этой года были нипочем.
Набегавшись, Лютава ушла с поляны в лес – ей хотелось отдохнуть. Кто-то увязался за ней, но она повела руками, затворяя свой след, – и ее потеряли из виду. Такую малость она смогла бы даже во сне. Сейчас ей хотелось побыть одной, побыть наедине с лесом, землей, с прекрасным Явным миром, который сейчас приближался к наивысшей точке своего расцвета. Обряды, заклинания, песни и хороводы этого дня взбудоражили ее, она словно раскрылась навстречу потокам силы и чувствовала себя березкой, насквозь продуваемой теплым ветром. Сердце разрывалось от пронзительного чувства любви к богам, которые создали и оживили своим присутствием, своим духом этот дивный земной мир. Без слов, одним сплошным потоком душевной силы сердце пело об этой любви, и, мысленно прикасаясь к ним, Лютава ощущала мощный ответный позыв. От этого слезы текли из глаз, по телу пробегала горячая дрожь, и казалось, что теплая вода струится по рукам и чистые, сверкающие капли падают с кончиков пальцев и орошают траву. Было немного страшно – казалось, так и растворишься без конца и никогда уже не сумеешь собрать себя прежнюю воедино, но это же чувство слияния с миром дарило ощущение такого восторга, что захватывало дух.
Она стояла, прижавшись к толстой старой березе и закрыв глаза, и вдруг почувствовала, что рядом кто-то есть. Конечно, он должен был прийти сегодня, и сердце замерло в радостной надежде – а вдруг сейчас? А вдруг срок пришел, вдруг она наконец узнает свою судьбу – ту, что ждет уже долгих шесть лет…
Она, Лютава, угрянская княжна и волхва ратиславльских бойников, ждала своего суженого, как и всякая девушка. Но того, кто сейчас к ней приблизился, увидеть было нельзя, поэтому она не стала открывать глаза, а продолжала стоять, обняв березу и прильнув к ней всем телом.
– Здравствуй, лада моя!– зазвучал в душе голос, и не голос, просто смысл, проникающий сразу в сердце, минуя уши. Незримый гость вошел в ее душу, вошел по тем тайным дорожкам, которые она нарочно оставляла для него – тонкие косички в распущенных волосах, особые тонкие ремешки с бубенчиками, свисающие с пояса, – и которыми не мог воспользоваться иной гость, незваный. – Все хорошеешь, я вижу. Как березка растешь, распускаешься, красотой расцветаешь.
– Здравствуй, друг мой сердешный! – так же мысленно ответила Лютава. – Что скажешь? Чем порадуешь? Не пришел еще срок? А то ведь Ярилино время, самая пора… Близится Ночь Богов – скажи, ведь в этом году срок настанет?
– Нет, лада моя, – ответил дух, и Лютаве чудилась в его голосе печаль, не присущая обитателям Навного мира. – Не пришел еще срок. И я сам рад бы, да судьба не велит. Жди.
– Тяжело ждать, друг мой, – ответила Лютава, стараясь подавить горькое чувство разочарования. – Все гуляют, веселятся, а я одна в стороне стою. Время идет – и не заметишь как. На меня люди косятся – в мои года у других по двое детей, а я хожу, как колода замшелая, не взгляну ни на кого.
– Потерпи, березка моя. На людей не гляди, жди меня. Срок настанет…
Неслышный голос растаял, рядом стало пусто. Черная тень в сознании исчезла. Стало легче дышать, словно какой-то тяжелый груз свалился. Говорить с жителями Навного мира – всегда тяжелая работа. А еще это страшно. За шесть лет Лютава так и не смогла полностью к этому привыкнуть. Бабка Темяна, ее вторая после матери наставница, говорила, что к этому не привыкают никогда. Гость из Навного мира всегда приходит не в дом, а в душу живого. Можно обезопасить себя от злых пришельцев, можно научиться впускать гостей так, чтобы они не причинили вреда, но всегда, даже у старых, опытных волхвов, чужое присутствие внутри души вызывает неодолимый ужас.
Лютава медленно подняла веки, но зелень ветвей и белизна стволов поначалу казались призрачными, прозрачными, и через них отчетливо просвечивали темные глубины Навного мира. Там жил ее дух-покровитель, ее защитник и помощник, явившийся к ней при первом взрослом посвящении шесть лет назад. Благодаря ему она, юная дочь князь Вершина и волхвы Семилады, стала не просто жрицей, а волхвой-кудесницей – одной из тех, кто умеет говорить с Навным миром и ходить по его незримым тропам. Дух, ранее принадлежавший одному из ее далеких предков, значительно увеличивал ее силы. Но взамен он требовал очень важной услуги от Лютавы. Избранная духом, она не могла никого любить и не могла выйти замуж, пока дух не укажет ей того, для кого ее предназначил. Для этого у него имелись свои причины, и очень важные. Лютава не жалела, что шесть лет назад согласилась на эти условия. Но ждать, когда настанет срок, становилось с каждым годом все тяжелее. Особенно в такие дни, как сегодня, когда жажда жизни и любви наполняет землю и людей.
Прижимаясь к березе, Лютава снова закрыла глаза и снова попыталась представить его, своего неземного гостя, в облике живого человека. Представить, каким он был, когда триста лет назад жил на Дунае, звался варгой Радом и водил свою дружину побратимов-бойников в набеги на земли Византии. Греки боялись и ненавидели их, а славяне слагали о них песни и сказания. Лютава знала, что в прежнем облике варга Радом никогда к ней не придет, но думала о нем, невольно пытаясь угадать свое будущее. Но облик его ускользал, не давался внутреннему взору.
Имелись причины, по которым Лютава не рвалась замуж. Но она знала, что однажды встретить будущего мужа ей суждено, чтобы дать жизнь ребенку, ради которого дух и дарит ей свое покровительство. И ей уже давно хотелось, чтобы все это случилось побыстрее, чтобы она выполнила свой долг перед покровителем из Навного мира и получила свободу. И вот – опять нет…
Рядом послышался шорох, шум шагов по высокой траве, но Лютава, увлеченная своими мыслями, не сразу услышала. Рядом кто-то остановился: очнувшись, она уловила чье-то тяжелое, усталое дыхание. Ее пришедшие видеть не могли: Лютаву заслоняли толстая береза и раскидистый ореховый куст, а к тому же она так растворилась в дыхании леса, что почти слилась с ним.
– Да ну… пусти! – раздался мягкий девичий голос, и она узнала Далянку. – Пусти, говорю!
Задыхающийся мужской голос назвал девушку по имени, и Лютава его тоже узнала. Это был Хвалислав, ее сводный брат, второй сын князя Вершины.
– Ну, что ты? – прерывисто дыша, шептал он. – Сейчас можно. Никто не скажет…
– Мало ли что можно? Пусти. Пойдем на поляну.
Раздался шорох ветвей. Лютава, окончательно стряхнув марь Навного мира, выглянула из-за березы и сквозь ветви орешника увидела эту пару – Хвалислав держал Далянку за руки и не давал ей пройти, пытался обнять, а она противилась, мягко, но весьма решительно.
И Лютава вспомнила о вчерашнем: как сама же выгнала из сердца Далянки дух-подсадку, который внушал ей любовь к Хвалису. Но он-то не знает о том, что ворожба не удалась! Лютава снова почувствовала гнев.
– Далянка! Я тебя люблю! Мне другого никого не надо, – настойчиво шептал Хвалис, пытаясь прижать ее к себе и пожирая глазами.
Неудивительно, что парень не мог справиться с собой, – стройная, статная, шестнадцатилетняя девушка, «в самой поре», как говорят, с ярким румянцем на белой коже, Далянка была прекрасна, как ожившая березка. Она словно родилась из блеска воды под солнцем, из пляски зеленеющих ветвей под свежим весенним ветерком. Она казалась истинной богиней этой земли, вобравшей всю ее расцветающую красоту.
– Ой, Хвалис, да ведь говорили уже про это, ну, хватит тебе! – Далянка не делала вид, будто его не понимает. Эти речи она выслушивала от него время от времени уже года два. – Зачем опять начинать? Не томи себе сердце, забудь про меня! Вон, Рушавка у нас подросла, всем невестам на зависть! Ей пятнадцать летом будет, стало быть, по осени можно сватать. И ты ей нравишься, если не знал. – Далянка улыбнулась. – Бери ее, она пойдет, старики отдадут. А мне другое нужно.
– Не нужны мне ваши Рушавки! Ты не понимаешь, душа моя, а ведь вроде умная девка. Отец мою мать любит, как всех других жен вместе не любил и любить не будет! Как я тебя – одну тебя и навсегда! Он мне наследство оставит такое, о каком прочие братья только мечтать могут! И мне теперь не простая нужна жена, а знатная, из такого рода, чтобы в святилище перед богами была самая первая. А это – ты!
– Замолчи! – Далянка наконец вырвалась и отступила. – Далеко же ты, сокол, мыслями залетел!
– Это правда! Так все и будет, вот увидишь! Мы бы на Купалу и свадьбу… Тебе-то уже не пятнадцать, до осени ждать не надо.
– Нет! – решительно ответила Далянка. – Не надо такое говорить. Не могу я за тебя идти, и отец меня не отдаст.
– Что – отец? Мы его спрашивать не будем. После Купалы объявим – что он сделает?
– Я не хочу! – Далянка с силой отпихнула его и отскочила. – Я за тебя не пойду. И не говори мне больше об этом.
– Но почему? – Хвалислав шагнул к ней, и его лицо стало жестким. – Чем я тебе нехорош?
– Ты сам знаешь. – Далянка отвела глаза.
Хвалислав сжал зубы. Он знал, что она имеет в виду. Девятнадцатилетний княжич внешним обликом вообще не походил на славянина. Похожий на свою мать-хвалиску, он уродился смуглым, черноволосым, черноглазым, с густыми сросшимися бровями. Правильные черты лица его могли бы считаться красивыми, если бы светловолосым славянам его вид не казался слишком непривычным и чуждым. По возрасту будучи вторым после Лютомера, по положению он считался «после всех», из-за того что мать его была в племени угрян совсем чужой, да еще и бывшей рабыней. И в отношении к нему угрян ничего не меняло даже то, что хвалиску Замилю, иначе Замилу, князь Вершина уже много лет любил сильнее всех прочих жен и к ее единственному сыну чувствовал большую слабость, чем к прочим, рожденным от знатных жен, взятых с соблюдением всех обычаев, обрядов и с приданым. С детства сына Замилы прозвали в Ратиславле просто Хвалисом. Но когда ему исполнилось двенадцать лет, князь Вершина решил-таки признавать его вольным человеком и полноправным членом рода, и нарек его Хвалиславом. Похожее на настоящее княжеское, в роду оно, однако, было новым и как нельзя лучше подходило к положению самого парня, зависшего на полпути между своими и чужими, свободными и челядью.
Но несмотря на почти княжеское имя и отцовскую к нему любовь, Далянке, дочери знатного рода, брак с Хвалисом не сделал бы чести.
– Да вы-то чем меня лучше? – с гневом отвечал Хвалис на ее невысказанные намеки, и видно было, что он и сам много раз об этом думал. – Ты сама-то кто? Твоя мать – кривического рода, а отцовский род – из голяди! И Воловичи такие же! И сами Ратиславичи – или у нас голядок в роду нет? Все мы здесь полукровки – и ты, и я, и сам князь Вершина, отец мой! Так чем я хуже вас? Чем я хуже других? Хуже Люта?
– Это другое дело. Голядь этой землей искони владела, кривичи с ней уже не первый век в дружбе живут, мы с ними родня. А вы…
– Ну так и что же? – угрюмо отозвался Хвалис, с трудом одолев досаду. – Или я теперь не человек? Отец меня любит. Побольше иных любит, как будто ты не знаешь! Он меня в обиду не даст. И кто угрянским князем будет – тоже еще неизвестно. Так что смотри не прогадай.
– Ты князем думаешь быть? – изумилась Далянка.
– А что – не веришь?
– Да ты даже в бойниках не был!
Она сказала правду: когда Хвалису исполнилось двенадцать лет и ему пришел срок, как всем отрокам, уходить в Варгу, Замила не отпустила его. Твердила, что ее сын слишком слаб и не выживет в лесу без заботы родителей. У диких склавинов имелось много диких обычаев, и доверить этим обычаям свое любимое дитя она не соглашалась. Хвалис, хоть и был на самом деле не слабее прочих, не стал особенно спорить: в душе он опасался, что в лесу его просто убьют, выбрав подходящий случай. Ведь бывало порой, что бойники погибали: охота, походы, учебные схватки, да просто ссоры или шалости растущих парней, – очень многое в лесной жизни грозило безвременной смертью неопытным, незрелым, но вздорным, как все в этом возрасте, отрокам, предоставленным почти только самим себе. Разумеется, и варга, и десятники из числа «отреченных волков», и просто старшие, кто поумнее, следили за молодыми и старались предотвращать несчастные случаи, но в лесу никто не будет, как мать и нянька, ходить за ребенком и оберегать от малейшего беспокойства.
Князь Вершина понимал, что его второй сын, которому он дал княжеское имя, совершает ошибку. Если бы Хвалислав пошел в Варгу, как другие юные Ратиславичи, и сумел наладить отношения с парнями, стать для них своим, то его отчуждение навсегда закончилось бы. Но спорить с младшей женой князь не стал. В глубине души он понимал справедливость ее опасений: если отроки захотят избавиться от чужака, на Волчьем острове им это сделать проще простого. И ответа не спросишь – в лесу он принадлежит только «волкам», прочие родичи не имеют на него никаких прав. В итоге оказались правы все: Хвалис остался жив и здоров, но от молодых Ратиславичей, прошедших через Варгу как положено, его теперь отделяла еще более высокая стена, чем в детстве. Даже мальчишки, кому двенадцати еще не исполнилось, дразнили его – дескать, кто в Варге не бывал, тот навек малец беспортошный!
– А что бойники! – в гневе закричал Хвалис, которому сразу вспомнились все эти насмешки. – Только там мужчиной быть учат! Да я и без бойников такое умею! Сейчас увидишь!
Схватив Далянку в объятия, он попытался опрокинуть ее на траву. Девушка вскрикнула, а Лютава выскочила из-за орехового куста и гневно приказала:
– А ну отпусти ее! Ярь заиграла, так я тебе сейчас оторву, в чем играет!
Хвалислав обернулся и выпустил из рук Далянку; на его лице отразились злость и досада, на лице девушки – облегчение. Лютава смотрела на него с гневом и негодованием: ее решительный вид и крепкая, ловкая фигура выражали готовность, если надо, не ограничиться одними словами.
В глазах Хвалиса горела такая ненависть, что, казалось, вот-вот взглядом он проткнет Лютаву насквозь. За ней стояла та самая Варга, которая теперь не давала ему чувствовать себя равноправным среди мужчин. Лютава подумала, что он готов ее убить, причем в прямом смысле. Но слишком близко была поляна, люди, а их тут две – с двумя сразу не справится.
– Выследила… волчица! – задыхаясь, бросил Хвалис и, не прощаясь, пошел прочь.
Его черноволосая голова и спина в белой праздничной рубахе скрылись среди зелени. Лютава и Далянка молча переглянулись.
– Небось матушке жаловаться побежал! – презрительно обронила Лютава.
Хвалиску Замилу она не любила, как и другие угрянские женщины не любили чужачку, забравшую над князем Вершиной слишком много власти.
– Боюсь, как бы не было у него с матушкой уговорено, – опасливо заметила Далянка. – А через матушку – и с батюшкой. Вот пришлет твой батюшка свататься – а мой-то откажет ли ему?
Но Хвалислав не собирался жаловаться матери – он уже давно вырос, и ее чрезмерная опека его раздражала. Сейчас он не хотел видеть ни мать, ни кого-либо другого. На луговине еще разносилось пение вразнобой – каждый уже пел свое, раздавался смех, но народу возле догорающих костров поубавилось. Те парочки, что приглянулись друг другу, уже разошлись по роще, и только Лютомеровы бойники, которым после праздников некуда вести невест, еще плясали в хороводе с девушками, не выбравших пока женихов.
Хвалислав не хотел возвращаться к кострам, да и его злое, замкнутое лицо непременно обратило бы на себя внимание. А если его заметят, то сразу догадаются, что произошло! Его увлечение Далянкой ни для кого не составляло тайны и никого не удивляло – по ней страдали многие. Но Хвалису была нестерпима мысль, что вся Угра будет знать о его унижении. Болело сердце, раненное отказом, и не желало смириться с мыслью, что это навсегда, что девушка потеряна окончательно. Пока Далянка не замужем, он не хотел отказываться от надежд.
Но она уже второй год носит девичий венок! Этот год для нее последний! И если в ближайшее время он не найдет способ ее получить, то осенью Далянка станет женой кого-то другого.
– Не грусти, сокол ясный! – произнес за спиной тихий женский голос.
Вздрогнув от неожиданности, Хвалислав обернулся. Позади, в тени опушки, стояла Галица.
– Чего пришла? – буркнул Хвалислав. – Тоже жениха себе ищешь? Вон, поди из волков кому-нибудь подмигни: им девки не дают, они и тебе рады будут!
– Не за ними я пришла, а ради тебя, – шепнула Галица и села на траву позади него, словно прячась от взглядов за спиной своего молочного брата. – Ну, что? Ты ходил к ней?
– Ходил! – Хвалис в досаде хлестнул по траве сорванной веткой. – Не вышло ничего! Зря пропала твоя ворожба!
– Не могла моя ворожба пропасть. – Галица покачала головой. – Разве что помешали…
– Лютава тогда. Волчица!
– Она могла… – задумчиво согласилась Галица. – Она могла увидеть… Ну да ты не грусти. И на нее найдется управа. Не печалься, сокол мой, скоро все желания твои сбудутся. Ступай лучше в хоровод, чтобы люди не косились.
Она отступила назад и словно растворилась в темнеющем лесу. Хвалислав поднялся и неохотно побрел к кострам, тщетно стараясь придать лицу такое выражение, будто ничего не случилось. На его счастье, к нему никто сейчас не присматривался.
Впереди раздались дружные крики: подожженное колесо покатилось по обрыву в реку, разбрасывая искры, и пламя его вилось по ветру, как грива Ярилиного коня. С этого дня сила весеннего бога пошла на убыль – до самой Купалы, когда старого Ярилу похоронят и примутся ожидать нового. Но пока сама Купала впереди, надежды терять не следует.
Глава 3
Поначалу советы Галицы пропадали даром – попытки Хвалислава подружиться с Доброславом не увенчались успехом. Оковский княжич будто бы удивлялся, чего от него нужно этому сыну иноземной робы. Подходящими собеседниками ему казались только Лютомер, Лютава и Борята – дети Вершины от знатных жен.
Лютомер и Лютава в эти дни часто приходили из Варги в Ратиславль. Княжич Доброслав держался вежливо, хотя без особой сердечности, и даже на хороводы красивых, стройных угрянских девушек, которые сейчас, в русалий месяц кресень, устраивали гулянья у рощи под холмом каждый вечер, смотрел равнодушно.
Особенно охотно он беседовал с Лютомером. Как предводитель бойников, тот имел в руках военную силу, пусть и не слишком большую, но если бы он высказался за поход, его весьма многие поддержали бы. Хотя бы из убеждения, что поход, в который идет варга Лютомер, благословлен богами.
– Тебе ли дома сидеть! – убеждал Доброслав Лютомера. – Ты еще у сестры веретено попросил бы и к прялке сел! Здоровый мужик, и парней у тебя полных четыре десятка, или я не понял?
– Четыре полных. – Лютомер невозмутимо кивал. – Мелких я не считаю.
– От мелких пока толку нет. А четыре десятка, да когда люди храбрые, а вожак толковый – это немалая сила. Ты ведь умеешь духов заклинать, у богов помощи в бою просить? – Доброслав пристально взглянул на Лютомера. – Говорят, ты оборотень, – это правда?
– Мало ли чего говорят? – Лютомер усмехнулся, прищурившись. – А у нас говорят, что хазары до верховий Дона иной раз доходят, пока их остановят.
– Если пройдут в верховья Дона, то там по Оке и до Угры им недалеко, – отозвался Доброслав. – Так что я тебя хазарскими городами и соблазнять не буду – о своем доме подумай.
Находились среди угрян люди, которые весьма охотно прислушивались к речам оковского княжича. В основном это были главы богатых родов, у которых за зиму набирались излишки мехов, имелись запасы меда и воска, которые можно выменять у хазар на дорогие ткани, красивую посуду, серебро. В этом отношении дружба с вятичами и даже война с Хазарией стали бы очень выгодным делом. Успешная война, разумеется, после которой славянские купцы получат возможность приезжать в хазарские города и торговать там беспошлинно. В неурожайный год можно бы и жита прикупить в более плодородных южных землях. Прошедшей зимой князь Вершина договаривался со Святомером о том, что в конце весны, в самое голодное время, тот пришлет угрянам хлеба, за который они рассчитаются добытыми за зиму мехами. Последние два месяца перед уборкой урожая люди перебивались кто как мог – дичью, рыбой, разными лесными травами. Обещанные сроки уже миновали, и теперь князь Вершина намекал Доброславу, что ждал от его отца хлебный обоз.
– Не до торговли нам было, батюшка, – хмуро отвечал оковский княжич. – По весне нас другие заботы одолевали – не обозы отправлять, а войска собирать.
– Был у нас уговор, а слово держать надо.
– Мой отец не хуже других свое слово держать умеет. И ты, князь Вершина, помнишь ли, о чем уговор-то у вас был? Мы вам хлеб, а вы нам людей в войско.
Понять его не составляло труда: хлебный обоз задержался именно ради того, чтобы вынудить Вершину дать людей.
– Как же нашим людям воевать, если они от голода ног не таскают? – отвечал Богомер. – Голодный много ли навоюет? Вы бы сперва хлеба прислали. А потом уж ратников просили.
– О чем торгуешься ты со мной, батюшка! – сорвался однажды Доброслав. Он был достаточно сдержанным человеком, но уклончивость угрян казалась ему глупой и выводила из себя. – Сам, как иудей торговый из Итиля, простите меня чуры! О чем торгуешься? О жизни и смерти своей? Ты думаешь, только нам этот донской хлеб нужен? А вам не нужен? Вы, как лешие, кору можете жевать? Ну, скажи мне, у вас часто хороший урожай бывает? Ах, через три года на четвертый! – сам ответил он, не дав Вершине раскрыть рта. – А в остальные годы то вымокнет, то высохнет? Или неправда, что у вас два неурожайных года подряд было?
– Да то когда! В последние два года, слава Велесу и Макоши, жаловаться – только судьбу гневить.
Но тут с места поднялся волхв Велерог.
– Дай я скажу! – потребовал он и приподнял руку с резным посохом. – Ты, княже, все вокруг да около ходишь. Прав он в одном: торговаться нам не о чем, не на торгу! И он знает, и мы знаем, о чем речь идет. Не о хлебе об одном. Польстимся сейчас на чужой хлеб, продадим свою волю. Боги каждому роду свою землю указали, вот ее и надо держаться. Что нам нужно, то сами добудем, а что там на итильских торгах продается, нам без надобности. Да лучше мы на своей земле кору сосновую будем есть, чем из чужих рук хлеб принимать и за чужую землю кровь проливать. Боги велели человеку своим родом жить. И чужих князей нам не надобно.
– Ну и пропадайте тут в своем болоте! – гневно ответил Доброслав. – Не понимаете вы, что нынче уж не те времена, когда каждый своим родом жил и забот не знал! Рада бы курица нейти, да за крыло волокут! Сидите тут в лесу, как пни замшелые, и не знаете, что на белом свете делается! Варяги уж чуть ли не сто лет от своих морей до хазар по Волге-реке ходят, а теперь, говорят, будто и по Днепру дорога есть прямо к грекам. А хазары уж сколько лет половиной света белого владеют. Если не дадим им отпор, скоро сами будем им дань платить, да не соболями и куницами, а парнями и девицами! Тьфу, сам тут как в кощуне заговорил! Ты, князь Вершина, неужели хочешь своих дочерей в жены хазарскому кагану отдать? А чтобы честь и землю свою сохранить, встать нужно вместе! Чего же тут не понять? Что вы, как ребята малые: не хочу, и хоть ты тресни!
Бородатые старцы во главе с самим князем молчали. Его речь произвела на них неприятное впечатление, но слишком трудно было представить, как все это на самом деле. О далеких землях они знали в основном от варягов, которые действительно уже довольно давно повадились пробираться по рекам со своего Севера на жаркий богатый Восток. Скупая у местных жителей, особенно князей, у которых иной раз оставались излишки дани, меха, мед, воск, пленников, захваченных в походах, они увозили все это, а назад везли красивые ткани, серебряные дирхемы, которые славянские женщины вешали в ожерелья. Сами угряне из своих лесов выбирались редко – даже бойкий Вышень ездил не дальше Дона, где и встречался с хазарскими купцами. Дошедшие через десятые руки, три раза переведенные с одного малознакомого языка на другой, повести о далеких землях были что кощуны о Золотом, Серебряном и Медном царствах. И вдруг – идти их воевать! Мы что, с дуба упали?
– Варяги какие-то, хазары… – пробормотал Толига. – Стрый Велерог верно говорит: что нам надо, мы добудем. А чего не добудем, того нам не надо.
– С вами говорить, что об дуб лбом биться! – От досады Доброслав позабыл даже об учтивости. – Вот только уж веча дождусь, потому что отец мой мне наказ дал от всего племени угрян ему ответ привезти, а не от Ратиславля одного. А пока вече не собралось, что попусту говорить – воду в ступе толочь. Пойду я к моим людям. Не погневайся, если по глупости что не так сболтнул!
Он размашисто поклонился в пояс, но в его поклоне все увидели скорее издевку, чем почтение. Доброслав вышел, но Ратиславичи не сразу заговорили. Его вызывающая речь ошеломила старейшин, и только Велерог сидел с таким видом, что, дескать, я ничего другого и не ждал.
– Вы уж не гневайтесь на него, отцы, – среди общей тишины попросил Лютомер. – У мужика о родной земле сердце болит. Хазары, говорит, до верхнего Дона доходили. Прошлое лето они воевали и нынешним летом будут воевать. Пока он тут сидит, его братья, может, уже сражаются, а жену молодую в полон ведут.
– Но мы его жену отбивать не пойдем. – Князь Вершина покачал головой. – Мы ему сейчас, допустим, войско дадим, а как оно уйдет, к нам сюда от смоленской княгини люди явятся. Нет, нам сперва себя защитить надо, и не от хазар, а от кого поближе. Я и на вече так скажу.
– Да ведь… – начал боярин Русила, глава одного из самых богатых родов, тоже любитель заморских диковин.
– Знаю, знаю! – Вершина махнул на него рукой. – Ковры, шеляги серебряные, шелка многоцветные! Знаю, хочешь, а жены так и вовсе поедом едят. Ты вот что, Русила! – Его вдруг осенила мысль. – Бери брата твоего Радяту, снаряжай свои ладьи да отправляйся в смоленские земли! Там по Днепру до греков, говорят, ездить стали, там и продашь твои меха! Греческие шелка ничуть не хуже хазарских. А заодно и вызнаешь, как там дела, нам потом расскажешь. Что, хорошо я придумал, Ратиславичи?
– Это тебя боги на умную мысль навели! – одобрил Боговит. – Так и так надо вызнать, как в смоленских землях дела при новой-то княгине пойдут, а и пусть Хотеновичи едут. Вроде как по торговым делам, им выгода и всем угрянам польза. Что, беретесь?
– Беремся, – отозвались Русила и Радята, переглянувшись. Они вдвоем управляли многочисленным родом Хотеновичей и сами были не прочь съездить на Днепр. Может, выгоды те же, а все-таки не воевать…
Выйдя из братчины и направляясь назад к Волчьему острову, Лютомер старался отогнать внезапно накатившие тревожные, смутные образы. Опасность подстерегала племя угрян со всех сторон, и рассуждать, где она меньше, а где больше, – только терять время даром. Нужно просить совета у богов, и Лютомер не сомневался, что на вече без этого не обойдется. Ему вспомнилась мать – никто не умел так верно предсказывать будущее, как волхва Семилада, никто не умел так тонко улавливать и точно истолковывать малейшие проявления воли богов. Но ее уже давно не было на берегах Угры. Шесть лет назад, когда князья трех больших русских племен объединились и создали Русский каганат, они уже приглашали угрян присоединиться к ним. А когда князь Вершина отказался, вятичские князья и волхвы потребовали, чтобы его жена, княгиня Семилада, вернулась к своему роду. Ее возвращение означало бы разрыв и войну. Семилада не хотела допустить этого, но… Никто так и не узнал, что с ней стало. Она исчезла, и в землях оковских вятичей о ней тоже ничего более не знали. И даже самые умелые волхвы, даже сам Лютомер, заручившись помощью своего божественного отца Велеса, не смог отыскать на тропах Навного мира никаких ее следов.
Думая о матери, он в который уже раз жалел, что ее больше нет с ними. А она сейчас была бы необходима, как никогда! Еще ничего не случилось, но тончайшее чутье оборотня и Велесова сына улавливало тонкую, беспокойную дрожь где-то у самых корней Мирового Дерева, у самых основ вселенной. При всем желании он не мог бы толком объяснить, чего именно опасается. Вселенная только намекнула на некую возможность, на то, что сам уклад жизни может сломаться, измениться, что может рухнуть все то, к чему каждый привык, среди чего проживает всю жизнь от рождения до смерти, то же самое завещая потомкам. Как будет выглядеть эта иная жизнь, где лежит к ней путь, Лютомер не знал, но ему было тревожно, хотелось оглянуться, словно черная пропасть может распахнуться прямо под ногами…
Уже за воротами, возле Сологиного двора, ему попалась Галица. Челядинка торопливо шагнула навстречу, загораживая путь, и так значительно смотрела на него своими большими, желтоватыми, слегка раскосыми глазами, словно собиралась сказать нечто важное. Лютомер замедлил шаг.
– Что ты, княжич, невесел? – спросила она, приблизившись и понизив голос, чтобы никто их не услышал. – У батюшки был? Или он гневается на тебя?
– С чего это ему гневаться?
– Может, тогда дума тяжелая у тебя на сердце? Может, тебе совет мудрый требуется?
– Тебе-то что? – Лютомер даже удивился.
– А может, я помочь тебе хочу? – Она заглядывала ему в глаза и даже подняла руку, словно хотела прикоснуться к плечу, но не посмела.
– Ты? – Лютомер выразительно поднял брови. Так, наверное, удивился тот парень из кощуны, которому простая болотная лягушка предложила себя в жены. – Ты-то чем мне поможешь?
– Чем надо, тем и помогу. Тем самым, что тебе нужно. – Галица то отводила глаза, то снова устремляла на него пристальный, намекающий взгляд. – Тем самым. Я ведь тоже кое-чему научена. Ты не гляди, что я… Ты подумай…
– Белены ты, что ли, объелась? – Лютомер пожал плечами. Только своему задумчивому и рассеянному состоянию он был обязан тем, что вообще стал ее слушать: сейчас ему каждое мелкое происшествие казалось знаком богов. А теперь он опомнился и удивился: уж не от Галицы ли он собирался получить весть из Навного мира? – Несешь сама не знаешь что, и я, дурак, заслушался!
Махнув рукой, он пошел прочь, не считая нужным даже прощаться. Можно, конечно, иной раз заговорить с воротным столбом, в припадке рассеянности приняв за живое существо, но прощаться с ним, осознав свою ошибку, явно ни к чему!
Спускаясь по тропке с пригорка, Лютомер уже не думал о Галице. А она так и стояла, провожая его глазами, и он невольно шевелил лопатками, чувствуя спиной ее взгляд. А она все смотрела, точно хотела навсегда вобрать в душу эту высокую, плечистую фигуру, этот быстрый, легкий, неслышный волчий шаг, этот русый, с сединой, немного свалявшийся хвост волос, так похожий на настоящее волчье «полено».
Он не знает, что сейчас, ничего не заметив, сделал выбор и определил свой жизненный путь далеко вперед. А Галица знает. В последний раз она предлагала ему возможность оказаться на ее стороне. Он отказался, надменный потомок князей и богов. Галица лучше всех знала, как велика его сила на самом деле, и готова была принять его сторону даже против Замилы и своего молочного брата Хвалислава. Лютомер мог дать ей гораздо больше, чем те двое, а она заслужила больше! Но стать ее союзником он не пожелал, а значит, окончательно стал ее врагом. Молодую женщину уже давно мучила противоречивость ее положения: пока Лютомер ничего не знал о ее возможностях, он не обращал на нее внимания, но открыть ему правду означало для нее подвергнуться смертельной опасности. Галица понимала это, но смириться не желала. Она хотела, чтобы старший княжич сам догадался, какого внимания и какого обращения она заслуживает. А не хочет – пусть пеняет на себя.
Ее выбор был сделан. Вернувшись на княжий двор, она поскреблась на половину Замилы. Хозяйка уже собиралась ложиться: не зажигая лучин, в одной нижней рубашке она сидела на лежанке, а Новожилка расчесывала ее длинные, густые, угольно-черные волосы, продернутые кое-где белыми нитями седины.
– Уж прости, матушка, что тревожу тебя! – заговорила Галица, низко кланяясь и по привычке широко улыбаясь. К счастью, в полутьме никто не видел ее глаз. За многие годы Галица научилась улыбаться и кланяться, даже когда совсем не хотелось. Иначе ей было бы трудно выжить среди чужих, где вечное угодничество служило ей почти единственным оружием. – Прости, что тревожу. Позволь поговорить с тобой чуточку. Я надолго не задержу.
– Ну, ладно, – с неохотой согласилась княгиня и сделала Новожилке знак, чтобы вышла. Та охотно оставила свою работу и направилась к двери, по пути сунув в руки Галице гребень – дескать, дальше сама чеши.
Галица плотно закрыла за ней дверь и прислушалась, чтобы убедиться, что женщина действительно ушла. В большой клети было сейчас почти пусто – и Замира, дочь хвалиски, и почти вся челядь ушли на луговину посмотреть хороводы, и только старая бабка похрапывала в дальнем углу.
– Только дело-то у меня такое, что ни единого часа ждать не может! – заговорила Галица, подойдя к хозяйке и принявшись расчесывать ей волосы. – О тебе ведь я забочусь, душа ты моя, звездочка моя небесная! О тебе и о сыне твоем, о соколе нашем ясном.
– Ну, что там случилось? – недовольно спросила Замила. – Поздно уже! Князь может прийти. До утра не потерпишь?
– Князюшка в братчине сидит, с отцами разговоры ведет. А у нас такой разговор, что до утра ждать не может. Если упустим Жар-Птицу нашу, после не поймаем!
– Какую такую Жар-Птицу? Что-то я не видела ее.
– Здесь она, Жар-Птица наша, на луговине в шатрах живет.
– Ты про оковцев, что ли? – сообразила Замила.
– Про них, матушка, про них. Княжич-то оковский хочет князя нашего уговорить войско им дать, чтобы с хазарами воевать. А князюшка воевать не хочет. Значит, оковскому князю на Угре друг нужен верный, чтобы помог. Вот я и думаю: надо, чтобы сокол наш ясный таким другом ему стал. Пусть он у отца попросит войска и идет на Дон. Там и славу добудет, и добычу, и жену знатную – тогда кто же еще князю нашему наследовать будет, как не он?
– Что ты! – Замила даже обернулась, и Галица невольно дернула ей волосы. – Вот дура косорукая! – Хвалиска оттолкнула ее. – Ты что, сдурела? Хочешь, чтобы его убили там, соколика моего!
– Да не убьют! – убеждала Галица. – А дружина на что, а войско? Цел останется, ты уж мне поверь! Я его таким сильным словом заговорю, что ни железо, ни камень, ни дерево, ни иное что ему вреда причинить не посмеет. Зато какой почет и уважение добудет! Сейчас только и слышно – Лютомер то, Лютомер се, Лютомер, бойники, бойники, Лютомер! А тогда и о нем заговорят. Только ты, княгиня-матушка, должна согласие дать и князя уговорить, чтобы отпустил.
– Ну, хорошо, – неохотно согласилась Замила. – Я подумаю. Скажешь тоже – воевать идти…
Простившись с ней, Галица пошла искать Хвалислава. Он обнаружился там, где она и думала, – на опушке рощи. Приближалась Купала, по вечерам девушки водили хороводы и пели купальские песни, а Хвалислав сидел в тени, как леший, не смея приблизиться, но не сводя глаз с Далянки.
Под березами на опушке стояли многие из Ратиславичей, на траве сидели кое-кто из бойников. Лютомер и Доброслав стояли вдвоем, глядя на девичий хоровод и беседуя. Лютомер вертел в пальцах сразу три нитки бус – Лютавы и Далянки, доверенные ему на хранение на время игр. Когда предстоит много беготни, бусы снимают, – если нитка порвется, потом в траве не соберешь, а еще от резких движений и прыжков в игре можно получить тяжелыми каменными бусинами с размаху по зубам – тоже хорошего мало. После буйной игры девушки отдыхали, водили медленный хоровод и пели протяжную песню.
– Что сидишь, сокол сизокрылый? – шепнула Галица, неслышно приблизившись и опустившись на землю у него за спиной.
Хвалислав вздрогнул от неожиданности и обернулся.
– Тьфу ты! Крадешься, будто леший, – пробормотал он. В полутьме летнего вечера глаза Галицы светились каким-то особенным желтым светом, и по спине пробежал холодок. Хорошо знакомая женщина, молочная сестра, вдруг показалась каким-то иным существом, неведомым и опасным. – Что ты бродишь? Уйди от меня! Я тебя уже послушался один раз, так один позор вышел! Еще спасибо чурам, Мешковичи не стали отцу жаловаться. А то и с тебя бы голову сняли, и нам бы с матерью не поздоровилось. Пошла прочь! Я больше твои бабьи бредни слушать не буду!
– Не кричи, княжич, люди услышат! – примирительно и даже ласково зашептала Галица, проглотив все это и не поморщившись. – Ошиблась я, баба глупая! Больше не буду! Я совсем с другим пришла! Самое что ни на есть подходящее дело тебе предлагаю.
– Какое еще дело?
– Матушка твоя хочет, чтобы ты себе ратную славу и честь в поле добыл. Хочет, чтобы ты с оковским княжичем в поход пошел и со славой вернулся. Как прославишься, с добычей вернешься, а то и с женой знатной из русских земель, тогда тебе никто будет не соперник. Захочешь – и Далянку второй женой тогда возьмешь, потому что угрянским князем тогда ты будешь… а не оборотень какой-нибудь.
– Это матушка моя хочет? – ошарашенно повторил Хвалислав.
Всю эту речь он прослушал полуобернувшись, а теперь обернулся совсем и глядел на Галицу во все глаза. Он знал, что мать любит его больше жизни, но никак не ожидал от нее такого полета мысли.
– Да, матушка. – Галица не сомневалась, что в разговоре с сыном Замила выдаст все эти мысли за свои собственные. – Оттого у нас ничего не ладится, что оборотень над нами стоит, свет белый заслоняет. В нем все будущего угрянского князя видят, с тобой не считаются. У него – род знатный, и дружина верная, и слава ратная. А ты не уступай! Вот, дают боги случай отличиться – хватай обеими руками! Что ты сидишь тут, под березой? Подберезовик ты, что ли? Проси у отца дружину да ступай на Дон воевать. Вернешься с добычей, со славой – отец тебя тут же новым угрянским князем объявит. Тогда все наше будет – и честь, и слава, и невеста какая хочешь. Иди к княжичу оковскому, скажи, что ты ему друг. Вон! – Галица кивнула на дальний край луговины, где стояли вдвоем Лютомер и Доброслав, глядя на девичий хоровод и беседуя, как лучшие друзья.
Возле них стояли, обнявшись, Лютава и Далянка – уставшие от плясок, раскрасневшиеся, тяжело дышащие, смеющиеся. Далянка опустила голову на плечо Лютаве, и Лютава говорила что-то Доброславу, и даже тот не мог не улыбнуться слегка, глядя на них. Лютомер разобрал нитки бус у себя в руках и надел одну из них на шею сестры, две другие – на Далянку.
– Видишь? – шепнула Галица. – Вон она Далянку-то из рук не выпускает, брату своему невесту готовит. И оковцев они оплетают хитрыми речами. Если не вмешаемся сейчас – завтра может быть поздно. И невесту Лютомер у тебя отнимет, и с вятичами ряд установит, и на стол угрянский сядет.
– Но что же я делать должен? – злобно ответил Хвалис.
– Поссорить их надо. Оковцы и сами нашим не сильно-то доверяют. Понимают, что князюшка наш воевать с хазарами не хочет. Пойди к нему и скажи: так мол и так, хотят тебя угряне погубить. А я, скажи, один здесь ваш друг истинный, хочу вам добра. Пусть они уходят поскорее. А как они уйдут, ты у отца войска выпросишь, чтобы следом за ними идти. Приведешь им подмогу, хоть какую, небольшую, они и тому рады будут. Главное, чтобы от тебя они ее получили, а не от оборотня. Понимаешь?
– А если не выйдет? – Хвалис глядел на нее с тревогой и сомнением, а на лице женщины отражались отвага и уверенность. Казалось, дайте ей копье – сама воевать пойдет. – А если он мне не поверит? Отцу расскажет? Я ведь погибну!
– А ты хочешь, сокол мой, и на дерево не лезть, и меду поесть? – несколько язвительно отозвалась Галица. – Так не бывает. Это кто от старшей жены родился, тому мед уже в горшочке несут. А тебе на дерево лезть придется, иного пути нет.
Хвалис снова посмотрел через луговину на Лютомера. Тот не очень походил на человека, которому все приносят уже готовым, но он мог довольно легко получить все, что захотел бы, – лучшую невесту и сам угрянский стол.
Да и в словах Галицы содержалось кое-что весьма привлекательное. На Дон! С дружиной! Слава, честь, добыча! Тогда уже никто не будет видеть в нем «семца» – то есть младшего, бесправного члена рода, челядина.
Поднявшись, Хвалис отряхнул рубаху, словно уже стоял перед лицом своей славы. По его лицу Галица ясно видела, что он захвачен теми образами, которые она перед ним развернула.
– Ступай к нему, к Доброславу, – шептала она. – Скажи ему, что только ты один здесь ему друг. Я помогу. Не бойся. Ступай.
Голос ее вползал прямо в душу, а ее самой Хвалис уже не видел. Почти стемнело, но фигуры на луговине он видел отчетливо – а она исчезла. Она растворилась во тьме березняка, растаяла в свежем ночном ветерке, только взгляд ее желтых глаз еще сиял, медленно угасая, где-то на самом дне памяти.
Да была ли она? Хвалислав огляделся. Женщина исчезла, он стоял под березами один. И мысли, услышанные от нее, уже казались своими, родившимися в собственном уме и выношенными в душе.
Все это верно. Доброславу опасно оставаться здесь, потому что его попытки втянуть угрян в войну с хазарами возмутят вече. Доброслав может не выбраться отсюда живым! А он, Доброслав, – почти единственная надежда Хвалиса добиться надлежащего положения. А значит, нужно поговорить с ним. Причем не откладывая.
Темнело, Ратиславичи потянулись к тыну, жители окрестных весей тоже расходились по домам. У вятичей перед шатрами еще горел костер, люди сидели вокруг котла, потом тоже потянулись к шатрам. Иные укладывались прямо возле огня, завернувшись с головой в плащ от комаров.
Вот в Ратиславле закрыли на ночь ворота – теперь можно не бояться, что его кто-то увидит. Только бы мать не вздумала его искать и поднимать шум.
Выбравшись с опушки, Хвалис пошел к костру. При виде нежданного гостя дозорные мгновенно вскочили, в руках у всех оказались топоры и копья. Как видно, княжич Доброслав тоже готов был к неприятным неожиданностям.
– Ты кто таков? – Двое дозорных сразу шагнули навстречу, держа копья наготове. – Чего надо?
– Княжича Доброслава хочу видеть, – ответил Хвалис.
При слабых отсветах костра никто не разглядел бы, как он бледен, и Хвалис старался держаться спокойно, не выдать, как сильно все дрожит внутри. Он не был трусом, но не был и дураком и понимал, что именно сейчас, в этот тихий, теплый, ничем особо не примечательный вечер месяца кресеня, решается его судьба. Он ясно осознал, что перед ним нежданно открылась возможность свалить оборотня, своего главного соперника, и обзавестись могучим союзником в лице вятичского князя Святомера. О такой удаче сын хвалисской безродной рабыни не мог и мечтать. Теперь все зависит от его смелости и решительности.
– Ты кто таков? – повторил один из дозорных, а второй заметил:
– Да я вроде знаю его. Он из Вершининых домочадцев. Я там во дворе видел его. Зачем тебе князь Доброслав?
Видимо, в ближней дружине Доброслава звали князем.
– Разговор есть.
– Лег он уже, не стану будить, – проворчал первый дозорный. – Утром приходи.
– Разбуди, – приказала Хвалислав, помня о том, что он – княжеский сын, а не холоп какой-нибудь. – Не твоего ума дело, о чем и когда нам говорить.
– Да ты не от отца ли с поручением каким? – спросил второй дозорный, более догадливый.
– Княжичу Доброславу скажу, с чем пришел.
– Что там такое, Невер? – Из шатра показался десятник, услышавший голоса.
– Да вот, пришел тут один… Князя требует.
Десятник, видимо, сразу узнал Хвалислава и вспомнил, что это один из старших Вершининых сыновей, причем любимый, как говорят. Знаком велев обождать, он скрылся в шатре, и вскоре оттуда появился сам Доброслав.
Он действительно, видимо, уже собирался спать, потому что был в одной исподке и босиком, только набросил на плечи плащ, спасаясь от ночной прохлады.
– Ну, что там за мара полуночная? – спросил он, окидывая хмурым взглядом Хвалиса и дозорных. – Кто там бродит? Чего надо?
– Это я, Хвалислав. – Гость шагнул вперед. – Есть у меня к тебе разговор, Доброслав Святомерович.
– Разговор? – Доброслав вопросительно поднял брови.
Было видно, что он колеблется: его не очень прельщала необходимость вести доверительные беседы с сыном какой-то робы, пусть и бывшей, но надменность боролась с осторожностью: а вдруг тот и правда пришел с чем-то важным?
– Отойдем. – Хвалислав кивнул в сторону, на темнеющий перелесок. Он видел эти оскорбительные для него колебания, но не собирался отступать. В нем вдруг тоже проснулась гордость, и он смотрел на оковцев свысока, чувствуя, что в какой-то мере они зависят от него.
Доброслав глянул на дозорных, и Хвалислав понял его.
– У меня ничего нет! – Он развел руки, показывая, что не имеет при себе никакого оружия, кроме короткого ножа, которым пользовался за столом. – И я тут один. Не робей, князь Доброслав, – насмешливо подбодрил он. – С хазарами воевал – не боялся, а теперь усомнился?
Он знал, что говорит обидные вещи, но не стал сдерживаться. Если он будет только кланяться этому надменному княжичу, у которого у самого в бабках явно есть восточная женщина, то оковцы никогда и не начнут его уважать!
– Хорошо. – Доброслав наконец кивнул и взглядом приказал дозорным оставаться на местах. – Пойдем.
Они отошли шагов на десять, так что их от костра совсем не было видно.
– Послушай, князь Доброслав, – начал Хвалислав. – Я к тебе как друг пришел. Никто об этом разговоре не знает и знать не должен. А дело вот в чем. Дожидаться веча тебе не стоит. Угряне с хазарами воевать не хотят и войска тебе не дадут. И отец мой не на Дон смотрит, а в иные места. Он людей уже на Днепр послал, к новой княгине. Боюсь, как бы не вышло для вас чего худого из этого веча. А первый твой противник – мой брат Лютомер. Уходить тебе надо так, чтобы он не знал. А ведь случится что, отцу твоему скажут – не приезжал к нам княжич Доброслав, от смолян не возвращался, у смолян его и ищите. А в лесах между Угрой и смолянами только лешего сыщешь!
Эти рассуждения легко нашли путь к сердцу Доброслава, потому что он и сам все время ждал чего-то подобного. Он не стал возмущаться, дескать, как это можно обидеть гостя и как земля-матушка носит таких негодяев. Он видел еще и не то. Волновало его другое: не подослан ли этот чернобровый самим Вершиной? Не хотят ли его, Доброслава, просто выдворить побыстрее из Ратиславля и без помех прикончить где-нибудь в лесу? С дружиной в двадцать человек не много навоюешь против целого племени на его собственной земле.
– Я друг тебе, Доброслав Святомерович, – добавил Хвалислав, стараясь говорить твердо. – Хочу, чтобы между нашими родами дружба и мир были, а не вражда кровная. Я и не так еще тебе помогу. Я буду у отца войска просить. Сам приду к вам на помощь, если не со всем племенем угрян, так хоть с частью. Тут есть люди, которые вашу сторону держат, хоть и не так много их. Ты, главное, отцу скажи: я, его сын старший, вам друг.
– Старший у вас Лютомер, – возразил Доброслав.
– Он вообще вне рода! – с горячей яростью возразил Хвалислав. – Он – бойник. Волк! И он – оборотень! Я следом за ним старший, если не он князем угрянским будет, то я! И если будут у меня друзья и родня сильная, то оборотня я одолею. И тогда уж сам друзей моих не забуду. Я вам помогу, а вы мне.
– Я тебя понял. – Доброслав действительно понял, из каких соображений сын хвалиски явился нему ночью с этим разговором. – Как соберешь людей, приходи. Примем хорошо. Ты мне помог, я этого не забуду. Теперь скажи: твой отец нас охраняет? Выставил дозор за нами следить?
– Зачем? Не война ведь.
– Уходить надо, – сказал из темноты десятник Перемог, который, оказывается, находился достаточно близко, чтобы все слышать. – Прикончат нас здесь, княжич. Я тебе еще днем говорил. Они ведь тоже понимают…
– Собирайтесь! – решил Доброслав. – Ну, князь угрянский, я тебе это припомню!
Без суеты и шума десятники подняли людей. Шатры были сняты и свернуты. Вещи уложены в заплечные короба, оружие собрано.
– Иди вперед, – шепнул Доброслав, и Хвалис первым двинулся по тропе к отмели, где лежали ладьи.
Уже стояла ночь, Ратиславль спал, только звезды перемигивались высоко в ясном небе. Хвалис осторожно шел впереди. У Сологи залаяла собака, но под берегом темнела густая тень, никто не мог их здесь увидеть. Подумаешь, собака! Если кто из Ратиславичей и услышит лай, то подумает, что какие-то парочки в предвкушении Купалы никак не могут расстаться.
Однако с Хвалиса сошло семь холодных потов, пока оковцы сталкивали свои ладьи, грузили вещи и рассаживались. То, что он сделал, едва ли можно было назвать преступлением – он просто слегка поторопил события, вот и все. Но впервые в жизни он совершил некий важный поступок сам, по своему разумению, своей воле и ради своей собственной выгоды. Хоть его и не слишком любили в Ратиславле, он, как и каждый, привык ощущать себя неотделимой частью рода и по-другому жить не умел, как не умел почти никто в славянских землях. Но вот он совершил нечто, о чем родичам лучше не знать. По крайней мере пока. Ибо то будущее рода, которое задумал Хвалислав, идет вразрез с замыслами и намерениями всех Ратиславичей. И от этого внезапно нахлынувшего на него огромного, вселенского одиночества Хвалислав чувствовал себя как только что отлетевшая от тела душа. Все вокруг казалось Навным миром – черная тень под берегом, серебряная дорога реки, черные тени лодок и само высокое черно-синее небо с огромными, яркими, острым белым светом сияющими звездами.
Даже будущая княжеская власть сейчас казалась чем-то пустым, легковесным, незначащим и ненужным. Хвалислав чувствовал себя так, будто стоит один на высоком обрыве, и во всем мире нет никого, кто был бы ему близок, кто поможет, укроет, обогреет, наставит на ум… Ему вспоминалась только Галица – ее желтые и решительные глаза, ее шепот: «Ступай!», и казалось, что его ведет сама судьба.
– Иди домой и молчи, – на прощание приказал Доброслав Хвалису. – Я скажу отцу, кто нам помог. Но никому ни слова, чтобы твои ничего не знали.
– Я не скажу, – отозвался Хвалислав.
Он понимал, что Доброслав вовсе не заботится о его безопасности, а только хочет сохранить союзника.
Ему и в голову не приходило, что все время сборов Доброслав думал, не следует ли прихватить его с собой в качестве заложника. Но все же отказался от этой мысли: если сын хвалиски совершил все это сам, то для рода он, предатель, не представляет никакой ценности. Если же его все-таки подослал сам Вершина, задумав какое-то хитрое коварство, то наверняка выбрал из домочадцев наименее ценного, а значит, опять же толку от такого заложника не будет.
Случая узнать, как громко умеет причитать Замила, Доброславу, на его счастье, за эти дни не представилось, иначе он бы так не думал.
Хвалислав не знал об этих размышлениях, но понимал, что сделал только первый шаг. Впереди предстояло еще много трудностей, но, однажды вступив на дорогу, остается только идти по ней.
Глава 4
Две ладьи скользили по тихой ночной реке. Небо было ясным, светили звезды и почти полная луна, оковцы гребли, помогая течению, и ладьи быстро удалялись от Ратиславля.
Вдруг на темном берегу впереди мелькнул огонек. Мужчины в ладьях насторожились, на всякий случай приготовились взяться за оружие.
Издалека стала доноситься песня.
Ой как раным-раненько на зари Щебетала пташечка на мори; Сидела там девушка на камни, Сидела Затеюшка на белом… —протяжно и неспешно выводили звонкие девичьи голоса.
Как видно, здесь еще задержались самые неутомимые гуляки из тех, кому не хватало терпения дождаться настоящей Купалы. Махнув рукой гребцам, Доброслав велел пристать и неслышно скользнул в воду у берега. Выбравшись на сухое, он, скрываясь за кустами, стал пробираться ближе к поляне.
По бережку батюшка гуляет, По высокому родной гуляет, —неслось ему навстречу.
Прислушиваясь, Доброслав разобрал, что певиц три или четыре, не больше. Поначалу он хотел только вызнать, много ли здесь людей, смотрят ли они на реку и заметят ли проплывающие ладьи; а если заметят, то представляют ли опасность. Конечно, два десятка вооруженных и ко всему готовых оковцев прорвутся, но не хотелось, чтобы в Ратиславле их бегство заметили почти сразу. Доброслав рассчитывал, что время до утра у них есть, и надеялся далеко оторваться от вероятной погони.
Неслышно пробираясь через кусты, он подкрался к самой поляне. Костер горел ярко, хорошо освещая пространство вокруг. Людей тут сидело немного. Один парень помешивал в небольшим железном котелке, откуда доносился запах вареной рыбы, еще один сидел просто так, глядя на девушек.
Девушек оказалось три. Одна, маленькая ростом, худенькая, с рыжей косой, была одета только в некрашеную рубашку и происходила, судя по всему, из ближайшей веси. Узоров на поясе и рубахе разглядеть отсюда не получалось, но Доброслав сразу подумал, что она – сестра вон тому, что мешает в котелке. В их лицах замечалось нечто общее: не столько в чертах, сколько в выражении отпечаталось некое неуловимое единство, которое сразу отличает членов одного и того же рода.
Зато на двух других девушках его взгляд сразу остановился и задержался. Первая, пышнотелая, с длинной темно-русой косой, приходилась одной из старших дочерей князю Вершине, он встречал ее в Ратиславле. Вторая была Лютава, которую Доброслав только сегодня вечером видел на луговине, возле хороводов. Потом она вроде как пошла провожать Далянку до дома через лес – из Мешковичей та в этот раз пришла одна, – а теперь оказалась на этой поляне. Сейчас она сидела на бревне между сестрой и той, рыжей, помахивала прутиком и пела:
Гуляй, батюшка, гуляй здорово!
Сойми мня, батюшка, с камешка белого!
Доброслав застыл, почти не дыша. Она могла обнаружить его даже сейчас, в полной темноте и без единого звука с его стороны. Но при виде этих девушек его вдруг осенила мысль, как обезопасить себя на всю обратную дорогу, а может быть, и вовсе выполнить поручение отца и оковского веча. Дочери князя Вершины стали бы ценными заложницами по пути до дома. А когда он привезет их на Оку, князь Вершина будет просто вынужден заключить этот союз, от которого так упорно уклоняется. Пренебречь своими дочерьми, рожденными от знатных жен, княгинь и жриц, он никак не сможет.
Доброслав мысленно возблагодарил богов, судьбу и чуров – они послали ему такую удачу, когда он уже ни на что не надеялся и хотел только уйти невредимым! Никогда не надо отчаиваться! Надо внимательно смотреть по сторонам, а потом, как заметишь белую лебедь удачи, не упустить ее из рук.
Белая лебедь… Ему невольно вспомнилась женщина, всегда жившая в мыслях, та, что умела летать на лебединых крыльях. Ее образ уже семь лет помогал Доброславу во всех трудностях жизни, хранился в глубине души, как самый ценный оберег, придающий сил.
Вот только бы эти две летать не умели… А то ведь упустишь – потом не поймаешь.
В случае неудачи не только сорвется такой великолепный замысел, но и свое бегство оковцы выдадут раньше времени. Доброслав подобрался и прогнал все посторонние мысли. Взять пленниц нужно так, чтобы не поднять тревоги. Брать всех пятерых с поляны слишком хлопотно. Но и убивать трех лишних Доброслав не хотел: не упырь все-таки.
У батюшки жалости не много, Не снял меня с камушка с белого! —безмятежно пели девушки, не подозревая, что из темноты на них смотрят жадные враждебные глаза.
Мгновения уходили одно за другим. Еще ничего не решив, Доброслав неслышно отступил назад и вернулся к ладьям.
– Быстро проходим вперед, там опять пристанем, – распорядился он. – Здесь людей немного, но надо парочку взять.
– А нужны они нам? – шепнул второй десятник, Будило.
– Нужны. Там две Вершинины дочери.
Под пение про то, как и родная матушка не пожелала снять девушку с белого камушка, две ладьи проскользили по темной воде пониже и снова пристали. С высокого берега их не было видно, и на поляне никто ничего не заметил. Только раз, когда кто-то из кметей плеснул веслом, парень поднял голову, но махнул рукой, решив, что рыба играет.
– Идем! – Позвав за собой Будилу, Доброслав снова выбрался на берег.
Теперь они подошли к поляне с другой стороны. Здесь обрыв был довольно крутым, но множество кустов давали вполне надежную опору, а главное, скрывали их от глаз.
По бережку добрый молодец гуляет. Гуляй, гуляй, милый мой, здорово! Сойми меня с камушка белого! —пели совсем близко.
И тогда Доброслав, потеряв терпение, громко запел в ответ:
Дай мне белу рученьку, свет ты мой!
Припас тебе перстень я золотой!
Услышав неожиданно совсем близко мужской голос, отвечавший на их песню, девушки сначала вздрогнули, потом рассмеялись.
– Кто это там? – крикнула Молинка. – Честень, ты, что ли, опять? Никак домой не дойдешь – заблудился, может? Выходи.
Доброслав и не подумал выходить. Тогда она встала и подошла к обрыву.
– Стой, куда ты! – Рыженькая девушка в испуге попыталась схватить ее за рукав. – Не ходи! Это ж водяной тебе отвечает!
– Сейчас погляжу на этого водяного! – Не слушая ее, Молинка подошла к обрыву и склонилась, держась за куст. – Эй, кто там?
Тут же перед ней возникла темная фигура, сильные руки сдернули девушку с обрыва, и Молинка исчезла в кустах, только белая рубашка мелькнула.
Лютава мигом вскочила и кинулась за ней, точно пытаясь поймать и удержать. Она не успела заметить мужчину, ей показалось, что сестра просто упала с обрыва.
– Молинка! Ты где? Ты жива? Отзовись, эй! – крикнула она.
В ответ послышались только неясная возня и сдавленное мычание: ни говорить, ни кричать Молинка уже не могла. А Лютаву мгновенно пронзило чувство тревоги – рядом была опасность.
Чья-то черная фигура вдруг выросла перед ней и протянула руки; Лютава отшатнулась, наткнулась на куст и чуть не упала.
И тут же другая тень, серая и размытая, мелькнула в воздухе, сбила с ног того, черного, и вместе с ним покатилась по обрыву. Раздались крики, жуткий вопль, и тут же еще несколько человек бросилось: одни – к Лютаве, другие – к тем двоим, что уже барахтались на мелководье. К человеку и волку.
Лютава знала, что нужно бежать, но не могла оторвать глаз от тех двоих внизу, облитых белым светом луны. Молодая поджарая волчица, одна из стаи, обитавшей в лесах под самым Ратиславлем, из хорошо знакомой стаи, которой сама Лютава по известным «волчьим» дням носила в лес жертвы. Лютава хорошо помнила ее «в лицо» – еще в щенячестве волчица повредила заднюю лапу, и хотя бегать это ей не мешало, хромота была заметна.
Сейчас Хромая лежала в воде, сжимая зубами горло незнакомого мужчины. В боку ее торчал нож, всаженный по самую рукоять.
Полусидя на кусте, Лютава не успела даже встать на ноги. Какие-то темные фигуры заслонили от нее человека и волчицу, схватили ее, подняли, завернули руки за спину и потащили чуть ли не волоком вниз по крутому травянистому склону, через мелкие кусты, к воде, в которой перед началом отмели уже ждала ладья, полная людей.
Это уже видели и остававшиеся на поляне трое. Девушка по имени Лазорка, из рода Отжинковичей, ее брат Молва и еще один парень, из Коростеличей, припозднившийся после гуляний и не успевший домой, разом вскочили, не зная, то ли бежать на помощь, то ли спасать собственные головы. Парни и девушка в эти дни не бывали в Ратиславле, оковцев не видели и сейчас были уверены, что княжеских дочерей похитил леший или водяной. А значит, скорее надо спасаться, чем спасать.
Но такой возможности им не дали. Убедившись, что забрать двух нужных девушек совсем без шума не получилось – да и как можно забрать двух человек из пяти, чтобы оставшиеся не заметили? – Доброслав подал знак своим кметям.
Мигом еще человек пять или шесть вскарабкались по обрыву, и парни с девушкой не успели даже опомниться, как оказались схвачены. Лазорка сразу зарыдала от страха, не понимая, что это за черная нечисть на них напала, горько жалея о том, что осталась в лесу ночью перед Купалой, когда темный, чужой мир так близко подходит к человеческому!
– Вязать этих троих, рты заткнуть, – распорядился Доброслав.
Тем временем тех двоих расцепили. Человек уже был мертв; речная вода смыла, слизнула, сразу поглотила кровь с его тела, но разорванное горло не оставляло никаких надежд. Один из его спутников злобно пнул тело волчицы, другой наклонился и, упираясь ногой ей в спину, вытащил нож. Понятное дело – зачем оставлять?
Лютаву по воде перенесли в ладью и положили на днище. Почти не осознавая, что происходит с ней самой, она не сводила глаз с волчицы и извернулась, как уж, чтобы продолжать ее видеть. Она была так потрясена, как будто на ее глазах погибло самое близкое существо. Погибло, пытаясь ее спасти…
Хромая волчица, которую уже, видимо, посчитали мертвой, вдруг перевернулась – или это мелкая волна на отмели ее толкнула – и подняла голову. Лютава дернулась, не осознавая, что связана и не может двигаться, – все ее существо рвалось туда, где умирала волчица, такая молодая, прекрасная, полная сил…
Но Хромая сумела поднять голову, и Лютава встретила ее взгляд. Там не было сейчас боли и ужаса неизбежной близкой смерти. В глазах зверя стояли чувство вины и просьба о прощении – прости, я не успела… не смогла…
«Нет, зачем! – хотелось крикнуть Лютаве. – Ты не должна была… Я погубила тебя!»
«Ты возродишь меня!» – вдруг сказал в душе ее голос, сказал не словами, а напрямую – так, как в древние времена человек говорил со зверями и птицами, деревьями и травами, землей и водой, луной и солнцем.
Взгляд волчицы угас, голова опустилась в воду. А ладья тем временем двинулась – похитители снова заняли свои места, вот только один из них уже никогда грести не будет. Тело волчицы быстро исчезло с глаз, сама отмель растаяла в темноте и осталась позади.
Два парня и девушка, связанные и с кляпами во рту, остались лежать у погашенного костра. О них Доброслав не беспокоился – до утра ничего с ними не случится, а завтра авось найдут. И пусть они тогда рассказывают что хотят. Князь Вершина тоже не дурак и сумеет сосчитать три пальца – он и сам догадается, кто похитил его дочерей в ту самую ночь, когда оковские гости так неожиданно покинули Ратиславль. Но пусть пеняет на себя, он, забывший священные обычаи гостеприимства!
До утра похищенных никто не искал. Любовидовна, мать Молинки, зная, что та ушла гулять с Лютавой, подумала, что девушки ночуют у Далянки в веси Мешковичей. Хватились их только наутро, когда обнаружилось исчезновение оковских гостей.
Узнав о том, что луговина пуста, что шатры и ладьи вятичей исчезли, как сон, князь Вершина не очень удивился. Видимо, Доброслав сам понял, что ему нет смысла дожидаться веча, потому что ничего хорошего ему угряне не скажут. Однако тайный уход, от которого веяло недоверием и неприкрытой враждой, очень настораживал. Как бы не случилось чего похуже!
Ухода гостей никто из сродников не видел и не слышал, и бабы уже заговорили между собой о ворожбе, которая, дескать, подняла оковцев да сразу и унесла на край света. Лучениха будто бы даже видела, как шатры косяком летели на полуденную сторону, но этого никто, кроме ее золовок, за правду не принимал. Княжеский ключник Крыка истово пересчитывал скотину, ночевавшую на лугу по другую сторону пригорка, кричал и причитал, что «в иную ночь все хозяйство вынесут какие-нибудь лешие, а никто и не чухнется!» – но не слишком громко, потому что в первую очередь должен был «чухнуться» он сам. Тем более что вся скотина оказалась цела.
– А Лютава где? – между делом спросил князь Вершина и огляделся. Он помнил, что старшая дочь с вечера не пошла в Варгу, а собиралась гулять с сестрами, и надеялся, что она что-то знает.
– Где? – Любовидовна удивленно поглядела на него. – Сама бы я ее спросила, где Молинка? Обе же дома не ночевали.
– Не ночевали?
Князь переменился в лице. Вот оно – неприятное известие, которого он ожидал с того мгновения, как узнал о внезапном отъезде гостей. Лютава и Молинка! Еще не желая верить, еще надеясь, что отсутствие дочерей никак не связано с бегством оковцев, он мгновенно настроился на все самое худшее. Если Доброслав просто бежал – это неприятность, но вполне терпимая. Однако если он увез старших дочерей – это беда, большая беда, которая тяжким бременем ляжет не только на его род, но на все племя угрян. Внутренне ужасаясь, стараясь скрыть дрожь в руках, князь Вершина приказал немедленно всем Ратиславлем искать – девушек, следы, видоков, что угодно!
– Где они гуляли? – Вершина огляделся, требовательным взглядом впиваясь в лица домочадцев. – Кто знает?
– Да там, на Ярилиной Плеши, где всегда, – ответила ему Ветлица, еще одна из семи княжеских дочерей, четырнадцатилетняя бойкая девица. – Мы там гуляли с девками, а потом я спать пошла, они с Молинкой еще оставались, и с ним из Отжинковичей кое-кто – ну, Лазорка с Гостянкой, Востряк, Точило, ну, еще какие-то их парни. Мы с Премилкой устали потом и ушли, а они еще оставались…
Во главе гомонящей толпы князь Вершина сам бросился бегом на Ярилину Плешь.
И первый, кого он там увидел, был его старший сын Лютомер. Он стоял возле отмели, не отрывая глаз от чего-то большого, серого, косматого, лежащего в тихой маленькой заводи под ветвями старой ивы.
Взгляд его был таким напряженным и горестным, словно он видел мертвое тело кого-то из близких. У Вершины остановилось сердце – конечно, ему лишь показалось, что сердце пропустило несколько ударов, но за этот миг, полный мучительной боли, он уже в мыслях увидел свою дочь мертвой…
Не помня себя, он подбежал ближе и увидел, что в воде под ивой лежит мертвый волк. Скорее даже волчица. От громадного облегчения Вершина так ослабел, что сел прямо на землю на склоне, опершись спиной на крутой обрыв.
Но Лютомер все так же смотрел на мертвую волчицу. Он хорошо понимал, что здесь произошло. Даже не следы, которые он уже успел бегло осмотреть, а это тело серой красавицы рассказало ему главное: Лютава в большой опасности, раз лесная сестра пыталась спасти ее ценой собственной жизни. И не смогла…
Еще на ранней заре, почти в темноте, его разбудило поскуливание и царапанье под дверью. Что-то случилось – ведь волки не приходят просто так. Лютомер очнулся и осознал одновременно несколько вещей. Первое: что он лежит не на полатях в большой землянке, где его обычное место, а у Лютавы, на ее лежанке. Второе: что самой Лютавы рядом нет. Ночь уже прошла, а она так и не вернулась! Они расстались в Ратиславле – она хотела еще погулять с девушками, а он забрал бойников с луговины и пошел с ними домой в Варгу. Именно в эти теплые, душистые, кружащие головы длинные вечера бойникам строго предписывалось не покидать без разрешения Волчий остров, чтобы их потом не искали разгневанные отцы и матери чересчур податливых девушек. По существующему ряду, за такие дела Варга платила виру роду испорченных девушек. Однако взрослеющих парней и без того нелегко держать в узде, а в этом деле и подавно, поэтому Лютомер следил за этим сам, не перекладывая заботу на десятников.
Он спокойно оставил сестру возле хоровода – никто из людей на Угре не захочет ее обидеть, а от нелюдей защитят братья-волки, всегда провожающие по пути через лес тех, кого признают своими. Убедившись, что все бойники дома, выставив дозоры – в такое время «волков» требовалось держать в загоне, как овец, и «отреченные волки», сменяя друг друга, всю ночь сторожили младших побратимов, – Лютомер пошел в землянку Лютавы и прилег на ее лежанку, чтобы дождаться сестру и сразу убедиться, что она вернулась.
Лежанка была достаточно широкой, рассчитанной на двоих, – ведь сколачивали ее давно, для какой-то из предыдущих «волчьих сестер», которые имели право в любое время принимать у себя «отреченных волков» из числа обитателей Варги. Перед Лютавой здесь жила Ледяна – тоже Маренина волхва. Но после гибели Ратислава, предыдущего вожака бойников и младшего брата князя Вершины, она не захотела жить – пронзила себя ножом над его погребальным костром и была сожжена вместе с ним.
Несколько лет землянка «волчьей сестры» стояла пустой, а обряды принятия новых «волков» или прощания со старыми проводили бабка Темяна и Числомера. А потом Лютаве, единственной родной сестре Лютомера, исполнилось двенадцать лет.
В детстве она плохо знала брата: когда он ушел в лес, ей сравнялось всего четыре года. Она росла в Ратиславле, возле матери; Семилада, имея только двоих детей, часто беседовала с девочкой о своем первенце, на котором лежало первое благословение Матери Лады и Отца Велеса. Постепенно обучая дочь, волхва Семилада раскрывала ей смысл древних преданий, обычаев и обрядов. Бойничество, уходящее корнями в те темные времена, когда человек и волк охотились плечом к плечу и почитали общего предка, было одним из наиболее священных установлений, и девочке казалось, что ее старший брат живет не просто в лесу, а непосредственно в той седой, волшебной, божественной древности. И когда взрослеющий Лютомер по праздникам приходил повидать мать, маленькая сестра смотрела на него с восторгом и благоговением.
В двенадцать лет единственная дочь Семилады прошла первое взрослое посвящение. Иной раз боги выбирают и призывают служить себя случайных вроде бы людей совсем иного происхождения, но среди потомков древних волховских родов, по наследству передающих умение ходить по тропам Навного мира, божественного покровителя имеет каждый.
Сама Семилада была посвящена Ладе, но ее дочь выбрала Марена. Богиня устами Темяны, своей старшей жрицы, нарекла девочку именем Лютава – Лютая Волчица, по одному из воплощений самой богини. Лютава приняла это с удовлетворением и без удивления. Чего-то подобного она давно ждала, чутьем угадывая, к кому из богов ее дух ближе всего. Ничего страшного в этой участи она не видела. Марена, Ночная Мать, богиня тьмы, зимы и увядания, так же необходима мирозданью, как Лада и Леля, рассыпающие цветы из рукавов, – ибо если Марена не очистит место от прежних, куда же они посеют новые цветы? Как левый берег любой реки самой водой соединен с правым берегом в неразрывное целое, так и Марена Темной Водой, соединяющей жизнь и смерть, привязана к Ладе и является ее неотделимой частью.
Выбор Марены определил ее судьбу и подтолкнул к тому, чего давно хотелось. Лютава пожелала уйти к бойникам, тем более что землянка Ледяны уже два года пустовала и ей требовалась новая хозяйка.
Князь Вершина огорчился – он любил старшую дочь, многого от нее ждал и не хотел отпускать в лес, где она навсегда останется исключенной из рода и его будущего. Но Семилада одобрила решение дочери. Старшая волхва даже не думала о том, чтобы спорить с богиней, да и саму Лютаву предпочла бы видеть под защитой родного брата.
И Лютава ушла в лес. Через три года, после второго взрослого посвящения, она должна была получить права исполнять те обязанности, которые сейчас несли Темяна и Числомера, – посвящать старших бойников в тайны Лады и Ярилы перед возвращением «в люди» или хоронить их, если они погибнут, оставаясь «волками».
О втором бойники старались особо не думать, но надежды на первое так их воодушевили, что кое-кто даже задумался, а не отложить ли свое посвящение до тех пор, пока она подрастет. Но Лютомер откладывать не советовал. Он знал, что дух-покровитель, которого Лютава получила при посвящении, наложил на нее запрет любить мужчин, выбирать мужа, пока сам он не укажет ей нужного человека.
Узнав в двенадцать лет, что ждет ее в будущем, Лютава сосредоточилась мыслями на том неведомом избраннике, которого укажет ей дух-покровитель, и несколько лет думала только о нем – мечтала, как многие молоденькие девушки мечтают о витязях из сказаний, пыталась вообразить того человека и даже рисовала его себе в облике самого Радомера – насколько могла его представить.
Но мечты оставались мечтами, а пока из всех парней на свете только Лютомера, родного брата, ей разрешалось любить. И Лютомер, не имея права жениться или держать при себе какую-то подругу, кроме волхвы, тоже видел в сестре единственную близкую женщину. Общее происхождение, общее посвящение и условия жизни сделали их ближе друг к другу, чем братья бывают близки с сестрами, а жены – с мужьями. И с тех пор как землянку «волчьей сестры» заняла Лютава, Лютомер был единственным из мужчин Варги, кто иногда здесь ночевал.
Весь второй год пребывания Лютавы в Варге он просто жил здесь: в тот год бойников оказалось так много, что в больших землянках все не помещались, и Лютомер ушел к юной волхве. Так он сам меньше беспокоился за взрослеющую сестру, да и теплее вдвоем… Весной сразу десять бойников разошлись по своим родам, места освободились, и он перебрался обратно к десятку Дедилы, где и прожил, как обычно, два следующих года. Застревать здесь на всю ночь он снова начала только пару лет назад – но тут уже теснота была ни при чем…
Вчера он не собирался засыпать, не дождавшись ее, а только лежал, глядя в темную низкую кровлю, и мечтал о том, как она вернется – веселая, утомленная, принесет в волосах запах вечерней прохлады и лесных трав. Она сразу почувствует его присутствие, но сделает вид, что в темноте ничего не заметила, – развяжет поясок, снимет тесьму с головы и сразу бросится на лежанку, а потом вскрикнет, будто очень испугалась, обнаружив здесь кого-то. И как он обнимет ее, перевалит через себя к стене, прижмется к ней… Он уже ощущал жар такого знакомого и желанного стройного тела под одной льняной рубахой, и холод босых ног, еще не согревшихся после ходьбы по лесной тропе, и запах немного разгоряченной кожи – тоже знакомый, будто свой собственный… И как она будет отталкивать его, но потом наконец сдастся и прильнет к нему…
Это началось той весной, когда Лютаве исполнилось пятнадцать лет. Она вошла «в пору», как это называется, то есть миновало три года после ее женского созревания. В пятнадцать лет девушки обычно выходят замуж. Ну, кто-то и до семнадцати сидит, но это уж кому не везет. Она думала, что в этом году, когда настанет Ночь Богов, ее судьба определится. Но до Ночи Богов еще были весенние игрища – Ярила Молодой, Ярила Мокрый, Купала… В весенних хороводах она веселилась пуще всех – и никого не искала, как другие девушки, не высматривала себе жениха, и весь жар ее юного сердца предназначался одному Яриле. И в какой-то игре она вдруг выскочила прямо на Лютомера – как же без него, ведь Ярилой Ратиславльской волости был он.
Лютомер, которому тогда сравнялось двадцать два, уже понял, что Лютава, его сестра и «сестра волков», стала взрослой. Она уже не та маленькая девочка, которую он водил по лесу за руку, и не та девушка-подросток, которую он оберегал здесь, в Варге. Она почти женщина. И когда она вдруг выскочила из круга среди всеобщей суеты и беготни и налетела прямо на него – он поймал ее, взял за плечи, чтобы не упала, засмеялся, видя радость на ее разгоряченном, румяном лице с горящими глазами, – и неожиданно для себя поцеловал в губы, совсем не по-братски. Он просто не думал тогда о том, что она – его сестра. Он видел в ней прекрасную женщину, единственную на свете в этот миг, как единственной была для Велеса Лада. И она только улыбнулась ему, задорно и лукаво, вырвалась и убежала.
Никто из кричащей и бегающей вокруг молодежи ничего не заметил. А произошедшее они сами осознали позже. Ведь весенние игрища прошли, а это совсем не родственное чувство, соединившее их в тот краткий миг, никуда не делось…
Лютомер уже не мог побороть своего однажды возникшего влечения к ней, да и не особенно старался. Для него их родство не имело значения, вернее, не служило основанием для запрета, а, напротив, подталкивало к тому, чтобы сделать их близость наиболее полной. Для него это было естественно. И Лютава ощущала почти то же самое, с той разницей, что помнила о существовании запрета, который для всех прочих людей был внутренним, а для них – только внешним. Но, живя в лесу и продолжая обычаи глубочайшей древности, они имели право не считаться ни с чем, кроме воли богов. А что сами боги подталкивают их к этому, им не только говорило собственное убеждение, но даже подтвердила бабка Темяна.
Поначалу Лютава думала, что на нее просто наваждение какое-то нашло, и пошла к бабке Темяне, своей наставнице, с просьбой помочь. Для Лютомера, сына Велеса и оборотня-волка, их кровное родство имело то же значение, что для Велеса родство с его сестрой и супругой Ладой или для вожака волчьей стаи – родство с самой лучшей волчицей, скорее всего, тоже сестрой, ибо вожак стаи одновременно с этим является и отцом всех волчат. То есть это родство означало именно близость и привязаннось наивысшей степени – так, как это у зверей и у богов. Но она, Лютава, находилась все же ближе, чем он, к человеческому миру, и человеческие законы нынешних времен для нее значили больше. Та древняя общность рода, при которой все мужчины-братья являлись мужьями всех женщин-сестер, закончилась тысячи лет назад.[7] Но мать рассказывала ей об этом, как обязательно должна была рассказать волхва-наставница своей будущей преемнице. И уже тогда Лютава думала, что ей, с таким братом, как Лютомер, никакие чужие мужчины и не понадобились бы. Но сейчас так не живут. Сейчас так нельзя. Боги дали людям другие законы, и значит, так надо.
Старая волхва, их с Лютомером родная бабка, поворожила, поговорила со своими духами и развела руками:
– Твой дух на тебя отсушку наложил, сердце затворил, чтобы ты никого не любила, его дожидалась. А нельзя любовь совсем в сердце запереть – Лада-матушка всякого духа посильнее будет! Где-нибудь да прорвется. А Марена Велеса не любить не может – вот и прорвалось.
– Что же мне делать?
– Справляться.
Лютава с нетерпением ждала, когда же появится обещанный покровителем жених, надеясь, что с ним она найдет свою, судьбой предназначенную любовь, выйдет замуж и будет жить, как все женщины, и в Лютомере видеть только брата. Но ни в эту осень, ни в следующую обещанный жених так и не появился. Она по-прежнему любила Лютомера больше всех на свете, и их ласки становились все менее и менее родственными… Лютомер уверенно наступал, не торопился, ибо знал, что она от него не уйдет, но постепенно заманивал ее все дальше и дальше. В этот первый год Лютава еще противилась его не братским поползновениям, хотя разделяла его влечение и сама страдала от своей вынужденной неуступчивости. Но она боялась нарушить волю своего духа-покровителя, и в этом Лютомер ее понимал. Ссора со своим духом для волхва большая беда, грозящая потерей части силы, а то и гибелью. Он сам боялся за сестру и поэтому старался сдерживаться. До той Купалы, перед которой Лютаве исполнилось шестнадцать лет и они поняли, что это сильнее их…
Хорошо, что бабка Темяна научила внучку делать другую отсушку, чтобы не привлекать к себе желания «отреченных волков». На Лютомера почему-то не действовало, но хотя бы не приходилось объяснять Чащобе, Дедиле и прочим, почему варге можно ночевать в землянке волхвы, а остальным нет. Все помнили о том, что она – его родная сестра, и никаких вопросов не задавали.
Зато именно после той Купалы дожди прошли в нужные сроки и в нужном количестве, не более. Засуха не посушила поля, как в прошлом году, и градом не выбило зреющий хлеб, как в позапрошлом. Угряне славили богов на богатом жертвенном пиру, ликовали, что наконец-то Велес, Перун и Макошь взглянули на угрянские нивы благосклонным взором, а Марена, наоборот, обошла своим губительным дыханием. Лютомер и Лютава, нарядившись в волчьи шкуры с личинами, гоняли «хлебного волка» и шутливо кусали жриц, несущих в святилище последний Велесов сноп. И никто, кроме них, не знал, почему боги наконец подобрели. Потому что они, дети Семилады, их об этом попросили. Ибо подобное имеет власть влиять на подобное – это один из основных законов волшбы, а они теперь обрели большее сходство со своими божественными покровителями, чем прочие волхвы.
Скоро опять придет Купала, третья с тех пор. А после Купалы настанет Ночь Богов. Ее прихода Лютомер ждал с глухим враждебным чувством – ведь может быть, что именно в этом году варга Радом наконец исполнит свое давнее намерение и даст Лютаве мужа.
Лежа в темноте знакомой землянки, где лишь в углу смутно белела сухая березка – обязательная принадлежность жилища волхвы, – Лютомер старался гнать неприятные мысли, думать не о том, что будет через полгода, а о том, что будет сейчас… когда она вернется с Ярилиной Плеши и…
Он не заснул – он провалился в Навный мир, выдернутый из Явного могучей нездешней силой.
– Идем со мной, брат, – сказал ему Черный Ворон, старший сын Велеса. – Ты мне нужен.
На свете было еще двое таких же, как Лютомер, сыновей Велеса, так же, как он, рожденных жрицами Ладами разных земель. Страший брат – Черный Ворон, младший брат – Огненный Змей, являлись помощниками Лютомера в Навном мире, как и он, Белый Волк, помогал любому из них, если приходила нужда. Втроем они составляли такую силу, что в иных покровителях уже не нуждались. И вот сейчас он понадобился брату.
Лютомер даже не знал, кто этот человек – обладающий духом отважного и закаленного в боях воина. Воин лежал где-то в беспамятстве, сжигаемый лихорадкой из-за тяжелой раны, а лихорадка Огнея, служанка Кощной Матери, тянула дух из тела в Навье Подземелье. Но Черный Ворон не хотел, чтобы воин умирал, и позвал братьев, чтобы помогли отстоять эту жизнь. Воин метался в забытье – где, в какой земле он лежал, в какой битве получил рану? – а Черный Ворон, Белый Волк и Огненный Змей бились с Огнеей и ее одиннадцатью сестрами, не давая им забрать беспомощный дух…
В Навном мире время идет иначе – вернее, его вовсе там нет. Нельзя было сказать, сколько времени продолжался этот бой. Но воин очнулся, дух его вернулся в тело, и братья-оборотни простились, возвращаясь каждый в свое человеческое тело и к своим земным делам…
И проснулся Лютомер от того, что волк скребся и скулил за дверью землянки, как собака, а Лютавы, на лежанке которой он провел эту ночь, рядом не было.
Внутренним взором Лютомер быстро окинул пространство, пытаясь ее отыскать. Этим внутренним чувством они были связаны так прочно, как если бы держались за два конца невидимой нити. И сразу понял, что с сестрой случилась беда. Правда, еще не беда, а скорее неприятность – жизни ее сейчас ничего не угрожает, но все же дела очень нехороши!
Мигом скатившись с лежанки, Лютомер распахнул дверь. Перед землянкой сидел молодой волк – один из местной стаи.
– Здравствуй, брат! – с тревогой произнес Лютомер. – Почему ты пришел? Что случилось?
Волк отбежал немного и оглянулся. Все ясно – зовет.
Быстро вернувшись к лежанке, Лютомер торопливо оделся, выскочил наружу, заколотил в дверь большой землянки, поднимая десяток Дедилы. Заслышав шум, и из трех других землянок показались взъерошенные спросонья головы.
– Что, Теребила таки сбег? – ахнул Чащоба, у которого в эту ночь на уме была только одна забота. – Да я ему сам щас все оторву…
– Все за мной, – быстро распорядился Лютомер. – Ждать некогда, с Лютавой что-то стряслось.
Встревоженные парни быстро оделись без суеты и задержек, разобрали оружие. Каждый миг казался Лютомеру досадно долгим, но вот наконец все собрались, и он крикнул волку:
– Веди, брат!
Волк устремился вперед, уже не оглядываясь и зная, что братья-бойники следуют за ним.
Уже на свету добравшись до Ярилиной Плеши, бойники застали здесь бабу Гневаниху и двух парней из рода Отжинковичей, из ближней веси. Те отправились поутру искать своих, которые слишком уж долго не возвращались, и нашли Лазорку с братом и с парнем из Коростеличей, по имени Заяц. Бедняги были чуть живы, пролежав всю ночь связанными. Их уже освободили, но они едва могли говорить.
– Лешие их унесли, княжон, – бормотал Молва. – Как есть лешие, варга. Молинку так и унесло, никто моргнуть не успел. Стояла – и нету, а никто не подходил. Потом Лютава туда – и ее унесло. А потом как набросились на нас…
– Да ну, не лешие это. – Заяц покрутил головой. – Что я, леших не видел? Люди это, варга, только чужие совсем. Откуда только взялись! Ни слова не сказали, повязали нас и бросили. Спасибо чурам, не убили, не увезли, а мы уж тут с жизнью простились.
Лютомер даже не сомневался, что лешие и водяные тут совершенно ни при чем. Осмотрев поляну и обрыв, он по отпечаткам на земле, на песке, по сломанным веткам кустов и по запахам быстро определил, что именно отсюда его сестра, а с ней и Молинка шагнули прямо в воду – и не сами, а с чужой помощью. А потом он увидел тело волчицы. Той самой, Хромой, из ближайшей к Ратиславлю стае. Поврежденная ли лапа ее подвела или бой выдался уж слишком неравным – но больше ей не бегать по лесам…
– Она была здесь, ее увезли, – беззвучно шептала ему река. Блестела вода под солнцем, шумел ветерок в вершинах берез, колыхались длинные стебли водяной травы, и все вместе складывалось в речь, не доступную человеческому слуху, но отчетливо понятную сыну Велеса. – Чужие люди увезли. Она и сейчас с ними. Ее везут туда, к устью. Волчица хотела спасти ее. Теперь она взяла ее дух.
– Спасибо, Угрянка. – Лютомер понял, кто говорит с ним, и в благодарность низко поклонился. – Да не иссякнут воды твои, покуда стоит Мировое Дерево!
– И ты будь здоров, сын Велеса!
Лютомер снова поднялся на поляну. Берегиня Угрянка, дух и хозяйка реки Угры, только подтвердила его собственные догадки – впрочем, надо быть совсем дураком, чтобы не догадаться! Его сестер увезли оковцы, и зачем увезли, тоже было ясно. Понимая, что не уговорит угрян добром, Доброслав решил заставить их силой.
Доброслав сам не знал, чем рисковал. Потому что он не представлял и не мог представить, чем являлась Лютава для Лютомера. С тем же успехом он мог украсть то яйцо с иглой внутри и надеяться, что хозяин смирится с пропажей.
Лютомер смотрел на воду, и Лютава стояла перед его мысленным взором как наяву – ее загорелое скуластое лицо, ее яркие серые глаза, длинная русая коса, крепкие руки с серебряными решетчатыми перстеньками. Среди них был один с уточкой, привезенный от плесковских кривичей, и один с серебряным змеем, причудливо обвивавшим палец, – его продали варяжские купцы, пробравшиеся сюда с далекого озера Весь.[8] Каждое из этих колец стоило три куницы, иначе – три шеляга, но Лютомер без сожалений тратил свою долю собранной дани, лишь бы порадовать ее.
Отвернувшись от людей, Лютомер сжал зубы, стараясь усмирить чувства и сосредоточиться. Глаза заволакивало багряной пеленой, в горле рождался жгучий спазм, такой знакомый и жуткий, потому что угасить его можно только одним средством – горячей, еще живой кровью врага. Никакой водой этот пожар не потушишь. Кости напряглись, мышцы и суставы плавились, готовясь перелиться совсем в другую форму, сделать человека зверем… Но Лютомер напрягся, сдерживая порыв, стиснул зубы и ждал, пока схлынет яростный туман и вернется способность соображать здраво. Врага здесь нет, он ушел. И волком его не догнать, не вцепиться в горло. Здесь нужны не звериная сила и ярость. Нужны человеческий разум, расчет и осторожность, чтобы вырвать сестер из рук врага, не повредив им.
Мысли его метались между двумя событиями, которые одновременно случились с Лютавой, – похищением и волчьим посвящением. Второе даже более важно, потому что это посвящение, важнейшую ступень в жизни ведающих, достается пройти не каждому волхву. Уже имеющий две первых степени посвящения должен встретить взгляд волка, добровольно отдавшего ему свою жизнь. Мужчина-бойник, желающий пройти это посвящение, должен попросить о нем Отца Волков. И тот, если найдет его достойным, пришлет ему соперника для поединка. Если человек сумеет одолеть волка, то примет его дух и станет волком, приобретет способность оборачиваться, разбудит в себе память, опыт, силы предков – далеких, очень далеких предков, на сотни поколений вглубь. А сто поколений – это примерно три тысячи лет.
Лютава, женщина, едва ли способная одолеть волка в открытом бою, если и подумывала об этом, то ничего не говорила. И вот это посвящение подарила ей сама судьба. Волчица добровольно отдала жизнь, пытаясь ее спасти, и тем передала ей свой дух. Лютомер не знал, успела ли Лютава встретить взгляд умирающей волчицы, но чувствовал, что да. На поляне, в траве, в ивах, в самом воздухе сохранился след древней ворожбы, той ворожбы, что течет в крови детей Велеса. И сама Угрянка трепещет, вспоминая то, чему ночью стала свидетельницей…
Тут-то и подоспел князь Вершина с прочими Ратиславичами. Лютомер не прислушивался к гомону, крику, спорам и возгласам. Он уже знал главное. Оковский княжич все же добился своего – на Угре будут собирать войско.
До Купалы оставалось всего ничего, но молодежь засела дома. По округе стремительно разлетались слухи, что вчера на ночном гулянии случилось что-то нехорошее – то ли нечисть кого-то унесла, то ли утонул кто (что, впрочем, то же самое). Водить хороводы никому не хотелось, бабы толпились возле Макошиного святилища, надеясь, что им разъяснят случившееся и научат, как обезопасить собственных детей. Но старшей жрице Молигневе было не до них – у нее украли нестеру, и она точно знала, кто это сделал.
Только пять оставшихся княжеских дочерей, одетые в нарядные купальские рубахи с особыми, положенными для этого праздника, узорами, вышли сегодня из дома. Возглавляла их Русава – голубоглазая, пышногрудая, светловолосая шестнадцатилетняя красавица, в отсутствие Лютавы и Молинки оставшаяся старшей из княжон. За ней следовала Замира – пятнадцатилетняя дочь княгини Замилы, такая же темноволосая, но, в отличие от матери, совсем не красивая, низкорослая, толстогубая девушка с широким носом и сросшимися черными бровями. Зная, что ее в округе не любят, она всегда ходила с опущенными глазами и держалась тихо. Ветлица и ее родная сестра Премила, наоборот, очень гордились своей смелостью и выступали с поднятыми носами. Замыкала цепь Золотава – тоже дочь Любовидовны, но самая младшая, одиннадцатилетняя. С венками на головах, пять дочерей Вершины водили маленький хоровод на опушке рощи и пели:
Гой Купала удалец! Гой Купала злат венец!
Гой Купала Божедар оберег от навьих чар…
Беда бедой, а Купала не ждет и богов чествовать надо. Единение богов и людей поддерживается обрядами, и целостность цепи надо оберегать даже среди огня, иначе собьется порядок мироздания, забудутся предки, рассеется род и рухнет мироздание…
Беглецы выиграли целую ночь и запаслись заложниками, поэтому мчаться за ними сломя голову не имело смысла. До назначенного веча осталась всего пара дней, и многие уже прибыли. Почти во всех жилищах Ратиславля появились постояльцы – дальние родичи из весей, рассеянных по Угре и ее притокам. На той же луговине, где недавно жили оковцы, снова появились шатры.
Князь Вершина тоже не спал ночами от беспокойства за двух любимых старших дочерей, но от поспешных действий воздержался. Произошедшее, а главное, возможные последствия его могли затронуть не только княжеский род, а все племя угрян, поэтому принимать решение должно было только вече. Единственное, что Вершина решился сделать, – это провести его на день раньше назначенного, потому что большинство угрян уже собрались.
Конечно, собирать всех взрослых мужчин племени, как делалось в прежние века, было и невозможно, да и не нужно. Каждый род присылал одного-двух человек – обычно старейшину с помощником, который, совместно с другими приняв решение, должен будет обеспечить в своем роду его выполнение.
Даже в Варгу Ратиславичи прислали особых гонцов, чтобы пригласить Лютомера, как главу бойников, на вече. Живя в лесу, братья-волки, собственно, не входили в обычный человеческий «мир», но сейчас были нужны ему как полезные союзники. Лютомер явился в сопровождении четырех своих десятников – «отреченных волков». Как положено при выходе «в мир», оружия они с собой не взяли, но их накидки из волчьих шкур мехом наружу и без того производили грозное впечатление.
Вече собралось у Перунова дуба, под покровительством божества ратной доблести, справедливости и правосудия. В Ратиславле существовало предание о том, что сам Ратислав Старый по дороге на восток остановился ночевать поблизости от старого, заброшенного голядского городища, а во сне ему явился Перун и повелел остаться здесь. В благодарность Ратислав немедленно после пробуждения отправился в лес, вырыл красивый молодой дубок, на плечах притащил его на вершину холма вместе со здоровенным комом земли и там посадил – вот какой силищи был человек! Дубок прижился на холме, а Ратиславов род – на старом городище. С тех пор Перунов дуб и род Ратиславичей росли и крепли наперегонки, а потомки Ратислава приносили жертвы дубу, развешивая их на ветвях или раскладывая у корней, собирались возле него на вече или на суд.
Под самим дубом расположился на скамье князь Вершина, по бокам – Богомер и его брат Борелют – как старшие мужчины в роду, они и являлись жрецами Перуна. По сторонам встали ближайшие родичи, пришел и Велерог – служитель Велеса, он, однако, являлся единственным сейчас в роду мужчиной-волхвом. Перуну принесли жертву, прося благословить вече и не оставить без помощи, потом начали разговор.
Первым говорил князь Вершина. Почти все присутствующие уже слышали все важнейшие новости, но князь коротко и ясно пересказал основное: о смерти князя Велебора и провозглашении смолянами новой княгини Избраны, о ее отказе поддержать Русский каганат. Потом перечислил пути, лежащие ныне перед племенем угрян: вернуться под руку днепровских кривичей и наверняка оказаться втянутыми в войны, которые поведет княгиня Избрана за сохранение своей власти, или же присоединиться к оковским вятичам, признать над собой власть Святомера оковского и через него – Святослава киевского, а значит, совместно с русами вступить в войну с хазарами. Или же можно попытаться жить независимо, а при удаче и расширить владения за счет южных и западных рек.
Третий путь понравился угрянам больше других: он тоже предполагал ведение войны, но, по крайней мере, за свои выгоды, а не чужие. Но и опасности этот путь таил немалые, на что князю быстро указали.
– А ну как княгиня Избрана на столе усидит и нас придет наказывать за непокорство? – вскочив, спросил боярин Даровой. Его городок, Селибор, стоял в верховьях Угры, в непосредственной близи от кривических земель, а значит, в случае войны со смолянами он пострадал бы первым.
– Смоляне – еще что! – вслед за ним слова затребовал боярин Благота, живший в верховьях реки Рессы, на рубежах с дешнянскими кривичами. – А вдруг так выйдет, что князь Бранемер дешнянский со своим племенем то же самое удумает и воевать нас придет?
– А то еще и оба разом! – в досаде крякнул дед Перелом.
– Этого еще мало! – воскликнул Годила. – Смоляне – раз, дешняне – два! А еще ведь Святко оковский есть! Нехорошо его сын от нас ушел, не по-доброму! Зло он на нас затаил! Того гляди – летом русы хазар и без нас разобьют. А зимой, как реки встанут, пойдут вятичи на нас, за обиду мстить, что не помогли супротив хазар! А у нас тут смоляне да дешняне! Пропадем совсем, сохраните нас чуры!
– Ну, Годила, ты уж перегнул! – в досаде ответил князь Вершина. Ему были хорошо видны подавленные лица угрян, на которых развернутое Годилой будущее произвело уж слишком удручающее впечатление. – Напророчил тридцать три беды! Смолянам и без нас врагов хватит, и вятичи не дураки, чтобы у нас кровь проливать, когда хазары под боком.
– Да и мы ведь времени терять не станем! – добавил боярин Будояр, глава рода Воловичей. – Я бы, по своему уму, послал людей к Бранемеру дешнянскому. С ним воевать мы не будем, а вот ряд с ним установить, чтобы против иных ворогов помогать друг другу, – самое правильное, я так думаю.
Народ одобрительно загудел. Князь Бранемер дешнянский, владевший землями в верховьях Десны и по Болве, находился в точно таком же положении, что и сам Вершина, – обязанный платить дань смолянам, он после смерти Велебора остался предоставлен сам себе. И уж конечно, он обрадуется союзнику, который поможет ему сохранить независимость.
– Это верно, но от Святки мы так просто не отделаемся! – крикнул боярин Честослав, брат Любовидовны. – Ведь княжич Доброслав не просто так уехал. Он, как медведь свирепый из стада, двух овечек драгоценных у нас увез! Двух дочерей княжеских старших, от знатных матерей рожденных, – Лютаву, дочь Семилады, и Молиславу, дочь сестры моей!
Вече загудело в негодовании. В основном все уже знали о прискорбном происшествии, но что с этим делать, никто не знал.
– Зачем они ему понадобились, он же вроде женатый? – недоумевал кто-то. – Я его видел, он в шапке был.[9]
– Женатый-то он женатый, да у него братьев молодых четверо или пятеро, или сколько их там Святко наплодил! – втолковывали ему. – Вот и забрал наших девок.
– Все же нехорошо – уводом! У нас кто поумнее, так не делают, разве что совсем глупый парень!
– Да не в этом дело! Ты сам-то, Ржанко, за ум возьмись! Если наши княжны в их роду замужем, то как же мы им не поможем? Придется воевать, коли они нам родня, деваться некуда! Родне не помочь в таком деле – чуры нас проклянут!
Переждав первый всплеск волнения, князь Вершина снова поднялся, и старейшины принялись унимать друг друга, чтобы его услышать.
– Моих дочерей увезли из дома силой, тайком, обманув наше доверие, – заговорил он. – Я не могу покинуть в беде моих любимых дочерей, рожденных знатными и мудрыми женами, долг перед родом и предками обязывает меня и моих сыновей защитить их честь и благополучие.
– Уж если увезли, то теперь не воротишь! – горестно воскликнул Честослав. – Теперь надо приданое снаряжать, чтоб им там, в вятичах, честь и уважение было. А то будут держать, как холопок, в услужении у старших жен – куда ж это годится!
– Не позволим! – рявкнул Богомер. – Это что же – у нас будут девок воровать, а мы еще приданым приплачивать! Много таких охотников найдется, не напасешься на всех! Приходите, дескать, лиходеи, берите детей наших, жен наших, скотину и что хотите, мы вам рады! Не бывать! – Он гневно взмахнул тяжелым кулаком. – Я князю говорил, Ратиславичам всем говорил и вам, угряне, скажу! Войско надо собирать, девок отбить, а обидчикам голову с плеч снять! Предки завещали: за такое – мстить кровью!
Вече волновалось и шумело. Старинный обычай требовал кровной мести за похищение знатных женщин, бесчестившее весь род, но мысль о войне с оковскими князьями, за спиной которых стоял весь могучий Русский каганат, смущала. Положение казалось безвыходным: если смириться с тем, что две княжеские дочери входят в род Святомера оковского, то придется воевать с хазарами, а если не смириться – то с самими вятичами.
– Эх, не уберег ты дочерей, Братомерович, а тут нам всем такая беда! – крякнул старейшина Званец.
– Так оковцы же с хазарами воюют? – подал голос старейшина рода Залешан, Головня. – А вот когда они на хазар уйдут, тут бы нам и ударить! Чего теряться-то? Они нас обидели, как волки в ночи, а мы что же? Малыми силами, скрытно подойти – девок вернуть, за обиду отомстить, а то и прихватить чего-нибудь… Нам тоже пригодится…
– Да у нас же бойники есть! – вспомнил боярин Будояр и кивнул в сторону Лютомера, стоявшего среди княжеских родичей. – Малыми силами, да скрытно! Самое для них дело!
– Да и кому, как не Лютомеру! – подхватил Дерюга. – Ведь его родную сестру увезли, дочь его матери!
– «Волчью сестру» увезли, волкам за нее и мстить!
Князь Вершина вопросительно посмотрел на Лютомера, и тот, взглядом спросив у отца разрешения заговорить, шагнул вперед.
– Верно говорите, мужи угрянские! – Лютомер слегка поклонился, разом признавая правоту людей и свою вину. – Я виноват, не распознал замыслы черные у тех, кого мой отец как гостей в своем доме принял. Не уберег я сестер, мне их и вызволять. Если позволите, поеду сам с моими братьями. – Он кивнул в сторону четырех своих десятников.
Угряне гулом и криками выражали одобрение. Князь Вершина кивнул:
– И правда, поезжай. Может, и проберетесь как-нибудь, пока оковцы хазарами заняты будут. Что хочешь делай, но сестер верни и клятв Святке никаких не давай.
– Мстить надо! – требовал Богомер, рассекая воздух тяжелым кулаком.
– Успеем! – с твердостью отвечал ему Вершина. – Месть не ржавеет, не черствеет. Вот выберем время получше – и ударим. А в лишнюю драку ввязываться, пока не знаем, откуда еще беды ждать, – глупо это, Богоня, брат ты мой!
Решив самое сложное дело, угряне приободрились, и дело пошло веселее. Одобрили решение послать Русилу и Радяту в смоленские земли, а заодно положили снарядить такое же посольство в земли дешнянских кривичей. Посла искали недолго – боярин Благота приходился Ратиславичам родней, жил на рубежах дешнянских земель и хорошо разбирался в тамошних делах.
– Только уж обожду, как там с княжнами обернется, – говорил он. – А то если не выйдет дело, что же я Бранемеру говорить буду?
Все прочее теперь зависело от того, сумеет ли Лютомер вернуть сестер домой, не связывая угрян союзом с оковскими вятичами. А если не сумеет – ни Бранемер дешнянский, ни кто-то другой не станет разговаривать с угрянским князем, впавшим в зависимость от чужого рода и чужой воли.
Уже когда вече разошлось, княжич Хвалислав вдруг объявил отцу, что тоже хочет идти в этот поход. После того как Доброслав уехал не один, а прихватив княжон, чего и сам Хвалис, разумеется, никак не предвидел, просить войско для помощи оковцам, как он раньше намеревался, было бы чистым безумием. Но и остаться в стороне, раз нацелившись действовать, он уже не хотел.
– Позволь и мне на Оку пойти, отец, – сказал он. – Моих сестер увезли, семью обесчестили, а я тоже не баба, чтобы дома сидеть. Позволь и мне за честь рода постоять.
Он с трудом находил слова, стараясь при этом задавить сомнения в том, правильно ли поступает. А вдруг оковский княжич вольно или невольно проговорится о том, кто побудил его бежать? Но и просто ждать было мучительно: каждый миг Хвалису не давала покоя мысль о том, что эти двое, Доброслав и Лютомер, каждый из которых по-своему представлял для него опасность, встретятся там, вдали, а он даже не сможет узнать, как у них складываются дела.
– Сокол ты мой! – Князь Вершина в первый миг удивился, а потом обрадовался и в воодушевлении обнял своего любимца. – Молодец! Ты меня прости, я сам о тебе не подумал сразу! Конечно, и ты у меня удалец хоть куда, совсем взрослый уже! Не выпадало тебе случая крылья расправить, так теперь есть! Поезжай, да будут с тобой Перун и Макошь!
Толигнев кивал с довольным видом. Вместе с воспитанником в путь придется снаряжаться и ему, но Толига, не будучи трусом, был совсем не прочь развеяться и показать, что и сам чего-то еще стоит.
– Да, давно пора соколику нашему себя показать! – приговаривал повеселевший кормилец. – А то ходит он все смурной какой-то, я уж боялся, не сглаз ли…
Хвалис и впрямь побледнел и осунулся за последнее время, в больших темных глазах невольно отражалась тревога. На его счастье, угряне, особенно женщины, нашли для этого собственное объяснение.
– Что ты, мать, не замечаешь, что у тебя в дому парень сохнет? – как-то сказала боярыня Хотиловна, жена Немиги, Молигневе. – Хвалис то есть. По Далянке моей совсем извелся. Ты бы отсушила его, что ли. И ему легче, и людям спокойнее.
– Не буду я в эти дела встревать! – Старшая жрица покачала головой, украшенной рогатым убором многодетной матери. – Если Замилка узнает, то крик до небес поднимет – скажет еще, будто я испортить ее сокровище ненаглядное хочу. Носится с ним, как с яблочком золотым на блюдечке серебряном!
– Да откуда же она узнает? Кто ты, мать, и кто она! Да она болячку заговорить не умеет, где ей разобраться!
– Она-то, может, и не заметит ничего, пока молния прямо в лоб не треснет! А вот девка ее, ворожея…
– Галица-то? – сразу догадалась Хотиловна.
– Она, змеюка. Моя бы воля, давно бы согнала ее со двора, пусть идет куда хочет.
– Да у ее же нет никого. Мать одна была, и та померла. Она же полонянка была, Северянка.
– Она замужем жила, у бортника Просима на займище. Там бы и оставалась, кто ее сюда звал?
– Так выгоните. Кто в доме большуха – Любовидовна или Замила?
– Замилка крик поднимет. А князь наш ее крика слышать не может – хоть звезду с неба сними, а дай!
– Да, мать, просмотрела ты ее! – сочувственно вздохнула боярыня. – Тогда бы ее и избыть как-нибудь, как князь ее привез только. Продали бы куда-нибудь, мало ли купцов ездит?
– Это все Семилада. Она тогда княгиней была, да ей-то чего бояться? Она – Лада, к ней сам Велес ночевать приходит! – Молигнева вздохнула. – Вот и проглядели… А теперь поздно.
– Галица-то ведь приходила к нам, мою Далянку к Хвалису присушить пыталась. Мне Далянка потом рассказала. Боярин-то мой так обозлился, как узнал, не поверишь, – хотел было поймать ее да в омут кинуть со старым жерновом на шее. – Хотиловна усмехнулась. – Да со всеми этими делами, с вятичами и войском, позабыл.
– А зря, может, – не одобрила жрица.
– Я к тому и говорю. Отсушить бы парня, чтобы он на Далянку не заглядывался. А то ведь они еще чего удумают, а потом беды не оберешься.
– Ну, ты мать, ты и занимайся! А мне сейчас не до того, мне бы придумать, как нашу девку домой воротить! – Молигнева развела руками.
Расстроенный вид Хвалиса даже сам его отец относил за счет любви к Немигиной дочери и тем более обрадовался его желанию идти в поход – заняться настоящим мужским делом, которое, конечно, быстро выветрит из сердца глупую напрасную любовь.
Собирая любимого сына, князь Вершина воодушевился и обрадовался так, будто сам шел в первый поход. Из кладовок добыли хороший шлем восточной работы – взятый у того самого купца, у которого Вершина раздобыл себе жену Замилу. К шлему нашлась кольчуга, и Хвалис, облачившись в полный доспех, выглядел истинным воином и мог утешаться мыслью, что у самого Лютомера ничего подобного нет. Правда, в кольчуге и восточном шлеме вид у него стал совсем не славянский, но даже Замила, любуясь им, стала верить, что этот поход принесет ее сыну несомненную пользу.
Откликнувшись на княжеский призыв, Ратиславичи и жители ближних сел довольно охотно собирались в дружину Хвалислава. У простых людей никаких кольчуг и шлемов, разумеется, не имелось – уж слишком дорог настоящий доспех для того, чтобы заводить его тем, кому, быть может, и повоевать придется всего один раз в жизни. В каждом роду обычно хранилось по две-три стеганки или старый набивняк,[10] в котором еще дед Коврига ходил со старым князем Братомиром на дешнян… нет, на северов… Ну, тогда, когда еще дядька Рознег без руки остался. Неоднократно подлатанные, перешитые, непонятных размеров, эти доспехи натягивали на протяжении многих лет по разным надобностям разные люди, но это ничуть не вредило ратному духу нынешних охотников.
– Ничего, это еще повезло тебе! – рассказывал какой-нибудь седой дед молодому кудрявому внуку, который вытащил с полатей это «чудо» и теперь с трудом разгибал, прижав коленом, задубевшую кожу. – А вот помню, как при князе Братяне с жиздрянами у нас вышла рать, у нас все снарядились, а я молодой был еще, ничего не приготовил, мне ничего не досталось. А дядька Вереда мне и говорит: ты, говорит, надень на себя все рубахи, какие есть сразу, ну, и все какая-никакая защита, а еще, слышь, кожух велел надеть. Ну, я и натянул четыре рубахи свои да кожух, так и пошел. Жарко, неудобно, смешно в кожухе середь лета, сам иду смеюсь. А помогло – вишь, живой вернулся…
Из оружия имелись топоры, которыми угряне владели очень ловко, луки и копья. Щиты, хотя бы по одному на каждого, спешно сколачивали на княжьем дворе – для этого собрали всех мужиков, а руководил ими княжеский кузнец Ветрозим. Щит собрать – большого ума не надо, а умбонов кузнец по приказу предусмотрительного князя заготовил еще раньше, про запас.
Каждого ратника его домашние снабжали съестными припасами. С едой, правда, было плохо – последние остатки прошлогоднего хлеба и крупы уже съели, в закромах оставались где несколько сморщенных репок, где бочонок квашеной капусты. Взяли, что нашлось, недостающее намереваясь добыть из реки и леса.
Не прошло и пяти дней после веча, как войско выступило в поход.
Глава 5
Очутившись в ладье, с зажатым ртом и веревками на руках, Лютава довольно быстро сообразила, к кому попала. Леших от людей она отличала мгновенно, своим не было надобности ее похищать, а чужие в округе имелись только одни – оковцы. Судя по неясному шуму, приглушенному шепоту и плеску весел, здесь собрались они все, оба десятка. И едва ли княжичу Доброславу вздумалось вывести своих людей на ночную рыбалку – скорее всего, они покидают Ратиславль совсем, причем без согласия хозяев. Как это вышло, Лютава знать не могла и надеялась только, что обошлось без кровопролития. Впрочем, тогда за вятичами уже гнались бы и даже до Ярилиной Плеши они не добрались бы так скрытно.
По привычке она первым делом мысленно позвала Лютомера – но не нашла его. Брат не слышал ее и не отзывался. Она догадывалась, что это значит, – дух его ушел в свои собственные странствия по Навному миру, может, сам, может, по чьему-то зову. Как некстати! Именно этой ночью, когда он ей так нужен! Лютава не могла сердиться на самого Лютомера, но темные берега летели и летели назад, ладья уносила ее все дальше от дома, а докричаться до брата она все не могла.
Всю ночь ладьи быстро скользили вниз по течению. Лютава лежала с закрытыми глазами, слушая шум ветра в вершинах деревьев по берегам, крики ночных птиц, плеск воды у бортов. В душе ее жил образ волчицы, в глубинах сознания сдвигались какие-то темные глыбы, дали и времена то вдруг становись прозрачными, то вновь затягивались туманом. Искра сияющих волчьих глаз сопровождала ее неотступно, но она уже не чувствовала горя и сожаления. Волчица добровольно отдала ей свою жизнь, значит, посчитала достойной, и Лютава, несмотря на всю сложность своего положения и неизвестность впереди, сейчас чувствовала себя счастливой. Она знала, что с ней происходит, и в душе сквозь печаль и тревогу пробивалось ликование, упоение тем морем сил, чувств и знаний, которые теперь раскроются перед ней. Не сразу, конечно. Чтобы овладеть ожившим опытом предков, всмотреться в него, уместить в своей душе, научиться его понимать и им пользоваться, нужно еще много работать. Этой работы хватает на всю жизнь, и никакое посвящение не делает враз человека богоподобным. Но главное свершилось, и Лютава уже готова была благословлять судьбу, пославшую ей это испытание и так щедро за него наградившую. Если бы не Доброслав – она так и пела бы на Ярилиной Плеши песню про белый камешек… А волчица отныне будет жить в ее душе. Она совершила наивысший, наипочетнейший в глазах ее лесного народа подвиг – вернула долг Волка Чуру.[11]
И первый образ, который всплывал со дна души, был образом богини Марены, ее священной матери и покровительницы. Тьма и Вода – стихии Темной Матери, и Лютава, очутившись внезапно на ночной реке, стремительно несущей ее неведомо куда, чувствовала себя так, будто мчится куда-то в ладонях самой своей покровительницы. Лежа на дне лодки с закрытыми глазами – да и открой она их, ничего, кроме темного ночного неба, ей не удалось бы увидеть, – она повторяла про себя славления Марене, и они давали ей прочную опору в бурлящем море ее новых ощущений:
Мара Марена матушка гневна Кощная мара во нощи стала Мара Чернава всему управа Мара молода мертвая вода Мара хвороба земельна утроба Мара морока ходи от порога Мара Хмуряна костями убрана Мара несчастна ходи да не часто Мара недоля Велесова воля Неиста гневна Мара Моревна!Строки заклинаний, сложенных древними дедами и бабками в незапамятные времена, на непривычном языке, который волхвы называли ирийским,[12] сами по себе отрывали дух от всего обыденного, привычного и переносили в Навный мир, вводили в круг волхвов, которые поколение за поколением славили богов, двигаясь вслед за ними из страны в страну и перенося их в своих сердцах.
И вот уже через саму ее душу течет черная вода, а над головой разворачивается дорога из сияющих, совсем зимних ясных звезд. Черная вода омывает каждую косточку, пронизывая само тело, как тень, наполняя силой и покоем, унося тревогу, слабость и неуверенность. Уносит прежнюю Лютаву, ту, что была до посвящения. Теперь в душе ее всегда будет жить сестра, Хромая Волчица.
Растворяясь духом в богине, Лютава почти не помнила, где она сейчас, не чувствовала прежнего страха и негодования, не ощущала даже жестких досок, на которых лежала. Из-под пелены обыденного проступили иные образы, вокруг зазвучали совсем иные голоса.
– Ты звала меня, сестра? – шепнул бесплотный голос. Это не была обычная человеческая речь, но ее хотели спросить именно об этом, и Лютава легко понимала голос из Навного мира. Ведь она находилась совсем рядом – берегиня Угрянка, дух и хозяйка родной реки племени угрян.
Помимо наивысшего божественного покровителя у любого служителя богов имеются в Навном мире свои собственные друзья и помощники. С ними человек не связан неразрывно, их можно поискать, выбрать, приручить или, наоборот, отогнать от себя. Если волхв служит божеству, то духи-помощники служат самому волхву. Иной раз для того, чтобы их позвать, достаточно лишь усилия воли. Тем более сейчас, когда один из них, вернее, одна находилась так близко – только руку протянуть.
С берегиней Угрянкой Лютава встретилась на следующее лето после того, как переселилась в Варгу. Весной, на русальной неделе, она однажды водила хоровод с другими девушками на берегу Угры. Это место так и называлось – Русалица. Именно здесь каждый год девушки чествовали берегинь песнями, хороводами, здесь оставляли им свои дары – вышитые рубашки, полотенца, угощения. На небольшой поляне росло несколько старых ив, на которых так любят сидеть и качаться девы-берегини. Огромные, раскоряченные, со множеством перепутанных стволов, часть из которых лежала на земле, оставаясь живыми, с ветками, свесившими узкие листья в воду и на песок, ивы напоминали старых бабок-простоволосок, собравшихся тут на тайную ворожбу.
Кружась в девичьем хороводе под ивами, тринадцатилетняя Лютава вдруг заметила, что ее держит за руку странная незнакомка – с нечесаными и незаплетенными волосами, во влажной скособоченной рубашке, с венком на голове, но без знаков рода и племени в узорах и украшениях. И это здесь, где даже двое незнакомых, лишь бросив взгляд на рубахи и пояса друг друга, по знакам вышивок и по цветам сразу узнавали все – эта, дескать, сама из Переломичей, замужем живет у Ивняков, за старшим сыном в семье, четверых детей имеет живых и троих умерших… Но эта девушка словно стояла вне прочно сомкнутого круга рода и племени. Это берегиня, дочь леса и воды, которой в этот срок разрешено богами выходить на землю и даже встречаться с людьми. Никто, кроме Лютавы, ее не замечал, а берегиня кружилась вместе со всеми, пела звонким красивым голосом, нежным и протяжным, как летняя чистая речка, прогретая солнцем. Это оказалась сама Угрянка, хозяйка реки Угры, – ее выманили на берег звонкие девичьи голоса, красивые песни, веселые игры. Ведь весной, когда все сущее расцветает и тянется к солнцу, бессмертным и вечно юным берегиням тоже хочется веселья!
Обнаружив, что Лютава ее видит, берегиня улыбнулась ей и подмигнула, точно у них завелась общая тайна. Когда пришла пора обмениваться подарками, Лютава подарила Угрянке ожерелье и ленту на голову, а та подала ей длинную нитку крупного жемчуга и назвала своей сестрой. Так Лютава приобрела второго духа-покровителя. Раз в год она приносила Угрянке рубашку, ленты, бусы, угощала ее пирогами, яйцами и кашей, плясала с ней в хороводе, и берегиня веселилась в теплом человеческом кругу, где никто ее не видел. Это веселье, правда, продолжается недолго – неполных три недели, от Ярилы Сильного до Купалы. Весь остальной год Угрянка приходила к Лютаве незримо, стоило ее позвать, помогала и давала советы.
– Что с тобой такое, сестра? – шептал нежный и мягкий, как теплые струи летней реки, голос, не слышный никому, кроме Лютавы. – Везут тебя чужие люди, а ты молчишь, не зовешь, помощи не просишь. Хочешь, помогу тебе? Хочешь, ладьи опрокину, всех перетоплю, тебя только вынесу, на крутой бережок, на зеленую траву-мураву положу?
– Со мной сестра моя, – мысленно ответила Лютава. – Ты, сестра милая, ступай-ка лучше к моему брату Лютомеру, расскажи ему, где я. А попросит он – помоги его ладьям, понеси их побыстрее.
– Хорошо, сестра, – шепнула Угрянка. – Все исполню.
И Лютава услышала только, как слегка колыхнулась тихая вода под самым берегом. Хозяйке реки не надо и плыть – как пожелает, так и выйдет из воды в любом месте на всем протяжении реки, от истока до устья, где сливается она с Окой.
Иногда Лютава впадала в забытье, нечто среднее между сном и беспамятством, и не заметила, как пришло утро. Когда она очнулась в очередной раз и пошевелилась, то уже почти рассвело. Над рекой висел туман, от воды нешуточно веяло холодом, но кто-то, пока она спала, набросил на нее теплый шерстяной плащ.
Часть утра тоже прошла в дороге. Иногда Лютава ворочалась, отлежав бока на жестком днище, и тогда чей-нибудь сердитый голос приказывал:
– Не дергайся, краса ненаглядная! Пошевельнешься – зарежу!
Но Лютава шевелилась: авось не зарежут, а прыгать из ладьи со связанными руками – не такая она дура.
На рассвете ее вдруг словно ударило изнутри – Лютомер очнулся и стал мысленно искать, звать ее. Она отозвалась – без слов, так далеко их способности к взаимной связи не простирались, – но обозначилась, что она жива и что жизни ее ничто пока не угрожает. Но как же она звала его – казалось, даже хмурые, невыспавшиеся вятичи в ладье должны были услышать ее мысленный призыв. И он ответил – я иду. Как бы ни сложилось, но с этого мгновения Лютомер шел к ней, и она почти успокоилась.
Когда рассвело, она смогла разглядеть лица похитителей и окончательно убедилась, что все поняла правильно. Ее везли оковцы, и сам Доброслав был здесь же. Молинки она не увидела и подумала, что сестра, видимо, во второй ладье.
Эта догадка тоже подтвердилась, когда, уже ближе к полудню, обе ладьи пристали в пустынном месте и оковцы выбрались на берег – размяться и приготовить поесть. Припасов у них с собой почти не имелось, но по пути, уже на рассвете, они не постеснялись вынуть чью-то чужую сеть, поставленную, как видно, с вечера. Улова хватило на уху, и вскоре огонь уже облизывал днище большого черного котла.
Девушек тоже вынесли из ладей и положили на траву. К ним подошел Доброслав и остановился, рассматривая сверху свою добычу, будто увидел впервые.
– Хоть бы поздоровался, княжич светлый! – заметила Лютава.
– Здравствуй, коли не шутишь! – приветливо ответил Доброслав. – Как спалось?
– Хуже некуда. Все бока отлежала, да еще дрянь такая снилась, не поверишь. Будто украл нас с сестрой из отчего дома гость, которого мы со всей лаской принимали. Ни богов не побоялся, ни чуров, ни совести. Приснится же такое!
– Мне тоже не сон виделся, а одно огорчение. Будто хозяин ласковый, к которому я с открытым сердцем приехал, меня погубить задумал. И пришлось будто мне ночью, как духу нечистому, из чужого дома бежать.
– Это ты, княжич, съел на ночь что-нибудь не то! – язвительно ответила на это Молинка. – Но твой-то сон так сном и остался, а мы вот не проснемся никак! И сдается мне, что это все правда истинная!
– Правда! – Доброслав убрал с лица дурашливо-любезную ухмылку и теперь глядел на них откровенно злыми глазами. – Ваш же братец, волк этот, нас поубивать собирался! Пусть-ка теперь вдогон бежит! Небось присмиреет, как увидит нож острый возле твоего горлышка белого!
– Да ну тебя! – Лютава была так зла, что даже не хотела с ним разговаривать. – Вели развязать. Нам отойти надо.
Доброслав кивнул одному из своих кметей и глазами показал на Лютаву.
– Развяжи вот эту. А вторую погоди пока. Пусть идет, и провожать не надо, нечего девицу смущать. Только если ты, красавица, из-за кустика не вернешься, я сам твоей сестре милой горло перережу. А если она не вернется – тебе. Ясно?
Ничего не ответив, Лютава с трудом села и стала растирать затекшие руки. Встать пока не получалось, все тело ломило, как у бабки Темяны перед ненастьем. Десятник Будило помог ей подняться и повел к опушке близкого леса.
Отослав его назад, Лютава обняла толстую березу, прижалась к ней всем телом и попыталась расслабиться, слиться с деревом, чтобы позаимствовать его сил. Помогло, стало легче. Ломота в теле постепенно уходила, перетекая в землю через корни березы, темными каплями падая в царство Марены. В голове яснело.
– Ты там что? – с тревогой позвал из-за куста Будило.
– Здесь я, здесь! Погоди, отдыхаю, – отозвалась Лютава.
Мельком она подумала, что, в общем, могла бы уговорить березу отвечать ее, Лютавы, голосом. Но недолго. Могло бы помочь, если бы ей требовалось просто уйти. Но так заморочить оковцев, чтобы увести и сестру, она пока не способна. Сложные мороки на многих людей сразу умеют наводить только старшие волхвы – Росомана, бабка Темяна, когда поясницу отпустит. А что Доброслав зарежет одну, если убежит вторая, она вполне верила. Они уже достаточно далеко от Ратиславля, чтобы беглецы не боялись потерять заложниц.
– Чего ты хочешь? – спросила она у Доброслава, когда все уже расположились вокруг котла и хлебали уху. Причем пленниц кормили по очереди – пока Лютава ела, Молинка сидела со связанными руками. Когда Лютава передала сестре ложку, руки связали ей, и теперь у нее появилась возможность поговорить.
– Чего я хочу? – Доброслав, налегая на уху, бросил на нее вопросительный взгляд поверх ложки.
– Зачем нас увез?
– В Твердин отвезу, к отцу.
– А там?
– А там, как за вами приедут, велю сперва войско собрать и с нами в степи идти.
– Велю! – повторила Лютава. – Не рано ли ты, сокол ясный, угрянским князьям приказывать начал?
– В самый раз! – решительно ответил Доброслав, но Лютава видела, что он как раз в этом сомневается. – Твоя мать была из оковских земель, а родне помочь не хотите! Да теперь, как смоленский князь помер, вам по-прежнему не жить.
– У вашего стремени нам теперь ездить! – издевательски пробормотала Молинка, дуя на горячую уху в ложке. Даже в таком невеселом положении она была не прочь поесть. – Сейчас, только онучи перемотаем!
– Да! – сердито подтвердил княжич. – И у стремени! Не хотите по-доброму – мы с вами по-иному поговорим.
Лютава молчала: ей надоела пустая перепалка. Цели похищения стали вполне ясны: держа их при себе, Доброслав намерен требовать от Угры войска, которого ему никогда не дадут добровольно.
После еды, когда отроки спешно обмыли котел, а кострище прикрыли дерном, дружина Доброслава снова погрузилась в ладьи и продолжила путь. На этот раз пленницам связали ноги, оставив руки свободными, но все равно кто-то постоянно присматривал, чтобы они лежали спокойно. Плыли весь день. Миновали несколько сел, но веси, иной раз стоявшие у самой воды, проезжали без остановок. Доброслав не рисковал общаться с данниками Вершины, хотя здесь жили в основном вятичские роды, пришедшие с Оки, да и едва ли в такой отдаленности от Ратиславля княжеских дочерей кто-то знал в лицо. Тем не менее, когда впереди опять показывались серые крыши на высоком берегу, девушек накрывали плащами, так что их не только узнать, но и увидеть было нельзя.
Еще до сумерек приблизились к устью Угры. Впереди лежала Ока, владения вятичского племени. Про Оку с ее многочисленными притоками и загадка есть: у каких семи матерей одна дочь и та своих матерей старше? Лютаве, лежащей на днище, почти ничего, кроме неба, увидеть не удавалось, но по возгласам гребцов она догадалась, что лодки входят в устье Угры. Быстро приподнявшись, она перевесилась через борт и опустила руку в воду. Кто-то из мужчин вскрикнул, схватил ее за плечи, дернул назад, бросил на дно – но она успела ощутить на ладони скольжение прохладных струй. Словно руку пожала на прощание.
Но вот ладьи вышли в Оку. Теперь приходилось подниматься вверх по реке, и течение, ранее помогавшее беглецам, стало мешать. Оковцы не шутя взялись за весла. Продвижение заметно замедлилось: теперь берега, еще более отдалившиеся, не летели мимо, как зеленые птицы, а уползали за корму медленно и величественно. Лютава прислушивалась: в Оке правила другая хозяйка, с иным нравом. Несмотря на опыт хождения в Навный мир, Лютаве было тревожно, неуютно, даже страшновато. Впервые в жизни она покинула пределы угрянских земель. И хотя она, дочь князя, в доме которого гостили купцы и воины, побывавшие в далеких странах, не думала, как жители глухих весей, будто за нашей рекой весь белый свет кончается, все же и для нее на чужой реке начинался несколько иной белый свет.
На этот раз в сумерках пристали к берегу и стали устраиваться на ночлег. Видимо, сейчас Доброслав уже не так опасался преследования и не хотел рисковать – в темноте ведь недолго налететь на камень, на мель, на корягу или злого местного водяного. Для девушек даже наломали лапника, накрыли его травой, кмети одолжили им теплые шерстяные плащи вместо одеял, но руки обеим после ужина снова связали. В течение всей ночи кмети сторожили их, сменяя друг друга, причем один из пары дозорных почти не спускал глаз с пленниц.
Сон не шел. Думая о своем положении, Лютава чувствовала гнев и негодование. Она тоже понимала, что означает для племени угрян их с Молинкой похищение. Или Ратиславичи попытаются вернуть их и отомстить – тогда ее близкие родичи, отец, братья и прочие, пойдут в бой, из которого многие не вернутся живыми. А если князь Вершина предпочтет переговоры – ей придется навсегда остаться среди вятичей и назвать своим мужем кого-то из рода князя Святко. И это ей, скорее всего, совсем не подойдет! А к тому же угряне будут обязаны дать-таки дружину для хазарской войны. Короче, все было плохо, и Лютава не шутя раздумывала, как бы побыстрее вырваться из рук оковцев. Но и те понимали, как много дает им обладание Вершиниными дочерями, поэтому не спускали с них глаз и не давали ни малейшей возможности что-то предпринять.
Молинка вскрикнула во сне и застонала. Лютава дернулась, скинула дрему, но будить сестру и не подумала. Дух ее, как видно, во сне отправился в опасное путешествие, а если внезапно разбудить, может не успеть вернуться.
– Что такое? – Дозорный, сидевший на земле в паре шагов, вскочил и взмахнул приготовленным ножом. – Тихо вы там!
Видимо, Доброслав пообещал зарубить того, у кого пленницы сбегут, поэтому кмети даже слишком усердствовали, стараясь запугать девушек.
– Сам тише! – свирепо шепнула Лютава. – А то напугаешь, ее дух не вернется, она умрет, а ты с ней заодно в Навь пойдешь! Уж я провожу, дорожку укажу.
Дозорный угомонился и снова сел, но то и дело бросал на них угрюмые взгляды. Он тоже знал, что охраняет не простых девушек, а дочерей и внучек мудрых старых волхвов. В глубине души он был готов к тому, что за ними явятся лешие или еще какая дрянь, и мечтал поскорее довезти их до Твердина и сдать на руки тамошним волхвам.
Честно говоря, сам Доброслав мечтал о том же самом.
В следующий раз ночевали под крышей – Доброслав выбрал довольно большую весь, дворов из десяти, и велел пристать к берегу. Еще не темнело, но его люди очень устали, весь день налегая на весла, несмотря на то что время от времени сменяли друг друга. Здешние жители принимали твердинского княжича с уважением и некоторой тревогой. Все знали, что он ездил к смоленскому князю просить войска, и то, что он возвращался в сопровождении только собственной дружины, не слишком обнадеживало.
В этой веси Доброслав купил пленницам по резному гребешку, по полотенцу, чтобы хоть было чем вытереть лицо после умывания, по ложке – хлебать уху на привалах, и по теплому шерстяному плащу с простыми железными застежками. Все эти приношения обе девушки приняли с удовлетворением: до Твердина путь еще лежал неблизкий, а им, судя по всему, придется проделать его до конца. Если их не догнали и не отбили на Угре, то на подготовку войны в чужой земле Ратиславичам потребуется время.
Доброслав, видимо, угадал, что о побеге его заложницы не думают, поэтому сам немного успокоился и после второго ночлега уже не приказывал связывать их ни днем во время пути, ни даже ночью. Тем более что ночевали они теперь уже только под крышей, и пара дозорных по очереди стерегла снаружи.
В верхнем течении Оки вятичи обитали уже несколько веков. Села здесь были многочисленнее и попадались чаще. На четвертый день пути, под вечер, дружина устраивалась на ночлег, тоже в одной из прибрежных весей. До Твердина оставалось два перехода. Весь попалась несчастливая: две зимы назад сюда заходила неведомая хворь, и теперь две избы из пяти стояли вовсе пустыми. Местный старейшина предложил княжичу устраиваться с его людьми в которой пожелают, и Доброслав занял обе. Кмети уже разложили во дворе костер, варили похлебку на всех в большом железном котле – в него пошла и рыба, выловленная по пути, и две утки, подстреленные в камышах на мелководье ловким парнем по прозвищу Жгун, и горсть ранних грибов, которыми угостили гостпериимные хозяева. Ничего больше они дать не могли, поскольку и сами из последних сил, на грибах, рыбе и травах, дотягивали до нового урожая.
Лютава и Молинка, пока похлебка варилась, обсуждали с зашедшей большухой возможность истопить баню – после долгой дороги под солнцем им хотелось и помыться, и прополоскать рубахи. Вдруг что-то отвлекло их от разговора – какой-то протяжный крик, раздавшийся сверху. Трубный звук летел откуда-то с неба, тревожил – от неожиданности Жгун, мешавший в котле, даже выронил ложку.
А Доброслав мгновенно переменился в лице, вскочил и бросился к реке. Лютава побежала за ним – это все неспроста.
Над рекой и оврагом, вдоль которого вытянулась весь, кружил лебедь – крупный, белый. Завидев людей, он не умчался прочь, а даже снизился, описал еще один круг над крышами и снова закричал.
– Ой! – отчетливо услышала Лютава за спиной голос другого кметя, Кресака. За время подневольного путешествия она запомнила почти всех.
Доброслав, придерживая шапку, не отрываясь следил за лебедем. Белая птица Лады описала над головами еще один круг и скрылась за вершинами рощи. Княжич проводил ее глазами, и на его лице отражались самые разнообразные чувства: волнение, тревога и в придачу скрываемая радость.
Лютава тоже не отрывала от птицы глаз. Та появилась здесь вовсе не случайно. При виде нее Лютаву наполнило стойкое ощущение, что она видит не просто живое, а разумное существо. Или перед ними был посланец богов, или…
На опушке мелькнуло что-то белое, и сразу подумалось, что лебедь, улетевший за лес, возвращается, только почему-то по земле. К тому же он заметно прибавил в росте… только лебединые широкие крылья остались те же.
Из-за деревьев вышла молодая женщина – высокая, стройная. Ее волосы прятались под простым повоем без «рогов» – значит, у нее пока нет детей, – а широкие рукава верхней рубахи спускались до травы. Нетрудно было узнать одежду волхвы, посвященной богине Ладе. Узоры вышивки и пояса, когда женщина подошла поближе, эти догадки подтвердили, но только мало кто стал бы разглядывать узоры, видя перед собой это лицо. Женщина-лебедь отличалась ослепительной красотой – белая кожа, правильные черты, яркие голубые глаза, тонко выписанные черные брови. Ее лицо сияло каким-то победным внутренним светом, выражая гордую уверенность и силу, ум, дружелюбие и даже нежность. Неудивительно, что у кметей, выбежавших из землянки на крик лебедя, при виде нее сделался ошарашенный вид.
Княжич Доброслав шагнул ей навстречу и поклонился.
– Здравствуй, матушка, – хрипловато сказал он.
И Лютава наконец сообразила, кто это может быть. Жрица Лады, да к тому же «матушка» Доброслава – это Семислава, старшая дочь князя воронежских русов-поборичей Будогостя, ставшая младшей женой оковского князя Святко. Мачеха была ровесницей Доброслава, но ему приходилось обращаться к ней с сыновним почтением. Хотя при первом же взгляде на эту пару Лютаву пронзила догадка, что Доброслав испытывает к мачехе не вполне сыновние чувства…
– Здравствуй, свет мой ненаглядный! – ласково ответила Семислава княжичу. – И вы, соколы, здравствуйте! – Она приветливо кивнула кметям. – А это что за красны девицы? – Ее взгляд с любопытством остановился на замерших Лютаве и Молинке. – Нет, молчи, я сама! – Она махнула пасынку, который только успел открыть рот, и шагнула ближе к девушкам. – Да вы никак князя Вершины угрянского дочери! – скользнув взглядом по узорам на рубахах девушек, определила она. – Ну, здравствуй, Лютава Вершиновна! – Она поклонилась, достав рукавом до травы.
– Здравствуй, Семислава Будогостевна! – Лютава тоже поклонилась, ничуть не удивляясь, будто они и раньше не раз встречались. У Семиславы тоже бровь не дрогнула. – Спасибо тебе за честь, что не поленилась выйти встретить.
Она слегка подчеркнула слово «выйти», намекая, что отлично понимает, что за лебедь вот только что пронесся над головами и как вообще молодая княгиня из Твердина попала в эту замшелую и полувыморочную весь. При этом Лютава старалась подавить невольную зависть. Она сама еще не умела в Явном мире принимать облик покровителя, хотя носила имя одного из звериных воплощений самой Марены.
Весьма вероятно, что Семислава угадала ее скрытые чувства, но не подала вида, не выказала ни малейшего торжества из-за своего превосходства, хотя некий дух соперничества между молодыми жрицами одного поколения, но разных богинь всегда имел место. Молодая волхва-княгиня настолько привыкла к тому, что она – лучше всех всегда и во всем, что это не возбуждало в ней никакого тщеславия: она принимала свое превосходство как должное, умела радоваться ему, не задевая гордости других, всегда казалась веселой и приветливой, так что на нее было просто невозможно сердиться за все ее несомненные совершенства. И Лютава ничуть не удивлялась тому трепетному, самозабвенно-восторженному выражению на лице замкнутого гордеца Доброслава, которого сам он, захваченный своими чувствами, совершенно не замечал.
– Что ты примчалась, лебедь белая? – Доброслав слегка прикоснулся к руке своей мачехи, и впрямь, казалось, сотканной из чистейшего лебединого пуха. – Что там, в Твердине? Что в доме? Все ли хорошо?
– Я в воде увидала, что ты нынче воротишься. – Семислава улыбнулась. – Уж как мы ждали тебя, сокол ясный, поджидали, сестра моя все глаза проглядела. Она ведь девочку в березень-месяц родила, а ты и не ведаешь!
– Девочку?
– Князь хотел Белоликой внучку наречь, говорил, беленькая личиком будет, коли мать все на снег глядела! Да сказали чуры – имя бабки Примиславы дать.
– Ну, спасибо за новость! – Доброслав улыбнулся.
– Да я не для того к вам спешила. Сказать хотела, чтоб не ездил ты в Твердин, а сворачивал на Зушу, в Воротынец. Там сейчас и князь, и братья, и дружина. Там войско собирается, чтобы на Дон идти.
– А на Дону что?
– Плохо дело. Воевода воронежский, свояк наш Володыня, в первом же бою погиб, а Воислав лебедянский к нему на помощь не пришел вовремя. Хазары вверх по Дону идут, а путь заградить им некому. Если не выступим – на своей земле и нам их встречать придется. Отец тебя ждет, места не находит – все думает, приведешь ли ему подмогу.
Доброслав опустил голову, зажмурился и даже сжал зубы, пытаясь справиться со стыдом и досадой. Помощь нужна вятичам как воздух, а он проездил почти напрасно!
– Умер князь Велебор, – глухо произнес он. – Наследовала ему дочь, Избрана.
– Избрана! – вскрикнула Семислава. – Она!
– Она! – Доброслав в досаде кивнул. – И разговаривать со мной не хотела, мало что на двери не указала.
– Да, от Избраны нам дружбы не дождаться! – согласилась Семислава, хорошо помнившая юную вдову. – Она что, замуж не вышла?
– Нет.
– Тогда… Добровзора бы к ней послать… – в задумчивости пробормотала Семислава. – Он у нас парень румяный да ловкий… А ты, сокол мой… – Она окинула пасынка взглядом, в котором явно читалось сожаление: и красив ты, и удал, да шея не гнется, притворяться не умеешь. – Ну, что же теперь! Теперь поздно, теперь нам каждое копье на Дону требуется, не до разъездов. А девушек зачем везешь? – Семислава вспомнила о дочерях Вершины. – Или с угрянами сговорился, невест нам дали?
– Не дали, я сам взял. А теперь и приданое возьмем – полками вооруженными.
– Как бы не оказаться тебе тем каганом обрским,[13] которому дань заплатили копьем в сердце! – напомнила Лютава.
– А ты что такая сердитая? – Семислава улыбнулась ей. – Ведь твоя мать была оковской крови, у нас в святилищах и сейчас ее родня живет.
– Хорошо же вы с родней обращаетесь!
– А если такая родня, что родства не помнит, как же с ней обращаться! – огрызнулся Доброслав. – Еще скажи спасибо, держу вас за сестер, а то ведь…
– Будет тебе, сокол мой! – Семислава прикоснулась к его руке, и он сразу утих. – К батюшке поедем, он и решит, как быть. Покорми людей, да и двинемся дальше, чтобы завтра к вечеру в Воротынце быть.
Наскоро похлебав заодно со всеми рыбно-утиной-грибной похлебки, заев ее горсточкой земляники, торопливо набранной тут же на полянке, Лютава и Молинка вскоре снова оказались в ладьях. С мечтой о спокойном ночном отдыхе пришлось проститься.
Плыли всю ночь. Наутро остановились, снова сварили уху, поели, наскоро передохнули и опять взялись за весла.
Под вечер две ладьи наконец приблизились к Воротынцу. Как рассказала Семислава, он тоже был основан на месте древнего голядского городища, давно покинутого прежними обитателями. Недавно, при князе Святко, древние валы обновили и насыпали повыше, и город получил имя Воротынец – в знак того, что является крепко запертыми воротами земли вятичей. Именно на Зушу, через Сосну или другие притоки, лежал путь с Верхнего Дона. Здесь жил постоянно порубежный воевода Дедогость – младший брат Святко, а при нем содержалась небольшая, но хорошо обученная дружина. Против хазар воевода Дедога с двумя десятками кметей не много навоевал бы, но в его задачу входило своевременно, в случае получения с Дона тревожных вестей, послать весть светлому князю и поднимать ополчение окрестных волостей.
Слушая все это, Лютава невольно чувствовала робость. Крепость самим своим видом говорила о близкой опасности. До границ Хазарского каганата, проходивших по Северянскому Донцу, было еще очень далеко, но необходимость возводить стены говорила о том, что хазары могут добраться и сюда!
По количеству постоянных жителей Воротынец если и превосходил Ратиславль, то не намного, но сейчас здесь кипело сплошное людское море. Вокруг него располагался обширный воинский стан. Намереваясь выступить в поход уже в ближайшие дни, оковский князь собрал сюда ратников со всех своих земель. Сколько хватало глаз, на лугах вдоль берега реки выстроились шатры, шалаши, дымили костры, шевелились, как казалось, тысячи людей. Из-за перелесков тоже доносился запах дыма – чьи-то дружины стояли и там. Столько народу разом Лютава и Молинка не видели никогда в жизни – да и едва ли в угрянских землях нашлось бы такое количество взрослых мужчин. Обе девушки невольно держались за руки, почти с ужасом думая: и с этими-то вятичами, настолько многочисленными, мы собрались воевать? Сохрани Макошь! Утешало одно: у вятичей имелся гораздо более грозный противник – хазары.
Пока высаживались, на пристань сбежался народ. Княжича Доброслава здесь давно и с нетерпением ждали, и теперь со всех сторон на него сыпались новости, которые, впрочем, он уже знал от мачехи:
– Хазары, хазары идут!
– Воевода воронежский убит!
– Лебедяне отступили!
– Сколько сел уже пожгли! Вот-вот до нас доберутся!
На пристани было немало беженцев – тех, кто снялся с места при появлении грозных слухов и перебрался под защиту княжеского города. Внутрь городских стен все они поместиться не могли, но все же рядом с князем и дружиной казалось спокойнее.
На привезенных девушек посматривали, но без особого любопытства. Лютава и Молинка были одеты просто, и никто не знал, кто они такие.
– Идемте, девушки! – с улыбкой позвала их Семислава. – Я вас пока к себе отведу, умоетесь с дороги, в себя придете.
Внутри воротынского вала располагались связки больших полуземлянок или наземных изб, причем только кузниц Лютава заметила сразу три. Для князя, который предполагал часто сюда приезжать, имелась большая отдельная землянка из трех частей – теплой, летней и сеней между ними. Две последние были плотно забиты народом: здесь сидели какие-то бояре и воеводы, и Семислава с трудом пробралась между ними, чтобы провести гостий в заднюю истобку. Здесь помещались, кроме печки, еще лежанка и пара ларей.
– Отдыхайте пока, я велю баню истопить и поесть вам собрать, – сказала Семислава и ушла.
На шум и многолюдство в доме она не обращала никакого внимания. Зато ей все кланялись и смотрели вслед так, будто от женщины-лебеди зависела судьба каждого. Еще ничего толком не зная, Лютава заподозрила, что младшая жена князь Святко здесь пользуется немалым весом.
Но особенно долго отдохнуть девушкам не пришлось. Они едва успели вернуться из бани, куда их проводили Семиславины челядинки, и кое-как подсушить мокрые волосы, как молодая княгиня вернулась.
– Оденьтесь, девушки! – посоветовала она. – Сейчас к вам князь Святко придет.
– К чему такая честь и так скоро? – без удовольствия отозвалась Лютава. – Мы еще не готовы гостей принимать.
– Так приготовьтесь. Нам ждать недосуг. Хазары ждать не дают, мы тут привыкли быстро поворачиваться. Да и любопытно князюшке, – заговорщицки зашептала она, наклонившись поближе. – Ему уже все уши прожужжали, что-де Доброслав привез двух дочерей князя Вершины, да обе красавицы такие, что не сказать словами!
– Ему не о красавицах, а о воеводах сейчас думать надо! – заметила Молинка. – Сыновья вон женатые, а все туда же!
– Сыновья у него не все женатые, есть у нас и женихи! – с намеком ответила Семислава, весело поглядывая то на одну княжну, то на другую. – И такие все соколы – только выбирай!
– Ну что, готовы? – Дверь приоткрылась, и из-за нее послышался мужской голос. – Можно мне войти?
– Еще чуть-чуть, князюшка! – звонко ответила Семислава и подала Молинке новую, чистую верхницу из своих собственных запасов.
Даже в поход молодая жена оковского князя взяла с собой достаточно одежды, чтобы нарядить невольных гостий, и каждая из этих рубах была гораздо богаче тех, что остались у девушек дома. Молинке досталась малиновая, отделанная ярким, гладким, блестящим красным шелком и расшитая золотой нитью, а Лютаве – бледно-зеленая, с желтым шелком на вороте и рукавах, вышитая плетучими травками. Только эти две рубахи говорили, ради чего князья русов ввязываются в войны с Хазарией – ради этих шелков для своих жен, ради шлемов и кольчуг для воевод, ради серебряных дирхемов и бронзовой посуды, ради вон того серебряного кувшина с неведомым крылатым зверем на выпуклом боку, из которого Семиславе, как видно, подают умываться.
Наконец обе угрянские княжны причесались и приготовились к встрече. Кланяясь князю Святко, обе старались принять невозмутимый вид, но в душе не могли одолеть робости. Сейчас они полностью находились в руках этого человека, которого сами обстоятельства сделали кровным врагом их отца.
Но Святомер оковский предпочитал никак не намекать на эти тяжелые обстоятельства, а делал вид, будто принимает желанных гостей, прибывших к нему по доброй воле. Это был еще не старый, оживленный, бодрый человек, носивший на себе множество следов прежних битв: он слегка хромал на правую ногу, на левой щеке у него виднелся из-под русой бороды длинный кривой шрам, а правый глаз немного дергался, из-за чего князь оковских русов носил прозвище Моргач. Видимо, с Доброславом он уже переговорил и знал обо всем, что случилось на Днепре и Угре, но держался очень приветливо и дружелюбно, не в пример своему надменному и замкнутому сыну. Кстати, сходства между Святко и Доброславом не наблюдалось ни малейшего – тот, видимо, пошел лицом и нравом в материнскую родню.
– Лебедушки вы мои дорогие, ягодки вы мои красные! – приговаривал Святко, отвечая на поклон каждой из девушек и приветливо целуя их в щеки. – Вот порадовали вы меня, старого, не могу сказать как!
– Какой же ты старый – удалее иных молодых будешь! – не удержалась Молинка.
– А что до радости, Святомер Дедомерович, то уж прости – не своей волей мы к тебе в гости приехали, – добавила Лютава, хотя князь, конечно, об этом знал. – Увезены мы из отцовского дома силою, тайком, темной ночью, и сын твой Доброслав с нами обошелся как разбойник лесной, а не как гость, к очагу принятый.
– Знаю, знаю! – Князь Святко замахал руками, торопясь прервать ее речь. – Уже попенял ему, дураку, и еще добавлю. Стыдно мне за сына, не ожидал от него! Князь Вершина мне как брат, его дочери – мои племянницы, а он вас, голубки мои белые, как полонянок уволок! Простите его, ради чуров, – парень молодой, глупый, горячий! Уж очень ему обидно было, что смоляне с нами дружить не желают! Хоть так, думает, а добуду подмоги!
– А если ты этого дела не одобряешь, то вели нас домой на Угру отвезти, – предложила Лютава. – Тогда мир между нашими землями не нарушится. Зачем тебе на Угре враги, князь Святко, разве тебе хазар мало?
– Да как же я вас отвезу? – Князь Святко развел руками, да Лютава и не ждала, что он согласится. Он был совсем не так прост, как хотел показать, и разбойное решение своего сына, несомненно, одобрял. – Двух таких красавиц, дев молодых, я же одних не отправлю! Вам надо дружину давать, воеводу давать! А у меня сейчас каждый отрок наперечет! Вот разобьем хазар, тогда видно будет. Да и зачем вам домой – не век же у отца с матерью под крылом сидеть, надо когда-то из гнезда вылетать да свое гнездышко вить! У вас ведь женихов-то нет еще?
– Нет. – Лютава качнула головой, хотя отсутствие жениха у Молинки было видно по девичьему венчику, а ей самой, как «сестре волков», никаких иных мужей и не полагалось.
– Вы обе девы уже взрослые, из недоросточков вышли, так чего дожидаться? Пока красота не увяла, надо и женихов приглядывать. А у меня сыновья – все как на подбор женихи. Одного только Доброслава женил, остальных не торопил, как знал, что таких невест дождусь! Все они здесь, и сыновья мои, и племянники, любого выбирайте! И Твердята, второй мой, и Ярко, Рудомера, брата моего старшего, сын единственный – и по годам, и по стати вам обеим в самый раз! Какой приглянется, такого и берите!
– Да что же мы, навки безродные, чтоб самим себя выдавать! – Молинка всплеснула руками. – Без отца, без матери свою судьбу решать! Ты своим бы дочерям, князь Святко, не желал такого! А коли решимся – род от нас откажется, зачем тебе такие невестки!
– Не откажется от вас род, что ты говоришь! Я бы от таких красавиц нипочем не отказался!
– Даже если бы к хазарам сбежали? – Лютава усмехнулась.
– Так то хазары! Язык чужой, все чужое. А то мы – русы, с кривичами одного языка, одних богов почитаем.
– Одних или не одних, но замуж без родительского благословения не ходят. И если не хочешь ты, князь Святко, нас в дому полонянками безродными держать, то разговоры эти оставь и говори с отцом нашим.
– Ну, ладно. – Хозяин махнул рукой. – Вы пока, милые, побудьте гостями моими. Жена за вами присмотрит. Ну, отдыхайте, мешать не буду.
Он ушел, вслед за ним упорхнула и Семислава. Но долго скучать в одиночестве девушкам не пришлось. По причине приезда Доброслава и его новостей в Воротынце стихийно собралось вече, причем вятичи требовали показать им дочерей Вершины, и за ними снова пришли.
Здешнее вече собралось на склоне пригорка, под воротами городка – внутри не нашлось бы столько места. Не было ни мальчишек, которые всегда сбегаются посмотреть и послушать, ни дряхлых стариков – только молодые и зрелые, но крепкие мужчины, посланные своими родами в поход.
– Вон Твердята, то есть Твердислав Святомерович. – Приведшая их Семислава кивнула в сторону одного из парней, стоявших ближе к воротам среди наиболее знатных бояр. – Он после Доброслава старший. А вон тот, румяный, в красной рубахе, – Ярогнев Рудомерович, сын прежнего князя оковского. Еще Добромер есть и Твердибой, но те вам молоды в женихи, пожалуй – моложе вас. Добряшке – пятнадцать, а Бойко тринадцать всего. Они уже с бойниками на Дон ушли.
– Смотри, Молинка, вон они, женихи наши! – Лютава дернула сестру за рукав.
– А ты-то что же не родила сыновей? – спросила Молинка у Семиславы. – Князю Святке, чай, воеводы нужны!
– Макошь и Лада не дали покуда. – Семислава пожала плечами. – Видно, не для того меня предназначили.
Лютава подумала, что жрица самой Лады такого высокого посвящения уж наверное смогла бы за семь лет замужества выпросить у богини хоть семеро детей. Знать, сама не торопится. Пока не родит, старшей волхвой ей не стать – бездетной женщине не доверят такую должность, боясь, что ее бесплодие навлечет ту же беду на все племя. Впрочем, какие ее годы – еще успеет птенцов вывести, лебедь белая.
Видя, что гостьи на них смотрят и о них, видимо, говорят, оба княжича заволновались, хотя и по-разному. Твердислав, высокий парень лет восемнадцати, с продолговатым лицом, похожий на Доброслава, принял равнодушный вид: дескать, что мне девки с какой-то там Угры! Ярогнев, его ровесник, красивый, с ярким румянцем на щеках, наоборот, покраснел и отвел глаза, но потом вновь бросил на угрянок блестящий взгляд.
Семислава вдруг как-то подобралась; Лютава почувствовала ее напряжение и оглянулась. Через почтительно раздавшуюся толпу к воротам, где собирались бояре, приближалась высокая, статная, худощавая женщина в наряде старшей жрицы, посвященной Марене. Лютава никогда ее не видела, но сразу догадалась, кто это, – она знала, что старшую жрицу оковских вятичей зовут Чернава, что она сама княжеского происхождения и была женой прежнего князя, Рудомера Дедомеровича. После его смерти она вступила в брак с его братом и наследником, Святомером, поскольку не годится старшей жрице племени быть вдовой, но брак этот существовал по большей части на словах и княгиня Чернава жила не с мужем, а здесь, на Зуше, в одном из старейших святилищ Марены. У нее имелось трое детей: старшая дочь, Всеотрада, жила замужем где-то на Упе, младшая пока оставалась в Маренином святилище при матери. Сыном Чернавы был и княжич Ярогнев, будущий повелитель оковских вятичей. Когда-то, должно быть, красивая, она теперь поражала строгой сдержанностью умного лица, величавой осанкой и огромной внутренней силой, которая исходила от нее и разливалась вокруг, сопровождая ее, как волны расходятся вслед за идущей лодкой. Сразу делалось ясно, почему она сохранила положение княгини и верховной волхвы, даже овдовев; и напряжение Семиславы при виде нее становилось понятным. Старая волхва оставалась сильной соперницей для молодой женщины, жаждущей власти и поклонения, и этот противник был пока не по зубам Семиславе. «Не по клюву!» – с мстительной радостью подумала Лютава.
– Здравствуй, княгиня-матушка, здравствуй! – говорил князь Святко, в это время появившийся у ворот. – И ты пришла, ну, начинать будем! Все собрались вроде.
– Здравствуй, князь! – Княгиня кивнула. – Прости, что задержалась, да умер воевода Божегость. Призвала его Марена-мать, пришла пора в путь провожать.
– Умер-таки? – Князь Святко с сожалением покачал головой. – Да примут его с честью боги и предки наши! Хороший человек был и воевода отважный.
– Это лебедянский воевода, – шепотом пояснила Семислава девушкам. – Его уже раненого привезли, лечили, да рана воспалилась.
В этом известии, как в высоких валах Воротынца, отражалась близость войны. Многие из кметей, что собрались возле городских ворот, вместо обычных коротких башмаков или поршней были обуты в высокие хазарские сапоги из некрашеной рыжей кожи, и в этом тоже отражалась война. У своих главных противников славяне понемногу обучались искусству конного боя, перенимали нужное для этого оружие и снаряжение.
По толпе пролетел негромкий гул, вздохи. Люди бормотали напутствия погибшему, и лицо княгини Чернавы внушало почтительный трепет, словно перед ними воочию встала сама Мать Мертвых.
Князь Святко пересказывал людям новости, известные ему от Доброслава, вятичи слушали в молчании. Не оправдались их надежды получить помощь днепровских кривичей, и они оказывались лицом к лицу с хазарами, уже разбившими воронежских поборичей и донских лебедян. Имелась слабая надежда, что киевский князь Ярослав ударит на хазар с юго-запада, но пока от него не приходило вестей, и вятичам, чтобы отстоять свою землю от разорения, приходилось рассчитывать только на себя.
– Так расскажи, княже, что там с угрянами? – крикнул один из мужчин.
Судя по его золотой гривне и уверенному виду, это был кто-то из знатных бояр. При этом он бросил взгляд на Лютаву и Молинку, видимо зная, кто это и как с ними связан его вопрос.
– Это воевода Рудояр, стрый князев, – шепнула Лютаве Семислава. – Он и войско поведет.
Лютава окинула быстрым пристальным взглядом человека, обладавшего в племени вятичей верховной властью на время войны. Рудояр, носивший одно из старинных родовых имен оковского княжеского рода, был уже не молод, но еще силен; все его кости и мышцы, казалось, за десятки лет закалились и приобрели крепость дуба. Суровая жизнь наложила заметный отпечаток на его лицо: от внутреннего угла глаза и от углов рта расходились глубокие морщины, такие же борозды виднелись на лбу, полузавешенном светло-русыми, редеющими, с проблеском седины волосами. Брови были неравномерно изломаны старыми шрамами.
– Сын мой у них гостил, – Святко посмотрел на Доброслава, – пусть он и расскажет. Говори, сыне, – позволил он.
Доброслав шагнул вперед.
– Неласково меня князь Вершина угрянский встретил, – начал он. – Не понравилась ему воля, что боги ему прямо в руки вложили. Не постыдился под женщиной ходить, новой смоленской княгиней. Не пожелал нашу дружбу принять, все отговаривался, время тянул. И даже подлый замысел заимел – хотел меня и людей моих извести.
Возмущенная Лютава едва удержалась от возгласа, но справилась с собой и только сжала кулаки. Глаза ее гневно сверкали. Ей, девушке, чужой здесь, совершенно не полагалось подавать голос, но все в ней кипело от возмущения. Мало того что Доброслав украл их из дома, оскорбил род Ратиславичей, так теперь еще клевещет на них и обвиняет в черных, предательских замыслах, в нарушении заветов, данных богами и предками!
Иные уже бросали на угрянских княжон негодующие взгляды, и только один человек смотрел сочувственно – княжич Ярогнев. Он не сводил глаз с Молинки, которая с разрумянившимися от волнения и обиды щеками стала еще красивее, и думал, что такая девушка уж точно не может быть ни в чем виновата!
– Да и я не так-то прост! – с торжеством продолжал Доброслав, перекрывая шум, который не мешал ему говорить, а только поддерживал. – Нашел я средство, чтобы Вершина, хочешь не хочешь, а дал нам войско! Эти две девы – его старшие дочери, от знатных матерей, от княгинь и жриц. Возьмем их в наш род, отдадим в жены моим братьям младшим – вот увидите, скоро явятся от Вершины послы с приданым, и уж тогда нам, родичам своим, они в помощи не откажут.
– Дождаться бы! – закричали на склоне холма. – Пока они доедут, пока свадьбы ладить, пока войско собирать – хазары уже здесь, на Зуше будут, а то и на Оке!
– Погоди, князь Святко! – вдруг прозвучал спокойный женский голос, и сразу стало тихо – это голос задул общий шум, как сильный порыв холодного ветра задувает огонек лучины. – Что-то не пойму я.
– Что не поймешь, княгиня-матушка? – Святомер повернулся к Чернаве. Только что удалой и бодрый, он разом как-то присмирел.
– Не пойму – разве эти две девицы хотели стать женами твоих сыновей?
– Хотели? – Князь Святко выглядел озадаченным.
Да кто их, дескать, спрашивать будет, при чем тут их желания? Это было ясно написано на его лице, но вслух он своего недоумения почему-то не выражал. И народ помалкивал, не спеша объяснить своей недогадливой княгине, почему желания пленниц никто не спрашивает.
– Много ты на себя берешь, княже! – продолжала княгиня Чернава. – Эти девы – дочери князя, а матери их – великих богинь мудрые служительницы. Или тебе милость Макоши не нужна? Или ты гнева Марены, Матушки Кощной, не боишься?
Она произнесла эти слова негромко, чуть-чуть даже вкрадчиво, но у всех присутствующих потек мороз по коже и волосы шевельнулись от глубинного ужаса, словно звездные очи Кощной Матери глянули каждому из смертных прямо в глаза. А Лютава выпрямилась, кроме естественного ужаса ощущая во всем теле, в каждой жилке трепетный восторг от близости своей повелительницы. Она действительно в этот миг была здесь – Марена, с белым ликом, сияющим, как луна в полнолунье, с черными, как ночь, волосами, похожими на струи темных подземных рек, высокая, совместившая в себе черноту тьмы и белизну снегов, хладная, величавая и лукавая, гневная и милосердная, пугающая и притом необходимая мирозданию так же, как и Великая Мать Макошь – ибо где Макошь поселит новорожденных детей, если Марена не освободит место на земле от тех, чей срок миновал?
– Всякий князь так же смертен, как и последний раб, – говорила княгиня Чернава. – Не гневи богиню, нанося обиды ее служительнице. Ведь старшая дочь князь Вершины – дева Марены?
Она впервые посмотрела прямо на Лютаву, и угрянка невольно шагнула вперед. Кому она посвящена, княгиня могла прочитать одним взглядом по узорам ее одежды и подвескам ожерелья, если бы не знала этого раньше.
– Я беру вас под кров богини, – сказала княгиня. – Ты имеешь право найти для тебя и твоей сестры приют, защиту и почет везде, где чтут Кощную Мать, и здесь вам не угрожает ни обида, ни бесчестье!
Она сказала это не столько для Лютавы, сколько для князя Святко и прочих мужчин. Княгиня даже не взглянула на них, но все поняли, кому предназначена эта речь. И никто не посмел ей возразить, хотя Доброслав стиснул челюсти, а в глазах Святко мелькнули сердитые огоньки.
– Спасибо, матушка! – Лютава низко поклонилась.
На душе у нее полегчало. Княгиня Чернава едва ли станет принуждать их к замужеству, а князь Святко не имеет ни малейшего права распоряжаться теми, кто находится под покровительством богини. Сейчас, в ожидании больших кровопролитных битв, ему особенно нужна милость Матери Мертвых! Ведь как знать – не доведется ли ему самому встретиться с ней уже завтра?
Глава 6
Лютомер с бойниками и Хвалислав с собранной дружиной тронулись в путь уже на пятый день после веча. Вниз по Угре они плыли, ради быстроты не делая привала даже ночью – течение позволяло людям спать прямо в ладьях, а свою родную реку угряне знали так хорошо, что даже при луне не боялись ни коряг, ни мелей. Берегиня Угрянка оберегала людей своего родного племени, спешивших на помощь к ее лучшей земной подруге.
Проведя день и ночь в дороге, на рассвете угрянская дружина вышла к Оке. Здесь устроили привал, а потом тронулись дальше уже по берегу: на реке их слишком легко было обнаружить, а угряне намеревались продвигаться тайно. В скорости они почти не теряли: плыть на ладьях против течения получилось бы не намного быстрее и легче, чем идти по берегу.
Не теряя из виду реку, они пользовались дорожками и тропинками, которые проложили местные жители. Ока ниже устья Угры была издавна заселена – через эти две реки еще многие столетия назад пролегал старинный Янтарный путь, шедший с берегов Варяжского моря далеко на восток. На ночлег бойники и Ратиславичи устраивались по отдельности – обычные люди слегка опасались бойников, несмотря на то что среди последних имелись их кровные родичи. Ходили упорные слухи, что бойники по ночам превращаются в волков и рыщут по лесу в поисках добычи – уж Лютомер-то точно! Никому не хотелось этой добычей стать, поэтому ратиславльская дружина устраивалась на ночлег отдельно, разводя свои костры и выставляя на ночь своих дозорных. Бойники, понятно, не возражали: им было проще среди своих, где все обязанности давно распределены и никаких споров о том, кто собирает дрова, а кто моет котлы, не возникало.
Что же касается Лютомера, то он действительно каждую ночь исчезал, но куда и в каком облике он ходит, никто не спрашивал.
Хвалислав особенно радовался этому разделению: в присутствии Лютомера, своего главного соперника, он и раньше чувствовал себя неуютно, а теперь оборотень сделался ему почти ненавистен. Сын бывшей хвалисской рабыни наконец осознал, что добиться почетного положения в роду и власти над угрянами он сможет только в том случае, если сын Вершины и Семилады исчезнет с его пути. Как – он пока не знал, но не мог видеть Лютомера: так и казалось, что оборотень знает все его тайные замыслы.
Зато в ратиславльской дружине, оказавшейся под началом у Хвалислава, все смотрели на княжеского сына с уважением.
– Лютомер-то Вершинович – он с бойниками своими, волками, а волки испокон веков в роду человеческом и не считаются, – говорил Вышень, один из старейшин Ратиславля. – Он у князя первый сын, а коли он в бойниках, стало быть, среди сыновей его и считать нечего. А без него – княжич Хвалислав первый. Стало быть, старший.
– Имя-то ему князь дал княжеское! – подхватывал Глядовец, старейшина одного из угрянских родов и товарищ Вышеня. – Стало быть, предназначил его в наследники себе. Вот как нас князь уважил – наследника своего нам в воеводы дал! Понимаешь, Миловите? – обращался он к сыну, которому как бы разъяснял это все, а сам поглядывал на княжича – слышит ли?
Это двое, а с ними еще один старейшина, Домша, с самого начала похода старались держаться поближе к Хвалиславу. Глядовец и Домша, жившие со своими родами неподалеку от Ратиславля, славились как умелые охотники и каждую зиму добывали немало мехов. Несколько раз тот и другой ездили с Вышенем в его торговые путешествия, а потом женщины их родов на праздниках повергали всех остальных в зависть и восхищение – ярким блестящим шелком, которым были отделаны их нарядные рубашки, серебряными дирхемами в ожерельях, бусами из разноцветного стекла, огненного-рыжего сердолика, прозрачного, как лед, хрусталя.
На привалах, особенно ночных, когда в укромных местах разводились костры, а над ними вешались черные котлы, Вышень нередко принимался рассказывать о землях по Оке, куда лежал их путь, о далеких странах, хоть он уже рассказывал об этом не раз. Его слушали с удовольствием – чем еще заняться, пока похлебка варится?
– Что ты парням душу травишь? – как-то сказал Вышеню Толига. – Ты не забыл, куда мы путь-то держим? Нам княжон вызволить и домой скорее ворочаться. А ты тут распелся, как птица Нагай, будто мы на хазар воевать идем и все их сокровища завоевывать. Ага, двумя десятками копий. Только онучи перемотаем!
– А что же и не пойти? – ответил Вышень и продолжал, оглянувшись, не слышит ли их кто-нибудь лишний. – Двумя десятками хазар не завоюешь, да что же, у нас на Угре и людей нет? Мужики повывелись, одни бабы остались? Ты сам-то подумай, Толигнев. Вырастил ты княжича, воспитал, а дальше что? Так и сидеть ему, ждать, пока сперва отец, потом оборотень ему стол угрянский освободят?
– Ты о чем это, Вышко? – Толига выразительно выпучил глаза. – Тебе что же – князь не нравится?
– Да ну тебя, дурень! – Вышень махнул рукой. – Как это мне может князь не нравиться, когда мы с ним одного рода и пращур у нас общий? Что же я тебе, упырь какой, родства не помнящий? Я тебе про что толкую?
– Вот я и не пойму, про что такое ты толкуешь! – Толига нахмурился.
– Про то, что варга Лютомер Хвалиса твоего сожрет и не подавится. А сам навек в лесу сидеть останется, с волками своими. Хоть Вершина и говорит: вот вернется Лют из леса, женится, внуков мне родит! Жди! Уж лет семь этого счастья дожидаемся. А Люту ты помнишь сколько лет? Я сам у бабки Темяны спрашивал, она ж его принимала, – с этой весны двадцать пять! У него полное посвящение волчье. Уж если он до таких лет из Варги не вернулся – все уже, навек душа его лесу принадлежит. А если и придет в Ратиславль, все равно в душе волком останется. Недаром его Семилада от Велеса родила. Так что считай, Толига, нет у Вершины сына Лютомера. А есть Хвалислав, старший его сын. За него нам и надо держаться, если не хотим, чтобы правил нами волк лесной.
– Вот у тебя какие мысли! – Толига даже растерялся немного от неожиданности. В Ратиславле, конечно, поговаривали, что старший княжич уж слишком долго задержался в Варге, но сам князь Вершина пока был крепок и бодр, немедленной надобности в выборе наследника не имелось, и Ратиславичи особенно не задумывались над этим.
– Да не у меня одного такие мысли, чтоб ты знал. Многие люди так думают, и сродники, и себры! Это ты, Толига, дальше носа не видишь, а слышишь только то, как за стол зовут.
– Зато ты, я смотрю, больно умный! – Толига даже отодвинулся слегка, намекая, что не желает иметь с этим умником ничего общего. – То, что ты надумал, Вышко, большой кровью пахнет! И не чужой, а нашей, ратиславльской! Чего ты этим добиться хочешь? Или впрямь волков испугался? Авось не съедят, не дрожи!
– Я не дрожу! А только не хочу, чтобы с волком во князьях мы и сами весь век в лесу просидели, хуже волков! Я давно говорю. И мехов можно больше добывать, и меда, и воска, и шкур всяких. А полон знаешь какую цену имеет? Мне люди бывалые рассказывали. Все бы это брать да каждый год в Итиль возить – не то что с бронзовых, с золотых блюд будем есть. А не с этих! – Он презрительно глянул на глиняный горшок с толстыми стенами и чуть кривоватый, вылепленный руками какой-то из ратиславльских женщин, – такой же, как у всех.
– Ну, хочешь ездить, так езди! Что тебе мешает-то?
– А ты бы знал, скольким князьям пошлины платить, пока до Итиля доберешься! Оковскому князю плати, лебедянскому плати, воронежскому плати, северянскому плати! Я уж про самих хазар молчу – эти последнее сдерут, что еще и сам себе в убыток проездишь! Вот и сдаем товар варягам, а те дадут два шеляга за сорок соболей – и еще кланяйся им.
– Ну, так уж и два! Это ты, брат…
– Да и тем двум рад будешь! Или твоей жене в ожерелье шеляги не нужны?
– Да ну тебя! Сам как баба, только о шелягах и думаешь! И так уж два горшка в лесу закопали под кривой березой – мало тебе?
– А что толку? Закопаешь тут – девать-то некуда! Пока варяг какой заезжий паволок привезет или там…
– Паволок ему! – опять перебил Толига. – Без порток ты, что ли, ходишь? Жена прясть-ткать разучилась? Паволоки ему нужны! Да пропади они пропадом! Далеко мы от хазар – и спасибо чурам! А то ведь сам в холопы угодишь – вот тебе и паволоки с шелягами!
Но Вышень был не робкого десятка и богатства жаждал сильнее, чем боялся неудач.
– А жили бы мы с русскими князьями в дружбе – может, и поменьше бы с нас брали. Зазвенел бы в калите лишний шеляг – плохо ли? Сам-то подумай!
– А мне чего думать? – отозвался Толига, но отразившаяся на его лице мрачность означала, что кое-что он понял. – Мое дело – воевать, раз нужда такая…
– Я вот к чему веду! – Вышень наклонился к нему еще ближе. – Нам в князья надо княжича Хвалислава. У него и мать из дальних краев, тоже ему, поди, нарассказывала, как там. А самое главное – мы ему на стол сесть поможем, а он нам будет меха и дружину давать, чтобы в походы ходить почаще. И сами обогатимся, и его не обидим. Ну, и тебе, понятное дело, перепадет кое-что. Кого же он воеводой при себе поставит, как не тебя?
– Ну, ты замахнулся! – Толига смотрел на него почти как на одержимого. – Тебя не сглазили, часом? Как же ты ему поможешь? Как Люта обойдешь?
– Мы, может, Люта и не обойдем, да можно кого посильнее найти.
– Это кого же?
– Да хотя бы оковского князя. Мы же к нему едем? Вот и надумали мы с мужиками. – Вышень показал глазами на Глядовца и Домшу, которые с загадочным видом закивали. – Едем мы к князю Святко, и оборотень тоже едет. А как приедем, проберемся к нему, Святко, и скажем: так и так, идет оборотень, хочет тебя погубить. А мы тебе друзья и помочь хотим. Надо – с хазарами пойдем воевать. Ты только помоги оборотня избыть, а дочерей княжеских бери себе. Не будет оборотня, а будет сам князь Святко у нас в друзьях – уж тогда-то мы князя уговорим Хвалислава наследником назвать. Да и по торговым делам нам вятичи пригодятся.
– Не знал я, Вышко, что у тебя в голове такие мысли водятся… – в задумчивости пробормотал Толига. – Не знал…
– Я ж и тебе помочь хочу, не чужие, чай, не голядины какие-нибудь, Ратислава Старого правнуки! – продолжал Вышень. – Ты меня слушай. Я тебе как брату родному доверился. А если не захочешь мне братом быть – смотри, как бы чего…
– Ты мне не грози! – рявкнул Толига, который вот это понял очень быстро. – Борода не доросла – мне грозить. А что сказал – подумаю. Князь Святко тоже не так прост. Еще он-то захочет с вами дружить? Прям спит и видит!
– Он-то захочет! – Вышень прищурился и усмехнулся. – Нам есть чем ему поклониться. Посмотрим еще…
Затевал Вышень разговоры и с самим Хвалисом. Тот едва верил своим ушам: старейшина говорил ему о том самом, о чем он так неотступно и тревожно думал в последнее время, будто в воде видел все его мысли! Подружиться с оковским князем и избавиться от Лютомера – и Галица, и мать, а теперь и кормилец Толига с другими старейшинами – все видели его задачу именно в этом.
– Но дружина-то как же? – отвечал Хвалис соблазнителям. – Дружина на такое дело не пойдет!
– Пойдет! – уверял его Глядовец. – Лютомер – оборотень, и бойники его все – волки, а с волками людям не по дороге! Их вон в прежние времена и к жилью-то не пускали, это теперь они к нам на праздники ходят! А души в них по-старому лесные, волчьи! Надо будет – мы найдем чем дружину убедить. Главное, ты, княжич, от нас не отстань. Ты – сын Вершины, внук Братомера, из рода Ратислава Старого, тебе с оковским князем говорить и дружину в битву вести. А мы поможем, не сомневайся.
Хвалислав все-таки сомневался – уж слишком он, как и любой другой, привык к мысли о неукоснительном послушании старшим и главе рода. Отец, конечно, не одобрил бы этих разговоров. Достоин Лютомер, оборотень и сын Велеса, быть наследником угрянского князя или не достоин – решать это самому Вершине, решать волхвам и вечу, но уж никак не Вышеню с Глядовцем, хоть они и знают лучше всех, сколько в гривне кун, а сколько дирхемов.[14] Но то, что его права признал хоть кто-то из угрян и из Ратиславичей, что родичи готовы оказать ему, сыну робы-хвалиски, хоть какую-то поддержку и именно с ним связывают свое будущее благополучие, – эти мысли ободрили его и укрепили веру в себя. Перед ним открывался заманчивый вольный простор, и Хвалислав плохо спал ночами от возбуждения, от предвкушения удачи и от тревоги. Ведь за все эти блага еще предстояло сражаться – с оборотнем, с бойниками, с вятичами, с хазарами!
– Мы там, на Оке, у князя Святко дочь тебе в жены попросим, вот и будешь ему родичем! – рассуждал Домша. – Он даст, ему ведь друзья теперь надобны. Мы ему дадим невесту, а он нам. Он тебя к сердцу прижмет и сыном любимым назовет. И ничего, что нас два десятка с тобой всего – за нами угрянская земля. А вернемся домой без оборотня, да с невесткой Святомеровной, да еще, даст Перун, со славой и добычей – никто нам не будет страшен.
При мысли о женитьбе Хвалиславу сразу вспоминалась Далянка, но он не возражал. Жена из рода оковских князей и правда поможет ему добиться всего, а Далянку потом можно взять и второй женой. Главное, чтобы этой весной она не досталась никому другому. Вплотную приблизилась Купала, тот священный день, когда парни находят жен, а девушки – мужей, и мысль о том, что Далянка там, на Угре, будет ходить в купальских хороводах с какими-то другими парнями, без него, жестоко его мучила и не давала заснуть ночью. Ради нее он был готов подружиться с кем-нибудь и похуже Святомера оковского!
Двигаясь вдоль берега Оки, угряне вслед за Лютомером и его бойниками свернули на Зушу. Откуда оборотень ведал, что похищенные девушки находятся именно там, никто не знал, но даже Хвалислав и его приближенные верили, что Лютомер чует след своей родной сестры и не ошибается. Отследить путь двух десятков чужих людей и двух своих ему труда не составляло.
Однажды на рассвете усталый Лютомер вернулся из леса и послал Тощагу предупредить угрян, что сегодня не стоит двигаться дальше.
– Воротынец близко, город Святкин, – пояснил он Толиге и Глядовцу, которые пришли к бойницкому стану узнать, в чем дело. – Там, возле города, Святко войско собирает на хазар идти. И сестры мои там. До Воротынца уже всего ничего. Дальше идти нам не надо, а не то на вятичей наткнемся. Войско еще не ушло, против него мы ничего не сделаем. Наоборот, поглубже в лес забиться надо и выждать, пока Святко воев уведет. А уж с теми, кто останется, мы справимся.
– Сегодня по-всякому с места двигаться не надо! – одобрил Толига. – Сегодня вечер-то какой будет – Купальская ночь идет! Я не обсчитался, а, ребята? – Он вопросительно огляделся, и несколько отроков дружно подтвердили, что нет, не обсчитался, да, сегодня Купала. И все тайком вздохнули: из-за этого похода они лишились возможности повеселиться с девушками ратиславльской волости. А что за веселье их ожидает возле Воротынца, знает только сам покровитель бойников Ярила.
– Кто же на Купалу воюет! – поддержал Толигу и Глядовец. – А мы в лесу, да вода еще рядом! Самое опасное дело! Нет, ребята, нам сегодня уже не воевать, да загородиться как-нибудь надо, чтобы русалки да лешие не тронули. Полыни набрать побольше, пока светло, дедовника, поляну кругом обложить да заговорить покрепче.[15] Костры будем жечь, а не то наутро нас тут ни одного в живых не останется!
– Да, неладно пришли воевать, не вовремя! – приговаривали угряне, когда двое старейшин, вернувшись, сообщили им новости. – Обождать бы лучше да после Купалы в путь тронуться!
– Ага, после Купалы! Скажешь ты тоже, Колошка! После Купалы сено – прикажешь все бросить, а скотину зимой песнями кормить?
– А теперь как бы самих кто не съел! И в своем-то лесу в такое время ходишь – озираешься, а в чужом и вовсе…
– Не тревожьтесь, люди добрые! – успокаивал угрян Лютомер. Несмотря на усталость, он улыбался и выглядел довольным. – Это хорошо, что сегодня Купала. Я уж пригляжу, чтобы вас не тронул никто. А насчет нашего дела – эта ночь самая подходящая. Если все будет, как я думаю, то вам и вовсе головы подставлять не придется. Без драки, без крови сестер вызволим и до зари еще домой тронемся.
Ратники одобрительно загудели: никто не хотел проливать кровь, если можно как-нибудь без этого.
– Что ты делать-то думаешь? – недоверчиво осведомился Домша. Такое легкое и быстрое выполнение задачи их с товарищами не устраивало, потому что грозило перечеркнуть все замыслы.
– Этой ночью все гуляют – и люди живые, и нежить холодная! Если утром окажется, что сестер наших русалки с собой увели – кто же их искать и догонять будет?
– Ты хочешь… чтобы русалки… – в изумлении воскликнул Хвалислав.
Лютомер только усмехнулся, по привычке сузив глаза, и ничего не ответил. А Хвалис подумал, что зря он в это дело ввязался: как они, простые люди, могут тягаться с оборотнем, если не в силах даже вообразить, что он задумал!
– Ну, давай, действуй, – с сомнением проговорил Толига. – Тебя Велес наставляет, стало быть, тебе виднее. А если не взойдет – тогда уж мы с топорами да копьями выйдем, по-нашему, по-простому…
Все исполнение своего тайного замысла Лютомер тоже брал на себя, остальным предстояло только ждать. На ночь снова устроили два стана: Ратиславичи отдельно и бойники отдельно. В другое время они опасались бы только вятичей, но сейчас гораздо насущнее казалась опасность попасть на глаза разнообразной лесной и водяной нечисти, которая в эту ночь непременно выйдет в белый свет поиграть, порезвиться и поискать себе добычи. Еще засветло, следуя мудрому совету Толиги, набрали побольше полыни и окружили ею поляну, на которой расположился стан. Самые старшие из Ратиславичей обошли поляну по кругу, бормоча заговор от нечисти, каждый вынул топор или нож и положил рядом с собой – если заговоренные травы не отпугнут русалок, то уж острое железо поможет.
Единственным, кто ничего не боялся, был Лютомер. В его присутствии остальные чувствовали себя спокойнее, но он исчез еще до того, как стемнело.
Вскоре издалека стал доноситься протяжный волчий вой. Ратиславичи схватились за обереги: казалось, что это первый отголосок приближающейся опасности. Бойники узнали голос своего вожака, но и им делалось неуютно.
Прежде чем что-то делать, требовалось выяснить обстановку. Соваться самому в вятичский город, где, вероятно, находится князь с дружиной и племенным ополчением, было бы глупо, но Лютомер знал, кого попросить о помощи. Уйдя подальше в лес, он выл по-волчьи, вкладывая в причудливый зов обращение к некоему существу, которое услышит его из любой дали.
У людей, издалека слышавших этот вой, мороз продирал по коже и зубы сами собой начинали стучать: они чувствовали, что сын Велеса разговаривает с иным миром, не человеческим. За способность общаться с Навным миром вождя бойников и уважали, и ценили, и боялись; эта его способность приносила угрянам много пользы, но никто не хотел бы сейчас оказаться рядом с ним. Он звал своего духа-помощника, а встреча с духом постороннему человеку может принести беду.
Лютомер звал не просто духа. Через какое-то время в вышине среди берез послышался шум крыльев, и на толстую ветку перед ним опустился крупный черный ворон.
– Здравствуй, Белый Волк, средний брат! – сказала птица. – Зовешь? Чего тебе не гуляется, не бегается – ведь Купальская ночь приближается!
– Здравствуй, Черный Ворон, старший брат! – ответил Лютомер. – Как дела твои? Что тот воин, за которого мы с лихорадками воевали?
– Плохо. – Ворон нахохлился. – Умер он. Везли, да не довезли живым до места. Видно, не судьба. Зря я тогда вас с младшеньким сорвал воевать. Только зря Кощную Мать разгневали.
– А пока я там воевал, мою сестру из дома увезли. За ней я сюда и пришел. Помоги, старший брат.
– Пока воевал, увезли? Выходит, из-за меня?
– Я тебя не виню.
– Раз так, вдвойне я тебе обязан, средний брат. Говори, чего нужно. Где твоя сестра?
– Да кабы знать! Где-то рядом с князем Святко оковским. Его, Святкин, сын их увез. А где – не знаю, пока совсем близко не подойду. Хотел тебя попросить – слетай, найди моих сестер.
– Может, меньшого попросить? – Ворон склонил голову набок. – Мне как-то не к лицу – к девицам в окошки летать. Это для него самое дело.
– Не хочу меньшого звать – он-то в любое оконце пролезет, да потом как бы хуже не стало! Ты, Ворон, птица вещая, везде бываешь, все знаешь.
– Ну, из-за меня увезли, я и найду! – согласился ворон. – Жди вестей.
Черная птица снялась с ветки и, шумно махая крыльями, скрылась вдали. Лютомер сел на траву и приготовился ждать. Сегодня все решится, как он надеялся, довольно просто – ведь в праздничном разгуле так легко затеряться…
В ожидании, пока их судьба так или иначе определится, пленниц-гостий поместили среди Марениных жриц, живших на краю Марениного лога. В окрестностях Воротынца, как и в любой волости, имелось два святилища – богов верхнего и богов нижнего миров. Поскольку Воротынец ставился как крепость, защищавшая землю вятичей от хазарских набегов, благосклонность Перуна, покровителя воинов и дарителя победы, была здесь совершенно необходима. Его святилище, украшенное черепами жертвенных коней на кольях тына, высилось на пригорке. Но так как никакая битва не обходится без павших, то оковцы нуждались и в милости Матери Мертвых. Святилище Марены расположилось в низине, куда вела довольно крутая тропа. Жрицы ее жили в нескольких избушках, стоявших поодаль от площадки, где сжигали тела, и хоромины, где приносились жертвы и проводились поминальные пиры.
Устроили их в избе, где жили сама княгиня Чернава и ее младшая дочь, Семьюшка. Полное имя Семьюшки было тоже Семислава – ничего удивительного в таком совпадении нет, поскольку и в княжеских, и в жреческих родах, где родовые имена передаются по наследству в разных ветвях, происходящих от одних и тех же предков, часто встречаются тезки. Иной раз это тетка и племянница, иной раз – двоюродные сестры, но попадаются тезки и такие, чье родство теряется в незапамятной древности. Но родовое имя, драгоценное наследие общего предка, напоминает об изначальном единстве и не дает его утратить.
Однако князь Святко, безропотно отдавший пленниц старшей жене, вдогонку прислал десяток кметей. Сменяя друг друга, те днем и ночью присматривали, чтобы угрянские гостьи из святилища никуда не делись.
Из низины не была видна луговина, где народ со всей волости собирался на празднование Купалы, но общее возбуждение и пленницам не давало сидеть на месте.
– Мать Чернава, а нас-то пустят на игрища с людьми? – еще утром спрашивала Молинка. – Все веселиться будут, а мы, как мертвые, одни тут сидеть? Как же нам потом замуж выходить, если Лада и Ярила нам благословения не дадут?
– Так вы же не хотите замуж? – посмеивалась над ними Семьюшка.
– Это мы за ваших не хотим! Но на белом свете и другие есть! – уверяла ее Лютава.
– А у вас на Угре женихи остались, да?
– Мой жених всегда со мной! – Лютава показала ремешок с бубенчиком, подвешенный к ее поясу. Семьюшка, дочь волхвы, должна была понять, что это означает.
– Не велел князь вас из святилища никуда выпускать, – со вздохом призналась старшая жрица. – Боится, уйдете.
– Да куда же мы одни уйдем – в лес пешком? Дом-то наш за тридевять земель!
– Да ведь придут за вами. Если не пришли еще.
Лютава опустила глаза. Княгиня Чернава хорошо к ним относилась, но и ей не нужно знать, что Лютава всем существом ощущает близость своего брата Лютомера. Она не сомневалась, что он снарядился в погоню так быстро, как только смог, а теперь находится где-то уже совсем близко. Может быть, где-то в том лесу, что виден, если подняться по тропинке из Марениного лога. Лютаву пробирала дрожь от волнения и нетерпения. Ее душила тоска по свободе, по родному дому, по родичам и особенно по Лютомеру, но внутреннее чувство кричало, что освобождение близко. Она всей кожей чувствовала, что он где-то рядом. Казалось, что стоит обернуться – и она его увидит.
– Ну, матушка! Сестричка родная! – уговаривала Молинка Чернаву и Семьюшку. – Попросите князя, чтобы выпустил нас в хороводах поплясать. Ну куда же мы денемся, ведь народ кругом! У народа на глазах как же мы убежим!
«Очень даже просто!» – мысленно отвечала на это Лютава. Исчезнуть в толпе – совсем не трудно. И все четыре женщины знали это одинаково хорошо, поэтому Лютава избегала смотреть в глаза княгине Чернаве.
А та колебалась. С одной стороны, она, в юности дружившая с волхвой Семиладой, с которой у них были общие предки, всей душой хотела помочь ее дочери. Но с другой – у нее имелся сын Ярогнев. Именно ему князь Святко предназначил в жены одну из угрянских княжон, и вот в этом Чернава полностью одобряла замысел мужа.
– Хорошо, – сказала она наконец. – Увижу князя – попрошу за вас.
День перед Купалой – самый долгий в году. Казалось, уж давно должна наступить ночь, а солнце все еще светило, золотило верхушки берез, палило траву, отражалось блеском в речной воде. И все же темнело, медленно-медленно, будто темнота крадется воровато, не смея показаться солнцу на глаза, понимая, что сегодня она не имеет никаких прав… Ну, почти никаких. И все же Марена тянула невидимые руки, засевала семена тьмы на поле света, зная – пройдет Купала, и настанет Ночь Богов. День начнет убывать, год покатится под горку, до самого дна – где ждет самый короткий день, а за ним настанет пора возрастающего света, называемая Днем Богов… И вечно, пока стоит мир, будет вращаться это колесо, в самих своих противоречиях поддерживая равновесие вселенной.
Святилище Марены опустело – в этот день Темной Матери не приносят жертв, и все ее служительницы ушли на луговину. Теперь веселые крики и звуки пения долетали даже сюда, и две девушки, единственные, кого пока не пускали на праздник, жадно прислушивались к ним, выйдя во двор.
– Пойдем посмотрим, может… – Кивнув сестре, Лютава подошла к воротам и выглянула.
Увы – пятеро отроков во главе с десятником Колосохой честно несли службу под воротами, хотя на лицах отражалась самая искренняя тоска.
– И вы тут, горемыки! – посочувствовала им Лютава. – Сами на гулянье не идете и нас не пускаете!
– Да разве ж мы! – ответил Колосоха и откровенным взглядом окинул стройную фигуру девушки, одетой только в белую рубаху. – Да я бы сам бы с тобой, знаешь… Стал бы я тебя держать тут, кабы сам решал…
– Это точно Колосоха говорит! – поддержал его один из кметей, по имени Гневаш, и тяжко вздохнул. – Люди там гуляют, медовуху пьют, веселятся с девками и все такое. Одни мы тут, точно псы на сене – сами не едим и другим не даем.
– Может, пойдем, погуляем, а? – голосом соблазнительницы предложила Молинка, выглядывая из ворот. – Про нас все забыли небось, не хватятся!
Девушка стояла, слегка наклонившись, и взгляд Гневаша сам собой притянулся к разрезу на вороте ее рубахи. В этом вороте, да еще под ожерельем, не много увидишь, но его воображение без труда дорисовывало остальное. И все же парень, тяжко вздохнув, покачал головой:
– Не, девки, не взойдет, и не думайте. Это у вас там батюшка с матушкой и все такое, а я и рода другого, кроме Святкиной дружины, в глаза не видал. От кого родился даже, не ведаю. Мне князь Святко – и отец, и мать, и бабка с прабабкой. Если огневается и от себя прогонит – путь мне в лес до ближайшей осины, идти больше некуда.
– Тяжело тебе, – согласилась Молинка. – И много вас таких?
– Да вся дружина, почитай, – ответил Колосоха. – У нас хазары близко, воюем много, каждый раз ополчение со всего племени собирать князю некогда. Да и мужики, они ж такие – весной у них гарь и пахота, летом сенокос, к осени жатва, а зимой воевать холодно, околеешь на снегу!
– Да и в руках, кроме топора, не держали ничего, – поддержал его еще один из кметей, по прозвищу Комар. – На медведя с рогатиной могут выйти, это да, кто посмелее и покрепче, а с хазарами воевать – это тебе не медведи! Хазары конным строем воюют, а тут ты с топором, стоишь, как дурак! Уметь надо! А мужику учиться когда? Ему работать надо!
– Вот князь и собирает себе такую дружину, чтобы всегда под рукой была, – поддержал Колосоха. – Чтобы, значит, ни пахать, ни сеять, ни жать, а только воевать, зато когда надо, тогда и пойдем, хоть тебе летом, хоть зимой, хоть днем, хоть ночью.
– И чтобы с копьем, с секирой, с мечом, у кого есть, и все такое. Мы все можем!
– У вас на Угре нет дружины такой?
– У нас бойники есть.
– Да бойники ваши! – Гневаш презрительно сплюнул. – Мелкота, мальцы беспортошные. Кому семнадцать-восемнадцать стукнет – обратно домой просится, в род, там мать, бабка, да невеста ждет приготовленная, все такое. Вот мы – другое дело.
– А не скучно – без рода, без жены…
– Без жены, конечно, скучновато, – согласился Колосоха. – Ну, там, холопки у князя есть, нам не запрещают… На праздниках опять же. Мы же – соколы! – Он гордо приосанился, и Молинка улыбнулась. – Нам любая девка рада. На посиделки зимой нас только так зазывают! Угощают еще, только приходи.
Парни заулыбались приятным воспоминаниям.
– А что, мы и жениться можем! – заверял Комар. – Вон, Набежка, Рудояров десятник, женился же! С Нижнего Дона столько серебра привез – избу поставил, корову купил, все купил! Чего же не жениться?
– Да, а коли убьют? – вздохнул Колосоха. – Я вон тоже прошлой осенью хотел, уж больно была Льнянка у Прозябы-кузнеца хороша! Так бы прям и женился! А то подумал – а ну как убьют меня летом хазары, куда она денется? В род назад пойдет – род, может, и не прогонит, а возьмет ее вдовой кто-то за себя? Да еще с дитями! Что ей маяться? Так и не стал…
– Думаю, зря ты… забоялся, – сказал немолодой кметь, до того молчавший.
– Не надо говорить, что убьют, – тихо сказала Молинка. Ей было жаль этих совсем не плохих парней, которые не знали своего рода и почти не имели надежды увидеть собственных детей и внуков, оставить след на земле. – Накличешь еще, ну зачем?
Пока Молинка развлекала кметей приятной беседой, Лютава вернулась во двор святилища. В этот священный для всей земли день ее чувства обострились, и она точно знала, что в ближайшее время что-то произойдет. Она ждала вестей и совсем не удивилась, когда в светлых сумерках мелькнула крупная черная птица. Черный ворон, усевшийся между двух старых коровьих черепов – в память о прежних жертвоприношениях их развешивали на кольях тына, – казался вестником богов, и Лютава смотрела на него с трепетом волнения и радости. Она узнала эту птицу, хотя видела всего несколько раз в жизни.
Соскочив с тына, ворон еще в полете перевернулся – и пал на землю уже человеком! Волна чужой силы пронзила Лютаву, девушка ахнула и ухватилась за стену хоромины, чтобы не упасть, но удержалась на ногах и в восхищении устремила взгляд на гостя. Только сегодня, когда земля и небо щедро изливали потоки благодетельной силы и дарили ее всем, кто мог воспринять, превращение не стоило оборотням почти никакого труда.
Лютава никогда раньше не видела это существо в человеческом обличье, но сразу поняла, что это он – Черный Ворон, старший из трех сыновей Велеса, брат Лютомера по божественному отцу. Это оказался довольно рослый молодой мужчина с явной примесью хазарской крови: об этом говорили высокие скулы и немного скошенные уголки глаз, черная бородка, длинные черные волосы.
– Здравствуй, девица. – Черный Ворон улыбнулся ей. – Не ждала?
– Ждала, – горячо ответила потрясенная и восхищенная Лютава. – Ждала. Здравствуй, Черный Ворон. Это брат мой тебя прислал?
– Попросил меня средний брат тебя найти, а как же брату отказать?
– Где он? Скоро ли придет за мной?
– Да сейчас и придет, как только я ему весть подам. Вы же обе тут? А сторожей пятеро?
– Да.
– Трудно ему сюда пробраться. Шум поднимать, пока все войско рядом, он не хочет. А без шума пройти – как ни отводи глаза, а здесь есть кому и не таких учуять. Ведь так?
– Так. – Лютава подумала о Семиславе. Где бы ни витала этим вечером женщина-лебедь, обмануть ее и замести следы, чтобы она не нашла, будет непросто даже Лютомеру.
– Выйти бы вам самим до леса. А там уж…
– Погоди, может, Молинка сейчас сторожей уболтает – нас и выпустят.
– Если что – идите к лесу. – Ворон показал направление. – Он там.
– Лютава, где ты! – вдруг раздался от ворот голос Молинки. – Иди сюда скорей!
Лютава поспешно повернулась, загораживая собой Ворона, хотя их и так отделял от ворот угол хоромины.
За спиной снова ударила волна силы, хлопнули крылья – крупный черный ворон взлетел на частокол и оттуда наблюдал, как девушка торопливо идет через двор к воротам. Говорить с ней он мог только в человеческом обличии, но наблюдать, что происходит, птицей ему было даже удобнее.
А возле ворот ждали важные гости – Лютава даже оторопела слегка. В сопровождении аж двух десятков своих кметей за ними явились старшие княжичи – Твердислав и Ярогнев. И кмети, и молодые воеводы нарядились в праздничные рубахи, отделанные полосками шелка и вышитые купальскими узорами, подпоясаны праздничными плетеными поясами, тоже с узорами этого дня. На пальцах юных воинов блестели золотые и серебряные перстни, многие – восточной работы, взятые как добыча, в ухе у Твердислава покачивалась золотая серьга с красным камешком.
– Что же вы, девушки, не одеты, не прибраны? – насмешливо осведомился Твердислав, окидывая взглядом угрянских княжон. Не особенно надеясь куда-то сегодня выйти, обе они оделись только в рубахи, в которых их привезли, и даже хоть по венку сплести не могли. Весь вид Твердислава выражал снисходительное презрение к этим двум клушам, ничем не отличимым от простых девок из любой глухой веси.
Но Лютаву было не так легко смутить, и под ответным взглядом, снисходительно-насмешливым, уже Твердислав почувствовал себя дураком, который вырядился, будто ярильская береза, что мужчине уж никак не к лицу.
– Ну, что ты, Твердята, девушек смущаешь, – пришел ему на помощь Ярогнев, или Ярко, как его звали в семье. – Они и без нарядов хороши, березки стройные, лебеди белые. Мы за вами, девушки. Не откажите погулять с нами – ведь Купала, а кто не выйдет на Купалу, тот мхом зарастет, как пень-колода!
Единственный сын покойного князя Рудомера и наследник твердинского стола сам был хорош, как Ярила, – молодой, красивый, учтивый и, видимо, добросердечный и дружелюбный. У него было открытое лицо с большими голубыми глазами и легкой ямочкой на подбородке, а светло-русые волосы вились крупными кольцами, красиво обрамляя высокий белый лоб. Слегка его портила только неуместная морщина на щеке – но, чуть приглядевшись, девушки поняли, что это не морщина, а шрам от неудачно зажившей раны. Княжич, выросший в землях, куда дотягивались руки Хазарского каганата, выходил на поля сражений с двенадцати-тринадцати лет.
– А батюшка ваш разрешил? – осведомилась Молинка, многозначительно заглядывая в его голубые глаза.
– Разрешил. – Ярко чуть улыбнулся, на миг опустил глаза. Видимо, несмотря на свою красоту, он обладал мягким и впечатлительным сердцем, и красота Молинки его смущала. – Сказал, не годится, чтобы девы молодые в Купалу взаперти сидели…
Лютава усмехнулась. Не надо быть волхвой бог весть в каком поколении, чтобы угадать причину такой доброты. Желая сделать дочерей угрянского князя женами своих сыновей, Святко послал к ним самих женихов, надеясь, что в буйном купальском разгуле дело само собой сладится, а потом останется лишь послать за приданым. В общем, замысел неплох. Если бы только на ней не лежал зарок, а в лесу за луговиной не ждал брат Лютомер с дружиной. И не важно, что тут ополчение всех вятичей, а бойников всего-то два-три десятка. Главное – чтобы на месте и вовремя…
– Ну, идемте, коли разрешил! – Лютава улыбнулась и протянула руку княжичу Твердиславу. – А что не прибраны, так простите – наряды наши дома остались. Брат ваш Доброслав виноват – собраться-нарядиться нам не дал, в чем были увез. Ну да не беда – сплетем по веночку, а как плясать пойдем – всех ваших красавиц затмим. Правда, Молинка?
Усмехнувшись – дескать, видали и мы таких бойких! – Твердята повел ее из ворот. И веселая толпа повалила по тропе на луговину, причем не отставал от других и Колосоха со своими кметями, счастливыми, что появление княжичей освободило их от службы.
В сумерках Лютомер вышел на берег Зуши и прошел еще немного вверх по течению. Один раз его обогнала стайка молодежи – видно, жители какого-то лесного рода спешили на место общего сбора. Отступив в заросли, Лютомер пропустил их вперед. Девушки и парни, одетые в праздничные рубашки с купальскими знаками, с венками из цветов и зелени на головах, были возбуждены, веселы, взбудоражены ожиданием игрищ и, конечно, не заметили фигуру, застывшую за стволом толстой старой березы. Лес, родная стихия его отца Велеса, охотно принимал Лютомера в объятия, сливая с собой и накидывая невидимый полог.
Ночью он уже побегал здесь волком, разведывая дорогу, и теперь знал, куда идти. Тропинка вскоре выскочила из чащи на простор. Впереди показалось открытое пространство – сперва большой овраг, за ним широкая луговина, дальше город на пригорке над ручьем, а уже за ним темнел дальний лес.
Возле города горели костры, и острые глаза оборотня разглядели воинский стан – собранное со всего племени войско стояло здесь, возле Воротынца, в ожидании скорого похода. Если не получится то, что он задумал, то через несколько дней, когда войско уйдет, можно будет пробраться в город.
А на луговине горели другие костры – купальские. Их развели над самым берегом, чтобы огонь отражался в воде, и между ними было тесно от множества человеческих фигур. Каждый из собравшихся, в белой нарядной рубашке и с венком на голове, сам напоминал дерево: женщины – березу, а мужчины – дуб. Все это двигалось хороводом вокруг костров, и до опушки долетал хор множества голосов:
Гой Купала свят славен будь стократ!
Во небе пылай по земле гуляй!
Кострища лади за полночь приди!
Светом озари благом одари…
Лютомер постоял немного, вглядываясь в толпу. Они уже могут быть где-то здесь, его сестры, – Ворон рассказал, что сами княжичи повели их на гулянье. Пусть девушки будут под присмотром – это уже неважно. Главное, что они выбрались на волю.
Но пока их не было видно. Темнота сгущалась, даже оборотень уже не мог разглядеть лиц, но не сомневался, что если его сестры появятся, то он учует их приближение – особенно Лютавы. При мысли о ней Лютомер даже стал притоптывать от нетерпения – в груди поднималась волна и огнем растекалась по жилам. Она была нужна ему всегда, но сейчас – особенно. Этим вечером, когда все силы земли достигают наибольшего расцвета, а все живое веселится, заклиная животоворящую ярость светлых богов, когда все стремления души и тела направлены к любви, ему отчаянно хотелось оказаться рядом с Лютавой, самой большой его привязанностью. Вот уже много лет угрянские девушки на Ярилин день и в зимние колядки – а на Купале, когда все семейные запреты снимаются, и молодки – бывали не прочь провести время с варгой, воплощением Ярилы, и слава оборотня даже усиливала его жутковатую, но от этого даже более неодолимую притягательность. Лютомер не бегал от своего счастья, но ни одна девушка или женщина не занимала в его сердце такого места, как Лютава, и не могла ее заменить.
Чем темнее становилось, чем ярче горели костры и шальнее звучали песни, тем сильнее обострялись все чувства оборотня. На луговине шевелилась, пела, смеялась человеческая толпа, каталась одним огромным горячим комом. А совсем рядом из тьмы ночи, из-за прозрачной тонкой грани миров проступала иная жизнь. Иные силы зашевелились у воды, поднимаясь к поверхности, поползли на берег; иные существа крались в лесу, притянутые к опушке жаром человеческого веселья. Белые облачка тумана всплывали из воды, взлетали к верхней кромке обрыва, тянулись к людям. Острый взгляд оборотня различал белые фигуры, сперва невесомые и прозрачные, постепенно становившиеся плотнее; приспосабливаясь, водяные духи принимали человеческий облик, и вот уже девы в белых рубашках, укутанные в густые, тяжелые волосы неслышно приближаются к кругу, еще никем не замеченные, и потоки воды, стекая с мокрых прядей, орошают их путь…
Тревога тонкой иголочкой словно кольнула в сердце, и Лютомер оглянулся. Роща и берег Зуши уже были полны духов, собравшихся на звуки человеческого веселья и готовых войти в круг. Но там, в лесу, тоже оставались люди. И если воротынцев на лугу защищают освященные костры, солнечные круги хороводов, обрядовые песни и присутствие волхвов, то угрян, оставшихся в лесу, не защищает ничего, кроме заговоренных трав и железных клинков. Но много ли от этого толку! При виде такой добычи русалки потерпят горький запах полыни, а прикасаться к железу им вовсе не обязательно, чтобы сделать свое дело.
С сожалением оторвав взгляд от толпы на лугу, Лютомер повернулся и побежал обратно к стану. Он несся по тропе над рекой, уже не боясь кого-то встретить – теперь пусть его боятся, – легко находя дорогу в темноте, как настоящий волк, и из травы под его ногами вылетали легкие синие искры. В эту ночь, когда напряжение всех сил вселенной достигает высшей точки, также расцветала и наливалась мощью его божественная природа, унаследованная от отца. И пусть не Велесу, темному подземному владыке, посвящен этот праздник и не ему поются песни – Велес держит на плечах этот расцветающий мир, и он тоже тянется духом к его хозяйке, богине Ладе, ожидая, что настанет желанный срок и мать всего живого сойдет к нему в подземелье, принеся владыке мертвых искру жизни и любви. В Купальскую ночь так легко заскочить из Явного мира в иной – но Лютомер не боялся, он знал все тропы Навного мира. Он мчался, всем телом ощущая свою неразрывную связь с лесом, водой, землей и небом; все силы земли дышали его грудью, и он не осознавал даже, кто он сейчас – человек, волк или бесплотный дух.
Наступила ночь, в лесу воцарилась полная темнота, но никто не спал. Ярко пылавшие освященные костры внушали некоторое успокоение, но все же разговаривать люди опасались и сидели вокруг огня молча, тесно придвинувшись друг к другу плечами. Каждый остро сожалел, что пустился в этот поход, а не остался дома, – сейчас бы плясать на знакомой с детства Купальской поляне, петь песни, пить медовуху, хватать в объятия девушек-невест и веселых молодок, которые в эту ночь освобождаются из-под власти мужей и снова могут выбирать себе друга по сердцу. Как там весело, хорошо – а главное, вполне безопасно в кругу священных огней, под защитой с умом и знанием проведенных обрядов. Если головы не терять – беды не будет, выйди на огонек хоть сам леший…
Из тьмы долетали отдаленные отзвуки то песен, то смеха. То ли слышно, как на лугах над берегом гуляет народ, то ли это игры лесной нежити – как знать? От свежего дыхания ночного леса пробирала дрожь, мужчины кутались в плащи, но о том, чтобы поспать, никто даже не думал. В Купальскую ночь не полагается спать, чтобы не умереть в предстоящем году, но как же тяжело сидеть в эту ночь неподвижно, настороженным слухом ловя голоса из-за деревьев…
Смех, голоса, перешептывание слышались все ближе и яснее, но никого не было видно. Лес сомкнулся вокруг непроходимой стеной, словно держал на ладони горстку чужеземных букашек, прикидывая, то ли раздавить, то ли просто выбросить. Деревья шептались, пряча что-то за спинами, и смыкались все плотнее.
Шум приближался со стороны реки. Может быть, местные женщины облюбовали это место для купания, и тогда ничего страшного – если кто-то наткнется в лесу в темноте на чужаков, то никогда не разглядит, сколько их и кто они, а подумает скорее, что это лешие, и сам бросится бежать. А если это не люди…
– Ой, какие красавчики! – вдруг выдохнул женский голос, полный восхищения и изумления.
Но несмотря на лестные слова, у каждого, кто их слышал, упало сердце и заледенела кровь. Говорившую не было видно. Ее голос родился из ночного ветерка, спустился с вершин берез, взлетел от поверхности реки.
– Сестры, идите сюда! – снова позвал голос. – Посмотрите, что я нашла!
И такая радость звучала в этом голосе – будто девица нашла куст малины, усыпанный спелыми сладкими ягодами, и спешит позвать сестер.
За деревьям мелькнула белая фигура, потом еще одна, и еще. Девушки в белых рубашках, мокрые, облепленные темными густыми волосами, по одной появлялись из тьмы, неслышно крались по траве, точно боясь спугнуть добычу; на ходу они переглядывались, подносили пальцы к губам, призывая друг друга к тишине, но фыркали от смеха, зажимали себе рты, а в глазах их горели зеленые огни, освещая бледные лица. Их ноги не сминали траву, очертания их тел колебались под ветром, волосы шевелились сами собой.
– Ой! – Дойдя до края поляны, первая из водяных дев наткнулась на полынь и отскочила, болезненно сморщившись. – Что это еще за гадость! Кто это здесь положил? Ну-ка, уберите!
– Всем сидеть! – шепотом, едва владея собой от ужаса, приказал Толига. – Кто дернется, сам задушу!
– Что ты там бормочешь, миленький? – Первая из русалок мигом нашла его глазами. – Иди ко мне лучше. Попляшем с тобой, поиграем. Ну, иди же, чего боишься?
Она протянула белые руки, маня к себе человека, и Толига вдруг ощутил, что ноги сами, против воли, пытаются поднять его; невидимая сила влекла за круг, защищенный полынью и озаренный пламенем оберегающих костров. Мысли об опасности таяли, страха не было, а только радостное ожидание – сама жизнь и любовь манили из тьмы, сам закон возрождения вселенной требовал выйти и принять участие в празднике, объединяющем Ту и Эту сторону…
– Иди сюда, чего ждешь? – шептали другие русалки, протягивая руки, и многие мужчины и парни невольно поднимались, зная, что именно их зовет ласковый голос, именно их манят в объятия белые руки, именно их ждут, дрожа от нетерпения, стройные тела… Для того водяные девы и выходят в эту ночь к людям, чтобы запастись жаром их жизненных сил, а потом пролить ее на поля, луга и леса; но тот, кто попадется им в руки, будет выпит до дна.
Над лесом вдруг вспыхнула зарница, словно Огненный Змей выскочил из-за облаков или сам Дажьбог глянул на землю, на миг подняв веки, а потом снова зажмурился. Русалки вздрогнули, прервали свои песни, вскинули руки, защищаясь от небесного огня.
И в этот миг из-за деревьев со стороны реки вышел Лютомер.
Он видел, как водяные девы выбирались из Зуши, как ткались из тумана их тела, как их призрачные ноги осторожно ступали на берег, словно пробуя твердую землю. Русалки собирались возле старых ив, полощущих ветви в реке, и вода потоками струилась с их тел, с их спутанных волос. Возглавляла водяных дев самая высокая и статная, и поток воды с ее волос непрерывно стекал в реку, не иссякая. Видимо, это была берегиня, дух и хранительница всей Зуши. Она сделала шаг, потом другой, потом ушла в лес, маня за собой младших сестер, а поток воды непрерывным ручьем бежал назад в реку, отмечая след берегини.
По этому следу и двинулся Лютомер.
Оцепеневшие Ратиславичи не поддерживали пламя костров, и оно уже угасало. Лютомер вышел на поляну в тот миг, когда вспыхнула зарница. В свете небесного огня берегини разом исчезли, словно растворились, и он успел увидеть только лица Ратиславичей, искаженные дикой смесью ужаса и неодолимого влечения. Некоторые из них уже поднялись на ноги и сделали несколько шагов к границе спасительного круга.
Зарница погасла, и между деревьями снова забелели фигуры берегинь. Они никуда не исчезали, просто при свете их не было видно.
– Эй, красавица! – позвал Лютомер.
Берегиня Зуша услышала его и обернулась.
– Посмотри на меня! – продолжал он. – Или я тебе не нравлюсь?
– А ты кто же такой смелый? – Берегиня улыбнулась и сделала шаг к нему.
На лице ее расцветала недоверчивая радость, будто она не верила, что судьба приготовила ей такой дорогой и желанный подарок – мужчину, молодого, сильного и статного, который никуда не бежит, не боится и сам желает отдать ей свое тепло.
Толига, прошедший уже полпути, безвольным мешком упал на траву, едва лишь русалка отвела от него глаза.
– Добрый молодец, ясный сокол! – смело ответил Лютомер. – Хожу, ищу себе подругу.
– Ищешь? А на меня погляди-ка! Разве я не хороша? – Берегиня плавно повернулась, словно танцуя, показывая свой стройный стан. – Полюби меня, добрый молодец, не пожалеешь!
Среди ее сестер послышалось насмешливое фырканье – пожалеть избранник берегини, скорее всего, и не успеет.
– Да я тебя уже люблю! – заверил Лютомер. – Только давай уговор: ни ты, ни сестры твои больше ни с кем тут не хороводятся, от людей уходят и не возвращаются – тогда я пойду с тобой.
– Хорошо! – согласилась хозяйка Зуши, и глаза ее сверкнули, как два огромных зеленоватых светляка. – Согласна. Идем со мной!
Она сделал шаг, и тут снова вспыхнула зарница. Берегини на миг пропали, а когда снова пала тьма, прохладные влажные пальцы вцепились в руку Лютомера.
Глава 7
В то время как зарница осветила угрян, уже почти впавших в бессознательное состояние от пения берегинь, Лютомер не успел заметить, все ли они здесь. А между тем ни Хвалислава, ни Вышеня и Глядовца с сыном Миловитом на поляне уже некоторое время не было. Сговорившись заранее, они незаметно исчезли сразу, как только начало темнеть.
Бояться и таиться им особенно не приходилось: в это время на священное место празднеств у Воротынца собирался народ со всей округи, где не все могли знать друг друга в лицо, и никто не удивился бы, увидев несколько незнакомых мужиков. Их могли бы выдать разве что пояса, покрытые нездешними узорами, но Ратиславичи спрятали их под складками рубах. Венки из дубовых ветвей на голову – и кому сейчас придет на ум разглядывать в темноте их пояса? А что рубахи простые – так и вои из ополчения тоже небось цветных нарядов с собой не захватили.
– Пока тут все пляшут, пока всем Ярила головы задурил, мы и проберемся, – втолковывал Вышень княжичу, которому соваться в город казалось чистым безумием. – Ну кто сейчас на других смотрит? Мужики баб разглядывают, а бабы себе мужиков ищут, ничего дурного и на ум никому не взойдет.
– Да мы разве дурное задумали? – спросил Миловит, который опасался, не разгневаются ли боги на тех, кто в самый главный годовой праздник затеял какие-то темные сомнительные дела.
– Да чего же дурного? Мы ж не смертное убийство какое задумали, сохрани Макошь. Нам бы поговорить с князем Святкой по-хорошему – и все дела.
Оглянувшись, Глядовец заметил позади пеструю ватагу – их нагоняли молодые девки с развевающимися волосами, женщины в красных праздничных кичках, мужики с такими же, как у них, дубовыми венками на головах.
Гой, Купала красен, стань до неба ясен! Огнецвет искрящий во ночи горящий! —пели сзади, и угряне, не будь дураки, тут же принялись подпевать:
Папороть-купава опрядись во славу, Копны жита золотого, котлы пива хмеляного Для нощи чудесной, для славы небесной!Какой-то мужик, уже приложившийся, как видно, к «котлам пива хмеляного», одобрительно похлопал Глядовца по спине – может, принял за кого-то из знакомых или просто рад был в этот час всем подряд. И к луговине уже подошли все вместе, дружно распевая и ничем не отличась от многочисленных семейных и родовых ватаг, собиравшихся сюда со всех сторон.
Хитрый Вышень оказался прав – затеряться в толпе и сойти за празднующих не составило никакого труда. Никто на них не обращал особого внимания, не кричал, не узнавал чужаков. Но затеряться мало. Нужно еще найти – и не кого-нибудь, а самого князя Святко или кого-то из его семьи. Правда, в лицо из княжеских сродников Хвалис знал только Доброслава и все надежды возлагал на ушлого и бывалого Вышеня.
Их носило и бросало в толпе, пару раз проворные девичьи руки пытались затянуть Хвалислава и Миловита в хоровод. Осмелевшие парни не возражали бы, но Вышень и Глядовец не пускали – не веселиться же, в самом деле, они сюда пришли. Однако спрашивать о князе даже Вышень не решался – в такие дни дел не решают и с просьбами не обращаются. Если спрошенный в свою очередь спросит: «А вам зачем?», да еще приглядится и узнает чужаков – беды не оберешься. Надо было искать самим.
Оглядываясь в толпе, Вышень вдруг радостно охнул.
– Ждите здесь! – велел он и бросился куда-то к костру.
Там он дернул за рукав какого-то мужика – невысокого, толстого, с красным, как вечернее солнце, потным лицом и бородой соломенного цвета. Завидев его, мужик удивился, но не очень, а скорее обрадовался и полез обниматься. Они стали о чем-то бурно говорить, потом Вышень привел краснорожего к товарищам.
– Вот повезло, так повезло! – приговаривал он. – Вот боги помогли, кого встретил! Смотрите, это Гудлув, варяжский гость, мы с ним вместе к лебедянам ходили!
– Я опять туда собрался, а ты с нами, да? – спрашивал Гудлув. На шее у него висел маленький темный молоточек – варяжский оберег, но по-славянски он говорил довольно хорошо, только слова произносил как-то странно. В руке он держал рог с медовухой и часто к нему прикладывался. – Мы опять идем! Князь Святко идет на хазар, а там будет добыча, будет полон – торговым гостям есть чем поживититься, да?
– Поживиться, – поправил Миловит.
– Да! – Полупьяный варяг тяжело хлопнул парня по плечу горячей потной ладонью. – Ты чего такой хмурый? Я сам толстый, мне тяжело бегать за девкам, а ты что ждешь? Ты молодой, тебе надо бегать быстро, как ветер!
От медовухи варяжский гость стал еще тяжелее – покачнувшись, он грузно осел на землю, чуть не пролив остатки питья из рога.
– Не до девок нам, Гудлув, друг дорогой! – зашептал ему Вышень, присев рядом и вцепившись в толстое плечо. – Нам бы князя Святко найти побыстрее. Дело у нас к нему важное, такое важное, что и до утра ждать нельзя.
– Важное? – Варяг посмотрел на него, делая усилие, чтобы сквозь пьяную муть в голове что-то сообразить. – А ты… Князь Вершина… Угра…
– Не говори! – Вышень поднял ладонь, точно хотел зажать ему рот. – Молчи, друже, ведь погубишь нас! Покажи, где нам тут князя сыскать, а я тебе куниц да соболей за полцены зимой отдам!
– Слово? – При мысли о такой выгодной сделке Гудлув постарался стряхнуть хмель и стал тяжело подниматься. Вышень и Глядовец с двух сторон поддержали его под руки. – Ну, коли так… Ступаем, я покажу, где тут князь…
– Идемте, а не ступаем! – опять поправил дотошный Миловит.
Хвалислав не замечал таких мелочей – вот-вот он увидит человека, который определит его судьбу. Или погубит, или станет больше, чем родной отец. Ибо князь Вершина дал ему только жизнь, которую он, Хвалислав, должен был провести на положении вечного отрока, а Святомер оковский мог дать власть, славу, честь и богатство.
Ближе к опушке горело еше несколько костров, а между ними сидели на земле, на заранее принесенных бревнах и просто на охапках травы старейшины родов – старики и зрелые мужчины, все в праздничных цветных рубахах. Женщины разносили им угощение на широких деревянных блюдах, наливали меда и пива в рога, кому в глиняные, а кому и в серебряные чаши. На самом светлом месте между двух костров на резной скамеечке устроился гусляр – довольно молодой мужчина, наряженный в заморские дорогие шелка и сиявший, как ирийская птица. Старейшины слушали, как он поет, но то один, то другой украдкой косил глазом на девичьи хороводы неподалеку.
Здесь же был и князь Святко со старшим сыном, который считал, что время бегать с молодежью для него, мужа и отца, давно миновало.
– Вон она, княжь, – сказал Гудлув, выведя Ратиславичей к костру. – Видаешь его?
– Окажи еще услугу – позови его ко мне, – попросил Вышень. – Скажи, новости важные. Да только пусть в сторонку отойдет. Пусть хоть сына с собой берет, хоть людей, только немного!
Покачав головой, Гудлув все же послушался и направился к тому месту, где сидел князь, тяжело ступая и слегка покачиваясь. На ходу он спотыкался о чьи-то ноги, задевал сидящих, его толкали в ответ, беззлобно поругивали – ну, набрался человек на праздники, оно дело понятное, ну так ложись под кусток и спи, раз на ногах не стоишь! Чего колобродить?
Добравшись до князя, варяг наклонился и стал что-то говорить. Угряне в тревоге наблюдали за ними из темноты. Сначала князь Святко слушал Гудлува с удивлением, не понимая, чего тот хочет. Потом он вдруг переменился в лице – понял суть, и взгляд его устремился в ту сторону, куда показывала неверная рука полупьяного толстяка. Едва ли он что-то увидел в темноте, но Вышень выступил вперед, ближе к свету костров, и почтительно поклонился. К трусам охотника за хазарским серебром никак нельзя было отнести.
Князь Святко поднялся, сделал знак окружающим сидеть и пошел вслед за варягом.
– Здравствуй, князь Святомер! – Теперь уже Хвалислав поклонился первым. Настал час, и ему больше нельзя прятаться за спинами старших и мудрых. – Не прогневайся, что незван к тебе явился, от веселья оторвал. Да дело у нас такое, что до утра терпеть не может.
– Хвал… Хвалислав! – Святко вспомнил одного из Вершининых сыновей, рожденного какой-то иноземной пленницей, и брови его взметнулись от удивления. – Вот это гость! Да неужели Вершина за дочерьми тебя послал? Тебя?
Было видно, что он ожидал кого-то совсем другого, и Хвалислава пронзило острое чувство обиды – значит, ни дома, ни здесь его, сына Вершины, не принимают всерьез и не считают за человека, которому можно что-то поручить!
– А! Хвалис! – рядом раздался знакомый надменный голос, и из темноты выступила высокая, худощавая фигура Доброслава. – Не ждали! Где же оборотень ваш? Хвост поджал?
– Оборотень здесь! Здравствуй и ты, Доброслав Святомерович! – Хвалис снова поклонился. Его оскорбило то, что Доброслав даже не соизволил вспомнить его полное имя, но он крепился: от этого разговора зависит вся его жизнь. – Выслушай меня, князь Святомер, и сын твой пусть послушает. Я к вам как друг пришел, а иных друзей на Угре не будет у вас.
– Оборотень здесь? – Это взволновало Доброслава гораздо сильнее, чем все остальное. – Где?
И он огляделся, привычно хватаясь за то место на поясе, где обычно висел меч. Увы – сейчас там было пусто.
Впрочем, и враг его оборотень сейчас был лишен какого-либо оружия, кроме своей врожденной силы. Берегиня Зуша увлекла его в воду, а там сразу обвила и обтекла своим гибким телом, казалось, сразу со всех сторон. В воде, ее родной стихии, тело берегини утратило человеческие очертания, растеклось, растворилось или, вернее, стало размером со всю реку. Лютомер ощущал, как прохладные руки ласкают его, как холодные губы мелких волн покрывают поцелуями с ног до головы одновременно, как сама водная стихия сливается с ним в порыве пробудившейся страсти. То ему мерещилось, что в его объятиях дрожит и изгибается чье-то прохладное стройное тело, а то оказывалось, что лишь струи воды текут, повинуясь своему вечному движению, мимо него и через него… Еще миг – и страсть реки выпьет его тепло до дна и опустит неживое тело на дно, привалит тяжелыми песками, опутает водяной травой…
Так бы и случилось, будь он просто человеком. Но он был сыном Велеса, и сейчас, в священную ночь, грань между человеческой сущностью Лютомера и божественной сутью его отца истончилась до последнего невозможного предела.
Одним усилием воли он перешел эту грань. Раскрылся, впуская в себя суть Хозяина Подземных Вод.
И ясно ощутил, как затрепетала в его объятиях вода. Только что она думала, что человек целиком в ее власти, а тут вдруг сама оказалась в плену у силы, многократно превосходящей ее силу. Лютомер засмеялся, и в его смехе слышался глухой отзвук бесконечного Подземелья, откуда родятся все земные реки и куда они утекают с земли – унося с собой души умерших, закатный свет, слезы и жалобы, протекшие года, тени поколений… В эту Бездну уйдет однажды и Зуша, уйдет, какой бы долгой ни была ее жизнь, уйдет, как любая из смертных женщин, что когда-то умывалась в ней, пускала по течению свадебные венки, купала детей, просила им здоровья и счастья, роняла слезы потерь, вливая их в реку и отсылая горе к Темной Матери…
И Зуша вскрикнула, забилась, пытаясь вырваться из объятий того, кто тянул ее в это темное Подземелье. Теперь сам Лютомер снова заставил ее принять облик женщины – он видел и понимал ее и без того, но она сейчас была нужна ему в зримом обличии.
– Отпусти меня, Велес, – молил его низкий женский голос, и прохладное дыхание овевало мокрую щеку. – Отпусти! Не губи! Я же не хотела… Я же не знала…
– Пойдешь со мной?
– Куда? Я не могу! Мне от реки нельзя уходить!
– Недалеко! – успокоил ее Лютомер. – Поможешь мне – и ступай восвояси, теки, куда богами велено.
– Помогу тебе… Велес. Помогу, коли велишь.
– Тогда идем со мной.
Лютомер медленно выплыл на берег, постепенно, без спешки отделяя себя от Велеса. Разом рвать эту связь – больно и опасно. Велесу все равно, а вот человеческая суть такого рывка может и не выдержать. Но Лютомер делал это не в первый раз. Он выплывал на поверхность постепенно, медленно вспоминая, кто он такой. Только что он был властелином темной половины мира – у него не было имени, ибо он такой один, не было судьбы, ибо судьба его совершается каждый миг заново, постоянно обходя положенный круг. Он снова становился человеком, имеющим конечный срок бытия, рожденным от земных родителей – Семилады и Вершислава. Вот только начало его существованию положила священная ночь начала осени, когда богиня Лада спускается во владения Подземного Хозяина. Дух Велеса вот так же вошел в князя Вершину, спутившегося в подземелье под храмом к старшей жрице – своей жене… И он, родившийся в положенный срок от человеческой пары, вместе с тем родился сыном Велеса, который создал его дух, как земной отец создал тело.
Выбравшись на берег, Лютомер стряхнул воду и стал не спеша натягивать рубаху и порты. Одежда липла к мокрому телу, с длинных волос сбегали струйки, и Лютомер крепко провел по голове ладонями, отжимая воду.
Рядом с ним на песке стояла Зуша – рослая, полногрудая, красивая девушка с длинными темными волосами. Робко улыбнувшись ему, она протянула руку, взмахнула – и вся вода с его кожи и волос метнулась ей в ладонь. Зуша стряхнула капли на песок, а одежда и волосы Лютомера мгновенно стали сухими, будто он сегодня и не подходил к воде.
– Спасибо тебе, милая! – Он улыбнулся ей. – Не смотри так жалобно, не обижу. Против того – плясать пойдем. Веселись – ведь праздник нынче!
Берегиня Зуша послушно улыбнулась и протянула ему руку, робко и покорно, как юная девушка, впервые вставшая в круг невест.
В ночном черном небе одна за другой вспыхивали зарницы – пламенный свет внезапно разрывал темноту, словно день и ночь, свет и тьма играли и боролись, перемешиваясь в буйстве священной ночи. Девушки вскрикивали от неожиданности и священного ужаса, но волна общего возбуждения несла дальше, и даже страх лишь добавлял остроты веселью.
При свете зарниц Лютава каждый раз торопливо оглядывалась. Даже Молинку она уже потеряла – та вместе с княжичем Ярко сначала держалась рядом, но потом игры и хороводы как-то разметали их, все девушки в белых рубахах и под растрепанными венками казались одинаковыми, и она уже не находила среди вятичанок свою сестру. Вот потерять Твердислава она была бы рада, но тот не отпускал ее от себя и по возможности старался держать за руку. Даже когда она ушла, еще вместе с Молинкой, в девичий хоровод, куда парень не мог с ней пойти, он не спускал с нее глаз и даже не оборачивался, когда другие девушки тянули его куда-то, тормошли и даже били крапивой. Видимо, он имел строгий наказ от отца не спускать глаз с угрянки и выполнял его со всей ответственностью. При этом он почти с ней не разговаривал и не улыбался. То ли дело княжич Ярко – они с Молинкой сразу принялись болтать и смеяться.
Вот из святилища вынесли огромное чучело Ярилы, свитое из трав и цветов, одетое в нарядную вышитую рубаху. Этот Ярила уже состарился, и соломенная борода доставала почти до его главного орудия, – в отличие от молодого, весеннего Ярилы, у этого оно было совсем маленьким, слабым, исчерпавшим все силы в священном деле оплодотворения земли.
– Ой ты Ярила, вешняя сила! – завопила возле него женщина, и Лютава узнала Семиславу. – Ой, умер Ярила, отрада наша! Умер, к Марене ушел! Горе наше, нет его больше!
Она громко хлопнула в ладоши, и все девушки бросились к чучелу. Парни закричали, попытались преградить им путь, но девушки решительно прорывались через заслон и тянули руки к чучелу. Стоял крик, вопль, визг, треск одежды – вокруг травяного чучела разгорелась настоящая битва. Но все-таки девушки прорвались – десятки рук мигом разорвали Ярилу на части, и пучки травы полетели в реку. А парни с криком погнали в воду самих девушек. К визгу прибавился плеск.
Уворачиваясь от Твердислава, который и тут подгонял ее пучком травы, Лютава влетела в воду по колено и пошла дальше, стараясь не запутаться в мокрой рубашке. Вокруг нее вода бурлила от множества тел, кипели брызги. Отблески костров на берегу сюда почти не доставали, и она подумала – не удастся ли ускользнуть?
И вдруг какая-то прохладная, крепкая рука взяла из-под воды ее руку. Лютава вздрогнула и застыла в ужасе – рука была не человеческая. Мгновенно собравшись, она приготовилась защищаться – но ее руку тут же освободили, а из-под воды показалась голова красивой девушки. Ее длинные темные волосы плыли по поверхности воды и нельзя было разглядеть, где же они кончаются.
– Не бойся, – шепнула ей водяница. – Я тебе помогу. Иди дальше по реке, там он ждет тебя. Иди.
Она улыбнулась и обошла Лютаву, направляясь к берегу. А Лютава сразу поняла, что ей хотели сказать, и побрела по дну, по грудь в воде, дальше по течению. Мимо нее пыли, обгоняя, пучки травы и цветов, из которых был сплетен «старый Ярила», пара чьих-то помятых венков, упавших с голов. Позади слышался визг, смех, плеск и голос Твердислава: «Лютава, где ты?»
Здесь уже не горели костры, Лютава шла по реке в темноте. Вот вспыхнула зарница, и огненный свет словно вырезал из темноты высокую человеческую фигуру под старыми ивами. Эту фигуру Лютава узнала бы где угодно.
И ее тоже узнали. Лютомер шагнул к воде и протянул руки. Лютава торопливо вышла на мелководье, он схватил ее за запястья, вытянул на берег и молча прижал к себе. От ее мокрой рубахи его собственная одежда тоже сразу намокла, но они стояли на песке, обнявшись и чувствуя только, что цельность их двойного существа наконец восстановлена и мир обрел равновесие.
В эту священную ночь каждое существо – мужское или женское, человеческое или божественное – стремится к слиянию со своей противоположностью, дабы еще раз закрепить цельность вечного круга Всебожья. «Старый Ярила» обращался в Велеса и уходил с земли в Подземелье, где ждала его Марена, его сестра и божественная супруга, женская ипостась его самого. И никакая другая Марена не была так желанна для Лютомера, как Лютава – его сестра, так похожая на него самого, которую он любил и простой человеческой любовью, и мощью Велеса. Выросшие в сознании, что через них говорят и в них воплощаются сами боги, они даже не думали о том, чем питается их взаимная связь – человеческим или божественным. Это не редкость среди потомков волховских и жреческих родов, и есть много таких пар, у которых божественная мощь определяет человеческие привязанности и земную судьбу. Они не думают, хорошо это или плохо, дозволено или не дозволено, – у них, живущих для богов и через богов, свои законы. Они теряют силы вместе со своими богами, страдают их страданиями, но зато и радуются их радостями, и в такие вот священные ночи, когда все силы Всебожья расцветают, божественная мощь вливается в их человеческие жилы и позволяет ощущать истинно божественное упоение.
Утянув ее во тьму под раскидистые ивы, как в шатер, Лютомер помог Лютаве снять насквозь мокрую рубашку, а взамен надел на нее свою – вывернув ее предварительно наизнанку, поскольку женщине мужскую одежду носить нельзя, кроме как на новогодних игрищах. Перешептываясь, дрожа от радости и возбуждения этой ночи, они то выжимали эту мокрую рубашку, то снова обнимались, и Лютомер жадно целовал свою «молодую Марену», пока сама Лютава, смеясь, выжимала свои длинные мокрые волосы. Если бы сегодня, когда Ярила уходит к Марене, он бы ее не встретил – для него само колесо Кологода перекосилось бы.
– Не обижали вас?
– Мы сами кого хочешь обидим!
– Молинка где?
– Не знаю, с женихом сбежала.
– Жених у нее уже? А тебе не досталось?
– Мне мой не понравился.
– Его счастье!
– Что дома?
– Велели вас вернуть и рядов со Святко не заключать.
– Много ты привел?
– Наших три десятка – Дедилы, Хортима и Чащобы, да отец два десятка собрал. Братец Хвалис воеводой пошел.
– Да что ты говоришь!
Несмотря на все прошлые сомнения и подозрения, сейчас Лютава только засмеялась и опять обняла Лютомера, не в силах сдержать радости, что он снова с ней. Под ветви заглянула какая-то девка, но, увидев тут обнявшуюся полуодетую парочку, только хихикнула и исчезла. А Лютомер торопливо подхватил свою Деву Марену на руки, несколько раз поцеловал, тяжело дыша, и положил на песок с мелкой прибрежной травой. Его бог в нем больше не мог терпеть. Как две реки, что с неудержимой силой текут навстречу, чтобы слиться в одну, так сам ток крови в жилах тянул их друг к другу. Но именно сейчас они ощущали в себе своих богов так полно, как это не дано обычным смертным.
А княжич Твердислав и не подозревал, что предполагаемая невеста от него ускользнула. На его зов из воды вышла девушка, и ни он, ни кто-либо другой – за исключением разве что Лютомера – не сумел бы отличить ее от Лютавы. Появившаяся на берегу выглядела точь-в-точь как старшая дочь Вершины угрянского, вот только глаза у нее были не серые, а зеленые, но в темноте, при отблесках костров, этого никто бы не разглядел.
– Ну, друг мой любезный, сокол ясный, что невеселый такой? – низким мягким голосом спросила девушка и взяла Твердислава за руку прохладной влажной рукой.
Княжич несколько удивился – раньше угрянка не была к нему так ласкова. А та прижалась к нему всем телом, и его пронзило чувство какого-то тревожного, немного болезненного, лихорадочного возбуждения.
– Пойдем, попляшем! – с намеком предложила девушка и потянула княжича в тень берега…
Новости, принесенные Хвалиславом, поставили князя Святко в тупик. Он дал распоряжение собрать, не поднимая шума, четыре десятка кметей и велел им вернуться в Воротынец за оружием, а сам тем временем лихорадочно обдумывал, как поступить. На сбор людей среди буйных купальских игрищ уйдет какое-то время – хоть они все здесь, но поди им, пьяным от меда и возбуждения, объясни, что надо покинуть хороводы и девушек и топать в лес искать там угрянских бойников! Оборотень точно рассчитал и удачно выбрал время: сейчас ни своя земля, ни многократное превосходство в силах ничем не помогали вятичам. Сейчас он пройдет прямо сквозь войско, и никто его не заметит!
Не меньшее беспокойство ему внушали сыновья, то есть сын Твердята и племянник Ярко, приставленные к угрянским княжнам. Если где-то рядом оборотень со своей дружиной, явившийся за сестрами, то Ярко и Твердята попадают под удар. Ведь он их видит, а они его нет! Но как их здесь найти? Князь Святко окинул взглядом луговину и чуть не застонал от бессилия и тревоги – на луговине, на опушках леса, на реке кипело движение, везде мелькали белые рубахи, растрепанные венки из трав, цветов и ветвей. Отблески купальских костров выхватывали из мрака мечущиеся, плящущие белые фигуры, но узнать среди них кого-то было совершенно невозможно. Где они, Ярко и Твердислав, где княжны? Как отыскать их в этом буйстве? Хоть обкричись – никто тебя сейчас не услышит.
Пока двое спешно отловленных десятников собирали и вооружали людей, Святко напряженно думал. Кроме естественного беспокойства о сыновьях и пленницах его еще мучили сомнения – правильно ли он поступит, сделав то, чего хочет Хвалислав?
– Он прав! – торопливо шептал ему Доброслав, отойдя с отцом в сторону, как бы для отдачи распоряжений. – Хоть он и хвалис и мать его роба, но сейчас он дело говорит. У него нет другого средства из челяди выбраться, кроме как с нами дружить. Он нам теперь до костра погребального будет обязан. Все сделает, что мы скажем, – войско даст, что хочешь. А от оборотня нам не видать добра.
– Да ведь его, Хвалислава-то, угряне не примут! – Князь Святко в сомнении качал головой. Он то и дело оглядывался, надеясь найти-таки своего воеводу Рудояра и еще кого-нибудь из бояр, но они где-то пропали в толпе, и приходилось решать самому и быстро. – Нет у меня ему веры. Хвалис он, холопкин сын – угряне его князем не признают. Помрет Вершина – Лютомер все равно за власть будет бороться, и племя его поддержит. Да и нам бы поддержать – ведь его мать нам не чужая, он с нами почти родня…
– Да какая родня! Я у Семиславы спрашивал, восьмое колено – не родня уже![16]
– Но как хочешь, мать его, Лютомера, вятичанка, и сам он наполовину вятич! Он нас своими врагами считает, отсюда все беды. А если убедим его, что мы ему друзья и добра ему хотим, то с таким союзником, считай, вся Угра наша, и теперь, и потом.
– Не наша, а его! Оборотень – сильный враг и будет сильным князем. Он под наш гудок плясать не станет, батюшка! – втолковывал Доброслав. – Не знаю, он мне сердце не изливал и замыслами не делился, но я на его месте не хазар стал бы воевать, а Десну и Болву! Будет он князем – нам про Угру забыть! Он станет князем – без нас обойдется. А Хвалис без нас никуда, как младенец без мамки! Он тебе будет сыном родным! Отдадим ему хоть Кременку в жены, станет нам родичем, тебя как отца всю жизнь почитать будет! Кременки с него довольно, лучше невесты ему все равно никто не даст. А его сестру присную к себе возьмем, за Милягу хотя бы. Что ты скажешь – Хвалис то и сделает, потому что без нас ему на Угре не усидеть!
– Понимаю, и во многом ты прав, но думается мне, что и с нами ему на Угре не усидеть! И не помощь мы от него получим, а только жернов себе на шею повесим, с таким родичем! Ведь и смоляне рано или поздно со своими делами разберутся и о малых племенах вспомнят. Дать угрянам хвалиса в князья – дать повод смолянам его сместить, как недостойного! Еще дождемся, Велеборов младший сын на Угре сядет, а это нам совсем ни к чему. Нет, Лютомер в силе свое наследство отстоять, и нам с ним дружить надо. Вот что, сыне! – Приняв решение, князь Святко положил руку Доброславу на плечо. На своего старшего Святомеру приходилось смотреть снизу вверх, поскольку тот очень уж вытянулся, но на твердость его решений это не влияло. – Иди к хвалису, развлекай его беседой, чтобы пока ни о чем не догадался. А я лучше с Лютомером потолкую. Раз у них беда такая и хвалис под него копает, ему ведь тоже друзья нужны. Лучше нам с ним дружбу завести, а то с этим чернявым опозоримся только. За ним – только купцы, которым хазарских шелягов хочется, а за Лютомером – бойники, знать, волхвы все! Он же – сын Велеса!
– Ты что – сам пойдешь? – Доброслав даже испугался за отца. – Не ходи, батюшка, как можно? Меня уж тогда пошли, я все по твоему слову сделаю… хоть и думаю, что ты не прав! Но сделаю, как велишь, а тебе самому нельзя к волкам в лес!
– Ну, ты меня на краду класть погоди! – Святко сделал вид, что обиделся, хотя искренняя забота старшего сына ему была приятна. – Я тоже не ягненок, чтобы волков бояться! Ох, Твердяту бы найти поскорее! Сердце не на месте! – Он крепко потер грудь с левой стороны. – Он с сестрой оборотня, как бы чего с ним не вышло, сохрани Макошь! Вот что: бери пока угрян и ступайте братьев искать. Пусть они своих княжон высматривают, авось и углядят. А я пока с оборотнем разберусь.
– Как скажешь, батюшка, – мрачно ответил Доброслав. Весь его вид выражал несогласие, но он, не споря больше, поклонился и направился к угрянам, в тревоге ожидающим, чем закончится обсуждение.
Князь Святко прошел немного по направлению к городу, надеясь встретить хотя бы первый десяток собравшимся и вооружившимся. Вокруг него бушевало празднество, какая-то бойкая молодка, со сбитой кичкой и торчащимии из-под нее русыми прядями, с венком, спущенным на шею, как ожерелье, с пятнами зелени на подоле, глянула на него шалыми глазами, положила руки на грудь, вопросительно заглянула в лицо. Но князь, приобняв ее в ответ, слегка покачал головой: извини, красавица, не до того мне сейчас…
Спрашивать, не видала ли княжича Твердяту, он не стал.
Пройдя еще немного, он вдруг увидел еще одну молодку – свою собственную младшую жену Семиславу.
Одна из высших жриц племени, Семислава уже была выжата буйством праздника и тяжело дышала. Рубаха на ней промокла насквозь, потрепанный венок она сдвинула на затылок, чтобы трава не лезла в глаза, а взгляд блуждал – едва ли она понимала, на каком свете находится. Но мимо жены Святко не мог так просто пройти и остановился, взял ее за плечо.
– Будогостевна? – окликнул он и слегка помахал рукой перед лицом Семиславы. Ее состояние его не удивляло и не тревожило – он знал, с кем живет уже целых семь лет. – Слышишь меня?
– Слышу, родной. – Семислава перевела на него взгляд и взяла мужа за руку. – Что ты невесел? Случилось что?
– Случилось. Ярко и Твердяту не видала?
– Видала на берегу Твердяту, когда Ярилу рвали. А Ярко со своей еще раньше в рощу ушел. Как Твердята, не знаю, а Ярко справился. – Семислава улыбнулась.
– С угрянкой? А вторая, старшая, с Твердятой была?
– Была. С этой он повозится еще, неуступчивая она больно. Думаю, у нее с братом любовь.
– Да ты что? – Князь Святко вытаращил глаза. Он был слегка любопытен, хотя и понимал, что мужчине это не к лицу.
– Похоже на то. В наших родах бывает.
Под «нашими» родами Семислава имела в виду старинные священные роды волхвов, в которых все вообще установления старины, в том числе и браки среди своих, сохранялись дольше, чем у простых людей.
– Но это ничего. – Семислава устало махнула рукой в длинном, до земли, рукаве обрядовой рубахи. – На ней зарок лежит какой-то, она замуж должна выйти за кого-то, кого сама не знает. Я ворожила, видела. Так что, может, у Твердяты и выйдет что. Он парень упрямый.
– Был бы живой, вот что! – Князь вспомнил, с чем шел, и опять огляделся. – Ведь брат ее, оборотень, здесь где-то бродит! Другой Вершинин сын, от хвалиски который, приехал и нас нашел с Добрятой. Рассказал, что оборотень тут. Хочет, чтобы мы тайком подобрались да порешили его, а самому хвалису помогли после Вершины угрянский стол занять.
– Хвалису? – Семислава в выразительном презрении подняла брови. – Холопкиному сыну? Против сына Семилады и Велеса помогать? Воля твоя, батюшка, а это ты бы очень глупо сделал. Боги такого не благословят, вот помяни мое слово!
– Да не хочу я холопкиному сыну помогать, мудрая ты моя! – Святко сжал руки жены, довольный, что она мыслит так же, как он. – Добрята на его сторону встал, а я говорю, нет, лучше бы нам с самим Лютомером столковаться, раз такие дела. Да где найдешь его! – Он махнул рукой в сторону темного леса. – Хвалис их стан в лесу показать берется, да самого оборотня там нет! А если я его людей перебью, какой же тогда разговор! Ни парней наших, ни девок угрянских тут не найдешь, пробегаем до утра, как дураки, а он тем временем сестер заберет и все, ищи следа на воде!
– Хочешь, я тебе его найду, батюшка? – Семислава устало перевела дух и поправила сбитый повой.
– Найдешь? – Святко в сомнении посмотрел на нее.
– Найду. – Она кивнула. – Не такой он человек, Велесов сын, чтобы пройти и следа не оставить. Найду. Сама ему скажу – ты с ним дружить хочешь и против хвалиса поможешь, а он за это чтоб с войском нам помог. Так?
– Чтобы сестер оставил у нас, отдал в жены нашим парням, а сам пусть Семьюшку, что ли, себе берет. Породнимся. Или Кременку лучше?
– Кременку он не возьмет. А Семьюшку – это можно предложить.
– Ну, давай, будь с тобой Лада! Но ты его ко мне лучше приведи. Я сам с ним поговорю.
– Приведу. – Семислава кивнула. – Только в город не ходи, здесь будь, у святилища. Вот, подержи.
Она развязала тесьму, на которой держались заушницы, сняла кичку и повой, вручила все это князю и стала расплетать косы. Замужней женщине никак не годится ходить простоволосой и незаплетенной. Но распущенные волосы сейчас служили Семиславе источником силы и в каком-то смысле оружием волшбы, поэтому даже ее муж не возражал, послушно приняв на хранение все ее уборы. И сам залюбовался, увидев длинные, до колен, густые светло-русые пряди, на которых от тесного плетения кос остались волны.
– Истинно берегиня! – со смесью тревоги и восхищения сказал Святко.
Жена пошла прочь, князь еще долго глядел ей вслед. В ней что-то изменилось, точно распущенные волосы окончательно освободили то нечеловеческое существо, что жило в этой женщине и которого даже сам он, Святомер, в глубине души опасался.
Семислава прошла вдоль опушки, прислушиваясь к своим ощущениям. В эту священную ночь она была настежь раскрыта токам сил земли и неба, и любая струна вселенной, будучи задетой, отдавалась ясным звоном в ее душе. Явный мир и Навный виделись ей как бы наложенными друг на друга, она смотрела сразу в оба мира и словно плыла в толще сгущенной силы. Главное – суметь выбрать нужное направление…
Его след она взяла на опушке, поодаль от луговины. Он тянулся от реки – Семислава ясно ощущала присутствие Велесовой силы. Оборотень шел без тропы, прямо через нехоженый лес, но Семислава не могла сбиться со следа – он виделся ей чем-то вроде темного и глубокого ручья, ей было немного страшно прикасаться к нему, но ее поддерживала сила богини-покровительницы, Лады, которая сейчас пребывает в расцвете, правит земным миром и еще не доступна власти Велеса. Всего через месяц с небольшим все изменится: плоды созреют, тяжесть мира переместится в пору зрелости и увядания, и Лада, влекомая этой неодолимой силой, сойдет в Подземелье – как клонится к земле усталый колос под тяжестью созревшего зерна, как садится солнце, за день отдав земному миру всю силу своего света… Но сейчас еще не пора, сейчас солнце в наивысшей силе, и Семислава скользила над темным Велесовым следом, как солнечный луч над тропой змея.
Лютомер и Лютава уже почти вышли на поляну, где ждали их бойники, они уже видели среди деревьев огонь костра, как вдруг Лютомер, сперва замедлив шаг, совсем остановился.
– Иди. – Он выпустил руку сестры и кивнул ей в сторону поляны. – Иди к ребятам.
– А ты?
– За нами идет кто-то.
– Кто? – Лютава испугалась. – Вятичи?
– Нет, пожалуй. – Лютомер неуверенно покачал головой. – Из волхвов кто-то. Тот, кто сумел меня выследить. Воев там пока нет. Ты иди. Скажи десятникам, чтоб на тропе дозор выставили. Дело к утру, и если нас выследили, то все может быть. Если что, уходите в лес, обо мне не думайте, а я вас потом найду.
– Хорошо. – Лютава кивнула и пошла к поляне. – Если что, я след замету, но ты нас найдешь.
Она не сомневалась, что ее брат со всеми сложностями справится сам. Гораздо больше ее сейчас беспокоило то, что Молинку они не нашли, а уехать без нее нельзя. Однако до утра остается совсем мало времени – во влажной рубахе уже пробирал предутренний холод, хотелось завернуться в шерстяной плащ и сесть к костру. Плащ для нее у бойников, конечно, найдется.
– Да! – Лютомер, уже отойдя на несколько шагов обернулся. – Переоденься там – я тебе привез целый короб, и рубахи, и обуться, и плащ. Спроси Велигу, он знает где.
Лютава благодарно помахала ему рукой и пошла к поляне. Бойники, в первый миг вздрогнувшие – подумали, опять берегиня, – тут же узнали ее, вскочили, бросились навстречу, обступили. Отвечая на приветствия среди радостного галдежа, Лютава снова подумала – да где же Молинка?
А Лютомер почти бегом устремился через лес назад к опушке. Всем существом он ощущал, что к нему приближается источник какой-то светлой силы, и не просто приближается, а следует за ним. Глядя сквозь Навный мир, он видел неведомого гостя как живое пятно света, все ближе и ближе…
Неслышно пробираясь через лес, так что ни одна веточка не качалась и ни один сучок не хрустел, Лютомер прошел еще немного и остановился. Между деревьями мелькнула белая фигура, и в первый миг он тоже подумал – берегиня.
Высокая, стройная дева в белой рубахе, с длинными распущенными волосами тоже увидела его и замерла, прижавшись к березе и словно желая слиться с ней, спрятаться. Но нет – это ей не под силу. Теперь, вблизи, Лютомер разглядел, кто перед ним, – не берегиня, но человек, волхва высоких посвящений, способная призывать в себя дух Лады. Этот дух он и видел сквозь Навный мир как пятно солнечного света. А такая тут сейчас только одна. Особенно такая красивая, как мысленно отметил Лютомер. А значит, это…
– Здравствуй, Семислава Будогостевна, – сказал он, делая к ней несколько осторожных шагов – чтобы не напугать. – Не бойся, я не съем. Зачем ходишь тут одна, в глуши?
– Тебя ищу, варга Лютомер. – Женщина тоже сделала несколько шагов навстречу, тем самым показывая – я не боюсь.
– Меня ищешь? – Лютомер в выразительном удивлении поднял брови, хотя на самом деле не слишком удивился. – Вот спасибо! Каждый обрадуется, что его такая красавица ищет. Да в лесу, да купальской ночью.
Он подошел еще ближе, и Семислава невольно попятилась. Короткая ночь кончалась, воздух уже был серым, и она довольно хорошо видела своего собеседника. Раньше им не приходилось встречаться, и хотя она знала, что ей предстоит увидеть оборотня, вид его потряс ее даже больше, чем потрясал обычных людей, – ведь она видела больше, чем видят обычные люди, и ощущала его силу во всей глубине.
Высокий, плечистый, он олицетворял мощь лесного зверя, но при этом выглядел не тяжелым, а ловким и быстрым. Грубоватые черты лица, густые брови, глубоко посаженные глаза не давали назвать его красавцем, но мощь, дышавшая в каждой черте, придавала ему такое обаяние, что Семислава не могла оторвать от него глаз. В этот миг она была все равно что молоденькая девушка, впервые выпущенная родными на гуляния, никогда ранее не видавшая чужих парней – ведь она и впрямь впервые в жизни встретила мужчину, к которому не могла относиться с привычным снисхождением. Полуобнаженный – в его рубахе ушла Лютава, – с растрепавшимся хвостом длинных волос, сильный, гибкий и бесшумный, дышащий силой своего божественного отца и покровителя, Лютомер казался воплощением дикой лесной стихии, тем самым Богом Того Света, которого древние люди считали душой леса и называли Велесом.
А в ней жила богиня Лада, самим движением Кологода обреченная быть отданной ему. И Семислава вдруг с ужасом осознала, что уже подавлена и подчинена силой Велесова сына, что она почти не помнит, зачем пришла сюда. Уже казалось, что ее целью было… увидеть его? Только увидеть? Он явно имел в виду что-то другое, и не составляло труда догадаться – что.
– Что ты, варга Лютомер! – С трудом овладевая собой, Семислава снова попятилась. – Что ты! Не для того я тебя искала! Я – мужняя жена…
– Так и что? – Лютомер выразительно улыбнулся, и Семислава невольно улыбнулась ему в ответ. – На то и Купальская ночь, чтобы и мужним женам, и девкам простоволосым волю дать. Или я тебе не нравлюсь?
Не нравиться ей он не мог и знал это: сама сила Лады, которой Семислава служила, неумолимо толкала ее к нему.
Он придвинулся ближе и взял ее за руку. За спиной у нее была толстая береза, отступать оказалось некуда. Да и сил не хватало – лишь слегка придерживая ее пальцы, сын Велеса набросил на нее паутину чар, не дававшую шевельнуться. Всем своим чутким существом ощущая мощь этих чар, Семислава с ужасом поняла, что переоценила свои силы и напрасно отправилась отыскивать его этой ночью. Слишком давно она не встречала достойных соперников.
Он обнял Семиславу и бережно прижал к себе, словно прислушиваясь к ощущениям – не своим, а своего бога, которому предлагал эту сладкую жертву… Торопиться некуда – скованная чарами, она все равно не вырвется. Это была не та богиня, что жила в подземельях и чей срок править миром придет еще не скоро, а другая – та, что царила в земном мире сейчас и воплощала расцвет его сияющей летней красоты. Через своего земного сына и сам Велес мог принять участие в обрядах этой ночи, и Лютомер нашел одну из немногих женщин, которая достойна порадовать Подземного Владыку.
– Нет, пусти, – шептала она, слабыми руками пытаясь оттолкнуть Лютомера. – Не до того сейчас… Я… Нас… Муж мой, князь оковский… Он ищет… Он тебя…
– Что? – Лютомер все-таки услышал ее и тоже попытался стряхнуть наваждение, но из объятий ее не выпустил.
– Он… меня к тебе прислал. – При мысли о муже Семислава опомнилась, пусть с известной неохотой, сумела сосредоточиться на земных делах. – Он знает… что ты здесь, что ты за сестрами приехал. Он тебе предлагает союз. Отдай твоих сестер в жены моим пасынкам… А сам возьми…
«Возьми в жены дочь князя», – должна была она сказать, но почему-то не сказала. Невозможно и просто глупо казалось предлагать ему – Велесу! – какую-то там Семьюшку или Кременку, когда ему всей судьбой вселенной предназначена Лада, то есть она, Семислава…
– Отдать я ему ничего не отдам, – прозвучал у нее над ухом невозмутимый низкий голос оборотня. – А вот взять – возьму с охотой. Только дочерей Святкиных мне не надо. А вот жену его, пожалуй, возьму.
– Опомнись! – Собрав все силы, Семислава вырвалась из его рук и отскочила. Сразу стало холодно, свежесть предутреннего леса охватила ее и сдула остатки тепла, но Семислава даже порадовалась, потому что холод отрезвил ее и дал понять, в какое безумие она чуть не рухнула. – Ты что, жених-первогодок, что у тебя одна ярь на уме! Ты зачем сюда, в оковский лес, приехал – за девками? За мной? Ты за сестрами своими пришел! Ведь так?
– Так, – подтвердил Лютомер. – Я моих сестер никому не отдам и обидеть не позволю. Князь Святко на наш род первым руку поднял – если ты попросишь, так и быть, за достойные дары обиду прощу. Но условия не он мне будет ставить! А иначе – он мой кровный враг навек.
– Да мы, вятичи, ведь не враги тебе! – торопливо заговорила Семислава, против воли чувствуя, что хочет мира с этим человеком… и не только человеком, и не ради земли вятичей. – Твоя мать была нашего племени, оковского!
– Ты знаешь, где она? – перебил женщину Лютомер.
– Нет, – несколько растерянно ответила Семислава. – А ты не знаешь?
Лютомер молча покачал головой. Никто не знал, куда исчезла семь лет назад княгиня Семилада, но у него вдруг мелькнула надежда, что вятичская волхва такого высокого посвящения может это знать.
– Мой муж тебе поможет престол твоего отца занять, а ты нам за это поможешь, – торопливо продолжала Семислава. – Породнимся с тобой, невестами обменяемся. А иначе ты из нашей земли не уйдешь. У тебя всего-то четыре десятка с собой, а у нас тут войско для похода собрано. Многие тысячи! Ты из этого леса не выйдешь, ни пешком, ни по реке, вас со всех сторон обложили.
– Я – вырвусь, – уверенно ответил Лютомер. – Не придуман еще такой силок, чтобы меня удержал!
– Если сам вырвешься, людей погубишь, сестер погубишь! Разве тебе этого хочется? Пойдем. – Семислава отважно шагнула вперед и прикоснулась к его руке, но рука оказалась сжатой в кулак. – Пойдем, муж мой тебя ждет. Ничего худого не сделает, верь мне. Только поговорить надо, обсудить… Мой муж с родом своим хочет тебе дружбу предложить, союз и родство. Не оказывайся. Пойдем.
– Рано князь Святко мою шкуру меряет – не поймал еще. – Лютомер усмехнулся и вдруг крепко взял Семиславу за руку. – А вот я белу лебедь уже поймал! Обложил, говоришь? Не выпустит, говоришь? Выпустит – и меня, и сестер, и бойников моих, и всех угрян! Еще как выпустит, если жену свою хочет назад получить. Пойдем!
Он потянул ее в сторону поляны, где ждали бойники, но Семислава уперлась. Она сразу поняла, о чем он. Явившись сюда, она сама отдала себя ему в заложницы.
Но упрямством и свободолюбием она могла поспорить даже с ним.
– Поймал, говоришь! – гневно воскликнула она и рванула руку, но Лютомер держал крепко. – Не уловивши белу лебедь, рано кушаешь, серый волк! Хотели добром с тобой, да коли душа волчья, сам и ответ держи!
Вскипевшая ярость помогла ей собраться – сейчас, когда все силы расцветшей природы наполняли ее, как вода наполняет русло реки в разгар половодья, ей все казалось легко.
Вспышка силы ударила Лютомера и заставила отшатнуться – а когда он открыл глаза, то увидел, как белая лебедь взмывает к вершинам деревьев на том месте, где только что была женщина. В руке его, только что сжимавшей ее руку, осталось два белых перышка.
Оборотень взвыл от ярости и внезапной боли потери. Прыгнув вперед, туда, где она стояла, он еще в воздухе обернулся волком, перевернулся через голову, с яростным криком крутанулся еще раз – и взмыл над поляной соколом. Это был не его облик, Лютомер до этого оборачивался птицей всего один раз, ему было тяжело, непривычно, неудобно, но священная ночь и сама неизбежная судьба Велеса, повелевающая преследовать Ладу до конца, любыми средствами, помогла ему. Велес снова дал ему свою силу полной горстью, как тогда, в реке. Сперва он неуклюже махал крыльями, с трудом удерживаясь в воздухе, но быстро освоился в новом облике, крылья окрепли, и сокол стрелой рванулся вверх, преследуя улетающую лебедь.
Светало, и двух птиц, вырвавшихся из-за леса, увидели сразу все, кто еще оставался на луговине. Праздник отгорел и миновал, уплыли девичьи венки, река унесла останки растерзанного Ярилы – до будущей весны, когда юный бог явится во всем блеске своей силы, будто и не думал стареть и умирать. Укатилось под обрыв и утонуло горящее колесо, символ угасающего отныне солнца. Многие уже разошлись по домам, из леса постепенно выползали довольные, но промокшие от росы и продрогшие парочки, которым теперь по осени предстояло справлять свадьбы. Отцы и матери ожидали свою молодежь, понемногу поддерживая пламя в маленьких кострах, подъедая остатки угощения. Тут и там перепившиеся отцы похрапывали, лежа кто где упал. Этим ночная прохлада была нипочем.
Тем не менее белую лебедь, стрелой мчавшуюся к городу, увидели сразу многие. Увидел ее и князь Святко, в окружении кое-кого из собранных бояр ожидавший жену и оборотня, как уговорились, возле ворот Перунова святлища. Здесь же сидели Ярко и Молинка. Встревоженная неожиданным оборотом дела, Молинка жалась к княжичу, и тот обнимал ее за плечи, стараясь согреть и успокоить. Твердислава с Лютавой так и не нашли, и Молинка не имела понятия, где может быть ее сестра. Ее собственное согласие с Ярко, хоть и радовало обоих, строго говоря, только ухудшало общее положение дел. Все это было так тяжело и запутанно, что Молинка с не меньшим, чем вятичи, нетерпением ждала, пока княгиня-волхва вернется из леса, куда пошла на поиски Лютомера.
И вот она летит! Не будучи сам волхвом, князь Святко, однако, узнавал младшую жену в любом обличии и теперь вскрикнул, завидев, как она несется, будто спасаясь от величайшей опасности. Он уже извелся тут от беспокойства и клял себя, что решился отправить ее в темный лес к волкам. Волхва она, чародейка – а все же женщина есть женщина, нечего было ее отпускать! Ну бы его к лешим, оборотня этого угрянского, свое бы не потерять!
За лебедью гнался сокол и уже почти настиг. Сам ли это оборотень или кто-то из насланных им духов – Святко не знал, но закричал и побежал вместе со всеми в невольном порыве, точно мог здесь, на земле, как-то достать врага и помочь лебеди, бьющейся в небе за свою жизнь и свободу.
– Лук, лук! – кричал Святко, не отрывая глаз от птиц и призывно взмахивая руками. – Живее лук, лешачьи дети!
Вооруженные десятки ожидали поблизости, и луков нашлось даже несколько, но стрелять никто не смел. Когда князю сунули в руки готовый лук с наложенной стрелой, он понял почему. Сокол вился вокруг лебеди, норовя вцепиться когтями в спину, она отбивалась крыльями, вертелась, стараясь не терять высоты и прорываться ближе к городу. Но обе птицы мелькали так близко друг к другу, что не было никакой возможности прицелиться. Выстрелив, князь имел равные возможности попасть в воздух, в сокола и в лебедь.
Трубный крик лебеди взывал о помощи, но кто с земли мог ей помочь? Сокол бил ее крыльями, грозил растопыренными когтями и гнал назад к лесу. Шаг за шагом, завороженно глядя в небо, люди шли по луговине к опушке, сжимали кулаки, шептали что-то. Князь Святко чуть не плакал от гнева и бессильной досады, опустив бесполезный лук.
Последний бессловесный крик долетел уже из-за вершин, и обе птицы пропали с глаз.
Теряя силы, лебедь кувырком летела к земле и почти рухнула на той же самой поляне. Сокол все-таки зацепил когтем ее крыло, нарушил равновесие сил, и теперь она падала, в безумном ужасе чувствуя, как разваливается ее птичий облик, но сил не хватало, чтобы заново собрать себя в человека. С отчаянным криком Семислава падала с высоты, ударилась о вершины берез, заскользила вниз по стволу. С треском ломались ветки под тяжестью быстро набирающего вес тела, сорванные листья летели над поляной, как зеленая метель.
Лютомер еще в воздухе понял, что наделал. Она могла разбиться – у нее не осталось сил, чтобы поддерживать лебединый облик, она стремительно возвращалась в человеческое тело, не успев приземлиться как следует. И еще счастье, если она успеет стать человеком до встречи с землей!
Грянув с высоты, сокол еще в воздухе превратился в волка, еще раз перевернулся над самой землей и упал уже человеком. Ловко вскочив на ноги, он прыгнул вперед и поймал падающую Семиславу. От силы удара Лютомер не устоял на ногах, и оба они покатились по земле. Крепко держа женщину в объятиях, он старался уберечь ее от лишних ушибов и в то же время боялся открыть глаза – что такое он сейчас увидит? В ушах свистело и громыхало, перед глазами вспыхивали, поглощали друг друга и снова расцветали разноцветные пылающие пятна. Даже ему было сложно справиться с теми силами, которые сейчас бушевали и кипели в них обоих, грозя погубить неосторожных.
Наконец излишки силы ушли в землю, все замерло. Лютомер лежал на земле, крепко сжимая в объятиях тело – слава Велесу, человеческое. Живое, судя по частому дыханию и сумасшедшему стуку сердца.
Женщина застонала и слабо пошевелилась, потом опять застонала. Лютомер открыл глаза, медленно выпрямился, осторожно выпустил ее из рук, укладывая на траву. Младшая жена Святомера оковского, красавица и волхва, сейчас представляла жутковатое зрелище. Быстро осмотрев ее, Лютомер с облегчением убедился, что обратное превращение прошло удачно, несмотря на потерю крови, которая могла привести к самым печальным последствиям. Лебединое крыло или птичьи ноги на человеческом теле – малоприятное зрелище. Есть такое сказание – одна молодая волхва превращала в лебедей своих братьев, но однажды что-то у нее не заладилось, и младший остался с лебединым крылом вместо правой руки…
Однако Семиславе повезло – она отделалась царапинами и ушибами при падении сквозь ветки. Осмотреть ее он мог без труда, потому что круговорот сил при внезапных превращениях и острые сучки дерева превратили ее праздничную шелковую рубашку в груду лохмотьев, которые держались на теле только потому, что Семислава лежала. Оглядывая ее, Лютомер мельком отметил: да, было бы весьма досадно, если бы вместо стройных ног это прекрасное тело заканчивалось парой черных лебединых лапок-загребалок. А так все в порядке, и муж этой молодой женщины по-прежнему достоин зависти…
Мельком глянув на себя, Лютомер заметил, что его исцарапанная кожа и рваные порты не намного в лучшем состоянии. Но что одежда – главное, сами живы. Хоть жена князя Святко и принадлежала сейчас к числу его врагов, Лютомер очень не хотел бы, чтобы с ней случилось несчастье. Такую драгоценность нужно всячески оберегать.
Но у Семиславы все оказалось в порядке, не считая двух глубоких царапин от соколиных когтей на локте левой руки. Распущенные волосы, растрепанные, перепутанные, густой светло-русой волной осыпали ее всю, с немалым успехом заменяя одежду; пряди разлетелись по траве, словно брошенный ворох вычесанной льняной кудели. Или скорее шелковой. Лютомер никогда не видел шелковой пряжи, но думал, что она выглядит примерно так.
Наклонившись, он взял ее руку и осторожно лизнул царапины, по звериной привычке зализывать раны.
Женщина зашевелилась. Видимо, она с трудом приходила в себя и еще не осознавала ни своего тела, ни окружающего мира.
Лютомер помог ей перевернуться, убрал волосы с лица. Под такой грудой и задохнуться можно. Хорошо бы воды, но до реки тут неблизко…
– Уйди, волчара, – хрипло и неразборчиво шепнула она, слабой рукой пытаясь оттолкнуть его голову. – Крови моей хочешь… Чуть не погубил…
– Прости, погорячился, – легко согласился Лютомер и еще раз лизнул ее царапины. – Не бойся, не съем. Заживет даже быстрее.
Семислава попыталась приподняться, но тут же без сил снова опустилась на траву. Лютомер встал, взял свою добычу на руки понес в ту сторону, где его ждали бойники. Груда белых шелковых обрывков осталась на зеленой траве, как сброшенное лебединое оперенье.
Вскоре к опушке леса подтянулось все войско. Сам князь Святко видел битву двух птиц в рассветном небе и понимал, что его жена, потерпев поражение, осталась в руках угрянского оборотня. Но по этой же причине он побоялся немедленно вести дружину следом. От оборотня можно ожидать чего угодно, а младшая жена, красавица и мудрая волхва, была слишком дорога Святко, чтобы он решился рисковать ее жизнью и благополучием. В семье и дружине оковского князя Семиславу любили, пожалуй, все, кроме княгини Чернавы, которая видела в ней соперницу, но даже старшая волхва сейчас призывала мужа не торопиться и попробовать сперва мирные средства. Поэтому княжеская дружина и добрая половина войска, собранного для хазарского похода, стянулась к опушке леса, где таился оборотень со своей добычей, но пока ничего не предпринимала.
Князь Святко так извелся, что с большим трудом сохранял перед людьми хотя бы подобие невозмутимости. У него не шло из ума – вот сейчас, пока он топчется на опушке, словно девка в хороводе, оборотень терзает его лебедь! Нужно было отправить кого-то на поиски и переговоры. Кого?
Среднего сына, Твердяту, наконец нашли – он лежал на берегу под ивами, мокрый насквозь и без памяти. Он оказался жив, но привести его в себя пока не удавалось, и волхвы сказали, что берегини выпили из княжича почти всю силу. Еще чуть-чуть – и умер бы. Угрянская княжна Лютава, с которой Твердята начинал гулянье, исчезла без следа. Ее младшая сестра и сейчас стояла рядом с Ярко, но, судя по ее растерянному и встревоженному виду, знала обо всем этом не больше прочих.
Князь Святко уже совсем решился идти в лес сам – рисковать собой ему было легче, чем кем-то из семьи, и никому из бояр он не доверял в той же степени, как самому себе, – как вдруг за деревьями мелькнули две фигуры. Две похожие фигуры – высокие, стройные, белые, как духи березовой рощи, плоть от плоти самого леса.
Они вышли и остановились на краю опушки, и князь Святко замер в трех шагах перед ними. Толпа в безотчетном порыве подалась за ним, но Святко, не оборачиваясь, движением руки велел всем оставаться на месте. Пока судьба Семиславы не прояснилась, положение требовало крайней острожности. Если оборотень пришел сам – значит, хочет говорить. А значит, надо сначала его выслушать. Выстрелить всегда успеется – если его берет железо. Святко отчетливо понимал, что если оборотню сейчас будет причинен какой-то вред, он, князь, возможно, никогда больше не увидит свою младшую жену. Поэтому он, мельком оглянувшись, сделал всем позади свирепый знак глазами – не шевелиться, убью!
Рядом с Лютомером стояла его сестра Лютава, и всем сразу бросилось в глаза, как они похожи.
– Здравствуй, князь Святомер. – Лютомер первым поздоровался и даже слегка поклонился, как младший из двоих. – Спасибо тебе, что пришел, ждать и искать не заставил.
– Жена моя где? – в ответ спросил князь Святко. – Жива?
– Жива покуда. – Оборотень невозмутимо кивнул. – Сговоримся – получишь свою жену живой и невредимой.
– Чего ты хочешь? – с трудом сдерживая гнев и ярость, спросил князь. – Смотри, волк лесной, я за мою жену тебя…
– Не гневайся, князь Святомер, в нашем деле гнев – советчик плохой. Из нас двоих не тебе бы гневаться. Твой сын моих сестер из дома увез, за гостеприимство наше черным злом отплатил. За это предки завещали кровной местью мстить. Убил бы я тебя и сыновей твоих – перед богами и предками был бы прав. Но я крови лить не хочу. У вятичей есть враги, у угрян есть враги – незачем нам друг в друге новых врагов искать. Слушай, что я тебе скажу. Старшая моя сестра уже у меня, – он кивнул на Лютаву. – Отдай мне меньшую сестру мою, Молиславу Вершиновну, поднеси им и родичам нашим дары в искупление обиды – и разойдемся мирно, я от имени рода моего пообещаю обиды не держать и мести вам не искать больше.
– Жена моя где?
– Жену твою получишь, когда я своих сестер увезу.
Святко ответил не сразу. Его гордость противилась тому, чтобы признать себя и свой род побежденными, подносить дары, искупать вину. Ему, князю могучего племени вятичей, было стыдно склонять голову перед волком из угрянского леса. Да еще на своей собственной земле! Будь перед ним другой человек – он мигом приказал бы стрелять, убить Лютомера и бросился бы во главе дружины в лес, надеясь вырвать Семиславу из рук угрян раньше, чем те успеют причинить ей вред. Но перед ним стоял оборотень и чародей. Как знать, что он сделал с ней и какие заклятья наложил? Может быть, Семислава погибнет в тот же миг, что сам оборотень! Может, он имеет силу убить ее одним усилием мысли?
Пленение Семиславы связывало ему руки, а к тому же Лютомер был прав перед богами и предками – как честный человек, почитающий заветы, князь Святко не мог не признать этого перед самим собой. Горячий порыв Доброслава, жаждущего хоть как-то привести к покорности угрян, оборачивался против самих вятичей. Но Святко не был бы собой, если бы не попытался спасти положение.
– Послушай, варга Лютомер, – заговорил он, еще не зная толком, что хочет сказать. – Ты прав во многом, только… не годится нам так расстаться. Как враги, как звери лесные… Я ведь породниться с вами хотел. Сестер твоих взять в жены моим сыновьям, а тебе дочь мою в жены предлагаю.
– Спасибо за честь, князь Святомер, но сестер моих я домой верну, и дочери твоей мне не надо. Она и собой хороша, и родом знатна, ничего худого сказать не хочу, но хазар воевать угряне не станут. Найди ей мужа другого, а сестрам моим мужей отец наш подберет. Молинка! – Он нашел в толпе позади Святко лицо младшей сестры. – Иди сюда.
Молинка, как завороженная, среди общей тишины и неподвижности сделала шаг вперед.
И сразу двое кинулись к ней, чтобы удержать, – Ярко и Доброслав. Но если Ярко не желал с ней расставаться, то Доброслав понимал, что глупее глупого в их положении выпустить из рук единственную ныне заложницу.
– Никуда она не пойдет! – крикнул Доброслав, заступая девушке дорогу.
– Она со мной останется! – одновременно воскликнул Ярко и обнял Молинку. – Она моей женой будет. Она сама обещала!
Девушка молчала, и тогда Лютава сделала шаг вперед.
– Молинка! – окликнула она сестру. – Погляди на меня!
Сестра подняла на нее глаза и тут же опустила снова, теребя кисти нарядного пояса.
– Послушай лучше меня, варга Лютомер! – Ярко сам шагнул к опушке. – Ты не подумай, что я… Я когда княжну Молиславу увидел, так и понял: она – судьба моя, мне ее сама Макошь предназначила. И я ей тоже… – Он запнулся, оглянулся на девушку. – Она сама согласна быть моей женой.
Молинка не поднимала глаз, и на лице ее отражалось такое жаркое смущение, какого Лютава никогда у своей сестры не видела.
– Я ее всю жизнь любить буду, других жен даже не возьму, ничем ее не обижу! – горячо продолжал Ярко. – Пойми, варга Лютомер. И ты, княжна Лютава. Не невольте ее от меня уходить, ее судьба здесь, со мной. Ну, сердце мое! – Он обернулся и взял Молинку за руку: – Скажи им! Ведь я правду говорю?
– Да, – прошептала Молинка, бросив на родичей короткий взгляд.
В ее карих глазах сверкали тревога, волнение, но и глубоко спрятанная радость, и Лютомер с Лютавой, хорошо знавшие сестру, сразу поняли, что Ярко говорит чистую правду.
Изумленная Лютава переводила взгляд с Молинки на ее новоявленного жениха. Думая совсем о других вещах, она как-то сразу не сообразила, что могут означать волнение и румянец сестры. Но именно сейчас ей бросилось в глаза, что Ярогнев и Молинка похожи – оба они невысоки ростом, но крепко и ладно сложены, оба круглолицы, румяны, у обоих темно-русые волосы и пушистые черные брови, только глаза у парня голубые, а у девушки – карие. Известно, что внешнее сходство жениха и невесты, если те не в родстве, обещает счастливый брак.
– Вот у меня и колечко ее. – Ярко показал мизинец, на котором сидел серебряный перстенек Молинки – на другие пальцы он не налез. И Лютава не сомневалась, что перстень тот самый.
Не думая ни о какой опасности, она подошла почти вплотную к Молинке.
– Ты что, голубка, с ума, что ли, сошла? – в растерянности осведомилась она и слегка развела руками в знак своего полного недоумения.. – Обручилась, кольцо дала… Ни отца с матерью не спросила, со мной даже не посоветовалась! Они-то далеко, а я-то ведь здесь с тобой!
– Но когда же я советоваться буду? – Молинка подняла на нее виноватый взгляд, в котором горели волнение, раскаяние и счастье, и снова отвернулась. – Мы ведь… Вчера ведь…
– Ну и что с того? – Лютава догадывалась, что призошло. – Ты хоть понимаешь, что ты наделала?
Она не удивлялась, что молодой и красивый княжич Ярко вскружил сестре голову, чему весьма способствовало и буйство купальских игрищ, обращающих все помыслы к любви. Она ничуть не стала бы и осуждать Молинку, которая была свободна от каких-либо зароков и могла выбирать кого хочет. Но одно дело – погулять на Купале, и совсем другое – подарить перстень и пообещать выйти замуж! Именно сейчас и именно за Ярко из рода оковских князей – после того как они много раз обсуждали, как неуместны и невозможны подобные браки, ставящие род угрянских князей в зависимость от оковских!
– Ну, не ругай меня! – Молинка шагнула вперед, обняла Лютаву и прижалась лицом к ее плечу. Ее жестоко терзал разлад с сестрой, с которой они всю жизнь были так близки, но она ничего не могла поделать. – Я не виновата. Я его как увидела, то и подумала: вот он, мой муж, мне его Макошь назначила. Я сразу поняла, ты понимаешь? Не в том дело, что он парень красивый и оковским князем будет. Это неважно все. Просто, знаешь, я как глянула на него, так сразу все увидела: свадьбу, и я рядом с ним стою, и у нас руки убрусом связаны,[17] потом вижу, сижу я уже с повоем на голове, жду его, и детей вижу, знаю, это наши дети… И чувство у меня такое, будто я с ним уже всю жизнь прожила и ближе него у меня никого нет. Прямо, понимаешь, в один миг всю свою жизнь увидела, почти до смерти, и жизнь у нас с ним общая. Что же я сделаю? Это судьба, так мне Макошь напряла.
Вспоминая последние дни, проведенные с семьей оковского князя, Лютава с опозданием отмечала, что Молинка и впрямь была какая-то не такая. Даже на том вече, пока Лютава жадно прислушивалась к разговорам Святко с дружиной о предстоящем походе, Молинка переглядывалась с Ярогневом. Нет бы ей раньше это заметить!
Хотя что тут сделаешь!
– Ох, горе ты мое! – Лютава обняла сестру и похлопала по спине. – Ты понимаешь, что теперь будет? Князю Святко-то хорошо, он спорить не станет. А вот наш с тобой батюшка ох как не обрадуется!
– Чего же ему не обрадоваться? – Молинка отошла от нее и убрала с лица выбившиеся из косы тонкие пряди. – Ведь Ярко – сын прежнего князя Рудомера, Святкиного старшего брата, он – наследник оковского стола. Я буду оковской княгиней! Уж конечно, я никому не дам Угру обидеть! Чего плохого?
– Ты пойми: оковской княгиней ты когда еще станешь, а заложницу Святко от нас получит уже сейчас! Родичем нам он станет сейчас и в дела наши полезет с полным правом, как сват. Да и станешь ли ты княгиней, вот еще что! Ты думаешь, Доброслав так и мечтает Твердин брату отдать, а самому при нем всю жизнь в воеводах жить? Ничего подобного. Да еще у Семиславы того гляди свои дети родятся, уж она постарается, чтобы они Твердин получили. Не дадут они Ярогневу в оковской земле княжить. Изведут они его, да и тебя заодно.
– Отец заступится!
– А отцу надо за Твердин воевать? Мало нам своих забот! Отец надеялся, что мы ему поможем, как мужей выберем, а мы только больше ему на плечи тяжести кладем.
– Но… – Молинка не находила возражений, но и уступить не могла. – Значит, судьба моя такая! – Она грустно пожала плечами. – Коли судила нам Макошь погибнуть, значит, погибнем. От судьбы не уйдешь…
– А суженого и пешком не обойдешь, и конем не объедешь! – подхватила Лютава известную пословицу, так любимую всеми упрямыми девками. – Ну, что же теперь делать! Кольцо отдала, его назад не возьмешь. Только ты знай, что Зуша тебе не молоком в кисельных брегах потечет.
– Я не боюсь! – Молинка улыбнулась, видимо думая о Ярогневе, и лицо у нее было такое счастливое, что Лютава почти позавидовала ей, даже понимая, сколько бед и сложностей ждет ее сестру в этом замужестве. – А ты знаешь что? Если этот Твердята тоже ничего парень окажется, выходи тоже за него, будем с тобой здесь вместе! Тебя княгиня Чернава сразу полюбила, я вижу, она тебя в обиду не даст. Неужели ты, да я, да она – и не справимся? Да мы кого хочешь одолеем!
Молинка счастливо засмеялась и опять обняла сестру. Сейчас ей действительно было ничего не страшно.
– Ну, хорошо, – сказал рядом Лютомер. Он слышал всю эту беседу, а сейчас обращался к князю Святко. – Если моя сестра младшая хочет быть женой княжича Ярогнева, я воле Лады и Макоши противиться не стану. Но не годится моей сестре, как девке из лесного двора, уводом к жениху уходить. И ваш род, и наш род такое дело опозорит. Хочет княжич Ярогнев ее в жены взать – пусть по осени ваши сродники приезжают сватать, как положено, с нашим родом ряд заключают, приданое берут, а с ним и невесту. А до тех пор она в отцовском дому дожидаться должна, а не в вашем, как полонянка.
Молинка в тревоге вскинула на него глаза – она поняла, что старший брат все-таки намерен увезти ее отсюда. Но слова возражения замерли на губах – она тоже понимала, что ей мало чести войти в дом мужа без благословения собственных родичей, без прощания с чурами, без приданого. При таких условиях она будет считаться не женой, а наложницей, и ее дети будут зваться «холопкиными детьми»![18] Такой судьбы себе и своему потомству она не хотела и беспомощно оглянулась на Ярко, надеясь, что он что-то придумает.
– Нет, мы ее из дома не отпустим. – Сам князь Святко покачал головой. – Наша она, с благословения Купалы в наш род вошла, и вы на нее уже прав не имеете. А приданое – везите, мы не откажемся.
Лютомер нахмурился. Лютава оглянулась на него, в свою очередь надеясь, что брат найдет выход из такого сложного положения. Все-таки они были заперты в чужом лесу и располагали силой неизмеримо меньшей. Мало того, что они хотели вырваться из оковской земли, – еще было бы очень неплохо вывести всех своих людей невредимыми.
– Не знаешь ли ты, князь Святомер, где мой брат Хвалислав? – обратился вдруг Лютомер к оковскому князю. – Он со своими людьми, со старейшинами угрянскими, тоже в лесу был, а теперь угряне есть, его нет. Не берегини ли увели? Не знаешь?
– Знаю. – Святко кивнул. Что делать с Хвалисом, он уже успел подумать. – Твой брат Хвалислав Вершинович со старейшинами угрянскими у меня. Сговоримся с тобой добром – получишь их в целости. Не сговоримся – пеняй на себя.
Хвалислав, стоявший с Вышенем и Глядовцем поодаль, опустил глаза. Угряне понимали, что стоят на краю пропасти. Князь Святко повел себя не так, как они рассчитывали. Вместо того чтобы сразу послать дружину на стан Лютомера, расположение которого им указали, Святко пустился в какие-то переговоры, а теперь его руки связаны пленением Семиславы. Может быть, оковский князь хитрит, ловчит и тянет время, надеясь получить свою жену, а потом истребить оборотня со всеми его людьми. Но если князь Святко действительно намеревается отпустить Лютомера восвояси, то для Хвалиса и его людей это верная смерть. Оборотень не дурак и наверняка уже задал себе вопрос: кто его выдал? А кроме Хвалиса некому. Кто исчез из лесного стана еще почти засветло? Кто обнаружился рядом с вятичами? При таких условиях вернуться в Ратиславль сможет только один из сыновей Вершины. А надежды справиться с бойниками в открытом бою у Хвалиса было очень мало. Тем более что угрянские вои двадцать раз подумают, прежде чем поднять оружие на бойников. Свои как-никак, у иных ополченцев среди бойников – сыновья и младшие братья, а дело темное, и не вдруг разберешься, кто прав!
На счастье Хвалиса и его советчиков, князь Святко хотел сохранить на Угре хотя бы таких союзников.
– Твоего брата Хвалислава и людей его моя дружина в плен взяла, – продолжал оковский князь. – Вон они, погляди. Договоримся – получишь их назад и домой уведешь. Не сговоримся – останутся у меня.
– Послушай, князь Святко. – Лютомер будто в раздумье почесал подбородок. В его голове уже сложился некий замысел – безумный, но обещавший надежду на успех. – Ты вроде как говорил что-то такое… чтобы свою дочь мне в жены отдать?
– Говорил. – Святко оживился. – Несколько дочерей у меня незамужних, любую выбирай.
– Я согласен. Беру твою дочь в жены, но с условием, что она сейчас же со мной уедет.
– А Молинка? – в нетерпении выкрикнул Ярко.
– А Молинка останется. – Лютомер непроницаемым взглядом посмотрел на новоявленного зятя. – Но тогда вы нам брата и прочих угрян возвращаете в целости и отъезду моему со всеми моими людьми не препятствуете.
– Согласен. – Немного подумав, князь Святко не нашел подвоха и кивнул. Вроде бы Лютомер выразил согласие на то самое, что он ему и предлагал.
– Значит, завтра поутру снарядите нам ладьи и приведите сюда. Договоримся так: завтра при отъезде ты мне мою невесту выдашь, а жена твоя нас до Оки проводит. Брат мой Хвалислав с его людьми, что у тебя, останутся, пока княгиня к тебе не вернется. Тогда ты ее отпустишь.
– Нет, жену мою сейчас отдай! – возразил князь Святко.
– Не отдам сейчас! – Лютомер жестко качнул головой. – Я не дурак, князь Святко, и знаю, как в твоем роду иные меня любят. Я должен точно знать, что хотя бы до Оки вы за мной погоню не снарядите. Потому жена твоя со мной поедет, а я обещаю никакого зла ей не чинить и назад отпустить, как уговорено. Ты же обещай брата моего и его людей отослать восвояси невредимыми, когда жена твоя вернется. Идет уговор?
Он глянул на Святко, и оковского князя пробрала дрожь под взглядом этих узких волчьих глаз. Сам этот взгляд резал, как нож из острой серой стали, подавляя волю к сопротивлению и подчиняя себе.
– Идет, – через силу вымолвил Святко. – Ну, смотри, Лютомер. Если жена моя…
– Так ведь у тебя мой брат остается. Ну, прощай до завтра, князь Святко. Да подарки родне нашей не забудьте!
Приветственно помахав рукой, Лютомер отступил назад и скрылся в чаще.
Едва лишь стена деревьев отгородила их от опушки, Лютава вцепилась в рубаху на его груди, словно он убегал, и затрясла.
– Ты что, с ума сошел! – напустилась она на Лютомера. – Молинке Ярила голову снес, да и ты не лучше! Ты согласен ее оставить? Хочешь девку здешнюю себе взять? Да нам домой с такой добычей лучше не показываться! На хазар идти хочешь? Удаль в заднице заиграла?
Она раскраснелась, глаза сверкали гневом и недоумением, но Лютомер только засмеялся, сжал ее лицо в ладонях и несколько раз звонко поцеловал.
– Ты чего так радуешься? Будто клад нашел! Пусти! – Лютава отбивалась, думая, что он просто уходит от ответа.
– Не волнуйся, душа моя! – Лютомер крепко обнял сестру и прижал ее лицо к своей груди, усмиряя. – Все наше с нами будет. Поможет мне Велес – вернемся так, что ни отец и никто другой нас не упрекнет. Вот только что с Хвалисом делать – ума не приложу.
– Правда, что ли, эту дуру вытащишь? – глухо спросила Лютава.
– Вытащу. Сам клятву нарушу – но уж тут авось простят меня боги, оборотня лесного, бессовестного. Не для себя же стараюсь, а для чести рода, для блага племени. Как ты думаешь – можно ради чести рода своей пожертвовать?
– Можно, – без колебаний ответила Лютава. – Ради чести рода зубами можно грызть.
– Стало быть, будем грызть.
Глава 8
В полночь, когда над окрестностями Воротынца повисла тьма, из леса выскользнули две фигуры. Заметь их кто-нибудь сейчас – пустился бы бежать со всех ног, уверенный, что это берегини бродят, выискивая неосторожных. Вернее, берегиня на пару с лешим.
Небо затянули тучи, не пуская к земле свет луны и звезд, и только черная громада леса слегка выделялась на фоне неба. Дороги под ногами Лютава совершенно не видела и крепко держалась за руку Лютомера. Хорошо, что он сам знал, куда идти, – святилище Марены он приметил еще вчера.
В святилище все давно спали. На счастье ночных гостей, обычая запирать ворота на ночь тут не имели – впрочем, Лютомера и засов не остановил бы, но пришлось бы терять на это время. Сейчас же две тени почти бесшумно просочились во двор.
– Она вон там, – шепнула Лютава, потянула брата за руку и кивнула в сторону одной из землянок, где жили жрицы. – Только и княгиня Чернава тоже там, вот ее бы нам не разбудить.
– Если спит, то не разбудим, – шепнул Лютомер. – Погоди пока.
Неслышно приблизившись к землянке, где две его сестры прожили несколько дней, он принюхался.
– По-моему, ее тут нет, – шепнул он, обернувшись к Лютаве. – След старый. С прошлой ночи она здесь не была.
– Значит, в городе. – Лютава вздохнула. Впрочем, они приготовились к тому, что после всего произошедшего князь Святко не оставит больше Молинку в святилище, за пределами городских стен, и заберет в Воротынец, под охрану. – А Семьюшка?
– Я ее запаха не знаю. Если там девок несколько, придется тебе смотреть. Обожди, я погляжу, что там.
Лютомер осторожно потянул дверь полуземлянки. Та открылась с легким скрипом, и Лютомер мгновенно проскользнул внутрь. Прикрыв за собой дверь, он немного постоял неподвижно, прислушиваясь. Никто не проснулся, в полуземлянке раздавалось дыхание трех… четырех спящих женщин. Даже в полной темноте, принюхавшись, он определил, что на широкой лавке за печью спит княгиня Чернава, на полатях справа и слева две незнакомые женщины средних лет. Видимо, жрица Жарина и волхва Родима, о них рассказывала Лютава.
А вот на другой лавке, под окошком, определенно находилась молодая девушка. Должна быть Семьюшка – больше некому. Обостренное чутье оборотня помогало Лютомеру разбираться даже тогда, когда обычное зрение и слух не могли помочь. Вот и хорошо. Если бы девушек тут оказалось две или больше, пришлось бы зажигать лучину, предварительно усыпив обитательниц полуземлянки покрепче, и приглашать Лютаву смотреть, которая из девушек обещанная ему невеста. А светить лучиной в их положении вдвойне опасно – княгиня Чернава может и проснуться. Старшая волхва слишком сильна, чтобы даже он, оборотень, мог достаточно надежно ее усыпить.
Жаль все-таки, что Молинку отсюда забрали. Если бы она была здесь же, где они с Лютавой проводили прежние ночи, он завершил бы свою ворожбу прямо сейчас и завтра только пожинал плоды. Но раз Семьюшка и Молинка находятся в разных местах, дело усложняется.
Подойдя к лежанке, он еще раз принюхался. Слабые-слабые следы именно этого запаха он улавливал на рубашке и волосах Лютавы – ведь она несколько дней прожила бок о бок с Семьюшкой.
Значит, это она. Лютомер поднял руки над лежащей девушкой, стараясь слиться с ее духом, чтобы получить возможность им управлять. Затем вызвал в памяти образ Молинки и начал работу. Он сам едва ли смог бы объяснить, как он это делает. Но чары сплетались, ткали новый образ, а кончик ниточки оставался в руках Лютомера – чтобы потянуть за него, когда придет время, и затянуть петлю ворожбы.
Лютава вся извелась от нетерпения, когда Лютомер наконец показался из землянки.
– Все хорошо, – шепнул он. – Дева там только одна.
– Все-таки лучше бы ты позвал меня, – возбужденно шептала Лютава. Ее колотила дрожь от волнения – уж слишком сложным ей показался замысел брата, но он, надо признать, единственный давал надежду расстаться с землей вятичей без потерь. – А то мало ли какая там дева? Вдруг Святко Семьюшку тоже в город забрал?
– Куда он ее от матери заберет, когда ей завтра замуж ехать? А княгиня здесь, я ее днем видел.
Днем Лютомер уже посещал святилище – в облике сокола, и видел княгиню Чернаву – старшую жрицу было несложно узнать по одежде и всему облику, который ему описывала сестра.
Так же бесшумно две тени выскользнули из святилища и закрыли воротную створку. Хорошо, что на эту ночь князь Святко уже не ставил здесь дозорный десяток – кого теперь охранять-то? Может быть, Семислава могла бы угадать замысел оборотня, но Семислава спала сейчас на поляне, в шалаше из елового лапника, под охраной бойников. Пользуясь тем, что вчерашние ночные приключения оставили ее без сил, Лютомер зачаровал молодую княгиню и погрузил в глубокий сон.
– Возвращайся, – шепнул он Лютаве. – Дорогу найдешь?
– На ощупь разве что.
– Ну, хочешь, посиди на опушке, обожди меня.
– Я здесь посижу. На опушке ты меня не найдешь.
– Найду. – Лютомер усмехнулся. – Но ты правда лучше тут жди, а то еще споткнешься во тьме о корягу какую-нибудь, придется мне тебя на руках уносить. На вот, посторожи заодно.
С этими словами он расстегнул пояс, сбросил его на землю и стал развязывать оборы.
– Что – не понесешь меня на руках? – с намеком на ревность уточнила Лютава, глядя, как он раздевается. – Только лебедь эту теперь носить будешь?
– Да ну тебя! – весело ответил Лютомер. Сняв рубаху, он повесил ее на плечо Лютавы, быстро притянул сестру к себе и поцеловал.
А про себя отметил, что ее не проведешь и она видит все, что с ним происходит, так же хорошо, как и он сам. Если не лучше. Близость Семиславы не давала ему покоя, и возвращать ее мужу он не имел ни малейшего желания. Но сначала дело, остальное потом.
Оставив на земле всю свою одежду, Лютомер распустил волосы, чтобы ничто не мешало и не сковывало, – ему предстояли нешуточные испытания всех сил тела и духа. Лютава уселась на бревнышко, которое притащили для себя кмети Колосохи, а Лютомер склонился к земле, собрался – и в воздух взмыл сокол. Лютава невольно закрыла лицо руками, защищаясь от впышки неземной силы, сопровождавшей превращение. Когда она открыла глаза, никого уже не было видно. Где-то над головой сокол набирал высоту, осваиваясь с новым обликом.
Промчавшись над луговиной, сокол пролетел над рвом, валом и частоколом твердинских укреплений, мельком заметив на забороле железные шлемы дозорных. Угрян ли опасался князь Святко или кого другого, но город охраняли на совесть.
Внизу в глаза бросилось огненное пятно – на площадке позади ворот горел костер для дозорных. Освещал он только ближайший пятачок, но колдовской птице глухая тьма не мешала. Сделав круг над городом, сокол осмотрел в беспорядке разбросанные избенки и полуземлянки и выбрал взглядом воеводский двор – несколько более крупных строений, стоявших поодаль от прочих. Со слов Лютавы он знал, где искать.
Неслышно снизившись, сокол над самой землей крутанулся в воздухе и пал на землю на четыре волчьих лапы. На его счастье, в городке не оказалось собак, в летнее время обитавших вместе с пастухами на пастбищах. А люди, кроме дозорных на стене, спали, и некому было увидеть зверя, бесшумно скользившего между построек.
Припадая к земле, волк принюхивался, выискивая среди десятков человеческих запахов те два, которые ему нужны. Запах Молинки, отлично знакомый, он нашел и выделил легко. Она находилась вот здесь, в жилище воеводы Дедоги. О том, что для оборотня и городские стены не преграда, князь Святко не подумал.
Припав к земле, волк тут же выпрямился человеком. Прежде чем идти дальше, Лютомер некоторое время постоял, отдыхая, – в эту ночь ему пришлось слишком часто менять обличье, и он устал, несмотря на то что сейчас, пока вокруг еще кипели силы высшей точки года, любая ворожба давалась легче. В другое время он не вынес бы – из человека в сокола, из сокола в волка, из волка в человека… И это еще не конец, потому что покинуть город в человеческом обличии вряд ли удастся.
Стирая пот со лба, он проверил, на месте ли волосок Семьюшки. Все в порядке – длинный тонкий волос, светлый и золотистый, был по-прежнему обмотан вокруг пальца. Можно идти.
Лютомер легонько толкнул дверь, и та раскрылась с легким скрипом. От кого воеводе запираться-то, за городскими стенами? А и случись что – тут войско и княжеская дружина кругом, только закричи. На появление оборотня, способного проскользнуть, как тень, между вздохами и мгновениями, воротынский воевода не рассчитывал.
Многочисленным домочадцам воеводы пришлось потесниться, чтобы найти место для гостьи. Сам хозяин с женой спал на лежанке за занавеской, полати заняли сыновья и еще какие-то парни, старуха похрапывала прямо на земле, но даже не шелохнулась, когда легкая босая нога оборотня неслышно опустилась на земляной пол возле ее головы. Целью его была широкая лавка под окошком, где лежали, прижавшись друг другу из-за тесноты, три молодых девушки. Вернее, две девушки, одна девочка-подросток, лет двенадцати, едва созревшая. Но здесь Лютомеру не требовался ни свет, ни чужая помощь, чтобы просто по запаху отличить одну из своих сестер от чужой девушки. Молинка – в самой середине. Просватанной невесте положено спать между сестрами, чтобы не добрался до нее Змей Летучий, охотник до тоскующих дев… Но князь Святко, устроивший Молинку сюда, хотел уберечь ее совсем от другой опасности. Не вышло.
Пробравшись вплотную к лежанке, Лютомер положил руку на голову спящей Молинки и быстро погрузил ее в более глубокий сон, точно втолкнул в темную воду. Потом размотал с пальца волосок Семьюшки и вплел его в косу сестры. Волосок самой Молинки, к счастью, Лютава нашла на рукаве своей рубахи, тем самым избавив брата от необходимости ходить туда-сюда.
Уже вскоре он так же неслышно выскользнул из воеводского жилья и прикрыл за собой дверь. Теперь только вернуться в лес и выспаться до утра, чтобы набраться сил перед завтрашним днем.
Присев, Лютомер сжался в комок, обняв колени, собрал остатки сил… и прямо с земли в воздух взмыл сокол. Только бы стену перелететь – а там уже в лесу, считай, что дома.
Добравшись до ворот святилища, где его в тревоге и нетерпении ждала Лютава, Лютомер почти рухнул, не в силах приземлиться как следует, и прокатился по траве. Сестра кинулась к нему, а он, лежа неподвижно, пытался осознать себя и понять, не оставил ли себе «на память» левое крыло вместо руки или когтистые лапы вместо ног.
Нет, вроде обошлось. Слава Велесу. Лютава помогла ему встать, но всю дорогу через луговину и лес Лютомер шел, пошатываясь, и опирался на нее. К счастью, из-за облаков вышла яркая луна, и обратную дорогу Лютава нашла без особого труда.
Несколько бойников, несших дозор, не спали и сразу вышли им навстречу. Лютомер рухнул у костра на расстеленный плащ, не в силах даже одеться; Лютава накрыла его другим плащом, гневно отмахнулась от комаров, жаждущих хмельной оборотневой крови, и села рядом.
– Ну, что? – Дедила вопросительно двинул бровями.
– Все путем. Она как? – Лютава показала глазами на шалаш, где спала Семислава.
– Тоже ничего. Я заглядывал недавно, как Хортимку сменил, – спит ваша лебедь. А что, – Дедила нерешительно глянул на Лютомер, который, похоже, уже спал, – правда, что мы ее с собой возьмем? Ребята говорят…
– Неправда, – решительно ответила Лютава. Брать княгиню-лебедь с собой на Угру она не хотела по многим причинам. – Она нас проводит несколько дней, а с Оки назад отправим. А что? Нравится?
– Дева красивая, – с уважением и завистью протянул Дедила. – У нас таких и нету… Ну, ты разве что.
Лютомер проснулся на рассвете, чувствуя себя если не полным сил, то вполне готовым к дальнейшим подвигам. Лютава спала рядом, привалившись к его боку и съежившись. Бережан отчаянно зевал, сидя у затухшего костра с копьем на коленях. Перед шалашом Семиславы спал Милята, вытянувшись и загораживая вход.
Накрыв сестру своим плащом, Лютомер заглянул в шалаш – Семислава лежала, завернувшись в чью-то овчину, и все еще спала. И хорошо – ей вообще лучше в ближайшие три дня не просыпаться.
Сходив к реке окунуться, Лютомер оделся и стал искать гребень. Не найдя свой, он стал отвязывать гребень от пояса Лютавы, и она проснулась.
– Прихорашиваешься? – спросила она, подавляя зевок и глядя, как брат запускает гребень в свои густые, изрядно перепутанные волосы. – Дай я тебя причешу, а то зря зубья поломаешь.
– Причеши. – Лютомер подал ей гребень, сел рядом и наклонил голову. – Я ведь сегодня жених как-никак.
– Жених… – проворчала Лютава, ловко разбирая пальцами спутанные пряди. – Обманщик ты бессовестный.
– Сама говорила – ради чести рода можно зубами грызть. Чего цепляешься? Вместе же придумывали.
– Это я не выспалась просто. И есть хочу. У нас осталось что-нибудь?
– А вот сейчас Худота сети выберет – может, и будет.
Худота и Бережан вернулись с реки с уловом, Негожа из Дедилиного десятка тащил за ними котел, полный воды, Чуженя разводил огонь. Старшие бойники, свободные от мелких хозяйственных дел, потягивались, оправляли рубахи, ерошили волосы.
– Умываться давай, что, Зубашка, глаза трешь? – покрикивал Чащоба.
– Я онучи перемотал – считай, умылся, – ухмылялся Зубак, рослый, некрасивый, но весьма бойкий парень.
– Я тебе перемотаю! Эта шутка старше Перунова дуба, мне уже не смешно. А ну давай, а не то поленом в воду загоню!
Все было как всегда – что в походе, что дома в Варге. Но бойники нет-нет да поглядывали на шалаш, где спала пленница, и все помнили, что сегодня у них очень сложный день. Если не повезет, то для многих, если не для всех, он станет последним на белом свете. Но переживать за свою жизнь и бояться смерти среди бойников вообще не принято – каждый из «волков» приходит в лес, чтобы научиться всегдашней готовности погибнуть, унося с собой врагов. И каждый из этих зевающих и зубоскалящих парней был настоящим бойцом, и даже пятнадцатилетний Чуженя смог бы одолеть в бою троих более взрослых, но хуже подготовленных противников. А еще они верили в силу и удачу своего вожака. Без этого вообще никак.
Сам Лютомер был уже готов, – в самой лучшей из прихваченных с собой рубах, с серебром на поясе, с оборами из цветной тесьмы, с тесьмой на расчесанных волосах, он и впрямь выглядел женихом.
Из своего шалаша выползла Семислава. Ее рубашка так и лежала где-то в лесу грудой мятых лоскутов, и княгине пришлось надеть запасную рубаху Лютомера, тоже вывернув ее наизнанку. Таким образом, она стала как бы своей противоположностью, то есть из мужской превратилась в женскую. Есть много таких хитростей, позволяющих обойти разные установления, которые нельзя нарушать, но очень надо. Благодаря высокому росту Лютомера его рубаха была Семиславе ниже колен, и все-таки бойники против воли косились на ее стройные белые ноги. Лютава могла бы одолжить ей одну из своих, привезенных Лютомером из дома, но на свою рубашку ему было легче накладывать чары.
Волосы Семислава кое-как заплела и повязала голову простым полотенцем – светить волосами при посторонних замужней женщине еще более неприлично, чем голыми ногами. Этот обычай шел еще из тех времен, когда любая женщина, взятая в жены со стороны, из чужого рода, считалась опасной. А в волосах заключена ее чародейная сила, способная испортить род, принявший ее. Оттого женщина обязана закрывать волосы – как воин в дружественном доме обязан держать оружие в ножнах. Из тех же времен шел запрет жене называть мужа по имени – вроде как она его не знает и потому не может через имя сглазить человека. Муж и все его домочадцы должны называть женщину также не по имени, а как-то иначе – по мужу или хотя бы по отцу. Отчасти запрет смягчался для жриц, родовые священные имена которых служили оберегами сами по себе.
– Здравствуй, матушка! – весело приветствовла ее Лютава. – Сходи-ка умойся, да завтракать будем.
Семислава растерянно оглядела поляну, суетящихся бойников, дымящийся черный котел над огнем, рослую фигуру Лютомера, наблюдавшего за ней. После всех приключений и наведенного сна она еще плохо соображала, что происходит. И это пришлось очень кстати. Необходимость следить за княгиней-лебедью и не дать ей нарушить все замыслы, и без того сложные, заметно прибавляла трудностей детям волхвы Семилады. Вместе со своей рубахой Лютомер надел на пленницу сложное плетение чар, не дающее ее силам развернуться, и Семислава не могла избавиться от одежды без его разрешения. То есть это он ей запретил, но не мог быть уверен, что она не сумеет нарушить запрет. Ведь как она прежде не знала его, так и он не знал ее и не мог судить, где предел ее сил и способностей.
На реку умываться ее проводила Лютава, но Семислава не собиралась никуда бежать. Все ее движения были неуверенными, взгляд рассеянным. Зайдя в воду по колено, она долго терла щеки, намочила подол, но ничего не заметила.
– Как я князю на глаза покажусь – в таком виде, – бормотала она, пытаясь в тихой маленькой заводи рассмотреть свое лицо.
Любоваться и впрямь было пока нечем – бледная, с кругами под глазами, с царапиной на брови и ссадиной на щеке, с висящими из-под полотенца спутанными прядями, она мало напоминала ту красавицу, которой восхищался весь Воротынец. Даже рубашка Лютомера, слишком короткая и притом широкая, придавала стройной княгине довольно нелепый вид.
– А рубашка моя куда делась? – спосила она, хмурясь и пытаясь что-то вспомнить.
– Порвалась на лоскутки. – Лютава усмехнулась. – Хочешь, покажу?
– Что про меня князь подумает? – Судьба рубахи Семиславу волновала мало. – Ушла в лес к чужому мужику да без рубахи вернулась… И главное, не помню ничего…
– Это жаль! – смеясь, протянула Лютава. – А ведь было что вспомнить!
– А ты никак знаешь? – с намеком отозвалась Семислава, которую, видно, чары не совсем лишили прежней остроты. – Ведь меня ищут, наверное?
– Уже нет.
– Как – нет? – Семислава недоверчиво посмотрела на нее. – Или вы им сказали, что я… умерла?
– Зачем такие страсти? – Лютава усмехнулась. – Сказали, что ты мужа старого разлюбила и хочешь теперь быть женой брата моего.
– И мой муж поверил? И он смирился, что я…
Семислава смотрела на нее в таком изумлении, что Лютаве даже стало немного стыдно своих шуток.
– Ты с нами до Оки поедешь, – наконец пояснила она.
Душа Семиславы была связана и пленена, поэтому Лютава ее жалела. Она не питала к молодой оковской княгине никаких злобных чувств, а бледная, слабая и растерянная Семислава внушала ей сочувствие. Но Лютаву наполняло радостью и торжеством сознание, что ее брат сумел-таки поймать эту белую лебедь, перехитрил самую хитрую, перемудрил самую мудрую! Как в старинных песнях, где состязаются в силе и умениях два чародея – мужчина и женщина. И хотя мать объясняла ей еще в отрочестве, что песни эти, оканчивающиеся победой, разумеется мужчины, сложили волхвы еще в те времена, когда отнимали у древних жриц и чародеек их права и полномочия, утверждая власть мужчины как на земле, так и на небе, Лютаве всегда было обидно это слушать. Но сейчас она радовалась торжеству своего брата и чувствовала даже себя саму причастной к его успеху.
– До Оки? – изумленно повторила Семислава. – Зачем?
– В залог. Потом отпустим… если дурить не станешь.
Они вернулись на поляну, где бойники уже сидели вокруг котла с мисками на коленях. Для женщин приготовили одну миску на двоих, и Хортомил, успевший съесть свою долю, поспешно обтер ложку о подол и протянул Лютаве.
– Кушай, матушка. – Она передала ложку Семиславе. – Сил набирайся.
– Ты правда хочешь взять меня с собой? – Безотчетно взяв ложку, Семислава обратилась к Лютомеру.
– Правда. – Он невозмутимо кивнул, внимательно осматривая женщину. Было видно, что она отчаянно старается сбросить оцепенение, взять себя в руки, но все ее попытки разбиваются о стену его чар и дух снова падает, как птица с подрезанными крыльями. – Уговор у нас такой с твоим мужем.
– До Оки?
– До Оки. Ты пойми, лебедь белая. Будешь ерепениться – я тебя совсем усыплю, будешь спать три дня и три ночи беспробудно. А выдержу ли я три ночи рядом с такой красоткой, что спит очарованным сном, – не уверен. – Лютомер усмехнулся, и бойники вокруг принялись ухмыляться.
Лютава фыркнула, Семислава отвела глаза и попыталась засунуть под край полотенца выбившуюся прядь.
– Я не буду, – тихо пообещала она. – Уж поймал ты меня, сокол ясный, теперь я вроде как в твоей власти.
Видимо, она понимала, что с ней произошло.
Посланные на разведку к опушке отроки вернулись и доложили, что ладьи приведены к луговине и сам князь Святко уже ждет, в сопровождении всех сродников и дружины.
Свернув стан, бойники и Ратиславичи выступили из леса. Семислава шла в гуще бойников, рядом с Лютавой, завернувшись в длинный шерстяной плащ кого-то из парней, чтобы не бросалось в глаза, во что она одета. Сам Лютомер, красивый, нарядный и гордый, шагал впереди с самым уверенным и победным видом.
На луговине возле реки их и впрямь ждала уже целая толпа. Здесь был князь Святко с сыновьями, бояре, кмети. Княгиня Чернава привела дочь, покрытую белым шелковым покрывалом, как положено невесте, уезжающей из дома. Молинка стояла возле Ярко, и жених держал ее за руку. Поодаль топтался Хвалис со своими друзьями – Толигой, Вышенем, Глядовцем и Миловитом. У всех четверых вид был невеселый, а у Вышеня даже злобный. Только глянув на него, Лютомер сообразил, кому принадлежала вся эта задумка.
– От мара его заешь! – бормотнул он, отводя от Хвалиса рассерженный взгляд. – Может, бросить его тут к лешим, на кой он мне в Ратиславле сдался?
– Что ты? – Лютава обернулась к нему.
– Ничего. Ждите здесь.
И Лютомер в одиночестве пошел к вятичам.
– Здравствуй, князь Святко, и домочадцам твоим поклон! – весело говорил он. – Вот и мы, прости, если ждать заставили. Все ли готово?
– Все готово. – Святко кивнул. Он не улыбался, вид имел утомленный после напряженных ночных раздумий, но держался спокойно. – Вот твоя невеста, а там, в ладье, и приданое. Хотел еще скотиной дать, но ты же с собой не повезешь – после пришлю, как торговые люди в вашу сторону поедут. Ну, выходи!
Он сделал знак, и княгиня Чернава подвела к нему Семьюшку. Девушку было почти не видно из-под большого покрывала, оставлявшего на виду только новые кожаные башмачки с красивыми красными ремешками.
– Подожди, князь Святко, дай я с сестрой попрощаюсь, – сказал Лютомер и повернулся к Молинке.
Он уже настроился на то, что придется пойти на обман и нарушение клятв, но хотел сделать обман поменьше.
Молинка, тревожно оглядываясь на Ярко, подошла. Вид у нее тоже был усталый и растерянный. На ее душе тяжким грузом лежали наведенные ночью чары, но она об этом не догадывалась, потому что вобще соображала очень плохо и едва осознавала, где находится и что делает.
Лютомер стоял рядом с Чернавой и Семьюшкой, и Молинка тоже подошла к ним. Лютомер обнял ее, прижал голову сестры к плечу, склонился, словно шептал ей на ухо какие-то слова прощания… и потянул за невидимую ниточку своей ночной ворожбы.
Когда он разомкнул объятия, перед ним стояла девушка, спрятанная под покрывалом невесты. Молинка оказалась рядом с княгиней Чернавой. А каждый, кто стоял поблизости, вздрогнул: у каждого осталось такое чувство, что он на миг заснул с открытыми глазами, выпал из действительности и что-то пропустил… Что? В памяти о ближайшем прошлом, о том, что было вот только что, у всех оказался маленький, но неприятный провал.
– Вручаю тебе дочь мою, чтобы стала она твоей женой! – заговорил князь Святко, с усилием стряхнув мгновенную растерянность. Он взял руку той девушки, что пряталась под покрывалом, и вручил ее Лютомеру. – Пусть благословит вас Лада, пусть даст вам Ярила столько сынков и дочек, сколько на небе звездочек, и пусть хранит очаг ваш Мать Макошь!
– Беру я девицу эту и обещаю оберегать, ни в чем не обижать. – Лютомер взял руку девушки и поклонился.
Настоящую свадьбу и введение новой жены в род можно было провести только дома, в Ратиславле, возле родового очага. А сначала жениху предстояло вернуться в род самому, порвав связи с лесным братством бойников. Здесь и сейчас князь Святко мог только передать девушку жениху, объявив при свидетелях, что род отпускает и благословляет ее.
Сделав знак бойникам, Лютомер повел девушку на ладью. Князь Святко бросился к жене, и Лютомер, обернувшись, замер.
– Ладушка моя, как же я стосковался, – быстро шептал жене Святко. – Прости меня, дурака, что в лес тебя отпустил к волкам этим. Что он – ничего… тебе не сделал? – Князь даже не хотел говорить вслух о том, что его тревожило. – А то я сейчас ребятам махну – вмиг его стрелами утыкают, и дружину его!
– Нет, нет! – испуганно шепнула Семислава. – Что ты, батюшка, меня погубишь! Он мой волос взял, над ним ворожил – теперь моя жизнь с его жизнью тем волосом связана. Если он умрет – и я в тот же миг умру! Не погуби! И сам не трогай, и людям не давай – иначе не увидишь меня больше!
– Ну, ладно, ладно! – торопливо согласился испуганный князь, подозревавший нечто в этом роде. – Все, как уговорено, так и будет. Прости меня, лебедь моя белая! Лучше бы я сам к нему в залог пошел!
– Отец, позволь, я в залог пойду! – словно услышав его, воскликнул Ярко. – Куда же ты жену с чужими людьми отпускаешь? Я пойду! Возьми меня лучше с собой, Лютомер Вершинович. – Он повернулся к угрянам. – Я – будущий князь оковский, где тебе лучше заложника найти? А и ты зятя не обидишь – вот и разойдемся мирно.
– Нет. – Лютомер, имевший свои причины не соглашаться на подобные замены, резко мотнул головой. – Как уговорились, так и будет. А если захочешь обмануть меня, князь Святко, – и жены твоей живой не увидишь!
– Ладно, ладно, – буркнул князь, в душе которого гнев и досада из-за своего бессилия мешались с настоящим страхом за Семиславу. – Больно ты грозен, Велесов сын. На мою голову навязался, теперь не знаю, как избыть такое чудо!
Лютомер ждал, и Семислава, освободившись из объятий мужа, покорно пошла к ладьям.
Девушка с лицом Молинки осталась стоять на берегу среди Святкиных домочадцев, растерянная и безучастная. Ярко обнял ее, понимая, как тяжело его невесте расставаться с родными, но она даже не глянула на него.
– Что ты, душа моя? – шепнул Ярко. – Все сладится, не тревожься. И тебе приданое пришлют, нам свадьбу справят, вокруг очага обведут и нам детишек пожелают столько, сколько на небе звездочек!
– Да, – рассеянно отозвалась девушка. – Устала я что-то. В голове туман. Полежать бы мне…
Словно забыв о женихе, она двинулась прочь, но пошла не к Воротынцу, а к святлищу. Видимо, забыла, что живет уже не здесь, но никто не стал ее останавливать. Даже подозрительный Доброслав не думал, что угряне вернутся за ней теперь, и прятать ее за стенами города больше не требовалось.
Ладьи быстро удалялись от Воротынца, уносимые течением. Среди мужчин виднелись три женщины – Лютава, Семислава, все в том же чужом плаще на плечах, и девушка, спрятанная под покрывалом невесты, лица которой никто не должен видеть теперь аж до самого свадебного обряда в Ратиславле.
Княгиня Чернава проводила глазами ладьи, потом обернулась и посмотрела вслед девушке, которая брела в сторону святилища, иногда спотыкаясь и пошатываясь, но не сбиваясь с пути – словно во сне по привычной дороге. Ворожба угрянского оборотня не прошла мимо внимания старшей волхвы – она ощутила, что Лютомер произвел какие-то действия и вмешал в происходящее чары, о которых у него с князем Святко уговора не было. Но точное предчувствие удерживало ее от того, чтобы немедленно разоблачить обман. Кое в чем ее желания расходились со Святкиными – и действия оборотня служили, пожалуй, к ее пользе.
Воротынец давно скрылся за поворотом реки, солнце поднялось высоко, стало жарко.
– Не упарилась там? – Лютава подняла край белого покрывала и заглянула под него. – Вылазь, нечего уж прятаться. Пусть хоть ветерком тебя обдует.
– Сглазят, – напомнила Семислава.
– Эту – не сглазят! – уверенно возразила Лютава и сняла покрывало.
Перед Семиславой очутилась Семьюшка – но какая-то не такая. В глазах рябило, когда княгиня смотрела на сестеру, в воздухе вокруг нее дрожало и ходило марево ворожбы, но сама Семислава сейчас была не в том состоянии, чтобы разобраться, в чем тут дело.
– Покрывало ей ни к чему – ее от сглазу чужое лицо бережет! – Лютава усмехнулась. – Еще три дня ей так ходить.
Первый день пути прошел спокойно, и вечером угряне устроились на берегу ночевать. Лютомер предпочитал не связываться с гостеприимством чужих людей, а теплое время года и не гнало под крышу. Для женщин сделали шалаш из елового лапника, бойники и угрянские вои разместились прямо на земле, завернувшись в плащи и набросав в костры влажной травы, чтобы дымило и отгоняло комаров. После еды Лютомер положил руку на лоб Семиславы – и она тут же мягко опустилась на траву, ровно задышала во сне.
Подняв пленницу на руки, Лютомер сам уложил ее в шалаше и устроился рядом. Он знал, что ни один дозорный не позволит себе даже на миг задремать – все хорошо понимали опасность своего положения. Но все же Семиславу хотелось держать поближе к себе – сейчас эта молодая женщина была одним на всех щитом, заслонявшим угрян от нападения из темноты. Ее видимой покорности он не доверял, понимая, что белая лебедь не так проста. Чуть раньше или чуть позже она найдет способ вырваться из плена его чар – сама или с чьей-то помощью. Поэтому он заставлял ее спать как можно дольше, чтобы не дать времени думать. Но и пока она спала, ему приходилось дремать вполглаза и следить, куда направляется дух ее во сне. У Семиславы ведь тоже есть дух-покровитель, которого она может призвать на помощь.
Почти в том же состоянии ему приходилось поддерживать и Молинку – но за сестрой следила Лютава. И возможностями, да и волей к свободе Молинка значительно уступала оковской княгине, и Лютава могла с ней справиться сама. Конечно, со временем, когда наведенный облик спадет и сестра придет в себя, слез и упреков не избежать. Но хотя бы не сейчас, пока не миновала угроза погони. Сейчас Молинка тоже спала, завалившись в дальний угол шалаша, и, наверное, видела во сне своего жениха. Еще не понимая толком, что разлучена с ним надолго, если не навсегда.
Лютава на четвереньках заползла в шалаш, окинула его взглядом, выискивая себе местечко. Лютомер подвинулся, пропуская ее к себе за спину. Лютава повозилась, подтыкая плащ со всех сторон, – сейчас было просто свежо, а к утру станет холодно.
– Хорошо тебе, – с завистью шепнула она. – Такими красотками обложился. Небось вспотеешь. А мы мерзни…
– А вам кто мешает? Или парней горячих мало? Иди, забейся к Хортиле под бочок, он только рад будет. И не он один.
– Да ну их…
– Я знаешь, что подумал? – шепотом продолжал Лютомер. – Давай обратно менять их не будем. Ведь это Хвалис нас выдал, он хотел на нас вятичей навести, да что-то не срослось. Зачем он нам нужен? Видно, хочет от меня избавиться и у отца старшим сыном остаться. А Вышень со своими ему помогает.
– Да Вышень его и научил! Где ему самому такое придумать!
– Вот пусть и остаются. А лебедь с собой заберем.
– Понравилось тебе, видно, спать рядом с ней? – язвительно шепнула Лютава. Она не так чтобы всерьез ревновала родного брата к другим женщинам, но была уверена, что этот его выбор крайне неудачен, ибо грозит тысячей разных сложностей и бед.
– Не без этого, – согласился Лютомер. – Правда, надо же и мне когда-нибудь в люди возвращаться, а то вон Хвалис решил, что я не приду никогда, и в князья нацелился сесть. А возвращаться – жениться надо. А где я лучше найду? Это же Лада настоящая.
– Да ты что, братец, не шутя хочешь ее за себя взять? – Лютава приподнялась и даже выпуталась из плаща, в который с таким тщанием куталась, чтобы хотя бы сверху, сквозь густую тьму, заглянуть ему в лицо. – Я думала, ты так просто, языком болтаешь. Ты хочешь ее взять?
– Ну… Может, не сейчас еще…
– Ты хуже Молинки! – напустилась на него Лютава. – Она от любви последний ум потеряла, и ты туда же! Она-то ладно – девка, что с нее взять! Но ты! Не соображаешь?
– Да погоди ты! – Лютомер сел, повернулся к ней и крепко схватил за руку, чтобы подчинить и заставить выслушать. Он думал, что она ревнует. – Я же не сейчас! Когда твой… Твоего…
Она его поняла: он хотел сказать, что, когда дух-покровитель укажет ей мужа, Лютомеру ничто не будет мешать взять жену. Но он давно уже решил, что его женитьба состоится только после ее замужества – не раньше. Знакомство с Семиславой чуть не поколебало его решимость, но он сам понимал: в Варге Семиславе нет места, а уйти из Варги, оставив там Лютаву, он не сможет.
– Ну, пусть в Ратиславле поживет пока, – продолжал он. – А там, как твой ясный сокол объявится…
– Да я не об этом! – шипела Лютава. – Ну, братец, нашел ты себе Ладу! Семь лет выбирал, так уж выбрал!
– А что, не нравится она тебе? Она вроде дева не злая. Полюбит меня – уживемся. А ведь все при ней – и красавица, и род какой, и волхва! А вдруг тебя далеко увезут – кто у нас после стрыйки Молигневы старшей будет? Володара?
– Да это же война с вятичами, и не через год, а сейчас! Святко за нее зубами в горло вцепится – даже тебе! Сам видел – он аж трясется, как о ней думает, даже про хазар забыл! Если она через шесть дней в Воротынце не будет, он все свое войско, что на хазар приготовил, на Угру поведет! Вот чтоб мне провалиться! Нет, братец любезный! Если ты всей Угре погибели немедленной не желаешь, ты этого не сделаешь!
Лютомер молчал, признавая справедливость ее слов.
– Ну, если кровь бурлит, ярь играет, ладно уж, потешься, пока можно, – буркнула Лютава. Она понимала, что влечение Лютомера к Семиславе – вина не столько его, сколько самого Велеса, и считала, что чем быстрее его желания будут удовлетворены, тем быстрее он успокоится. – Молинка спит, а я выйду пока, с дозором посижу, сказку им расскажу, чтоб не заснули. Что – идти?
– Лежи, – подавляя вздох, ответил Лютомер. – Что же я, совсем леший бессовестный? Доброслав ведь тебя не тронул… Если бы тронул, я бы ему горло вырвал, но не тронул же! И сам Святко тоже. Если я теперь ее трону, то и буду тот гад лесной, которым меня считают.
– А Молинка?
– А она сама хотела.
– Эта, по-моему, тоже не прочь от тебя, – намекнула Лютава, которая все эти дни замечала в глазах Семиславы, устремленных на Лютомера, чувства, весьма далекие от ненависти.
– Так не спросишь – спит она. И сама себя не помнит сейчас. Потом опомнится, обидится, проклянет еще – так что и мне мало не покажется. Не могу же я ее всю жизнь под чарами держать.
– Ну что я тебя, уговаривать, что ли, буду? – пробормотала Лютава и вспомнила: – Как будто мне война со Святкой очень нужна! Сплю и вижу… Да, и Хвалиса там оставлять глупо! Я бы тоже это сокровище век не видела, но если его Святке оставить – на Угру он пойдет в первых рядах! Тогда уж точно все выйдет, как он задумал, – Святко и тебя погубит, и род наш изведет, а его в Ратиславле князем посадит. И дочку ему свою отдаст, раз уж тебе не понадобилась. Нет уж, братец мой любезный! Нам бы сейчас до дома добраться и всех своих привезти. А о чужих потом будем думать. Когда с силами соберемся. Что там еще от смолян слышно? Может, пока мы тут по Оке гуляем, там уже княгиня Избрана на Угру за данью и войском приехала!
– Ладно, спи давай! – Лютомеру надоел этот разговор, от которого только становилось тяжелее на душе. – Хватит беды выдумывать. Нам их Недоля сама напрядет на кривое веретено – только успевай разматывать…
Семислава пошевелилась во сне и вдруг обняла его, прижалась лицом к плечу. Лютомера пробрало, и он глубоко вздохнул, пытаясь одолеть собственные побуждения. Возможно, ей снится, что она лежит дома и обнимает мужа, князя Святко… А может, и нет.
В Воротынце дни проходили в тягостном ожидании вестей. Войско волновалось – медлить с началом похода было больше нельзя, хазары не стоят на месте, да и припасы у людей не бесконечные. Но князь Святко и слышать не хотел о том, чтобы уйти, не дождавшись возвращения жены. Ярко даже радовался задержке. Он каждый день навещал невесту, безуспешно пытался вызвать в ней прежние чувства. Но Молинка словно бы не узнавала его, а если и узнавала, то в глазах ее отражалось лишь мучительное недоумение.
– Да что же это такое, матушка моя! – восклицал Ярко, обращаясь к княгине Чернаве. – Ведь сглазили ее! Испортил оборотень лесной, сестру не пожалел, лишь бы нам не досталась!
Старшая княгиня неизменно присутствовала при их свиданиях и ни на миг не оставляла Ярко с девушкой одного.
– Не испортил, – утешала его княгиня. – Это пройдет.
– Когда пройдет? Мне со дня на день в поход идти!
– Как из похода вернешься, она уж прежняя будет, – отвечала княгиня, подавляя вздох.
Ей было жаль сына, которого ожидает такое разочарование. Сама она поворожила еще в день отъезда угрян и легко выяснила, что именно угрянский оборотень сделал с двумя девушками на берегу перед отплытием. Ничего мудреного – обычные чары под названием отвод глаз. Это настолько просто, что отводить глаза умеют многие, в основном женщины, даже не обученные ничему. Разве редкость, что страшненькая, но бойкая и веселая молодка умеет внушить всем вокруг мужикам, что она – красавица? И ведь верят. Оборотень же сделал очень похожую вещь – наложил на Семьюшку облик Молинки, якобы оставшейся у вятичей, а на Молинку – облик Семьюшки, якобы отданной ему в жены и уехавшей.
Чернаве-то было не о чем волноваться. Ее собственная дочь Семьюшка осталась в своем роду и в безопасности. Угрянский оборотень уехал без жены… И уехал с Семиславой… Княгиня не могла бы никому признаться в таких соображениях и безропотно согласилась отдать свою дочь в жены Лютомеру – такой жених не уронит ее чести. Но раз уж сложилось иначе, если Лютомер положил глаз на Святкину младшую жену… То пусть уж лучше он не берет Семьюшку в жены. Молинку Ярогневу, может быть, еще и отдадут зимой, здесь не все потеряно. Да если и не отдадут – красивых девок на свете много, и потеря угрянской княжны – не слишком высокая цена за избавление княгине Чернавы от молодой соперницы…
Наступил четвертый день после отъезда угрян. С утра Ярко явился в святилище не один, а привел с собой князя Святко. Парню хотелось, чтобы князь сам увидел, что присходит с угрянской невестой. Однако, войдя в избушку, никакой Молинки они там не обнаружили. На лавке под окном сидела Семьюшка и смотрела по сторонам удивленным, но осмысленным взглядом.
– Боже Перуне! – Князь Святко в изумлении хлопнул себя по бедрам и застыл на пороге, не давая Ярко пройти. – Ты откуда, голубка! Сбежала? Или жених назад прислал? С кем? Что стряслось? Жена моя где?
Семьюшка по привычке встала и почтительно поклонилась князю и родичу, но на лице ее по-прежнему отражалось недоумение.
– Не знаю, батюшка, – пробормотала она, безотчетно проводя рукой по лицу. – Не знаю! Откуда мне возвращаться, если я никуда не ездила?
– Как – не ездила? – Князю Святко показалось, что он сошел с ума. – А мне все приснилось, что ли?
Он обернулся и пропустил в избу Ярко, чтобы тот тоже посмотрел.
– Мне что – приснилось, будто мы девку за угрянского Люта Вершиновича отдали? – в недоумении обратился князь к племяннику. – Три дня как отпустили с ним – а вот она сидит, красавица. Ма-ать! – во весь голос закричал он, призывая княгиню Чернаву. – Мать, где ты! Разъясни, что творится, морок меня мучает или что?
Ярко тем временем тоже вошел и в еще большем изумлении уставился на родную сестру.
– Ярко, братец! – Недоумевающая и встревоженная Семьюшка подошла к нему и взяла за руку. – Что такое-то? Куда я ехать должна была? Я из дома все последнее время ни ногой! Какое замуж, куда отпустить? Какой Лют угрянский? Тот, что здесь был, за сестрами приезжал?
– Но ты же… – бормотал потрясенный Ярко и оглядывал пустую избу. – А она где?
– Кто? Матушка?
– М… Молинка! Невеста моя…
Семьюшка села снова на лавку, сжала голову руками и застонала. Она не понимала совершенно ничего. Она помнила недавние события – приезд брата Доброслава с двумя дочерьми угрянского князя, помнила, как эти две девушки жили здесь с ними, в этой самой избушке. Потом была Купала… Потом мать вроде бы сказала ей, что ее решили выдать за Люта угрянского, и даже провели обряды, отделяющие ее от рода и чуров…
А потом наступало что-то странное. Память тонула в омуте густого тумана, из которого временами выплывали отрывочные видения. Она находилась здесь, дома. И он, Ярко, несколько раз приходил к ней, обнимал, что-то говорил… Чего-то хотел от нее. Но чего – Семьюшка не понимала.
И вот теперь он вообще удивлен, что она дома! Думает, что ее увез оборотень? Но он же приходил и видел ее здесь!
– Вот, полюбуйся! – Князь Святко снова шагнул через порог, теперь уже в сопровождении княгини Чернавы. – Скажи, мать, кто тут с ума сошел? Что это за морок? Мы же деву Люту угрянскому в жены отдали? Из дома проводили? А откуда она тут опять у тебя сидит? Или это морок меня морочит? Или блазень блазнится? И угрянская-то девка где?
– Ох, батюшка! – Княгиня покачала головой, подавляя улыбку. – Не морок тебя морочит и не блазень блазнится… теперь. Раньше морочили нас. Обманул нас всех оборотень, вокруг пальца обвел. Сестру свою он с собой увез, а нашу дочку нам оставил. Только заморочил, глаза отвел. И мы на месте Семьюшки Молинку видели, думали, что с нами осталась, а Молинку настоящую сами ему в ладью посадили – думали, Семьюшку замуж отдаем. А теперь три дня прошло, чары рассеялись, морок спал. Вот так вот! – Княгиня развела руками.
– Ее увезли! – вскрикнул Ярко и вцепился в волосы. – Увезли! А я-то…
– Вот ведь леший! – ошарашенно вымолвил князь Святко, пока еще более изумленный, чем разгневанный.
Новость быстро разнеслась по Воротынцу и воинскому стану. Доброслав не помнил себя от гнева.
– Он нас обманул! Клятву нарушил! – кричал старший княжич, уже не думая о сдержанности. – Отец! Прикажи мне его догнать! Три дня прошло, еще успеем! Нельзя позволить – он нас, как щенков… Обманул! Сестру обещал свою нам отдать – увез! На Семьюшке обещал жениться – обманул! Побрезговал! Две клятвы нарушил! Так и что ему третью нарушить – не вернет он нам Семиславу!
В голосе старшего сына звучали не только гнев и возмущение, но и боль, однако князь Святко настолько встревожился, что ему было не до ревнивых подозрений. В самом деле – если Лютомер обманул их с сестрой и невестой, то что ему стоит обмануть и с Семиславой? Хорошо зная, чего стоит его младшая жена, князь Святко не сомневался, что и сам оборотень от такой не отказался бы.
Как нарочно, в это время кто-то случайно нашел в березняке обрывки белого шелка, в которых без труда опознали бывшую рубашку увезенной княгини. На лоскутах потрясенный Святко обнаружил следы крови. Неизвестно, какие именно картины он рисовал себе в это время, но лицо его, обычно добродушное, стало сейчас таким жестким и темным, что даже собственные домочадцы в испуге попятились.
– Да подожди еще три дня, может, вернется! – утешали его сродники и воеводы. – Ведь сын-то Вершинин еще у нас! Заложников-то и мы имеем! Срок еще не прошел – может, приедет княгиня! Прилетит, лебедь белая!
– Да что ему этот холопкин сын! – продолжал бушевать Доброслав. – Он от него избавиться только рад будет! Думаете, не знает, кто его выдал? Не догадался, при его-то хитрости? Да он одной шапкой двух зайцев накрыть хочет – и от холопкиного сына избавиться, и жену молодую взять! Едем за ними, батюшка! Нас по всем землям ославят, осмеют, что мы себя так провести дали! Хоть он оборотень и сын хоть Велеса, хоть лешего лысого!
– Велеса не трогай! – рявкнул волхв Остромысл. – Огневается – не такие еще беды нашлет!
Собрали бояр. Обман был налицо – угрянский оборотень не взял невесту, которую ему дали, и не отдал Ярко свою сестру, которую обещал дать. Никаких надежд на помощь с Угры, которую обеспечивали бы эти союзы, не оставалось. Зато казалось весьма вероятным, что княгиню Семиславу похититель не вернет. А Хвалис? А что ему Хвалис? Хоть убей его, хоть в холопы возьми – Лютомеру же лучше. Одним соперником меньше. У Доброслава чесались руки зарубить угрян, чтобы дать какой-то выход своей ярости, и удерживало его только то соображение, что этим он окажет ненавистному оборотню большую услугу.
Решили взять половину войска и ехать вдогонку. Воеводы оправились поднимать и собирать своих людей. Еще оставалась надежда настичь беглецов до того, как они попадут на Угру, – и уж теперь Доброслав был полон решимости не дать уйти живым никому из этого подлого племени, кроме разве женщин.
Ярко собрался первым. Выступить намеревались на заре следующего дня, но ему хотелось сидеть на пристани с ночи – так рвалось сердце вслед за похищенной невестой.
Но еще под вечер, когда сборы были в разгаре, на воеводский двор явился Благовец, один из бояр воронежского князя Будогостя.
– Здравствуй, князь Святомер! – говорил он, проходя во двор, где князь наблюдал за сборами дружины. – Смотрю, готов выступать! Ну, спасибо тебе! Поклон тебе от князя Будогостя, тестя твоего. Уж он ждет тебя с войском не дождется, все готово, тебя одного и ждем. Что, завтра и выступаем? Или еще кого надо обождать?
– Выступаю-то я выступаю, да только в другую сторону! – с досадой ответил князь Святко. – С Угрой у меня нелады. Жену увезли, Будогостеву дочь.
– Семушку! – Воевода Благовец, хорошо помнивший дочь своего князя, вытаращил глаза. – Это кто ж осмелился?
Однако когда ему изложили все обстоятельства дела, он не согласился с тем, что поход на хазар надо откладывать.
– Ты как хочешь, князь Святко, а Перун такого не позволит! – Благовец покачал головой. – Провели вас, конечно, обидно, но своя дева при себе осталась, чужих еще найдете. В поход идем – даст Перун милости, красных девок табунами будем гонять. А Будогостевна, может, еще и воротится.
– Может! Тебе хорошо говорить! Моя ведь жена, не твоя!
– Жена женой, а слово нарушать – это не по-княжески! – Благовец сурово сдвинул брови. – Князь Будогость бьется, кровь проливает, князь Воемир бьется, князь Ярослав в Киеве ждет! Войска собраны, копья изострены, луки напряжены, кони оседланы! И все твою жену одну будут дожидаться? Нет, князь Святко, твоя воля, но если слово нарушишь, не будет тебе от русских князей ни веры, ни дружбы, ни прощения! Рудояре! Хоть ты свое слово скажи, воевода ты или не воевода?
– А жена моя как же?
– А ты без нее и воевать уже не можешь? Кто в поход собрался – ты или жена? Вот разобьем хазар – пойдешь за женой. И другие тебе князья тогда помогут. Не съедят же ее там. Такую женщину не обидят – волхва все-таки, княжеская дочь. Поживет на Угре немного, от нее не убудет.
– А бесчестье мое? – мрачно спросил Святко. – Позволить, чтобы она там с оборотнем этим жила? А мне потом здесь оборотневых щенков качать?
– Чтобы тебе щенков не качать, она сама позаботится, ее учить не надо. А вот если перед князьями русскими слово нарушишь, бесчестье тебе посильнее того будет. Кто свое слово не держит, тот пропащий человек и князем в Русской земле быть не достоин!
Вятичские воеводы молчали. Благовец был прав – не пойти в поход, нарушить ряд с другими русскими князьями, не прикрыть от набега свою же собственную землю было невозможно. Возвращение похищенной княгини могло и подождать. Отправить Благовца назад одного означало поссориться и с воронежским, и с донским, и с полянским князем, а этого Святко не мог себе позволить. Даже Доброслав, бледный, как березовая кора, молчал, не смея спорить.
Войска продолжали собираться, еще не зная толком, куда пойдут – на полудень или на закат.
На заре князь Святко вышел во двор и окинул небо взглядом, надеясь, что боги пошлют ему знак. Можно спросить волхвов – но что бы они ни сказали, идти на хазар надо.
С вышины раздался трубный крик. Святомер вскинул голову.
Из-за зеленых вершин леса вылетела белая лебедь и неспешно приближалась к городу, как живое белое облако на голубом ясном небе. Подлетая, она сделала круг над луговиной, словно приветствуя Воротынец.
Князь Святко снял шапку. От громадного облегчения он даже ослабел, захотелось присесть, на глазах выступили слезы. На сердце стало легко, память о недавних сложностях и обидах растаяла, все тревоги показались смешными. Подумаешь, обманул! Главное – она вернулась. Вернулась живая, здоровая, раз летает, и вовремя. В самом главном угрянский оборотень сдержал слово, а значит, наказание за прочие обманы может и подождать.
– Ну, пойдем на хазар! – объявил дружине повеселевший Святко. – Слово дали – надо держать, а не то всех вятичей среди русских земель ославят. А ты, сыне, не грусти! – Он ободряюще похлопал по плечу осунувшегося Ярко. – Из похода вернемся – пойдем на Угру, за твоей невестой. Будем сватать, а добром не отдадут – силой возьмем. Никуда она от нас не денется. Ведь вся Русская земля за нами будет!
Ярко молчал. Он не мог спорить со старшим в роду, но хорошо понимал – до зимы еще очень долго, и случиться может всякое. Особенно когда впереди ждет далекий и трудный хазарский поход…
Глава 9
Молинка вскрикнула во сне и дернулась; Лютава мновенно проснулась, приподнялась, вцепилась в плечо сестры, быстрым взглядом окидывая темноту.
В воздухе реяло облако золотых искр.
– Вот он ты, негодник! – Лютава мигом вскочила, схватила сулицу, предусмотрительно положенную рядом на пол, и ловко метнула ее прямо в облако.
В истобке раздался короткий вскрик, облако искр, как живое, уклонилось от короткого копья, вытянулось и метнулось к окну. Заслонка оказалась отодвинута – а ведь с вечера ее закрывали и еще укладывали на косяке траву полынь и дедовник – все то, что служит оберегом от Летучего Змея.
Лютава мигом подобрала с пола сулицу и кинулась в погоню, рыча от ярости. Но огненное облако уже выскользнуло через окошко, в истобке стало темно.
– Ох! – раздался с лежанки голос Любовидовны. – Приходил опять, горе наше? Ушел? А меня такой сон сморил – хоть в било бей над ухом. Потом тебя услышала – проснулась. Доченька, ты как?
Лютава перевела дух и снова вздохнула в досаде, опираясь на сулицу. Вот уже третью ночь подряд она ночевала не в Варге, а в Ратиславле, в жилище Любовидовны. После возвращения из земли вятичей прошло уже дней пятнадцать, но Молинка так и не повеселела. Первые три дня после отъезда, пока над ней висел наведенный облик Семьюшки, она провела как в полусне и плохо понимала, где находится и что с ней происходит. Но вот чары растаяли, морок рассеялся, она пришла в себя и осознала все, что случилось, – она обручилась с княжичем Ярко, но брат и сестра все-таки увезли ее от жениха, увезли силой и обманом, чтобы вернуть домой.
Первые дни она плакала и не хотела с ними разговаривать, кляла обманщиков, погубивших ее счастье, грозила им гневом Макоши. Но эти волки лишь смотрели на нее своими одинаковыми серыми узкими глазами и молчали. Они сделали то, что считали правильным. А до ее любви и тоски им не было дела. Лютава, правда, утешала ее, уверяла, что осенью или зимой сродники Святомера непременно приедут сватать ее за Ярко, и если отец, князь Вершина, посчитает этот брак подходящим, ее отдадут и всего-то через полгодика она снова увидит своего ненаглядного жениха.
Но Молинку это все не утешало. Она была влюблена, весь мир без Ярко утратил краски, и сама себе она казалась пустой облочкой – ее сердце, душа, жизнь остались на берегах Зуши. Даже если все сложится так удачно, как Лютава обещает, то ждать еще так долго! Полугодовая разлука казалась Молинке невыносимым горем, целым морем черной пустоты, перейти которое не хватит сил.
А если отец не согласится ее отдать? Ведь они все навыдумывали кучу каких-то сложностей – про хазар, про смолян, про дешнян! При чем здесь хазары и смоляне? Она ведь просто хотела быть счастливой с тем, кого указали ей Лада и Макошь!
Ко времени возвращения домой Молинка немного взяла себя в руки. Когда мимо ладьи потянулись знакомые берега, а с этих берегов им кланялись знакомые люди, ее горе несколько притупилось. В привычной обстановке новая любовь уже не казалась такой горячей и яркой, стала напоминать скорее счастливый сон. Вот они дома, ее обнимают мать и отец, братья и сестры, все рады и счастливы… Довольный князь Вершина хлопает Лютомера по плечу, целует Лютаву, благодарит старшего сына, и все Ратиславичи довольны – девушки возвращены, никаких обещаний вятичам не дадено, на хазар идти не надо!
Князя Вершину и особенно, разумеется, его жену Замилу очень тревожило то, что Хвалислав не вернулся со всеми, а родичей волновала судьба Вышеня, Домши, Толиги и Глядовца с сыном, которые все еще оставались в руках вятичей. Но Лютомер заверил, что и этих надо ждать обратно в ближайшие дни, – он ведь честно выполнил уговор. Когда бойники в первый раз заночевали на берегах Оки, он сам разбудил Семиславу на белой заре, вывел из шалаша на поляну и снял свои чары.
Княгиня опомнилась, осмотрела себя, увидела вывернутую рубаху своего пленителя, в которой проходила все эти дни, и усмехнулась, дивясь собственному виду. Поистине сильны были чары, если молодая оковская княгиня, щеголиха, избалованная богатым и любящим мужем, не замечала, что ходит вроде травяного чучела, наряжаемого на праздники.
– Спасибо тебе, варга Лютомер, что слово сдержал, не обидел меня. – Она посмотрела на Лютомера, и в глазах ее засиял прежний насмешливый блеск. Теперь даже нелепая чужая одежда не мешала ей выглядеть так, будто весь белый свет лежит у ее ног. – И рубаху свою подарил, не пожалел!
– Что же мне было делать, если перья свои лебединые ты по ветру растеряла? – Лютомер тоже усмехнулся, вспомнив, как она лежала на траве в груде шелковых обрывков. – А что до обид – твой муж и пасынки моих сестер не обидели, и я тебя невредимой мужу возвращаю. Пусть знает – хоть я и оборотень лесной, а слово свое держу. Или и ты думала, что у меня совести нет?
– Нет. – Семислава несколько смутилась и отвела глаза. – Не потому, что ты оборотень и волк лесной. Потому что ты Велес, и Велес – в тебе. Я знаю, как трудно тебе Ладу отпустить. И хотел бы, да руки не пускают. Но от судьбы не уйдешь, что на небе делается, то и на земле отражается. Может, придет еще срок Велесу с Ладой повидаться.
– Велесу с Ладой – несомненно, – ответил Лютомер. – А мне с тобой?
Но Семислава на этот вопрос не ответила. Развязав полотенце, которое все эти дни служило ей вместо повоя, она расплела косы и тряхнула освобожденными прядями, волнистыми, как речные струи, высвобождая и принимая свою силу. Лютомер застыл, словно скованный этими шелковыми сетями, – Семислава вновь была собой, свободной лебедью в небе, способной очаровать даже его, того, кто недавно держал ее в плену своих чар.
– Возьми. – Усмехнувшись, она стянула Лютомерову рубаху и бросила в него. Он безотчетно поймал, не в силах ни оторвать глаз от этого зрелища, ни пошевелиться.
– Прощай, варга Лютомер! – Обнаженная берегиня, окутанная волнами шелковых светлых волос, махнула ему рукой, и рука вдруг обернулась белым крылом.
Женщина повернулась в воздухе, словно сжалась в комок, а потом крупный белый лебедь расправил крылья и взмыл в утреннее небо. Сделал круг, крикнул, еще раз прощаясь, и умчался на полудень, держа путь над Зушей. Туда, где ее ждали люди, думающие, будто она принадлежит им.
Лютомер, не помня себя, провожал глазами птицу и сжимал в руках свою рубаху, на которой еще остались тепло и запах ее тела. Он не мог не жалеть, что отпустил ее, но знал, что иначе поступить сейчас нельзя.
В оставшиеся ночи дороги он клал эту рубаху себе под голову, а с Лютавой держался внимательно, предупредительно и чуть-чуть виновато, хотя никто, кроме самой Лютавы, не смог бы разглядеть это за его обычной уверенной невозмутимостью. На всех весенних праздниках ему случалось уединяться с девушками, и Лютава никогда его не ревновала – подумаешь, дело! По сравнению с их связью, которая была неизмеримо глубже, чем просто две земных судьбы, возня под ореховым кустом казалась такой ерундой, что даже думать не о чем. Но теперь рядом с ним впервые появилась не просто женщина, а земное воплощение богини Лады, тоже подруги Велеса, но – другой. Той, что проводит с ним зимнее время, пока Марена выходит в белый свет и правит земным миром. Пришла Ночь Богов, во время которой Ладой владеет Велес, и он встретил ее… Лютаву не так чтобы огорчало появление этой женщины – неизбежное, как все, что определено Кологодом, – но заставляло задуматься. Ведь если к Лютомеру пришла его Лада, значит, к ней, Деве Марене, должен прийти Перун… Тот, кого она ждала уже шесть лет и чьего имени до сих пор не знала. Ведь когда-то же все это должно разрешиться!
А Ратиславль даже не подозревал обо всех этих хитросплетениях и ждал уехавших. Лютомер не сомневался, что Хвалис со своими людьми вернется, – даже если оковские князья и захотят задержать их, Семислава им этого не позволит. Как у оковских князей в лице Хвалиса завелся друг на Угре, так и в земле вятичей у Лютомера появился тайный союзник. Его преимущество состояло в том, что он о Хвалисе знал, а Святкин род и не подозревал, что между Семиславой и угрянским оборотнем протянулась какая-то тайная нить. Они не заключали никаких уговоров, не давали друг другу никаких обещаний, у них вроде бы не было даже ничего общего, но Лютомер не мог прогнать из мыслей образ Семиславы и не сомневался, что она также думает о нем.
Поэтому насчет возвращения любимого сына Лютомер успокаивал отца с чистой совестью. И князь Вершина, поверив ему, приказал готовить пир, чтобы после возвращения Хвалислава отпраздновать успешное дело и воздать честь всем, кто заслужил.
Лютава и Лютомер долго обсуждали между собой и со старшими из бойников, стоит ли попытаться открыть глаза князю Вершине и рассказать, как его любимый сын Хвалис чуть не погубил их всех.
– А подите докажите! – втолковывал им десятник Лесога. – Предал он нас? Знамо дело, предал, иначе откуда бы Святко вообще про нас узнал? В воде разве что увидал! А мы-то, чай, не дурни, дозоры днем и ночью выставляли. Хоть чем тебе поклянусь – ни одна вятичская рожа к нашему стану и близко не подходила! Хвалис выдал, больше некому!
– А подите докажите! – возражал ему Чащоба. – Гулять он пошел, Хвалис, на девок посмотреть! Купала же! Или русалок испужался, побежал, куда глаза глядят! Ведь были русалки!
– Мы и сами испужались! – пробормотал Дедила. – Да, Хортимка?
– Только мы не побежали никуда, – буркнул Хортомил, вспоминая, как в ту ночь вокруг их лесного стана ходили призрачным хороводом русалки, завлекали, манили к себе молодых парней, почти весь год лишенных женского общества. И как они пятеро – он с Дедилой, Лесога с Чащобой и Серогость, – призывая к себе духи своих волков-покровителей, окружили поляну, не подпуская русалок к младшим побратимам. Ибо если чего и боятся лесные девы – то это волка, а за каждым из «отреченных волков» стоит лесной зверь, вышедший когда-то на поединок и отдавший свой дух человеку-победителю.
– Или, скажет, вятичи сами на них в лесу наткнулись, – продолжал доказывать Чащоба. – Взяли под белы руки, за спину заломили – и к князю волоком. Мы, скажет, молчали, как идол в нежертвенный день, а эти гады ползучие сами догадалися – раз тут один сын Вершины угрянского, то и другие неподалеку! За княжнами следили? – Он ткнул рукой в сторону Лютавы. – Следили! А она куда пошла? К тебе, Лют!
– Никто не видел, как я пошла! – ответила Лютава, мельком подумав, что если бы кто-то видел тогда их встречу, то их накрыли бы еще на реке под развесистой старой ивой.
– Откуда ты знаешь?
– Берегиня Зуша Твердяту отвлекла, мной прикинулась, завертела, залюбила его чуть не до полусмерти. Где ему было за мной следить?
– Он там что, один был? Да там же народу, как на Купале! – по привычке сравнил Хортогость и сам ухмыльнулся. – Ведь верно?
– Да кто угодно мог вас видеть, – подхватил Чащоба. – Так что отвертится Хвалис, ужом вывернется. Его небось Вышень за это время научил, чего отцу говорить. Такую кощуну сложил, что сам Хвалибог Соловей обзавидуется!
– Так что же, – Лютомер обвел глазами побратимов, сидевших, по случаю хорошей летней погоды, прямо на траве перед землянками Варги, – молчать?
– Молчать, что брат кровный нас вятичам выдать хотел на погибель? – подхватила Лютава.
– Ну, скажете. – Хортомил пожал плечами. – А он вам поверит? Князь-то? Он Хвалиса любит. Вон, как радовался, пока его в поход собирал! Если бы еще видоки нашлись. А с ним только кормилец, да Вышень, да Глядовец. Они все сами тем же дерьмом замазаны, будут молчать. Вы только с князем поссоритесь, и все.
Лютава и Лютомер молчали. Бойники были правы. Будучи уверены в предательстве Хвалислава, они не имели никаких доказательств, которым поверил бы князь Вершина. А значит, они только опозорятся в глазах всего рода, якобы пытаясь оклеветать сына хвалиски. А его, бедняжечку, и так всякий обидеть норовит!
– Ну его к лешему! – наконец махнул рукой Лютомер. – Пусть живет, дрянь подколодная. Авось уму-разуму научился немного – хотел меня в землю закопать, да сам чуть туда не отправился. Будет знать, как со мной тягаться.
Хвалис и впрямь вернулся в ближайшие же несколько дней после возвращения бойников. Рассказывал он и его спутники точь-в-точь то самое, что от них и ожидали. Дескать, в лесу на них наскочили гуляющие вятичи, оттащили к князю, а там их опознали Доброслав и его кмети. О Лютомере и бойниках они, дескать, ни слова не говорили, притворились, будто приехали вести переговоры о возвращении сестер, а о бойниках князь Святко каким-то образом узнал сам. Жена Семислава рассказала, с неба увидав!
Все это говорилось на пиру, который князь Вершина и правда устроил. Лютомер и Лютава молча слушали рассказ сводного брата, и он даже был несколько разочарован, приготовившись отражать их попытки разоблачить его ложь. Наученный Галицей, он надеялся в ходе неизбежной ссоры настроить отца против Лютомера, в чем ему помогли бы и Вышень с Глядовцем, и Толига, пожалуй, тоже. Но не вышло, и он сидел как на иголках, не зная, чего от них теперь ждать.
На самом деле Хвалис возвращался от вятичей далеко не таким напуганным и неуверенным, как думали дети Семилады. В главном обещания Галицы сбылись: на прощание князь Святко заверил его в своей дружбе и даже намекнул, что зимой привезет ему в жены свою дочь – ту самую, от которой отказался Лютомер. А Доброслав весьма прозрачно давал понять, что если у Хвалиса появится новая возможность извести оборотня, то они, вятичи, всегда рады ему в этом помочь. Чувствуя за спиной силу, Хвалис без страха смотрел в волчьи глаза Лютомера и его сестры. Он ясно понимал, что они все знают и не собираются его прощать, но они молчали, и это уже была его победа. Меньшая, чем он надеялся, но победа. Тем более что после возвращения из похода в Ратиславле его стали уважать больше, признав в нем наконец мужчину и воина. Еще бы жениться на хорошей знатной невесте с сильной уважаемой родней – и можно вступить в открытую схватку с оборотнем, который, не имея жены, не числясь среди взрослых мужчин и вообще членов рода, был как бы и не сын Вершине вовсе.
Кроме наблюдений за Хвалисом, у Лютавы нашлись на пиру и другие дела.
– Ярко мне снился сегодня, – шепотом рассказывала ей Молинка, отведя в уголок. – Будто приходит он ко мне, красивый такой, кудри золотом горят, в глазах огонь. Будто обнимает он меня, целует, говорит: лада моя, не грусти, скоро буду я с тобой!
Сначала Лютава не нашла тут никаких поводов для тревоги – чудное ли дело, когда влюбленной девушке снится жених? Но сны эти повторялись ночь за ночью и не шли Молинке на пользу – бледная, без румянца на щеках, с темными тенями возле глаз, она худела и дурнела день ото дня все заметнее.
– Береги дочь твою, матушка! – как-то сказала Любовидовне Галица. – Давеча вышла я ночью по нужде, да и видела – прилетел Змей Огненный, над крышей твоей искрами рассыпался да и пропал. Не к тебе же летал, не к меньшой твоей, а видно, к старшей. Тоскует о женихе, вот змей ее и выследил!
Как ни мало большуха уважала Галицу и доверяла ее суждениям, сейчас приходилось признать, что пронырливая челядинка права. Судя по словам Молинки, к ней приходил молодой парень, точь-в-точь похожий на Ярко, но с золотыми кудрями, с огнем в глазах, и именно после его ласк она просыпалась разбитая и обессиленная. Любовидовна пробовала сам проследить за незваным гостем, но каждую ночь на нее нападал такой вязкий и глубокий сон, что побороть его не удавалось.
Позвали Лютаву.
– Ты за ней в вятичах не уследила, теперь сделай что-нибудь, – сказала большуха и тут же принялась просить: – Помоги, доченька! Ты же – Волчица Лютая, тебе богами дано вражеский след следить. Прогони ты этого гада, а то ведь потеряем Молинку! Уж тогда лучше бы ей там, у вятичей, замуж пойти – все бы живая была да еще счастливая!
Любовидовна понимала, насколько нежелательны для угрян сейчас брачные связи с вятичами и вообще русами, но материнская любовь одолевала, – всей душой жалея дочь, она сама уже готова была просить мужа отпустить Молинку за Ярогнева оковского.
И Лютава, вооружившись сулицей, перебралась жить в Ратиславль, в землянку Любовидовны. Легкое копье было не игрушкой, а ее обрядовым оружием, и она очень неплохо умела с ним обращаться. Под руководством Хортогостя она еще в отрочестве выучилась ловко и метко бросать его в цель, и, хотя воевать ей приходилось пока только с врагами на тайных тропах Навного мира во время различных обрядов, против живого врага сулица послужила бы не хуже.
Молинку уложили между матерью и сестрой, Лютава устроилась на краю лежанки, положив сулицу на пол так, чтобы легко могла схватить. Она собиралась вообще не спать, но, когда приблизилась полночь, сразу поняла, о чем говорила Любовидовна: неодолимая истома сковала все тело. Сознание плыло, веки опускались сами собой. Сон был наведенным, она отчетливо видела это, у нее не хватало сил его сбросить. И чары исходили не от человека, а от какого-то иного, более сильного существа. Так же Семислава не могла одолеть чар, которые накладывал на нее сын Велеса – сковывая по рукам и ногам, не давая развернуться ее собственным способностям…
– Не спи! – вдруг гулко произнес внутри ее сознания знакомый низкий голос.
Где-то рядом распахнулась пропасть: Лютаву облил мгновенный ужас, что-то огромное, черное надвинулось на нее, грозя поглотить. Но эта же чернота была источником новых, свежих сил. К ней на помощь пришел дух-покровитель: она не могла даже сама позвать его, но он пришел без зова, чувствуя, что ей нужна подмога.
– Проснись! Вставай! – низким голосом рокотала чернота. – Проснись, Лютая Волчица, враг твой близко!
Встряхнувшись, Лютава сбросила вязкие чары наведенного сна, и они рассыпались, как насквозь прогнившая ткань. Она соскочила с лежанки, одновременно хватая с пола сулицу. И увидела.
Сквозь кровлю полуземлянки просачивалось целое облако пламенеющих искр. Казалось, идет огненный дождь, и Лютава невольно отпрянула, чтобы не обжечься. А искры собрались тесной стаей и вдруг слились в человеческую фигуру.
Лютава даже оторопела, хотя ждала чего-то похожего. Перед ней стоял княжич Ярогнев, сын Рудомера оковского! Она хорошо помнила эту статную фигуру, лицо с правильными чертами, мягкую ложбинку на подбородке, большие ясные глаза, кудри, красиво обрамляющие прямоугольный лоб… Вот только кудри имели цвет пламени, и в глазах вместо небесной голубизны горел тот же огонь. Парень был обнажен, а в чертах красивого лица жило немного дикое, хищное и притом веселое выражение. У того Ярко, что на Зуше, она никогда не замечала подобного. От этого все лицо ночного гостя стало жестким, и его красота не прельщала, не обманывала – это было очень опасное существо.
– О, думал одну забаву найти, а вас тут две! – негромко произнес гость, и в его голосе слышался далекий отзвук небесного грома.
В душноватой полуземлянке повеяло свежим запахом грозы, от фигуры подложного Ярко исходили невидимые волны силы – горячей, неукротимой, вольной, способной поднять в вышину или с одного удара вбить в землю. Он посмотрел на Лютаву и обворожительно улыбнулся – и даже в улыбке его было нечто жесткое и хищное, отчего вся его нечеловеческая природа проступила еще яснее.
– Ты мне не нужна сейчас, красавица, в другой раз к тебе приду, коли пожелаешь. А пока место мне освободи. Нечего девице рядом с ладой моей лежать.
– Нет тебе здесь лежанки, Змей Летучий! – гневно ответила Лютава. Справившись с первым изумлением, она рассердилась и была готова к бою. – Уходи, пока цел!
Змей засмеялся, глядя на сулицу в ее руке, приготовленную для удара.
– Вот ты какая! Волчица Лютая, по следу идущая! Что же ты такая злая? Все равно я свое возьму, сколько мне ни грози! Лада моя по мне тоскует, слезы льет, на свет белый не глядит, людей сторонится! Я один ей отрада, а без меня не будет ей радости ни днем при солнце, ни ночью при месяце. Не губи сестру, пропусти меня!
– Без тебя обойдемся! У нее есть жених, зимой замуж пойдет. Не нужен ты ей. Уходи!
– Пропусти меня, Волчица! – стал просить Змей, медленно приближаясь к ней. Его мягкие, плавные движения завораживали, он словно перетекал по воздуху, но Лютава настороженно следила за его движениями, готовая в любой миг отразить выпад. – А я тебе отплачу. То, что хочешь знать, открою. Ведь ты сама замуж не идешь, судьбу свою ждешь. Хочешь, научу, где ее найти?
Лютава на миг растерялась. Она знала, что Змею Летучему нельзя верить, да и не могла она отдать ему сестру даже в обмен на самые сокровенные и важные тайны. Но само то, что стоящее перед ней существо знает тайну ее собственной судьбы, так потрясло ее, что она не нашлась с ответом.
А лицо Змея начало меняться: черты словно размягчились, «поплыли», готовясь стать другими… Змей Летучий с легкостью принимает тот облик, который хранит в сердце и желает увидеть стоящая перед ним женщина. К Молинке он являлся в облике Ярко, а ради Лютавы готов был стать… Кем?
Она не успела этого узнать. Сгусток темноты прыгнул из угла на Змея. Змей вскрикнул и отшатнулся, изогнулся, как не смогло бы ни одно живое существо, избегая пасти тьмы. В темноте мелькнули белые искры зубов, желтый огонь глаз – на миг Лютаве померещился огромный волк, черный, как грозовая туча, полный мощи Навного мира.
Он снова прыгнул, Змей отпрянул, извиваясь, его огненные кудри встали дыбом, а нижняя половина тела вдруг превратилась в змеиный хвост, одетый блестящей золотистой чешуей. Взмыв под самую кровлю, Змей рассыпался роем огненных искр, а искры, словно стая мелких горящих мошек, вылетели в окно.
В истобке снова воцарилась темнота. Черный волк исчез, гулкая пропасть разом захлопнулась. И уже казалось, что все это только померещилось.
Лютава без сил опустилась на лежанку. Ее не держали ноги, внутри была холодная пустота. Так всегда бывает: Навный мир и его обитатели входят в тебя, наполняют нечеловеческой силой, дают возможность свернуть горы – а потом уходят, унося и свою силу, и твою собственную в качестве уплаты за помощь.
Но и сегодня, как во все другие дни, эта плата не казалась Лютаве слишком высокой. Земля исполнена неисчерпаемой мощи и щедро делится со своими детьми: уже скоро ей станет легче, зато без помощи своего духа-покровителя она не сумела бы прогнать Змея Летучего. Того гляди, сама стала бы его жертвой вслед за Молинкой.
Но даже о Змее, огненнокудром и опасном красавце, она сейчас не думала. Гораздо больше ее волновало другое: это был первый случай, когда дух-покровитель дал ей увидеть себя. Или когда она оказалась способна увидеть его. Хромая Волчица отдала ей свой дух, а вместе с ним и способность видеть больше, чем прежде. Раньше она знала своего покровителя только как черное гулкое пятно в сознании, источник голоса, говорящего напрямую с душой. Но только сейчас она узнала, каков его облик. Черный волк, огромный, белозубый и желтоглазый.
Но Змей Летучий так легко не отстанет. Для этого сама Молинка должна была преодолеть свою тоску, забыть Ярко или хотя бы спокойно и терпеливо, без слез и жалоб, ждать встречи с ним. А сейчас ее душа представляла собой один призыв, крик, на который Змей Летучий не мог не откликнуться, ибо такова его природа. Он летит на женскую жажду любви, как мотылек на огонь или голодный хищник на запах крови.
И следующие ночи Лютава проводила рядом с Молинкой. Змей Летучий больше не показывался ей в человеческом облике, прилетал роем огненных искр, но ей удавалось прогнать его – за ней стояла сила Черного Волка. Но не может же это продолжаться вечно! Молинка все худела и дурнела, почти не показывалась из дома, и в Ратиславле уже стали поговаривать, будто в земле вятичей ее сглазили насмерть и дни ее сочтены. Сама Лютава, ночами сторожа сестру, не высыпалась и тоже со дня на день ощущала возрастающую усталость. От этого она стала злой и раздражительной и в ответ на участливо-любопытные расспросы сродников огрызалась, как настоящая волчица.
После третьей встречи с ночным гостем она пошла просить помощи у Лютомера.
– Изведет он и ее, и меня, – сказала она. – Попробуй ты, братец! Не буду же я до зимы у них ночевать, с сулицей в обнимку!
– Да уж придется! – Лютомер сочувственно погладил ее по голове. – Я-то ведь тоже хочу, чтобы ты дома в Варге ночевала!
В Ратиславле нарастали тревога и беспокойство. Уже настал жаркий месяц червень, солнце палило день за днем, с голубого неба на землю лился жар, и ни тень леса, ни полутьма полуземлянок не спасали от него. Зной грозил спалить посевы и оставить всех угрян без урожая. Был нужен дождь, но напрасно угряне высматривали в небе дожденосные облака.
– Это все он, злодей наш! – говорила бабка Темяна. – Змей к нам летает, пламя небесное носит, жаром палит. Будет летать – сгорим все. Надо гнать его да дождя у богов просить.
В святилище что ни день являлись старейшины окрестных родов все с тем же вопросом: когда будет дождь, а если не будет, то не пора ли о нем попросить? По всей волости люди толковали, что-де боги огневались на Лютомера, который нарушил слово и обманул вятичей, принимавших его в гостях; болтали, что Лада гневается за то, что Молинку силой и обманом разлучили с женихом, которого ей назначили богини. И раз уж Змей Летучий повадился к девушке, а из-за этого засуха грозит полям, то самое лучшее – это отослать девушку прочь из Ратиславля, подальше, чтобы гнев небес ушел вместе с ней. Любовидовна возмущалась и однажды даже чуть не побила коромыслом бабу Себожиху из Коростеличей, которая у реки, куда все ходили по воду, разводила такие речи. Молинка плакала от отчаяния – мало того, что ее разлучили с женихом, так ее теперь еще хотят изгнать из рода, будто она в чем-то виновата!
Лютава не сомневалась, что эти слухи распускают их враги – то ли Вышень с родичами, то ли Галица. На них с Лютомером, стоило им показаться в Ратиславле, сродники посматривали косо или укоряли вслух – уже не помня, что сами всего-то дней десять назад хвалили за ловкость, с которой их избавили от необходимости идти воевать хазар.
– Это все Галица, змеища! – возмущалась Лютава. – Потому ее Замила и работой не загружает, чтоб ходила по весям, языком трепала! Поймаю за этим делом – задушу!
Больше так продолжаться не могло. Однажды под вечер Лютомер явился в Ратиславль. Поговорив с отцом и мужчинами о том о сем, он дождался ночи и, когда все князевы домочадцы улеглись спать, уселся на прямо на полу напротив лежанки, где спали Любовидовна, ее старшая дочь и Лютава.
Стояла тишина, было душно, и даже в отверстие окошка с отодвинутой заслонкой не проникало ни единого дуновения свежего воздуха. Во всех жилищах Ратиславля люди ворочались, не в силах заснуть, пили воду, утирали пот.
Наступало самое глухое время – то самое, когда являлся Змей Летучий. Лютава изо всех сил боролась с дремотой, сжимая свою сулицу.
Лютомер молча сидел в углу. Иногда он помахивал рукой возле себя, будто отгоняя мошек, – стряхивал петли наведенной дремы. Этим чарам не хватало мощи, чтобы подчинить сына Велеса, как подчиняли они женщин.
И вот под кровлей мелькнули первые огненные искры. Вот они собрались в облако, из уплотнившегося облака соткалась человеческая фигура… Верхней половиной тела – человек с лицом княжича Ярко, а нижней – пестрый уж с золотистой чешуей, Змей Летучий завис под кровлей, не торопясь спускаться. Он не мог не заметить Лютомера, как нельзя зрячему не заметить огонь в темном доме.
– Здравствуй, младший брат! – спокойно приветствовал Змея Лютомер и приглашающе махнул рукой. – Не виси там, как дым печной, садись. Побеседуем.
– Вот где повидаться привелось! – Змей Летучий усмехнулся, и от зубов его посыпались искры. – Ну, коли старший брат приглашает, как же не присесть?
Он неслышно снизился и устроился на полу, свернув кольцом свой змеиный хвост.
– Зачем поджидаешь? Или соскучился?
– Затем, братец любезный, что ты рода не чтишь, родичей обижаешь. Знаешь ведь, что эта девица – моя сестра?
– Зачем напраслину возводишь, братец любезный? Тебе она по человеческому роду сестра, ты мне – по божественной отцовской крови брат – какая же она мне родня? Какая же роду моему обида? Нет, братец! – Змей Летучий засмеялся, и в его смехе слышался то змеиный шип, то далекие раскаты грома. – Эта девица – моя добыча. Сама зовет меня, сама своей тоской меня кормит. И ты не мешай. Я же тебе оленей в лесу… или лебедей белых в небе ловить не мешаю!
– Найди себе другую девицу. Мало ли их на белом свете?
– Девиц-то много, но больно уж мне эта по сердцу пришлась!
– По сердцу пришлась! Уморишь ведь ее!
– Ее краса по капле на Ту Сторону перетекает, здесь убавляется, там прибавляется. Как вся перейдет, так и сама девица на Той Стороне окажется. Тут-то уж навсегда моя будет.
– Нет, братец любезный. – Лютомер покачал головой. – Не отдам я тебе сестру на Ту Сторону, она роду здесь нужна. Уходи и дорогу к ней забудь. Иначе со мной тебе тягаться придется.
Он встал и медленно выпрямился во весь рост. Змей тоже поднялся, зависнув в воздухе и едва касаясь пола кончиком хвоста. Этот кончик беспокойно подергивался, на красивом лице ночного оборотня проступило злобное, хищное выражение. По оскаленным зубам пробежало пламя.
– Смотри, брат, – по-змеиному прошипел он. – Не пожалей потом!
– Уходи, – повторил Лютомер. – Нет тебе сюда дороги.
Змей Летучий, не ответив, взмыл вверх и рассыпался на тучу пламенных искр. Искры быстро вытянулись сквозь кровлю, в полуземлянке снова стало темно. Лютомер смотрел вверх, словно продолжал сквозь крышу наблюдать за полетом своего брата-оборотня, младшего из трех сыновей Велеса. Тот не мог ослушаться старшего брата, как сам Лютомер был бы вынужден уступить Черному Ворону, если бы их пути пересеклись. Но Змей – мстителен, и от него можно ожидать такого зла, что, может быть, и впрямь было легче отдать Молинку, раз уж она так ему приглянулась.
На пару следующих ночей Лютава еще оставалась с Молинкой, но Змей Летучий больше не тревожил их покой. Зато солнце жгло землю по-прежнему яростно, всходы вяли, отчаянно нуждаясь в дожде. И старшая жрица Молигнева решила просить дождя, пока зной не погубил все надежды на будущий урожай.
С самого утра все женщины княжеской семьи, за исключением разве что Замилы, собирались во дворе. Вышла и Молинка – уже немного посвежевшая, со слабым румянцем на щеках. Перед избушками дожидались младшие дочери Любовидовны – Ветлица, Премила и Золотава.
– Русавка, ты идешь? – крикнула Ветлица в окошко материной землянки, где еле-еле продрала глаза вторая из дочерей Любовидовны. – Солнце ждать не будет! Все прихорашиваешься? Не старайся, все равно женихов сегодня не будет, никто тебя не увидит!
– А нам женихи ваши вообще не нужны! – заявила Золотава. – Это вы, колоды старые, волнуетесь, а мы с Премилкой еще кагана хазарского подождать можем. Правда, Премилка?
Ей исполнилось всего одиннадцать лет, разговоры о женихах и прочем таком ее еще не волновали. Да и о чем им волноваться? Тринадцатилетняя Премила, высокая для своих лет, тоненькая и гибкая девочка, со светлыми золотистыми волосами и голубыми глазами, обещала вырасти красивой, да и сама Золотава во всем походила на Молинку, у которой от женихов не было отбоя. Метлой не отмашешься, как говорила Ветлица.
Самой Ветлице не так повезло с красотой, но при своей бойкости она и не терялась перед старшими сестрами, и нравилась молодым парням. Сейчас ей сравнялось всего четырнадцать лет, но наверняка уже не один жених с нетерпением дожидался, когда ей исполнится пятнадцать и можно будет к ней свататься.
– Вот уж кого нам не надо, так это кагана хазарского, – заметила Молинка.
После купальских событий в Ратиславле любили поболтать о хазарах, но Молинка вспоминала о них с содроганием. Пусть в землях вятичей ей так ни одного хазарина и не пришлось повидать, у нее не шло из ума, что сейчас, когда они тут собираются рвать цветочки и вить веночки, ее Ярко бьется с хазарами на Дону и может погибнуть! Настоящий Ярко, а не тот, с огнем на зубах, что являлся к ней пылающими искрами с крыши…
– У батюшки, вон, три жены в доме, и то все ругаемся, – заметила Лютава. – А у кагана знаешь, сколько жен! Двадцать пять! Нам в Воротынце Семьюшка рассказывала. Хазары дань берут с двадцати пяти племен и от каждого племени требуют кагану в жены княжескую дочь.
– И у вятичей требуют? – спросила любопытная Ветлица.
– У вятичей пока нет, а у поборичей и лебедян требовали. Это нам тоже Семьюшка рассказывала. Такое дело было, прямо никакой кощуны не надо. Приехали к поборическому князю люди от хазарского кагана, всякие беки и тарханы, стали требовать ему в жены дочь княжескую. А иначе, говорят, всю землю огнем пройдем, людей в полон уведем. А княжна Рутава совсем за кагана не хотела, у нее жених уже был. А он, как узнал про такую беду, забрал ее уводом. Князь смотрит – дочь-то пропала, что делать? Взяли девку из села, тайком приняли ее в род, Рутавой нарекли – и отдали. Вот, дескать, дочь моя перед богами.
– Да ну, вранье все это! – Ветлица не поверила. – Вам там кощуны сказывают, а вы уши развесили. А ну как узнают? Торговые же люди ездят, у нас вон даже Вышень на Дону был. Приедут, увидят, что княжна не та, вот и будет им огонь и полон!
– Да где Дон и где Итиль!
– Где?
– Ну, далеко, в общем. Итиль не на Дону, а на Волге. Туда так просто не доедешь. Да и жен каганских не видит никто! У хазар и самого кагана никому нельзя видеть, он там вроде бога почитается! Его народу показывают один раз в год на самый большой праздник, а в другое время к нему только воевода вхож, если что важное обговорить надо, и то очищается сначала, а потом уж идет! А ты говоришь – видели. Да кто же их пустит туда, купцов, да еще иноземцев!
– Ну, у него там и ор стоит! – фыркнула Премила.
– А главное, не приведи Макошь до такого дожить, что и вятичских князей дочери у кагана в женах окажутся! – вздохнула Лютава. – Если дочь княжескую отдадут, значит, себя данниками признают. А от них и до нас уже рукой подать.
– А что? К нам кто-то еще сватается? – На пороге землянки наконец-то появилась Русавка, потягиваясь так, что рубаха чуть не рвалась под напором мощной груди.
У многих дверей уже стояли женщины и девушки, тоже по большей части в рубашках и босиком – большего жаркий день не требовал. Перед связкой землянок, где обитали многочисленные родичи Вышеня, толпившиеся женщины рассматривали наряды его старшей жены и ее дочери, Хорсавки. Вышень и в последней, не слишком удачной, поездке своего не упустил – ухитрился каким-то образом раздобыть два куска шелка, да таких больших, что для жены вышла целая рубашка, а для дочери почти целая – только подол пришлось надставить простым льном, но его так густо покрывала вышивка, что разница почти не замечалась. У самой Вышенихи обновка была густо малиновая с желтой каймой по краю, а у Хорсавки – и вовсе дивного серебристо-стального цвета. При виде такого чуда даже княжеские дочери не удержались, подбежали пощупать и поглядеть.
– Там основа – из черной нити, а уток – из белой, вот и выглядит как старое серебро! – поясняла Вышениха, чрезвычайно довольная. Теперь их обновки будет обсуждать вся волость. – На, погляди, у меня лоскуток остался, на нем видно.
Собравшись вместе, женщины и девушки Ратиславля отправились к луговине. Позади всех с явной неохотой плелась Замирка, дочь Замилы. Как ни досадно, дочь уродилась не в красавицу княгиню: невысокая, коренастая, с грубыми чертами лица и отчетливо видными черными усиками над толстой губой, она была так нехороша, что парни если и глядели на нее, то исключительно с презрительным или жалостливым любопытством. Сделать ее лучше не удавалось никакими нарядами или украшениями, которые, казалось, только подчеркивали ее «страхолюдство», как говорила безжалостная Ветлица. На пирах мать укутывала ее в разноцветные шелка и увешивала серебром и золотом, отчего бедная девушка почему-то начинала выглядеть еще хуже, чем обычно.
Ратиславль уже пробудился: скотину выгнали, хозяйки и челядь носили воду, разводили огонь в печках, принимались за стряпню. Несмотря на ранний час, уже становилось жарко, и Молинка обмахивалась ладошкой.
– Хорошо, поневу не надела! – пропыхтела она, дуя себе за ворот рубахи.
С конца длинного пригорка открывался широкий вид на зеленую луговину, за которой синела и блестела под солнцем петля реки. С высоты казалось, что ослепительно-белые облака над рекой совсем низко, что можно пойти еще немного вперед и достать их рукой. Говорят, что в такие утра сами берегини моют рубашки в небесной синеве и вешают на радугу сушиться. Казалось, что и сами девушки идут, как богини, по небесным лугам, и солнце, в облике золотого коня, пасется у той реки…
На опушке рощи за луговиной бросались в глаза движущиеся белые пятна – это девушки из ближних весей, вставшие пораньше, собирали по росе цветы и травы для венков и уборов.
К полудню женщины и девушки из Ратиславля и окрестностей собрались к святилищу с охапками трав и цветов. Подошла и Далянка, уже с пышным венком на голове, одетая вместо рубашки в целый сноп травы и цветов, обмотанный тесьмой на груди и на поясе, чтобы держался. К ее красивому лицу вся эта зелень необычайно шла, и сегодня она снова казалась настоящей богиней Лелей.
На пирах в честь возвращения дружин она не показывалась, сидя, как рассказал ее брат, с приболевшей бабкой, и после возвращения от вятичей сестры увидели ее в первый раз. Молинка тут же кинулась обниматься:
– Здравствуй, душенька ты моя! Как бабка Шваруса? Ходилец говорил, хворала?
– Да, говорит, как шагну – все кружится перед глазами, кружится! Темяна к ней приходила, поворожила что-то – вот, вставать уже начала, меня отпустила. Тоже боится, солнцем поля сожжет, останемся без хлеба на весь год. Всех наших отправила, одна дома осталась. Вы-то как? Говорят, с вам такое приключилось, что ни в одной кощуне не услышишь. Нам с бабкой Ходила пересказывал, да я не поверила, думала, врет.
– Да уж, славно бились на Дунае! – Лютава усмехнулась, вспомнив старую поговорку деда Братени. – Дай Макошь, чтобы все это уже закончилось.
– Расскажешь? А то я все пропустила.
– Расскажем. Слу-ушай! – Лютаву вдруг осенило. Схватив Далянку за руку, она оттащила подругу в сторону и заговорила: – Слушай, красота ненаглядная, а тебя-то мне и надо! Ты ведь Хвалиса нашего не видела с тех пор, как вернулись?
– Где же мне его видеть? Я с тех пор из веси не вылезала, а его к нам не приглашали. Мать на него и Замилу зла еще с тех пор, как меня присушить пытались, ну, помнишь? В тот самый день, как вятичи приехали.
– Помню, еще бы!
– Мать его после такого и на порог не пустит. Да и нужны мы ему очень! Ходилец рассказывал, ему, Хвалису, сам князь Святко свою дочь, что ли, в жены обещал. Или неправда?
– Вот я и хочу узнать, где он врет, а где нет. Хочу, чтобы ты с ним поговорила.
– О чем мне с ним говорить-то? Ты что, подруга, придумала? – Далянка посмотрела на нее с опасением, будто подозревала, что Лютава сошла с ума. – То сама учишь обходить его дальней тропкой, а то…
– Да послушай меня! Я хочу, чтобы он тебе рассказал, что и как у него с вятичами сложилось.
– А то ты не знаешь? Ходилец говорил, они с Вышенем на том пиру все расписали, такую песню спели на два голоса, что Хвалибогу такое и не снилось.
– Песню их я слышала, но в той песне правды меньше, чем у Хвалибога иной раз бывало. А я хочу, чтобы он тебе правду рассказал. Подойди к нему, улыбнись – он тебе такие тайны выдаст, какие и матери родной не расскажет. Говори ему, что и пошла бы за него, раз он теперь такой удалец, да боишься, что будет мало чести. Вот тут он тебе все и выложит – что ему князь Святко обещал и на что он надеется.
– Да где же я его увижу?
– Тут он где-нибудь, чует мое сердце! – Лютава огляделась, хотя вблизи Макошиного святилища в это утро никому из мужчин показываться не дозволялось. – До вечера еще объявится. Или сама потом с девчонками в Ратиславль иди.
– А ты что же?
– А я в Варгу пойду. Я там уже дней пять не была, одичают совсем без меня. А к тебе завтра зайду.
– Девушки, вы идете? – закричала от ворот Ходиловна, мать Далянки.
Лютава обернулась, увидела у ворот толпу и оживление, охнула и бегом кинулась внутрь – снаряжаться.
Из святилища уже показалась Молигнева в сопровождении младших жриц. Вместо одежды она была укутана в траву и цветы, огромный венок возвышался у нее на голове, так что женщина походила на огромный живой куст. Вслед за ней вышли княжеские дочери, тоже все одетые в травы и цветы. У девушек волосы были распущены, украшены венками и всякой зеленью. В руках каждая несла цветы и немного ростков с ржаных и пшеничных полей – тех самых, которые сейчас так нуждались в дожде.
Увидев их, все женщины дружно закричали, приветствуя ту, что сейчас олицетворяла для них саму Макошь, саму Мать Сыру Землю в летнем зеленом уборе.
– Пойдем мы реку дождя просить, богов и богинь славить! – провозгласила Молигнева. – Все ли здесь наши?
– Все! – дружно закричали женщины и девушки.
– А нет ли здесь кого чужого? – Под «чужими» сейчас подразумевались не только иноплеменники, но и мужчины.
– Нет!
– А кто будет дождя просить?
– Я буду, матушка! – Шагнув вперед, одна из молодых женщин поклонилась.
Ее имя, унаследованное от бабок, было Росомана, что означало «та, что приманивает росу» – нечто вроде должности жрицы в храме, со временем ставшее именем, но не переставшее вместе с тем означать должность. Та, которой по порядку смены поколений доставалось это имя, вместе с тем получала и ведущую часть в обрядах вызова дождя. Если же вдруг, сохрани Перун, у нее это получалось плохо, то неудачницу лишали имени, передавая его, вместе с обязанностями, более способной дочери рода.
– А кто будет сторожить? – снова спросила Молигнева.
– Я буду сторожить! – отозвалась Лютава, выбегая из ворот.
Ей для нынешнего случая пришлось надеть накидку из волчьей шкуры мехом наружу, и она завидовала прочим, одетым в рубашки или в одни цветы. Но что поделать: назвали волчицей – полезай в шкуру, как смеются издавна волхвы-оборотни. В руках она держала сразу две сулицы. На поясе звенели многочисленные обереги, в основном в виде маленьких железных челюстей и ножичков. При таких обрядах ее задача состояла в том, чтобы охранять участниц и место от осквернений, не подпуская близко тех, чей взгляд мог испортить священнодействие, а присутствие – оскорбить богинь. При проведении женских обрядов этими врагами считались мужчины – те, кто в седой древности не допускался до бесед с богами и ничего не смыслил в ворожбе. Лишь со временем, захватывая власть в земных делах, мужчины вырвали у жриц и право на волшбу, но разница между мужской волшбой и женской до сих пор сохранялась.
– Кого себе в помощь возьмешь? – спросила ее Молигнева.
– Возьму… – Лютава показательно закрыла глаза, покрутилась немного на месте, потом вдруг резко ткнула наугад: – Ее!
Раздалось несколько выкриков: рука «волчицы» указывала на Замиру.
– Смотри, сестра, сторожи хорошенько! – Подойдя, Лютава вручила сводной сестре сулицу. – Чтобы не видел нас ни дух придорожный, ни бурый медведь, ни черен чуж человек! А завидишь кого – кричи во всю мочь!
Впереди Молигнева, Володара и Любовидовна, как самые старшие женщины племени, потом Росомана, потом все остальные женщины двинулись к реке. Последними шли Лютава и Замира. Молигнева запела, и вся толпа подхватила за ней:
Ложилась я спать ночкой темною — Темным-темно! Вставала я в красную зарю утреннюю — Светлым-светло! Умывалась я водой ключевой, Утиралась белым платом, Белым платом, узорчатым! Шла я из дверей в двери, Из ворот в ворота, Шла путем-дорогою, Сухим сухопутьем! Пришла я во чисто поле, На быструю реку!Распевая, угрянки двигались, обходя луговину и рощу, к низкому берегу реки. Здесь, на широкой отмели, которую от Ратиславля загораживал лес, издавна проводились женские обряды, для которых требовалась вода.
Когда показалась река, Росомана вышла вперед, держа перед собой огромную охапку цветов, перевязанную белым вышитым полотенцем, и запела:
На море на окияне, на острове на Буяне, Есть бел-горюч камень, А в камне том скрыта сила могучая, Никем не виданная, Никем не знаемая, Никем не считанная. За камнем сидит Мать Вода, В медном городе, в железном тереме, В неволе заключенная, В семьдесят семь цепей закованная, За семьдесят семь дверей запертая, За семьдесят семь замков, За семьдесят семь крюков!Женщины повторяли за ней, и каждой казалось, что сила заклятья, повторенного без малого сотней голосов, поднимает дух от земли и несет в небесные луга, где живет Сварог, где хранятся, оберегаемые предками, запасы небесной воды, о которой они просят. А для Росоманы их духовные порывы становились лестницей в небеса: опираясь на слаженную силу сотни душ, она посылала свой дух и полет и стучалась в золотые ворота богов. Она принадлежала к «верхним» волхвам – тем, кому открыта дорога в Верхний мир.
Ты, Сварог-отец, встань, пробудись, Умывайся ледяной росой, Утирайся белым облаком, Облекайся, наряжайся частыми звездами! Возьми двенадцать ключей, Отомкни двенадцать замков, Отвали двенадцать камней! —призывала Росомана, встав над берегом, и женщины вместе с ней кланялись воде.
Ты, Перун-отец, встань, пробудись! Умывайся ледяной росой, Утирайся белым облаком, Облекайся, наряжайся частыми звездами! Возьми золотое копье, Ударь в тучу темную, в тучу каменную, В огненную и пламенную, Пролей часта дождичка!Росомана первой пошла в воду, за ней потянулись сначала жрицы и девушки, одетые в травы и цветы, потом и остальные женщины, кому хватило места, забрели в воду по колено. Молигнева и Росомана зашли в реку глубже всех, по грудь, и травы, в которые они были одеты, плыли рядом с ними. Девушки окружили обеих жриц и стали брызгать водой на них и друг на друга: плеск воды заглушал слова заклинания, и все женщины в воде и на берегу кричали наперебой, стараясь, чтобы божества непременно их услышали:
– Пришли нам часта дождичка, на сине море не вырони, на лес дремучий не вылей! На ветре не посуши, на солнце не попали, а пролей дождичек над нивой широкой, на рожь, на пшеницу, на горох, на просо, на овес!
Росомана развязала полотенце, выпустила из рук свою охапку цветов, цветы поплыли по воде. Девушки побежали следом, подгоняя цветы, чтобы плыли быстрее. Вся река закипела: женщины вовсю плескали водой друг на друга, кричали: «Как на тебя льется, так чтоб дождем на землю лилось!» – и яростнее всего десятки рук плескали на Молигневу, потому что именно она сейчас была Макошью, богиней-землей, которой требовался дождь.
Почти вся река до поворота наполнилась движением, визгом и плеском. Молодые девушки носились друг за другом, плескались, падали, били по воде, кричали, и вся река казалась зеленой от плывущих по воде трав и цветов. Растущие по берегам деревья, отраженные в воде, тоже, казалось, плыли. Мокрые, с намокшими волосами, увитые такими же мокрыми обрывками зелени, девушки напоминали берегинь, которые вот так же купаются в этой реке в конце весны. И возможно, сама веселая берегиня Угрянка, выйдя из своих глубин, незримо резвилась вместе с земными женщинами. А уж Перун, глядя с высоты на это изобилие гибких юных тел, непременно должен был пролить на землю свою живительную влагу! Тем более что все мужчины, пока женщины ходили на реку, отправились к Перунову дубу с дарами Перуну Мокрому,[19] чтобы в свою очередь тоже попросить его о дожде.
Лютава и Замира во всем этом буйстве не принимали участия: стоя на берегу по сторонам поляны, они оглядывали опушку леса и противоположный берег, высматривая, нет ли там кого. Иногда поглядывая на женщин в реке – а то еще девчонки, заигравшись, и впрямь кого-нибудь утопят, – Лютава в основном осматривала берега и опушку рощи. Что-то ей не нравилось. За шумом, который стоял на реке, за гулом самого березняка ничего не удавалось услышать, а в мелькании зеленых ветвей под ветром Лютава не различала ничего подозрительного, но настороженное чутье «волчицы» улавливало присутствие чужого.
На Замиру в этом деле надежда была плохая: любая сельская девчонка принесла бы не меньше пользы, чем княжеская дочь от чужой, иноплеменной женщины, которая за двадцать лет среди угрян так и не стала для них своей. Держа свою сулицу как простую палку, смуглянка больше глазела на беснующихся в реке женщин и, наверное, хотела присоединиться к ним – было жарко. Только иногда, вспомнив о своих обязанностях, она бросала невнимательный взгляд на тропу. Поэтому Лютава старалась не упускать из виду и дальнюю сторону поляны.
– Опасность! – шепнул ей прямо в уши бесплотный голос. – На нас смотрит чужой!
Это Угрянка! Она и правда здесь! Вернувшись с берегов Оки, Лютава принесла хозяйке родной реки жертву молоком и медом, благодаря ее за помощь и поддержку. И вот ее дух-покровитель снова дал о себе знать.
Лютава еще раз прошла по краю рощи, и вдруг глаз выцепил на противоположном берегу, за кустами, среди зеленой листвы белое пятно рубахи. Женщинам нечего делать на другом берегу, они все здесь. Зато если бы кто-то вздумал подглядеть за обрядом, то лучшего места и не выберешь – тот берег выше и кусты на нем густые.
Замира стояла прямо напротив белеющего пятна и, скользнув взглядом по тому берегу, заметила его. На ее лице отразилась растерянность – она находилась ближе, ей было лучше видно. А Лютава, не дожидаясь, пока помощница сообразит, бросилась к берегу и метнула сулицу в белое пятно.
Пятно дернулось, сквозь шум на реке и шелест ветвей до ее обострившегося слуха долетел слабый вскрик. Попала! Ну, еще бы! В искусстве метать сулицы Лютава не уступала никому из старших бойников, а младших сама учила – как в те седые времена, когда именно жрицы Марены, Матери Мертвых, обучали молодых воинов-мужчин владеть оружием.[20]
Это не шутки: желающий потаращить глаза на раздетых девок ставит под удар будущий урожай и благополучие всего народа. Такого любопытства не прощают: если настигнут, то в самом лучшем случае просто побьют, а потом макнут в воду. В худшем случае, если засуха всерьез грозит погубить урожай, утопят на самом деле, чтобы подкрепить свои мольбы весомой жертвой. Поэтому мужчина, застигнутый за таким подглядыванием, должен бежать, как олень, чтобы его не догнали и даже не узнали.
Многие из женщин, особенно те, кто постарше, утомившись от беготни по реке, плеска и визга, уже выходили на берег, отжимали подолы рубах. Они заметили, как Лютава бросила сулицу через реку, заметили и дернувшееся пятно в кустах. Кто-то услышал вскрик.
Женщины закричали, а Лютава, мгновенно выхватив у растерявшейся Замиры вторую сулицу, слетела в воду и побрела, как была, в рубахе и накидке, к противоположному берегу.
Здесь было не глубоко, высокой Лютаве вода в самом глубоком месте доходила только до груди. Оружие она держала над головой, коса плыла за ней. Женщины, продолжая кричать, тоже побрели, торопясь и одолевая напор течения, к высокому берегу. Пожилые охали и бранились, надеясь черной бранью отпугнуть сглаз; молодые девчонки, возбужденные купанием и возней, визжали в азарте, готовые всей стаей мчаться в погоню и преследовать негодника, будто стая волков – оленя.
Цепляясь за кусты, Лютава проворно лезла наверх, готовая возглавить эту погоню, как самая опытная, сильная, чуткая и неутомимая волчица. В ней кипели звериная лютость и священный гнев богини, руки и ноги сами несли ее, и она взлетела на обрыв, даже не запыхавшись, только извозив в песке мокрый подол. Мелькнула мысль позвать на помощь лесных волков – наверняка кто-то из них есть поблизости, – но Лютаве казалось, что она сама настигнет своего врага гораздо раньше. Ведь он здесь, совсем близко, куда ему деться!
Смешанный лес рос здесь не настолько густо, чтобы сразу скрыть человека. Белое пятно рубахи мелькало впереди; пока Лютава одолевала реку, беглец оторвался на целый перестрел. Рана его оказалась не настолько тяжела, чтобы мешала бежать. Сзади раздавались визги девушек, наперегонки лезущих на обрыв, но Лютава, никого не дожидаясь, стрелой понеслась в глубь леса.
Белая рубаха впереди то исчезала за стволами и кустами, то вновь появлялась. На бегу, среди ветвей, Лютаве никак не удавалось разглядеть, кто же это. Березы кончались, впереди встал ельник, перемешанный с ольховником и кустами. Беглец был по-прежнему далеко: понимая, чем ему это грозит, он тоже мчался изо всех сил.
Рубаха мелькнула в последний раз и пропала: кусты встали стеной, а когда Лютава продралась сквозь них, белой рубахи впереди уже не увидела.
Лютава остановилась, переводя дыхание и убирая с лица выбившиеся волосы. Зорким взглядом она окинула лес: все было тихо. Беглец затаился, ветки не дрожали, следов на плотном ковре еловой хвои не остается. Но отказываться от преследования она не собиралась. Просто теперь надо звать на помощь волков. Они в два счета и выследят, и загонят ее дичь. И разорвут во славу Ярилы, чтобы неповадно было оскорблять богов!
Лютава прошла еще несколько шагов, пытаясь определить направление.
И вдруг увидела впереди человеческую фигуру. Кто-то сидел, спрятавшись за поваленным деревом, сжавшись в комок и спрятав голову в коленях.
Поудобнее перехватив сулицу, Лютава устремилась туда. Беглец, видимо, уже не мог бежать от изнеможения, и затаился, как заяц. Она подошла ближе… и узнала свою дичь.
Свернувшись, как еж, за толстым еловым стволом сидела Галица.
– А ты здесь откуда? – в величайшем изумлении, еще не отдышавшись после гона, еле вымолвила Лютава. – Эй!
Женщина робко, медленно, будто каждый миг ожидая удара, подняла глову и боязливо взглянула на нее жалостливыми собачьими глазами.
– М… ма… – забормотала она.
– Ты как тут оказалась? – Лютава шагнула ближе. Она все еще не могла опомниться от изумления.
– Ма-а-тушка, сми-илуйся, – прохныкала Галица и, не разгибаясь, встала на колени. – Не погуби! – Она поклонилась, ткнувшись лбом в рыжую хвою. – Я не того… Не хоте-ела. Не губи мою головушку бедную!
– Ты откуда здесь взялась? – строго спросила Лютава, чувствуя, что ничего не понимает.
– Ходила на… По ягоду, по землянику… Раным-раненько ушла, спали еще все. Потом спохватилася, что надо идти дождя просить, а глядь – не на том я берегу. Хотела пойти… А тут ты как набросишься… Я и бежать.
– Ты? Это была ты? – Лютава подняла брови.
– Я, матушка! Прости! – Галица снова поклонилась лицом в хвою.
– Но ты-то зачем бежать вздумала?
– Прости дуру бабу!
Лютава огляделась. Дыхание ее почти восстановилось, мысли тоже пришли в порядок, успокоившись после ярости погони. Она не верила Галице. Зачем женщине спасаться бегством, когда ей надлежало, наоборот, быть со всеми? Но так же ясно было и то, что настоящий беглец исчез.
– Кто здесь был? – Лютава пристально глянула на Галицу. – Кого тут видела?
– Никого не видела, одна я ходила! – зачастила та и снова принялась кляняться.
Лютава прошлась по поляне, где лежала упавшая ель. Трава вокруг была не смята, никаких следов не осталось. Похоже, что кроме Замилиной челядинки тут никого нет. Но неужели баба и в самом деле кинулась бежать с перепугу, увидев Лютаву с сулицей?
Нужно искать другой след. Можно позвать волков, а можно…
– Лютава-а-а! – закричали со стороны реки. – Где ты-ы?
– Я здесь! – крикнула она и, повернувшись, пошла назад к реке.
Галица подождала, пока фигура старшей княжны скроется за деревьями и зовущие ее голоса стихнут. Потом еще подождала. Потом осторожно встала с колен, огляделась еще раз и подошла к нижнему концу лежащего ствола. Падая, ель вывернула вместе со своими корнями огромный кусок черной болотной земли, оставив внизу яму. Однако на первый взгляд все выглядело так, будто на дне неглубокой ямы сплошной мох, слегка присыпанный мелкими желтоватыми листиками.
– Вставай. Ушла она, – совсем другим голосом, без следа страха и уничижения, произнесла Галица.
Мох на дне ямы под выворотнем зашевелился, приподнялся… Из-под корней поднялась человеческая фигура в белой рубашке; поначалу казалось, будто человек поднимает спиной моховой покров, но тут же морок растаял. Перед Галицей стоял Хвалис – усталый, напуганный, зажимающий левой рукой рану на правом предплечье. Его смуглое лицо было искажено болью и досадой – он обмирал от сыда и унижения, вспомнив, как мчался, не чуя под собой ног, спасаясь от женщины, собственной сестры, которая гнала его, как волчица олененка. И догнала бы, не наткнись он здесь на Галицу.
– Пойдем. – Женщина поманила его за собой.
– К-куда? – спросил Хвалис. – Ты бы перевязала меня, что ли?
– Придем – перевяжем. Промыть надо, а то как бы земля лесная в рану не попала.
– Куда пойдем-то? Если я домой в таком виде приду, она сразу поймет!
– Домой тебе пока не следует. К Просиму пойдем. Там я тебя перевяжу, и у него пока побудешь. А завтра я в Ратиславль схожу и узнаю, можно ли тебе возвращаться.
– А он не выдаст?
– Не выдаст. Он оборотня не сильно любит. Не бойся со мной ничего, сокол мой, я тебе в любой беде помогу.
Не отвечая, Хвалис молча пошел за ней. Желание повидать наконец Далянку, по которой он так соскучился за время поездки, могло дорого ему обойтись. Но Галица не зря обещала ему помощь – без нее он, вероятно, сейчас уже лежал бы на дне омута. С сулицей в груди.
Глава 10
Когда мужчины вернулись от Перунова дуба – по такому поводу, угощая бога, и самим медовухи выпить неплохо, все равно день не рабочий, – князя Вершину уже поджидала Молигнева. Приведя себя в порядок, одетая уже не в цветы и травы, а в рубаху, поневу с занавеской, увенчанная рогатым убором многодетной матери, еще немного красная после обряда, она вид имела внушительный и даже грозный.
– Ну как, матушка? – весело спросил князь. – Хорошо ли ваше дело сладилось? Услышал ли Перун ваши мольбы?
– Нерадостная весть у меня, брате! – ответила старшая жрица. – Подсматривал кто-то, как мы дождь заклинали, отсюда и все беды эти. Надо виноватого искать.
– Подсматривал? – в изумлении повторил князь. – Быть не может!
– Лютава сказала.
– А ей не показалось?
– Да здесь она, сам спроси.
Князь вышел во двор и увидел старшую дочь. С разлохмаченной и кое-как приглаженной косой, с волчьей накидкой, свернутой и перекинутой через плечо, румяная и возбужденная, она стояла посреди двора, держа в руке свою сулицу, а вокруг нее толпились женщины, участницы обряда. Почти все, как Лютава, были взбудоражены, у многих рубахи липли к мокрому телу, у девушек травинки и увядшие цветочные стебельки запутались в косах. Пахло от них речной водой и травами, так что все мужчины вокруг жадно втягивали запах, жмурились, крутили головами – дескать, эх…
– Когда заклинали мы дождь, кто-то с другого берега подглядывал за обрядом, – говорила Лютава. – Я его видела и сулицей моей его ранила. Посмотрите, люди, нет ли кого раненого?
Мужчины загудели.
– Да кто ж такой-то? – заговорили со всех сторон. – Да не может быть! Что же у нас, глупые такие?
– Леший это был, Лютавка! – кричал Витомер, старший сын Богони.
– Померещилось тебе, волхва! – оторопело воскликнул Толига.
– Не могло мне померещиться! Я свое дело знаю! Я тебя воевать не учу, и ты меня сторожить не учи!
– Это верно, княжна свое дело знает!
– Ты, Новина, до смерти так сулицу метать не научишься, как она!
– Да все здоровые у нас, княжна. Косень только хромает, так ведь он с весны хромает.
– Ну, я все равно найду!
– Она найдет! – Боярин Будояр кивнул с таким видом, что, дескать, не поздоровится тому, кого она найдет.
– Что ты такое говоришь, волчица моя? – обратился князь к старшей дочери. – Говоришь, видел вас кто-то?
– Да, батюшка. Был человек на том берегу, я его видела и сулицу в него метнула. Потом гнала его по лесу, да он затаился где-то. Я бы нашла его, да Галица мне попалась.
– Галица?
– Она. Сказала, что она и была – собирала, дескать, землянику, а как меня увидела, напужалась и бежать! – сердито передразнила Лютава. – Как увидела меня, так бух на колени, мордой в мох тычется и твердит: прости, не губи, не убивай!
– Так, может, она и была? – с надеждой спросил князь. – Она – девка, на нее боги не огневаются.
– Не она, батюшка! – Лютава подавила досадливый вздох. – Я тоже удивилась, да сперва вроде поверила. А потом уж поняла – я ведь сулицу метнула в того, кто подглядывал, и ранила его. А Галица была целехонька, и рубаха не рваная, и крови ни капли.
– Точно ли ты ранила? Где же в лесу, сквозь ветки, сулицей попасть?
– Точно ранила, – уверенно ответила Лютава. – Здесь – следы крови! – Она показала сулицу, которую подняла в лесу после первого броска. – Чую, свежей кровью пахнет. Вот только не могу сказать, чья она…
– Надо, князь, виноватого искать! – снова сказала Молигнева. – А не то разгневаются боги, не прислушаются к мольбам нашим, не дадут дождя. Поля выгорят, и будет у нас опять голодный год.
Народ загудел. Два недавних голодных года всем были памятны, повторения их никто не хотел.
– А где же Галица-то? – спросила Богониха, старшая жена Богони. – Давай ее сюда, мы уж выведаем, кого она под подолом прятала!
Женщины вокруг засмеялись. Князь кивнул, несколько девчонок кинулись к жилищу Замилы, но вскоре вернулись ни с чем: хвалиска сказала, что Галицы не видела с самого утра и сейчас ее нет.
– Ну, придет, никуда не денется. – Княгиня Володара махнула рукой. – А мы и без нее виноватого найдем.
– Да разве я мешаю, мать? – Князь развел руками. – Что от меня требуется, скажите, я все исполню.
– От тебя сейчас одно требуется: вели всем Ратиславичам и мужикам из себров на лугу собраться.
Князь отдал распоряжение, разослал отроков гонцами по ближним весям. Лютава пошла у Любовидовне, чтобы немного отдохнуть, – ей еще предстояла сегодня нелегкая работа.
Ближе к вечеру на лугу стали собираться мужчины. Женская стая тщательно обыскала каждый двор Ратиславля, начав с княжьего, чтобы убедиться – ни один ходячий старик и ни один мальчишка, облаченный в порты,[21] не остался дома и не забился где-нибудь в угол.
Мужчины собирались в середине луговины, а по краям их омывала пестрая женская толпа. А в самой середине луговины, в окружении людского моря, стояли две женщины – Молигнева и Лютава. «Сестра волков» держала в руках небольшой кудес, тоже с бубенчиками.
Виновен был кто-то один, но мужчины знали, что сейчас духи Навного мира помогут «волчице» его выследить. Мороз продирал по коже при виде отрешенного лица Лютавы – она уже искала, уже нащупывала свою, нахоженную за шесть лет, прошедших со дня посвящения, тропку в Навный мир.
Не дожидаясь и не глядя, все ли собрались и слушают ли ее, Лютава закрыла глаза и мягко ударила в кудес. Время пришло, невидимая рука подала ей знак: пора! Услышав первый, еще негромкий удар, люди замолкали, даже старались дышать потише.
Из-за леса, леса темного, Из-за полюшки широкого, Вижу, конь бежит, земля дрожит, —негромко запела Лютава, постукивая в кудес.
Она пела, стучала, и каждый удар в кудес был шагом ее души прочь отсюда, шагом в Навный мир. Кудес звучал все быстрее, она начала приплясывать на месте, потом вращаться. Это было не так уж обязательно, но в присутствии большого количества народа битье в кудес, песня и движение помогали ей лучше, словно притягивая и наматывая, как нить на веретено, объединенные силы сотни душ.
Лютава стучала в кудес, кружилась и пела, потому что это доставляло ей удовольствие, хотя прекрасно могла бы обойтись и без внешних действий. Это могли не все волхвы, но она теперь могла, вооруженная духом Хромой Волчицы. При первых же словах песни-заклинания, произнесенных вслух или мысленно, у нее словно открывалось что-то внутри и дух устремлялся вдаль; по коже бежали мурашки, в глазах выступали слезы, но это тоже было приятно. Она продолжала видеть окружающий ее Явный мир, но смотрела на него словно бы издалека, сквозь какую-то прозрачную стену, наполовину глушившую звуки, а главное, делавшую содержание Явного мира не важным. Внутри нее образовавалось иное пространство, беспредельное по сути, и сама себе она тогда казалась огромной, как Марена. Сияющая звездная ночь, темная вода, омывающая берега бытия, оказывалась волшебным образом заключена в тесную и хрупкую оболочку человеческого тела, не теряя своей мощи. А она, Лютава, в такие мгновения ощущала счастье, какого не могут дать никакие земные блага.
– Ты звала меня! Я пришла! – коснулся сознания женский голос – нежный, звонкий, дышащий свежестью росы, сверкающей на зеленом листе.
– Ты звала меня. Я пришел! – произнес другой голос, мужской, низкий и тяжеловатый.
– Здравствуй, Угрянка, сестра моя! Здравствуй и ты, Радомер, брат мой! – мысленно ответила им Лютава. Она еще постукивала в кудес, но уже не пела и только покачивалась на месте, чтобы не выпасть из ритма.
– Зачем ты зовешь нас? Какая помощь тебе нужна? – двумя голосами спросили духи.
– У нас беда, – так же мысленно ответила Лютава. – Мы заклинали богов послать нам дождь, кто-то из мужчин подсмотрел за нашим обрядом. Я нашла бы его по кровавому следу, но чужая ворожба закрыла его след. Помогите мне найти его. Ведь пока мы не найдем и не накажем оскорбителя, боги не дадут нам дождя. Вы знаете его?
– Мы знаем его. Мы знаем, – отозвались духи.
– Но лучше тебе не знать его, сестра, – добавила Угрянка. – Не принесет это знание ни радости тебе, ни покоя твоему племени.
– Но я должна найти. Укажите мне его.
– Следуй за мной, – предложил голос Радомера. – Следуй за мной, сестра.
Впереди мелькнула темная тень, и Лютава уже легче различила во тьме крупного темного волка, почти черного, с полоской бурой шерсти от загривка до хвоста. Того самого, что лишь мельком показался ей при встрече со Змеем Летучим, но во второй раз ей уже было легче его увидеть.
Мелькнув пушистым хвостом, волк побежал куда-то по невидимой тропе, и Лютава понеслась за ним. Явный мир совсем исчез, кудес выпал из рук неподвижно застывшей волхвы, люди вокруг затаили дыхание. А она ничего не видела, кроме знакомого берега Угры, рощи, тропки, поляны… Вот она снова стоит над водой, пристально вглядываясь в противоположный берег… Вот она видит белое пятно, вот взор заостряется, пронзает березовую листву… Вот уже ясно видна фигура мужчины в белой рубахе, темноволосая голова… Смуглое лицо с густыми черными бровями – княжич Хвалислав замер, вцепившись в березу, и его горящий взор не отрывается от фигуры Далянки – та стоит по пояс в воде, мокрые волосы облепили высокую грудь, травы и цветы плывут перед ней, будто рождаются под ее руками, она смеется, и капли воды катятся по ее лицу…
Миг – и Хвалислав хватается за плечо, в увлечении не заметив ни Лютаву на другом берегу, ни сулицу, вдруг прилетевшую оттуда. Сулица на излете бьет его в плечо и падает в траву, но на полотне рубахи мигом появляется кровь. Хвалис отскакивает от березы, поняв, что обнаружен, и пускается бежать через лес. Он знает – если его догонят, то утопят в омуте за поворотом реки, и тогда уже одни навки да водяницы будут обнимать его своими холодными руками…
– Спасибо тебе, брат, – едва успела поблагодарить Лютава Радомера, который выследил для нее добычу. – Идите своими тропами.
– Иди и ты своей! – прозвенел в ответ голос Угрянки.
– Не упускай добычу, сестра! Удачи тебе на охоте! – добавил Радомер, и пушистый хвост темного зверя мелькнул в последний раз, растворяясь в просторах Навного мира.
А Лютава открыла глаза. Тьма постепенно рассеивалась – в Явном мире времени прошло совсем чуть-чуть, несколько мгновений.
– Ты нашла его? – обратился к ней здешний голос.
– Нашла, мать. – Лютава повернулась к Молигневе. – Это Хвалислав, сын отца моего, князя Вершины!
Толпа взорвалась криком, загудела, заволновалась. Все завертели головами, отыскивая виновника. Сам князь стоял в первом ряду, в нескольких шагах от Лютавы, Лютомер со своими побратимами – напротив, но Хвалиса не оказалось нигде.
– Да он, поди, в городе остался! – загомонили Ратиславичи, переглядываясь. – Он в святилище-то был с нами?
– Я не видел.
– И я не видел. Он ведь не шел с нами, да, Бороня?
– Я его вовсе сегодня не видел! Видать, дома сидит.
– Мы искали на дворе княжьем! – вопили женщины. – И у Замилы были! Она сказала, нет тут никого, ступайте!
– У Замилы он! Пойдем к ней! – кричала толпа и уже валила с луговины в сторону ворот.
– Тише, угряне, тише! – взывал князь Вершина. – Я все это дело разберу, правду узнаю, и кто виноват, того вы в руки получите! Ступайте по домам, ступайте!
Но себры не расходились – имя виновника уже знали, в словах Лютавы никому не приходило в голову усомниться. Сомневались только в решении князя. Однако оскорбление богинь, грозящее погубить урожай всей волости, если не всего племени, – вина слишком суровая, чтобы ее можно было простить даже любимому сыну.
Ратиславич набились в братчину, все гомонили наперебой, стоял шум, люди были взбудоражены и несколько растеряны.
– Ну, что решил, князь? – Молигнева остановилась перед Вершиной. – Виноват твой сын, так давай его сюда. Где он? У матери прячется?
– Не получишь ты моего сына, корова рогатая! – злобно ответила ей Замила, прибежавшая на шум, и не зря. – Я знаю, ты сама бы его на куски разорвала! И ты, и эта тоже! – Она кивнула в сторону Любовидовны, которая стояла возле своего единственного сына Борослава. – Вы всегда Хвалиса хотели извести, чтобы он вашим сыновьям путь не загораживал!
– Чего мы хотели, то тебя не касается, – возразила Любовидовна.
Она тоже в душе радовалась, что появился законный повод навек избавиться от сына противной хвалиски, а может, и от нее самой. А поскольку Лютомер живет в Варге, то первым наследником Вершины становится Борослав!
– Наши сыновья по кустам не бродят, за девами не смотрят! – продолжала она.
– Ну, может, случайно забрел, заблудился. – Толига попытался выгородить своего воспитанника, но без особого успеха – тому не три года, чтобы заблудиться возле самого города!
– А то я не знаю, чего твоему чернявому там понадобилось! – возразила Любовидовна. – На Далянку небось глаза пялил! И в Ярилин день он к ней подкатывался, и в Купалу еще прошлым летом все ноги стоптал, за ней бегаючи, все кусты переломал, и еще зимой все подмигивал ей глазищами своими! Небось и теперь посмотреть хотел, как она там в реке плещется!
– Его не было там! – крикнула Замила.
– Врешь! А как же Лютава сказала! – Любовидовна показала на волхву, стоявшую с кудесом.
– Она обманула! – Замила глянула на Лютаву, будто хотела взглядом проткнуть насквозь. – Она нарочно указала на него!
– Я вру! – Лютава чуть не задохнулась от возмущения и порывисто шагнула вперед, так что все бубенчики на ее одежде зазвенели. В братчине снова поднялся гул. – Да как ты смеешь! Ты кто такая! И меня, волхву, ты во лжи обвиняешь! Ты, холопка украденная!
– Молчи! – прикрикнул Вершина на дочь, болезненно кривясь, а Замила закричала, словно ее резали.
– Князь, ты это слышишь? Твою жену в твоем доме оскорбляют! Перед всеми сродниками ты позволяешь это! Чтобы твою жену называли холопкой! И кто – эта девка, эта волчица, которая живет сразу с десятью мужьями и со своим братом по матери!
Лютомер шагнул вперед, его побратимы загудели и тоже подвинулись ближе – обвинения Замилы касались их всех.
– Ты, князь, свою бабу-то придержи! – рявкнул Богомер. – Что-то я не пойму! Носишься ты с ней, как с яйцом писаным на Радуницу, а она больно много о себе думать стала! Я давно говорил!
– От худого семени не быть доброму племени! – вставил Витень, младший брат Богомера.
– Это ложь! – кричала Замила, пока Вершина и в самом деле не собрался заткнуть ей рот. – Я знаю почему! Она зла на моего сына, потому что боится, как бы он ее брату дорогу не перешел! А ее брат – волк, он не живет в роду и не может наследовать отцу!
– В бойники не навек уходят, вернуться недолго! – ответила Лютава. – Вон кузница, пройдешь через нее – снова в роду будешь. А вот кто от чужой женщины, от робы безродной, на свет появился, тому князем угрянским не бывать! Да хоть бы он из всех сыновей один остался, никогда его угряне не признают! И не надейся, выдра хвалисская!
Ратиславичи опять загудели. Княгиня Замила закричала и завыла, вцепившись в кику, согнулась пополам, словно ее поразила невыносимая боль. Этот ее крик действовал на князя сильнее любых доводов.
– Но что же теперь, в омуте топить? – рявкнул Вершина, перекрывая общий гул. – Сын ведь мой!
– Спросим богов – как они скажут, так и сделаем!
– Я знаю, что они скажут! – кричала Замила.
– А вот как через этого сына засухой все хлеба спалит, градом побьет, опять голодными останемся – вот и будет тебе сын! – наседал Богомер.
Князь Вершина сжимал зубы от досады, но возражений не находил. Он отлично знал, что князь является первым представителем своего племени перед богами и предками, а значит, еще менее других имеет право нарушать порядок.
– Перед богами все равны, князь, – отрезала Володара. – На том наша вера родная стоит, на справедливости белый свет держится.
– Ну, нашалил парень по глупости, с кем не бывает! – Толига единственный, кроме Замилы, пытался что-то сказать в защиту Хвалиса.
– Нет, это не шалости! – Молигнева покачала головой. – Боги за такие шалости всю землю угрянскую благословения лишат, нашлют на нас голод, мор и погибель.
– Да уж лучше бы Далянка за него замуж пошла, давно бы все сладилось! – в сердцах воскликнул Вершина. – Ты, мать, чем меня почтению учить, лучше бы девку уговорила не ломаться! Для кого бережешь? Для своих? Твоим не надо, за твоих ты богов сама попросишь. А Хвалису надо, за него ведь заступиться некому!
– А меня никто спросить не хочет? – с возмущением воскликнул Немига. – Нужен ли мне такой зять?
– Где он есть-то, Хвалис? – гремел Богомер. – Где прячется?
– Не знаю! – Толига развел руками. – Перуном клянусь, не знаю. Со вчерашнего вечера не видел его.
– Когда к Перуну Мокрому ходили, он был с нами? Ты кормилец, ты следить должен.
– Кормилец! Кормилец до семнадцати годов следит. А дальше он уж сам…
– Не болтай, Толига! Был он с нами?
– Как есть… не припомню. – При всем желании выгородить воспитанника Толига не мог солгать. – Не видал я его. Да я и не смотрел, правда. Не малец он беспортошный, чтоб за ним смотреть…
– А ты? – Богомер повернулся к Замиле. – Куда отрока спрятала, говори!
Младшая жена Вершины отвернулась с оскорбленным видом, и вместо нее ответил сам князь:
– Не ведает она. Сама извелась, не знает, куда подевался. Боится, не нашли ли его…
Он бросил красноречивый взгляд на старшую дочь, которая так и не выпустила из рук свою сулицу, являя собой грозный образ Марениной волчицы.
– Затаился где-нибудь… под корягой! – презрительно ответила Лютава. – Но я его найду! Сей же час в лес пойду и волков на помощь позову! Они его и под землей достанут!
Она сердилась на себя, что позволила какой-то челядинке себя обмануть, и была готова не спать хоть три ночи подряд, но выследить эту дичь, которая однажды от нее ускользнула.
До глубокой ночи князь Вершина не ложился спать. Сродники уже разошлись по землянкам, на все лады обсуждая происшествие, охая, строя разные предположения. Постепенно все успокоилось, стемнело, двери закрылись, народ улегся спать, и только князь все ходил по небольшой истобке. Иногда он останавливался около окошка с отодвинутой заслонкой и напряженно вслушивался в ночную тишину, а потом снова принимался ходить.
Мучили его два вопроса: где теперь искать непутевого сына и куда потом спрятать, если удастся найти его раньше волков во главе с Лютавой? Меру своей вины Хвалис понимает, раз не посмел показаться в Ратиславле. Подсмотреть за женскими обрядами, особенно за такими, при которых используется мало одежды, было тайной мечтой каждого без исключения мужчины – в каждом вечно живет мальчик, жаждущий нарушать запреты. Все старинные сказания как раз об этом и говорят. Но даже если удастся ублажить богинь, волков и Лютаву лично какой – нибудь иной жертвой, оставить Хвалиса жить по-прежнему дома едва ли получится. В лучшем случае Ратиславичи потребуют его изгнания. Да и лучший ли этот случай? Куда ему идти? Человек без рода – не человек, пустое место, сухой листок, несомый ветром. Кто угодно его обидит, а заступиться некому. В другой род его не примут – кому нужна чужая беда! – а без рода прожить невозможно. Останется идти куда-нибудь подальше, если еще сумеешь дойти живым, и там продаваться в челядь кому-то из знати. Но сыну хвалиски, даже по внешности такому чужому среди славян, податься будет совершенно некуда. В человеке без рода умирает душа, лишенная поддержки богов и предков, – а без души стоит ли жить и телу? Без души ты упырь, а не человек.
А решать приходилось быстро. К ночи поднялся ветер – на небе появились облака, в воздухе повисло томительное предчувствие. Боги не остались равнодушны к произошедшему сегодня. Но что они пошлют земле угрян – живительный дождь или губительную грозу с градом? В этом случае смерч общего гнева сметет не только Хвалиса, но и Замилу, а то и самого Вершину. Нового голодного года ему не простят, тем более что несчастье пришло из его собственной семьи. Уже много лет в Ратиславле недовольны тем, что он слишком приблизил к себе хвалисскую пленницу, слишком много воли дал ей и слишком много почета – ее сыну. Многие твердо верили, что Замила приворожила, присушила к себе князя, который любит ее сильнее, чем знатных жен из родного племени. Но кого она может присушить, глупая женщина, до сих пор почти ничего не понимающая в славянских богах, не умеющая творить никаких чар?
Сейчас, когда неизвестно, от кого придется отбиваться – от княгини Избраны смоленской, от Святомера оковского, а то и от хазар, сохраните чуры, – раздор в Ратиславле погубит все племя угрян. Положение нужно исправить любой ценой. Знать бы еще, что это за цена и кому ее выплатить… Нет, непременно завтра надо собрать на совет всех волхвов – и Перуновых, и Велесовых, и бабку Темяну не забыть. Пусть берут что хотят, но сделают что-нибудь.
Пока князь ходил из угла в угол, погруженный в эти тягостыне раздумья, Замила почти не умолкала.
– Ты не любишь меня, не любишь! – твердила она. – Я, я одна из всех твоих жен люблю только тебя, тебе одному отдаю все силы моей души, весь жар моего сердца – ведь у меня нет на свете ни другого господина, ни другого защитника, кроме тебя! У меня нет ни рода, ни племени, ни своей земли, ни даже бога! Ваши боги не принимают меня, я чужая им по крови, а Аллах давно отвернул от меня, живущей по обычаям неверных, свое лицо! У меня нет ни отца, ни братьев – никого, только один ты! Все твои жены только и думают, как бы угодить богам, своей родне, любая из них может уйти от тебя, если что не так, и только я одна привязана к тебе до самой смерти – а ты не ценишь моей преданности! Мой сын, единственный из твоих сыновей, никогда не предаст тебя, потому что у него тоже никого нет, только ты! Каждый из этих отроков, твоих сыновей, может убить тебя и занять твой престол сам, им все это сойдет с рук, потому что за них заступятся их родичи, эти женщины из святилищ, и только за нас с Хвалисом не заступится никто, поэтому мы умрем вместе с тобой! Поэтому нас так ненавидят! Нас хотят погубить! На нас наговаривают! Неужели ты не защитишь нас!
– Ну, на реку-то его никто за руку не приводил! – с досадой ответил князь. – Мало ли, я, может, тоже, пока не женился, все мечтал на реку сбегать посмотреть, что там и как, мы с парнями все друг друга подбивали – так ведь не пошли же! Голова, чай, есть на плечах!
– Это не важно! – отмахнулась княгиня. – Если бы не это, то что-нибудь другое! Они нашли бы другую вину, ведь они хотят погубить нас! Все они ненавидят меня и нашего сына. И я не понимаю, почему ты, князь и отец, это терпишь!
– Я и им тоже отец.
– Но я же говорю тебе, что никто из твоих сыновей не будет так предан тебе…
– Перестань.
Княгиня снова принялась рыдать.
– Семиладины-то дети не уймутся, это княгиня правду говорит, – вставил Толига, пощипывая бороду. – Лют ведь знает, что Хвалис за ним следом идет. Боится его, видать. Вот и сестру свою натравливает, чтобы терзала, как волчица лютая. Ее бы замуж отдать куда подальше. Лет-то ей сколько, у других таких уж по трое детей! Неужели не подберешь ей никого? Ты бы с Молигневой-то поговорил, отец. Да и княгиню можно на нашу сторону перетянуть. Ей тоже не надо, чтобы Лют слишком много получил, тогда ее парням маловато достанется. Уговори старших жен Лютаву выдать за кого-нибудь, лучше подальше отсюда.
– Ее поосторожнее выдавать надо, – хмуро напомнил князь Вершина. – А то ведь зять-то, знаешь…
Толига вздохнул. С древности существовало поверье, что мужчина, живущий с женщиной, может угадывать все замыслы ее отца, даже те, о которых тот еще никому не сказал ни слова. Причем вне зависимости от желания самой женщины и ее преданности своему роду. Особенно в этом способствует брак со старшей дочерью, связь которой с отцом наиболее сильна.[22] Поэтому отдать кому-то в жены свою дочь, особенно старшую, – для князя знак наивысшего доверия к зятю, заверение в полном отсутствии враждебных намерений. Поэтому старейшины племени угрян так забеспокоились, когда в руки вятичей попали сразу две старшие дочери Вершины.
– Я не понимаю, чего хочет Лют, когда он не твой сын! – непримиримо вставила Замила. – Он ведь сын Велеса! Вот пусть Велес выделяет ему наследство! Он живет в лесу, и там ему самое место! Почему же он непременно хочет стать князем, если он не твой сын!
– Да мой он сын! – сорвался князь. – Что ты заладила, глупая баба! Мой он сын!
– Он сын Велеса, вы все это говорили!
– Да Велес-то – это я!
Князь досадливо поморщился: он избегал разговаривать с женой-хвалиской о священных тайнах, но она, видно, и впрямь верила, как большинство простонародья, что Велес был отцом Лютомера не только духовно, но и телесно.
– Да что вы все о них! – Князь сел на лавку и в досаде хлопнул себя по коленям. – Лют, Лютава! Эти двое сами о себе позаботятся, а будет надо – и еще о ком-нибудь. Нам сейчас о Хвалисе думать нужно! А ну как утром опять себры с топорами соберутся да бабы с поленьями подойдут, будут Хвалиса требовать, а я что сделаю? Город нам еще сожгут, доболтаемся!
Замила снова всхлипнула.
– Я тут… такое дело… – начал Толига, потом, спохватившись, подошел к двери, толкнул ее, выглянул в сени, чтобы убедиться, что никто снаружи не подслушивает. После чего вернулся и заговорил вполголоса: – Я вот что надумал. Я про сестру подумал, про Румяну свет Живогостевну. Помнишь, куда ее замуж отдали? На Жижалу-реку, в Верховражье, за боярина Окладу. Хоть я из лет шесть уже не видал, а все же родня. Можно удальца нашего тайком к ним отослать. Сестра моя его не выдаст, как родного примет, а в такой дали никто не узнает, каких он тут дров наломал.
– Можно и туда. – Вершина кивнул. – Все лучше, чем в омут с жерновом на шее. А богов уговорим как-нибудь.
На этот случай тоже давным-давно придумано много разных уловок: сплести чучело из травы или соломы, нарядить в одежду Хвалиса, наречь его именем и торжественно утопить вместо настоящего виновника. Хвалис? Хвалис. В омуте? Там. В святилище принести жертвы, а водяницам и соломенный парень сойдет.
– Ну, мать, признавайся, – князь строго глянул на младшую жену, – где его искать-то, окаянца?
– Галица…
– Что – Галица? Не видно девки твоей нигде.
– Она, наверное, увела его. Раз волчица говорит, что Галица его спрятала.
– Куда увела-то?
– К Просиму-бортнику, наверное, – чуть слышно прошептала Замила. Она не могла точно знать, там ли ее сын, но надеялась, что там. – Галица же там замужем жила. Ее там знают. Не выдадут.
– Верно, надо думать, там она его прячет! – сообразил Толига. – Как же я сам-то не домыслил! Ну и слава Перуну – авось и другие не догадаются.
– Завтра поутру поедешь к нему, – велел князь. – Собери припасов, всего, что в дорогу нужно. Да выбери из своих понадежнее кого, одного или двоих. Не один же он на Жижалу поедет!
– Подберу, подберу. Колоска да Новину пошлю. Они и дорогу знают, и парня не обидят. Росли вместе, как-никак.
– Смотри только, чтобы ни одна собака не знала!
– Что я, глупый, что ли? Ведь если поймают – и ему, и всем помощникам головы не сносить. А я еще пожить хочу! – Толига засмеялся. – Вот, подумывал даже жену еще одну взять, помоложе, а то от моей старухи уже толку нет!
– Жених… – пробормотал князь Вершина. – Мне бы твои заботы…
Собирались ночью, и еще до рассвета Толига вышел за ворота в сопровождении младшего сына, по имени Колосок. С ними третьим был неть Толигиной жены – Новина. Парни зевали и ежились от утреннего холода. На плечах несли объемистые мешки. Путь их лежал к реке, где на отмели лежали лодки. Там Новина с мешками загрузился в лодку и отчалил, а Толига с сыном отправились пешком по тропе – за Хвалисом.
Но на займище старого бортника Просима парня не оказалось. Бортник был неразговорчив, и Толига еле-еле из него вытянул, что княжеский сын и правда приходил сюда вчера вместе с Галицей. Но сегодня на рассвете они оба исчезли. Никаких припасов они с собой не брали, стало быть, далеко уйти не могли.
– Вот те леший! – Снова выйдя во двор из тьмы землянки, Толига в досаде хлопнул себя по бедрам. – Где его носит, встрешника этакого! Я тут бегаю, свои ноги старые топчу, спасти его, дурака, пытаюсь, он на тебе – усвистал куда-то! И Галица эта, коза тоже! Ну, куда утащила отрока?
– Она, батя, опасается, как видно, что его здесь искать будут, – сообразил Колосок. – Кто у нас не знает, что она Просиму бывшая сноха! У нее ж никого больше нет, податься больше некуда. Может, и правильно увела. Волки же по следу враз найдут!
– Правильно-то правильно, да где его искать теперь? Я-то не волк! Давай, сыне, ты ищи по реке вверх, а я вниз пойду. Да не кричи, глазами смотри. А то люди услышат – нам самим головы не сносить. Да и вон еще – послал Перун непогодушки… – Хвалисов кормилец поднял глову, с беспокойством оглядывая небо.
А небо хмурилось – рассвет пришел медленный и неприветливый. Облака, затянувшие небо, быстро наливались чернотой, словно изнутри к ним подступала сама губительная Бездна и грозила прорваться в белый свет. Дул ветер, душные порывы трепали волосы. Люди, вышедшие с утра на луговины, где сгребали сено, поднимали головы и творили Перуновы знаки. Боги послали дождь, о котором вчера просили, но не легкий и светлый дождь – на землю угрян надвигалась гроза. В душах поднимался неодолимый, давящий страх перед гневом небес, каждый чувствовал себя жалкой букашкой и отчетливо понимал, что его жизнь и смерть в руках богов. В один миг Перун мог превратить посевы, давшиеся таким тяжелым трудом, в месиво растоптанной травы, смешать зреющие колосья с землей и золой, оставить людей без хлеба! Попадись им сейчас в руки виновник небесного гнева – его, пожалуй, разорвали бы, не дожидаясь приговора жриц, и разбросали бы окровавленные части тела по полям, ожидающим жатвы, как в те давние времена, о которых осталась только смутная память в жутковатых преданиях.
Внезапная молния озарила лица. Люди невольно пригнулись, умолкли, и тут же раздался тяжелый удар грома. Снова сверкнула молния, так ярко и сильно, что люди зажмурились – все уже видели Огненного Змея, готового обрушиться на них с небес. Новый удар грома, совсем близкий, почти оглушил.
– Да слышь! – крикнул Толига вслед сыну. – К Переломичам зайди, вызнай, не было ли его там. А я сам к Мешковичам зайду. У пастухов спроси!
Толига ничего не знал о попытке Галицы и Замилы приворожить Далянку и не догадывался, что в ее роду Хвалис стал бы искать убежища в последнюю очередь.
Род Мешковичей встречал этот день в лугах, как и многие другие, торопясь убрать скошенное и подсушенное сено. Когда поднялся ветер, люди не бросили работу, а, наоборот, удвоили усилия, надеясь успеть сметать копны до того, как с неба польет. Даже на причитания не оставалось времени.
– Где же девчонки-то мои? – Рудониха, жена Далянкиного старшего брата, все оглядывалась в сторону березняка, куда две ее маленькие дочки, шести и семи лет, ушли за ягодами. – Запропали! Что же не идут, или не видят?
– Может, домой побежали! – утешал жену Рудоня. – Где там заблудиться-то, роща своя, знакомая.
– А вдруг со страху забились куда-нибудь под дерево, а молния и ударит?
– Не ударит!
– Далянка, иди поищи их! – велел Немига. – Мы тут без тебя справимся, а то и впрямь – пропадут у нас девчонки.
Далянка побежала к роще. Дождь еще не начался, но все небо потемнело, сильный ветер почти сбивал с ног. Березы над головой сгибались, ветер свистел в ветвях, и деревья гнулись, молотя по ветру длинными зелеными руками, точно пытаясь отбиться. По всем приметам, приближалась страшная гроза с молниями и градом размером с яблоко. Сердце замирало от мысли, что этот день погубит все их труды и надежды на сытый год, потому что град побьет созревающую рожь, пшеницы, овес. До начала жатвы оставалось дней десять-пятнадцать, и вот – допросились дождя!
Далянка вошла в рощу, крича и зовя нестерок, но скоро поняла, что старается напрасно, – в шуме ветра и ветвей никто ее не услышит. Далянка бежала через рощу, уклоняясь от бьющихся на ветру ветвей, и ей казалось, что она сражается с деревьями, которые, обезумев, не хотят пропустить человека… Пригибаясь, заслоняя голову руками, Далянка уже не бежала, а брела не зная куда. Хорошо знакомая роща казалось чужим и опасным местом, и пронзал холодный ужас при мысли, что от грозы раскрылся проход на Ту Сторону, в мир духов, и она зашла туда, не заметив, зашла на верную погибель! Она ведь не Лютава с ее сулицей и волчьей душой, ее сожрут здесь мгновенно! Далянка оглядывалась, но грани миров уже сомкнулись за спиной, она не видела никакого выхода, а только бьющиеся ветви и плотно сдвинутые стволы. Хотелось бежать назад, туда, где была надежда выйти к людям, и только мысль о девочках удерживала ее и заставляла продолжать поиски.
Все духи земли, леса, воды и воздуха словно ополчились на людей, и, уж верно, не напрасно! И ее вина тоже тут есть! Ради кого Хвалис явился на реку, как не ради нее? Лютава напророчила: поди, говорила, поболтай с ним! Объявится, дескать, еще до вечера, стосковался ведь! Он объявился гораздо раньше вечера и тем погубил не только себя, но и всех угрян.
Путаясь в подоле рубахи, который нещадно трепал ветер, Далянка бежала по тропе вдоль реки, заглядывала в разные укромные местечки, где, как она знала, любят играть Рудонины дочки.
– Аюшка! Малоня! – кричала она, но ветер разрывал имена на клочки и сразу уносил, топил в шуме ветвей и далеких громовых раскатах.
И вот впереди мелькнуло что-то белое.
– Вот же вы где! – с облегчением вскрикнула Далянка, бегом бросилась к мелькнувшему пятну, обогнула березу… и налетела прямо на Хвалиса.
Он глянул на девушку с не меньшим изумлением – в шуме ветра и мелькании ветвей он не услышал крика и не заметил ее приближения. А Далянка оторопела: она как раз думала о нем, но никак не ожидала его здесь встретить!
– Ты здесь откуда? – воскликнула она.
Едва ли Хвалис ее услышал, но догадался по ее лицу, что она сказала.
– Я… Повидаться хотел… – пробормотал он, и Далянка тоже сама поняла, что ответить ему особо нечего.
Сидеть на займище у Просима Хвалису было и скучно, и опасно. Ратиславичи ведь не дураки – очень скоро отсутствие Галицы свяжут с его исчезновением, вспомнят, что она жила замужем на займище старого бортника и вполне могла спрятать там своего молочного брата. Каждый миг следовало ожидать охотников, и Галица велела Хвалису уйти из дома. Вот только куда идти, не сказала. И он побрел в сторону веси Мешковичей – их угодья раскинулись поблизости от Просимова займища. Здесь он бродил все утро, не решаясь показаться людям на глаза и втайне надеясь увидеть Далянку еще хоть издалека. Галица пыталась присушить ее к нему – но похоже, изгнанная подсадка в поисках хоть какого-нибудь прибежища нашла дорогу обратно и внедрилась в сердце Хвалиса, который теперь не мог ни есть, ни спать спокойно. Образ Далянки не оставлял его ни на миг и не давал думать ни о чем другом.
И вот она стоит перед ним. Встревоженная, с прядями волос, выбившимися из-под беленькой косынки, которой она повязывала голову от солнца, Далянка даже в простой будничной рубахе выглядела стройной и прекрасной, как богиня Леля.
– Далянка! – Княжич шагнул к ней и схватил за руки. – Ты едва стоишь! Что с тобой! Ты бежала! За тобой гонится кто-то?
Девушка попятилась. Вчера она была на луговине перед святилищем. Всех мужчин ее рода призвали туда наряду с прочими, и они с матерью и бабкой их провожали. Далянка знала, что натворил вчера Хвалис. И это он стал виновником той грозы, что сейчас расстилает свои огненные полотна над землей угрян. Если его сейчас увидит хоть один человек, сын Замилы погибнет немедленно. Его смерть сейчас, может быть, порадует мстительную Громовицу, но едва ли отвратит ее гнев: богиня уже разыгралась, уже вошла во вкус, град обременяет ее огромную утробу, в руках жгутся и дрожат молнии. Далянка едва не разрыдалась, видя, что виновник всего этого стоит перед ней и даже не думает ни о какой вине!
– За мной! За тобой сейчас погонятся, ты что, не понимаешь! – отрывисто, с трудом переводя дыхание, ответила она. – За тобой! Гляди! Гроза идет! Градом все поля побьет! Тебя убьют, ты что, не понимаешь! Что ты здесь бродишь, горе ты наше! Тебя найдут – по полям размечут!
Рядом раздался еще чей-то крик. Хвалис мигом прижался к березе и застыл, а Далянка шагнула к тропе и увидела Толигу. Хвалисов кормилец тяжело дышал, раскраснелся и вспотел, борода его топорщилась на ветру.
– Эй, краса ненаглядная! – окликнул он Далянку, заметив ее между кустами. Ему приходилось кричать во все горло, чтобы одолеть гул ветра. – Чего ходишь, чего домой не идешь, гляди, Змей Горыныч унесет! Вона как разыгралось, помилуй нас Перун! Ты княжича моего не видала здесь?
Далянка, не столько расслышав, сколько угадав содержание его речи, сделала знак следовать за ней.
– Вон он, сокол ясный! – воскликнул Толига, увидев своего воспитанника. – За что меня чуры наказали, дурака старого, и надо же мне было тебя на коня сажать![23] Ты что, не смыслишь, что вся эта гроза на твою голову собралась! – Кормилец показал на небо, где гром гремел все ближе и молнии уже явственно сверкали огненными стрелами. – Бежать тебе надо, дураку! Замила меня послала: найди, говорит, сыночка дорогого, увези его отсюда! Уж мы с ребятами тебя и у Просима ищем, и по лесу ищем! А ты тут с девицей прохлаждаешься! Раньше надо было! А теперь беги! Вчера еще куда ни шло, а теперь тебе никак домой нельзя – разорвут. Гроза-то вон какая! Беги живее!
– Куда? – закричал Хвалислав, наклоняясь почти к лицу своего кормильца, но едва его слыша.
– Близко нельзя – найдут! Ты же, почитай, всю волость на год без хлеба оставил! – Толигнев тоже сердился, но воспитанник и ему был как сын, поэтому оставить его без помощи он не мог, пусть и считал, что Хвалислав заслужил самое суровое наказание. – На Жижалу поедешь. Мы тебе уже и лодку приготовили, и припас собрали, мои ребята тебя проводят. Поедешь по реке до Селибора, там по лесу идти, но недолго, а там и Жижала. И не смей возвращаться, пока сам не велю. Есть там, на Жижале, городок, Верховражье, сидит там боярин Оклада со своим родом, а жена его – моя сестра. Они тебя примут, пересидишь, а там видно будет. Главное, чтобы не достали тебя наши. Вот тебе! – Боярин вынул из-за пазухи туго набитый кошель. – От матушки тут. Ну, давай живее, а то Лютава с волками выследит – я тебя защищать перед ней не буду, я тоже еще пожить хочу!
Хвалислав взял кошель и сунул за пазуху, а потом, не глядя на кормильца, снова сжал руку Далянки.
– Поедем со мной! – закричал он ей в самое ухо. Гром ударил почти над их головами, так что Толига невольно сгорбился и схватился за оберег. – Поедем. Ведь я, может, и не вернусь больше!
– Да ну тебя! – Далянка с досадой вырвала руку. – Себя спасай, дурная голова!
– Не хочешь? – Хвалислав нахмурился. Только что ему казалось, что Далянка, беспокоясь о нем, дает ему надежду, так неужели это обман? – Ну, тогда я вернусь еще! Вот увидишь!
– Поезжай, горе мое, а мне в город надо матушку твою спасать! Долго ты еще меня держать будешь? – орал Толига, с трудом перекрикивая шум ветра и раскаты грома.
Хвалис вопросительно глянул на него.
– К Просиму беги, там Новина с лодкой ждет! Под берегом, увидишь там!
Позади раздался еще чей-то слабый крик. Далянка обернулась и увидела на дальнем конце тропы те две маленькие фигурки в белых рубашонках, которые искала и высматривала везде.
Ахнув, она бросилась навстречу нестерам, которые бежали к ней, и вдруг остановилась: в десяти шагах позади девочек между кустами стоял волк. Он просто стоял, наполовину показавшись из зелени, и внимательно наблюдал за людьми круглыми желтыми глазами. Далянке показалось, что серо-рыжая морда зверя выражает отчасти тревогу, отчасти добродушие – как у умной и преданной собаки.
В первый миг замерев от неожиданности, Далянка сорвалась с места и со всех ног кинулась навстречу девочкам, схватила их обеих в охапку, но поднять не смогла.
– Волк, волк! – лепетали наперебой Аюшка и Малоня. – За нами! Мы заблудились, а он бежал за нами, но не съел!
Далянка снова подняла глаза и посмотрела поверх двух светловолосых головок с короткими косичками. Зверь все так же стол на прежнем месте, глядя на них, совершенно неподвижный среди мечущихся зеленых ветвей. А потом подался назад и мигом исчез за кустами.
От облегчения и волнения у Далянки выступили на глазах слезы. Она стояла, наклонившись и обняв обеих девочек. Волк и не собирался их есть. Он нашел их в лесу и погнал, как пастух овечек, в сторону дома. А теперь ушел восвояси, убедившись, что девочки встретили родню.
Тем временем Толига торопил Хвалиса: он не понял, куда и почему убежала вдруг Далянка, но опасался, что Немигина дочь приведет людей и его воспитанник попадет в руки разъяренных угрян.
– Давай живее, а не то приведет людей, и себя погубишь, и меня, голову мою седую! – тормошил кормилец своего воспитанника. – Девка людей приведет, отцу скажет, и тебя разорвут, и меня заодно!
Хвалис вздохнул и пошел по тропе, не торопясь, не обращая внимания на порывы ветра и первые капли дождя. Уход был не намного лучшим выходом, чем смерть, – ведь никогда он больше не вернется на Угру, не увидит Далянку… Или – еще вернется?
Молния ослепительно вспыхнула над головой, осветив каждую травинку. И в этой яркой вспышке Хвалис увидел, что перед ним стоит женщина – стоит, как сама Громовица Опалена, госпожа этой грозовой стихии. Он узнал Галицу, но сам не поверил глазам. Это была словно бы совсем другая женщина – властная, уверенная. Черты этой женщины и раньше понемногу поступали под привычным обликом послушной и недалекой челядинки, но именно сейчас Хвалис осознал, что перед ним совсем не та женщина, к которой он привык, – словно молния осветила наконец ее глубоко спрятанную внутреннюю суть.
Лютомер остановился посреди поля, подняв голову и подставив лицо струям дождя. Гром гремел прямо над головой, в тучах блестели молнии. И все ближе, все тяжелее нависала градовая туча. После каждой ослепляющей вспышки душа замирала в ожидании оглушительного раската, и Лютомеру, который унаследовал от своего божественного отца неистребимый, вечный, как сама вселенная, ужас перед огненными стрелами Перуна, стоило большого труда не пригибаться, не бежать со всех ног, не искать спасения где-нибудь под корягой…
Уже поздно. Никакими жертвами гнев небес не отвратить. Да и сможет ли он смотреть, как разъяренные угряне будут рвать на части Замилу, если не найдут ее сына?
А его едва ли найдут. Еще вчера вечером Лютава созвала волков. Теперь, когда она носила на плечах волчью шкуру в знак того, что стала волчицей, и ей было по силам созвать лесных братьев и попросить их о помощи. Несколько молодых волков, высланных для этой цели вожаком стаи, бежали за ней, пока она указывала дорогу через лес.
На том месте, где она сама потеряла след, Лютава попросила волков искать дальше. И они взяли след, но довели ее только до того бревна, где она повстречала Галицу. Волки сгрудились возле ямы под корнями выворотня, нюхали ее, кружили, не отрывая носа от земли, но смотрели на Лютаву виновато: прости, но дальше следа нет!
Лютава была озадачена. Чтобы волки не взяли сегодняшний след, человеку нужно улететь с этой полянки на крыльях! Кто бы такое сумел? И где эта Галица, чтоб ее леший взял!
Не желая мириться с пораженим, Лютава отпустила волков и пошла обратно, собираясь призвать на помощь Лютомера. Пусть попробует сам. А если и он не сможет, то она снова призовет своего Черного Волка!
Лютомер не отказал бы сестре в помощи, но понимал, что теперь поздно. Даже если он сумеет быстро найти виновника, гнев богов уже не отвратить. Легко догадаться, что творится сейчас в волости. По всем весям хозяйки с размаху выбрасывают через окрытые двери во двор всякую печную утварь: кочерги, заслонки, решетки. Мужчины стреляют по туче из луков, мечут вверх копья, пытаясь разбить ее, расколоть и не дать дойти до полей. Старики бросают куриные яйца, стараясь перебросить через полевые наделы, таким образом отвращая град от посевов. Но едва ли это все поможет. Гнев Громовицы Опалены слишком велик. Доведенный до отчаяния народ, уже видящий голодный год и близкую погибель, кинется в Ратиславль, туда, откуда к ним пришло это несчастье. Лютомер уже слышал рев и гул толпы, женские крики, отчаянные вопли Замилы, звон железа, треск ломаемых ворот и дверей… Племя угрян останется и без урожая, и без князя, останется беззащитным и обреченным на почти верную гибель…
Вновь сверкнула молния, но вместо грома послышался свист и вроде бы смех. Лютомер вскинул голову. Живая молния летела, пронзая тучи, извивалась, играла, кувыркалась, и сквозь свист и гул ветра он разбирал раскатистый задорный хохот.
И Лютомер узнал своего брата, младшего Велесова сына.
Змей Летучий! Летавец, тот, кто пригоняет тучи и может увести их прочь!
Вмиг все силы в нем вскипели: Лютомер мгновенно перекатился через голову и помчался по тропе на четырех волчьих лапах. Ни на какой охоте он так не бегал – словно старался выпрыгнуть из собственной шкуры. Не разбирая дороги, он стлался над землей, как белая молния, и летел, едва касаясь мокрой травы и грязи, разбрызгивая воду из-под лап. Новая надежда несла его быстрее ветра – только бы успеть!
Путь его лежал недалеко – на Громовую горку. Это место пользовалось особой славой – никто здесь не жил, не пахал пашню и даже не пас скотину, хотя на сухом бугре имелось много травы и рос даже мелкий березовый лесочек. Но во время каждой грозы сюда обязательно били молнии, поэтому на Громовой горке приносили летом жертвы Перуну.
Из последних сил ворвавшись на вершину горы, белый волк поднял морду и завыл. Его пронзительный, призывный вой разлетелся под небом, отразился от низких тяжелых туч, раскатился над лесом. Его услышали даже в Ратиславле, где насквозь мокрая толпа еще кипела под запертыми воротами, но большинство народа ливень и гром разогнали по домам. Белый волк выл, призывая своего брата, и тот услышал.
С воем и свистом пронзая небеса, свиваясь в кольца, рассыпая тучи искр, резвясь и играя, Змей Летучий пролетел над Громовой горкой, сделал круг, стал снижаться. На лету он вертелся, хохотал и свистел – гроза и буря, его стихия, наполняли Летавца невиданной силой, которую он мог истощить и усмирить только тогда, когда тучи растеряют свои запасы огня и воды.
– Привет, братец! Привет, волчок беленький! – Завывая и не в силах остановиться, Змей Летучий крутился над горой, разбрасывая искры. – Чего прибежал? А грома не боишься? А то гляди, ненароком хвост подпалю-у-у-у!
– Летавец, брат мой! – позвал волк. Для разговора с братьями ему не нужен был человеческий язык. – Помоги! Уведи тучи, пролей град над лесом, над водой, не над полями только! Только ты один теперь поможешь, больше никому это не под силу!
– Послали меня Перун с Громовицей Огненной, велели бросить град не на лес, не на воду, а на поля и луга! – Змей вертелся, не в силах оставаться в покое. – Вот и принес я дождь частый, гром гремучий, пламя кипучее!
– Братец, не откажи, отцом нашим тебя заклинаю! Унеси тучи градовые, отгони молнии палючие от наших стогов, от хлебов, от домов!
– Вот как ты заговорил! – Змей Летучий захохотал, вращаясь в воздухе, как дивное огненное колесо. – Я недавно к вам в гости заходил, так ты меня выгнал взашей! Как я тебя просил – пусти меня к девушке, а ты мне что? Уходи, дескать, не нужен ты нам здесь!
– Прости, братец! – Белый волк склонил голову к самой земле. – Прости. Любое желание твое вполню, только уведи грозу.
– Желание, говоришь? Любое, говоришь? – Змей перестал свистеть и хохотать, но еще несколько раз перевернулся в воздухе. Гул ветра поутих, а Летавец снова принял человеческий облик в верхней половине туловища. Змеиный хвост бешено вертелся, словно размешивал воздушные токи. – А сестру твою мне отдашь?
– Отдам, – тут же ответил Лютомер. Он не мог думать и выбирать: даже если бы Огненный Змей потребовал его собственную шкуру, спасение всего племени угрян от голодной смерти было важнее. – Бери, какую пожелаешь.
С ликующим свистом, с воплем и хохотом Змей Летучий взмыл вверх, пылающей стрелой промчался над полями, пронзил ближайшую тучу, обогнул ее и засвистел так пронзительно, что у людей заложило уши и заледенели жилы.
Ветер вдруг стих, словно упал, потом задул снова, но в другую сторону. Не веря своим глазам, угряне, стоя под дождем, смотрели, как тяжелые черные тучи, уже висевшие над самыми нивами, медленно ползут в сторону леса. А над полями шел дождь, омывая, но не ломая колосья, и постепенно стихал.
Гроза уходила, и только вдали за лесом еще громыхали далекие раскаты и посверкивала иногда среди синих туч одинокая молния, носилась то вверх, то вниз, огненным цепом выколачивая из туч последние запасы ледяного зерна.
В разрывах туч уже виднелось синее небо, в воздухе висел резкий свежий запах, весь мир «словно тряпочкой протерли», как сказала княгиня Володара. Но гроза ушла, и угряне, даже не дождавшись, пока полностью прекратится дождь, высыпали из домов и кинулись бегом на поля, скользя по многочисленным лужам, забрызгивая грязью одежду и ничего не замечая. Сам князь Вершина, еще не веря в свое счастье, мчался впереди всех домочадцев.
И вот перед ними предстало поле. Полусозревшие колосья, намокшие, спутанные ветром, клонились к земле, но не сломались, сберегли в себе драгоценный урожай и жизнь угрянского племени. Если не косой, то серпами их можно будет сжать.
– Вот спасибо тебе, Перун-батюшка! – Князь встал на колени на краю поля, прямо в грязь, и поклонился лбом до земли, в ту сторону, где затихали за дальним лесом последние раскаты грозы. – Помиловал ты нас, детей твоих! Славен будь вовеки!
Домочадцы, женщины, стали вслед за ним кланяться, благословлять милость богов. Молигнева упала наземь лицом вниз, раскинув руки, точно хотела обнять поле, и так замерла – ей хотелось обнять и защитить своими руками весь урожай, от которого зависела жизнь ее детей.
Женщины рассыпались вдоль поля, гладили колосья, многие плакали от пережитого потрясения – ведь казалось, что все уже кончено!
Вдруг Русавка вскрикнула, схватила за руку Ветлицу, дернула, закричала, показывая на лес. Сестра глянула туда и тоже закричала, а потом завопили люди по всему полю.
Из-за леса прямо на людей неслась пылающая молния – свиваясь в кольца, со свистом и гиканьем к ним мчался Змей Летучий. Не во время грозы, в безветренном спокойном воздухе, почти в тишине, эта одинокая живая молния, целенаправленно летящая к людям, порождала чуть ли не больший ужас, чем все буйство стихии перед этим. Кто-то в страхе пустился бежать, кто-то упал на колени, кто-то уткнулся лицом в грязь, жмурясь и закрывая руками голову.
Князь Вершина метнулся вперед, будто хотел закрыть собой все поле и людей разом, привычно схватился за пояс, но никакого оружия, кроме простого короткого ножа, при нем не было.
А Змей Летучий сделал быстрый круг над полем и пал сверху на кучку замерших женщин. Те в беспамятстве бросились врассыпную, иные попадали наземь, а Летавец промчался над ним, подхватил одну из девушек и снова взмыл к облакам. Мало кто успел увидеть, как это произошло, – белая фигурка, охваченная пламенным сиянием, взмыла вверх и разом исчезла, точно сгорела вмиг без дыма и пепла, растаял короткий крик.
– Дочка! – Любовидовна протянула руки и сделала несколько шагов, но споткнулась и замерла.
Змей Летучий, унесший Молинку, уже скрылся из виду. Боги все-таки взяли свою жертву, потому что никакое благо не дается ими даром.
Угряне замерли на промокшем поле. Женщины, в мокрых рубашках внезапно ощутив озноб, обхватывали себя за плечи и оглядывались в сторону города.
А от опушки за ними наблюдал тоже насквозь промокший, усталый, свесивший язык белый волк, сын Велеса. Уже потом он сообразил, что они со Змеем Летучим не договорились, которую сестру тому взять. А вдруг бы тот уже передумал и положил глаз на Лютаву? И как никогда Лютомер сейчас был рад, что Молинку всегда считали более красивой…
Грозу, чуть не погубившую урожай, и явление Змея Летучего, унесшего одну из княжеских дочерей, еще долго вспоминали в Ратиславле. О Молинке говорили много – только и было воспоминаний, какая она была красивая, разумная, приветливая. Женщины Ратиславля собрали между собой полотно, шерсть, готовые рубашки, полотенца, нитки, всякое прочее, что дают девушкам в приданое. Любовидовна сшила женский повой и кику. Вещи эти относились на Громовую горку и там складывались – к утру все исчезало. Но на скорую встречу с девушкой, взятой в жены Змеем Летучим, надеяться не приходилось. Бабка Темяна спрашивала о ней духов, и духи сказали: живет она в хорошем доме, все у нее есть, слуги верные и по дому хлопочут, и на поле работают, а ей заботы нет, одно плохо – скучно без людей. И не ранее чем через восемь лет от нее можно ожидать настоящую весточку: когда ее старшему ребенку исполнится семь лет и его отошлют на воспитание в материнский род – к людям.
Но Лютава еще долго не могла успокоиться. Она винила себя, что не уберегла сестру, хотя ведь знала, кто за ней охотится, и должна была при первых признаках грозы первым делом подумать о Молинке. Лютомер пытался ее утешить: Змей Летучий забрал Молинку по уговору, а иначе тысячам угрян грозила бы голодная смерть зимой. Но и здесь Лютава видела вину Хвалиса. Если бы он тогда не внушил княжичу Доброславу, что угряне хотят его убить, тот не бежал бы, прихватив с собой двух Вершининых дочерей. Если бы Молинка не попала в Воротынец, она не узнала бы княжича Ярко, не полюбила бы его и ее тоска по нему не открыла бы к ней дорогу для Змея Летучего. Но на Змея они нашли управу, и никогда он не получил бы девушку, если бы не эта гроза, в которой опять-таки был виновен Хвалис! Лютава даже пыталась объяснить это князю Вершине, но он только вздыхал и говорил, что «судьба такая». Потеряв разом двоих детей, он не хотел слушать о чьей-то вине.
Но Хвалис пропал бесследно, спросить ответа было не с кого. Многие подозревали, что князь Вершина, Замила и Толигнев знают, куда делся виновник всего произошедшего, но для всех прочих это оставалось тайной. Старейшины не настаивали: из семьи князя к людям пришло несчатье, но семья князя и расплатилась, отдав свою дочь. Равновесие было восстановлено. В Ратиславле надеялись, что сын хвалиски исчез навсегда, унося с собой свою неудачу, и больше никогда не покажется в земле угрян.
А тем временем Кологод совершил еще один поворот, настало время жатвы. Год мягко клонился к осени, день уменьшался, набирала силу Ночь Богов – время, когда прежде жившие возвращаются в земной мир.
Конец первой книги
Послесловие Об исторической основе сюжета
Построение научных и околонаучных теорий о таком смутном предмете, как история и мифология славян тысячелетней давности, мне напоминает возню с перепутанным конструктором. С одной стороны, за века наука накопила огромный, прямо-таки гигантский фонд разнобразных сведений. А с другой стороны, ввиду почти полного отсутствия письменных упорядоченных свидетельств, весь этот материал очень плохо согласуется между собой. Поэтому приходится тратить множество времени и сил на поиск фактов и сведение их в целостную концепцию древней жизни – но это не гарантия, что чуть позже вы не наткнетесь на еще один факт, который полностью перевернет все ваши построения. Есть миллион случаев глупо засыпаться на деталях, которых не знаете вы, но знает кто-то другой, и нет такой книги, в которой все было бы описано полно, ясно и достоверно!
Иными словами, имеется множество разрозненных фактов, то есть деталей. Выбирая вроде бы подходящие друг к другу, можно собрать, скажем, танк – но остается куча лишних деталей, в том числе какие-то крылья. Можно разобрать танк и собрать самолет – но опять остается куча лишних деталей, в том числе гусеницы и еще труба, пригодная то ли для маленького паровоза, то ли для большого самовара, но закопченная, то есть явно бывшая в употреблении! А может, это не труба, а ствол пушки? Куда ее пристроить – непонятно, как должна выглядеть собираемая модель – неизвестно.
Вот, например, хазарская дань. С одной стороны, летопись утверждает, что поляне, радимичи, северяне и вятичи платили дань хазарам, пока их не освободили князья Рюриковичи (то есть переняли ту же самую дань в свою пользу). Из археологических подтверждений имеются несколько кочевнических погребений в лесостепи, непонятно какого именно народа, причем самое северное из них – чуть выше устья Воронежа. Где лесостепь и где вятичи? С другой стороны, на территории предполагаемых данников найдено довольно много кладов арабских серебряных монет как раз хазарской эпохи, то есть торговые связи были налажены. Но каким образом хазары могли взимать дань «с дыма» – они что, пересчитали все вятичские дымы? Причем некоторые современные авторы даже утверждают, будто дань брали не белками (веверицами), а девицами! По девице каждый год из каждого дома? Они что, размножались метанием икры? В любом случае для «подымного» обложения требовалось такое плотное присутствие хазар в земле вятичей, которое просто не могло бы не оставить следов, доступных археологическому изучению. Однако ничего подобного там не найдено. Так была ли эта «дань» и как выглядела? Но ведь в летописи же написано, а это – основной источник.
Или другой случай – балты, о которых в данном романе упоминается не раз. По результатам раскопок получается, что берега Оки с притоками они покинули еще в середине 1-го тысячелетия нашей эры, а славяне пришли только лет триста спустя и заняли древние, давно заброшенные балтские городища. Но каким образом тогда сохранились сотни балтских названий больших и малых рек? Чтобы узнать эти названия, славяне должны были довольно долгое время жить в тесном контакте с балтами и от них уяснить, что здесь как называется. Иначе они просто назвали бы реки пустой земли по-своему. Ведь не могли же балты, уходя или вымирая, расставить по берегам таблички с названиями! Как это вышло – загадка.
В результате у всех историков и любителей (разной степени компетентности), ищущих истину в море отдельных деталей, все время получаются совершенно разные модели. Некоторые из этих «самолетов», собранные наиболее авторитетными или просто убедительно излагающими конструкторами, входят со временем в учебники и в сознание масс. Скажем, широко известные легенды о варягах, которых как бы призвала северная Русь, а Олег явился с младенцем Игорем предъявлять права на Киев, хотя поляне никаких варягов к себе не приглашали и единого государства с Приладожьем до той поры никогда не составляли, – пример такого вот самоваро-паровозо-вертолета, в который свято верит уже не одно поколение ученых и публики. Или более новый «миф» – о том, что ключница Малуша, мать князя Владимира Святославича, и ее брат Добрыня были детьми древлянского князя Мала. Впервые эта мысль возникла еще в середине XIX века, но это не теория и даже не версия, а просто выдумка, основанная на внешнем сходстве имен Мал и Малуша. Да и сходство-то кажущееся: во-первых, древлянского князя, скорее всего, звали как-то по-другому, а слово «мал» означает его статус – «малый» племенной князь, в отличие от «светлого князя», главы союза племен. А Малуша – естественное имя младшего в семье, маленького. Никаких иных оснований для причисления Малуши и Добрыни к роду древлянских князей нет. Однако якобы княжеское происхождение Малуши уже вошло и в романы, и в научно-популярную литературу, и даже в энциклопедии как несомненный факт!
Вот ведь парадокс – ерунду вроде застежек или глиняной посуды можно откопать, описать, классифицировать с точностью до нескольких десятилетий, а такие основополагающие вещи, как происхождение династии или общественная структура, остаются в области догадок. Впрочем, и битые горшки в истории не ерунда – по ним отслеживают движение племен и происхождение целых народов.
Если пытаться описывать не единичные события, а устройство жизни в целом, то попытки выстроить одну верную модель заведомо обречены. Сама действительность Древней Руси и предшествующих ей славянских (и не только) племен – от моря и до моря, на протяжении чуть ли не тысячи лет – была неоднозначна и многообразна. Для конкретизации же не хватает фактов, да и те, что имеются, нипочем не желают ложиться в общую схему. Всегда что-нибудь да выпадает, а из этого конструктора «лишнюю» деталь, как слово из песни, не выкинешь. Так что и академики, и энтузиасты-любители обречены вечно рыться в куче перепутанных деталей, пытаясь выстроить нечто жизнеспособное хотя бы теоретически.
Все построения автора этих строк ничем не лучше других. Но и не хуже, пожалуй. По крайней мере, я старалась выдумывать только то, о чем достоверных сведений получить невозможно, а образ жизни наших предков старалась представить, опираясь на результаты исследований серьезных ученых – археологов, антропологов и так далее, а не на псевдопатриотические домыслы о том, что-де славяне правили миром еще за десять тысяч лет до появления человека разумного как биологического вида. Да, похоже, что в IX веке даже князья жили в землянках, потому что ничего иного в славянской строительной традиции раньше X–XI веков вроде бы не обнаруживается. Землянка – не признак дикости, просто в ней легче сберегать тепло. В древности, говорят, существовало представление, что приписать человеку подвиги, которых он не совершал, означало нанести ему смертельную обиду. В отношении истории родины, я бы сказала, этот принцип тоже действует. И выдумывать сказки, восхищающие «патриотов», – наиболее верный способ никогда не узнать, что же было на самом деле.
О том, что может сказать наука насчет общественного строя славян в раннем средневековье, я уже писала в послесловии к роману «Лес на Той Строне». Здесь я хочу к этому прибавить некоторые «новости» древнерусской жизни, а именно – подозрения о кастовом устройстве оной. Например, сторонником этого мнения является Лев Прозоров (Озар Ворон), о чем и пишет в своей книге «Боги и касты языческой Руси». Вкратце его теория такова. В Древней Руси имелось в наличии пять каст: князья, жрецы, воины, земледельцы (ремесленники) и рабы. Касты жили обособленно, брачные союзы заключали только со своими, для каждой касты действовали свои запреты: жрецы избегали прикасаться к железу, воины не имели права участвовать в каком-либо производительном труде. Данные положения Лев Прозоров обосновывает ссылками в основном на былины. При всем уважении к этому источнику рассуждению вредит то, что автор его обходит полным молчанием вопрос о том, в какие эпохи касты у славян могли сформироваться. Многочисленный сравнительный материал, отсылающий к кастам индусов или древних кельтов, наводит на мысль, что кастовую систему Лев Прозоров считает общеевропейским наследием. Однако думается, что условия для формирования той или иной касты складывались в процессе общественного развития славян не одновременно.
Существование отдельной касты жрецов и в самом деле представляется вполне вероятным. Именно у жрецов всегда имелось много профессиональных секретов, которые нельзя открывать кому попало, а для успешного исполнения своих обязанностей волхвам требовались особые способности, передающиеся по наследству. Так что для жрецов было логично образовать отдельную касту еще десятки тысяч лет назад. Хотя и тут все не так просто: у народов, сохранивших шаманизм, считается, что духи сами выбирают очередного служителя, независимо от его происхождения; шаманить мог (или хотя бы имел право) практически каждый, а шаман, напротив, в свободное время ходил на охоту, как все.
Следующими, вероятно, выделились вожди и князья. В послесловии к «Лесу на Той Стороне» я уже упоминала теорию, согласно которой славяне выбирали князей, но можно предположить, что круг знатных семей, из которых выдвигались кандидаты, образовывал отдельную касту. Это могло случиться в те эпохи, когда имущественное неравенство уже достигло заметного уровня и разница между простолюдинами и знатью стала очевидна. Передача власти по наследству оформилась, надо думать, в течение VI века нашей эры.
О формировании касты производителей (земледельцев, ремесленников, скотоводов, охотников, рыбаков и так далее) говорить не стоит – ее всегда составляла основная масса населения, не входившая в другие прослойки. Зато существование воинской касты (в полном смысле слова) мне представляется наиболее сомнительным. И многочисленные ссылки на «заставы богатырские» тут ничего не меняют.
Воины добывают средства к существованию двумя путями: войной и охотой. Причем охота – источник вспомогательный, иначе сама каста называлась бы охотничьей. Чтобы не превратиться в простую шайку разбойников (которую власть и община рано или поздно истребят), воины должны воевать не только против кого-то, но и за кого-то. Просто грабить соседние общины – путь тупиковый, ибо выведенные из себя мужики в конце концов соберутся и задавят числом. Внешние враги (причем богатые внешние враги, способные служить постоянным источником добычи) имелись не везде и не всегда. Не все же имели в ближайших соседях Византийскую империю, ослабленную внутренними проблемами! Значит, для формирования воинской касты непременным условием служит наличие государственной власти, то есть князя, который, во-первых, загрузит воинов работой, а во-вторых, сможет содержать их, вне зависмости от успеха походов.
Причем содержать вместе с семьями! Ведь в касте занятие передается по наследству, то есть каждый воин должен иметь жену и несколько детей. Двух-трех сыновей – за себя и за того парня, который погиб слишком рано, и столько же дочерей, дабы обеспечить растущее поколение воинов достойными женами. А ведь воинов, в отличие от князей и жрецов, нужно много. Вместе же с домочадцами выходит еще в пять-шесть раз больше.
А теперь представим, что воин гибнет. Ведь среди людей, сделавших войну своим образом жизни, процент ранних смертей должен быть очень высок. Кто будет содержать осиротевшую семью (из семи человек)? Князь? Думается, князю гораздо проще и дешевле не содержать всю эту ораву домочадцев и сирот своих воинов, а набирать в дружину уже готовых молодых парней. Омоновцев тоже не с детства готовят, и ничего, добиваются неплохих результатов. Была бы школа и методика – а передавать ее можно не только кровным потомкам.
Конечно, я не отрицаю существование потомственных воинов вообще. Вероятно, из подобных людей состояла боярско-воеводская прослойка. Отдельные воины, знатные или удачливые, разумеется, могли на свою долю в добыче не только содержать жену и детей, но и, в случае чего, обеспечить вдову и сирот. Мальчики из этих семей могли обучаться воинским искусствам с детства, вырастая чудо-богатырями. Но таких людей не могло быть много, отдельной касты они не составляли, а скорее примыкали к князьям, образуя с ними вместе правящую прослойку.
По сходным причинам не верится в существование замкнутой касты рабов. Поскольку у раба личное потребление сведено к минимуму, содержать семью и растить детей ему будет затруднительно. Ведь на наших территориях, чтобы просто выжить и сохранить работоспособность, нужно значительно больше еды и одежды, чем где-нибудь в Индии или Египте. Ряды рабов постоянно пополнялись за счет пленников, должников и прочих неполноправных членов общины. Существование вольноотпущенников, плодов связей рабов и свободных, оставляет очень мало возможностей для поддержания кастовой замкнутости. Хотя, конечно, среди рабов могли встречаться и урожденные.
К тому же образ жизни славян раннего Средневековья не вяжется с кастовой системой. Предбрачные игрища устраивались «между сел», а значит, внутри села все друг другу были родственниками. А какие же разные касты, когда все родня? Собственно город в IX веке существовал только один – Ладога. Киев до самого конца IX века ничем не отличался от укрепленного родового поселка. Многие древнерусские городища – Полоцк, Псков, Изборск – представляли собой те же родовые поселения, только за земляным валом. Основная масса населения жила в поселках на пять-шесть, иногда восемь-десять дворов. Община была родственной, а соседскую общину образовывали просто несколько родственных объединений. И если в роду обретались два-три взрослых неполноправных «челядина», то названия отдельной касты эти трое явно не заслуживали. И профессиональных воинов, которые едят, но не работают, община смогла бы прокормить совсем немного. А один в поле – сами понимаете кто.
Таким образом, существование замкнутой касты профессиональных воинов мне представляется нереальным. Княжеская же дружина могла возникнуть в эпоху складывания древнерусского государства – то есть не ранее X–XI веков. Именно тогда на территории Древней Руси сложилась обстановка для того, чтобы подходящие люди, отрываясь от своих общин, сплачивались вокруг военного вождя, и в самом деле образовалась межнациональная дружинная культура, что подтвержается богатым археологическим материалом.
Но возникла эта дружина, конечно же, не на пустом месте. В поисках ее предшественника стоит вспомнить такую вещь, как «воинское братство». Это довольно известное древнеевропейское явление, отразившееся в фольклоре разных народов. Например, в образах Белоснежки и семи гномов или Мертвой Царевны и семи богатырей. Суть явления в следующем: все подростки общины (племени, рода) проводят часть своей жизни в лесу, отдельно от прочих сородичей, обучаясь искусству войны и охоты, идут в бой в первых рядах племенного ополчения и считаются не принадлежащими общине. Сроки «волчьей жизни» едва ли можно назвать точно, но, скорее всего, они располагались где-то между первым взрослым посвящением – в 12 лет – и вступлением в брак – 15–17 лет. «Отслужив» свое, парни возвращались «в белый свет», обзаводились семьями, а им на смену уходило в лес новое поколение подростков. Не исключено, что подобные же союзы объединяли и девочек. «Волчьи братства» сохранялись у славян до VI века как минимум, а в менее развитых в общественном смысле областях могли держаться и дольше. В экономическом смысле (не говоря сейчас о сакральном) подобное устройство жизни было возможно при господстве подсечной системы земледелия: подсека требовала меньше труда, а урожай давала очень богатый, то есть община свободно могла обойтись без рабочих рук молодых парней. Подсечная система господствовала до VII века, а потом, надо думать, «волчьи братства» стали отмирать параллельно смене типа хозяйствования вообще. Проще говоря, руки парней понадобились дома.
Такое объединение, с одной стороны, можно назвать профессиональной воинской группой, но с другой – она не оторвана от общины и находится с ней в живом взаимодействии: из нее выходили и в нее же возвращались, пройдя своеобразное длительное посвящение и заслужив полное право называться охотником и воином.
Конечно, нельзя (и даже не следует) исключать того, что иные из «волков» по разным причинам оставались в лесу навсегда, служили наставниками все новым поколениям «волчат». Кто-то из этих людей мог создать семью с симпатичной пленницей и породить «потомственных воинов». Но опять же, для целой касты таких людей было слишком мало.
С течением веков «волчье братство» окончательно оторвалось от общины и перешло в подчинение княжеской власти. Князь использовал дружину в своих целях (в том числе и для удержания общин в повиновении), содержал ее и набирал новичков по своему вкусу из самых разных источников. В данном романе отражено представление автора о промежуточном этапе бытования «волчьих братств», когда они уже вступили во взаимодействие с княжеской властью, но еще не порвали связи с общиной и пополнялись за счет ее новых поколений.
На том же материале можно построить сколько угодно других теорий и версий. Как же все было на самом деле, мы едва ли теперь узнаем. Мне представляется, что сам исторический процесс, как и фольклор, не имел единого исходного варианта былины «Добрыня и Змей», а только «общий замысел», то есть суть исторических процессов, которая в каждом конкретном случае получала собственное неповторимое воплощение.
Скажу немного о «малых племенах» – в романе из них упомянуты смоляне, угряне, дешняне. Многие авторитетные ученые сходятся на том, что известные нам по летописям племена – кривичи, радимичи, вятичи и так далее – на самом деле представляли собой союзы малых племен. Подтверждение этому можно найти в упоминаниях «светлых князей», которые, по всей видимости, возглавляли союзы племен в противоположность «малым» племенным князьям, одним из которых, вероятно, был и хрестоматийный древлянский князь Мал. К тому же, сами процессы формирования летописных племен были чрезвычайно сложными и растянутыми по времени и включали множество разнообразных этнических влияний. То есть славяне-северяне – это совсем не то, что славяне – словены ильменские. В первой половине IX века каждое славянское племя включало в себя множество разнообразных родов различного происхождения и наверняка поражало разнообразием внешних обликов и культурных традиций. Кроме того, народный костюм обнаруживает существование в разных районах устойчивых особенностей – предметы одежды, их цвет, материал, узоры и так далее, – которые группируются в населенных пунктах определенного района, в том числе вдоль каких-либо рек. Весьма вероятно, что это следы проживания малого племени, которое когда-то размножалось и расселялось вдоль реки, сохраняя детали костюма как знак своей племенной принадлежности. Смоляне упоминаются в различных документах. Угряне и дешняне – допущение автора, но нечто подобное, весьма вероятно, существовало. Недаром же река Угра и верховья Десны (Подесенье), а также ее приток Болва (Оболвь) века спустя в административном отношении принадлежали Смоленскому княжеству, хотя все земли вокруг них входили в Черниговское.
О происхождении и содержании понятия «русы» написано столько, что даже перечисление основных точек зрения займет слишком много места. Я здесь кратко изложу мнение крупнейшего российского ученого-археолога, академика Валентина Васильевича Седова. Итак, в IV веке нашей эры часть антских племен под давлением гуннов отделилась от основной массы родственных племен, проживавших в Днепровском Правобережье, и ушла довольно далеко – на Среднюю Волгу, где и прожила обособленно около трех веков. В конце VII века, испытывая давление со стороны приходивших с востока кочевников-тюрков, волжские славяне покинули свои поселки и переместились на новые места. Ушли они тремя ветвями: на верхний Дон, на верхнюю Оку и в Днепровское Левобережье. Родственность упомянутых культур подтвержается материалами археологических и лингвистических исследований. Эти три крупных племенных объединения и носили название «русы». Само слово происходит от индоиранской либо индоарийской основы со значением «светлый, белый» и является далеко не единственным примером, когда ославянивался не славянский первоначально этноним.
Разместившись на новых местах и вступив в активное взаимодействие с местными (балтскими) племенами, эти три ветви в 20 – 30-х годах IX века создали собственное государственное объединение – Русский каганат. Видимо, их побудила к этому необходимость обороняться от посягательств со стороны Хазарского каганата, наиболее могущественной в то время державы в этой части мира. Видимо, Хазарский каганат, основной соперник, использовался как образец, а титул кагана, принятый главой нового союза племен, призван был подчеркнуть его независимое и равное положение по отношению к главе Хазарии. На существование Русского каганата указывают западные источники. Столица его, видимо, находилась в Киеве – хотя до последних десятилетий IX века Киев не имел даже своего Подола и представлял собой союз трех родовых поселков на горах. Даже если полянский князь действительно жил в одном из этих городков, то Киев стоит называть скорее резиденцией племенного князя, чем собственно столицей. Совершенно нормальное явление – и на Западе, и в Скандинавии короли помещались в своих усадьбах, а вовсе не в городах, что не мешало им управлять государствами. Так или иначе, других кандидатур в распоряжении науки нет, поэтому остановимся на Киеве. Стало быть, каганом звался киевский князь, глава днепровских русов.
Русский каганат просуществовал примерно полвека и в 60 – 70-х годах был разгромлен хазарами. Политическую самостоятельность сохранили только днепровские поляне, за которыми закрепилось название «русы». Кстати, именно после падения Русского каганата, начиная с последних десятилетий IX века, в Киеве появился Подол и город начал активно развиваться. Возможно, что такую возможность ему дал «худой мир» с Хазарским каганатом, открывший путь на восточные рынки для русских мехов и прочего. Остальные – северяне, донские славяне и часть вятичей – попали в зависимость от Хазарского каганата, из которой их освободили первые Рюриковичи. И еще в XI веке ходили на вятичей походами, пытаясь подчинить-таки это упрямое и обособленное племя «генеральной линии партии».
О местоположении Русского каганата в науке нет единого мнения. Есть весьма сильные аргументы против его южного местоположения и за северное – в районе Ладоги, где его создали варяги. Но в этой книге пусть уж он будет в Поднепровье – про северный каганат я как-нибудь в другой раз напишу.
Впрочем, в мои творческие планы входит показать не столько «предпосылки образования государства», сколько наоборот – те силы, которые управляли обществом помимо государства, в нем не нуждались и даже в чем-то ему противостояли. Предметом научного исследования столь эфемерный предмет едва ли когда-нибудь станет, а вот художественного – почему бы и нет?
Пояснительный словарь
Басни – рассказы недостоверного содержания, что-то вроде сказок.
Бек – титул хазарских аристократов.
Белокрылка – болотное растение, мучнистые корни которого после особой обработки использовались вместо муки.
Берегини – духи плодородия, обычно являвшиеся в виде красивых девушек, могли обитать в лесу, в реках и т. д.
Березень – апрель.
Беседа – общественное здание, служащее для собраний и совместных работ, обычно женских.
Било – подвешенный кусок железа, звоном в который предупреждали об опасности, собирали на вече.
Блазень – призрак.
Бойники – воинские объединения молодежи. Подробнее см. в Послесловии.
Большуха – старшая женщина в семье, распоряжавшаяся всеми домашними работами. Обычно жена хозяина, но не обязательно. Слово взято из этнографии: в организации быта крестьян очень долго сохранялись глубоко архаичные черты, следы родового быта.
Бортник – собиратель дикого меда.
Братина – чаша, использовавшаяся на пирах.
Братчина – общинные пиры из собранных в складчину припасов, обычно – обрядовые. Однако следы больших построек общинного пользования сохранились, а их название – нет. Поэтому автор перенес название общинного пира на соответствующее помещение. К этому подталкивает и древнейшее значение слова «брат», которое первоначально обозначало не сына тех же родителей, а вообще любого мужчину своей крови, любого члена своего рода.
Булгары – тюркоязычный народ, родственный хазарам, в раннем средневековье проживал на Волге.
Варга – это слово и связанный с ним широкий круг сакральных понятий я позаимствовала из книги Алексея Меняйлова «Смотрите, смотрите внимательно, о волки!». Чтобы не растекаться мысию по древу, обозначу два главных значения: Варгой в тексте называется жилище бойников – как «варга» – «болото», то есть место обитания волков. Кроме того, «варгой» называется вожак бойников. В книге Меняйлова источником этого слова указано санскритское «варга» – «сила», в частности, сила, получаемая на пути высших инициаций.
Варяги – варяги русских летописей – однозначно скандинавы, это убедительно доказывают и археология, и лингвистика. Эта шустрая нация налаживала торговые связи между Севером и Востоком еще в очень давние времена.
Велес – один из главных славянских богов. Образ его сложен и неоднозначен. Автор склонен думать, что это древнейший в человеческом сознании образ Бога Того Света, Бога мертвых. А поскольку в глубокой древности страна мертвых ассоциировалась в первую очередь с лесом (иначе – с водой, и она тоже связана с Велесом), то и Велес в первую очередь – Лесной Хозяин. В этом образе со временем проявились разные черты, сделавшие его покровителем многих связанных друг с другом вещей, понятий и областей деятельности: охоты и лесных зверей, скотоводства и домашнего скота, богатства, земледелия и урожая, мира мертвых, предков, колдовства, мудрости, песен, музыки, путешествий, торговли. В этом проявилась неоднозначность древнего сознания вообще, которое каждый предмет «разворачивало» сразу в нескольких плоскостях.
Вервь – точное значение этого слова ученым установить не удается, но в тексте оно используется в одном из возможных значений – родовая община.
Верхница – верхняя рубашка.
Весь – небольшое неукрепленное поселение вроде деревни.
Вече – общее собрание племени либо других территориальных единиц, орган власти выше князя.
Видок – свидетель.
Вира – штраф за тяжкие преступления, выплачивался пострадавшим или его родне.
Волость – область, объединенная общим вечем.
Волхв – «специализации» служителей языческих богов, опять же, едва ли поддаются точному установлению, но в тексте волхвом называется человек, способный общаться с миром духов, проще говоря, шаман.
Воротынец – это название автор присвоил древнему городищу в земле вятичей, на берегу реки Зуши, поставленному где-то в начале IX века на места древнего балтского городища. Название дано по ближайшей деревне и понятию «ворота», поскольку город защищал землю вятичей от возможных набегов со стороны Хазарского каганата.
Всебожье – Родные Боги в своей совокупности, единые во Роде.
Встрешник – ветровой злой дух, встреча с которым очень опасна.
Вятичи – крупное племенное объединение восточных славян, первоначально жившее на верхней Оке и постепенно расселившееся по всем ее притокам. Название племени, по легенде, происходит от имени князя Вятко. Скорее всего, это разговорно-бытовой вариант сложного княжеского имени вроде Святослав, Святополк и так далее: Святослав – Святко – Вятко. Когда именно он жил, установить уже невозможно.
Голядь – голядью русских летописей называлось племя балтского происхождения, жившее на реке Протве еще в XI веке. Назывались ли так же прочие балты, жившие в предыдущих тысячелетиях на притоках Оки, – неизвестно, но вполне могли, поскольку само название голяди (галинды, галиндяне) означает «живущие на окраине». То есть они тогда воспринимались как восточный край расселения балтских племен, каковым и являлись. Ближайшие родственники голяди – латгалы, современные латыши.
Городище – место, на котором раньше находился город (то есть укрепленное поселение).
Гривна – здесь – шейное украшение, ожерелье, обычно из драгоценных металлов, служило знаком воинской доблести.
Громовица – Молния, предположительно – супруга Перуна.
Дажьбог – бог тепла и белого света.
День Богов – полугодие, когда солнце возрастает, то есть от солнцеворота 25 декабря до солнцестояния 23 июня. Считается, что человек, умерший в День Богов, навсегда возвращает свой дух божествам и больше не возродится. Дети, зачатые в День Богов, получают «новую» душу, а не ту, которая принадлежала кому-то из предков.
Диргем – арабская серебряная монета, 2,7 г, имела широкое хождение в Восточной Европе в раннем Средневековье.
Жито – зерно. В разных местностях житом называли разные виды зерновых, наиболее важные для данного района.
Жрец – здесь жрецом называется специалист по проведению обрядов и принесению жертв.
Забороло – верхняя площадка крепостной стены.
Займище – жилье в лесу.
Зарод – владение рода, угодья, на которых добывают пищу.
Заушницы (височные кольца) – металлические украшения в виде колец, носимые на висках по обе стороны головы. Считаются этноопределяющим признаком славян, хотя балтами тоже употреблялись. Делались из серебра, меди, бронзы, других сплавов, могли вплетаться в волосы (девушками) или крепиться к головному убору (женщинами). В более поздние времена форма височных колец различалась в разных племенах, но на ранних этапах форма у всех была «браслетообразная» с незначительными отличиями.
Змей Летучий – персонаж славянского фольклора, змей-оборотень, способный приносить или отгонять дождевые тучи. Благодаря своей связи с дождем считается положительным персонажем, но также склонен вступать в связи с одинокими женщинами или тоскующими девушками, для которых эта связь опасна, приводит к болезни или даже к смерти.
Изборск – древнейший (с начала viii века) город, племенной центр псковских кривичей.
Ирий – славянский рай.
Исподка – нижняя рубашка.
Истобка – теплая, отапливаемая часть жилого помещения.
Каган – титул верховного правителя у некоторых тюркоязычных народов, в том числе у хазар, у которых его позаимствовали правители Русского каганата.
Калита – кошель.
Кика – головной убор замужней женщины, скрывающий волосы, то же, что кичка.
Кикимора – дух умерших предков, живущий под полом или под печью. Болотной называется по недоразумению.
Кичка – высокий головной убор замужней женщины. «Рогатые» кички можно наблюдать в музеях, в частности, Рязанском, на бывшей земле вятичей. И хотя образцы принадлежат XIX или даже XX веку, у меня нет сомнений, что этот тип головного убора мог зародиться только в древнейшую языческую эпоху, когда уподобление корове-кормилице для женщины считалось красивым и почетным. А возможно, это даже следы тотемистических представлений, кто знает?
Кметь – воин в дружине. Происходит от латинского слова «комит», то есть спутник, но это очень старое заимствование.
Кологод – годовой круг.
Колядки – праздники нового года. Тоже латинское заимствование и тоже очень старое. Кстати, заимствовано может быть только название, но не сам праздник, ибо я не сомневаюсь, что какие-то зачатки культа предков возникли еще в сознании питекантропа.
Кормилец – воспитатель сыновей знатного человека, обычно из родственников.
Кощуна – песнь мифологического содержания.
Кравчий – разливающий напитки на пиру.
Крада – погребальный костер. В первоначальном смысле – куча дров.
Кресень – июль.
Кривичи – крупное племенное объединение, состоявшее из трех ветвей: смоленские кривичи, псковские и полоцкие.
Кудес – бубен.
Кудесник – волхв, работающий с бубном.
Купала – один из главных славянских годовых праздников, приходившийся на летнее солнцестояние 23 июня. Знаменовал точку наивысшего расцвета всех производящих сил природы и одновременно перелом, после которого все эти силы идут на спад. Упоминаемый иногда Купала как персонаж – олицетворение праздника, но едва ли самостоятельное божество.
Лада – одно из главных славянских женских божеств. Традиционно считается богиней любви, красоты, счастья в браке. Лично моя точка зрения состоит в том, что в образе Лады отразилось представление древнего человека о Дикой Хозяйке, Хозяйке Леса, то есть женской ипостаси рождающих сил природы, в противоположность Хозяйке Домашнего Очага, то есть Макоши. А поскольку с дикой природой человек познакомился раньше, чем завел домашнее хозяйство, то и Лада – древнейшая из богинь, составляющая пару Велесу. Ее символом служит медведица, поскольку медведь просыпается в период весеннего равноденствия, когда наступает весна.
Леля – олицетворение весны, пара Яриле.
Лядина – заброшенный и заросший полевой надел.
Макошь – одно из главных славянских женских божеств. Традиционно считается богиней судьбы, удачи, семейного счастья, а также покровительствует плодородию во всех видах и всем женским работам. Видимо, с Макошью было связано благополучие производительных хозяйственных работ, то есть земледелия и скотоводства, а отсюда уже судьба и удача.
Марена – одно из главных славянских женских божеств. Традиционно считается богиней зимы и смерти, темной стороной Великой Богини.
Набивняк – простейший защитный доспех, кожаная рубаха на льняной основе, набитая паклей и простеганная.
Навка (навь) – дух чужого враждебного мертвеца.
Навный мир – мир духов.
Нагай (птица) – мифологическая птица, способная служить проводником из мира живых в мир мертвых.
Наральник – железная деталь деревянного рала.
Невея – лихорадка, дух, приносящий болезни.
Недоля – одна из двух богинь судьбы, приносящая несчастье.
Нестера – племянница по брату (или по мужу).
Неть – племянник по мужской линии.
Ночь Богов – полугодие, в котором солнце убывает: от солнцестояния 23 июня до солнцеворота 25 декабря. Люди, умершие в Ночь Богов, снова вернутся на землю в своих потомках; в детях, зачатых в Ночь Богов, возрождается кто-то из предков.
Оборы – тесьма, которой обматывали ноги, чтобы лучше держались онучи. Цвет оборов тоже мог служить знаком племенной принадлежности.
Обояльник – обманщик.
Огненный Змей – один из небесных духов, олицетворение небесного огня (молний).
Онучи – длинные полосы ткани, которыми обматывали стопу и ногу до колена вместо чулок.
Отрок – слово, включавшее широкий спектр значений младшего, неполноправного члена коллектива: подросток, парень, младший в дружине, слуга.
Паволоки – тонкие шелковые ткани византийского производства.
Паробок – в Древней Руси так называли младшего домочадца, слугу.
Перун – практически самое известное славянское божество, многие считают Перуна верховным богом. Традиционно считается богом грозы и войны, покровителем мужчин, воинов и князей. Также имеет отношение к плодородию, поскольку является источником дождя, необходимого для урожая и благополучия.
Плесков – древнее название Пскова.
Повой – женский головной убор, скрывавший волосы, нижний, поверх которого еще надевалась украшенная кичка.
Полотеск – древнее название Полоцка.
Полюдье – ежегодный обход князем подвластной территории с целью сбора дани, суда и так далее.
Поршни – простейшая кожаная обувь, похожая на мягкие тапочки из цельного куска, на ноге крепились ремешком, пропущенным через край.
Присная (сестра) – от той же матери, то есть ближайшая по крови.
Радуница – весенние праздники поминания мертвых, включали жертвоприношения на могилах, в том числе крашеных и расписных яиц как символ новой жизни и вечного обновления.
Рало – инструмент пахоты. От плуга отличается тем, что рало только разрезает верхний слой земли, но не переворачивает его. С этим связана и технология переложного земледелия, которая за несколько лет истощает участок земли и требует переноса поля.
Ратники – непрофессиональные воины, ополчение.
Роба – рабыня, пленница.
Русалки – духи воды. Есть мнение, что корень «рус» имеет отношение к понятию воды.
Русальная неделя – неделя перед Купалой, когда русалки наиболее опасны.
Русский каганат – раннее государственное объединение нескольких славянских племен: полян, вятичей и некоторых других. Подробнее см. в Послесловии.
Ряд – договор.
Сварог – один из верховных славянских богов, хозяин неба.
Сват – родич через брак.
Светлый князь – князь, стоявший во главе союза племен.
Себры – жители территориальной общности, не связанные кровным родством, иначе говоря, соседи.
Северяне – одно из славянских племен, жившее между левобережьем Днепра и низовьями Дона, испытали наибольшее воздействие аланов и хазар.
Смоляне – одно из предполагаемых малых племен, жившее в верховьях Днепра, вокруг которого сформировалось племенное объединение смоленских кривичей.
Сродники – кровные родственники, члены одного рода.
Стеганка – простеганная рубашка из нескольких слоев льна, простейший защитный доспех. Слово позаимствовано из обихода современных исторических реконструкторов, но не вижу причин, по которым ей не называться так.
Стрый – дядя по отцу.
Стрыйка – тетя по отцу. Слово более позднего образования, чем стрый, но тоже реальное.
Студен – декабрь.
Сулица – короткое копье. Применялось в основном для метания в щит противника: если сулица втыкалась, то держать щит становилось гораздо труднее и приходилось его бросать.
Тархан – титул хазарской аристократии.
Травница – ведающая травы.
Убрус – полотенце либо верхний женский платок, полотенцеобразный головной убор.
Угра – река, самый западный приток верхней Оки. По племенной принадлежности населения входила в состав земли вятичей, но в административном отношении принадлежала смоленским князьям, то есть, вероятно, заселялась обоими племенами, вятичами с востока и кривичами с запада.
Умбон – полусферическая металлическая деталь щита, крепилась в середине и служила для защиты левой руки воина, на которой держали щит.
Хазары – народ тюркского происхождения.
Хазарский каганат – созданное хазарами одно из крупнейших государств Восточной Европе. Контролировало территории Северного Кавказа, Нижнего и Среднего Поволжья, северной части Крыма, степи и лесостепи Восточной Европы вплоть до Днепра. С некоторых пор правящая верхушка хазарского каганата приняла иудаизм, но среди населения были распространены и христианство, и мусульманство, и языческие верования тюрков.
Хвалисы – жители Хорезма по-древнерусски.
Хлебный Волк – своеобразный дух урожая, живущий в последнем снопе.
Хорезм – древнейшее государство Средней Азии, с центром в низовьях Амударьи, возникло в VII–VI веке до нашей эры, в начале VIII века нашей эры было завоевано арабами.
Чара – сосуд особой формы, предназначенный для гадания по воде.
Червень – июнь.
Чернобог – одно из двух (наряду с Белобогом) проявление Рода, олицетворение всего тайного, сокрытого, непознанного. Воплощает тьму, карающую ипостась Рода, смерть, зиму.
Чуры – духи предков.
Шеляг – так звучало на русской почве скандинавское название серебряной монеты – «скиллинг». Сама эта монета – арабский диргем.
Явный мир – реальный мир людей.
Ярила – одно из главных славянских богов, бог производящих сил природы в период ее весенне-летнего расцвета.
Ярила Мокрый – он же Ярила Сильный – второй после Ярилы Вешнего праздник в честь весеннего бога, отмечается примерно 4–5 июня, знаменует высший расцвет Ярилиных сил и одновременно начало увядания.
Ярила Молодой – он же Ярила Вешний – первый из годовых праздников в честь Ярилы, отмечался в период весеннего равноденствия, отображает приход Молодого Ярилы в Явь, пробуждение природы и сотворение зарода в земле.
Ярила Старый – последний Ярилин праздник в году, на Купалу, знаменует проводы весенней производящей силы.
Ярь – очень многозначное слово, обозначало любое проявление производящих природных сил вообще, в том числе любовную страсть.
Примечания
1
По исследованиям лингвистов, в древнейшей традиции девкой называлась всякая молодая женщина низкого происхождения независимо от семейного положения.
(обратно)2
Крагуй – хищная птица. Слово тюрского происхождения, но заимствование очень старое.
(обратно)3
Объяснение употребления слова «русы» – в Послесловии.
(обратно)4
Днепровские кривичи здесь рассматриваются как большой племенной союз, включавший малые племена – смолян, угрян, дешнян и др. Это не так чтобы исторический факт, но и не совсем фантазия автора, потому что разделение данной территории на племенные области наблюдалось и позднее, что отражается и в административном делении.
(обратно)5
Если коротко, связь такая: Ярила – «молодая» и «весенняя» сторона того же божества, «старой» и «зимней» половиной которого является Велес. О взаимоотношениях богов существует много разных концепций, но автор придерживается именно такой. Поскольку Велес старше, а Ярила младше, то Велеса условно можно назвать отцом Ярилы, но в ходе вращения годового круга они постоянно происходят один из другого.
(обратно)6
Здесь и далее обрядовые стихи, кроме заклинания дождя, взяты из книги волхва Велеслава «Вещий Словник: Славления Родных Богов».
(обратно)7
Едва ли наука сможет установить, в какое время внутриродовой брак сменился межродовым, но уже где-то за тысячу лет до нашей эры у славян, вероятно, существовал парный брак современного типа, то есть уже следующий этап развития семейных отношений после межродового группового. В сказках следы памяти внутриродового брака сохранились до самых последних времен, но даже для описываемой эпохи это уже была дремучая архаика.
(обратно)8
Озеро Весь – древнее название Белого озера. По Волжскому торговому пути, соединявшему Балтийское море с Каспийским, варяги двигались с VIII века как минимум.
(обратно)9
Покрытая голова и у женщин, и у мужчин означала состояние в браке.
(обратно)10
Все это – простые, относительно дешевые и легкие в изготовлении «народные» доспехи, доступные каждому. Названия и практика использования данных предметов взяты из обихода современных исторических реконструкторов. Существование этих вещей для IX века однозначно доказать нельзя, но что-то подобное должно было использоваться, поскольку кольчуги были чрезвычайно дороги и доступны только самым богатым и знатным людям.
(обратно)11
Имеется в виду некий миф, рожденный из современных попыток понять древнюю систему мышления: Первопредок людей Чур спас Волка ценой своей жизни, и с тех пор волки охраняют чистых сердцем людей, пытаясь отдать долг. Конкретно об этом можно прочитать в книге Алексея Меняйлова «Смотрите, смотрите внимательно, о волки!». Утверждать подлинность этого мифа я не берусь, но он хорошо укладывается в общее русло представлений.
(обратно)12
То есть имеющим отношение к Ирию, который можно назвать чем-то вроде языческого рая.
(обратно)13
Обры – славянское название аваров, которые в свое время подчинили дунайских славян, и память об этом могла сохраняться в разных племенах.
(обратно)14
Куна равна дирхему и составляла в начале IX века 2,73 г серебра, а в гривне (68,22 г) их было по 25.
(обратно)15
Полынь и дедовник (чертополох) считались растениями, отгоняющими нечисть, которая в Купальскую ночь особенно сильна.
(обратно)16
По древнерусским нормам, заключение брака дозволялось при родстве не ближе седьмого колена. То есть люди, состоявшие в седьмой и далее степени родства, родство свое уже считали не кровным, а скорее номинальным.
(обратно)17
Связывание рук жениха и невесты полотенцем – один из многочисленных обрядов при заключении брака, символизирующий единство новой пары.
(обратно)18
Заключение законного брака включало несколько обязательных обрядовых этапов: разрыв невесты с прежним родом и соединение с новым, а приданое утверждало ее имущественный статус. Законная жена называлась словом «водимая», вероятно, от понятия «привести», а незаконная – «хотия», то есть считалась просто любовницей. Но отягощать текст этими словами автор не посчитал нужным.
(обратно)19
В позднем русском Средневековье был распространен культ Ильи Мокрого, которого просят о дожде, и Ильи Сухого, которого просят, наоборот, о прекращении затяжных дождей, вредных для урожая. Не приходится сомневаться, что здесь мы видим остатки культа Перуна, функции которого принял Илья Пророк. Причем есть мнение, что сам библейский Илья является очередным воплощением Громовержца.
(обратно)20
По остаткам древней европейской мифологии видно, что именно у жриц богини смерти (как ее ни назови) будущие воины проходили обучение воинским искусствам и посвящение, дающее право убивать. Поскольку темная сторона образа Великой Богини связана со смертью, то гибель в бою (или убийство) входит в сферу ее влияния. У славян из этой области известен образ богатырши Марьи Моревны, покрывающей поле битвы мертвыми телами, и в этих сюжетах сохранилось буквально само имя богини Марены (Морены).
(обратно)21
То есть старше семи лет.
(обратно)22
Данная идея взята из книги Алексея Меняйлова. Трудно сказать, насколько она справедлива, но ярко выраженное нежелание сказочно-мифологических отцов расставаться с дочерью и противодействие женихам можно, в общем-то, понять и так. В принципе, это дает новую мотивировку характерному для архаичного мышления нежеланию связываться с чужаками.
(обратно)23
Здесь – принять на воспитание. Обряд сажания мальчика на коня проводился в возрасте трех лет и исполнялся отцом или кормильцем, если такой был.
(обратно)

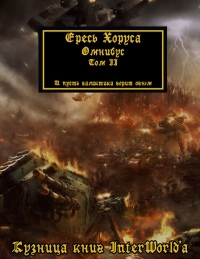

Комментарии к книге «Ночь богов. Книга 1: Гроза над полем», Елизавета Алексеевна Дворецкая
Всего 0 комментариев