Зиновий Юрьевич Юрьев Иск
ГЛАВА 1
Сквозь реденькие седые волосы врача просвечивала розовая кожица скальпа. Он сидел, наклонив голову, и что-то писал. Мне вдруг почудилось, что он боится посмотреть на меня, и тут же, откуда-то снизу, во мне начала подниматься волна липкого страха. Он обволакивал желудок, сердце, легкие, пока все мое нутро не всколыхнулось тоскливым животным ужасом. В кабинете вдруг стало холодно, и меня начал бить озноб.
Я несколько раз глубоко и прерывисто вздохнул. Мне казалось, что глоток кислорода должен если не смыть, то хоть немного растворить дрожавшую внутри меня пустоту. Но страх не уходил. У страха, наверное, своя интуиция, своя логика, своя воля.
Пауза бесконечно растягивалась, раздувалась, как мыльный пузырь. Только стенки его не переливались детской праздничной радугой. Мыльные пузыри! Как я любил пускать их когда-то, до нашей эры…
Наконец врач медленно начал поднимать голову. Ах, какой это был труд! И сколько вещей отвлекало его! Например, ногти, которые он разглядывал так, будто видел в первый раз; бумаги и книги, вдруг потребовавшие срочной перекладки; галстук, и так завязанный идеальный узлом. На мгновение мне стало жаль старика: сколько же он тратит душевных и физических сил, чтобы только не посмотреть мне в глаза! Он громко вздохнул. Вздох был вовсе не докторский, не профессорский, не профессиональный, а какой-то беспомощный, похожий на те мои вздохи, которыми я только что пытался растворить склеивавший меня страх. Доктор долго растирал руки, обтянутые коричневым пергаментом, собираясь с силами.
— Боюсь, — наконец выдавил он из себя, — что дела наши не очень хороши…
Я молчал. Он неплохо подготовил меня к худшему тягостным, безнадежным молчанием и вздохами. И все равно трепетавший во мне страх мгновенно уплотнился: я одеревенел. Я хотел что-то спросить, но не мог. Я хотел вдохнуть, но мышцы не повиновались мне.
— Может быть, если бы вы не пропустили прошлое обследование, — еще раз вздохнул профессор Трампелл, — может быть…
— А если без условных наклонений? — неожиданно послышался чей-то хриплый голос, и я не сразу понял, что он принадлежит мне.
Профессор собрался с духом и посмотрел на меня. В стариковских светло-водянистых глазах клубилось не то сострадание, не то испуг. Усилие, должно быть, заставило его еще раз вздохнуть, и он отвел взгляд.
— Без условных наклонений? — задумчиво переспросил он и несколько раз кивнул. Не то себе, не то мне. — Мне скоро семьдесят, дорогой мистер Карсон, а я так и не привык спокойно выносить приговоры. Покойный отец почему-то мечтал, чтобы я стал судьей. Он и сам был судьей. Я, как сейчас, вижу его: всегда одетый в черный костюм, всегда серьезный. Почти торжественный. Мне кажется, даже во сне он сохранял это выражение серьезной торжественности. Он считал свою профессию самой лучшей в мире. Он не мог понять, как это я решил стать врачом. Кто знает, наверное, он был прав… Может быть, я прожил бы более спокойную жизнь и вынес бы меньше приговоров…
— Я не совсем понимаю, кого жалеть: вас или себя, — довольно резко сказал я. — И к тому же — осужденный имеет право хоть знать приговор. И в суде и здесь.
— Да, да, простите, — как-то виновато встрепенулся профессор. — Я не должен ничего скрывать от вас. — Он снова опустил голову. — Рак легкого…
— Лечение? — спросил я чужим голосом.
Легкие седые волосы едва заметно заколебались над розовой детской кожицей.
— Увы… слишком поздно…
— Сколько у меня времени? — спросил я и какой-то частью сознания, сохранившей способность наблюдать и анализировать происходившее, подивился деловитости тона. — На сколько я могу оставить здесь машину? Сколько я вам должен? Сколько мне осталось жить?
Профессор выпятил сизую полную нижнюю губу и тут же начал медленно ее всасывать, словно боялся потерять ее.
— Три месяца, может быть, четыре… Поверьте, я бы хотел…
— Скажите, профессор, ошибки не может быть? Я ведь чувствую себя вовсе недурно. — Неожиданно я почувствовал надежду. Крошечную, хрупкую. Но тем яростнее я вцепился в нее. Ну конечно же, это ошибка. Страшная, нелепая ошибка. Ну, признайся, старый палач, что ошибся, и я прощу тебе муки осужденного. Ну, смелее, смелее, признайся, не томи меня, старик, молил я его, признайся.
Мне показалось, что профессор вздрогнул и пожал плечами.
— К несчастью, все анализы и томограммы не оставляют ни малейшего сомнения… А самочувствие… Оно бывает так обманчиво и коварно. Иногда словно специально для того, чтобы усыпить бдительность. Боюсь, это не надолго… Как только почувствуете себя хуже, позвоните мне.
— А операция? Неужели нет никаких новейших лекарств? — спросил я. Надежды уже не было, и я произносил пустые, жалкие слова только для того, чтобы не задохнуться от животного ужаса.
Профессор печально покачал головой.
— Увы, мистер Карсон, поздно. Поверьте, я…
— Спасибо, доктор, — сказал я и вышел из кабинета.
Прямо на меня по коридору шла молоденькая сестра. Светлозеленый халатик удивительно гармонировал с ее глазами точно такого же цвета. Она улыбнулась мне снисходительно и победоносно, как улыбаются молоденькие красивые девушки не очень молодым мужчинам.
Я улыбнулся ей в ответ. Я понимал, что не мог улыбнуться, выслушав только что окончательный приговор. Но наверное, инстинкты еще жили прежней жизнью, они еще не усвоили, что улыбки кончились для меня навсегда. Как и все остальное. Навсегда. Ужасающее, если вдуматься, слово. Нелепое, бессмысленное, тупое и жестокое. Как это навсегда? Я не хотел принимать эту мысль, во мне не было смирения. Как это навсегда? Почему это должно было случиться со мной? Почему? Почему из-за каких-то дрянных рехнувшихся клеток я должен осознавать, что все кончается для меня. Навсегда.
Я медленно вышел на улицу. Февральский ветерок лениво закручивал над асфальтом снежные буранчики, и, обессиленные, они тут же бесшумно опускались на тротуары и мостовую. Я понимал, что ничего не изменилось за последний час: люди улыбались, ссорились, спешили по своим делам. Земля продолжала бесшумно вращаться вокруг своей оси. Плывя одновременно по орбите вокруг Солнца. Изменилось лишь мое восприятие мира. Он казался мне теперь неизъяснимо прекрасным, от легкого морозца до угрюмой старухи с пластиковой сумкой, которая в этот момент проходила мимо. Старуха исподлобья посмотрела на меня, и во взгляде ее мне почудилось сострадание. Как, как я мог прожить жизнь, не замечая всей изумительности мира? Как мог позволить себе огорчаться из-за всяческих пустяков, вместо того чтобы упиваться каждым мгновением пребывания в этой невозможной красоте, от которой у меня на глазах наворачивались слезы?
Нет, нельзя отпускать все эмоциональные тормоза. В конце концов, я не мальчик. Пятьдесят два года не так уж мало. Сколько бы мне ни оставалось дней, нельзя прожить их с невысыхающими слезами на глазах. Нужно было ожесточиться. Нужно было проклясть судьбу и приготовиться к встрече с костлявой.
Что ж, раньше или позже это случается со всеми. Чуть раньше, чуть позже… Мне захотелось закурить, и я привычным усилием воли попытался подавить желание: то, что я считал бронхитом, заставляло меня в последнее время ограничить себя в курении. Но теперь можно было не бороться с собой. Днем больше, днем меньше… А может быть, даже и не меньше. Испокон веков приговоренному к смерти полагался сытный завтрак. Я повернулся спиной к ветру и закурил. Сладостно-едкий дым тут же заставил меня закашляться.
Щетки стеклоочистителя машины примерзли к стеклу. Я достал скребок и не торопясь соскоблил тонкий ледок. Он соскребался с приятным хрустом. Привычные движения были бесконечно сладостны. Наверное, подсознательно я был уверен, что с человеком, занятым таким обычным делом, не может случиться ничего страшного. А может быть, в этом было спасение. Нужно было продолжать делать все то, что я делал раньше, и смерть, увидев, что здесь ее не ждут, пройдет мимо. Нужно было улыбаться, отвечая на улыбки, как я ответил на улыбку глупенькой юной сестрички в коридоре больницы. Но я не верил себе. Я бросал в воду смешные маленькие соломинки, зная, что за них не уцепиться.
В конце концов, восприятие времени относительно. Три—четыре месяца. Мальчишкой каждый день я воспринимал как бесконечный отрезок времени. Он вмещал в себя тысячи событий. Вчера и завтра имели самое ничтожное значение, едва виднелись в смутном моем ощущении времени. А в последние годы я не раз удивлялся, как ускорился ток времени. Да уж не ток, а стремительная река. Много раз за день меня пронзало мгновенное и печальное ощущение, что я уже делал это множество раз, что так было вчера, позавчера, много лет назад, что время неудержимо и стремительно вытекает сквозь пальцы, потому что я не умею ухватиться за него и как-то задержать.
Я погрузился в кресло и вытянул ноги. Все это было чепухой, жалкой дымовой завесой, которая ничего ни от кого не скрывает. Я почувствовал, как на глазах выступили слезы. Жаль, жаль было всего, умирать не хотелось. Жаль было сына, решившего в самом конце двадцатого века отыскать себе древнего бога. Странное и нелепое существо. Вот он стоит передо мной, высокий, слегка сутулый, бледный, с мягкой курчавой бородкой. Ты не понимаешь, папа, говорит он. Я не умею тебе объяснить. Это как в чужом городе. Ты идешь по чужим улицам, и все окна темны. И вдруг в одном зажигается свет. И тебе кажется, что этот свет специально для тебя…
Жаль было Луизу. Впрочем, ее можно было не жалеть. Не раз и не два она говорила мне со странной настойчивостью:
— Никогда не жалей меня.
— Почему? — спрашивал я. — Разве жалость так оскорбительна?
— Не знаю, — хмурила она лоб, — я почему-то безумно боюсь жалости…
Сказать ей или ничего не говорить пока? Бессмысленно. Она сама почувствует, что что-то изменилось. Она обладала таинственным чутьем детей и животных и умела мгновенно определить перемены в настроении окружающих.
Сказать… Она, разумеется не бросит меня до конца, может быть, даже научится несложным обязанностям сиделки. Научится лживым улыбкам, уверениям, что я поправлюсь, научится делать мне обезболивающие уколы, поправлять постель, переворачивать меня. Она будет развлекать меня разговорами о новых узорах, которые она придумывает для росписи тканей, о всяких пустяках. Она ни разу не позволит себе всхлипнуть, и нос ее никогда не будет красный от слез. Но каждый день, каждое мгновение я буду угадывать в ней с трудом подавляемый брезгливый ужас здорового человека, который он испытывает по отношению к умирающему.
Сын… Кто знает, может быть, именно сейчас мы сумеем лучше понять друг друга?
О, с каким сладостным восторгом я бы прижал к груди отца! Он был тихим, напуганным жизнью человечком, а я только начинал жить. Так многое манило меня, что с жестоким эгоизмом юности убегал я от него тогда, когда дни его уже были пересчитаны, как теперь — мои. И ни разу, ни одного раза не попытался он удержать меня, лишь улыбался слабо и наклонял голову:
— Иди, мне ничего не надо.
И у жены я бы попросил прощения.
— Я причинял тебе много горя, — сказал бы я ей.
Она засмеялась бы легко и недоверчиво:
— Горе? Ты шутишь, друг мой. Мы были всегда счастливы…
Я вдруг вспомнил свою прабабушку, умершую, когда я был совсем маленьким. Воспоминание всплыло из самых глубин памяти.
Я стою около ее кровати. Кровать огромная, темного дерева, и столбики по бокам спинки украшают деревянные же шары. У одного сколот бок. И комната кажется мне темной, и сама старуха. Я стою около нее — наверное, меня привела мать — и смотрю на ее верхнюю губу. Я никак не могу понять, почему у прабабушки растут усики. Может быть, она вовсе не прабабушка, а прадедушка. Мысль эта, наверное, показалась мне смешной, потому что я улыбнулся. Шумно дышавшая старуха посмотрела на меня, подмигнула и просипела:
— Ну вот, хоть один умный человек в семье нашелся.
— Почему? — пропищал я.
— Потому что ты улыбнулся. Понял, что нечего жалеть старуху, которая отправляется в приятное путешествие. Последнее и самое отрадное…
— Что значит «отрадное»?
— Отрадное? Как тебе объяснить, малыш? Которое дает тебе отраду, покой.
— Покой? Разве это хорошо? Покой — для покойников.
— Это ты хорошо сказал.
Старуха взяла колокольчик и стала звонить. Что она хочет?.. Я вдруг сообразил, что задремал и звонит вовсе не старуха, собиравшаяся в последнее приятное путешествие, а телефон.
Я выполз из кресла и поежился. Так уютно было в тихой дремоте и так остро пронзила меня морозным сквозняком непоправимость случившегося. О господи…
— Слушаю, — сказал я.
— Мистер Карсон? — спросил незнакомый голос.
— Да.
— Добрый вечер, меня зовут Вендел Люшес, и мне бы хотелось поговорить с вами.
— К сожалению, мистер Люшес, я неважно себя чувствую и вряд ли смогу увидеть вас. Тем более что мне ничего не нужно: ни пылесоса, ни энциклопедии, ни даже нового издания Библии.
— Ну, насчет Библии я бы не был так уверен. — Мне показалось, что мой собеседник усмехнулся. Что за чертовщина? И что он хочет этим сказать? Откуда какой-то коммивояжер может знать о моих метастазах?
— Что вы хотите этим сказать? — довольно резко спросил я.
— Смею вас заверить, мистер Карсон, что вопрос, который я хотел бы обсудить с вами, чрезвычайно серьезен…
— Я ж вам сказал, что плохо себя чувствую, — раздраженно пробормотал я и положил трубку.
Через несколько секунд снова раздался звонок.
— Простите, мистер Карсон, — послышался все тот же голос, — боюсь, я неясно выразил свою мысль. Речь идет как раз о вашем здоровье.
— Что? — крикнул я. — Кто вы такой? Что вам нужно?
— Ради бога, успокойтесь. Меньше всего я бы хотел вывести вас из себя. Я представитель фонда Калеба Людвига, хотя боюсь, название это мало что говорит вам.
— Это тот Людвиг, который свел на бумагу половину всех лесов Амазонки?
— Ну, не будем преувеличивать, хотя мистер Людвиг, помимо всего прочего, действительно занимался производством целлюлозы.
— И что же я могу сделать вашему уважаемому фонду?
— Вы — ничего. Это мы можем оказать вам небольшую услугу.
— Мне снова почудилось, что мой собеседник усмехнулся на другом конце провода.
— А почему вы думаете, что меня могут интересовать предложения фонда Калеба Людвига?
— Потому что вы больны и речь идет о вашем здоровье.
— Боюсь, никто не сможет мне помочь. К тому же, откуда вы можете знать то, что я сам узнал несколько часов назад?
— Поразительно, однако, устроены люди. Вы, надеюсь, слышали выражение: «Утопающий хватается за соломинку»?
— Ну?
— Вам приготовили не соломинку, а спасательный круг, а вы, вместо того чтобы уцепиться за него, разговариваете со мной так, будто я действительно намерен продать вам пылесос. Я сую вам этот круг, а вы любым способом отталкиваете его от себя.
— Что значит «спасательный круг»? — почти крикнул я. — Это жестокие шутки.
— Я не шучу с вами, мистер Карсон, — очень тихо и очень проникновенно сказал мой собеседник. — Я никогда не позволил бы себе шутить с человеком, обреченным на мучительную и скорую смерть.
Я долго молчал. Голова моя шла кругом. Я ничего не понимал. Я боялся надежды. Помахать передо мной пустой, несуществующей надеждой было бы чересчур жестоко. Но в голосе таинственного представителя фонда Людвига звучало столько сострадания, что я позволил себе на мгновение безумную надежду. Он прав, в конце концов. В моем положении хватаются не только что за соломинку, даже за невозможную надежду.
— Когда вы сможете приехать? — спросил я.
— С вашего разрешения, мистер Карсон, я буду у вас через двадцать пять минут.
ГЛАВА 2
Представитель фонда Калеба Людвига оказался на редкость пунктуальным человеком: он приехал ко мне ровно через двадцать пять минут. Лет тридцати, он чем-то неуловимо напоминал манекена в витрине дорогого магазина. Может быть, тем, что казался удивительно чистеньким, только что тщательно вымытым, новеньким, что ли. И улыбка у него была аккуратненькая, и зубы сверкали дантистским нечеловеческим совершенством. И даже на костюме не было ни единой складочки или морщинки. Но при этом он производил впечатление человека, привыкшего, чтобы его слушали.
Посетитель несколько секунд довольно бесцеремонно рассматривал меня, потом кивнул, не столько, похоже, мне, сколько самому себе.
— Прежде всего, — сказал он, — вы захотите узнать, откуда у меня сведения о вашей смертельной болезни. Так?
— Допустим, — пробормотал я. У меня было ощущение, что я иду по натянутой проволоке. Внизу смазанная полумраком пустота, под ногами зыбкая опора. Но все-таки опора. Я боялся дышать. Мне казалось, что лишний вопрос, вопросительный взгляд качнут проволоку и я бесшумно низринусь в небытие, к которому был приговорен взбунтовавшимися клетками.
— Фонд обратился к ряду врачей с просьбой сообщать о случаях тяжелых, неизлечимых болезней и травм у выдающихся ученых страны.
— А врачебная тайна? — зачем-то спросил я. Зачем, какое мне было дело до врачебной тайны, если голова моя шла кругом от странного разговора.
Мистер Люшес слегка наклонил голову и с легкой улыбкой посмотрел на меня.
— Вас действительно интересует врачебная тайна? — с каким-то необидным сарказмом спросил он.
— Да нет… собственно, — пробормотал я. — Но согласитесь…
— Я понимаю. Естественная реакция. Вы сталкиваетесь с чем-то необычным и инстинктивно хватаетесь за привычные понятия. Вполне нормально. Смею вас уверить, вы сейчас услышите вещи действительно необычные, к которым вы абсолютно не подготовлены, поэтому прошу вас набраться терпения и выслушать меня. — Мой таинственный посетитель встал из кресла, сделал несколько шагов и посмотрел на меня. Взгляд его был проницателен, и мне показалось, что он легко читает мои мысли. — В начале нашего телефонного разговора вы решили, что вас терзает очередной коммивояжер, который пытается продать вам новую модель пылесоса или новое издание энциклопедии. Так?
— Согласитесь, что…
— О, не бойтесь обидеть меня, мистер Карсон, в каком-то смысле я действительно коммивояжер, только я торгую не пылесосами, а жизнью. Впрочем, слово «торгую» неверно. Не торгую, а раздаю.
Представитель фонда посмотрел на меня строго и торжественно, словно хотел подчеркнуть, что не шутит. Я понимал, что он несет чепуху, что сейчас предложит мне какое-нибудь шарлатанское лекарство, но у осужденного свой собственный оценочный аппарат. Скепсис — это для здоровых. Осужденным скепсис не нужен. Сам приговор заменяет скепсис.
Я молчал. Проволока, на которой я балансировал, слегка подрагивала под ногами, вот-вот я рухну в пустоту, но пока что я стоял.
Должно быть, представитель фонда понимал, о чем я думаю. Он медленно покачал головой и сказал:
— Мы не собираемся вас лечить. К сожалению, до сих пор на этой стадии ваша болезнь неизлечима. И тем не менее мы предлагаем вам жизнь.
Что он говорит? Что за странные кошмары преследуют меня? Что это за существо с улыбкой манекена явилось добивать меня безумными речами?
Я вдруг подумал, что сплю и весь этот нелепый разговор — сон. Пусть стереоскопический и стереофонический, но сон. Но если я понимал, что сплю, сновидение должно было исчезнуть. Сны не любят, когда им не удается выдать себя за реальность.
Я крепко зажмурил глаза и раскрыл их. Манекен по-прежнему стоял передо мной. Что он хочет? Я вдруг понял. Сейчас он пригласит меня присоединиться к моей давно забытой прабабушке: поверьте, сын мой, и господь дарует вам вечную жизнь. Он с любовью приемлет заблудших овец. Ах, если бы я мог обрести уверенность своей усатой прабабушки! Я бы улыбался сейчас улыбкой курортника или путешественника, с нетерпением ожидая отъезда из постылой земной юдоли в солнечные кущи. Увы, я не верил в такие путешествия. Я знал, что ни за какие молитвы нельзя купить билет в несуществующий пункт назначения. Чтобы поверить в бога, нужно отказаться от знания, а его не вытравишь из себя. От него можно избавиться только одним образом — вместе с жизнью.
— Это связано… с верой, с богом? — спросил я и почувствовал, как качнулся на проволоке. Мне даже показалось, что я широко развел руки, стараясь удержать теряемое равновесие.
— Нет, — улыбнулся мистер Люшес, — скорее это связано с русскими.
Я больше не мог балансировать. Чтобы функционировать более или менее успешно, нужно предвидеть ход событий хотя бы на шаг или два вперед. С представителем фонда это не получалось. Я сдался. Я вручил себя человеку с новым чистеньким личиком. В капитуляции была своя сладость: не нужно было ощущать ногами подрагивающую над бездной проволоку, не нужно было ловить раскинутыми руками ускользающее равновесие. Я ваш. Я вручаю вам себя. Делайте со мной что хотите. У меня нет больше сил сопротивляться. Я заглатываю надежду, что вы протягиваете мне, даже зная, что она не существует.
Должно быть, мистер Люшес снова понял мое состояние своей дьявольской интуицией, потому что кивнул мне с улыбкой и сказал:
— Это довольно длинная история, но поскольку она имеет к вам самое непосредственное отношение, прошу вас: наберитесь терпения. Восемь лет назад, в восемьдесят восьмом году, молодой советский ученый Любовцев впервые в мире создал искусственный интеллект. Не счетную машину фантастического быстродействия, не гигантский арифмометр, а личность, существо, наделенное своей волей и эмоциями. Интеллект этот оказался необыкновенно сильным, а помноженный на неутомимость и нечеловеческую концентрацию, Черный Яша, как назвали создатели свое детище, оказался гением в самом буквальном смысле этого слова. За свою короткую жизнь он создал так называемый транслятор, при помощи которого можно перенести интеллект, разум, самосознание живого человека в искусственный мозг. И эти опыты Любовцев проделал на самом себе. Абсолютно успешно. Хотя в то время этот искусственный мозг практически не имел тела. Если не считать тележку с электромоторами. Насколько известно, русские столкнулись с целым рядом вопросов морального и социального характера и пока что не используют открытие Любовцева. Мы же не остановились. За прошедшие годы тележка основательно видоизменилась, в чем вы можете убедиться сами… — Мистер Люшес встал и прошел по комнате, победно улыбаясь и показывая невозможные свои ослепительные зубы.
— Вы… — пробормотал я. — Вы… это невозможно.
— Возможно, дорогой мистер Карсон. Я хожу, разговариваю, причем, как вы можете заметить, на довольно сложные темы. Я склонен даже думать, что это один из важнейших, а скорее всего, самый важный разговор в вашей жизни. И его веду я, Вендел Люшес. И не просто веду, а вселяю в вас надежду, держу вас в руках. Я не робот. Я живу. Но не дышу. Не ем. Не пью. Не устаю. Не болею. Единственное, в чем я нуждаюсь, — это в периодической подзарядке моих аккумуляторов. Поверьте, я понимаю, как нелегко укладываются в сознание такие идеи, как все в вас восстает против невообразимого. Что вы хотите, миллионы лет наши предки боялись всего нового, даже чужака из соседнего племени, потому что новое и неизведанное почти всегда несло угрозу. Мы не несем угрозы. Мы предлагаем вам жизнь. Да, жизнь. Потому что человек в конечном счете — это не желудок, не печень, не связки мышц или система лимфатических желез. Человек — это сознание, основанное на непрерывной памяти, и интеллект. И совершенно не имеет значения, в чем живет эта непрерывная память, в сером ли мозговом веществе, похожем на морщинистую губку, или в искусственном устройстве.
— Но почему вы выбрали меня? — пробормотал я только для того, чтобы что-то сказать, чтобы услышать свой голос, чтобы еще раз убедиться, что я не дремлю в кресле, измученный дневными потрясениями.
— Фонд Калеба Людвига ставит своей целью сохранить жизнь многих выдающихся ученых. Все мы, связанные с этой работой, гордимся ею и считаем фонд Людвига — величайшей филантропической организацией в истории человечества.
— Странно, я никогда ничего не слышал…
— О, вы должны понять, сколько еще нерешенных вопросов: этических, религиозных, юридических… Можно ли считать искусственного человека правопреемником его естественного я? Может ли он наследовать имущество самого себя? Остаются ли родительские права, и так далее. Я уже не говорю о том, что скажет церковь. Не скажет, вернее, а возопит. Потом представьте себе реакцию широкой публики: да это же элитарность! Да кто им дал право решать, кому даровать бессмертие, кого отправлять на тот свет? Вообразите на мгновение марш обреченных с требованием дать им жизнь… А положение робота в обществе? Отношение к нему окружающих? Смесь брезгливого любопытства, отвращения и зависти. Каста механических неприкасаемых. Впрочем, это настолько очевидно, что вы и сами легко можете представить себе все последствия преждевременного ознакомления публики с фондом и его целями. Я понимаю, что оглушил вас, поэтому, с вашего разрешения, теперь я помолчу, чтобы вы хоть чуть-чуть переварили всю эту информацию.
— Да, да, спасибо, — пробормотал я. Я взял сигарету и закурил. Интересно, курят ли эти роботы?.. Что за чушь! Нет, разумеется. Если они не дышат, как они могут курить? Я усмехнулся. Опять я хватался за глупые, ничтожные детали, не в силах уяснить себе суть проблемы. А между тем проблема была чрезвычайно проста. С одной стороны, скорая и неизбежная смерть, по всей видимости мучительная, с другой — жизнь в некоем искусственном теле. Прабабушка, наверное, посмеялась, бы над дилеммой.
«Ты что, Ники, спятил? — просипела бы она астматически. — Хочешь лишить меня последнего отрадного путешествия и засунуть в холодную железную клетку?»
Но у меня не было бога и не было веры. Выбор между глубоко равнодушным к тебе небытием и странной, искусственной, но жизнью. Если жизнь, как говорит мой манекен, — это прежде всего память. Тогда я буду помнить безымянное озерцо, около которого мы жили, когда я был совсем маленьким. И тот солнечный день, когда я тащил лодку, бредя по пояс в теплой воде, пронизанной зеленоватым светом. Лодка была тяжелой, тяжелой была скользкая мокрая цепь в моих руках, но она покорно, хотя и неторопливо плыла за мной, и это было необыкновенно весело. Я пел. Бог знает, что я пел, но я помню, как переполняла меня острая радость бытия, и маленькая моя душонка искала выхода своему немудреному экстазу.
Буду помнить первую свою любовь и первый поцелуй, и наши носы, которые почему-то мешали нам и заставляли смеяться.
Буду помнить, как первый раз купал сына, держа на ладони иссиня-красное крошечное тельце, и сердце стучало от любви и жалости к этому живому комочку… Господи, да мало ли что я буду помнить! Жизнь свою. И стало быть, буду жив. Ну, а не забьется дух мой в слепом ужасе пойманного в капкан зверька, когда осознаю себя в искусственном теле? Похожем на манекен? Но ведь и сейчас сознание мое живет лишь в моем теле и никогда не покидает его, разве что во сне…
А сын, Луиза? Кто знает, может быть, они и предпочли бы, чтобы я традиционно умер, но не им решать, жить мне или умирать. Работа?
— Скажите, мистер Люшес, — спросил я, — если я скажу «да», как в общем будет выглядеть моя жизнь?
— Ну-с, как вы сами понимаете, сразу же вы не сможете продолжить свое обычное существование. Видите ли, пока что законодательно не решены многие вопросы жизни искусственных людей или исков, так мы называем себя. С другой стороны, нельзя долгие годы ждать их решения. Поэтому у фонда есть договоренность с правительством Шервуда, что иски временно будут жить в специальном лагере, что им временно будет рекомендовано не покидать его, поскольку, как я уже объяснил вам, общество еще не созрело для этой идеи.
— Похоже на концлагерь, — пробормотал я.
— Признаться, я разочарован этой репликой, — с мягким укором сказал мистер Люшес. — Во-первых, она несправедлива. Мы предлагаем вам жизнь, даже практическое бессмертие. Мы предлагаем вам в дар тело, стоящее около миллиона, ибо это чудо науки, техники и технологии. Вы ученый. У вас тренированный мозг. Вы должны понимать, что ваш испуг прежде всего инстинктивен. Вспомните истории об ужасе дикарей, которые впервые видели, как белый человек вынимает изо рта челюсть. Для них это было непостижимо. Но вас же не пугает зубной протез, не пугает парик, не пугает искусственное сердце. Мы предлагаем вам временно, подчеркиваю — временно, жить в комфортабельных условиях, где вы будете иметь возможность работать, общаться с другими исками, даже видеться с родными и близкими, если, разумеется, вы захотите.
— Прошу прощения, мистер Люшес. Согласен, я напрасно обидел вас. Скажите, а как практически может быть осуществлен этот план? Когда я должен буду отправиться в ваш лагерь?
— О, это не так просто, мистер Карсон. Если вы заметили, в разговоре я несколько раз употребил слово «временно». К сожалению, не случайно. Пока публика не готова к этой идее, наши законодательные органы не могут, естественно, выработать законы, определяющие статус исков. Поэтому вы умрете своей естественной смертью в клинике профессора Трампелла. Но задолго до этого ваше сознание будет скопировано, и вы будете благополучно здравствовать в нашем лагере.
— И думать о себе, о своем двойнике, мучительно умирающем от рака легкого?
— Не совсем так. Мы можем изготовить двойника, сохранив у оригинала сознание, память, интеллект, а можем просто стереть его сознание. И то, что умирало бы в больнице, не было бы вами, а было лишь вашей бесчувственной оболочкой. Вашим старым, никому уже не нужным костюмом, содержимое карманов которого переложено в новый костюм.
— Значит, я уже не буду носить имя Карсона?
— Юридически Николас Карсон будет похоронен. Как распорядиться вашим имуществом — это уже технические вопросы, которые вы обсудите с нашими юристами. Если, разумеется, вы, примете предложение.
— Насколько я понимаю, фонд заинтересован в сохранении тайны своей деятельности? Так?
— В общем, да, — кивнул мистер Люшес и бросил на меня острый взгляд. — Пока, да. Ибо, повторяю, публика и средства массовой информации еще не готовы воспринять идею исков.
— А если я откажусь? — спросил я. — И дам интервью представителям прессы?
— Ну-с, во-первых, вы это не сделаете, потому что тем самым лишите себя последней надежды. Во-вторых, вам никто не поверит. Вы ведь не можете привести ни одного факта. Какой лагерь, где лагерь? Фонд Калеба Людвига? Уважаемейший филантропический фонд, финансирующий целый ряд научных исследований. То же касается ваших близких или друзей, с кем вы захотите обсудить наше предложение. Вы должны будете предупредить их о необходимости соблюдать тайну. И уж конечно, мы будем просить об этом тех, кого вы захотите пригласить в лагерь. Но, дорогой мистер Карсон, вы ведь все это прекрасно сами понимаете, и мне, поверьте, неприятно, что наша беседа приняла какой-то взаимонастороженный характер. Я вам ничего не продаю, ничего не вымениваю. Я предлагаю вам жизнь. А вы торгуетесь со мной, будто я пытаюсь всучить вам какой-нибудь залежалый товар.
— Да, наверное, вы правы. Когда я должен дать окончательный ответ?
— Чем раньше, тем лучше. Вот вам телефон, позвоните мне, когда решите.
— Собственно говоря, я уже решил.
— Я в этом не сомневался.
— Мне хотелось лишь поговорить с сыном и приятельницей, двумя близкими мне людьми.
— Понимаю. Только предупредите, пожалуйста, их о необходимости сохранять тайну. Жду вашего звонка, дорогой мистер Карсон.
Представитель фонда встал, подошел ко мне и пожал руку. Я готов был поклясться, что пожал обыкновенную человеческую руку, обтянутую обыкновенной человеческой кожей. Как он сказал? Чудо науки, техники и технологии.
В одном он безусловно прав. Чтобы выбирать, нужно, чтобы было из чего выбирать. У меня выбора не было. Боже, что за день! Два таких поворота в одном раунде. Сначала нокаут приговора, потом самое фантастическое в мире помилование.
Наверное, я должен был скакать от радости. Восторг должен был душить меня. Вместо последнего танца в обнимку с костлявой я получаю жизнь. И все-таки печаль переполняла меня. Почему? Неужели только из-за смены тела и образа жизни? Неужели можно горевать, ускользая в последнюю секунду от смерти?
Я посидел в кресле с закрытыми глазами и понял, что страшусь расставания с Луизой. Наверное, я все-таки был к ней очень привязан. Трудно, конечно, представить, чтобы она продолжала относиться к роботу так же, как к живому человеку. Даже если робот — чудо техники и может сказать: Лу, у тебя самые прекрасные в мире глаза.
ГЛАВА 3
Я хотел было позвонить Луизе и сказать, что сейчас приеду к ней, но не мог заставить себя взять телефонную трубку.
Представитель фонда Калеба Людвига был неплохим кукловодом. Он ловко дергал за нужные ниточки, и я шевелился почти как живой нормальный человек.
Но он ушел, приветливо кивнув мне на прощание, и кукла обмякла в кресле.
Пока улыбчивый манекен терпеливо объяснял мне, кто такие иски, ловко уминая в меня чудовищную информацию, мне казалось, что она вполне улеглась на полочки моего бедного, оглушенного мозга.
Я усмехнулся. Я вдруг вспомнил дурацкую игрушку, которую когда-то купил сыну и которую тот панически боялся, даже зная ее секрет. Игрушка представляла собой коробочку с заманчиво торчащей петелькой, за которую так и хотелось потянуть. Но стоило приоткрыть коробочку, как оттуда с душераздирающим воплем выскакивало пестренькое чудовище. В чудовище была довольно упругая пружина, и иногда оно выпрыгивало на несколько метров. Потом следовало чудище умять обратно в коробку, подготовив тем самым к новому прыжку.
Так вот, вежливый мистер Люшес ушел, и все, что он терпеливо втолковывал мне, выскочило из моей головы. Нет, я, разумеется, помнил все, что он рассказал. Просто мысль о том, что я должен превратиться в машину с подзаряжаемыми аккумуляторами, уже не казалась такой привлекательной, какой мне изложил ее представитель фонда.
Я — и машина? Я, так привыкший к своему пусть несовершенному, но теплому и живому телу, с током крови и движением соков, стану холодным автоматом? Может быть, это не такое уж благо? Может быть, лжет все мистер Вендел Люшес, заманивая меня в некое экзотическое электронное рабство? Может быть, не случайны все его оговорки, потеря своего имени, юридического статуса?
А с другой стороны, зачем я им? Зачем им тратить миллион на чудо науки, техники и технологии, которое должно заменить мне мое старое, предавшее меня тело? Мои работы в области физики твердого тела вряд ли сулят бешеные прибыли в обозримом, а скорее, и в необозримом будущем.
Странно, зыбко, неясно. Не хотелось мне лезть в холодную машину, которая не ест, не пьет, не дышит и не курит. Но у которой, между прочим, нет легких с сошедшими с ума раковыми клетками. Так что выбор чрезвычайно упрощался: миллионный манекен или печка крематория. Если манекен пугал меня своим машинным холодом, то печка тоже не представлялась уютным местечком.
Я вдруг поймал себя на том, что рассуждаю о своей смерти подозрительно спокойно. Почему? Неужели я так быстро примирился с ней? Нет, скорее, наверное, потому, что я чуть отдышался после первого шока и в глубине души просто не верю, что могу умереть. С кем-нибудь еще — пожалуйста, но со мной ничего подобного приключиться не может. Увы, оптимизм жеребенка на зеленом лужке, весело ржущего от радости жизни, не для меня. И верь я или не верь в недрах своего подсознания в неизбежную и скорую смерть, она, увы, реальность.
Я вздохнул и начал засовывать выскочившее чудовище обратно в коробочку. Пружина неохотно изгибалась в моих руках, с трудом сжималась, но я справился с нею, и мысль об искусственном теле снова оказалась у меня в голове.
Я посмотрел на часы. Еще не поздно. Я позвонил Луизе. Она была дома и сказала, что ждет меня и готова напоить собственноручно приготовленным кофе. Что ж, подумал я, скоро и кофе станет для меня далеким воспоминанием. Как и все на свете. Я не стал брать свою машину. Ходьба всегда успокаивала меня, а сейчас — бог тому свидетель — мне нужно было спокойствие. Огромный запас спокойствия.
— Почему так долго, Ники? — спросила Луиза.
Я стоял и смотрел на нее, высокую тридцатилетнюю красивую женщину, которую так любил. «Ники, — подшучивала она надо мной, — ты человек нравственный, а живешь во грехе. Не пора тебе сделать из меня порядочного человека?» — «Как? — удивленно поднимал я брови. — Разве это возможно?» — «Да, — твердо отвечала она. — Ты вполне мог бы жениться на мне». — «О боже, — начинал стонать я, — снова шантаж! Зачем тебе нужен старик? Зачем тебе нужна развалина, годящаяся лишь в отцы? Я и так стал из-за тебя по утрам рассматривать свое отражение в зеркале. И должен тебе сообщить, ничего утешительного я там не вижу. Может быть, ты хочешь, чтобы я тебя удочерил? Это пожалуйста». — «Но у меня уже есть один отец», — печально отвечала Луиза и состраивала такую скорбную физиономию, что мы оба покатывались со смеху.
Теперь мне было не до смеха. Наверное, я был прав. Я был мудр и прозорлив. По крайней мере, ей не придется хоронить мужа.
— Почему так долго, Ники? — снова спросила Луиза, и теперь в голосе ее звучало беспокойство. — Что-нибудь случилось? Ты опять разбил машину?
Я покачал головой, обнял ее, зарылся носом в ее волосы. Она не двигалась. У нее было звериное чутье. Она понимала, что ей нельзя сейчас пошевелиться, потому что я не хотел, чтобы она видела мои слезы. А они текли и текли, и бог знает, откуда они только брались. Сердце мое разрывалось от горя. Я уже не думал о себе. И горе не было эгоистичным. Я страдал из-за моей бедной маленькой Луизы. Как она выживет без меня? Как выплывет в житейском море? Она была странным существом, и внешняя независимость скрывала детскую душонку, такую беззащитную, такую ранимую…
Я рассказал ей о приговоре профессора Трампелла и о визите представителя фонда Калеба Людвига. Она не перебивала меня, не заламывала руки, не вскрикивала в ужасе. Луиза вообще очень спокойная женщина. По крайней мере внешне. Когда я закончил, она вдруг улыбнулась.
— Почему ты улыбаешься? — спросил я.
— Я подумала, что смогу войти в историю цивилизации.
— Каким образом?
— Я буду первой женщиной, полюбившей робота или кем ты там станешь.
Она была поразительна. Что это, женская мудрость или бесчувственность ребенка? Только что я рассказал ей, что обречен, что получил фантастическое предложение бессмертия, а она шутит. Улыбается и шутит. Нет, она никогда не была бесчувственной…
— Спасибо, Лу, — церемонно поклонился я, — ты добрая душа. Даже если это шутка.
— О нет, Ники, — очень серьезно сказала Луиза, — ты не понимаешь.
— Что я не понимаю?
— Я не шучу. В твоем возрасте тебе бы пора понять, что женщины любят не совсем так, как мужчины. Мужчина может любить женщину за фигуру, за красивое лицо, за густые волосы, длинные ноги или, на худой конец, изящные уши. Посмотри на себя в зеркало. Ты говоришь, что стал часто это делать, но посмотри на себя еще раз. Как ты думаешь, за что я тебя люблю? За седину? За маленькие и не слишком выразительные глазки? За короткую шею? За вены на ногах? Или втайне ты считаешь себя красавцем?
— Не совсем, — пробормотал я.
— Я люблю тебя за то, что ты — это ты. За то, что ты называешь меня Лу. За то, что, когда ты смотришь на меня, твои маленькие бесцветные глазки светлеют и теплеют. За то, что ты говоришь мне смешные и забавные вещи. За то, что все в моей жизни, от росписи тканей, чем я зарабатываю на кусок хлеба, до нового платья интересует тебя. И я не чувствую себя одинокой стареющей девицей, не нужной никому на свете. Вокруг меня огромный холодный и равнодушный мир. И я давно поняла, что он чрезвычайно мало интересуется некой Луизой Феликс. Но мне плевать на этот не заинтересованный во мне мир, если я знаю, что сегодня или завтра меня обнимет человек по имени Николас Карсон и спросит, что я делала, как я спала и что я думала. Даже если он так и не захотел на мне жениться, я все равно люблю его. Он — моя защита от всеобщей незаинтересованности… Знаешь, Ники, иногда ты мне кажешься тросом, который удерживает меня на нашей грешной земле. Не будь тебя, меня давно бы унесло куда-нибудь порывом ветра, как старую газету…
— Но… — господи, опять эти слезы, опять сжимается горло. — Но… Спасибо, Лу, но…
— Боже, — улыбнулась она светло и снисходительно, — как ты туп! Ты хочешь спросить, сумею ли я обнять тебя, потереться о твой искусственный нос своим носом? Смотри в зеркало, Николас Карсон, почаще смотри, пока ты еще видишь эту физиономию. Ты думаешь, у меня кружится голова от твоих растопыренных ушей? Боже, как ты бываешь туп! У меня кружится голова от переполняющей меня нежности к тебе, к твоей сути, к твоей душе, к твоему уму. И какое мне в конце концов дело, во что упакована твоя душа и твой ум. Конечно, если бы они сделали из тебя каракатицу, письменный стол или птеродактиля, мне бы пришлось изрядно поработать над своим вкусом. Но ты сам описываешь этого Люшеса, который приходил к тебе, как вполне симпатичного молодого человека. Это как раз то, чего тебе не хватало. И мне не придется больше засматриваться на молодых людей, ревниво сравнивать их с моим Ником. А теперь твоя душа вступит в молодую оболочку, и ты станешь для меня совершенством.
Боже правый, откуда во мне столько слез: прошло, наверное, минут десять, прежде чем я смог спросить ее:
— Значит, ты считаешь, что я должен согласиться?
— А на что ты надеялся? Что я скажу тебе: Ники, дорогой, лучше, пожалуй, тебе умереть. В конце концов, пятьдесят два — не такой уж юный возраст. Никто не скажет: бедный юноша. Бывает, умирают и раньше. Месяц-другой я буду помнить тебя, потом память начнет выцветать, стираться, и через полгода — никаких следов твоего пребывания на земле, не считая статей в никем не читаемых научных журналах, не останется и в помине.
В конце концов слезы показались и на ее прекрасных глазах. Она сердито помотала головой и сказала:
— Это надо уметь — довести меня до слез, мистер Карсон. Последний раз я плакала, когда у нас пропала наша собака. Это была такса, и ее звали Трейси. Это было… восемнадцать лет тому назад.
Наутро я поехал к сыну. Мы не виделись около двух лет, лишь изредка звонили друг другу. Я знал, что он живет в некой религиозной коммуне, нечто вроде монастыря, где-то в Драйвелле.
Я долго плутал по окрестностям городка, пока наконец сердобольный полицейский не растолковал, как найти их дом. У полицейского было багрово-красное лицо, должно быть от постоянного пребывания на улице. Он тяжело вздохнул и сказал:
— А, это коммуна Отцов. Я в их религии мало что понимаю, но по мне — молись сколько хочешь, лишь бы покой был и порядок.
С ним нельзя было не согласиться. Через пять минут я подъехал к одиноко расположенному бревенчатому дому. На небольшой площадке для стоянки виднелся старенький пикап. К дому вела протоптанная в снегу тропинка. Снег был чистый, голубоватый, негородской. Не успел я пройти и половину расстояния до дома, как навстречу мне вышел высокий сутулый человек в странном коричневом грубом плаще. Он поднял голову, и я увидел, что это мой сын. Боже, как он постарел! Ведь ему… ему всего двадцать девять, а выглядел он на все сорок. Он был бледен, и мягкая бородка лишь подчеркивала бледность.
Сердце мое сжалось. Как, как случилось, что жизнь так развела нас? Как могло случиться, что малыш, которого я совсем недавно подбрасывал в воздух и он испуганно и счастливо верещал, стоял сейчас напротив меня на снежной тропинке совсем взрослым чужим человеком и застенчиво улыбался мне? Кто украл эти годы? Какой иллюзионист выхватил их из нашей жизни?
— Здравствуй, папа, — сказал сын. И оттого, что сказал он не «отец», а «папа», мне стало бесконечно грустно.
— Здравствуй, сынок, — сказал я, и мы обнялись.
Он провел меня в крошечную комнатку, похожую на келью: узкая кровать, маленький столик и шкаф из грубо сколоченных досок.
Мы сидели и молча смотрели друг на друга. Мне показалось, что печаль в глазах сына была какой-то привычной, что она поселилась в них давно и надолго.
— Ты счастлив? — спросил я.
Сын подумал, едва заметно пожал плечами.
— Счастлив, наверное, не совсем то слово, но я надеюсь, что, может быть, еще буду счастлив.
— Ты веришь в существование бога? У тебя же с детства был быстрый, цепкий ум. Ты стремился понять все, что учил и с чем сталкивался. Пойми, я не пытаюсь соблазнять тебя атеизмом, я просто хочу понять тебя… Понять механизм твоей веры. Ведь это так трудно — верить в конце двадцатого века в нечто, что не имеет никаких доказательств своего существования. Ведь для этого нужно отказаться от знания. Знание и вера несовместимы…
— Я как раз хотел тебе объяснить наше кредо, папа. Оно очень простое. Не бог создал нас, а мы создали его. Тысячи поколений наших предков страстно мечтали о нем, и мы создали бога. И мы не дети его, а отцы. Вот этого своего бога я и пытаюсь найти. Это совсем нетрудно понять.
Что я мог сказать ему? Что мог противопоставить? Он давно понял, что я ничего не могу предложить ему, и ничего не просил. Я думаю, дело не в том, что я был плохим отцом своему сыну. Наверное, виновато было общество, наша система, которая ничего не может предложить человеку, его уму и сердцу, кроме рекламы последней модели взбивалки для коктейлей. Гунни этого оказалось мало, и он принялся мастерить себе самодельного бога.
Он молча смотрел на меня, и на губах у него была слабая улыбка. Во взгляде была жалость и нежность.
— Мне нужен твой совет, сынок, — сказал я. — Ты не торопишься?
— Я слушаю, папа.
Я рассказал ему обо всем. Он долго молчал, потом сказал:
— Если ты можешь жить, то должен жить в любом обличье.
Мы попрощались, и я медленно побрел по тропинке в снегу, зная, что сын стоит сейчас у окна и, ссутулившись, смотрит вслед уходящему отцу.
Я думал о том, что не имел права чувствовать свое превосходство над сыном только потому, что очерствел и научился жить без попыток осознать свое место, цель и смысл в жизни. И что делать молодому человеку, если его ищущая душа не хотела довольствоваться взбивалкой для коктейлей как высшим идеалом?
Пусть он отошел от меня, но это вовсе не значит, что он хуже. Скорее наоборот. И в нем не было обиды и ожесточения. Только печаль. Наверное, нелегко давался ему выдуманный ими бог… Я был благодарен Гунни: он не отвернулся от меня.
ГЛАВА 4
Представитель фонда приехал ко мне с юристом, который помог составить нужные бумаги: завещание, дарственные и прочую чепуху. Все, что у меня было, я оставил сыну и Луизе. Мне было немножко стыдно надутого, важного адвоката, похожего на епископа: я вынуждал его священнодействовать из-за таких мелких сумм.
Я позвонил в свой институт профессору Аджиби и сказал, что тяжело заболел.
— Желаю скорейшего выздоровления. Мы все ждем вас, — с глубочайшим равнодушием сказал мой начальник.
Я поблагодарил его и положил трубку. Удивительно все-таки умеем мы облагораживать себя. Мне всегда казалось, что я прикован к жизни тысячами цепей, как Гулливер, связанный лилипутами. А оказалось, что права была Луиза, которая говорила, что едва держится на земле и боится любого сильного порыва ветра: поднимет, закружит, унесет.
Да, тросов и у меня оказалось немного, и они все были уже перерублены. Я был во власти ветра: вот-вот вырвет из жизни.
Процедура трансляции должна была состояться наутро. Я не мог заснуть ни на секунду. Как назло, последние дни я кашлял меньше, чувствовал себя совсем неплохо, а вот сейчас, ночью, меня бил озноб. Потом озноб прошел, и я тихо лежал в темноте, погруженный в глубочайшее отчаяние. Оно было таким плотным, что я с трудом мог дышать. Вполне может случиться, что утром им нечего будет транслировать, вяло подумал я. Мысль эта не испугала меня. Я перешел некий рубеж, и страх смерти стал отступать. Может быть, все это было чепухой, суетным мятением трусливого духа. Может быть, спокойнее было бы умереть. Наверное, это не так трудно. Во всяком случае, не было еще человека, которому не удалось бы это сделать.
Но я уже был подхвачен каким-то дьявольским потоком, и поток этот нес меня, обезволивал. Жизнь моя уже принадлежала улыбающемуся манекену по имени Вендел Люшес.
Представитель фонда приехал в десять часов. Я был так разбит, что с трудом смог доползти до двери. На этот раз он был не один. С ним были еще два гробовщика с чемоданами в руках.
— Как настроение, мистер Карсон? — спросил Люшес. — Выглядите вы так, что нам следует торопиться. — Он чуть улыбнулся и кивнул. Не то мне, не то себе. — Я вас понимаю. Я прекрасно помню, что чувствовал и переживал накануне своей трансляции. Но в одном мне, пожалуй, было легче. Вам ведь, по-моему, пятьдесят два?
— Да, — пробормотал я.
— А мне было семьдесят четыре.
— Что? Вам семьдесят четыре года?
— Ну, строго говоря, семьдесят шесть, потому что я уже два года в своем новом обличье.
Гробовщики тем временем начали раскладывать свои чемоданы, оказавшиеся набитыми какой-то электронной начинкой.
И так буднично, так спокойно они это делали, что, словно завороженный, следил я за ними. Наверное, потому, что именно эта будничность и спокойствие и вопрос «Где у вас тут розетка?» вдруг впервые придали фантасмагории твердую реальность. До этого где-то в самой глубине души я не верил в то, что говорил Люшес. В это нельзя было верить. Но вопрос «Где у вас тут розетка?» не оставлял места для галлюцинаций. Для галлюцинаций розетки не нужны.
— А что, — выдавил я из себя, как выдавливают полузасохшую пасту из тюбика, — разве эта… процедура происходит не в вашем лагере?
— Видите ли, мистер Карсон, для этого вас пришлось бы везти туда, а потом везти ваше тело обратно. Мы же не можем просто выкрадывать людей. Все это довольно неудобно и хлопотно. Поэтому мы разработали процедуру с промежуточной трансляцией. Сейчас мы запишем вас, если пользоваться нашим жаргоном, а уже в лагере произведем трансляцию в ваш новый мозг.
— А не происходит ли потеря информации при лишнем этапе? — вдруг выскочил из меня дурацкий вопрос. Наверное, это спросил не я, а профессор Карсон.
— Нет. В том-то и состоит гениальность открытия Любовцева и его Черного Яши, что гигантское количество информации передается или транслируется практически без искажений и потерь.
— Мы готовы, мистер Люшес, — сказал один из гробовщиков.
— А вы готовы? — спросил меня представитель фонда и вдруг улыбнулся тепло и ободряюще: — Не бойтесь…
Может быть, еще не поздно отказаться? — промелькнуло у меня в голове. Может быть, не стоит становиться манекеном с вечной белозубой улыбкой? Может быть, проще отдаться судьбе. Но страх смерти силен. Он тут же подсунул мне картину человека, медленно умирающего в мучениях и знающего, что он умирает, долгие дни и ночи агонии, бессильный ужас в глазах Луизы, безмолвную пустоту, полную плотного мрака.
— Я готов, — пробормотал я. — Сейчас я переоденусь…
— Да, пожалуйста, но только наденьте пижаму.
— Пижаму?
— Вы очень плохо себя чувствовали, вы остались в постели, потом вы потеряли сознание. Естественно, что, когда за вами приедут из клиники доктора Трампелла, вы будете лежать в пижаме.
Я послушно надел пижаму. Я чувствовал себя пациентом, отдавшимся в руки хирургов. Словно в гипнотическом трансе я то наклонял, то поднимал голову, пока на нее надевали и закрепляли нечто отдаленно похожее на шлем, прилаживали провода.
— Смелее, мистер Карсон, — улыбнулся представитель фонда, — надуем еще раз костлявую…
То ли я уже израсходовал все свои эмоции, то ли мне понравилась идея еще раз надуть костлявую, но я был спокоен. Нет, спокоен, наверное, не совсем верное слово. Скорее, я просто ничего не ощущал. Вот-вот должна была начаться операция, и наркоз уже действовал. Неважно, что никто не делал мне укола в вену, не прижимал к лицу респиратор. Все, что произошло со мной до этой минуты, и было наркозом. А может быть, и это было не совсем так. Скорее всего, уже начал действовать дьявольский аппарат, надетый на мою бедную голову. Я еще сознавал себя Николасом Карсоном, я еще понимал, что со мной происходит, но понимание было каким-то слабым, как бы приглушенным, отдаляющимся от меня. Буря сомнений, что бушевала во мне последние дни, утихала и уходила вдаль. Вой ветра превратился в еле слышный шелест. Похоже было, что я засыпал. Но если обычно мысль о засыпании гонит сон или, по крайней мере, отпугивает его на какое-то время, то теперь эта мысль не останавливала серый туман, который становился все гуще и плотнее в моей голове, пока я уже ничего не мог рассмотреть сквозь него.
Обычно я просыпаюсь не сразу. Сознание то вынырнет на мгновение на поверхность бодрствования, то снова погрузится в уютную темноту сна.
На этот раз я проснулся сразу. Мгновенно. И первым моим ощущением был свет. Яркий солнечный свет в комнате. Потом я увидел улыбающееся лицо. Лицо принадлежало Венделу Люшесу. Я… Воспоминания обрушились на меня водопадом. Гигантским грохочущим водопадом, вместившим в себя все. Но главным было самоощущение. Главным было то, что я жив. Они не обманули меня. Тонкая ниточка, что составляла мое «я», не порвалась, она, может быть, еще подрагивала после метаморфозы, но она была цела. Я — Николас Карсон. Пронесся в сознании сын в грубом коричневом плаще, идущий навстречу мне по снежной тропинке, смеющиеся глаза Луизы. Потом, спустя много часов, я отметил про себя, что производил инвентаризацию памяти, начиная с самого дорогого. А пока что водопад все гудел и продолжал обрушиваться на меня, и в его уверенном грохоте было что-то успокаивавшее.
Постепенно я обрел способность анализировать и отметил, что мысли мои текут легко, почти так же, как в естественном мозгу. А может быть, чуть легче. Может быть, они были чуть четче, стройней. Но самое главное — они повиновались мне. Я вызвал из небытия розовую кожицу скальпа профессора Трампелла. И он тут же послушно явился. С опущенной седой головой, которую боялся поднять, чтобы взглянуть мне в глаза.
Я вдруг подумал, что я уже не абстракция, если осознаю себя, вспоминаю и, стало быть, обладаю обещанным телом. Я хотел было встать, но привычного мышечного ощущения не было.
— Не торопитесь, друг мой, — сказал Люшес и улыбнулся еще шире. — Сколько вы учились ходить? Года полтора, наверное. Мы научим вас двигаться за неделю. Согласитесь, это не так плохо для новорожденного. Но мы понимаем ваше любопытство. Так бывает со всеми.
Он взял в руки большое зеркало. Из зеркала на меня смотрел молодой человек лет двадцати пяти — двадцати восьми. Лицо его было довольно симпатичным, но чересчур правильным. Ники, сказал я себе, не придирайся. При всех обстоятельствах этот красавчик привлекательнее стареющего и лысеющего человека, который раньше хмуро глазел на тебя из зеркала.
Я хотел было поблагодарить своего проводника в новый мир, но не мог произнести ни слова, как будто рот мой был еще опечатан. Я не успел испугаться, потому что Люшес поймал мой взгляд и улыбнулся еще веселей:
— Не нервничайте. Говорить вы учились года три-четыре. Мы же научим вас болтать за день. Согласны?
Зная, что нем, я кивнул. И, только почувствовав, что действительно наклонил голову, я понял, что сделал первое движение.
Как и во всем до сих пор, Вендел Люшес ничего не преувеличивал и ничего не приукрашивал. Действительно, через день я уже мог говорить, а через неделю, даже через пять—шесть дней я научился управлять своим искусственным телом.
Голос, разумеется, был не мой, но поскольку я мог им выражать вслух свои мысли, именно свои, следовало привыкнуть к нему.
Тело мое не зря стоило баснословную сумму. Вначале у меня кружилась голова при мысли о чудовищной сложности этого ходячего механизма, но потом я сказал себе: а много ты думал в той жизни (я уже пользовался мысленно этими выражениями — в той жизни, в этой жизни) о миллиардах и миллиардах своих клеток, каждая из которых в свою очередь состояла из бесчисленного количества молекул, которые образовывали сложнейшие структуры?
То ли подействовало самовнушение, то ли я уже начал привыкать к своеобразным ощущениям, которые возникали у меня при движении, но я все меньше и меньше думал теперь о своей рукотворной оболочке.
Самым забавным был внезапный страх, что вот-вот я задохнусь, что мне необходим глоток воздуха. Но страх жил в памяти и тут же исчезал, как только я говорил себе, что великолепно обхожусь без всякого дыхания.
Ничего не приукрашивал Вендел Люшес и в своих описаниях лагеря. Первую неделю я почти не выходил из предоставленного мне комфортабельного коттеджика, три комнаты которого были светлы и удобны. Лагерь находился где-то на юге страны, дни стояли солнечные, и я подумал, что должны работать кондиционеры. Но кондиционеров не было, и улыбающийся Люшес объяснил мне:
— Одно из преимуществ искусственного тела — это гораздо больший диапазон температур, при которых мы можем функционировать. Сейчас в комнате, наверное, градусов тридцать. Мы бы с вами изнывали от жары, будь мы обычными людьми, а так все кажется нормальным.
Через неделю уроки наши были закончены, и Люшес сказал, что начнет завтра знакомить меня с коллегами.
— Но у меня же нет имени, — пробормотал я.
— Здесь все пользуются своими старыми именами, и хотя вы никого не узнаете по внешности, можете не сомневаться, что встретите не одного знакомого.
— Почти как в загробной жизни, — сказал я.
Люшес пожал плечами.
— Каждый выбирает сравнение по вкусу.
Он ушел, а я удобно устроился в кресле и начал подводить итоги первой недели новой жизни. Итак, я действительно сознавал себя Николасом Карсоном, помнил все то, что составляет самосознание человека. Мало того, насколько я мог судить, и характер у меня остался прежний: резкие перемены настроения, склонность к копанию в себе, бесконечные сомнения. Что ж, нравился мне мой характер или нет — он был мой. Пройдут еще годы, и перед трансляцией будут задавать, наверное, вопрос: что бы вы хотели изменить в себе? Мы можем добавить вам храбрости и оптимизма, а можем подбавить вам поэтичной задумчивости, ваше дело лишь сделать заказ.
Я боялся, что не сохраню эмоций, что они несовместимы с моей электронной душой и мозгами. Это были напрасные опасения. Я часто думал о Луизе, и каждый раз, когда я видел своим мысленным взглядом ее высокую стройную фигуру, сердце мое сжималось от любви и тоски по ней. То есть я понимал, что сердце у меня не сжималось, хотя бы потому, что его не было, но я хотел видеть ее.
Я думал о сыне, и меня охватывала жалость и нежность к этому странному существу, взвалившему на свои плечи ответственность за выдуманного бога.
Я думал о своем будущем, и тревога наполняла меня: все было зыбко, неопределенно. Что я буду здесь делать, как буду жить? Ну ладно, первая неделя ушла на знакомство со своим телом. Вторая уйдет на знакомство с лагерем, а дальше?
Дальше в прежней жизни я всегда становился беспокоен, когда не мог работать. И не потому, что так любил свою работу. Просто без нее день становился необыкновенно длинным, и я не знал, куда девать себя.
Ну что ж, сказал я себе, в целом, мистер Карсон, считайте, что пока эксперимент проходит удачно. Вопреки ожиданиям, меня не охватывает ужас зверя, попавшего в яму, я начинаю привыкать к своему телу. И уж подавно приятно думать о том, как ловко увернулся я от костлявой старухи с косой в руках. Точнее, не сам увернулся, а меня увернули, но суть дела от этого не менялась.
Я уже знал, что не нуждаюсь во сне, что практически не ведаю усталости, но во мне еще жили инстинкты предыдущей белковой жизни, и я замедлил течение мысли. Почти задремал.
— Знакомьтесь, — сказал Вендел Люшес, представляя меня молодому человеку в легкой голубой рубашке, — профессор Антони Баушер, профессор Николас Карсон.
— Тони! — крикнул я. — Это ты? Этого не может быть! Этого абсолютно не может быть! — Я почувствовал, что вот-вот не сдержу слез, но сразу же поправил себя, слез у меня теперь не было. Боже, встретить хорошего приятеля, который год как погиб! Вот уж действительно загробная жизнь!
— Ник! — Тони обхватил меня за плечи и начал раскачивать из стороны в сторону.
— Я ж вам обещал, что вы встретите много знакомых, — сказал Люшес и вышел из коттеджа.
— Тони, ты ж погиб в автомобильной катастрофе почти год назад. Я был в тот момент в Цюрихе и никак не мог успеть на похороны.
— Я прощаю тебя, Ник Карсон, — очень серьезно сказал Тони, — но в то время я был очень недоволен.
— В то время? Когда?
— На своих похоронах. Я ко всем приставал: а где Ник Карсон? Почему я не вижу Ника Карсона? Да, кстати, а ты от чего умер?
Я вздрогнул. Чудовищность разговора, помноженная на легкомысленный тон Баушера, заставила меня поежиться.
— Я? Я еще не умер, — пробормотал я.
— А где ж твое старое доброе тело?
— А… Я не сразу сообразил. Я сейчас умираю, а может быть, уже умер в клинике Трампелла.
— Сердце?
— Нет, рак легкого.
— Тоже неплохо, — кивнул Тони. — Но ты как-то очень равнодушен к себе, даже не поинтересуешься, жив ли еще.
Мы оба тихонько посмеялись.
— Сообщат, наверное, — сказал я. — А ты?
— Что я? Автомобильная катастрофа. Обе ноги были раздроблены, и в лучшем случае меня ожидал паралич. Ну тут явились ангелы фонда, и я без колебаний согласился.
— Ты всегда был решительным человеком. Я тоже быстро согласился, но сколько же я мучил себя!
— Не думай об этом.
— Ты знаешь, — сказал я, — недавно в разговоре с Люшесом я сравнил здешнее существование с загробной жизнью. Ему сравнение не понравилось, но я все-таки нахожу в нем определенный смысл.
— Не знаю, Ник, ничего тебе не могу сказать о настоящей загробной жизни. Я всегда был чудовищно ленив по части писем, разве что заставлял себя продиктовать несколько слов секретарше, но, видно, там у меня, — он поднял палец вверх, — нет секретарши. Так что, в отличие от мистера Люшеса, сказать тебе о загробной жизни ничего не могу.
— Тони, а кто вообще этот Люшес?
Тони посмотрел на меня, подумал и сказал:
— Он один из чиновников фонда. Не самый важный, но чиновник.
— Значит, в каком-то смысле лагерь напоминает обычную жизнь? Есть просто люди, и есть чиновники, которые ими управляют. Люди — манекены и чиновники — манекены.
— О, Ник, я смотрю, ты настоящий радикал, — сказал Тони и приложил палец к губам. — Может быть, походим немножко, разомнем суставы?
Мы вышли из коттеджа. Я зажмурился от яркого солнца.
— Тони, — сказал я, — почему ты приложил палец к губам? И почему тебе захотелось сразу после этого размять суставы?
— Потому что я дважды находил в своем доме потайные микрофоны.
— Что? Для чего? Кто их установил?
— Потом, — усмехнулся Баушер, — потом. Не будем забывать, что ты еще недельное дитя, и твой слабый ум следует беречь.
— Он взглянул на часы: — О, уже пора. Ты был на церемонии подзарядки:
— Н-не-ет… А что это?
— Пойдем, увидишь.
ГЛАВА 5
Уютный зал напоминал лекционную аудиторию. Полукруглые ряды поднимались некрутым амфитеатром, а внизу, в центре, была кафедра.
Зал был почти полон. Большинство составляли молодые мужчины, но тут и там виднелись и женские лица. Тони и я заняли свободные места, и почти тут же на кафедре появился человек.
— Это Антуан Куни, — шепнул мой приятель, — черт его знает, кем он был раньше, не то историком, не то теологом, но здесь он что-то вроде проповедника.
— Друзья мои, — хорошо поставленным голосом сказал мистер Куни, — я часто думаю, что нам здесь приходится обращать особое внимание на метафоры. Они часто приобретают теперь совершенно неожиданное значение. Сейчас многие из нас подключат свои аккумуляторы к сети… Я не хочу кощунствовать, я не хочу сравнивать фонд с тем, кто дарует миру жизнь, но я знаю, что здесь много атеистов, и они не могут не отметить, что именно фонд дал нам жизнь, дал нам тела и дает нам сейчас энергию жить.
Я знаю, как знаете и вы, что человеку не свойственно стойкое чувство благодарности. Увы, большинство из нас — довольно неблагодарные существа. Но я не знаю, какой диалектикой, каким умственным сальто мы можем избежать чувства благодарности к фонду Калеба Людвига — источнику всего, что мы имеем, от жизни до лабораторий, которые так щедро оборудованы для нас.
Я часто ловлю себя на мысли, что недостоин всех этих благодеяний. Я спрашиваю себя: а почему именно я? Почему именно я оказался в кругу избранных, в то время как миллионы не менее достойных людей должны были навсегда уйти из жизни? Я не знаю ответа. Я знаю лишь, что, следуя заветам древней религии, фонд старается сохранить максимум анонимности в своей филантропической деятельности. Наверное, это мудро. Но тем не менее образ основателя фонда мистера Калеба Людвига не покидает меня. Я думаю, он был необыкновенным человеком. И не только потому, что мы живем лишь благодаря его деньгам, его воле, его устремленности в будущее. Он был необыкновенным человеком главным образом потому, что не умел ждать.
Когда он узнал о возможности трансляции и возможности создания на основе новой технологии искусственных тел, он не захотел ждать решения тысяч этических, юридических, религиозных и прочих вопросов. Он мог, умирая сам, дать кому-то новую жизнь. И сделал это. Поэтому я благодарен ему. Поэтому я часто думаю о Калебе Людвиге.
Я думаю, что он был не только выдающимся финансистом и предпринимателем. Он был человеком огромной души и смелости. Он не захотел сам воспользоваться благами трансляции, он не захотел упреков в эгоизме. Он стремился к благотворительности бескорыстной и чистой и проявил при этом подлинное величие духа. Вот почему я часто думаю о нем.
Мистер Куни наклонил голову и несколько секунд стоял молча, потом медленно сошел с кафедры. По залу прошелестел легкий шепоток, и иски начали вставать.
Вендел Люшес улыбнулся и сказал:
— Я зашел узнать, как вы себя чувствуете, профессор Карсон. Все хорошо?
— Спасибо, привыкаю понемножку.
— Вы уже были в лабораторном корпусе?
— Да, Тони Баушер хвастался своей лабораторией.
— Я хотел сообщить вам, что совет директоров фонда решил выделить вам три четверти миллиона для оборудования маленькой лаборатории. Если, конечно, вы захотите. Мы никого не заставляем работать.
— О, я чрезвычайно признателен.
— Сумма, конечно, не слишком велика, но это лишь на первоначальное обзаведение. Потом можно будет постепенно докупать оборудование. Поэтому составьте список и дайте его мне.
— Спасибо, мистер Люшес.
— Какие еще у вас вопросы?
— Здесь установлен телефон, но у меня впечатление, что он не подключен к сети…
— Видите ли, профессор, это довольно деликатная штука…
— Люшес задумался на мгновение, потом, словно решившись, продолжал: — Я вам уже говорил о чрезвычайно неопределенном статусе Ритрита — так мы называем это место. У меня не поворачивается язык назвать наш лагерь секретным. Само слово глубоко неприятно нам.
— Нам?
— Совету директоров фонда. Да наверняка и абсолютному большинству исков. И вместе с тем нам все время приходится думать о том, чтобы не привлекать к себе внимание. Поэтому минимальные меры по безопасности просто необходимы. В частности, это касается связи с внешним миром. Мы можем подключить ваш телефон. Но мы должны быть уверены в вас.
Я пожал плечами и неопределенно хмыкнул.
— …Первый шок прошел, — продолжал Люшес и бросил на меня быстрый, цепкий взгляд. — Я думаю, мы можем положиться на ваше благоразумие.
— Спасибо.
Удивительное дело, я чувствовал в себе некую гордость и даже благодарность, как ученик, которого похвалил учитель. Чувство было смешное и немножко постыдное, и я внутренне усмехнулся. Кажется, я становлюсь последователем проповедника Куни, который так красноречиво разглагольствовал о своей благодарности фонду вообще, и Калебу Людвигу в частности.
— Но в качестве меры предосторожности мы все-таки должны знать, с кем вы хотите поговорить, о чем. Поэтому мы предупреждаем, что разговоры будут прослушиваться. Это не очень приятно, нет слов, но вы должны понять…
— Я понимаю.
Люшес снова внимательно ощупал мое лицо, как бы взвешивая, действительно ли я принимаю их порядок или в моих словах скрывался сарказм.
— Отлично, — вдруг улыбнулся он. — В таком случае сегодня же телефон будет подключен, и вы сможете позвонить. — Улыбка его стала интимнее, доверительнее, и он добавил: — Не буду удивлен, если первый ваш звонок будет мисс Феликс.
Я вздрогнул. Откуда они знают про Луизу? Или их меры безопасности включают и это? Но мне не хотелось вступать в перепалку с Венделом Люшесом. В конце концов, если они спасают тебя от костлявой, приобретают тебе чудо-тело, дают кучу денег для оборудования лаборатории, они вполне имеют право хоть что-нибудь знать о тебе. Приди в банк даже за скромной ссудой — тебе зададут тысячи вопросов да еще захотят иметь какое-то обеспечение своим деньгам. На меня тратят миллионы, а я ощетиниваюсь от упоминания имени Луизы. Глупо. Нельзя жить только рефлекторно. Тони сказал, что находил в доме потайные микрофоны. Он был возмущен, и я, естественно, возмутился. А почему, собственно? Мой дорогой благодетель прав. Наш Ритрит — такое необычное предприятие, что определенные меры безопасности действительно необходимы.
— Да, — сказал я, — я бы хотел позвонить своей приятельнице.
— Хорошо. Но еще одно маленькое предупреждение, профессор. Здесь в Ритрите мы пользуемся нашими старыми именами. Вне его и при телефонных разговорах это, увы, невозможно. Дело даже не столько в вашей приятельнице, которая, насколько можно догадаться, знает, что с вами.
— А вас это не беспокоит? — пробормотал я.
— Нет. И наша уверенность построена не на каких-то расписках, запугиваниях, клятвах и прочей чепухе. Мы просто пользуемся здравым смыслом. Представим себе на минутку, что ваша приятельница не сможет удержаться и захочет кому-то рассказать о вас. Как она это сделает? Знаете, а мой друг умер, но на самом деле он воплотился в другом теле. Так? Вспомните, с каким трудом вы сами привыкали к этой мысли. Но вернемся к телефонным разговорам. Представьте, что кто-то, пусть даже случайно, подслушает их. Увы, это бывает. «Карсон, Карсон, где я недавно слышал это имя? — думает этот кто-то. — Ах да, я видел некролог. Какой-то физик Николас Карсон». А тут мистер Николас Карсон преспокойно интересуется по телефону, что ела на завтрак мисс Феликс. Вы должны простить меня за все эти бесконечные предупреждения, но вы ученый. У вас научный склад ума. Вы должны уметь смотреть в лицо фактам и интерпретировать их.
— Я понимаю, — кивнул я. Я поймал себя на том, что сочувствую бедному Венделу Люшесу и всему совету директоров. Столько забот! Еще чуть-чуть — и я бы сказал: «Тут один мой старинный приятель Тони Баушер возмущен тем, что нашел у себя потайные микрофоны. Так он, по-моему, глубоко не прав».
Не знаю, какая электроника была в голове у моего благодетеля, но нюх у него был поистине нечеловеческий. Он посмотрел на меня и спросил:
— Вы что-то хотели сказать мне еще?
— Нет. Впрочем, один вопрос. Помнится, вы говорили, что нас здесь могут посещать родные и близкие…
— Через три месяца после метаморфозы. Когда мы убеждаемся, что психика иска вполне устойчива. И кроме того, просьба о приглашении заранее подается в совет директоров. Так, чтобы мы могли обсудить, вполне ли безопасно приглашение.
Мне показалось, что Люшес был недоволен моим вопросом и голос его стал суше.
Я остался один и стал думать. Почему я вдруг испытал прилив благодарности к моему ангелу-хранителю? Почему я чуть-чуть не проболтался о подозрениях Тони Баушера? Может, они все-таки кое-что подправляют в мозгах при трансляции? Может, они добавили всем нам рабской покорности и собачьей благодарности? Может, они сделали из нас доносчиков?
Нет, наверное, это были глупые мысли. Просто я еще окончательно не определил свое место в новой системе координат. И потом, не надо себя идеализировать. И в прежней моей жизни в голову мне не раз закрадывались не слишком достойные мысли. Чаще всего я их перехватывал, сворачивал им шею и выкидывал вон. Но все равно они иногда появлялись. У меня всегда хватало смелости, чтобы знать себе цену. Подлецом я, пожалуй, не был, но и ангельский туалет вряд ли когда-либо подошел бы мне. Поэтому и на этот раз беспокоиться не стоило. Важно было лишь сохранить брезгливость к этим шкодливым мыслишкам. Пусть электронную, но брезгливость.
Рядом с двумя комнатками, которые я присмотрел для себя в лабораторном корпусе, было уже обжитое помещение. Не успел я начать прикидывать, что мне нужно будет заказать и что где установить, как в дверь постучали, и в комнату вошла тоненькая женщина с копной светло-рыжих волос.
— Рут Дойчер, — протянула она руку. — Биохимик. — Пожатие ее было энергичным, сильным, почти мужским.
— Николас Карсон, физик, — ответил я, улыбнувшись. — Я счастлив, что у меня будет такая очаровательная соседка.
— Не болтайте, — она сурово посмотрела на меня, — не чувствуйте себя петушком, потому что я не курочка. Не забывайте, что все мы вполне бесполы, и моя фигура — всего лишь дань тому, что когда-то я была женщиной.
— И все же, мисс Дойчер, поверьте…
— Оставьте, — поморщилась рыженькая, — деление на мужской и женский пол вообще анахронизм. Всего-навсего один из инструментов матушки-природы для размножения. Фонд Калеба Людвига умеет это делать лучше.
— Вы хотите сказать, что нас тут будут размножать?
— А вы верите в филантропию покойного истребителя лесов? Может быть, он решил заменить живых людей на исков, чтобы свести все леса на земле на бумагу. Кислорода тогда не нужно будет, и никто не будет вопить, что человечество скоро задохнется.
— Интересная мысль, — неопределенно пробормотал я.
Мисс Дойчер подошла ко мне почти вплотную. Я хотел было отступить на шаг, но она положила руки мне на плечи, притянула мою голову к себе и быстро зашептала:
— Будьте осторожны. Все время начеку. Не давайте им ковыряться в вашей голове. Ни в коем случае не жалуйтесь, что вам грустно или вы подавлены. Они мигом вскроют вашу голову, и не успеете вы опомниться, как они всунут туда благодарность их паршивому фонду и стремление доносить на соседей. Вы меня понимаете? — Она сверлила меня своими красивыми серыми глазами, и в глазах этих жарко пылало безумие.
Она круто повернулась и молча вышла. Я стоял, не в силах прийти в себя. Безумная баба. А может, не так уж она безумна? Поймал же я себя на том, что испытываю симпатию к Венделу Люшесу и чуть было не сказал ему о микрофонах в доме Тони Баушера. Чепуха, нонсенс. И все-таки, все-таки… Надо держать себя в руках.
Вечером я позвонил Луизе. Душа моя, хоть и была она рукотворной и питалась от аккумулятора, трепетала от любви, нежности и волнения. Я не верил, что через несколько минут услышу ее голос. Это было бы чудом. Прошло всего две недели, но это были фантастические две недели, и они вырвали Луизу из моего будничного мира, лишили ее прозаической приземленности и превратили в икону, в мечту, в идеал.
И раньше мое отношение к Луизе было лишено брюзгливости, рождаемой скучным и однообразным течением совместной жизни. И раньше видеть ее было праздником, но теперь я думал о ней как о чуде, посланном судьбой в мой чересчур рациональный и плоский мир. Умом я понимал, что она далеко не самая красивая женщина в мире, не самая обаятельная, не самая нежная. Но все равно она была чудом, и я не сопротивлялся такому ее восприятию. Наоборот, я, наверное, всегда подсознательно жаждал чуда и ревниво оберегал его в своей душе от нападок будней.
— Алло, — послышался в трубке ее низкий, чуть ленивый голос.
— Здравствуйте, мисс Феликс, — сказал я, — с вами говорит один ваш знакомый…
Она молчала, и молчание, которым был наполнен весь тысячемильный провод, напряженно вибрировало.
— Лу, радость моя, — сказал я, стараясь, чтобы голос мой не слишком дрожал, — добрый вечер, это говорит Дэвид Сильвестр.
— Кто, кто?
— Лу, ты огорчаешь меня, маленькая бедная обезьянка, ты не узнаешь старых друзей.
«Маленькая обезьянка» была паролем. Я думаю, поклонники называли Луизу разными ласковыми именами, но вряд ли кто-нибудь из них пользовался маленькой обезьянкой. Луиза была не маленькой и меньше всего походила на обезьянку.
— О господи, Дэви, как я могла тебя не узнать сразу, — сказала Луиза и всхлипнула. Умница. Она всегда все понимала. Она не стала спрашивать, почему ее лысый Ники говорит молодым чужим голосом и выдает себя за какого-то Дэвида. — Как ты, Дэви, как ты, мой любимый дурачок? Все хорошо?
— Все хорошо, Лу, радость моя. Все так, как мы предполагали. Все хорошо. Как ты?
— Тоскую без тебя, Дэви. Как брошенная собака.
— Скоро мы увидимся.
— Когда? Когда?
— Меньше, чем через три месяца.
— Нет, не увидимся, — печально сказала Луиза.
— Почему? — испугался я.
— Потому что я не доживу.
— Лу…
— Потому что никто не спрашивает, как я спала, когда встала и что делала весь день. А я без этого уже не могу. Ты развратил меня вниманием. И знайте, Дэвид Сильвестр, особой благодарности за это я к вам не испытываю.
— Я буду тебе звонить.
— Часто? — подозрительно спросила она.
— Очень часто.
— Не знаю, не знаю, обещать, что доживу, не могу, но попробую…
— Лу, — сказал я, — я боялся, что что-то может измениться, но ничего не изменилось: я очень люблю тебя.
— И я тебя, Дэвид Сильвестр.
Я вдруг вспомнил, что наш разговор слушает сейчас, наверное, весь совет директоров фонда, но мне было все равно. Даже если бы сам покойный Калеб Людвиг дышал мне в затылок, я бы сказал Луизе то же самое.
— Целую тебя, Лу. Я буду звонить. Береги себя.
— И ты, Дэви, — голос ее дрогнул.
— До свидания, — печально пробормотал я.
— До встречи.
Я положил трубку. Я надеялся, что голос Луизы принесет мне какое-то успокоение, но тоска по ней лишь усилилась. Я неподвижно сидел в кресле, думая о том дне, когда она войдет в эту комнату и с недоумением уставится на молоденького манекена, который скажет ей «Лу» и уткнется искусственным носом в ее естественные волосы.
ГЛАВА 6
-Ник, — сказал Тони Баушер, — я хотел поговорить с тобой.
— Слушаю, — сказал я. — Выкладывай.
Мы медленно шли вдоль Ритрита, метрах в пятидесяти от крайних коттеджей. Кругом расстилалась каменистая охристая пустыня, и сколько видел глаз, она была совершенно голой: ни травинки, ни кустика. Солнце стояло почти в зените, но я не чувствовал жары. Неплохое они выбрали местечко для лагеря, подумал я. И любопытные сюда не доберутся, и иски не разбредутся. Вынужденные меры безопасности, как говорит мой друг, покровитель и благодетель мистер Вендел Люшес.
— Чего ж ты молчишь? — спросил я своего приятеля.
— Не знаю, — пожал он плечами. Он посмотрел на меня долгим испытующим взглядом. — Я вдруг засомневался…
— Во мне?
— Не обижайся, Ник. Видишь ли, ты здесь меньше трех месяцев, а я уже больше года, и я пережил период острой благодарности фонду и привязанности к своему ангелу-хранителю.
— Ты хочешь сказать…
— Я ж предупредил тебя: не обижайся. Ты понимаешь, о чем я говорю?
— Да. Но мне не понадобился год, чтобы перебороть в себе желание лизнуть мистеру Люшесу руку. Но я понимаю тебя. Нечто подобное я и сам чувствовал. Так что можешь не бояться, что я тут же помчусь в совет директоров.
— Хочется тебе верить, — пробормотал Тони. — Понимаешь, когда тебя мучает какая-то мысль и ты боишься тех, кто тебя окружает…
— Но чего, собственно, бояться? Теперь, когда мы уже перешагнули порог страха…
Тони усмехнулся:
— Или ты еще не вышел из состояния эйфории, или ты просто ничего не замечаешь. Ритрит пронизан страхом.
— Страхом чего? Все страхи уже позади. Ведь мы увернулись от самого главного — от смерти.
— Не торопись. Иногда мне кажется, что страх вечен. Может быть, даже есть какой-то закон сохранения страха. Да, мы не боимся смерти, но страх остался. Страх, что те, кто властвуют над тобой, будут недовольны. Что ты вызовешь их гнев. Что тебя накажут. Или…
— Что значит «накажут»? И что значит «или»?
— Мы ведь бесправны. Мы юридически не существуем. Нас нет. Мы всего-навсего фантазия покойного Калеба Людвига. И если твой Люшес вдруг посчитал бы, что ты представляешь угрозу для него, для Ритрита, — что может помешать ему или совету решить твою судьбу как им будет угодно?
— Да, но после всего, что они для нас сделали…
— Ты хочешь сказать, после всех затрат? Но ведь вовсе не обязательно ставить тебя перед комендантским взводом и всадить двадцать пуль в шедевр современной техники. Проще воспользоваться транслятором…
— Не понимаю.
— Они вложили в кибернетическое устройство твои мозги, они могут их и вынуть. Мы ведь всего-навсего пленка в руках совета. В любой момент они могут выкинуть из моего тела некоего Антони Баушера и втиснуть кого-нибудь еще. Стереть старую запись и сделать новую.
Я поежился. Мне показалось, что откуда-то потянуло холодным ветром. А может быть, Тони просто-напросто рехнулся? Как рыжая дама. Как ее зовут? Ах да, Рут Дойчер…
— Сдается мне, ты преувеличиваешь, — сказал я после долгой паузы. — Теоретически ты, конечно, прав, но я не могу заставить себя поверить, чтобы…
— Ты молодец, Ник, — усмехнулся Тони, — у тебя отлично развиты защитные реакции, и они идеально сохранились при трансляции. Этого же не может быть. Это же не гуманно. Это же нарушение законов Шервуда. Это все выдумки радикалов. Со мной же ничего похожего не случалось. Хотя у тебя и не слишком длинная шея, ты похож на старого доброго страуса, прячущего голову в песок и думающего, что никто его не видит. Но ты же не страус, Ник. Впрочем, если ты ничего не хочешь замечать, дело твое. А я не только нашел в своем коттедже два потайных микрофона. Причем заметь: именно потайных. То есть запрятанных так, чтобы я не имел о них никакого представления. Я встретился здесь с одним биологом. Его звали Сесилем Стромом. А через три месяца он исчез. Сначала я колебался, спросить ли у своего ангела-хранителя, где Стром. Я и боялся спросить, и боялся не спросить. Ведь если я не спрошу, они могут понять, что я боюсь спросить. А следовательно, боюсь их. А следовательно, считаю их своими врагами. Пришлось спросить. Мой наставник внимательно посмотрел на меня, грустно покачал головой и сказал: «Печальная история, мистер Баушер. Он ничем с вами не делился?» — «Нет, — пожал я плечами, — обычные разговоры». «Да, да, к сожалению, это бывает. Бедняга, как выяснилось, долгие годы страдал шизофренией. Суицидальный синдром. И естественно, такое потрясение, как трансляция, все это лишь обострило». Мой наставник еще раз внимательно посмотрел на меня и сказал: «Я очень прошу вас, мистер Баушер, никому не говорить о самоубийстве Сесиля Строма и ни с кем не обсуждать эту тему. Эта тема не для Ритрита. Надеюсь, вы меня понимаете?». Мне показалась, что в голосе прозвучала не очень глубоко скрытая угроза. Я долго сокрушенно качал головой, чтобы показать, как я не одобряю самоубийства, и обещал в точности выполнить его совет.
— Но может быть, он действительно покончил с собой?
— Не думаю. Во-первых, незадолго до исчезновения он сказал мне довольно загадочную фразу. Он сказал: «Тони, мне кажется, я начинаю догадываться кое о чем». Я, естественно, спросил его, о чем именно, но он лишь покачал головой. «Еще рано. Я еще не все понимаю в нашем благословенном Ритрите». Ты не знаешь Строма, а я знаком с ним лет пятнадцать. Мы не были близкими друзьями, но всегда радовались друг другу. Он обладал острым и насмешливым умом. И бесстрашным. И именно поэтому его слова произвели на меня сильное впечатление.
— Не очень убедительно, — пробормотал я.
— Возможно. Вполне возможно, что и я предпочел бы думать, как ты. У меня ведь тоже есть инстинкт самосохранения. Но помешала одна маленькая деталь. Не знаю почему, но я как-то заметил, что указательный палец левой руки у Строма был слегка изогнут. «Мне бы следовало предъявить рекламацию, — ухмыльнулся он, когда перехватил мой взгляд. — Дефект производства. Но бог с ним, с пальцем, он мне не мешает». А потом, сидя как-то на торжественной подзарядке и слушая очередное восхваление фонда, я обратил внимание на руки своего соседа. Указательный палец левой руки был изогнут точно так же, как у исчезнувшего Строма. О, я, как сейчас, помню, что почувствовал в ту минуту. Страх, чудовищный страх…
— Почему?
— Ты спрашиваешь «почему»? На мгновение я подумал, что сейчас подниму голову и увижу Сесиля. Я хотел взглянуть на его лицо и одновременно боялся. Знаешь, как картежник, который томительно медленно сдвигает свои карты, чтобы посмотреть, что ему сдали. Ох, как мне хотелось, чтобы Стром ухмыльнулся и сказал: «Ты что, боишься посмотреть на меня»!
В конце концов я заставил себя поднять взгляд и посмотреть на соседа. Он был точно такого же роста, как Стром. И цвет волос у него такой же. Лицо другое, но очень похожее.
— Два тела с одного штампа? — пробормотал я.
— У меня другое объяснение. И думаю, тебе оно тоже пришло в голову. Оно-то и наполнило меня тоскливым, пронзительным ужасом. Это было тело Строма со слегка переделанным лицом. Понимаешь, что это значило?
Боже, как хорошо, чтобы мой друг оказался безумцем! Как не хотелось мне вылезать из моего маленького уютного кокона, который я только начал обживать. Как не хотелось мне входить в холодный мир страха и подозрительности, ужаса и жестокости. Мир, в котором твои мозги в полном смысле этого слова принадлежат твоим хозяевам. И тело. И ты сам. И у тебя могут отнять и то и другое. Заменить. Переделать. Ты уже не личность, ты собственность фонда, ходячий склад запасных частей. Нет, этого просто не могло быть. Это чушь, бред. Просто Тони Баушер пытается всучить мне свои кошмары.
Всю жизнь я прятался от реального мира. Наверное, я занялся наукой именно потому, что она мне казалась сравнительно спокойным делом. Может быть, на ее более высоких склонах и пиках, ближе к многомиллионным субсидиям и Нобелевским премиям, тоже шли рукопашные бои и ученые мужи щелкали клыками и впивались друг в друга. Но я выдолбил себе нишу пониже, забился в нее, как рак-отшельник, и тихо прожил пятьдесят два года вдали от большого мира.
А сейчас мой друг Тони Баушер тянет меня в этот страшный мир. И где?! В забытой богом и людьми пустыне, населенной ходячими манекенами. Стоило переселяться в другой мир, чтобы вернуться в старый…
Как хорошо, чтобы Тони оказался безумцем. Но почему-то я твердо знал, что это не так. Может быть, потому, что это было бы слишком простым объяснением. А я никогда не верил в слишком удобные и простые объяснения. Что в науке, что в жизни.
— Представляю, о чем ты сейчас думаешь, — тихо сказал Тони. — Прости. Если я чересчур усердно навьючиваю тебя своими страхами, скажи.
— Уже поздно, — невесело усмехнулся я. — Семена посеяны.
Я представил себе конец этого Строма. Ускользнуть от древней, как мир, старухи с косой, чтобы попасть в руки сверхсовременных электронных палачей. Сесиль Стром, вы представляете собой угрозу для Ритрита, и совет принял решение разрядить вас…
— О господи… — пробормотал я.
Тони посмотрел на меня с какой-то пронзительной пристальностью, словно еще раз взвешивал, стоит ли мне доверять. Он едва заметно кивнул, отвечая, должно быть, своим мыслям, и сказал:
— Послушай. Я расскажу тебе о главном, что буквально не дает мне жить. Ты ведь помнишь: я попал в автомобильную катастрофу. В больнице, когда я пришел в себя, мне сказали, что у меня раздроблены обе ноги, что их, скорее всего, придется ампутировать и что, если бы их даже удалось спасти, я все равно был бы парализован ниже пояса.
— Ты говорил мне об этом.
— Да, но я не рассказал тебе об одном воспоминании. Оно не сразу пришло ко мне. Только здесь, в Ритрите, оно постепенно поднялось к поверхности памяти. Вначале я сомневался в нем. Оно казалось мне галлюцинацией. Я гнал его от себя. Но оно крепло, пока не превратилось в убежденность.
— Что за воспоминание?
— Эта катастрофа. То, что случилось со мной. Я ехал в Шервуд из Флори. Было холодно, на шоссе образовался кое-где ледок, и я ехал не быстро. То ли я задумался на мгновение, то ли просто не смотрел в эту долю секунды вперед, но я не видел, как грузовик с прицепом, двигавшийся в противоположном направлении, начало заносить. И заметил я его, когда было уже поздно. Грузовик развернуло поперек, и я летел прямо на прицеп. На грузовике и на прицепе были нарисованы улыбающиеся зеленые огурцы. Знаешь, эта эмблема какой-то продовольственной фирмы. Я нажал на тормоз, но было скользко. Огурец приближался ко мне с чудовищной быстротой, и я понимал, что через долю секунды врежусь в прицеп. Это все чепуха, что в эти мгновения люди о чем-то думают, что-то вспоминают. Я ни о чем не думал. Я лишь видел гигантскую огуречную улыбку, и этот огурец тут же взорвался. Я потерял сознание от удара.
Долгие недели и месяцы мне казалось, что пришел я в себя только в больнице. Но это не так. Ник. — Он печально покачал головой. — Нет, не в больнице. Теперь я помню. Я пришел в себя в машине. Нос ее был смят, но поднят, словно она пыталась добраться до наглого огурца. Было тихо, что-то где-то толкало, переливалось. Я почему-то подумал, что надо выбраться из машины, пока она не загорелась. Мне не надо было открывать левую дверь. Она открылась от удара. Я вывалился на землю. Где-то завывали сирены. Почему-то мне казалось, что вот-вот машина обязательно загорится. Я встал и побежал. Я пробежал, наверное, метров двадцать, потому что споткнулся и упал на заснеженном поле. Ты понимаешь, что это значит? Я пробежал какое-то расстояние. Про-бе-жал! Может ли человек с раздробленными ногами пробежать пятнадцать — двадцать метров? Я знаю, что ты мне сейчас скажешь. В состоянии шока и так далее. Может быть, если бы у меня был перелом. Но мне объяснили в больнице, что обе мои ноги были раздроблены. Я спросил врача, что это значит — переломы? Хирург был настоящим красавцем. Я прямо вижу сейчас пред собой его лицо. Загорелое лицо с правильными мужественными чертами. У него были удивительно голубые глаза. Он покачал головой. Он развел руками, словно извинялся передо мной. Он сказал, что слово «раздроблены» не значит перелом или переломы. Раздроблены — значит именно раздроблены. Раздроблены кости, разорваны мышцы, нервы, сухожилия, сосуды. Я помню, что попытался пошевелить ногами, но не мог. Мне казалось, что ног у меня вообще уже нет.
Мне сделали укол, а вечером появился мои будущий ангел-хранитель со знакомым тебе предложением. Я почти не колебался. Я живо представил себе свою жизнь с обеими ампутированными выше коленей ногами.
Тогда, в больнице, я не спросил у врача, как может человек с раздробленными ногами пробежать пятнадцать — двадцать метров. Я тебе уже говорил, что воспоминание пришло много позднее, здесь. И оно не дает мне покоя.
— Но может быть… это все-таки твоя фантазия? Провокация памяти? Знаешь, как это бывает. Кажется, что это было, а на самом деле…
Тони медленно покачал головой.
— Боюсь, что нет. Боюсь, что провокация тут ни при чем.
— Но что это может в таком случае значить?
— Вот этот-то вопрос я и задаю себе десятки раз каждый день, Вариантов может быть два. Первый: мне это кажется. Как я тебе сказал, я отбрасываю его. Слишком четкие и яркие детали для фантазии. Я вываливаюсь из машины. Переднее левое колесо еще медленно вращалось. Колпак с него соскочил. Я упираюсь руками в асфальт, встаю. Надо отбежать, надо отбежать, говорю я себе. Страшно кружится голова. Я поскользнулся, но удержался на ногах, потому что схватился за открытую дверцу. Я обошел машину сзади. Интересно, подумал я, глубокий здесь кювет или нет? Он был под снегом. Я не стал прыгать через него, медленно спустился, поднялся по противоположной стороне. Земля под снегом была твердая, смерзшаяся. Я побежал. Голова кружилась все сильнее и сильнее, и я упал. Падая, я подумал, что сейчас снег набьется мне за шиворот. И почему-то эта мысль очень беспокоила меня. Такую глупость нельзя придумать. Я не верю, что все это лишь примерещилось мне.
Второй вариант: ноги у меня раздроблены не были. Я вообще был цел и невредим, не считая ушибов и контузии. Ты спросишь: а что же врач? Меня обманули.
— Да, но ты же сам говоришь, что не мог пошевельнуть ногами, не чувствовал их.
— Один укол, это несложно.
— Но для чего? Ты понимаешь, что говоришь?
— Очевидно, для того, чтобы подготовить меня к предложению стать иском.
— Чушь!
— Почему чушь? Если бы ко мне пришли с таким предложением в обычной обстановке, я бы похлопал человека по плечу и посоветовал ему проспаться. Но когда приходят к человеку, которому предстоит стать обрубком, никакое предложение не кажется ему уже безумным. — Тони помолчал и медленно сказал: — Кто знает, может быть, бедняга Стром тоже начал все раскладывать по полочкам.
— И совет как-то узнал об этом и уничтожил его?
— А что еще им оставалось делать? Представь себе, что произошло бы в Ритрите, если эту историю рассказать с кафедры во время торжественной подзарядки…
— И что же делать? — спросил я тоскливо.
— Не знаю, — пожал плечами Тони. — Пока не знаю. Я знаю лишь, что если в уравнение подставить потайные микрофоны, слова Сесиля Строма и его исчезновение и мои якобы раздробленные ноги, оно приобретает довольно зловещий вид. Но что оно значит, что стоит за всем этим — я не знаю. Прости, Ник, пойду в лабораторию, поработаю немного.
Я поймал себя на том, что злюсь на Тони Баушера. Почему он должен втягивать меня в свои кошмары? Да не хочу я думать, были его ноги в действительности раздроблены или его лишь убедили в этом. Да, сказал я себе, может быть, он и прав. Но для чего мне его правда, если она наполняет меня тягостным недоумением и страхом. Только-только начал я обживаться в новом мире, только-только разложил свой багаж души и памяти по новым полочкам, как появляется Тони и заявляет, что полочки-то в тюремной камере и око тюремщика недреманно сверкает в глазке двери.
Чепуха! Эгоистическая шизофрения. Когда-нибудь специалисты определят, может ли страдать душевным расстройством искусственный человек, но Тони явно далек от нормы. Для чего весь этот дьявольский план, кому он нужен? Для чего?
И куда только девалось мое почти праздничное настроение последних дней! Один разговор — и вместо него липкий страх и тягостное недоумение. Чепуха, снова и снова повторял я себе, но заклинания не действовали. И чем больше я их повторял, тем меньше верил в них.
Назавтра ко мне пожаловал Вендел Люшес.
— Мистер Карсон, — сказал он, — скоро три месяца, как вы здесь, и теперь по нашим правилам вы можете пригласить к себе гостей.
— Спасибо, — пробормотал я.
— Напишите на имя совета, кого именно вы собираетесь пригласить, и не откладывайте этого. Хорошо? Мы должны иметь какое-то время для наведения справок о приглашаемом. Конечно, я мог бы вам этого не говорить, профессор, но я ничего не скрываю от вас. Представьте, что кто-то захочет пригласить сюда журналиста, человека с телевидения, фотографа, какого-нибудь радикала, наконец…
— Моя приятельница расписывает ткани.
— О, я говорю не о вас. Вам я доверяю полностью. Но в Ритрите уже больше сотни исков, и среди них могут оказаться люди с неустойчивой психикой, тяжелым характером. О них нам бы хотелось знать еще до того, как они могут причинить Ритриту какой-нибудь вред. — Люшес внимательно посмотрел на меня. — Вы меня понимаете?
Ангел-хранитель явно предлагал мне шпионить за теми, с кем я уже успел познакомиться. И не слишком тонко сделал это сразу после разговора о приглашении Луизы. Услуга за услугу.
На какую-то долю секунды мне захотелось сказать: мистер Люшес, а Тони Баушер думает, что на самом деле его ноги не были раздроблены в катастрофе. Хорошо, кивнет ангел-хранитель. И Тони последует за Сесилем Стромом и искривленным пальцем. И никто не будет больше пугать меня страшными подозрениями. И я буду присматриваться к искам: кому досталось тело моего друга?
Не знаю, нравственный ли я человек. Но я знаю, что иногда приходят мне в голову чудовищные по эгоистичной жестокости мысли. К счастью, до сих пор я всегда тут же старался затоптать их насмерть. Как сейчас.
Мистер Люшес смотрел на меня с легкой выжидательной улыбкой. Пожалуй, сразу согласиться было бы не совсем правдоподобным. Надо чуточку поломаться. А может быть, возмутиться? Нет, пожалуй.
— Вы хотите, чтобы я информировал вас о знакомых?
Люшес слегка поморщился:
— Ну для чего такие формулировки? Что значит «информировать»? И что значит «нас»? Разве у нас с вами не общая судьба? Разве мы не ждем вместе с вами того момента, когда общество созреет для идеи исков и парламент сможет наконец обсудить наш статус и сделать из нас нормальных граждан? И если вы увидели бы какую-нибудь опасность для Ритрита, разве вы не пришли бы ко мне?
— Пришел бы.
— Вот мы и исчерпали суть дела.
Мы расстались взаимно довольные друг другом. Я сидел и думал, имел ли он в виду Тони Баушера или вообще вербовал меня в свои фискалы. Ответа я не знал. Да он меня пока особенно и не интересовал. Снова и, снова я вспоминал рассказ моего друга. Злость давно испарилась. Бедняга Тони! Жить с ощущением, что тебя обманом сделали иском… Не знаю, смог бы я выдержать такую пытку.
Невольно память моя воссоздала разговор с профессором Трампеллом, его розовую кожицу, просвечивавшую сквозь редкие седые волосы. И водянистые глаза, которые он так усердно прятал от меня. Еще бы, вынести такой приговор… Удивительно, как неплохо я себя чувствовал в то время. Покашливал немножко. Но по зимам у меня часто бывал бронхит, который стал почти хроническим.
И вдруг идиотская мысль буквально пронзила меня: а если и меня тоже обманули? Чушь, сказал я себе. Этого не может быть. Почему? Старик-врач, врачебная этика — и такое чудовищное преступление?
А если Тони Баушер не выдумал свою историю? Чем она отличается от такого варианта?
Профессор Трампелл, почтенный врач и глава знаменитой больницы, семидесятилетний человек — и такое чудовищное преступление? Абсолютно несовместимо. Мне проще было представить его с ножом в зубах и пиратской повязкой на лбу, лезущего на абордаж. Но чтобы мой врач, врач, человек, которому я вверял свое здоровье, украл у меня тело? Смехотворно!
Нет, нет, гнать от себя надо страшные фантазии! Ни одна психика в мире не выдержит такого давления. День и ночь думать, что у тебя обманом отняли теплое, живое тело и подсунули взамен электронный манекен. Отняли сердце, которое так сжималось при мысли о сыне и так блаженно расслаблялось, когда Лу улыбалась мне. Отняли легкие, которым так не хватало воздуха, когда я время от времени пытался бегать по утрам и разевал рот, словно вытащенная на берег рыба. Отняли желудок, капризный, постоянно ненасытный мешок, дававший тем не менее иногда радость чревоугодия.
Нет, нет, гнать надо от себя безумные мысли. Пока не отравили они мой мозг. Бред несет мой друг Тони Баушер, плод больной фантазии. И этот биолог Сесиль Стром просто-напросто сошел с ума. Какие вообще у меня были основания не доверять Венделу Люшесу? Разве он не был откровенен со мной? Обязан он был предупреждать меня, что внешние телефонные разговоры прослушиваются советом? Нет. Абсолютно нет. И никогда эта мысль не пришла бы мне в голову. А то, что о приглашенных в Ритрит совет наводит справки? Тоже не обязан был. Так почему я должен больше доверять свихнувшемуся Тони Баушеру, чем постоянно откровенному своему ангелу-хранителю?
И потом, в конце концов, разве можно было не согласиться с Дюшесом, что все мы в одном ковчеге, что всех нас связывают общие интересы — дождаться своего юридического узаконения и возвратиться в привычный мир. Пусть без радостей еды и дыхания, но зато и без взбунтовавшихся клеток и легких, которые по нелепой своей прихоти обрекли меня на мучительную смерть.
ГЛАВА 7
Возможно, есть люди, мысли которых похожи на хорошо вымуштрованных солдат на параде: они идут четким строем и мгновенно слушаются команды. Предполагается, что у ученых мыслительный процесс более рационален, чем у представителей других профессий.
Не знаю, не знаю. Мои маленькие, бедные мысли всегда напоминали мне неуправляемое стадо овец: они разбредались в разные стороны, пропадали куда-то, появлялись вновь, чтобы тут же снова исчезнуть.
Зато теперь, как назло, неуправляемое стадо сбилось в плотную отару, которая никуда не разбредалась и с дьявольским упорством пережевывала одно и то же: а что, если все-таки Тони Баушер прав? А что, если и меня обманули и обокрали? Пусть это был бы вооруженный грабеж, с ним было бы легче примириться. Стой! Не двигаться! Руки вверх! Не шевелись, получишь пулю! Тело, нам нужно твое тело. Но позвольте, как же я буду? Совсем без тела? Куда же я душу свою дену? Не ной, получишь заменитель. Еще лучше твоей потрепанной пятидесятилетней шкуры.
Ладно, пусть бы так. Но самому согласиться, согласиться добровольно променять привычное нормальное тело, своего старого доброго товарища, на электронную холодную машину…
Минуточку, минуточку, говорил я себе, а почему вообще такая привязанность к твоему бывшему телу? Что за консерватизм? Я всегда смеялся над женой, которая мучительно не могла расставаться со старыми вещами, будь то многократно ломавшийся старомодный холодильник или много лет не надевавшиеся туфли.
Почему такое обожествление волос, которые росли у меня на ушах? Покалываний в сердце? Ангин? Зимних бронхитов с надсадным кашлем? Растущего живота? Что за чудо природы, что за неповторимый шедевр?
Тем более, что теперь, когда я полностью привык к новой своей оболочке, я мог оценить ее по заслугам: я двигался легко и ловко. Я не уставал. Я не нуждался во сне. У меня ничего не болело. Я вообще начал забывать, что такое боль. Слова: резь, прострел, колотье, зуд — становились пустым воспоминанием.
И самое главное — я стал молод. Каждый день из зеркала на меня смотрело неизменно молодое, красивое, чистенькое лицо, такое чистенькое, словно только что его принесли из химчистки. И так будет всегда. Вечно. И все-таки какая-то нелепая грусть не давала мне покоя. Иррациональная тоска по старой жизни не отпускала меня. Я должен был признаться себе, что несчастлив, что постоянно думаю о Тони Баушере, о том, что на самом деле случилось со мной.
Но у меня не было фактов, и стадо моих мыслей продолжало топтаться на одном месте, мучило меня своими острыми копытцами.
Я понял, что должен как-то развеять свои сомнения, или угроза сойти с ума станет очень близкой реальностью. Два или три раза я уже ловил себя на том, что готов пойти к Венделу Люшесу, чтобы поделиться с ним своими мыслями. Пока еще, к счастью, я понимал, что это значило бы…
Назавтра должна была приехать Луиза, и я метался по Ритриту, не находя себе места. Отсутствовавшее мое сердце то замирало на мгновение, то подталкивало меня куда-то. О, говорил я себе, Лу — верный товарищ. У нее очень развито чувство долга. Она не бросила бы меня, если бы… я умирал, как положено умирать людям. Она не бросила бы меня, если бы… я вдруг оказался за решеткой. Но сможет она заставить себя прикоснуться к машине, к ходячему манекену? Или инстинктивное отвращение и страх пересилят ее лояльность?
Пришел Вендел Люшес, сказал, что Луиза будет к полудню, что, к сожалению, встретить ее на аэродроме я не могу — это против правил, что на время ее пребывания в Ритрите я должен перейти в гостевой коттедж.
— Почему?
— В гостевом есть кондиционеры, а в обычных домах их нет. Нам-то они не нужны, а ваша гостья вряд ли долго выдержит температуру градусов в сорок.
Я стоял у входа в лагерь и ждал появления машины. Минуты издевались надо мной. Они ползли, как улитки, а то вообще останавливались, и я мысленно подгонял их всеми проклятиями, которые когда-нибудь знал.
Наконец из-за поворота на дороге, которая вела к въезду в лагерь, появилась машина. Хорошо все-таки быть без сердца, пронеслось у меня в голове, оно бы сейчас наверняка лопнуло.
Боже, как она была прекрасна! Я не видел ее три месяца, и за это время — я готов был поклясться в этом — она стала во сто крат красивее. И как она была высока, и как стройна, и как красиво была посажена ее очаровательная головка.
Она улыбнулась водителю, кивнула ему и неуверенно прошла через ворота. Она посмотрела на меня, улыбнулась, так же, мне показалось, как и водителю машины, и спросила:
— Вы не скажите, где мне найти Николаса Карсона?
— Обязательно скажу, — вежливо наклонил я голову, — даже провожу вас. Домики здесь похожи друг на друга, и без привычки ориентироваться не очень легко.
— А вы его знаете, Николаса?
— О да, у нас с ним вполне дружеские отношения.
— Он не болен, с ним ничего не случилось? — спросила Луиза, и в голосе ее прозвучало беспокойство. — Я была уверена, что он меня встретит.
— Не знаю, — пожал я плечами, — наверное, забыл, в котором часу вы приедете.
Она разочарованно вздохнула, а я с величайшим трудом сохранял спокойствие. Наконец мы вошли в гостевой домик, куда я накануне перетащил свои скромные пожитки.
— Где же он? — нахмурилась Луиза, и я медленно обнял ее и прижался носом к ее волосам.
— Что вы делаете? — крикнула она и попыталась вырваться из моих объятий.
— Лу, маленькая обезьянка, — пробормотал я, и голос мой дрогнул. Я почувствовал, как она вдруг обмякла и начала падать, медленно, как надувная игрушка, из которой выходит воздух. Я снова обнял ее, покачивая из стороны в сторону. — Маленькая бедная обезьянка, — шептал я снова и снова, как будто на свете не было больше слов. Наверное, я уцепился за них, как за спасательный круг, потому что тем самым снова и снова повторял Луизе, что тридцатилетний витринный манекен перед ней — это я, Ник Карсон.
— О Ники, как ты мог, — пробормотала наконец Луиза.
— Что?
— Так напугать меня. Когда я вошла сюда и никого не было, мне показалось, что я сейчас умру.
О, непостижимая женская логика! Перед Луизой стоял ее старый пятидесятидвухлетний друг в обличье рекламного красавца, а она выговаривала мне за то, что я напугал ее.
— Лу, я боялся…
Она посмотрела на меня и улыбнулась. В серых глазах ее сверкали драгоценные слезинки.
— Глупый, ты всегда был глуп, Николас Карсон, и я не знаю, как такая просвещенная и развитая женщина, как я, может любить тебя. Тебе нечего было бояться. Ты помолодел, покрасивел, изменился, но не поумнел. Это я должна была бояться. За три месяца ты вполне мог разлюбить меня. Через ночь мне снился один и тот же сон. Ты, молодой и красивый, почти такой, каким ты действительно оказался, стоишь передо мной и скучным профессорским голосом говоришь: «Простите, мисс Феликс, боюсь, что не смогу относиться к вам по-старому». Я захлебывалась от слез, что-то пыталась сказать, но ты начинал жужжать и исчезал. И от этого жужжания я просыпалась.
— Простите, мисс Феликс, — сказал я, — боюсь, что не смогу относиться к вам по-старому. Я люблю вас в десять тысяч двести раз больше. Вы самая прекрасная женщина на свете, и я хочу, чтобы вы об этом знали.
— Только не жужжи, — сказала Луиза. — И не исчезай.
— Я не умею жужжать. И никогда никуда не хотел бы исчезать от тебя. Но… Лу… скажи честно, тебе не очень тяжело общаться со мной?
— Почему, глупый?
— Ну, из-за того, что я ведь в сущности машина. Ты понимаешь, что это значит? Весь я сделан, изготовлен, собран, смонтирован. Наверное, я лежал на конвейере, и сборщики постепенно добавляли мне детали. Эй, мастер, у меня кончаются ноги. Не знаю, но вполне возможно, что мою голову проверяли вначале не стенде, как электронное устройство. Я машина, Лу.
— Если машина умеет тереться об меня носом, называть меня маленькой бедной обезьянкой, если ее прикосновения сладостны, я за машины. Тем более, что мы живем все-таки в машинный век. И в век стандартизации. Какое имеет значение, что кто-то родился от матери, если он по существу отштампован одним штампом с миллионами себе подобных. И поступки, и мысли, и желания — все штампованное. Люди смотрят одни и те же телевизионные программы, читают одни и те же журналы, говорят одни и те же слова. И если вообще и чувствуют что-то, то и чувствуют одинаково. Им только кажется, что они неповторимы. На самом деле они еще стандартнее автомобиля или стиральной машины. А ты неповторим. В мире нет второго такого глупого и любимого человека, как ты. Ты уникален, Ники, и я боюсь, что зазнаешься, задерешь нос и начнешь искать себе уникальную женщину.
— Уникальнее тебя нет, Лу…
Мы говорили, говорили, говорили и не могли наговориться. Я заставлял Лу снова и снова рассказывать мне о всех ее делах, о работе, о подругах, о том, как она проводила время. Она смотрела мне в глаза и бормотала:
— Господи, как я тебя люблю…
Я оттаивал. Мне казалось, что механические и электронные мои внутренности теплеют, теряют свою искусственную холодность.
Я не знаю, сколько мы проговорили, но я с трудом заставил себя оторваться от Луизы, достал из холодильника завтрак и разогрел его в частотной печке. Смотреть на еду было немножко странно и чуть-чуть даже неприятно. Я сообразил, что уже три месяца не ел, если не считать, конечно, подзарядки аккумулятора за еду.
— А ты? — спросила Луиза и тут же осеклась. Она виновато улыбнулась: — Совсем забыла. Теперь ты — само совершенство. Даже готовить тебе не нужно и кормить не нужно. О таких мужьях женщины только мечтают.
Когда она поела, она спросила меня:
— А как ты, Ники? Ты привык к своему новому телу? Тебе покойно на душе?
— В общем — да, — не очень искренне сказал я и хотел было рассказать ей о Баушере, о мучивших меня сомнениях, но вдруг сообразил, что гостевой домик должен быть оборудован еще кое-чем, кроме кондиционеров, холодильника и частотной печки. Я почувствовал, буквально почувствовал, как ловят каждое мое слово чувствительные микрофоны. Кто знает, может быть, за нами следят и зрачки телевизионных камер. То есть почти наверняка. Небольшие вынужденные меры безопасности, как изящно выражается мой наставник Вендел Люшес.
И только когда я повел Луизу показывать ей Ритрит (жара, очевидно, уже спала, потому что чувствовала себя она превосходно), я тихонько шепнул ей:
— Лу, милая, никогда не говори об этом, когда мы в домике, но у меня к тебе огромная просьба.
— Я слушаю, — очень серьезно сказала Луиза, и я быстро рассказал ей о Тони Баушере, о его сомнениях и о своих мучительных мыслях.
— Только не делай такое печальное лицо, — сказал я в конце.
— Почему?
— Кто знает, может быть, и сейчас кто-то издали следит за нами…
— Хорошо, — улыбнулась Луиза и поцеловала меня в нос. — Пусть следят. Я готова целовать тебя в нос на эстраде. И пусть все десять тысяч зрителей кричат: еще, еще!
— Спасибо, Лу, но теперь о самой просьбе. Если тебе удалось бы найти кого-нибудь в клинике Трампелла, чтобы этот кто-то мог внимательно изучить мою историю болезни, результаты вскрытия моего трупа…
— О господи, — пробормотала Луиза, все еще продолжая улыбаться.
— Но так, конечно, чтобы об этом никто не знал. Только при условии полной безопасности.
— Я, безусловно, сделаю все, что могу, но я ведь так далека от медицинского мира…
— В этом-то вся и загвоздка, Лу.
— Я найду способ, Ники.
— Ты понимаешь, это не каприз.
— Я понимаю. И потом, тебе не нужно все время извиняться. Наоборот, я должна быть благодарна тебе за эту просьбу.
— О, Лу, раньше я что-то не замечал за тобой такую изысканную восточную вежливость.
— Ты не только глуп, Ники, ты просто-напросто туп, — нежно сказала Лу, и слова ее были мне необыкновенно приятны. — Ты не понимаешь, что, делая что-то для тебя, я все время буду ощущать, что я близка тебе, что нас что-то связывает. Ты подбиваешь меня на преступление, и оно делает из меня честную женщину, потому что я буду чувствовать себя твоей женой.
— Лу, ты чемпионка по диалектике. Кстати, теперь, когда я основательно помолодел и мне не нужно готовить манную кашу, я бы с радостью сделал тебе предложение. Дело только за нашими законодателями. Пусть определят статус исков.
— Законодатели могут не торопиться. Теперь я не согласна выйти за вас замуж, Николас Карсон.
— Но почему, друг мой?
— Потому что я, увы, не иск.
— Увы?
— Ты будешь вечно сиять своей юной белозубой улыбкой, я в ужасе буду разглядывать втайне от тебя свои новые и новые морщинки, буду тратить все больше и больше сил в тщетной войне с ними, пока не запрусь навсегда в ванной и не погибну под толстым слоем косметики.
— Я буду любить тебя с морщинками, Лу.
— Спасибо за благие пожелания. Потом тебе придется любить меня согбенную, седую, с клюкой, потом мою память, а ты все будешь такой же элегантный, неподвластный времени, с заменяемыми частями. Нет, мистер Карсон, я выйду за вас замуж, только если мне разрешат стать иском. Женского пола, конечно.
На мгновение мне стало страшно. А если она не шутит? Неужели можно так любить человека, меня? Страх был томительный и одновременно сладостный.
— Лу, ты действительно готова стать иском?
— Конечно. Особенно если у них есть приличные женские модели. Честно говоря, мне бы не хотелось стать мужчиной. Потому что по натуре я чисто гаремная женщина. Мне бы укрыться за твоей спиной, сидеть дома, расписывать ткани и ждать своего повелителя…
Когда я провожал ее через три дня в обратный путь, я никак не мог заставить себя выпустить ее из объятий. Мне казалось, что сейчас она сядет в машину, чтобы поехать на аэродром, и я никогда больше не увижу ее, а жизнь без нее была абсолютно невозможна.
ГЛАВА 8
Луиза Феликс перелистала пухлый телефонный справочник. Ага, вот и клиника профессора Трампелла. Индепенденс авеню, 10.
Прошло уже два дня со времени ее возвращения из Ритрита, а она все еще ничего не могла придумать. Как выполнить просьбу Ники? Голова ее гудела от перебора вариантов, один нелепее и глупее другого. Как все это легко получается в детективных романах! Лечь, допустим, в больницу с какими-нибудь жалобами, выкрасть ключи от архива и ночью найти историю болезни Ники. Или очаровать самого профессора Трампелла. Нет, старец может оказаться неуязвим к самым изысканным чарам. К тому же Ники несколько раз повторил ей, что вся операция не должна ни у кого вызывать ни малейшего подозрения. Он абсолютно прав. Если профессор Трампелл как-то связан с Ритритом, любые расспросы, любые подозрения тут же насторожат его. И об этом узнают в лагере. А тогда… Луиза почувствовала, как по спине у нее пополз озноб.
В квартале от больницы она нашла уютный бар. Посетителей почти не было в это время, и бармен, тоненький и ушастый, похожий на летучую мышь, приветливо кивнул ей:
— Что вам, мисс?
— Стакан колы, если вам не трудно.
Летучая мышь похрустела льдом где-то в недрах стойки и протянула Луизе высокий стакан.
— Скажите, — Луизе показалось, что голос ее вдруг стал хриплым и каким-то каркающим, — у вас бывает персонал из больницы?
Летучая мышь настороженно округлила глаза.
— Из больницы? Какой больницы?
— Тут недалеко от вас клиника профессора Трампелла.
— А… к счастью, не был там. Говорят, это дорогое удовольствие. Страшно даже представить себе… Еще стакан, мисс?
— Нет, спасибо. — Луиза изобразила самую приветливую и простодушную улыбку, на которую была способна. — Понимаете, мне бы хотелось поговорить с кем-нибудь из персонала…
Летучая мышь пожала узкими плечиками.
— Боюсь, я вам помочь не смогу. Может быть, кто-нибудь из врачей или сестер и заходит сюда, но я их не знаю. Если бы они забегали в своих зеленых костюмчиках и халатиках, может, я кого-нибудь и приметил бы, а так — нет…
Луиза вышла из бара и медленно пошла по улице. Больница оказалась уютным зданием, которое проглядывало сквозь листву деревьев небольшого парка. Стараясь унять сердцебиение, Луиза прошла через парк и толкнула тяжелую дверь.
— Вы к кому, дорогая? — спросила ее суровая накрахмаленная сестра. Светлые волосы ее, видневшиеся из-под шапочки, казались сделанными из крашеной жести.
— Я не знаю, — как можно испуганнее пробормотала Луиза. Особенно стараться ей не пришлось. Сейчас суровая сестра усмехнется и скажет: «Ничего не выйдет, мисс Феликс. Мы видим вас насквозь».
Сестра действительно усмехнулась, но скорее снисходительно:
— Но все-таки, к кому-то или зачем-то вы пришли?
— Я хотела узнать, может быть, вам нужны уборщицы… — неуверенно пробормотала Луиза.
Сестра посмотрела на нее и вздохнула. Взгляд ее выражал неодобрение. Или она считала ее слишком модной для скромной работы, о которой спрашивала, или слишком глупой.
— Боюсь, дорогая, что мы ничего предложить вам не сможем. Впрочем, пройдите к старшей сестре. Кто знает, может быть, у нее есть какая-нибудь временная работа. — Сестра почему-то еще раз вздохнула, и Луизе почудилось, что при этом она жестяно хрустнула. — Пройдите вот сюда, по коридору до конца. Увидите на двери надпись «Старшая сестра». Ее зовут мисс Фэджин.
— О, спасибо большое, вы очень любезны, — пылко сказала Луиза, и накрахмаленная сестра царственно кивнула ей.
Дверь комнаты мисс Фэджин была распахнута. В комнате медленно плавали голубоватые облачка дыма, и сквозь них с трудом можно было рассмотреть маленькую женщину с сигаретой во рту. Она с яростью тыкала пальцем в универсальный информатор и списывала на листок бумаги какие-то цифры.
— Мисс Фэджин, — пробормотала Луиза, подходя к столу. Маленькая женщина предостерегающе подняла руку, прося Луизу помолчать, и продолжала сражение с информатором. Наконец она выпустила очередное облачко дыма и посмотрела на Луизу.
— Безумная работа! — выкрикнула она. — Вся больница на мне. Если мне еще поручат операции, я могу вполне работать тут одна! Это не больница, моя деточка. Это каторга, на которой я отбываю пожизненное заключение. Впрочем, это даже не каторга. На каторге можно иногда передохнуть. Это больше похоже на галеры. И знаете почему? — она снова повысила голос.
— Н-нет.
— Конечно, вы не знаете. Если я сама не знаю, откуда можете знать вы? — она вдруг усмехнулась и спросила уже спокойным голосом: — Вы ко мне?
— Д-да, мне сказали, может быть, у вас есть какая-нибудь работа, уборщица например…
— Зачем? — снова закричала маленькая женщина, судорожно схватила новую сигарету, прикурила и жадно затянулась. — Зачем вам это? Радуйтесь жизни, пока молоды, ругайтесь с мужем, бейте детей. Это прекрасно.
— С удовольствием бы, — Луиза позволила себе более осмысленную улыбку, — но у меня нет мужа и нет детей.
— И это прекрасно! — решительно воскликнула старшая сестра и взмахнула рукой, в которой держала сигарету, словно показывала Луизе, как прекрасен мир. — Свободна, как птичка! Огромное небо, лети куда хочешь. Или вы не хотите летать?
— Я не знаю, — пробормотала Луиза.
— Надо пробовать, надо летать!
— Да, но я оказалась сейчас в таком положении, когда мне нужны деньги…
— Это случается, — вздохнула мисс Фэджин. — Но неужели вы, с вашей внешностью, не можете найти работу более интересную, а? — Она вопросительно посмотрела на Луизу.
— Я… — Луиза опустила голову, — я болезненно застенчива, и потом я живу недалеко отсюда, на Санрайз-стрит…
Еще несколько таких разговоров, и можно будет подумывать о карьере в театре, подумала Луиза и с удивлением отметила, что чувствует себя все увереннее и увереннее. Впрочем, она всегда была такой. Она трусила лишь в самом начале, потом вдруг приходило спокойствие.
— Боже мой, какая прелесть! Застенчивый человек! Да вас показывать надо! За деньги! Я не видела застенчивой девушки уже лет двадцать. Да почему только девушки! Вообще застенчивого, деликатного человека. Хотя откуда им взяться? Кто-нибудь видел застенчивого тигра? Или деликатного льва? Не-ет, дорогая моя, в наших джунглях без клыков и когтей делать нечего. Даже нищенствовать. Потому что за хорошее место, где много прохожих и щедро подают, тоже надо сражаться. — Старшая сестра замахала руками, разгоняя дым. — Дайте-ка я вас получше рассмотрю. Как вас зовут?
— Аннабелла Брэнд, мисс Фэджин, — робко пробормотала Луиза. — Но друзья меня зовут Анни.
— Да-с, милочка, работы у меня, к сожалению, нет, но и отпустить такую девушку, как вы, грех. Тяжкий грех, о котором я всегда буду сожалеть. — Старшая сестра свирепо раздавила недокуренную сигарету в пепельнице и тут же вытащила из пачки новую. — Послушайте, — вдруг спросила она Луизу, — а вы умеете обращаться с информатором?
— Ну… у моих родителей была простенькая модель… Потом в школе…
— Как, вы еще и в школу ходили?
— Я кончила школу, мисс Фэджин, — Луиза позволила себе чуть-чуть оскорбленного достоинства.
— Тогда я вас не отпускаю. Больше всего на свете я ненавижу кошек и информаторы. Всех моделей. Да… одно маленькое обстоятельство. У вас, случайно, нет суицидального синдрома? Вы никогда не пытались покончить с собой?
— Н-нет, — пробормотала Луиза. — А это обязательно?
— Ого, милочка, у вас еще ко всему и чувство юмора… Гм… Если бы я не боялась развратить вас, я бы сказала, что вам цены нет. А насчет синдрома — боюсь, что вам придется работать в этой комнате, а от моего дыма гибнут даже мухи и тараканы.
— Эркондишен…
— Не выношу. Впрочем, ради вас я постараюсь курить поменьше.
— Спасибо, мисс Фэджин.
— Приходите завтра, милочка, я покажу вам, что делать. Ну-с, платить мы вам пока сможем… сто в неделю. Надеюсь, вас это устроит?
— Спасибо, мисс Фэджин. Я очень тронута. Но…
— Что, милочка?
— У вас есть сейчас какие-нибудь другие дела в больнице?
— Дела? — демонически рассмеялась старшая сестра. — У меня — и дела? Что-что — а это у меня есть. А почему вы спрашиваете?
— Мне хочется, чтобы вы ушли хотя бы на десять минут…
— Боюсь, милочка, что, если я выйду отсюда на минуту, раньше чем через час мне не вернуться. А почему вы хотите, чтобы я вышла?
— Я бы проветрила комнату и выкинула окурки. — Луиза поймала внимательный взгляд старшей сестры и торопливо добавила: — Мы не будем считать это за работу. Просто…
— Что «просто»?
— Мне хотелось бы… чтобы вы дышали не одним только дымом… Простите, — добавила Луиза, видя, как мисс Фэджин нахмурилась.
— Анни, милочка моя, вам этого действительно хочется?
— А для чего мне обманывать вас?
— Гм… логично. Просто это странно, когда кто-то пытается заботиться о тебе. Очень странно. Какое-то нелепое ощущение. А вы уверены, что я не заподозрю вас в заговоре?
— В заговоре?
— Против меня. О, вы и представить не можете, какие тут плетутся интриги. Дворец какого-нибудь магараджи показался бы детским садом.
— Я… Поверьте…
— Ладно, милочка, открывайте окно, выкидывайте окурки, я зайду за вами через пятнадцать минут, и мы спустимся вниз в кафетерий, выпьем по чашечке кофе. Если, конечно, никто не подослал вас отравить меня.
Голубовато-сизый дым протягивал в распахнутое окно толстые щупальца, и комната постепенно светлела. Луиза вытряхнула пепельницу на лист бумаги и сделала из нее аккуратный пакетик.
Забавное существо, подумала она о мисс Фэджин, а может, скорее не забавное, а трагическое. Если всю свою жизнь связать с подсчетом постельного белья, можно действительно закуривать себя насмерть и бояться интриг.
Какое счастье, что у нее есть Ники. Пусть такой, пусть другой, пусть за тысячу миль, но ее Ники. Ее опора, ее любовь. Господи, что я только не готова сделать ради него…
— Ого, основательно же вы, однако, выстудили комнату, милочка, — проворчала старшая сестра, подозрительно заглядывая в дверь. — Если вы собираетесь делать это регулярно…
— Не бойтесь, мисс Фэджин, — улыбнулась Луиза. — Только когда вас не будет.
Они шли в кафетерий, и старшая сестра кивала налево и направо, отвечая на почтительные приветствия.
— Знаете, Анни, сколько я уже на этих галерах?
— Лет десять?
— Десять! Двадцать два года! Когда я начала работать, профессор Трампелл был еще кавалером хоть куда, и все сестры млели, глядя на него. На редкость был привлекательный мужчина, знаете, такой стареющий лев, но лев, лев. — Мисс Фэджин улыбнулась светло и лукаво, и Луиза подумала, что старшая сестра, может быть, прослужила здесь двадцать два года именно из-за льва.
Льва, которого Ники теперь подозревает в страшной вещи. Но не надо сейчас ни о чем думать. Она уже внутри больницы, она уже сделала первый шаг, и теперь важно не торопиться и ничего не испортить.
Они пили кофе, и мисс Фэджин тараторила не умолкая:
— Вообще-то, наша клиника довольно дорогая. Большинство палат на одного или двух человек, но работы все равно невпроворот. Вы это увидите, милочка. К тому же поразительно капризные больные. И то не так, и постель не такая, и кормят не так, и телевизор не такой, и, конечно, лечат не так. А как их лечить, когда народ все в годах, не пациенты, а ходячие или лежачие медицинские энциклопедии. Помню, я начинала работать в муниципальной больнице, совсем другое дело. Больница была для бедных. Так пациенты даже умирали там с улыбкой, не веря своему счастью: попасть в бесплатную больницу…
К их столику подошла высокая, элегантная женщина.
— Привет, Дженни, — сказала она.
— Привет, Айлин, — ответила мисс Фэджин. — Это Анни, моя новая помощница. Анни, это мисс Ковальски, секретарь шефа.
Луиза встала, пожимая протянутую руку. Секретарь профессора Трампелла. Вот кто мог бы спокойно заглянуть в архив. Не торопиться. Один неверный шаг — и жизнь Ники будет в опасности.
— Ты не возражаешь, если я подсяду к вам? — спросила мисс Ковальски у старшей сестры. При этом она взглянула на Анни и едва заметно усмехнулась.
— Я давно уже никому не возражаю, — как-то странно сказала мисс Фэджин, и Луизе показалось, что обе женщины не слишком жалуют друг друга.
Через неделю она уже знала, что не ошиблась. Старшая сестра и секретарь профессора Трампелла были заклятыми врагами. Они ненавидели друг друга пылко и страстно, и вся больница с удовольствием следила за их молчаливой войной.
— Что ты хочешь, — просвещала ее хирургическая сестра Фанни, с которой она познакомилась в кафетерии, — твой Паровоз…
— Паровоз?
— Ну, так все зовут мисс Фэджин за ее сигареты. Говорят, она курит даже во сне, не просыпаясь. Так вот. Паровоз двадцать лет назад была, по слухам, в довольно близких отношениях с шефом. Говорят, она была недурна в то время. Сейчас и не подумаешь, что может найтись мужчина, который обратил бы внимание на нее, но двадцать лет — это двадцать лет. Тридцать и пятьдесят — большая разница.
— Фанни, мне тридцать лет, и ты заставляешь меня содрогаться от ужаса…
— И содрогайся. Но главное — не теряй зря время. Не успеешь оглянуться, сама будешь паровозом.
— Ты говоришь со мной, как старушка. Сколько тебе?
— О, я уже немолода, — засмеялась Фанни, — мне исполнилось на днях двадцать шесть лет.
— Почтенный возраст.
— Я хоть стараюсь не терять времени даром…
— Поучишь меня?
Фанни прищурилась и критически осмотрела Луизу:
— Сдается мне, Анни, дорогая, что особенно учить тебя нечему. — Они посмеялись.
— Так ты говоришь, что Паровоз и секретарь шефа…
— Это все знают. Паровоз до сих пор, наверное, считает, что шеф принадлежит ей, хотя он принадлежит уже на три четверти господу богу. Но она ненавидит эту надутую куклу Ковальски острой ненавистью. Ну, а та, естественно, отвечает ей взаимностью.
Через несколько дней, выходя после работы из больницы, Луиза столкнулась с секретарем шефа. Та приветливо улыбнулась ей:
— Ну как вам у нас нравится? Вы не торопитесь?
Боже, какая удача! Она часами ломала себе голову, думая, как бы заговорить с этой женщиной, а та сама обращается к ней. Не потому, конечно, что она вдруг вызвала ее симпатию. Наверное, в их войне каждая пешка на учете. И если у мисс Фэджин появилась новая помощница, то мисс Ковальски сочла своим священным долгом переманить ее в свой лагерь.
— О нет, мисс Ковальски, я хотела немножко пройтись, сегодня чудная погода.
— Вот и прекрасно. Мы можем пройтись вместе. Если, конечно, я не нарушаю ваши планы.
— Что вы, меня никто не ждет, я никуда не тороплюсь.
Они шли несколько минут молча, потом вдруг секретарь профессора Трампелла сказала:
— Надеюсь, вас уже просветили по поводу того, какая я змея и как я эксплуатирую бедного старика?
— Не понимаю, о чем вы говорите, мисс Ковальски, — сказала Луиза, и сердце ее забилось от возбуждения. Только бы правильно сыграть роль.
— Вы вежливый человек, Анни, — усмехнулась мисс Ковальски, — но вы попали в гадючник. Иногда мне кажется, что я слышу змеиный свист и шорох ползущих гадов. Казалось бы, больница, учреждение, где человеческие страдания, смерть должны делать людей чище, лучше. Куда там! Клубок всех пороков: зависти, недоброжелательства, подозрительности, ревности. Ваша милая мисс Фэджин твердо уверена, что я отбила у нее любовника и что, если бы не я, старик стоял бы на коленях перед ней. Во-первых, я не уверена, обращал ли он вообще когда-нибудь на нее внимание. Во-вторых, двадцать лет назад они оба были на двадцать лет моложе. В-третьих, я работаю здесь всего шесть лет, и у меня никогда не было никаких отношений с профессором Трампеллом кроме чисто служебных. Вы верите мне?
— О господи, мисс Ковальски, какие я имею основания не верить вам?
— Вы кажетесь мне милой и интеллигентной женщиной. Вы только что попали в наше заведение, и мне было бы неприятно, если у вас сложилось превратное мнение обо мне.
— О, мисс Ковальски, как вы можете подумать такое? Вы… Вы такая элегантная… В вас столько… внутреннего достоинства… Я не верю, что у кого-то может повернуться язык сплетничать о вас…
Секретарь шефа усмехнулась:
— Вы добрая девушка, но не будьте наивны. Те качества, которые вы так любезно приписываете мне, — идеальная мишень для сплетен. Клевета и сплетни не обращают внимание на посредственность и серость. Их как магнитом притягивает все то, что не похоже на них. А вы говорите: язык повернуться не может… Еще как может! Считается — и вы можете догадаться, кто один из авторов информации, — что я имею какие-то виды на профессора Трампелла. На печального семидесятилетнего человека, у которого осталось так мало сил… — мисс Ковальски вздохнула, и Луиза подумала, что информация, может быть, не так уж и фантастична. — Заходите ко мне, Анни, вы не представляете, как иногда бывает тяжело ощущать вокруг себя атмосферу ненависти и зависти. Недавно я была с дочкой брата в зоопарке. Боже, какими милыми и доброжелательными казались мне все эти львы, тигры, пантеры! Да если б можно было, я спокойно вошла в их клетки. После наших милых сплетниц это вовсе не было бы подвигом. Так зайдете ко мне? Хорошо?
— С удовольствием, мисс Ковальски! — воскликнула Луиза.
«Что они, помешались тут на хищниках? — подумала Луиза. — Мисс Фэджин говорила мне о деликатных львах и тиграх, и этой звери кажутся даже милыми и доброжелательными».
— И пожалуйста, зовите меня, если вам не трудно, Айлин. А то, когда я слышу от вас «мисс Ковальски», я начинаю чувствовать себя почти что ровесницей шефа. Обещаете?
— Да, Айлин.
— Спасибо. И поднимайтесь ко мне почаще.
ГЛАВА 9
Через несколько дней Луиза зашла в конце рабочего дня в комнатку, где сидела Айлин.
— О, Анни, заходите, — обрадовалась секретарь шефа, — я уж думала, что мисс Фэджин приковала вас к столу. Вы еще не задохнулись там?
— Пока еще нет. Мисс Фэджин разрешает мне время от времени проветривать ее кабинет.
— Неслыханно! — усмехнулась Айлин. — Какая доброта! Кто мог бы ожидать от нее такое…
— Как у вас тут чисто и спокойно, — вздохнула Луиза.
— Я стараюсь поддерживать элементарный порядок.
— Но у вас столько работы, Айлин, я даже не представляю, как один человек может с ней справиться. У мисс Фэджин тоже много работы…
— Ах, ее работа! Пересчитывать постельное белье…
— А вы должны вести всю переписку шефа, следить за расписанием его дня, регулировать поток посетителей, следить, чтобы архив был в порядке…
— Если бы только это! Вы представляете, что такое кабинет руководителя клиники? Это нервный узел, куда поступает постоянно тысяча сигналов. До больницы я работала в фирме, которая занимается прокатом автомобилей. Очень, хлопотная и суетливая работа. Я и пошла в больницу, чтобы было спокойнее. Подальше от постоянных стрессовых ситуаций. И попала из огня да в полымя. Здесь, конечно, не выдают машины напрокат, но напряженных ситуаций бывает не меньше, поверьте мне! И поскольку я секретарь шефа, я все время оказываюсь в центре всяческих кризисов, которые надо ликвидировать. Вот в чем моя главная работа, и поверьте, она заставляет постоянно быть начеку. А вы говорите, старшая сестра много работает…
— А если требуются какие-нибудь справки о больных, о выписавшихся, об умерших, а они, наверное, всегда требуются, их тоже выдаете вы? — с благоговейным ужасом спросила Луиза.
— Мне кажется, я бы сошла с ума от такой ответственности.
— Их тоже выдаю я, — с шутливой скорбью Айлин развела руками.
— Но как вы все помните?
— Ну, девочка моя, не делайте из меня компьютер. Во-первых, я получаю справки от информатора. Вот, смотрите, например, недавно у нас лежал вице-президент «Дженерал фуд». Знаете, их эмблема — улыбающийся огурец, да вы его сто раз видели. Уолтер Д.Пирра. Я имею в виду огурец, а не его. Вот я набираю его имя, видите, и тут же на дисплее информатор мне подсказывает: поступил, диагноз, лечение, выписался. Если нужны подробности, я могу посмотреть историю болезни в архиве.
— Это вам нужно еще бежать куда-то, — покачала головой Луиза.
— Ну, бежать, положим, никуда не нужно. Вот шкаф. Я открываю его и достаю папочку. Маленькую старомодную папочку с историей болезни.
— О боже, какая все-таки ответственность! — сокрушенно покачала головой Луиза. Сердце ее билось, и она все время мысленно заклинала себя: только не торопись, только не торопись!
— Не преувеличивайте, Анни, не преувеличивайте, вы все время смотрите на меня с таким ужасом, как будто я лично отвечаю за здоровье всех больных. Это наша мисс Фэджин считает, что вся больница держится только на ней. У меня есть знакомый психиатр, так он говорит, что это типичный случай мании величия. Я не удивлюсь, если в один прекрасный день она вдруг вообразит, что должна лично возглавить клинику. Впрочем, я говорю глупости. Она уже так думает. Ладно, хватит о ней. Пойдемте лучше домой, уже пора, тем более профессора сегодня нет. Бедняге немножко нездоровится.
— Спасибо, Айлин, но мне еще нужно кое-что сделать внизу.
— Луиза вся напряглась: запрет она дверь или оставит ее открытой? Вдруг ее пронзил страх. Конечно, запрет. — А… вы разрешите мне…
— Что, Анни? — Айлин повернулась и посмотрела на Луизу.
— Вы… Вы такая… необыкновенная женщина, — пробормотала Луиза, — вы мне так нравитесь…
— Вы тоже мне очень симпатичны, — серьезно сказала Айлин, — может быть, вы как-нибудь придете ко мне вечерком, а?
— С удовольствием! Но разрешите мне хоть что-то сделать для вас. Разрешите, я как следует уберу ваш кабинет. Смотрите, сколько пыли оставляют эти ленивые уборщицы!
— Ну что вы, милая, бог с ней, с пылью…
— Нет, нет, дорогая Айлин, мне хочется хоть так выразить свое восхищение вами!
На скулах мисс Ковальски выступили красные пятна. Она глубоко вздохнула, положила руки на плечи Луизы и поцеловала ее.
— Вы милая, восторженная девочка. Боюсь, вы слишком наивны для нашего жестокого мира. Но если вам так хочется, приберитесь, ради бога, только смотрите, чтобы ваш Паровоз не узнал, она никогда не простит вам. До свидания, Анни.
«Ну вот, теперь я почти у цели. Но почти. Прежде всего запереть дверь», — подумала Луиза.
Стараясь унять гулко колотившееся сердце, она спустила защелку и плотно закрыла дверь. Язычок замка сочно чмокнул, входя в паз.
Информатор? Нет, там ничего интересного не будет, подумала Луиза. В каком шкафу архив? Она как будто показывала на этот… Да, на этот. Она потянула дверцу. Ну конечно же, заперта. Луиза почувствовала, что вот-вот заплачет. Господи, играть, играть, лестью завоевывать этих мегер и в последнюю секунду оказаться перед запертым шкафом. На мгновение ее охватило глубокое отчаяние, она не могла вздохнуть, словно грудь спеленали тугими бинтами. Медленно, бесконечно медленно, по глоточку, она ухитрилась втянуть в легкие порцию воздуха. Только не терять головы. Быть в полуметре от цели, к которой ее послал Ники, и потерять голову — это было бы непростительно.
Спокойно, Лу, спокойно, глупенькая. Подумай, где-то ведь должны быть ключи. Вряд ли мисс Ковальски таскает их каждый день домой. А если ключи здесь, где они могут быть? Конечно, в столе.
Она открыла верхний ящик. Губная помада, зеркальце, ножницы, аккуратная стопка бумаги. Второй ящик не открывался. Этот-то заперт. Что она там держит, эта змея? Пистолет, чтобы отстреливаться от мисс Фэджин в схватке за шефа? Ей вдруг стало смешно, так живо она представила себе, как мисс Ковальски целится сквозь клубы сизого дыма в маленькую старшую сестру. Стоп, одернула себя Луиза. Не отвлекаться. Это уже похоже на начало истерики. Оставшиеся ящики были незаперты, но ключей в них не было. В них был лак для ногтей, еще одно зеркальце, карандаши, ручки, диктофон, бумага, все, что угодно, кроме ключей.
Ну конечно, так должно было быть. Слишком просто все у нее получилось. Она вытащила из ящика длинные канцелярские ножницы. Можно было, конечно, попытаться открыть шкаф или ящик, всунув длинные лезвия ножниц, но это было опасно. О следах взлома мисс Ковальски, естественно, доложит… А как только они начнут искать Анни Брэнд, выяснится, что она дала неправильный адрес, что никакой Аннабеллы Брэнд там нет, и все это может попасть в полицию. А если они найдут ее и как-то свяжут с Ники? Нет, нет, ни в коем случае.
Она в отчаянии уцепилась за ручку закрытого ящика и дернула изо всех сил. Ящик открылся, и она шлепнулась на пол. Он даже не был заперт, просто его, очевидно, заедало. В ящике лежали ключи. Сердце ее колотилось, руки дрожали. Она понимала, что ничего страшного с ней произойти не может, никто в комнату не зайдет, а если и зайдет, ничего не заметит, но ничего не могла поделать с собой. Быть такой трусихой… Она вдруг страшно рассердилась на себя: Ник поручил ей найти историю болезни, и она выполнит его просьбу. И плевать ей на страх, на противный озноб, колотящееся сердце. Она вытерла тыльной стороной ладони вспотевший лоб и взяла связку ключей.
Этот не подходит, и этот, и этот. Ага, этот. «Ники, — послала она телепатическую телеграмму, — Ники, любимый, можешь гордиться мной». Ключ легко повернулся, и в этот момент Луиза услышала шорох вставляемого в дверь ключа. Сердце ее остановилось на мгновение и тут же, пришпоренное ужасом, понеслось вскачь. Она стояла, не в силах пошевелиться.
Дверь медленно открылась, и в комнату ввалилась пожилая уборщица с ведром и тряпкой в руках. Она увидела Луизу, вздрогнула, тихонько вскрикнула, но тут же узнала ее:
— А, это вы… Господи, как я перепугалась…
— Мисс Ковальски просила меня помочь ей тут немножко, — забормотала Луиза, чувствуя, как дрожит ее голос. — Да вы не беспокойтесь, я потом заодно и приберусь. Внизу у меня есть и ведро, и все, что нужно.
— Ну и тем лучше, — вздохнула уборщица и сделала шаг к двери. Она была колченога и ныряла при каждом шаге, как поплавок. — Ох и напугали вы меня, — еще раз пробормотала она и покачала головой. — Открываю, а тут человек. Я вас сразу и не признала… Ну, думаю, грабители. Вы не смотрите, что у нас больница и взять вроде нечего. За один прошлый год раза три влезали. А может, и больше. И знаете зачем?
— Зачем?
— Наркотики, вот зачем. Кто уж к наркотикам привык, тот не только что в больницу — на тот свет в ад, в котел с кипящей смолой полезет, лишь бы только добыть себе снадобье. Вы уж мне поверьте. Я так младшего сына потеряла… — Старуха торопливо шмыгнула носом, словно боялась, что Луиза не захочет больше слушать. — Парень был хоть куда. И вот пожалуйста, помер в двадцать девять лет. Нашли на лестнице. Смертельная доза… — Она прерывисто вздохнула и посмотрела на Луизу: — Может, все-таки я…
— Да вы не беспокойтесь, все нормально, я здесь уберу.
— Как хотите, — почему-то обиделась уборщица. — И пыль не забудьте вытереть. Эта Ковальски — такая вредная баба… Ну ладно, я пошла.
Уборщица нырнула, вынырнула и закрыла за собой дверь. Ноги никак не хотели держать Луизу, и она села за стол Айлин. «О господи!» — прошептала она. Через мгновение она встала и открыла шкаф. Что там ни говори, а содержала архив мисс Ковальски в образцовом порядке. Вот ящик с «К». Калли, Карлуччи, Карсон Николас.
Диагноз: рак легкого с множественными метастазами. Установлен при обследовании при помощи теста Маямото, причем пункция делалась дважды, теста Чердынцева при анализе крови и томограмм.
Поступил… в состоянии комы… лечащий врач — профессор Трампелл. Смерть наступила в результате… Патологоанатомическое вскрытие, произведенное профессором Трампеллом, подтвердило диагноз.
Луиза вытащила из конверта цветные слайды томограмм. Стрелки, сделанные фломастером, грозно упирались в зловещие пятна. На общем снимке на правой руке виден был металлический штифт в кости. А Ники никогда не говорил, что у него был перелом.
Вот, собственно, и все. Луиза почувствовала, как охотничье возбуждение покидает ее. Было холодно и печально. Можно было сколько угодно храбриться и уверять Ника, что он стал ей еще милее, но что-то умерло вместе с этим несчастным телом, которое просвечивало на цветном слайде.
Ей хотелось плакать. Усилием воли она заставила себя прочитать историю болезни еще и еще раз. Ник строжайше запретил ей что-либо записывать. Кто знает, может быть, при следующем посещении они обыщут ее, и найденная копия истории болезни сразу насторожит их. Боже, что за мир, когда каждый шаг приходится рассчитывать, когда за каждым углом чудятся шпики, когда единственный на свете близкий человек где-то за тысячу миль от тебя, странный, чужой, холодный. Нет, нет, это все чепуха, испуганно поправила себя Луиза. Странный — может быть. Не так ведь легко привыкнуть к молодому незнакомому лицу. Но чужой и холодный — нет, это неправда. Это совсем неправда. Куда бы там ни переносили его мозг, душу, пока что он любит ее так же, как раньше. А может, еще больше. Она сейчас нужнее ему, чем раньше. А значит, он не чужой и не холодный.
И мысль эта постепенно успокоила ее. Она аккуратно сложила все в конверт, конверт положила в папочку со словами «Николас Карсон». Нет, нет, нельзя так грешить против судьбы, как она это только что делала. Если бы не фонд Калеба Людвига, не ждал бы ее сейчас Ник, не называл бы ее маленькой бедной обезьянкой, не утыкался бы носом в ее волосы. Тоненькая папочка — вот и все, что осталось бы после него. И то, наверное, ненадолго. Не вечно же они хранят эти папочки. Да и кому они нужны, жалкие следы бесчисленной армии, постоянно отступающей в небытие? Если бы Ник действительно умер, она не пережила бы. Все так говорят, и все великолепно все переживают. Но только не она. Не приспособлена она к жизни в огромном, пустом и враждебном мире. И только Ник помогает ей.
Она никак не могла восстановить в памяти свою жизнь до знакомства с Ником. Конечно, она ходила, ела, что-то кому-то говорила, но не жила. Только Ник дал ей полноту самоощущения. С ним она впервые осознала себя. Он был как бы проявителем, и все лучшее, что было запрятано где-то в тайниках ее натуры, он умел вытягивать из нее.
Она вздохнула и пошла вниз за ведром и тряпкой.
Надо выполнить свое обещание. Надо вообще проработать в этом гадючнике еще несколько дней, чтобы ее уход никак не связывался с этим вечером.
Всю дорогу от маленького аэродрома в Дарли до Ритрита она изнывала от тропической жары, хотя опустила стекла. Горячий воздух врывался в машину, не принося прохлады.
— А я еще помню, когда в машинах были кондиционеры, — пробормотал водитель. — Тогда еще ездили не на аккумуляторах, а на бензине. Помню, я совсем мальчишкой был, у отца в машине чего только не было. «Форд» был, здоровый такой, не то что сейчас…
А здесь, в гостевом домике, было прохладно, и Ник смотрел на нее таким восторженным взором, так пристально, так впитывал в себя ее черты, что ей стало даже стыдно немножко. И за что он ее так любит? В конце концов, она всего-навсего обыкновенная женщина. Не очень умная, скорее даже с куриными мозгами, пассивная.
— Ники, — пробормотала она, — почему ты так…
— Что «так»?
— Так… ну… любишь меня?
— А зачем это вам знать, мисс Феликс? — подозрительно спросил Ник.
— О, я тогда буду развивать в себе качества, которые вам нравятся, и подавлять остальные.
— Пожалуйста, мисс Феликс, ничего не меняйте в модели, которую я выбрал. Не улучшайте и не ухудшайте ее. Она меня устраивает в ее нынешнем виде.
— Как вам угодно, — мистер Карсон, — тоном энергичной продавщицы сказала Луиза, — мы хотели предложить вам усовершенствованную модель, но, разумеется, мы не настаиваем.
— Лу, как ты думаешь, почему я так люблю болтать с тобой?
— Ну, наверное, я очень интересный собеседник, очень развитой человек…
— Нет, Лу, я должен разочаровать тебя и сделать одно очень важное признание. Мне бы, честно говоря, не хотелось этого делать, но мы поклялись быть честными друг с другом, и я ничего не могу скрыть от тебя. Впрочем, если ты не хочешь…
— Говорите, Николас Карсон. Я готова к худшему.
— Поверь, любовь моя, мне тяжело говорить…
— Смелее.
— Хорошо, — вздохнул Ник. — Скажу. Мне просто нравится смотреть, как у тебя двигаются губы, когда ты говоришь.
— А что именно я говорю — это не имеет значения?
— Боюсь, что нет.
— Значит, я могу просто повторять алфавит?
— Ради бога. Если ты его, конечно, знаешь, любовь моя.
Потом, ближе к вечеру, они отправились побродить по Ритриту, и Луиза, счастливо улыбаясь, сказала:
— Ник, я выполнила твою просьбу.
— Я боялся тебя спросить. Тем более, что в доме сделать это было нельзя. Как тебе это удалось?
Луиза рассказала про мисс Фэджин и мисс Ковальски, а Ник с недоверчивой восторженностью покачивал головой.
— Вот так я добралась до твоей истории болезни.
— Только ничего не упускай, заклинаю тебя.
— Я знаю ее наизусть, — обиженно сказала Луиза и начала пересказывать все, что было на конверте.
Внезапно она почувствовала, что Ник импульсивно сжал ее руку.
— Повтори, — коротко сказал он.
— Причем пункция делалась дважды…
— Ты знаешь, что такое пункция?
— Ну, по-моему, это прокол.
— Это не только по-твоему. Это именно так.
— И что же тебя взволновало?
— Никаких пункций мне не делали. Ни единожды, ни дважды. Ну ладно. А рентгеновский снимок?
— Не рентгеновский снимок, а цветные такие пленки, томограммы.
— Ну?
— Их три. И на всех на них стрелки показывают на коричневые затемнения. Это твои томограммы. Ты можешь не сомневаться, Ники.
— Почему ты так уверена?
— Потому что на общем снимке есть, как говорят, полицейские, особая примета.
— Какая?
— У тебя был перелом правой руки, и на снимке отчетливо виден металлический штифт.
— Не останавливайся, Лу, и не давай мне остановиться. И не пугайся, если улыбка у меня кривоватая…
— В чем дело, милый?
— В том, что у меня никогда не было перелома и никакого металлического штифта в руке у меня нет. Поэтому семидесятилетний профессор, руководитель и владелец клиники вдруг взваливает на себя бремя лечащего врача. И патологоанатомического вскрытия. Он никому не мог доверять.
— Потому что…
— Потому что никакого рака легкого у меня не было.
Она поверила сразу и безоговорочно, как всегда верила ему.
— О Ники, это ужасно!
— Улыбайся, Лу, улыбайся. Если они способны на такое, они способны на все. Я уверен, что кто-нибудь сейчас следит за нами… Улыбайся…
Это было страшно. Ник говорил ей, что у него обманом выкрали тело, и при этом улыбался. И нельзя было понять, что страшнее: то, что случилось, или улыбка, не сходившая с его лица.
— Что же делать, Ники?
— Не знаю, Лу, пока не знаю. Но я должен узнать. Я должен взглянуть профессору Трампеллу в глаза и задать ему несколько вопросов. И пусть он опустит голову. И я буду смотреть на его розовый детский скальп, просвечивающий сквозь реденькие седые волосы. И не во мне, а в нем будет стоять страх. О Лу, ты не, представляешь, сколько раз я прокручивал в голове эту сцену. О, я не буду торопиться. Я буду терпеливо ждать, пока страх не заставит его дергаться. И он подымет голову.
— Но, Ники, ты понимаешь…
— Это ты должна понять. Я должен это сделать. Должен.
— О бедный Ники…
— Можешь не сомневаться, я это сделаю.
ГЛАВА 10
Антуан Куни обвел взглядом амфитеатр торжественной подзарядки и сказал:
— Друзья мои, сегодня мне хотелось бы поговорить с вами на очень важную тему. Та метаморфоза, которая произошла со всеми нами, кто сидит сейчас здесь, оставила страшные рубцы на наших душах. И постепенно привыкая к новой жизни в Ритрите, мы все время подсознательно сравниваем себя с теми, кем и чем мы были в той жизни. — Куни едва заметно усмехнулся при слове «той», давая понять, что понимает иронию выражения. — Подобно иммигрантам в новую страну, мы долго ведем счет по старым меркам: как было там и как теперь здесь. Нам было порой мучительно грустно, порой нас охватывала печаль. Воспоминания накатывались на нас яркими снами, и в воспоминаниях о той, уже недоступной нам теперь жизни мы казались себе лучше, ярче, счастливее…
Антуан Куни замолчал и опустил голову.
— Мне нужно с тобой поговорить, — прошептал я сидевшему рядом со мной Тони Баушеру.
— После подзарядки?
— Хорошо. Тш-ш, на нас смотрят…
Вдруг проповедник с силой распрямился, высоко и гордо вскинул голову.
— Я хочу задать вам вопрос, друзья мои. Очень простой вопрос: а не пора нам перестать чувствовать себя неуверенными иммигрантами? Не пора ли нам понять, что не той, старой жизнью должны поверять мы себя сегодня? Мы провозвестники новой цивилизации, мы пионеры ее, и на новом витке спирали истории мы стоим одиноко и гордо, как выброшенный далеко вперед разведывательный десант.
Не нам завидовать миллионам и миллиардам узников, кого слепая эволюция заточила в хрупкие клетки-тела, кого на каждом метре их жизненного пути подстерегают в засадах болезни, старость, смерть.
Мы вырвались из биологического плена, из кошмарного и безысходного плена обычной белковой жизни. Нас не подстерегают больше болезни, и страх неизбежной смерти больше не держит наши души на якоре отчаяния. Мы свободны и бессмертны, и ничто ныне не мешает нам воспарить в высоты, недоступные смертным. Или доступные лишь избранным. Тем, кто мощью духа и интеллекта умел заставить себя на мгновение подняться над тщетой бытия.
Фонд Калеба Людвига дал нам не просто тела, стоящие каждое по миллиону. Тела, дающие нам возможность двигаться с такой же, если не большей, ловкостью, чем в той жизни. Фонд дал свободу нашему духу, и наш долг — научиться пользоваться этой свободой. О друзья мои, я знаю, как страшится человек свободы. Только на словах жаждет он ее. Потому что свобода — это прежде всего ответственность, тяжесть выбора, мучительная необходимость самому прокладывать курс в безбрежном море свободы. Мы свободны, и мы должны научиться преодолевать в себе подсознательный страх этой свободы. О, я вижу с трудом сдерживаемые саркастические улыбки на некоторых лицах: хороша свобода, если мы живем в охраняемом лагере, если жизнь наша регулируется и направляется советом!
Друзья мои, и я почувствовал бы всю убийственную иронию своих слов, если бы не знал, что Ритрит лишь временное наше пристанище. Пока общество не привыкнет к идее исков — этих провозвестников новой жизни. Потом, когда мы выйдем отсюда, нам будет нелегко. Карьера пророка никогда не была особенно спокойной и комфортабельной. Не один из нас будет забросан камнями, если пользоваться библейским выражением, а может быть, и вполне будничным. Что делать, те, кто непохож, всегда вызывают страх, подозрение и ненависть у невежественной толпы. Мы будем проходить по улицам, и мальчишки будут улюлюкать нам вслед, мужчины будут грозить кулаками, а женщины — отплевываться: тьфу, тьфу, тьфу, вот они, бессмертные иски, будь они прокляты…
И неважно, что мы будем смиренны и будем обращать к ним слова любви. Все равно инстинктивная ненависть долго будет лежать между нами и ними и непроходимым рвом.
Но пионеры все равно должны идти вперед. Иски — это не механические монстры, которых показывают на ярмарках, не жалкие уродцы, при виде которых матери инстинктивно прижимают к себе детей. Мы — пионеры новой, более высокой цивилизации. Цивилизации, которая будет свободна от страха смерти, от жалкой старости, от болезней. И освобожденный дух наш подымется к высотам, о которых всегда мечтали лучшие люди.
Я думаю о покойном Калебе Людвиге. Я часто задаю себе вопрос: понимал ли он всю грандиозность задачи, которую он поставил перед своим фондом? И инстинктивно чувствую, что да, понимал. Иначе он не торопился бы так, создавая Ритрит и создавая нас. Да, да, создавая, ибо это его волей, его упорством и его деньгами живы мы все сегодня…
Я шел рядом с Тони и думал о том, как совместить пьянящие слова красноречивого Антуана Куни и водянистый страх в глазах профессора Трампелла, который выносил заведомо ложный смертный приговор ни в чем неповинному человеку. О, Куни был неглуп! Постепенно, исподволь заряжал он нас гордыней, почти религией. Он внушал нам сознание избранности, а сознание это — опасная штука. Оно как болезнь, от которой трудно избавиться. Можно сто раз произносить заклинания о равенстве и братстве, но что-то внутри нас, некая потайная гордыня всегда с жадностью ухватывается за привилегию избранности. За право смотреть на других с жалостью и презрением. О, людям не приходится долго искать, что бы такое возненавидеть в ближнем: католики косятся на протестантов, протестанты издеваются над католиками; атеисты презирают верующих, верующие — атеистов; богатые смотрят сверху вниз на презренные армии нищих, нищие уговаривают себя, что презирают богатство. Да что люди! Даже собаки играют в ту же игру. Каким взглядом окидывает на улице аристократический дог безродную собачонку…
И если бы не фокусы памяти моего друга Тони Баушера, подсунувшей ему коротенькое воспоминание о бегущем по снегу человеке, кто знает, что бы мы чувствовали сегодня. Может быть, мы бы аплодировали Антуану Куни, возносили хвалу покойному истребителю лесов Калебу Людвигу и стояли восторженно на коленях перед советом директоров фонда и смотрели сверху вниз на простых смертных. Смертных в прямом смысле.
Но у нас была защита против гипноза проповедника, как бы ловко он ни жонглировал соблазнительными словами: бег Тони Баушера на перебитых ногах и чужой металлический штифт в моей якобы руке.
Может быть, тела исков — это действительно шаг вперед к какой-то новой цивилизации. Но я не верю в цивилизацию, которая начинается с воровства и обмана. А нас обманули, одурачили и обокрали. Пусть вместо украденного нам дали даже нечто более ценное — все равно это была кража.
Мы шли по южной оконечности Ритрита, где было меньше всего шансов встретить кого-нибудь. Небо выцвело от зноя, ветер закручивал в пустыне легкие песчаные смерчики, но меня меньше всего интересовал пейзаж.
— Твоя память не подвела тебя, друг Тони, — тихонько сказал я. Тони вздрогнул и бросил на меня быстрый взгляд.
— Ты что-нибудь узнал?
— Да, небольшой пустячок. У меня не было никакого рака легкого и никаких метастазов.
— Не может быть, — пробормотал Тони, — а как же история болезни, анализы…
— Удивительные мы существа, — невесело рассмеялся я. — Ты твердо веришь в свои якобы перебитые ноги, но цепляешься за какие-то истории болезней, когда речь заходит о других. Но в отличие от тебя я полагаюсь не на память. В отличие от тебя я знаю. — Слово «знаю» я произнес с таким убеждением, что Тони вздрогнул и посмотрел на меня.
— Что значит «знаю»? Как ты можешь знать?
Я коротко рассказал ему обо всем. Я был уверен, что он обрадуется. Наконец-то. Наконец-то он перестанет сомневаться. Он приобретет уверенность. Он пожмет мне руку и скажет: «Спасибо, Ник. Ты развеял все мои сомнения». Мне казалось, что он тут же взорвется, задаст мне тысячу вопросов, начнет строить планы каких-то действий. Но он шел молча, опустив голову на грудь.
— Знаешь, Ник, — вдруг задумчиво сказал он, — я, конечно, благодарен тебе за откровенность. За то, что ты подтвердил то, в чем я был почти уверен. Но я ловлю себя на мысли, что я не рад этому.
— Почему, Тони? — спросил я, хотя мог бы и не спрашивать. Я уже догадывался, что он ответит мне. Хотя бы потому, что и сам переживал нечто подобное.
— Пока я полагался только на свою память, всегда оставалась лазейка, что это галлюцинация, фантом. И я не мог ничего делать. Нет, не то… Я не мог заставить себя идти на страшный риск только из-за того, что могло оказаться лишь иллюзией. А златоуст Куни прав: ловишь себя на том, что уже чувствуешь себя избранником. И жизнь спокойна. И страсти обходят Ритрит где-то стороной, и суета. И маленькая лаборатория уютна. И полусумасшедшая Рут Дойчер забавна. И кто знает, может быть, мне это действительно примерещилось, этот бег по заснеженному полю? Тем более здесь, в этой жаркой каменистой пустыне, даже снежинку себе трудно представить, не то что заснеженное поле.
И вдруг приходишь ты и говоришь, что это все-таки не иллюзия, не фокусы памяти. Ты представляешь доказательства, что это правда. Потому что, если ты был здоров и у тебя обманом украли тело, нет ни малейших сомнений, что то же самое произошло и со мной. Металлический штифт в твоей томограмме и мое занесенное снегом поле дополняют друг друга. Они уже не оставляют места для сомнений, как бы подсознательно ни цепляться за них.
И что теперь? Страсти уже не обходят Ритрит стороной. Я был центре тайфуна. Трудно чувствовать себя избранником, которого не избирали, а похитили, нагло выкрали средь бела дня. И лаборатория перестает быть уютной. И кто знает, может быть, рыжая Дойчер вовсе не забавна и не безумна, а шепчет то, чего нельзя не видеть. И что видел исчезнувший без следа Сесиль Стром… И нужно разрушать только что построенный уютный мирок, который так трудно было обживать. Нужно воевать с собой, со своей инерцией. Потому что мы уже набрали здесь определенный момент инерции… Знаешь, последние годы у меня были довольно скверные отношения с женой. Нет, пожалуй, даже не скверные. Мы просто постепенно и постоянно отходили друг от друга. Теория дрейфующих материков. Пока вдруг не поняли, что вовсе не нужны друг другу. И тем не менее мы не разъединились.
— Почему?
— Об этом я и говорю. Момент инерции. Страх перед переменами. Душевная лень. Конечно, я не признавался себе тогда в этом. Я говорил, что Рин — это моя дочка — нуждается во мне. Хотя она умница и не могла не видеть наши отношения…
— Тони, — тихонько сказал я, — прости, что вытаскиваю тебя на мороз. Память бывает эластична, еще эластичнее совести. Я тебя не уговариваю и не подбиваю. Я должен уйти. Я должен взглянуть в глаза профессору Трампеллу и должен попытаться понять, кому и для чего все это было нужно. Такой уж у меня дурацкий характер.
— И ты всерьез можешь думать, что я останусь?
— Клянусь, Тони, я не стал бы испытывать к тебе презрения, если бы ты сказал мне: Ники, желаю тебе удачи. Тем более, что Антуан Куни вовсе не глуп…
— Я понимаю, я понимаю, — кивнул Тони. — Мне не хочется бежать из Ритрита, тем более что я не знаю, возможно ли вообще это, но и остаться я не смогу. Я боюсь оставаться.
— Не понимаю.
— У меня ощущение, что побег — это меньшая из двух опасностей.
— Прости, я все-таки не понимаю.
— Шансы, что нас поймают, если мы вообще сумеем выбраться отсюда, велики. Но еще больше шансы, что в один прекрасный день я не выдержу. Лишнее слово ангелу-хранителю, лишний микрофон, лишний шпик, которого я не распознаю вовремя, — и я последую дорогой бедняги Строма. Меня выкурят из этого вот манекена и отдадут его очередному иммигранту в страну исков, как изящно выражается наш дорогой Антуан Куни. А это будет страшная смерть. Всерьез. Навсегда. Простите, скажет мой ангел-хранитель, вы же понимаете, что Ритрит нуждается в определенных мерах безопасности, а вы, к сожалению, стали представлять угрозу для него. Поэтому разрешите, мы сотрем ваше «я» из миллионных электронных мозгов. Это совсем не больно; сюда, пожалуйста…
— Наверное, ты прав, — усмехнулся я. — Я думал, это только мое воображение так терзает меня.
— О, мы все любим считать себя уникальными и неповторимыми. Совсем недавно я прочел книжку, что-то вроде… кажется, она называется «Райские птицы», да это, впрочем, и неважно. Она меня потрясла. Автор, словно фокусник, угадывал самые затаенные мои чувства. Даже не чувства, а какие-то получувства… Ну, да бог с ней, с нашей неповторимостью. У тебя есть какие-нибудь планы, как уйти из Ритрита?
— Уйти совсем нетрудно. Колючей проволоки, как видишь, перед нами нет, и вместо того чтобы повернуть налево, мы можем повернуть направо и просто-напросто уйти.
— Отличная идея. За исключением того, что Ритрит окружен чувствительными датчиками, которые тут же зарегистрируют, что двое безумцев пересекли периметр. Еще через пять минут нас поймают. Мы будем жалко извиняться, уверяя, что забыли инструкции, а твой вездесущий мистер Люшес, который, сдается мне, и так что-то чует, скажет в совете: джентльмены, твердых доказательств, у меня, к сожалению, пока нет, но на всякий случай я бы предложил разрядить их обоих…
Мне было вовсе не смешно. Я вдруг почувствовал себя овцой, стоящей перед крепостью и думающей, как бы разрушить ее. Даже не бараном, а овцой… Вдруг я вздрогнул. Острый страх молнией проскочил через миллиарды моих нейристоров. При малейшем подозрении, что я что-то знаю, они постараются присмотреться к Луизе. И без особого труда определят, что две недели она проработала в клинике профессора Трампелла. О, это вовсе не трудно. Никто не стал бы ее выгораживать. Да, да, скажет мисс Ковальски, уязвленная тем, что Луиза не ответила на предложение дружбы. Я поступила легкомысленно, оставив ее в кабинете. Могла ли она ознакомиться с историей болезни? Конечно, вот здесь ключи, и нужно лишь открыть створку шкафа.
Луиза постарается не выдать меня. Но они умеют допрашивать. Без всяких старомодных пыток. И не в сыром подземелье, а в уютной светлой комнате. Человек будет сидеть за обычным письменным столом, обычный человек с милой улыбкой на обычном лице. И все будет обычно и вовсе не страшно. И протянутая пачка сигарет, и щелчок зажигалки, и пододвинутая пепельница. И эркондишен протянет по комнате тоненькие и уютные струйки дыма. Никаких палачей в черных плащах, никаких дыб и раскаленных клещей. Все мило, доброжелательно и обычно. «Мисс Феликс, мы ваши доброжелатели, а вы ставите нас в тяжелое положение. Понимаете, если вы нам расскажете, что именно сообщили своему другу и как он на это реагировал, мы постараемся свести ущерб к минимуму. О, мы обещаем, что мистер Карсон будет в полной безопасности. Но если вы будете молчать, мы вправе будем предположить худший вариант и…» — «Но вы же не имеете права», — скажет тихо бедная Луиза, сама не веря себе, потому что она неглупая женщина. «Поймите, — терпеливо объяснят ей, — нам не нужно никаких прав. Мистера Карсона, увы, нет в живых. Бедняга умер, как умирают все, и давно кремирован. Хотите посмотреть его собственноручно подписанное завещание? А вы говорите — права».
— У нас есть время подумать, — сказал я. — Луиза будет здесь следующий раз только через месяц. Так или иначе, до этого времени мы ничего не сможем сделать.
— Почему?
— Я должен предупредить ее. Она должна участвовать в наших планах. Без помощи нам ни черта не удастся сделать.
— А собственно, что мы сможем узнать? — тихо спросил Тони. — Ну хорошо, ты придешь к своему Трампеллу, если, конечно, доберешься до него, потому что будет нетрудно догадаться о твоих визитах вежливости. Старика от ужаса хватит паралич. Ну ладно, не хватит. Он пролепечет, что его заставили. Кто? Какие-то люди. Ему угрожали, он ничего не мог сделать. Он очень сожалеет, но…
— Слушай, Тони, дорогой друг, а не занять ли тебе место Антуана Куни? Он ребенок по сравнению с тобой. Ты умеешь убеждать, как никто.
— Я тебя ни в чем не убеждаю. Как и себя, — печально сказал Тони. — Но я ученый. У меня тренированный мозг. Я хочу все взвесить заранее. Можно, конечно, разбежаться и размозжить себе голову о стенку. Или задушить своего ангела-хранителя. Но это мало что даст.
— Ты же сам мне только что говорил, что бежать — это меньшее из двух зол. Не прошло и нескольких минут, а ты уже делаешь сальто-мортале на месте и опять заводишь: мало что даст. Слушай, я тебе не выложил еще один аргумент. У меня есть старинный знакомый. Мы вместе учились в школе и даже ухаживали раз за одной девочкой. Ее звали Милдред. Милли. Круглая идиотка, сколько я помню, но с божественными фиолетовыми глазами.
— Ну и что?
— Он работает в РА.
— РА? Что это?
— Разведывательное агентство. И судя по всему, он какая-то важная шишка там.
— По чему же ты судишь? По его животу?
— Очень остроумно. Я сужу по тому, что он полковник.
— Гм… Может быть… Ты хочешь, чтобы он приехал за нами? На белом коне? Или ты согласен на любую масть? Представляешь, как красиво? Кавалерия штурмом берет Ритрит, директоров связывают и выводят на плац. Вы свободны, господа.
— Очень и очень живописно. Но еще раз. Тони, только честно. Может быть, твой тренированный научный мозг не очень нейтрален в оценке вариантов? Может быть, он тайный болельщик Ритрита? Может, он предпочитает этот уголок олимпийского спокойствия?
Мы прошли, наверное, шагов пятьдесят, а Тони все не отвечал. Наконец он искоса посмотрел на меня и сказал:
— Не знаю… Если быть предельно честным с собой — не знаю. И уж если быть предельно честным, мой ангел-хранитель уже дважды спрашивал, не замечал ли я в тебе… как они изящно выражаются, странностей в поведении, беспокойства.
— И что ты ответил?
— Ты хочешь со мной поссориться?
— Нет, Тони, не хочу. Прости, что спросил. Просто мой Вендел Люшес тоже расспрашивал. Про тебя. Так ласково, заботливо, участливо. Я поймал себя на мысли, что меня так и подмывало рассказать ему о твоих воспоминаниях.
Тони посмотрел на меня и рассмеялся:
— А я еще пытался вспомнить название какой-то книжки. Когда ты повторяешь мои самые постыдные мысли.
— Наверное, не надо стесняться постыдных мыслей. Наверное, они не возникают только у святых. Сдается мне, надо стесняться, если не можешь их тут же придушить. Я свои душил тут же, в зародыше. Прости за нравоучительный тон…
— Прощаю, — сказал Тони. — Я, как ты догадываешься, тоже не побегу сегодня к ангелу-хранителю. Мистер ангел, а Ник Карсон все знает!
— Спасибо, Тони.
— Это ирония?
— Никакой иронии. Я совершенно серьезен. Но вернемся к нашим баранам. Надо думать. И решать. Может быть, мы действительно бараны, и Ритрит неуязвим. А может быть, и нет.
— Хорошо, Ник, давай думать.
ГЛАВА 11
У меня еще раз побывала Луиза, и мы договорились с ней о плане: в определенный день, точнее, поздний вечер она будет ждать нас в машине в двух милях от Ритрита. Она приготовит одежду и парики.
Мы с Тони должны были в десять пятнадцать вечера выбраться из лагеря, причем так, чтобы сразу нас не хватились. Для этого Тони изготовил взрывное устройство с таймером. Взрыв произойдет в десять вечера в его запертой лаборатории. Во всеобщей сумятице мы должны были незаметно подобраться к центральным воротам, обезоружить двух охранников, связать их и добраться как можно быстрее до машины Луизы. Очень простой и очень реалистический план, не считая того, что он мог лопнуть в любом из своих звеньев. С неизбежным концом: сюда, пожалуйста, джентльмены. Вставьте свои головы в эти шлемы, к сожалению, мы вынуждены вас разрядить.
Но мы знали, что отступать уже поздно. Сомнения остались позади. Тони был прав: жить в Ритрите с мыслью о том, что у тебя украли тело и жизнь, было еще страшнее, чем риск побега.
И вот сегодня был решающий день. Время тянулось бесконечно медленно, спотыкалось на каждой минуте. Адскими усилиями и заклинаниями я дотащил упирающиеся упрямые стрелки до семи часов. Еще три часа. Я только мельком видел Тони утром, и он незаметно подмигнул мне и кивнул. Значит, взрыв был подготовлен. Подробнее расспросить его я не мог: последние дни мы избегали друг друга, чтобы не рисковать. Встретиться с ним мы условились в десять пятнадцать у ворот.
Внезапно послышался стук в дверь. Это Тони, пронеслось у меня в голове. Значит, что-то сорвалось, он ни за что не должен был приходить ко мне.
Словно в трансе, я открыл дверь. Передо мной стоял Вендел Люшес.
— Добрый вечер, дорогой Карсон, вы не заняты? — спросил он с улыбкой.
Он знает, тоскливо подумал я. Нейристоры мои в моем электронном мозгу были рукотворными, но страх был самый естественный, древний парализующий страх.
— Не-ет, — выдавил я из себя, — прошу…
— Извините, что без предупреждения, просто захотелось поболтать с вами… — Я молчал. Он посмотрел на меня, едва заметно усмехнулся и спокойно уселся в кресло. — Я понимаю, вы прежде всего видите во мне члена совета директоров. Что делать, за каждый пост всегда приходится платить. Я, знаете, был бизнесменом, президентом компании. И я прекрасно понимал, что у меня не могло быть друзей. Всем всегда что-то от меня было нужно. О, улыбок и любви всегда было более чем достаточно, но все они были не более чем товаром: а вдруг старик смягчится и подмахнет счетец, который ему тут же представят за улыбки и за любовь. Что делать, плата за высоту.
— За высоту? — тупо переспросил я.
— Мы всегда карабкаемся вверх по жизненной пирамиде. И чем выше, тем труднее удержаться на ее гранях. И скользко и тесно. Даже одному. Для друзей уже просто не остается места. Это альпинисты восходят на свои вершины группой. Это им нужны всякие там связки. Жизненные пирамиды подчиняются только одиночкам-восходителям. Одному, конечно, страшнее и опаснее. Что делать? Многие — даже не многие, а большинство — срываются. Короткий вскрик, перекошенное ужасом лицо и коротенькая заметочка: такой-то и такой-то пустил себе пулю в лоб. Но люди все равно лезут и лезут. И как только кто-нибудь сорвется и рухнет вниз, его место тут же штурмуют десятки других. Тут ничего не поделаешь, это инстинкты гонят нас наверх, подталкивают в спину. Точно так же, как инстинкты заставляют животных исправно выполнять свое жизненное назначение. Поверьте, я это знаю.
— Довольно грустную картину вы рисуете…
— Что делать, жизнь — жестокая штука. Я прошел ее. Я вскарабкался почти на самую вершину пирамиды и многое увидел сверху.
А может, он ничего не знает? Сентиментальные воспоминания перед бесплатным слушателем. Я еще не был в этом уверен, но страх начал выходить из меня. Мне казалось, что выходит он с шипением — под таким давлением он был закачан в меня. Но мистер Люшес шипения, очевидно, не заметил, потому что продолжал:
— Скажите, Карсон, вы уже слышали, наверное, с дюжину проповедей нашего Антуана Куни, что вы думаете о самом Калебе Людвиге?
— Что я могу думать? Я не знал его, — пожал я плечами. — Пользуюсь вашим сравнением: он был так далеко от меня на грани пирамиды, что я и видеть-то его никогда не видел. Даже на фотографии или по телевидению… Он, говорят, ненавидел паблисити.
— Говорят, — кивнул Люшес. — Но все-таки какой-то образ у вас складывается?
— Ну, бизнесмен. Мультимиллионер, ударившийся под старость в филантропию. Идея исков, наверное, привлекла его размахом…
— Чепуха, — нахмурился Люшес. — Абсолютная чепуха. Я знал его. Можно сказать, даже неплохо. Он прежде всего был мечтателем.
— Мечтателем?
— Именно мечтателем.
— Но его целлюлозная империя…
— Деньги всегда были для него лишь инструментом. А бумага давала возможность делать эти деньги. Это было второстепенным.
— А о чем же он мечтал?
— О, это не так просто сформулировать. Слишком громко звучит. Впрочем, он не боялся формулировок. Он мечтал покончить с нашим жалким эгоистичным обществом. С обществом деградировавшим, превратившимся в постоянную ярмарку, где лишь торгуют и жаждут развлечений. Может, вам это покажется смешным, но он походил на библейского пророка, на какого-нибудь Исайю или Амоса…
Я не удержался и усмехнулся. Уж очень не вязался в моем воображении образ босоногого проповедника, простирающего худые руки в страстном обличении пороков, с преуспевающим мультимиллионером. Разве что он простирал руки в своем «роллс-ройсе» из-за коварства конкурентов, которых в этот день ему не удалось надуть.
Люшес пожал плечами.
— Я догадываюсь, о чем вы думаете. Но не торопитесь судить о человеке по тому, как он зарабатывает на жизнь. Да, Людвигу удалось стать очень богатым человеком, но это не мешало ему ненавидеть наше безвольное, погрязшее в пороках общество. Поверьте мне, я хорошо знал этого человека.
— И как же он намеревался исправить наше жалкое эгоистическое общество? Ведь ярмарку не разгонишь. Это фундамент и смысл нашей жизни.
— Он это понимал, дорогой Карсон. Тем более, он преуспел на этой ярмарке. По крайней мере, по части продажи. Так вот, он не знал, что делать с ярмаркой. Он был довольно образованным человеком и отдавал себе отчет, что любые перевороты, любые военные хунты в конце концов возвращаются к той же ярмарке. А социализм, как вы можете догадаться, его не устраивал тем более. В этом и заключалась трагедия его жизни. Он мечтал об обществе чистом и суровом, о некоей новой Спарте, а сам торговал на ярмарке, где продают и покупают все, что пользуется спросом.
И вот он случайно узнает о гениальном изобретении русского ученого Любовцева. Я уже рассказывал вам о нем. И в мозгу старого мечтателя зажигается потухшая было надежда. Новая Спарта. Новая цивилизация, очищенная от страха смерти, болезней, жадности. Ибо что нужно тебе, если ты бессмертен? Тебе становится смешна мелкая суета ярмарки. Разве наше бесконечное жизненное кружение не продолжение инстинктивных хватательных движений младенца и пронзительного его крика: «Дай, дай!»? Разве все это не из-за нелепой краткости нашей жизни? Разве не из-за этого мы все время торопимся: быстрее, быстрее! Нахватать, разбогатеть, приобрести славу, власть. Успеть. Только бы успеть, потому что дни наши коротки и пересчитаны богом или матушкой-природой, кому какая система координат нравится.
Теперь представьте себе существо, которому некуда торопиться. Он не подвластен времени, и суетливое кружение, детская жадность становятся ему смешны. Ну что может значить лишняя погремушка, лишний титул или лишний кошелек, если ты знаешь, что все это суета сует в масштабе бессмертия. Ты в другом измерении…
— Но ведь иски — крошечная группка. Ее даже никто не заметит в грохоте ярмарочных барабанов.
— Не скажите, не скажите, дорогой Карсон, придет время — еще как заметят! И преклонят колени. И протянут руки в мольбе: и мы хотим свободы бессмертия.
— Может быть, но мне все-таки не совсем ясно, как иски займут такое место на ярмарке.
— О, это-то как раз одна из главных гениальных идей Калеба Людвига!
— И в чем же она заключается?
— Еще не время.
— Не время чего?
— Не время осуществления этой идеи и не время познакомить вас с ней. Хотя я верю, что именно вы оцените ее простоту и величие.
— Спасибо, — пробормотал я.
Странный человек этот Люшес, подумал я, глядя на застывшее его лицо и устремленный куда-то вдаль взгляд. В нем угадывалась вера. Вера с большой буквы. Не знаю, какие у него были отношения с покойным Калебом Людвигом, но похоже, что истребитель лесов основательно заразил его своими смутными видениями. А теперь, после смерти своего друга, он поднял знамя Савонаролы. Но что-то привлекательное в нем было. Не знай я всего, что случилось со мной и Тони, я бы, наверное, лучше сумел оценить их идеи.
— Спасибо, — вдруг сказал Вендел Люшес и встал.
— За что?
— За то, что вы терпеливо и внимательно выслушали меня. Мне кажется, вы понимали, что я говорил вам. О, это нелегко. Все мы воспитаны циниками и с подозрением относимся к идеям. Слишком много идей в обращении, и все они давно обесценились, как наши деньги. В них не верят, потому что идеи — тот же товар на ярмарке. Целые ряды философов. И все кричат, все зазывают: смирение, экзистенциализм, абсурдность бытия, бог, безбожие. Даже идею о презрении к материальным благам и ту стараются сбыть подороже. Только у нас самые лучшие, последние идеи. Купите. За две идеи скидка… А вы слушали, мистер Карсон, и мне казалось, что вы понимаете меня. По крайней мере, вы знали, что я ничего не продаю. Мне не нужно сбывать товар. И вы это почувствовали.
Мне вдруг почудилось, что это не пустая вежливость. Синдром проповедника, наверное, сильная штука. Хотя я никогда и не испытывал жгучей потребности проповедовать и изобличать, я вполне мог представить себе некий внутренний зуд, может быть, даже гнев, бешенство, которые заставляют воздевать руки и восклицать: несчастные, остановитесь! Разве вы не видите, и так далее.
— О, это я должен поблагодарить вас. Я не все уяснил себе в грандиозных планах мистера Людвига, но мне кажется, что-то я понял.
— Это уже много. Придет время, — многозначительно кивнул Люшес, — и вы поймете и узнаете все. И на вас мы особенно рассчитываем.
Он посмотрел на меня с каким-то напряженным выражением на лице, словно хотел убедить в чем-то, словно звал куда-то. Мне даже показалось, что в глазах его мелькнула нежность.
Он вышел. Странный человек. С внутренним зудом. Ну да спасибо ему хоть за то, что немного отвлек меня. Оставшись без моего присмотра, время проскакало полчаса почти незаметно.
Не иронично ли, что Люшес избрал меня своим доверенным лицом? Он особенно рассчитывает на меня, а я особенно рассчитываю удрать отсюда.
Ближе к десяти я уже не находил себе места. Если у меня было бы сердце, оно колотилось бы сейчас со скоростью экспресса. Я был бы перенасыщен адреналином. И даже мои холодные кибернетические мозги с трудом выдерживали напряжение.
Я взглянул на часы. Без пяти десять. И почти тут же послышался глухой хлопок взрыва. Где-то завыли сирены. Я еще раз проверил свое оружие — кусок трубы — и сунул его за пазуху.
Я выскочил на улицу. Было совсем темно, и в темноте вой сирен казался более громким и зловещим. Кто-то бежал в направлении лабораторного корпуса. Послышался второй взрыв, и в сочном хрусте разлетевшихся оконных стекол появились первые робкие отсветы пламени. Браво, Тони.
Десять десять. Я бросился к главным воротам. Оба стражника вышли из своей стеклянной будки и смотрели на лабораторный корпус. Они были явно испуганы и не знали, что делать.
— Что вы стоите? — крикнул я. — Там пожар! Пожар!
— Мы не имеем права покинуть пост, — пробормотал один из них.
— Позвоните хоть в совет! Сделайте же хоть что-нибудь! — истерически кричал я.
— Я, может, и правда позвоню? — неуверенно сказал все тот же стражник. Он был помоложе, и его нервная система хуже справлялась со стрессовой ситуацией.
— Ну позвони, если тебе хочется, — сказал стражник постарше.
Молодой вошел в будку. Я — за ним. Он стал ко мне спиной, поднял трубку, и в этот момент я ударил его по голове. Боже, это было так просто! Он как-то странно ахнул и стал оседать. Он падал долго и неуклюже, точь-в-точь как падают в кино. Хорошо бы, я не убил его, пронеслось у меня в голове, но мысль проскочила не задерживаясь. У меня просто не было времени думать.
— Эй, — высунулся я в открытую дверь будки, — идите сюда, ваш товарищ зовет вас!
— Что там еще стряслось? — спросил он, и в это мгновение я увидел за ним Тони.
— Да побыстрее вы! — крикнул я, чтобы Тони понял, где я. Стражник, должно быть, почувствовал нечто неладное, потому что на мгновение неуверенно остановился. Этого было вполне достаточно для Тони. Он не соразмерил силу удара. Послышался какой-то хруст, и стражник упал. В отличие от моего, он упал сразу, лицом вперед.
— Давай затащим его в будку, — сказал я, и мы втащили его внутрь. Глаза его были закрыты, по виску стекала тоненькая и совсем черная в электрическом свете струйка крови.
— Возьми пистолет у твоего, — прошептал Тони.
Я вытащил пистолет из кобуры молоденького стражника и сунул в карман. Все-таки я не убил его, потому что он тихонько застонал.
— Бежим, — прошептал Тони.
— Мы же хотели связать их.
— У меня ощущение, что сейчас сюда кто-то пожалует.
Мы выбежали из будки, обежали стороной яркое пятно света от прожектора и помчались туда, где нас должна была ждать Луиза.
Все было просто, слишком просто, и меня не покидало ощущение, что сейчас под ногами у меня откроется какой-нибудь потайной люк или в темноте мы попадем в какую-нибудь сетку.
Мы мчались во весь дух, не жалея аккумуляторов. Что ни говори, а тела нам фонд соорудил преотличные. Не знаю, установили ли мы какие-нибудь рекорды скорости, но бежать, не чувствуя усталости, не хватая жадно воздух разинутым ртом, было удобно.
ГЛАВА 12
Яркие звезды висели совсем низко, прямо над головой. Они почему-то были ярче маленькой нарождающейся луны. Постепенно глаза привыкли к темноте. Мы бежали по шоссе, и лагеря уже почти не было видно, лишь светло-туманное пятно света от прожектора висело над горизонтом.
Может быть, помогало движение, но страха почти уже не было. Не было ощущения, что сейчас послышится вой машины позади, крики или даже хлопок выстрела.
В беге была какая-то отрешенность от всего. Ритрит остался позади, мгновенно потерял свою реальность. Впереди все было зыбко и смутно. Реальным был лишь этот фантастический бег по темной пустыне под яркими южными звездами. Мне вдруг примерещилось, что я всегда бежал так и всегда буду бежать.
Может быть, в тюрьме есть своя прелесть, подумал я. Не надо думать, не надо ничего решать, но и свобода опьяняла. И словно в ответ на мои мысли Тони сказал:
— Хорошо.
Странно было слышать голос бегущего человека именно таким — совершенно не запыхавшимся, совершенно спокойным.
— Будем надеяться, что Луиза ждет нас, иначе придется бежать до самого Шервуда, — сказал я. По моим расчетам, мы пробежали уже около двух миль, и машина должна была ждать нас где-то невдалеке. Если она вообще смогла приехать. И в этот момент слева от шоссе коротко мигнули фары. Спасибо, Лу, спасибо, любовь моя.
Не успели мы еще подбежать к машине, как она уже развернула ее и вывела на шоссе.
— Все нормально? — срывающимся голосом спросила она, как только мы ввалились в машину. Она даже не поздоровалась. Бедняжка, каково ей было стоять здесь и ждать, появимся мы или нет.
— Спасибо, Лу, спасибо, моя маленькая обезьянка.
— Куда мы едем? — спросил Тони.
— В Карайо, — твердо ответила Луиза. — Это всего двадцать миль, и мы будем там через четверть часа.
— Как только они заглянут в будку у ворот, они поймут, что кто-то бежал. Еще несколько минут, чтобы определить, кто именно, — как-то очень спокойно сказал Тони, — и тут же они начнут поиски. Если уже не начали.
— А как они будут искать? — спросила Луиза. — Через милю или две развилка. Одна дорога ведет на аэродром, другая — в Карайо, третья — в Дарли.
— Но искать они все равно будут, — упрямо сказал Тони.
— А вот и развилка, — сказала Луиза. Не снижая скорости, она повернула налево. Еще через несколько минут она сказала:
— Ники, там сзади несколько пледов. Сейчас мы подъедем к мотелю, в котором я остановилась. Скорее всего, старушка у ворот ничего не разглядит в темноте, но на всякий случай лягте оба на пол и бросьте на себя пледы.
Гм, никогда я не замечал у Луизы таких командирских наклонностей.
Кряхтя, мы выполнили ее приказание, и почти тут же она снизила скорость и затормозила.
— Добрый вечер, миссис Пареро, — приветливо сказала Луиза, и старушечий голос пробормотал в ответ:
— Добрый вечер.
— Какая тут у вас в «Южном кресте» тишина, — вздохнула Луиза.
— Тишина! — фыркнула миссис Пареро. — Будет тихо, когда мотель почти пустой.
«Если через минуту Тони не слезет с меня, на этом побег может окончиться, — подумал я. — Что-нибудь во мне он наверняка раздавит».
— Спокойной ночи, — весело сказала Луиза.
— Спокойной ночи, мисс, — буркнула старуха, и машина снова тронулась, проехала еще метров сто и остановилась около маленького домика.
— Сейчас, одну минутку, я проверю, все ли спокойно. — Луиза вылезла из машины, осмотрелась, наверное, потому что тут же скомандовала: — Все спокойно, вылезайте, джентльмены.
Комнатка была небольшая, с двумя кроватями. Шторы были плотно закрыты.
— Вот ваша одежда, — сказала Луиза, поставила на стол небольшой чемоданчик, открыла и достала два женских туалета, два дамских парика, светлый и темный. — И поторопитесь, подружки. Мне еще нужно заняться вашей косметикой. К сожалению, мисс Баушер, я не знаю ваших вкусов, поэтому уж не взыщите.
— Ну, — сказал я, — посмотри на меня. Долгим и любящим взглядом.
— Зачем?
— Потому что у меня сильное подозрение, что, встреть ты меня на улице через день или два, ты не узнаешь своего молоденького Ника.
— Я всегда узнаю тебя.
— Не уверен. Поэтому я и прошу приглядеться ко мне. Тем более, что сейчас мы превратимся в дам.
Через четверть часа мы с Тони посмотрели друг на друга и церемонно поклонились.
— Вы прекрасно выглядите, мисс Баушер, — сказал я. Самое смешное, я почти не преувеличивал. Светлый парик, элегантная кофточка и брюки сделали его не просто похожим на молодую женщину, эта женщина выглядела довольно привлекательно, хотя и немножко вульгарно из-за щедрой косметики.
— И вы тоже, моя милочка, — кокетливо улыбнулся Тони. — Мне всегда нравились брюнетки…
За окном послышался шум подъезжающей машины, скрипнули тормоза, и в дверь постучали.
Прятаться было поздно, да и некуда. Обидно было. Именно не столько страшно, сколько обидно. Эта обида не оставляла места страху. Было обидно и жаль. Жаль, что все кончилось так буднично и пошло, жаль было Луизу. Я мгновенно увидел мысленным взором ее лицо, когда меня и Тони будут уводить. Жаль, жаль… Всего жаль. Придумать такой план, так удачно претворить его в жизнь и — попасть в силки в жалком мотеле с дурацким названием «Южный крест». Я подтянул к себе приготовленную Луизой сумочку, куда только что сунул пистолет.
Тони тоже схватил свою сумочку, швырнул ее на кровать и улегся сам.
— Кто там? — спросила Луиза, и я даже успел подумать с каким-то нелепым спокойствием стороннего наблюдателя, что она потрясающе владеет собой: голос ее звучал естественно. Чуточку раздраженно и нетерпеливо.
— Простите, мисс, — послышался мужской голос, — это полиция. Старуха у въезда сказала мне, что вы недавно возвратились, и я хотел спросить, не попадались ли вам по дороге двое мужчин лет тридцати? Произошло ограбление, и мы ищем…
— Обычно я не присматриваюсь к мужчинам этих лет, — сказала Луиза. — Если уж интересоваться мужчинами, то лет с пятидесяти. К тому же я торопилась, меня ждали мои приятельницы.
«С ума она сошла, — пронеслось у меня в голове. — К чему этот риск, он, может быть, и так удовлетворился бы разговором через дверь».
— У каждого свои вкусы, — философски заметил полицейский.
— Что делать, мне еще нет и тридцати… А ваши приятельницы…
— О, они ничего видеть не могли, они были здесь все время, — вы ведь не выходили, Роберта? — спросила она меня и ободряюще подмигнула.
Я тихонько буркнул что-то, и Луиза приоткрыла дверь.
— Вы, впрочем, сами можете спросить их.
Полицейский вошел в комнату. Должно быть, после темной улицы глаза его не сразу адаптировались к яркому свету. Он несколько раз мигнул. Ресницы у него были коротенькие и белесые, и форма казалась на нем неуместной. Естественнее он выглядел бы с закатанными до колен джинсами и с удочками в руке.
— Добрый вечер, — смущенно пробормотал он. — Прошу прощения, час уже поздний, но служба… — Он вздохнул, давая понять, что предпочел бы сейчас службе другое занятие.
Сейчас он скажет: «Ну-ка, снимите, ребята, свои парички и поднимите вверх руки». Я не боялся. Бояться было просто некогда, потому что я мысленно видел себя подходящим к полицейскому, медленно, неохотно поднимающим руки — и вдруг короткий, неожиданный удар. Именно неожиданный. Терять нам было нечего. Или, наоборот, слишком много мы могли потерять из-за этого лопуха с белесыми ресницами, который не знал, куда девать свои здоровенные руки, и дурашливо переминался с ноги на ногу.
— Еще раз простите за вторжение, девочки, — смущенно вздохнул он. — Сами понимаете, ограбление…
— Я понимаю, — сказала Луиза и улыбнулась полицейскому. Тони тоже улыбнулся. Более вызывающей бабы я давно не видел. Наверное, полицейский — тоже, потому что он приложил руку к фуражке и начал задом пятиться в дверь.
Еще через несколько секунд гравий дорожки упруго хрустнул под колесами машины и все было кончено. На какую-то долю секунды я даже почувствовал нелепое сожаление. Все пружины были взведены, и теперь нужно было осторожно отпустить их.
— Поздравляю, девочки, — Луиза поцеловала меня и Тони. — Вы блестяще сдали экзамен. Особенно вы, — она улыбнулась Тони. — Придется, наверное, смягчить вам косметику. А то вы действуете на мужчин как паровой молот.
— Паровые молоты давно не применяются, мисс Феликс. Но я догадываюсь, о чем вы говорите. Вы правы. И вообще, если уж быть дамой, я бы предпочел не походить на официантку из провинциального кафе…
— Тони, ты знаешь, как это называется? — сердито спросил я.
— Как, моя милочка? — кокетливо спросил Тони и даже хихикнул.
— Официантка из провинциального кафе — это гранд-дама по сравнению с тобой…
— Девочки, не спорьте. Я замечаю, что парики, тушь и помада очень быстро изменили ваш характер. Вы оба стали мелочны, капризны и сварливы. Только что миновала опасность, а вы, вместо того чтобы поблагодарить меня, спорите, похож ли мистер Баушер на официантку.
— Лу, я бы поцеловал тебя, но помада…
— Не бойся, она не пачкается. Те помады перестали применяться вместе с паровыми молотами, — она победоносно посмотрела на Тони. — Но может, нам все-таки лучше не оставаться здесь. Если мы выедем, скажем, через полчаса…
— Нет, Лу, не стоит. Именно тогда мы можем привлечь внимание. Наверняка все патрульные полицейские машины сейчас предупреждены. А утром даже за сто метров любой полицейский увидит, что в машине три девицы и что это вовсе не то, что нужно. Скажи, мне показалось в темноте, что это не твоя машина? Или это действительно так?
— О, Ники, я столько раз все обмозговывала, пока ждала этот день. И я подумала: а вдруг существует хоть одна тысячная шанса, что у них есть описание и номер моей машины? Сначала я хотела взять машину напрокат, потом и это испугалась сделать. И тут — представляешь, Ники, какое везение! — звонит подруга, да ты ее видел, Роберта, помнишь, толстушечка такая? Звонит и говорит, что уезжает на две недели и не соглашусь ли я приглядывать за ее котом и квартирой. Ты же знаешь, как теперь: стоит уехать на неделю, и квартиру твою ограбят почти со стопроцентной гарантией. И вместе с ключом от квартиры я получила и ключ от машины.
— Молодец, Лу.
Она так измучилась, так нанервничалась, что почти сразу же уснула, а я сидел в темноте в кресле и думал о странном ощущении вырванности из времени, которое испытал, когда мы бежали по шоссе. Чем ближе Шервуд, тем непреодолимее казались препятствия, тем легкомысленнее — наш план. Или нужно было приползти на брюхе в Ритрит и покорно отдать свои головы на разрядку, или не думать о том, что ожидает нас в Шервуде.
Но сколько я ни пытался воссоздать ощущение вневременности, ничего у меня не получалось. Я думал о профессоре Трампелле, о Венделе Люшесе — этом странном восходителе на жизненную пирамиду, о том, что он подготовит мне в Шервуде. Одно у него не отнимешь: он был умным человеком и умел понимать, что движет людьми. Или исками.
Наутро мы выехали в Шервуд и добрались до него за два дня, без всяких приключений. В Шервуде мы разделили с Тони привезенные Луизой деньги, и он уехал к себе в Кинглоу. Мы договорились, что он будет звонить нам.
Мы стояли с Луизой в чужой квартире. Она уткнулась носом в мое плечо и долго молчала. А потом пробормотала:
— Ники, почему это так, стоит мне прижаться к тебе, и я начинаю думать, что все как-то образуется, все будет хорошо. Я говорю себе, что я глупа. И ничего образоваться не может, но все равно мне спокойно с тобой. И раньше и теперь, когда ты стал иском. И даже когда на тебе дамский парик. Я понимаю весь абсурд своих чувств, но у тебя на плече образуется странный, противоестественный островок спокойствия и надежды.
Я прижался щекой к голове Луизы. В памяти своей я сейчас плакал. И не моя вина, что глаза мои были сухи. У меня не было слез. Бедная Лу, всегда я мучил ее. Всегда что-то стояло между нами. Всегда, даже когда мы стояли вот так, обнявшись, у меня было ощущение, что мы на противоположных берегах зловещей темной реки, которую не переплывешь, не перейдешь вброд.
Убежать, спрятаться, забиться куда-нибудь. Забыть о профессоре Трампелле, о его испуганных водянистых глазах, которые он прятал от меня, о страхе смерти, ужасе пробуждения и кошмарной каменной неподвижности первых мгновений в новом искусственном теле. Забыть о проповедях Антуана Куни и странных беседах с Венделом Люшесом. Забыть все. Забыть обман, кражу моей жизни и тела. Быть только с Луизой. Наверное, это вообще идеал нашего частнопредпринимательского общества — столько-то частных норок, в которых сидят боящиеся друг друга частные раки-отшельники.
Нет, это было невозможно. Какую бы я норку ни выкопал нам, как бы уютна она ни была, все равно я не найду в ней покоя.
Зловещая черная река по-прежнему разделяла нас. Может быть, если бы я сдался, если бы я испытывал унизительный, парализующий страх, я бы смог продрожать остаток своих искусственных дней раком-отшельником. Но во мне бурлила ненависть, а это не то чувство, с которым удобно долго прятаться.
По дороге в Шервуд я все время думал о том, как мне добраться до профессора Трампелла. Я понимал, что ничего вразумительного не добьюсь от него, что весь разговор, если он вообще окажется возможным, будет тягостным, ненужным, нелепым. Он будет от всего отказываться. Я буду говорить о пункциях, о чужих снимках в моей истории болезни, а он будет прятать стариковские испуганные глаза и говорить, что это все бред, нонсенс, что никогда в жизни он бы не позволил себе, и так далее. И старые его, морщинистые руки поднимались бы в немой мольбе: ну что ты от меня хочешь?
Убить его! После всего, что они сделали со мной, после взмаха отрезком трубы и удара по черепу стражника я уже знал, что могу убить. Но убить жалкого испуганного старика — нет. Это было бы слишком легкой и быстрой расплатой для него. Пусть живет, зная, что я знаю. И именно для этого я должен был оказаться с глазу на глаз с ним.
В больнице, конечно, это сделать было невозможно. Люшес и К° наверняка понимали, что я что-то знаю и попытаюсь добраться до Трампелла. Скорее всего, они приготовили мне там встречу. Нет, в больницу идти было бы самоубийством. Для этого не надо было бежать из Ритрита.
Дома… Если у меня и были какие-то шансы, то только дома у профессора. Луиза одобрила мой план. Тем более, сказала она со свойственной ей рассудительностью, лучшего у нас не было.
Вечером она позвонила Айлин Ковальски. Она сказала, что сожалеет о вынужденном уходе из больницы. Что делать, мать тяжело болела. Она страшно соскучилась по Айлин и мечтает ее видеть.
— Айлин, вы не представляете, как мне хочется поболтать с вами. Я так привыкла к вам, к больнице, — проворковала она в трубку.
— Я тоже соскучилась, Анни.
— Что у вас нового?
— Ничего особенного. Ваш Паровоз по-прежнему дымит.
— А профессор?
— Профессор?
Я держал трубку параллельного телефона, и мне показалось, что собеседница Луизы сразу насторожилась.
— Я хотела спросить, как его здоровье.
— О, все хорошо, милая Анни, все хорошо. Когда же мы увидимся? Может, вы зайдете завтра в больницу?
— О, с удовольствием, но может быть, вы свободны сегодня? Мы бы могли встретиться, поесть где-нибудь… Вы не представляете, как я соскучилась по вас…
— Да, конечно, — почему-то прошептала она, — я тоже соскучилась по вас, дорогая. Может, вы заедете за мной?.. Ну, часов в восемь? Я ведь, помнится, давала вам свой адрес.
— Да, милая Айлин, обязательно заеду! — с трепетом в голосе воскликнула Луиза. Прямо голос влюбленной девушки, обещающей примчаться на свидание.
У нас было полдня, и я ухаживал за Луизой с исступлением обреченного. Мне казалось, что я делаю это в последний раз. Я не разрешал ей двигаться. Я кормил ее, как кормят маленьких детей. Почему-то она не смеялась. Должно быть, моя истеричность заразила и ее. А может быть, и ее душило ощущение надвигавшейся опасности.
Я гладил ее волосы и целовал ее глаза. Я проклинал конструкторов моего совершенного миллионного тела. Если бы они предусмотрели все-таки слезы! Не для промывки объективов глаз, а для того, чтобы облегчить душу. Но они за своими кульманами не думали о душе. А тем более о душе, которая корчилась, содрогалась и замирала от любви и жалости к высокой тоненькой женщине по имени Луиза Феликс.
В половине восьмого Луиза молча посмотрела на меня. Взгляд ее, казалось, говорил: «Еще не поздно. Можно еще отказаться. Я не буду презирать тебя за это. Наоборот. Я боюсь снова потерять тебя…».
Но отказаться было нельзя. Нельзя отказаться от наваждения. Потому что, даже если ты откажешься от него, оно все равно не выпустит тебя из своей мертвой хватки.
Я печально покачал головой. Луиза не спрашивала, что я хочу сказать. Она все прекрасно понимала. Она всегда все прекрасно понимала.
Без трех минут восемь мы медленно поднимались на третий этаж старенького дома. Чувствовалось, что он видел лучшие времена. На лестнице кое-где торчали шпеньки, в которые до рождества христова вставлялись металлические стержни для закрепления ковровой дорожки. Перила были деревянными и покрыты глубокими царапинами, словно по лестнице регулярно поднимались и опускались драконы, царапая их стальными когтями.
Луиза позвонила еще снизу, и дверь была не заперта. Мы вошли оба. Мисс Ковальски посмотрела на меня — я все еще был в дамском обличье — и изумленно подняла брови. Скорей даже не изумленно, а разочарованно.
— Так нужно, Айлин, — сказала Луиза. — Это моя подруга, и у нее к вам маленькая просьба.
— Я думала, мы сходим куда-нибудь поужинаем, — вздохнула мисс Ковальски.
— Айлин, моей подруге очень важно, чтобы вы позвонили сейчас профессору Трампеллу и сказали, что хотели бы приехать к нему, что это вам совершенно необходимо.
— Но это невозможно! — пожала плечами мисс Ковальски. — И вообще, признаться, я не совсем понимаю…
Я достал из сумочки пистолет.
— Вам ничего не нужно понимать, — тихо сказал я. — Если вы не выполните то, что вам сказали, я вынужден буду убить вас.
То ли оттого, что она увидела пистолет, то ли оттого, что женщина вдруг заговорила мужским голосом, мисс Ковальски совершенно оцепенела. Она старела и бледнела на глазах. Раз или два она открыла было рот, чтобы что-то сказать, но так и не решилась. Мы ждали.
— Айлин, — наконец сказала Луиза, — прошу вас, не подвергайте свою жизнь опасности.
— Но я… я не могу позвонить профессору домой… Если вы думаете…
— Я не думаю, — сухо сказала Луиза, — я знаю. Вся больница знает о ваших отношениях. Знает и подсмеивается, — жестоко добавила она.
Лицо мисс Ковальски пошло маленькими злыми красными пятнами.
— Неблагодарная дрянь! — прошипела она.
— Милые дамы, — галантно сказал я и поднял пистолет так, чтобы он смотрел в лицо секретаря профессора Трампелла, — меня не интересуют ничьи отношения. Мисс Ковальски, даю вам десять секунд. Через десять секунд я стреляю. Пуля попадет вам в лицо, и вы умрете обезображенной и мгновенно, это единственное, что я могу вам твердо обещать.
Трясущимися руками она подняла трубку и набрала номер. Луиза стала рядом с ней, приблизила ухо к трубке. Вполне могло случиться, что профессора нет дома, и мисс Ковальски разыграет для нас небольшой любительский спектакль. Или наоборот, он дома, а она скажет, что никто не отвечает.
В напряженной тишине даже я услышал голос в трубке.
— Добрый вечер, профессор, это я, Айлин, — сказала мисс Ковальски и с ненавистью посмотрела на меня. Луиза кивнула, давая понять, что это действительно был профессор Трампелл. — Мне очень нужно поговорить с вами… Сейчас же… Конечно, приеду… Спасибо…
— Мисс Ковальски, — сказал я, когда она положила трубку. — Мне очень нужно увидеть профессора Трампелла, но у меня есть опасения, что он не захотел бы видеть меня. Поэтому мне пришлось прибегнуть к такой процедуре. Но запомните: я готов стрелять. Поэтому не пытайтесь играть в детские игры. Не пытайтесь бежать, не пытайтесь привезти нас в другое место. Вспомните все, что советует делать в таких случаях полиция. Спокойствие и полное подчинение требованиям. А я обещаю вам, что ничего плохого с профессором не случится, равно как и с вами.
Она ничего не ответила, и мы спустились вниз по лестнице. Впереди — Луиза, которая держала мисс Ковальски под руку. На шаг сзади — я. Так же мы уселись и в машину: Луиза села за руль. Рядом с ней — секретарь профессора, а я — на заднее сиденье.
Когда мы поднимались в лифте на одиннадцатый этаж к профессору, мисс Ковальски вдруг прошипела:
— Если вы думаете, что вам это сойдет с рук…
Лифт стремительно вознесся вверх, потом вздохнул, замедлил подъем и остановился.
В отличие от дома мисс Ковальски все здесь было в коврах, все дышало финансовым благополучием обитателей. От мордастого портье, который с некоторым изумлением посмотрел на трех женщин, поднимавшихся к профессору, до скоростного лифта, овеваемого искусственно освеженным воздухом.
Мисс Ковальски остановилась перед дубовой элегантной дверью и посмотрела на меня. «Может быть, вернемся?» — спрашивал взгляд. Я слегка поднял сумочку, напоминая, что в ней, и она нажала на резную кнопку звонка.
ГЛАВА 13
Наверное, в больничных сплетнях об отношениях шефа и мисс Ковальски было зерно истины, потому что профессор был одет довольно интимно: в пижаме и халате. Впрочем, не без претензий на элегантность. Шелковый шейный платок, завязанный с тщательной небрежностью, свидетельствовал о мужественной борьбе с годами и морщинистым горлом.
Он недоуменно посмотрел на нас, перевел взгляд на мисс Ковальски, снова посмотрел на нас и еще раз на Айлин.
— Добрый вечер, — неуверенно сказал он, — прошу прощения за свой туалет, но я не ждал гостей. Мисс Ковальски не предупредила меня, что приедет не одна…
— Ничего, ничего, дорогой профессор, мы вас прощаем, — сказал я, и профессор вздрогнул. Мужской голос, сами слова и моя женская внешность совершенно поразили его. — Мисс Ковальски не виновата. Мы сами напросились на визит, — многозначительно добавил я, вынул из сумочки пистолет и показал профессору: — Как видите, это весомый повод для визита.
Профессор молчал. Он сделал два неуверенных шага, трясущейся рукой нащупал подлокотник кресла и медленно сел. Шейный платок и изысканный темно-синий халат не очень помогали. Он был стар. Я должен был испытывать жгучую ненависть к этому человеку, который убил и ограбил меня, но почему-то вдруг мне стало бесконечно скучно. Я тысячи раз уже приходил сюда и тысячи раз смотрел на морщинистое лицо с испуганными светло-водянистыми глазками. Зачем все это? Меня охватило парализующее ощущение ненужности того, что происходит. Что я ищу? Что мне даст этот жалкий, испуганный старик? Вернет мне тело? Вернет мне исчезнувшую жизнь, жизнь, которая уже успела уйти от меня в другое измерение? Что он может, этот человек? Скучно, скучно… Но надо пересилить себя. Эта нелепая скука, эта морщинистая шея с жалким смешным платком — все это оружие, направленное против меня моим ангелом-хранителем Венделом Люшесом.
— Простите, что вам угодно? — пробормотал профессор.
— Я хотел поговорить с вами, — сказал я. Говорить тоже было скучно, словно я повторял давно заученный наизусть текст.
— Поговорить? О чем же? И кто вы? И что все это значит?
— Немножко терпения, дорогой профессор, я постараюсь ответить на все ваши вопросы, но на правах владельца пистолета, с вашего разрешения, первый вопрос задам я. Вы помните такого больного — Николаса Карсона? Вы нашли у него рак легкого в стадии метастаз, а потом он вскоре умер в вашей клинике.
Я внимательно смотрел на старика. Он слегка вздрогнул, словно по нему пропустили ток. Он поднял руку и слабым беззащитным жестом провел пальцами по лбу. Рука была морщинистая, в коричневых пятнышках стариковского пигмента.
— Я… к сожалению, я не помню всех больных… — Он словно обрадовался своему необыкновенно убедительному ответу. — Вы должны понять, через мои руки проходит столько больных. — Профессор говорил торопливо, он явно старался развить успех. Он почти успокоился. Во всяком случае, внешне. — Тем более, что многих больных я вообще лично не смотрю. Что делать, — он развел руки извиняющимся жестом, — когда возглавляешь клинику, появляется совершенно невероятное количество чисто административных и финансовых забот и хлопот. Трудно даже представить себе, чем приходится заниматься. Например, вчера я полдня провел…
— Я понимаю, — перебил я его, — но, увы, в данном случае вы сами смотрели мистера Карсона, сами установили диагноз. И даже были лечащим врачом его, когда его привезли в клинику. Мало того, вы даже подписали результаты патологоанатомического вскрытия.
Теперь уже ток подключили к обеим рукам профессора. Они слабо подергивались, и он не мог найти им места. Он помассировал подбородок, снова провел пальцами по лбу, потер сердце.
— Когда это было? Я все-таки совершенно не помню…
Зря я пытался бороться, пытался разъярить себя. Скука, скука, совершенно противоестественная скука снова одолевала меня, и я с трудом подавил зевок. Старый добрый зевок, чудом сохранившийся в каких-то глубинах моей памяти. Все было бессмысленно. Признается этот старый негодяй, не признается — в сущности ничего не меняло. Зло вообще неистребимо. Закон сохранения зла. Борясь с ним, мы лишь убавляем его в одном месте, чтобы увеличить в другом. И поэтому, может быть, и не стоит с ним бороться. Может быть, это даже эгоистично. Я его отгоняю от себя, чтобы зло обрушилось на кого-нибудь еще.
Мне хотелось замолчать, закрыть глаза, не думать ни о чем. Наверное, не будь рядом со мной Луизы, я бы так и сделал. Я бы молчал и молчал. Через несколько минут они осмелели бы, вышли из состояния оцепенения, увидели, что перед ними не преступник, а лишь сухая его оболочка, и вызвали бы полицию. Или мистера Люшеса.
Но рядом со мной была Луиза. Я не мог предать ее. Я взглянул на нее. Она смотрела на меня с таким напряженным вниманием, так по-детски подалась вперед — что-то щелкнуло во мне, привычная боль привычно кольнула мое несуществующее сердце, и странная скука мгновенно испарилась. Поистине Луиза стала не только смыслом моей жизни, она начала выполнять функции моих отсутствующих органов. Я буквально почувствовал, как колотится ее сердце, как выбрасываются в ее кровяное русло потоки адреналина, как заводится пружина ее нервного напряжения. И — странное дело! — она словно передала мне частицу своего состояния. И старая добрая ненависть вернулась ко мне.
— Вы все прекрасно помните, дорогой профессор, — жестко сказал я. — И перестаньте играть в прятки. Каждой игре свой возраст. В семьдесят лет не прячутся. Ни от себя, ни от других. Перестаньте тянуть время. Отвечайте на вопросы или…
— Но кто вы? — дрожащим голосом спросил профессор. — Клянусь вам, я не помню…
— Вы все прекрасно помните. И не нужно ломать комедию, Трампелл. Вы плохой актер и никого ни в чем не убедите. Тем более, что я все знаю.
Старик вдруг страшно побледнел, голова его опустилась на грудь. Сейчас он умрет, пронеслось у меня в голове.
— Кристофер! — крикнула мисс Ковальски и одним прыжком очутилась возле его кресла. — Что с вами? — Она схватила его руку.
— Ничего, ничего, друг мой, — пробормотал профессор и медленно поднял голову. — Ничего, друг мой. — Он погладил ее руку, такую молодую и розовую на коричневом пергаменте его руки. Он посмотрел на меня. В светло-водянистых глазках стояли страх и ненависть. Что-то у нас с ним было общее. Похоже было, что мисс Ковальски тоже действовала на него как зарядное устройство. — Что вы можете знать? Да, я помню Карсона. Такой был блестящий ученый. Всего пятьдесят два года. Если бы он только пришел вовремя, мы бы спасли его. Сейчас столько новых средств… Но было уже поздно. Он был пронизан метастазами.
— Больше вы ничего не помните?
— Не понимаю…
— А вы не помните, что никакого рака у него не было, что вы фальсифицировали результаты обследования и даже томограммы вы подложили к истории его болезни чужие? Не помните?
— Что значит «чужие»?
— У человека, которому делали снимки, был когда-то перелом руки. И вставлен металлический штифт. У Николаса Карсона не было переломов. И не было металлического штифта на правой руке.
— Но он же умер… — пробормотал с трудом профессор. Теперь он не спускал с меня взгляда, словно я магнетизировал его.
— Вот я и хотел узнать, как вы убили его.
— Но он… но он… — Профессор не играл. Он жадно ловил воздух. Губы его были сизыми, а лицо посерело. — Когда его привезли в больницу, он был без сознания… Да, да, я прекрасно помню. Глубокая кома. Я еще подумал, что шансы наши чрезвычайно мизерны…
— Кристофер, вам нельзя волноваться, вы убьете себя, — сказала мисс Ковальски, которая все еще стояла около кресла, в котором сидел профессор.
— Это совсем другое дело. В коматозном состоянии Николаса Карсона я вас не обвиняю. И когда я спрашиваю вас, как вы убили его, я делаю это из чистого любопытства. Наверное, врачу все-таки нелегко сознательно отправлять на тот свет человека. Или у вас есть опыт?
— Что вы хотите от него? — крикнула мисс Ковальски. — Что вам нужно? Забирайте что хотите и убирайтесь! Убирайтесь! Разве вы не видите, что вы делаете с человеком!
По крайней мере, ей нельзя было отказать в лояльности. А может быть, профессор еще не успел переделать завещание, и верный секретарь боялась остаться с носом.
— Я жду, — сухо сказал я. — Я жду от вас ответа. Почему вы, немолодой уже человек, профессор медицины, глава клиники, убедили здорового человека, что он обречен на скорую и неизбежную смерть? Убедили, зная, что он здоров. Помнится, вы говорили, что так и не привыкли спокойно произносить приговоры. Еще вы вспоминали, что ваш отец хотел видеть вас судьей. Вы вынесли смертный приговор невиновному. И вы знали, что Карсон не виновен. Вы же сделали это не по своей воле. Вряд ли у вас такое странное хобби. Кто заставил вас? Или, может быть, вам так хорошо заплатили, что вы вволю посмеялись над клятвой Гиппократа? А, профессор? Смелее! Чего вы боитесь? Пора подумать и о душе, как вы считаете? В старое доброе время в вашем возрасте предусмотрительные солидные люди уже готовили себе чистый саван. Или гонорар за убийство включал и плату за душу?
Я говорил, а старик все съеживался и съеживался в кресле, все серел и старел на глазах, пока не превратился в столетнего пепельного гномика.
— Я… я ничего не могу добавить… Это какая-то ошибка… — наконец выдавил он из себя. — Вы во власти безумных идей…
Я почувствовал, что старик ни в чем не признается. О, они хорошенько запугали его. А может, и заплатили. Заплатили и запугали. У меня оставался последний козырь.
— Боюсь, что это не ошибка, — как можно спокойнее и небрежнее сказал я. — Дело в том, что я Николас Карсон.
Боже, как ожил гномик, как он быстро стал снова принимать свои прежние размеры, как порозовело его лицо, какая радость облегчения засветилась в маленьких водянистых глазках! Сумасшедший, ну конечно же, перед ним сидел сумасшедший! Какая радость! Какая удача! Но главное, наверное, думал он, не провоцировать безумца, потому что пистолет все-таки в его руках.
— Я не совсем понимаю, — уже тверже произнес профессор. — Вы же сами сказали, что Николас Карсон умер…
— Сказал, — согласился я. — И тем не менее я Николас Карсон. Вы видите меня?
— Конечно, вижу, — терпеливо кивнул профессор.
— Тогда смотрите внимательнее.
Я очень медленно, как это делают, наверное, при стриптизе, поднял дамскую свою кофточку, задрал нижнюю рубашку, привычным движением распахнул дверцу аккумулятора и вытащил шнур.
Мисс Ковальски ахнула так, словно на диафрагму ее наступил слон.
— Господи, дай силы… — прошептал профессор.
— Строго говоря, я не человек. Я машина. Ходячий робот, требующий подзарядки раз в две недели. Но в меня вложена память Николаса Карсона. Кем — я знаю. Для чего — нет. И я пришел к вам, профессор Трампелл, не для того, чтобы убить вас. Я мог бы это сделать уже сто раз. Я хочу знать, для чего украли мое тело. Вы ведь не могли не знать.
Я замолчал. Все козыри были выложены на стол. Я сделал и сказал все, что мог. Осталось только ударить его рукояткой пистолета по седой голове. Но я знал, что не сделаю этого. Хотя бы потому, что он бы умер прежде, чем я завершил взмах.
Пауза все тянулась, тянулась, пока профессор не прошептал:
— Господи, как это ужасно…
— Что?
— И то, что я вижу перед собой, и то, что я сделал… — Он снова замолчал и закрыл лицо руками. («Ну что ж, — подумал я, — по крайней мере, он начал признаваться».) — Они несколько раз приходили ко мне, — вдруг сказал профессор почти совсем твердым и спокойным голосом. Похоже было, что он перешагнул какой-то барьер страха и теперь ничто уже не сдерживало его. — Их интересовали ученые, которые числились среди моих пациентов.
— Почему именно ученые?
— Не знаю. Даю вам слово. Не знаю.
— Но кто это «они»?
— Одного из них — мне показалось, что он самый важный из них, — звали Вендел Люшес.
Мой добрый ангел-хранитель, так уставший от человеческой суеты на бесконечной и шумной жизненной ярмарке. Ночной упырь, высматривавший очередную жертву для Ритрита. Теперь я уже почти не сомневался, что все обитатели лагеря попали в него обманом.
— И что он вам сказал? Как он убедил вас пойти на такой шаг? Он же не хлопнул вас по плечу и не сказал: а что, старина Крис, не согласитесь ли вы, дорогуша, уговорить одного типчика, он у вас обычно лечится, что он помирает, а? Ради шутки, а?
Профессор тяжело вздохнул:
— Боюсь, им не пришлось особенно уговаривать меня.
— Почему?
— Они просто пригрозили мне.
— Чем?
— Видите ли… Однажды — это было много лет назад — я сделал глупость… Это было связано с наркотиками… Не знаю уж как, но этот Вендел Люшес был в курсе дела. Он сказал, что у них есть доказательства. Я поверил, потому что он действительно знал детали. Он выложил их передо мной и сказал, что дает мне полчаса на раздумья. После чего, если я не соглашусь, весь материал будет отправлен в полицию.
Поверьте, это были ужасные минуты… Лишиться всего, оказаться в тюрьме и провести там остаток своих дней. Я слышал уже шаги полицейских за дверью, чувствовал, как щелкают наручники на моих руках. Все рушилось… Господь с детства покарал меня живым воображением. Я видел себя в камере, в унылой, грязной и промозглой тюрьме. Я знал, что не переживу падения из теплого и комфортабельного мира в уголовную клоаку. Я знал, что слаб и труслив, но ничего не мог поделать с разбушевавшейся фантазией. У меня не было сил сопротивляться. Может быть, мне следовало бы покончить с собой, но и это я не мог сделать. У меня не хватило воли. Жизнь моя казалась мне в эти минуты такой сладостной… И я согласился… Поверьте, я был бы счастливее и спокойнее, если бы сидел сейчас в тюрьме…
— Но все-таки они что-то попытались объяснить вам. Ведь это довольно странная просьба: убедить здорового человека в том, что он умирает.
— Ну… они намекнули, что это необходимо для каких-то чрезвычайно важных и секретных экспериментов. Я не расспрашивал. Я боялся. Я хотел все забыть. Вычеркнуть из памяти. Не думать. Я знал, что, если не смогу это сделать, страшный балласт потянет меня на дно безумия…
— И вы, похоже, преуспели.
— Я понимаю, я не могу оправдываться, но если бы вы знали… Преуспел…
Лживый старик, он почти ухитрился разжалобить меня. Но у меня был надежный щит против сантиментов — то, что они сделали со мной. И все же мне было жаль его.
— Значит, больше вы ничего не знаете?
— Это все, что я могу сказать вам. Я не прошу прощения, это было бы смешно, если слово «смешно» уместно в нашем трагичном разговоре. И хотя я поклялся им никогда ни при каких обстоятельствах не выдавать тайну, я впервые чувствую сегодня хоть маленькое облегчение.
Кто знает, а может быть, он говорил правду. Во всяком случае, так мне казалось.
— У меня одна просьба к вам, — сказал я профессору. — Сейчас мы поедем с вашим секретарем в больницу, и пусть она отдаст мне мою историю болезни. И пожалуйста, помните, что я буду идти за ней и мой пистолет будет смотреть ей в спину. Я говорю это на всякий случай, чтобы вы вдруг не решили позвонить мистеру Люшесу и его друзьям.
— Пожалуйста, мистер Карсон. Айлин, — он повернулся к мисс Ковальски, — сделайте это, пожалуйста. Для меня. Если, конечно, — он улыбнулся жалко и печально, — вы еще можете заставить себя что-то сделать для меня.
— Хорошо, профессор. Не беспокойтесь, — сказала мисс Ковальски и направилась было к двери, но вдруг вернулась, нагнулась над креслом Трампелла и поцеловала его в лоб. Непроницаемое и неподвижное ее лицо, лицо идеального секретаря, вдруг жалобно сморщилось и она всхлипнула. Это было так неожиданно, что я не мог поверить своим глазам. Я бы меньше удивился, если бы всхлипнуло бронебойное орудие.
— Спасибо, Айлин, — прошептал профессор. — Поверьте, мне много легче. Поезжайте, дорогая моя.
Мы молча спустились на роскошном лифте и через двадцать минут уже подъезжали к больнице.
Я был уверен, что профессор никуда не звонил и никого не предупреждал. Очевидно, Айлин Ковальски играла в его жизни еще большую роль, чем предполагали больничные сплетницы. Он должен был понимать, что, если нас кто-нибудь встретит в больнице, мисс Ковальски никогда больше не сможет поцеловать его в лоб. Потому что у меня был пистолет.
— Ник, останься в машине, — вдруг сказала Луиза. — Я пойду с Айлин.
— Нет, пойду я.
— Ники, дай мне сумочку с пистолетом. Мне безопаснее. Мое лицо здесь знакомо и ни у кого не вызовет подозрений.
Я согласился. Может быть, Луиза была и права. Они вышли. Я сидел и думал о своем знакомом в Разведывательном агентстве. Когда-то Густав Ратмэн был хорошим парнем. Но кто знает, как меняются хорошие парни за время, пока дослуживаются до чина полковника. Во всяком случае, он выслушает меня. Надо было надеяться, что выслушает. А если нет? Тогда все кончено. Это был какой-то дьявольский заговор, и мне не за что было больше ухватиться. Они отлично поработали. Фонд Людвига не суетился. Покойный истребитель лесов не любил суеты. И они не считали деньги. Они могли покупать старых врачей и новые тела для своих жертв, они могли не спеша заметать следы. На что я надеялся, на что надеялся Тони Баушер? Два жалких Дон Кихота с медными тазами на головах вместо шлемов. Дон Кихот хоть мог сражаться с ветряными мельницами, а у меня был лишь жалкий старик с сизыми губами и щегольским платком на морщинистой шее.
Сражение окончилось, не успев начаться. В глубине души я уже не надеялся и на старого школьного товарища. Зачем я ему?
Пора бы Луизе уже появиться, подумал я. Из ворот вышел какой-то человек, неторопливо сел в машину и уехал. И почти тотчас же появилась Луиза. Она бежала. Я распахнул дверцу, и она плюхнулась на сиденье. Я понимал, что нужно двигаться. Я ничего не спрашивал. И только когда мы проехали несколько кварталов, она сказала:
— Айлин убили.
— Как это «убили»? — глупо спросил я.
— Мы вошли в ее кабинет, она открыла шкаф, но твоей истории болезни не было. Айлин проверила несколько раз. И тут только обратила внимание, что в замке кто-то ковырялся. Она стояла лицом к шкафу и рассматривала замок, когда вдруг что-то чмокнуло или хлопнуло и она стала падать. Я бросилась к ней, и в это время кто-то пробежал сзади. Я даже не успела оглянуться… О господи, это так ужасно… — Луиза заплакала.
Мой ангел-хранитель не дремал. И тут только я вдруг понял, что, если бы стрелявший видел лицо Луизы, она стала бы второй мишенью. Холодное оцепенение сжало мои мозги. Я твердо знал, что не смогу прожить без Луизы и дня. Особенно теперь. Я подъехал к тротуару и остановился. Я не мог ехать.
— Ты понимаешь, она была еще совсем теплая. У нее была теплая рука, когда я схватила ее, — прошептала Луиза, — и она была уже мертвой. И глаза у нее были открыты… Я… я никогда не видела мертвых… — Она всхлипнула прерывисто, совсем по-детски.
Все время я мучил женщину, которую любил. Я делал все, чтобы стащить ее с нормальной жизненной дороги и завести в мрачные топи. Она могла бы выйти замуж за нормального человека, молодого, полного сил и оптимизма, народить кучу детей. Вместо этого ее терзал своими сомнениями печальный иск. А теперь еще вдобавок эта ходячая машина тащит ее за собой по стрельбищу, где на линии огня — неплохие специалисты по стрельбе по живым мишеням. Давно, давно нужно было быть мужчиной, решительным и жестким, и вывести Луизу на хоженую дорожку, поцеловать в последний раз и расстаться навсегда.
Но все это теперь пустые слова. Было уже поздно, мы стали мишенями, и стрелки поджидали нас за каждым углом.
Даже если я приползу на брюхе к мистеру Люшесу и скажу:
«Добрый мой ангел-хранитель, вот я вернулся к вам. Можете делать со мной что угодно, можете разряжать меня, но только не стреляйте в Луизу Феликс», он не обманет меня (он зря не обманывал), он пожмет плечами и скажет: «К сожалению, мы не сможем выполнить вашу просьбу. Вы сами понимаете, что элементарные меры безопасности требуют, чтобы вас мы разрядили, а мисс Феликс убрали».
К машине подошел полицейский. Я даже не испытал укола страха. Когда за тобой охотятся, место рядом с полицейским начинает казаться сейфом в банке.
— Здесь стоять нельзя, мисс, — лениво процедил он.
— Спасибо за предупреждение, — сказал я, совершенно забыв, что мой мужской голос не очень вяжется с пышным париком и накрашенными губами.
Полицейский недоуменно посмотрел на меня, я улыбнулся, и мы отъехали от тротуара.
ГЛАВА 14
Полковник Разведывательного агентства Густав Ратмэн увлекался в школе и университете легкой атлетикой и неплохо бегал на длинные дистанции. Особенно любил он пять тысяч метров. На этой дистанции нужно уметь распределять силы. Нужно уметь терпеть. Нужно уметь держаться позади, слушать тяжкое дыхание соперников, видеть взмокшие спины и в нужный момент вырваться вперед, оставив всех позади.
И, даже перестав бегать, он сохранил психологию стайера. Главное — уверенность, что ты сумеешь обойти конкурентов и первым коснешься заветной ленточки. Финишей было много: продвижение по службе, женщины, интересные командировки. Но и бегунов на карьерной дистанции было немало.
Такова была жизнь — один беспрерывный, нескончаемый бег. Пока сохранялся оптимизм, пока тяжкое дыхание конкурентов слышалось чаще позади, чем впереди, — все было нормально.
Но в последние годы Густав Ратмэн все чаще видел перед собой спины. И как он ни старался обойти их, конкуренты не исчезали. Они словно издевались над ним. Они маячили впереди, и как он ни выкладывался, расстояние между ними и им не сокращалось. Сделать усилие, заклинал он себя, собрать силы на финишный рывок. И по-прежнему видел ненавистные спины. И финишировали конкуренты задолго до него. Это было совершенно непонятно, нарушало все привычные представления о том, что должно происходить на дистанции.
Но в один прекрасный день, два года назад, когда сотрудники, жена и двое дочерей поздравили его с пятидесятилетием, он вдруг все понял. Словно протер глаза и увидел то, что упорно не хотел видеть. Он долго стоял в ванной и с изумлением смотрел на немолодого человека с усталыми глазами и глубокими залысинами. Под глазами пролегли тоненькие меридианы и параллели. Пятьдесят лет. Полвека.
Строго говоря, дистанция была уже пройдена. Оптимизма для новых финишей не осталось, хотя бы потому, что бегуны были молоды, много моложе его. И чем яростнее он старался прибавить скорость, тем смешнее звучало его бессильное пыхтение.
О, он не преувеличивал. Почти четверть века прослужил он в Разведывательном агентстве, и мозг его был хорошо тренирован. Он умел оценивать факты. В конечном счете, этим он и занимался двадцать пять лет — оценкой фактов. Важно было лишь иметь факты.
А факты были в целом довольно грустные. Начальство относилось к нему с добродушной симпатией, как к старой домашней собаке, но всерьез уже не принимало, и шансы на продвижение практически равнялись нулю. Жена давно превратилась в не слишком доброго соседа, а дочери месяцами не видели его и, по-видимому, никакого желания видеть его не испытывали, хотя и та и другая жили в радиусе трех миль от него.
С тех пор, с того внезапного печального озарения, Густав Ратмэн стал заметно сдавать: залысины стали глубже, сетка морщинок под глазами усложнилась, стала похожа на подробную географическую карту, а главное — полностью исчез оптимизм. Впереди оставался один только финиш, который пересекают все, беги не беги.
Он заметил, что стал сумрачнее, апатичнее, но ничего сделать с собой не мог, да и не хотел. К чему? К чему пыхтеть, если дистанция почти пройдена… Беги не беги — аплодисментов больше не будет. И разорванная ленточка будет означать не очередную победу, а последнее поражение, потому что за ней будет пустота, конец.
В это утро он собрался уже отправиться в Контору, как сотрудники часто называли РА, когда вдруг зазвонил телефон. Густав снял трубку.
— Мистер Густав Ратмэн? — послышался мужской голос.
— Я вас слушаю, — сказал полковник и взглянул на часы. Нужно было уже выходить, чтобы не опоздать.
— Ты помнишь школу и дурочку Милли с фиолетовыми глазами? — спросил незнакомый голос.
Милли, первая любовь. Короткая, месяца два, но пылкая школьная любовь. С замиранием сердца, с комком в горле, с миром, который то погружался во тьму, то светлел в зависимости от взгляда огромных фиолетовых глаз. Боже, какой он был глупый теленочек, трогательный теленок! И как бесконечно давно это было… Но кто это?
— Да… — неопределенно протянул он.
— Тогда ты должен помнить Ника Карсона.
— Ник? Ну конечно же, как же! Ник Карсон! Это ты? — воскликнул полковник с неподдельной радостью. Ник Карсон… Воспоминания другой жизни, другого измерения. Но удивительно у него молодой голос. Ему ведь тоже должно быть пятьдесят два.
— Это я.
— С какого ты света?
Карсон хихикнул:
— Это сложный вопрос.
— Все шутишь. Ты, помнится, по научной части пошел?
— Точно.
— Прости, Ник, я сейчас тороплюсь на работу, но я бы хотел увидеться с тобой.
— Для этого я и позвонил, Густав. Я и сам не просто хочу, мне необходимо встретиться с тобой. И как можно раньше.
— Может быть, ленч?
— Лучше после твоей работы. Ты можешь заехать ко мне. Поверь, это очень важно, Густав.
В голосе старинного товарища звучала даже не просьба. Мольба.
— Я приеду, — сказал полковник.
— Спасибо, — облегченно вздохнул Карсон и продиктовал адрес. — Я буду ждать. Поверь, это очень и очень важно.
Что он имел в виду? Влип, наверное, в какую-нибудь историю, думал Густав Ратмэн, садясь в машину. Не понимают, что РА вовсе не полиция и полицейскими делами не занимается. Гм, Милли, Милли, господи, неужели ему когда-то было пятнадцать лет? Неужели людям вообще бывает пятнадцать лет? Печальная нежность сжала его сердце. Милли… Если она жива, ей тоже должно быть пятьдесят два. Милли — этот маленький озорной чертенок с огромными фиолетовыми глазами — и пятьдесят два года! Невероятно. Просто не укладывается в сознании.
В Конторе было полно работы. Бумажный поток подхватил его и нес почти целый день, и лишь ближе к концу он вспомнил о предстоящем свидании. По многолетней привычке он потянулся к информатору, подсоединенному к главному компьютеру Агентства, и запросил сведения о Николасе Карсоне, 1944 года рождения.
На дисплее тут же появился ответ: Николас Карсон, 1944 года рождения, гражданин Шервуда, физик, умер 27 февраля 1996 года.
Почему-то полковник даже не очень удивился. Он повторил запрос, зная, что информатор никогда не ошибается. Не ошибся он и на этот раз. Умер. Действительно умер от рака. Смотри некрологи там-то и там-то.
Вот тебе и чертенок Милли с фиолетовыми глазами. И это отнимают у него. Даже воспоминания детства. Странный звонок. И этот молодой голос. И настойчивые просьбы встретиться.
Полковник уже несколько лет сидел, как он выражался, на бумагах, и начал забывать, что такое оперативная работа. Очевидно, кто-то, кто хотел бы встретиться с ним, либо знал Ника Карсона, либо что-то знал о нем. Наживка вполне могла бы сработать, не проверь он сведения о школьном товарище. Но, с другой стороны, не может же та сторона быть настолько наивна, чтобы исключить проверку по главному компьютеру. Это же элементарная процедура. И потом, вполне могло случиться, что он знал о смерти Карсона. Он мог наткнуться случайно на некролог, ему мог сказать кто-то из знакомых. Нет, что-то сомнительно, чтобы это была приманка. Не похоже, чтобы извечный их противник действовал такими нелепыми методами. И все же, и все же… По правилам, отправляясь на такое свидание, он должен был получить разрешение своего начальника, и место встречи должно было находиться под наблюдением.
Полковник представил, как он войдет сейчас в кабинет генерала Иджера и скажет: «Меня очень просил встретиться с ним мой школьный товарищ. Но он умер еще в феврале». Генерал поправит очки — он всегда поправлял очки, прежде чем сказать что-нибудь, — и улыбнется рассеянно и снисходительно, как улыбаются старой собаке: «Так он что, звонил с того света?».
Не хотелось ему идти к генералу Иджеру, положительно не хотелось. Но если все-таки там его поджидает представитель той стороны? Непохоже, непохоже… Нет, совершенно непохоже. Противник вполне мог бы придумать что-нибудь более интересное, что не проверялось так легко одним нажатием на клавиши информатора.
И вдруг полковник решил: пойду. Сам. И от легкомысленного риска почувствовал себя сразу моложе. Может быть, он готов был подсознательно на любой риск, лишь бы вынырнуть на мгновение из скучного бумажного моря, в котором он тонул уже столько лет.
К тому же он не знал ни одного сотрудника Агентства со стажем, кто не привык бы полагаться на интуицию. Без нее в Агентстве просто нечего было делать. А интуиция старого волка подсказывала ему, что на этот раз бояться ловушки нечего.
Он еле дождался конца рабочего дня и поехал на Стюарт-стрит, по адресу, который дал ему покойный Ник Карсон.
Улочка была тихая, и полковник легко нашел место для стоянки всего за два дома от того, который ему был нужен.
Он не спеша прошел мимо, привычно глядя в боковые зеркала и задние стекла стоявших машин, не следят ли за ним. Вернулся. Но ничего и никого подозрительного он не заметил.
Он глубоко вздохнул, как перед прыжком в воду, и вошел в подъезд. Стены вестибюля были выкрашены в коричневый цвет, лампочка под потолком покрылась многовековым слоем пыли и почти не давала света. Было темно, лестница пронзительно пахла кошками.
Его вдруг охватило острое ощущение нереальности происходящего. Что он делает здесь, немолодой, усталый человек с глубокими залысинами? Куда подымается по этой вонючей лестнице? К какому призраку он идет на свидание? Он ли вообще это? Неужели Густав Ратмэн?
Он, он, усмехнулся Густав Ратмэн. Он идет на свидание с выходцем с того света и — что самое удивительное! — получает от этого явное удовольствие.
Он медленно поднялся на третий этаж и позвонил. Он стал сбоку, чтобы тот, кто откроет, не сразу увидел его. Дверь открыла молодая высокая женщина.
— Добрый вечер, — сказал полковник.
— Вы мистер Ратмэн?
— Да.
— Проходите, пожалуйста, Ник ждет вас.
Он уже не боялся. Интуиция подсказывала ему, что бояться западни не следует. И еще она подсказывала, что сейчас он услышит что-то интересное, и он почувствовал почти забытое охотничье возбуждение агента, вышедшего на свежий след.
Навстречу ему встал стройный молодой человек лет тридцати или того меньше. Если бы Ник Карсон даже и не отправился на тот свет 27 февраля текущего года, все равно человек перед ним был лет на двадцать пять моложе и правильные черты его лица не имели ничего общего с тем Ником, которого ему сохранила память и который смотрел на него сегодня с дисплея информатора.
— Привет, Гус, — сказал молодой человек и улыбнулся: — Я все понимаю. Не надо быть телепатом, чтобы читать твои мысли.
— Вы правы, молодой человек, тем более, что Николас Карсон умер двадцать седьмого февраля, то есть почти полгода тому назад.
— Я так и думал, — кивнул молодой человек. — Я так и сказал себе: Ник, он наверняка проверит по каким-нибудь своим каналам. Я боялся, что ты не придешь. Согласись, что идти на свидание с покойником — не очень привычная процедура. Но я все равно надеялся. У меня просто нет другого выхода.
— И все же я не совсем понимаю, — пожал плечами полковник.
— Сейчас ты все поймешь. Будем надеяться, что поймешь. У тебя сердце в порядке? Гус, я не шучу. То, что я сейчас покажу тебе, может потрясти человека.
— Боюсь, я уже все видел в жизни…
— Нет, этого ты не видел. Этого ты не мог видеть, Гус. — Молодой человек вытащил из брюк рубашку, задрал ее. На упругой ровной коже виднелся странный прямоугольник. — Смотри внимательно, Гус, и не пугайся. Видишь, я открываю лючок…
— Молодой человек откинул прямоугольник и вытащил из живота шнур с вилкой на конце.
Полковник медленно опустился в кресло. Как всегда в минуты потрясения, он стремился успокоить себя неторопливыми привычными движениями. Он вынул платок, аккуратно развернул его и вытер вспотевший лоб. Руки его слегка дрожали. Это было действительно страшно. Страшно не потому, что электрический шнур из живота угрожал ему, а страшно потому, что его живая плоть содрогнулась от инстинктивного отвращения к чему-то противоестественному.
Молодой человек отпустил шнур, и пружина тут же втянула его в темный прямоугольник в животе. Он закрыл лючок и сказал:
— Я действительно умер в феврале, и то, что видишь перед собой, — всего-навсего совершеннейший манекен, машина, в которую перенесена память и личность твоего школьного друга. В этом смысле я полноценный Ник Карсон. Я прекрасно помню тебя, помню как мы болели за тебя всем классом, когда ты бегал. Помню, как во время соревнований… с кем же мы тогда состязались? А с Местакской школой. Ты тогда установил какой-то рекорд и упал сразу после финиша. И я выскочил на дорожку и бросился к тебе. Я думал, что ты умер. И когда я наклонился над тобой — такого острого запаха пота я никогда больше не встречал — и ты открыл глаза, я был счастлив. Но кроме того, я испытал мгновенное постыдное разочарование. Ты был моим другом, но я завидовал тебе. Ты был знаменит, а я светил лишь отраженным от тебя светом.
Но это был, повторяю, мгновенный всплеск темных чувств. И мне сейчас не стыдно. Потому что, когда ты встал, восторг тут же придавил поднявшуюся было душевную дрянь. Я смотрел на тебя и гордился тобой. И твоим рекордом. И тем, что ты встал. И тем, что все хлопали и орали. Я даже не ревновал тебя к Милли в этот миг. Это был твой час. Ты помнишь?
— Да, — сказал полковник Ратмэн.
— Но я позвал тебя не для сентиментальных воспоминаний. Я позвал тебя для того, чтобы ты помог мне. Мне больше не к кому обратиться. Дело в том, что меня убили…
— Николас Карсон умер от рака легкого, — глухо сказал полковник.
— Меня убедили, что у меня неоперабельный рак с множественными метастазами. И предложили искусственное тело. И противоестественную, но жизнь. Но на самом деле я был здоров. Это долгая история.
То ли помогло воспоминание того дня на дорожке школьного стадиона, то ли глупая Милли с фиолетовыми глазами, то ли весь скепсис сразу выбил из него шнур аккумулятора, змеившийся из черного отверстия в животе, но полковник Густав Ратмэн верил каждому слову школьного товарища. Содрогался, извивался, как червь, под напором его рассказа, не желая верить, но верил.
А может быть, еще и потому поверил так легко, что старая добрая его интуиция подсказывала, что история эта была непроста, было в ней нечто такое, что настораживало. Чудился некий план, некий замысел. Какой — он и представить себе не мог, потому что все услышанное им не находило никакого аналога в памяти. Но нюхом старого работника Агентства, нутром, клетками тела улавливал он очевидную несуразность: он, ветеран РА, слыхом не слыхивал о Ритрите. А построить такой Ритрит, да так, что практически о нем никто не знал, — о, это было непростое дело! И тайну скрывали не на любительском уровне. Так, что пошли, не задумываясь, на убийство из-за истории болезни. Из-за двух-трех листков бумаги.
— Ник, — задумчиво сказал полковник, — я многого все-таки не понимаю. Если им так важно сохранить тайну Ритрита, почему они не изолировали лагерь от внешнего мира? Почему они разрешили, например, посещения?
— Я сам себя спрашиваю об этом. По-видимому, совет директоров заинтересован в том, чтобы мы не считали себя узниками. Не забудь, что мы все попали в Ритрит — так, во всяком случае, предполагается — сугубо добровольно. Фонд Людвига — не тюремщик, а благодетель. И к тому же, как я тебе рассказал, Вендел Люшес — он один из директоров совета — объяснил мне, на чем основана их уверенность: в это просто никто не может поверить. Так же, как не поверил бы ты, если бы я не вытащил перед твоим носом шнур аккумулятора из живота.
— Но для чего этот преступный способ добывания новых… Как ты говоришь? Исков?
— Не знаю. Может быть, они почему-то торопились. Для чего-то им нужно как можно быстрее собрать больше исков в лагере.
— Да… гм… будем думать, Ник. Это, конечно, не по моей части, но такие истории слышишь не каждый день… Скажи, об этой квартире кто-нибудь из Ритрита знает?
— Как будто нет. Это квартира подруги Луизы.
— Постарайся пока не выходить отсюда. Ни ты, ни Луиза. Я позвоню. — Он записал номер телефона. — До свидания.
ГЛАВА 15
Тони Баушер чувствовал себя как зверь в капкане. Нет, сказал он себе, это не совсем точно. Не просто в капкане, а в капкане, вставленном в другой капкан, которым в свою очередь наживлен третий.
Он встал с кровати, на которой провалялся почти сутки, подошел к зеркалу в ванной его маленького номера в гостинице «Санрайз инн» и посмотрел на себя. Зеркало было над раковиной, и по краям его амальгама начала уже пузыриться. Боже, как он ненавидел это ангельское в своем неподвижном спокойствии лицо с правильными, чересчур правильными чертами! Это был первый капкан. Миллионодолларовый совершенный капкан, триумф науки и техники, гимн гибким, упругим пластикам, сверхминиатюрным компьютерам и мощным, но легким моторам. Капкан с тонкими, почти живыми на вид и на ощупь стенками, но в тысячи раз более надежными, чем метровые стены старинных крепостей-тюрем.
Вторым капканом была гостиница. Он много раз подходил к окну, и каждый раз ему чудились внизу шпики. Вдоль тротуаров рядами стояли машины, и в каждой — он это чувствовал — сидели шпионы, подкарауливавшие его. Да что машины! Сотни, тысячи людей проходили под окнами «Санрайз инн», и все они были соглядатаями. Ловкими, хитрыми, безжалостными. Никто из них не поднимал головы, не смотрел на окна — и все для того, чтобы усыпить его бдительность. Вон, например, толстенная дама толкает детскую коляску. Это же чудо естественности. Даже ребенок виден, сидящий в экипаже карапуз. Но это же переодетый шпион, агент. Или вон те двое молодых людей, стоят обнявшись. И это агенты. Кругом агенты. А цель у них одна — Тони Баушер, беглый иск из Ритрита.
А самой большой западней был весь городок. Городок с больницей, в которой сейчас наверняка склонился над больным высокий красивый хирург. Тот самый, который полтора года тому назад склонился над Тони Баушером, скорбно вздохнул, несколько раз покорно кивнул судьбе, призывая пациента сделать то же самое, и сказал:
— Боюсь, мистер Баушер, дела наши не очень хороши, у вас раздроблены обе ноги.
— Что значит «раздроблены»? — спросил Тони. Все-таки он был ученым и привык к точным определениям.
— Увы, в данном случае филология и медицина единодушны, — сказал врач. У него был приятный, сочный баритон, который как нельзя лучше подходил к красивому, мужественному лицу. Настолько мужественному, что Тони стало на мгновение стыдно: взрослый человек — и огорчает врача такими пустяками, как раздробленные ноги.
Если бы он только мог добраться сейчас до этого красавца! Но шпики окружали гостиницу, окружали больницу, стояли плотным кольцом вокруг хирурга. Они все ждали Тони. На этот раз они не стали бы дробить ему ноги. Портить такое дорогое тело — чистое безумие. Они поступили бы с ним так же, как с Сесилем Стромом, тем самым, который как-то сказал ему в Ритрите, что начинает кое о чем догадываться. Они просто-напросто выкинули бы его мозг, его душу, стерли из нейристоров его память и поселили в освободившемся теле нового иска. Даже не сделав, наверное, дезинфекции. Для чего? Никаких следов Строма в мозгу не осталось, как не останется следов от него. Тони Баушера, когда он выйдет из этого номера и его займет следующий постоялец.
Боже, как все просто казалось ему в Ритрите, когда они обсуждали с Карсоном план побега! Лишь бы добраться до Кинглоу, говорил он себе. Лишь бы добраться до Кинглоу. И вот он в Кинглоу, в миле или двух от больницы, в которой красавец хирург с мужественным лицом склоняется над очередным больным. Но как вырваться из кольца шпиков? Они и в номере его, наверное, натыкали потайные микрофоны. Хорошо еще, что он ни слова не произнес вслух.
Нет, не зря он сомневался. Не надо было поддаваться глупому соблазну. Не надо было взращивать в мозгу нелепое наваждение. По крайней мере, в Ритрите никто не охотился за ним. Наоборот, все они были заинтересованы в том, чтобы он, Антони Баушер, ученый-химик из университета Кинглоу, чувствовал себя спокойно, мог продолжать любимую работу и привыкать к мысли о своем бессмертии. Они даже читали ему проповеди на торжественных коллективных подзарядках аккумуляторов, они прикрепили к нему постоянного наставника, ангела-хранителя и проводника по новой жизни.
Ему теперь уже казалось, что это не он подбивал Карсона на побег, не он раскрыл ему глаза, а Карсон сбил его с толку. Всегда он был немного странным типом, этот Ник Карсон, всегда настолько высокого мнения о себе, что редко считался с простыми смертными.
Тони потряс головой. С ним творилось что-то странное. Страх подгонял его мысли, заставляя их сворачивать с пути, который он выбирал, подтасовывал карты памяти. Это же все чепуха, что лезет ему в голову, твердо сказал он себе, и в отношении Ника и со шпиками. «Чепуха, чепуха», — повторял он уже вслух, забыв о потайных микрофонах, но страх не поддавался заклинаниям.
Я схожу с ума, сказал он себе. И на несколько секунд туман рассеялся, и он увидел, что находится во власти фантомов, призраков, порожденных его мозгом. Надо сделать усилие и разорвать сжимавшую его удавку, разогнать видения. Разве может быть столько шпиков, да тем более из-за него, это же чушь, чушь, нонсенс! Вышвырнуть все эти порождения гнусного страха и захлопнуть перед ними все двери. Ему давно уже было страшно, и он почти привык к сосущей тошнотворной пустоте в несуществующем сердце. Но теперь страх стал каким-то многогранным, и одна из граней леденила его ужасом безумия. И в этот короткий момент, когда занавес наступавшего безумия вдруг раздвинулся, страх стал невыносим.
Шпики? Да какое это в конце концов имело значение? Все равно он был в капкане, в двух, трех капканах. И заряжен был последний капкан вовсе не красавцем хирургом. Он знал это все время, но не хотел признаваться себе. Наживкой служила дочь. Девятилетнее существо со слегка вздернутым носом и широко расставленными серыми глазами. Она любила вести с ним длинные серьезные беседы. А почему люди бывают несчастными? Почему все не могут договориться и не перестанут огорчать друг друга? Почему одна девочка в их классе всегда старается сделать исподтишка пакость? А люди вообще хорошие или плохие?
Она была еще в том возрасте, когда ее интересовали абстрактные вопросы. Она была еще доверчива и полна любви к отцу. Они не говорили о любви, но она омывала его теплой волной нежности, когда Рин прижималась к нему, обхватывала его шею своими тонкими ручонками.
Он знал, что должен увидеть ее. Хотя бы издалека. Все равно он не смог бы поговорить с ней. Рин знала, что отец умер, и он не собирался переубеждать ее. Он даже и с женой не связался, когда попал в Ритрит. Для чего? Для чего тянуть с собой балласт предыдущей жизни в новую? Даже рядом, одинаковые, они с женой плохо понимали друг друга. Так можно ли было надеяться, что разочарованная, нервная сорокалетняя женщина, видевшая во всех вокруг одних лишь недоброжелателей, поймет вдруг иска?
Рин, может быть, и поняла бы. Но нельзя наносить девятилетнему существу такой нокаут. Ее психика просто не выдержала бы. А так… так, наверное, она давно уже успокоилась. В ее возрасте горе забывается быстро и душевные раны рубцуются с жестокой быстротой.
И все-таки он должен был взглянуть на нее. Если быть честным, именно для этого он приехал в Кинглоу. Именно для этого, а не для того, чтобы спросить красавца хирурга, для чего его обманули…
Марджори Баушер не хотелось беседовать с этим настырным журналистом, но он уже звонил дважды, и она с громким вздохом согласилась встретиться с ним.
— Не вздыхайте так, миссис Баушер, — сказал журналист, — телефонная трубка расплачется от такого печального вздоха. Даю слово, я украду у вас не более получаса. Я пишу очерк о вашем покойном муже, у меня почти все готово, хотелось бы только узнать что-нибудь о его семейной жизни.
Он приехал минута в минуту, молодой, улыбчивый, извинился за доставляемые хлопоты, достал блокнот, диктофон.
— Так что вас интересует, мистер Калифано? — скучным голосом спросила миссис Баушер. Ей не интересен был этот разговор, не интересен будущий очерк о покойном муже. И даже покойный муж был ей не интересен. Он и при жизни-то в последние годы не слишком интересовал ее, если говорить правду. Она закурила, затянулась и откинулась на спинку кресла.
— Скажите, миссис Баушер, ваш муж был к вам очень привязан? И давайте договоримся: если вопрос вам кажется чересчур интимным или неприятным, можете не отвечать.
Марджори Баушер пожала плечами.
— Я думаю, вы прекрасно можете написать все сами. Напишите, что мы безумно любили друг друга. А если почему-либо вам нужна правда, можете написать, что в последние годы мы были почти чужими людьми. А если уж совсем искренне, так мы просто не выносили друг друга и не развелись лишь из-за лени.
Журналист тонко улыбнулся. Он ценил откровенность. Улыбка была благодарная и успокаивающая. Он все сделает так, как надо, пусть миссис Баушер не беспокоится.
— А перед смертью… В это время трагические обстоятельства часто сближают людей… Он не потянулся к вам?
Миссис Баушер откинула голову и выпустила клуб дыма.
— Вы спрашиваете так, будто я церковь, и Тони должен был в последнюю минуту вернуться в ее лоно… Вам налить что-нибудь? Виски?
— О спасибо, миссис Баушер, я не пью, — сказал журналист.
— Как это не пьете? Совсем?
— Стыдно сказать, но я убежденный трезвенник.
— А… — протянула Марджори Баушер и налила себе немножко виски, — вы, наверное, из какой-нибудь секты? Их нынче тьма тьмущая расплодилось.
— Можно сказать, да, — улыбка мистера Калифано стала еще тоньше, и он понимающе кивнул. «Умная, незаурядная женщина, — говорила улыбка. — Наслаждение интервьюировать ее».
— А как ваш муж относился к дочери? Ей, по-моему, — журналист взглянул в блокнот, — девять лет?
— О, сейчас ей уже одиннадцатый. Мне кажется, — миссис Баушер почему-то слегка нахмурилась, — что они очень любили друг друга.
— Она учится в школе Холбрука?
— Да. Я смотрю, вы изрядно поработали над вашим очерком. Вы даже знаете, где учится Рин.
— Рин? Ах да, это же сокращение. Айрин Баушер. Значит, ваш муж был очень привязан к дочери?
— Да, — скучно кивнула миссис Баушер, — я вам уже сказала.
— Спасибо, — сказал журналист и встал. — Я держу слово. Я обещал вам, что интервью не займет много времени.
Он сам не знал, как ему удалось прорваться сквозь кольцо шпиков, которое опять сомкнулось вокруг него. Наверное, помог его дамский костюм, парик и косметика, которой он уже сам научился пользоваться.
О, это были опытные шпики, что окружали гостиницу. Еще опытнее, чем те, кто следил за ним раньше. Они даже виду не подали, что следят за ним. Они двигались по тротуарам, стояли, разговаривали в лучших традициях реалистического театра. И если не быть уверенным, что все они заняты лишь одним — выследить иска Антони Баушера, их можно было даже принять за обыкновенных прохожих.
Тони Баушер не спеша шел по Конститьюшен авеню. Еще два квартала, поворот направо — и через двести метров школа Холбрука, в которой училась Рин. Тони вдруг подумал, что вдова его давно могла переехать куда-нибудь, что Рин давно уже не учится в этой старой школе, построенной, наверное, до второй мировой войны. Мысль эта испугала его, и он поразился, как нелогичны, не похожи на обычные стали его поступки. Кто-то опять выдул туман из его головы: как он смешон, когда повсюду ему чудятся шпики. Это же фантомы, порождения его страха. Но сейчас страх отступил на несколько шагов и здравый смысл тут же разогнал наваждение. Конечно, они могли смело предположить, что он в Кинглоу. В конце концов, это его город, здесь в больнице с ним проделали фокус с раздробленными ногами, здесь жила его семья. Вполне возможно, что в больнице дежурил их человек с фотографией иска Антони Баушера. Может быть, еще один у его дома.
Но они не могли представить, что он сейчас — молодая особа в узких брючках с довольно вызывающей косметикой на лице и модной длинной прической. Вначале, когда он вышел из гостиницы, ему казалось, что шпики вглядываются ему в лицо. Теперь он понял, что это мужчины засматриваются на симпатичную девицу. Надо отдать должное Луизе, она неплохо придумала этот маскарад.
Он подошел к телефону-автомату и позвонил к себе домой. Удивительно, что он не забыл еще номер.
— Да, — ответил голос Марджори. — Я вас слушаю, — нетерпеливо добавила она и, не дождавшись ответа, положила трубку. Значит, они никуда не уехали. Конечно, можно было сказать ей:
— Привет, Мардж, это Тони. Твой покорный муж… — И так далее.
Но ему не хотелось шутить. Даже мысленно. Ему хотелось лишь взглянуть на Рин. Это была единственная цель. Потом он позвонит, как обещал, Нику Карсону. Может быть, у Ника что-нибудь получается, может быть, он что-нибудь придумает для них двоих. У него, у Тони Баушера, не было ни сил, ни воли. Страх, отставший было на шаг—два, снова догнал его. И снова из всех окон уставились на него ухмыляющиеся рожи шпиков. О, они не выпустят его из капканов. Зная, что с ним случилось, они видели в нем угрозу для Ритрита. Знание — опасность. И это знание они тщательно сотрут из его нейристорного мозга, прихватив заодно и память о ручонках Рин у него на шее, спокойную и редкую радость удачного дня в лаборатории. Память об одиноких прогулках, которые он так любил, когда в такт шагам мысли, вернее, обрывки их плывут легко и ненавязчиво.
Он точно рассчитал время. Ему пришлось постоять всего минут десять, пока двери школы распахнулись под напором нескольких сот истосковавшихся по свободе маленьких зверят. Вначале мимо него пронеслись совсем маленькие животные. В воплях их слышалось торжество освобождения. Потом проскакали более крупные. А потом он увидел Рин. Боже, как она выросла! Чуть ли не на полголовы. И очки другие. Она шла рядом с маленькой пухленькой девочкой, и они о чем-то оживленно разговаривали.
О, как подняла, закрутила Тони Баушера теплая, неожиданная волна! Как потащила к высокой девочке с курносым носом и широко расставленными глазами! Он упирался, он знал, что не должен подходить к Рин, но ничего не мог с собой сделать. Волна несла его, приподняв над тротуаром с выщербленным асфальтом, над здравым смыслом, над его страхом.
— Простите, — совсем тихонько пробормотал он, забыв о несоответствии своего голоса и облика, и Рин бросила на него недоуменный взгляд. Должно быть, лицо молодой вульгарной женщины чем-то поразило ее, потому что она остановилась и со своей обычной благожелательной серьезностью спросила:
— Вы что-то хотели спросить, мисс?
Вот, собственно, и все, что можно было ждать от судьбы. И не о чем жалеть, нечего терзать себя страхами. Не в силах сдержаться, он поднял руку и быстрым нежным движением коснулся щеки дочери.
— Кто это? Пойдем, Рин, — сказала пухленькая и дернула подругу за рукав.
Но Рин шла как-то неохотно, то и дело оглядывалась на странную, забавно накрашенную женщину, которая так нежно и печально смотрела на нее.
— Ты представляешь, что сегодня выкинул этот беззубый Фредди Лакун? Подошел к маленькой Изабелле и признался ей в любви. — Подруга Рин засмеялась. — Представляешь, как он шепелявит?
Рин еще раз оглянулась на странную молодую особу. И в этот самый момент около женщины остановилась машина, и чьи-то руки втянули ее внутрь. Рин вздрогнула. Ей показалось, что картина ей лишь померещилась. Но женщины с печальными, неумело накрашенными глазами не было, а машина с урчанием умчалась. Наверное, бедняжка сумасшедшая, решила Рин, убежала из заведения, и вот — теперь ее нашли. Почему вообще люди сходят с ума?
— Представляешь, шепелявый — и признается в любви. Изабелла фыркнула, а он обиделся…
«А действительно, почему люди сходят с ума? — думала Рин. — Надо будет спросить или прочесть что-нибудь на эту тему».
Тони Баушер даже не испытал шока, когда чьи-то сильные руки неожиданно втащили его в машину. Он сдался заранее и сейчас испытывал даже какое-то противоестественное успокоение. По крайней мере, не надо было ждать кошмара. Он уже наступил. И был менее страшен, чем ожидание его. И шпиков можно было больше не бояться. Все они уже прекратили слежку. Интересно, как им всем сообщили, что Баушер пойман?
— Руди, стащи-ка с него парик, — сказал человек, сидевший за рулем, и другой, сидевший рядом с Тони, резко дернул за парик и стянул его. Водитель скосил взгляд и посмотрел в зеркало заднего обзора.
— Неплохо придумано, — сказал сосед Тони. — Если б он не подошел к девчонке, мне и в голову бы не пришло, что эта смазливенькая бабенка — Тони Баушер.
— Со всеми с ними так, — философски заметил водитель. — Все проделают как надо, иногда даже диву даешься, как такое придумывают, а потом попадаются на простых вещах. Так сказать, эмоциональный фактор.
— Да, считай, нам повезло. Мне как его вдова сказала, что он был сильно привязан к дочери, я сразу понял, где наш единственный шанс.
Удивительное дело, как-то вяло подумал Тони Баушер, мне нужно было бы сейчас рваться и метаться, как пойманному зверю, проклинать волну, что поднесла меня к дочери, а я почти спокоен. И страха больше почти не было. Было просто скучно. И вдруг с удивительной четкостью, словно сразу прозрев, он понял, что не хочет жить. Жизнь не казалась ему более достойным занятием. Она не держала на вытянутой руке ничего, к чему бы он мог, хотел стремиться. И сразу смерть утратила животный, инстинктивный ужас. Она стала такой же приемлемой, как сон, как любое действие.
Может быть, что-то разладилось в нейристорных цепях его искусственного мозга, спокойно сказал он себе, а может, мозг в полном порядке. Может быть, он действительно потерял волю и вкус к жизни. О, хорошо быть, допустим, тюленем. Тогда впереди у тебя всегда цель — рыбка. Будь она в море или в руке дрессировщика. Смысл жизни начинается и кончается рыбкой. С маленькой или большой буквы. Но, увы, он не тюлень. И никакой фонд Калеба Людвига не в состоянии соблазнить его блеском серебряной чешуи.
И почему это произошло — не так уж важно. Все суета сует и всяческая суета. И пронизывает эта печальная суета не только обычную жизнь, но и холодный и, казалось бы, неуязвимый мир исков.
Антони Баушер прикрыл глаза и мысленным приказом сократил количество тока, текшего через его мозг. Это было немножко похоже на сон.
ГЛАВА 16
Полковник Ратмэн заехал в полицейское управление Шервуда и нашел своего старинного приятеля — заместителя начальника Коломана Вардаи.
— Привет, Кол, — он похлопал приятеля по упитанной спине.
— Когда мы сыграем с тобой в гольф? На этом или только на том свете?
— Хотелось бы на этом, Гус, хотелось бы на этом. Но мое старое полицейское чутье подсказывает мне, что господин полковник пожаловал к бедному полицейскому не только для этого вопроса, хотя он, слов нет, чрезвычайно важен.
— Ну и нюх у тебя, старая ищейка, — улыбнулся Ратмэн. — Ладно, не буду отпираться. Два дня назад в клинике профессора Трампелла убили секретаря шефа. Ты не мог бы свести меня с человеком, который занимается этим делом?
Вардаи нагнулся над клавиатурой информатора и тут же на дисплее появились буквы: лейтенант Фриберг из 5-го участка.
Заместитель начальника управления сказал в микрофон:
— Тедди, позвони в пятый участок и скажи, что я просил лейтенанта Фриберга поговорить с полковником Ратмэном из РА и оказать всяческую помощь. Хорошо?
Лейтенант Фриберг оказался совсем еще молодым человеком, тоненьким, щеголеватым и чрезвычайно уверенным в себе.
— Убийство в больнице? — переспросил он полковника Ратмэна, когда тот упомянул имя мисс Ковальски. — Убийцу мы еще не нашли, но все дело ясно, как под микроскопом.
— И что вы видите под микроскопом? — с легчайшим сарказмом спросил полковник. Не так раздражал его петушиный апломб лейтенанта, сколько тоненькая юношеская фигурка с плоским животом и маленькими ягодицами. Полковник увидел мысленным взором свою оплывшую фигуру, постоянные и, как правило, безнадежные сражения с калориями и тяжко вздохнул. Ладно, посмотрим, каков будет этот кузнечик через двадцать пять лет.
— Все хрестоматийно, сэр. Секретарь профессора Трампелла мисс Ковальски совмещала свои прямые обязанности с еще кое-какими.
— Какими же?
— Она была любовницей старика. Не знаю уж, зачем она ему нужна была, — снисходительно усмехнулся лейтенант. — Об этом, естественно, узнал еще один поклонник мисс Ковальски. Об этом всегда узнают. Единственное, чего люди не жалеют друг для друга, — так это сплетни. Мисс Ковальски, особа внешне чопорная, по-видимому, была той еще бабенкой… В общем, банальнейшая ревность. Он подкараулил ее в больнице, куда прошел под видом техника из «Информейшн сервис». Знаете, эта фирма, которая обслуживает информаторы. Дождался ее, а потом поехал к профессору и ухлопал и его.
— Значит, и профессора Трампелла тоже убили?
— Да, сэр. Ревность, знаете, это такая штука…
«Похоже, — подумал полковник Ратмэн, — что Ник Карсон ничего не преувеличивал. Скорее всего, мисс Ковальски была для них всего-навсего статистом. Главное было — убрать старика».
— Да, — пробормотал он, — это вы тонко заметили…
— Простите, сэр? — лейтенант настороженно посмотрел на полковника.
— Что ревность — это такая штука…
Очевидно, лейтенант никак не мог решить, смеется ли над ним грузный полковник с глубокими залысинами или нет. РА, подумаешь, асы, поработали бы в полиции, узнали бы тогда что такое настоящая работа!
— Скажете, а когда убили мисс Ковальски? — спросил Ратмэн.
— Примерно в восемь тридцать вечера.
— Она так поздно задерживается на работе?
Лейтенант взглянул на полковника. А, вот к чему он клонит…
— Нет, она уходит значительно раньше.
— А почему она задержалась в тот день?
— Она не задержалась, сэр.
— Не понимаю.
— Она ушла, а потом вернулась. Убийца прятался в кабинете профессора.
— А почему она вернулась?
— Ей, очевидно, что-то понадобилось в досье, потому что она стояла лицом к шкафу с архивом, когда ей выстрелили в спину.
— Скажите, лейтенант, а вы не пробовали выяснить, часто ли так случалось раньше.
— Что именно?
— Что она возвращалась поздно вечером в больницу.
Лейтенант обиженно пожал плечами.
— Я ж говорю вам, сэр, это убийство на почве ревности. Портье в доме профессора подтвердил, что мисс Ковальски нередко оставалась у старика до утра.
— Верю, охотно верю, — слегка улыбнулся полковник. Теперь, когда можно было не спеша объяснить лейтенантику, как он глуп, он уже не вызывал в нем острой неприязни. Молодой жеребеночек. Подпрыгнуть бы ему высоко в воздух, оттолкнувшись всеми четырьмя копытцами, и весело заржать. Смотрите все, какой я молодой и красивый, как я все здорово понимаю!
— Не знаю, — пожал плечами лейтенант, — часто ли она возвращалась вечером в больницу. Но не думаю, что это имеет значение.
— Для убийцы, это, очевидно, имело значение. Не собирался ведь он сидеть в кабинете профессора всю ночь. Тем более, что он, как вы говорите, прошел в больницу под видом техника по обслуживанию информационных машин. И ночная дежурная вполне могла бы поинтересоваться, куда же девался этот техник. Сдается мне, что убийца знал о предстоящем возвращении мисс Ковальски в больницу. Вы сможете уделить мне часок-другой, мы бы съездили в клинику и уточнили кое-какие детали, а?
— Да, конечно, сэр, — с вежливой ненавистью пробормотал лейтенант. — Меня просили оказывать вам всяческую помощь. — Последнюю фразу он произнес так, что было ясно: без подобного приказа он и минуты бы не потратил на старого зануду из РА.
По дороге в больницу Ратмэн дружелюбно сказал:
— Если мы застанем женщину, которая сидела в приемной в тот вечер, держу пари, она скажет нам, что техник по ремонту информаторов очень торопился.
— Может быть, — буркнул лейтенант, — насколько я знаю, убийцы всегда торопятся. Особенно во власти ревности.
Им повезло. Сестра, дежурившая в ту ночь, была в клинике.
— О да, — сказала она, выслушав вопрос. — Этот парень действительно торопился. Знаете, даже запыхался. Я его спрашиваю: вы что, бегом бегаете, экономите на транспорте? А он, грубиян эдакий, лишь посмотрел на меня. Рожа неприятная такая, почти квадратная. Черные волосы, зачесанные назад, скуластый. Я еще подумала: преступная рожа у этого латиноамериканца.
— Латиноамериканца? — переспросил полковник.
— Ну, я, конечно, не знаю точно, — извиняющимся тоном сказала сестра, — но мне показалось, что он, скорей всего, мексиканец, если вы понимаете, что я имею в виду.
— Скажите, миссис Фрис, а он вам показал свое удостоверение техника?
— А как же, — обиженно пожала плечами сестра. — Только не показал, если быть точной. Оно у него на комбинезоне было прикреплено. Знаете, такое пластиковое. Фотография, имя и фамилия и название фирмы.
— А как его зовут, вы не запомнили?
— Нет. Как-то не обратила внимания.
— А когда он уходил…
— Ну, бежать он не бежал, но перепрыгивал через ступеньку, если вы понимаете, что я имею в виду.
— Ну что ж, спасибо, — сказал полковник. — У вас найдется немного времени, миссис Фрис, если я еще раз обращусь к вам за помощью?
— Ради бога.
— Спасибо. На меня произвело большое впечатление, как точно вы описали лицо убийцы. Всего несколько слов — и целый портрет.
Миссис Фрис бросила быстрый взгляд на полковника, и он подумал: боже, как все подозрительны и насторожены. Как все боятся подвоха и насмешки.
— Знаете, — робко улыбнулась сестра, — когда сидишь в приемной, невольно привыкаешь определять по лицу, что за человек перед тобой…
— Спасибо, — еще раз сказал полковник.
Лейтенант угрюмо молчал.
— Скажите, — спросил его Ратмэн, — а вы не пытались определить, ничего не пропало из досье?
— Нет, не пытались. Я не видел в этом ни малейшей необходимости, — с вызовом сказал лейтенант и демонстративно принялся рассматривать ногти.
— Ну, раз не видели, тогда другое дело. Я думаю, мы сейчас зайдем к старшей сестре.
— Как вам угодно.
Дверь, на которой висела табличка «Старшая сестра. Мисс Фэджин», была полуоткрыта, и из нее выползали прозрачные голубоватые щупальца дыма.
— Добрый день, мисс Фэджин. Полковник Ратмэн из полиции, а это лейтенант Фриберг. Вы уже знакомы?
Сестра Фэджин глубоко затянулась, выпустила необыкновенно плотный и круглый дымовой шар, посмотрела на посетителей и спросила:
— Что еще? Похоронили же, что еще? В конце концов…
— Простите, мисс Фэджин, пока преступник не пойман, для полиции не существует вопроса «что еще».. Увы, ведь никогда не знаешь, что именно поможет тебе напасть на след.
— След! — фыркнула мисс Фэджин, и клубы дыма вздрогнули от ее сарказма. — Я знаю, о покойных плохо говорить не принято, но мисс Ковальски, надо отдать ей должное, оставила достаточно следов. Ее попытки втереться в доверие к шефу были просто скандальны…
— Да, да, мисс Фэджин. Мы уже знаем об этом… Скажите, вы случайно не помните такого больного — Николаса Карсона? Около пятидесяти лет. Он умер здесь от рака легкого примерно полгода тому назад.
Мисс Фэджин фыркнула.
— Случайно не помню! — Она снова фыркнула. — Вы лучше спросите, есть ли вещи, которые я не помню? Я живу этой чертовой клиникой, я отдала ей почти всю жизнь. Помню ли я! Николас Карсон, пятидесяти двух лет, был доставлен в феврале в бессознательном состоянии. Он так и не вышел из комы и умер через пять дней после поступления.
— Это точно? — спросил Ратмэн.
— Сейчас вы увидите, ошибаюсь ли я. — Она нажала желтым от никотина указательным пальцем на клавиши информатора, и на дисплее появились слова: «Информации нет». — Что за чертовщина, — пробормотала мисс Фэджин, — вечно эти информаторы что-нибудь путают. — Но в голосе ее чувствовалась растерянность. Она снова с силой ударила по клавишам, и снова на экране выскочили те же слова: «Информации нет». — Гм… удивительно. В высшей степени удивительно. И тем не менее я не ошибаюсь. Одну минуточку. — Она подняла телефонную трубку: — Карин? Это старшая сестра. Пришлите ко мне, пожалуйста, Дебби. Прямо сейчас. — Она положила трубку. — Дебби — это сестра, которая ухаживала за Карсоном. Сейчас мы узнаем, у кого лучше память, у этих паршивых информаторов или у старой идиотки Фэджин.
— Разрешите, — послышался тонкий голосок из-за двери, и в дымный кабинет вошло неземное видение. У видения были светлые волосы, голубые глаза с мохнатыми ресницами и яркие, без следов помады, губы. — Вы меня звали, мисс Фэджин? — тихо пролепетало видение и опустило глаза.
— Да, деточка. Скажи, ты помнишь мистера Карсона? Рак легкого. Коматозное состояние. Февраль. Палата шестьдесят четыре.
Видение молчало, не поднимая глаз. Мисс Фэджин яростно щелкнула зажигалкой и снова закурила.
— Дебби, ты в своем уме? Это же твоя палата. Сам мистер Трампелл занимался им. Какой-то ученый… Чего же ты молчишь?
— Я… я не помню…
— Ты не помнишь? Ты понимаешь, что ты говоришь?! Как это ты можешь не помнить? У тебя что, память отшибло?
Дебби упорно молчала.
— Не знаю, не знаю уж, что с тобой случилось, — неодобрительно сказала старшая сестра, — но сестра, которая ничего не помнит, — это не сестра. Я не уверена вообще, сможешь ли ты впредь… Ну хоть что-нибудь ты помнишь? Ты же пришла тогда ко мне и сказала: «Мисс Фэджин, это очень страшно, такое глубокое коматозное состояние». Помнишь?
— Я… я… — пробормотала Дебби, и на глазах у нее появились слезы. — Мне… пригрозили…
— Что, милая Дебби? Кто вам угрожал? — спросил полковник.
— Не знаю… Какой-то человек по телефону. Он сказал, что я должна забыть, что в больнице был такой больной, Николас Карсон. Иначе… — Она заплакала.
— Что «иначе»?
— Со мной может случиться то же, что с мисс Ковальски.
— Чепуха! — решительно сказала мисс Фэджин. — Не бойся, деточка. То, что ты сказала, не узнает никто. Иди, милая, и выкинь все из головы. Это какой-то психопат пугал тебя. — Дебби вышла из комнаты, и мисс Фэджин сказала: — Теперь вы видите, что я не ошибаюсь. Но вообще-то это очень странно…
— Скажите, — спросил полковник, — где у вас стоит центральный больничный информатор? Тот, через который можно уничтожить информацию во всей системе.
— В кабинете профессора.
— Вот видите, дорогой мистер Фриберг, у ревнивца, который ждал коварную обманщицу в кабинете профессора, было еще одно занятие: он вывел из памяти информатора сведения о некоем Николасе Карсоне.
— Но досье… — пробормотал лейтенант. Самоуверенность его подтаивала на глазах.
— Где, вы говорите, была застрелена мисс Ковальски? Если не ошибаюсь, перед шкафом с архивом. Так?
— Да, — задумчиво кивнул лейтенант.
— Мисс Фэджин, не могли бы вы пройти с нами в комнату, где находится досье?
Они поднялись по лестнице, прошли по тихому коридору, залитому мягким светом, и вошли в комнату. Из-за стола встала полная женщина с сонными глазами.
— Мисс Хименес, достаньте, пожалуйста, из досье историю болезни Николаса Карсона, — сказала старшая сестра.
— Да, мисс Фэджин, сейчас. — Она вытащила из стола ключи, открыла шкаф, выдвинула ящик, начала перебирать папочки. — Простите, мисс Фэджин, здесь нет такой истории болезни.
— Это точно?
— Да. Может быть, ее засунули по ошибке в другое место?
— Нет, — сказал Ратмэн, — ее не засунули по ошибке в другое место. Ее просто-напросто выкрали. Я в этом не сомневался. Я хотел лишь проверить. И сделал это, очевидно, тот самый скуластый человек с черными волосами, который застрелил мисс Ковальски. Эта история болезни нужна была и секретарю профессора и лжетехнику. А вы говорите, лейтенант, хрестоматийный случай. Ревность!
Он взглянул на молодого полицейского, лицо которого медленно заливал пунцовый румянец. Жеребеночек еще не потерял способности краснеть. Ничего, вряд ли он пробил брешь в восторженном отношении идиота к самому себе. Через четверть часа ему уже будет казаться, что с самого начала он понимал всю сложность дела…
Полковник коротко кивнул и вышел. Жара на улице спала, и он был рад, что не взял сегодня машину. Он шел по улице, стараясь ни о чем не думать. Это был его старый, испытанный метод. Если ни о чем не думаешь, если не стараешься подгонять мысли, они сами выходят на нужную дорогу. Не сразу, не прямым путем, но выходят. Важно было лишь зарядить голову неким импульсом. Но и это не нужно было делать. Потому что он и так был заряжен. Он знал это по мурашкам, которые то и дело пробегали у него по позвоночнику. О, в возрасте есть свои преимущества. Накапливается множество маленьких хитростей, начинаешь распознавать сигналы, которые посылает тебе уже охваченный охотничьим азартом мозг.
А было что-то такое во всей этой истории, что странно возбуждало его. И дело не только в чудовищной дыре в животе школьного друга, из которой он преспокойно вытащил электрический шнур с вилкой. Полковник вздрогнул при воспоминании. Что-то было такое в убийстве мисс Ковальски, что-то… Может быть, знакомое? Чепуха, что значит «знакомое»? Нет, не убийство, разумеется, но как это было сделано. Техник по обслуживанию информационных машин. Пластиковая карточка «Информейшн сервис». Изъятие из машины информации о Николасе Карсоне, Выстрел, который никто не слышал. Глушитель.
Мысли неторопливо вращались в его голове. И при каждом новом повороте, подобно стеклышкам калейдоскопа, они складывались в некие узоры. Узоры несли какой-то смысл, они тщились намекнуть на что-то полковнику, но он пока не понимал их тайный код. Только не старался во что бы то ни стало сейчас же разгадать его. Код был хрупкий, как сон человека, измученного бессонницей. Чем усерднее стараешься заснуть, тем пугливее убегает он от тебя.
Забавный лейтенантик. Немного же понадобилось времени, чтобы от хрестоматийного, как он выразился, варианта осталось мокрое место. Хоть хватило у него ума не цепляться за свою наивную глупость… Молодец, в его блаженном возрасте люди бывают еще самоувереннее. Но он охотно бы променял весь свой никому не нужный опыт, все свои пятьдесят два года, свой чин, свой зад, расплющенный четвертью века сидения на конторском стуле, на тоненькую лейтенантовскую фигурку. И не столько на плоский живот, сколько на юный оптимизм, на ощущение постоянного ожидания чуда, счастья, удачи — редкостных птиц, которые давно уже не прилетают к нему. Впрочем, они никогда не прилетают к тому, кто не верит в них, а Густав Ратмэн давно уже перестал верить в то, что судьба еще что-то сберегла для него, кроме пенсии, болезней и неизбежного конца.
Вдруг он остановился. В узорах калейдоскопа, что все время продолжали бесшумно меняться в его мозгу, вдруг мелькнуло нечто, что заставило его остановиться. Только не хвататься за узор, не разрушить несомый им смысл. И плавно, постепенно, смысл узора всплыл на поверхность сознания. В двойном убийстве, в изъятии информации было нечто профессиональное. Слово было ключевым. Оно отворило дверцу в мозгу. Именно профессиональное. Но не уголовно-профессиональное. Если бы ему нужно было изъять информацию о Карсоне из больницы, он бы действовал именно таким образом. А это значило… Мурашки, что бегали у него по спине, превратились в озноб. Неужели же в операции замешаны какие-то службы Разведывательного агентства? Не может быть, сказал он себе. Слишком фантастична вся история Ника Карсона, чтобы такими вещами занималась какая-нибудь правительственная организация.
И все-таки и все-таки ощущение знакомого профессионализма — именно знакомого профессионализма, — он еще подивился точности слов — не оставляло его.
Пойти к генералу Иджеру. Завтра же пойти к генералу и подробно рассказать ему обо всем. Но нет, может быть, потом. Не сейчас. Генерал снимет очки, близоруко поморгает, помолчит, потом скажет: «Ну что ж, Ратмэн, мы проверим, хотя, признаться…». Как обычно, он не закончит фразу. И все. И останется полковник Густав Ратмэн снова с бесконечными бумагами, которые он перекладывает из одной папочки в другую. Конечно, это было чистым безумием, может быть, уже возрастным симптомом, но не хотелось, ему сейчас идти к генералу Иджеру. Не хотелось возвращаться к постылому столу… Потом. Не сейчас.
ГЛАВА 17
Вендел Люшес смотрел на Антони Баушера, сидевшего перед ним на стуле. Положительно, нет на свете более нелепых, нелогичных существ, чем люди. Нет на свете более хрупкого, непредсказуемого прибора, чем человеческий мозг, будь он живой сморщенной серой губкой или совершенным нейристорным прибором. Ну что не хватало этому идиоту? Что он имел в предыдущей своей банальнейшей жизни? Ну, лабораторию. Ну, дочь, которой при всех обстоятельствах он перестал бы быть нужен через несколько лет. Как только появился бы у нее какой-нибудь прыщавый юнец, милый папочка превратился бы сразу из героя в статиста. Жена? Усталая истеричка, которую он только раздражал.
Что, что же так держало этого идиота Баушера, что приковывало к той посредственной, заурядной жизни? Это было непостижимо, нелепо. И эта нелепость приводила Люшеса в ярость. Ну ладно, будь Баушер каким-нибудь неандертальцем, его страхи были бы понятны. Все таит угрозу. Каждый незнакомый шорох, каждое незнакомое существо. Но он же гомо сапиенс! Ученый. Человек, чей мозг должен работать быстро, точно. Он должен уметь беспристрастно оценивать информацию.
Он должен был оценить то, что ему предлагали. Бессмертие. Высшую свободу и великое назначение. А он вместо этого цепляется за пошлую чепуху и вопит: не хочу! И снова, в который уже раз представитель фонда подумал, что нет более глупейшего заблуждения, чем считать людей действительно гомо сапиенс. Какие же они люди разумные, если опутаны старыми, ветхими предрассудками, а глаза их закрыты шорами древних животных инстинктов. Даже выгоды своей — и той они не понимают! Бараны. Стадо баранов, слепо бредущих по протоптанной дорожке. И гнать, гнать их насильно, если они не видят пути. Он вздохнул. Как всегда, когда он сталкивался с необъяснимой человеческой тупостью, он чувствовал глубочайшее разочарование, почти отчаяние.
— Мистер Баушер, что заставило вас бежать из Ритрита? — спросил он наконец иска.
Тони тупо уставился на собеседника. Что заставило его бежать из Ритрита? А действительно, почему он отправился с Ником Карсоном в эту заведомо обреченную на провал одиссею?
— Я вас спрашиваю, дорогой Баушер, — ласково сказал Люшес. — Это не допрос, и я должен извиниться за то, как вас доставили сюда. Но согласитесь, другой возможности поговорить с вами у меня не было.
Мысли Тони Баушера словно загустели, они не текли свободно и быстро, как обычно, а медленно и со скрипом проворачивались на месте, как замерзший за ночь мотор машины при попытке завести его. Что он хочет от него, этот улыбающийся ангел-хранитель? Что нужно от него этому вежливому шпику? Они схватили его. Наживка сработала, капкан захлопнулся. Стальные зубастые челюсти крепко держат его. Так для чего это полное сочувствия и понимания ненавистное лицо?
— Признайтесь, мистер Баушер, вы видите в нас врагов, так? Вы молчите, но я угадываю ваш ответ. Скажите, вы каким-то образом узнали подробности об автомобильной катастрофе? О той, в которой вы потеряли ноги?
Тони медленно кивнул. Автомобильная катастрофа. Задранный вверх нос его машины, заснеженное поле. Красавец хирург. Мужайтесь. Когда это было? В каком веке? В какой жизни?
— Значит, вы знаете, что диагноз был… ну, скажем, несколько преувеличенный?
«Несколько преувеличенный, — повторил про себя Тони. — Совсем чуть-чуть. Здоровые ноги выдали за раздробленные, есть о чем говорить». Он снова кивнул. Он чувствовал себя бесконечно усталым, у него не было сил говорить, словно аккумуляторы его полностью разрядились.
— Я понимаю ваши чувства, дорогой мистер Баушер. Обида, возмущение, ярость, наконец. Ярость человека, у которого украли все. И эти чувства были бы вполне логичны, если бы кража была кражей. Но мы же вас не обокрали. Разве можно считать кражей, когда у человека забирают что-то, давая ему взамен нечто гораздо более ценное? Пусть жестоко, пусть обманом, но мы вытащили вас из пошлейшей вашей смертной оболочки и дали бессмертие. Наверное, и бессмертие пугает, как пугает нас все непривычное. Я знаю, вы скажете, что непрошеные подарки — это не подарки. Но что делать, если люди чудовищно консервативны, трусливы и бегут от всего нового? А вы нужны нам, дорогой мистер Баушер. Это древний вопрос — нравственно или безнравственно делать людям добро, когда люди этого добра не желают. Потому что не могут оценить его. Потому что не понимают, что им дают. А ты твердо знаешь, что даришь величайшее из благ — жизнь. Жизнь, не отягощенную страхом болезней, смерти, суеты. А жизнь практически вечную и аристократически спокойную. Жизнь на вершине, откуда открываются новые горизонты, о которых мы и не подозревали раньше.
Вендел Люшес встал, сделал несколько шагов и остановился прямо перед Тони Баушером:
— Дорогой Баушер, я буду с вами предельно откровенен. Ваш побег доставил нам множество хлопот и волнений. Ритрит не должен привлекать к себе ненужного внимания раньше времени. Карсона мы еще не нашли, но это вопрос дней. Если вы совершенно искренне раскаетесь, если скажете мне, что совладали с взбунтовавшимися инстинктами, что хотите вернуться в Ритрит, мы не будем иметь к вам никаких претензий. Мы даже не будем допытываться, как вы узнали о… диагнозе. В конечном счете это не имеет значения. Но мы должны быть уверены в искренности вашего раскаяния. Мы должны знать, что вы не занесете в Ритрит вирусы сомнений, бессмысленного, разрушительного бунта…
Тихая, размеренная жизнь в жаркой каменистой пустыне, но ты не испытываешь жары, думал Тони Баушер. Он прав, этот ангел-хранитель, надо лишь переступить через пороги детских, неразумных страстей. Надо найти в себе силы разбежаться, оторваться от земной суеты и взмыть на вершину, о которой говорит Люшес.
И ему вдруг остро захотелось вернуться в Ритрит. Он видел, ощущал маленький лагерь в пустыне, горячий воздух над которой, кажется, полон влаги и подрагивает, переливается миражем в легком ветерке. Он увидел смешную мисс Дойчер. Она положила руки ему на плечи, прижала губы к его уху и зашептала: «Они хотят всех сделать исками, чтобы можно было переработать все леса на бумагу. Фонд Людвига знает, что делает…». И в отношении Рин этот человек прав. Правда была неуютная, тяжкая, но что делать, такой она чаще всего и бывает. Никому он не нужен. Даже Рин. Ничего не поделаешь.
— Наверное, вы правы, — тихо сказал Тони Баушер, — наверное, мне бы лучше вернуться в Ритрит.
— Отлично, милый мой, отлично! — воскликнул ангел-хранитель. — Поверьте, я бесконечно рад за вас, горд, черт возьми, что разум восторжествовал в вас над животными нелепыми инстинктами. Считается почему-то, что бизнесмены черствые, ограниченные и эгоистичные люди. Но поверьте, я всегда испытывал радость, когда при заключении какой-нибудь сделки люди переступали через детскую подозрительность, поднимались над инстинктами и видели перспективу взаимных благ. Вот и сейчас я предлагаю вам сделку.
— Сделку? — переспросил Тони Баушер. — Какую же сделку вы можете заключить со мной? Мне нечего продать, и мне ничего не надо.
— Ну, это не совсем так, — улыбнулся Люшес. — Что вам надо? Вернуться в Ритрит. Вы очень стремитесь туда? Допустим, что не очень. Но какова альтернатива? Боюсь, что альтернатива не очень соблазнительна для вас. Как вы сами понимаете, элементарные соображения безопасности не позволят нам оставить вас вне Ритрита. Слишком велик риск, что вы будете говорить, демонстрировать себя и так далее. А нам все это сейчас совершенно противопоказано.
— Это значит, вы… сотрете мою память, как вы это сделали с Сесилем Стромом?
Ангел-хранитель бросил быстрый взгляд на иска.
— А, вы и это знаете? — Он несколько раз задумчиво кивнул. — Могу себе представить, что знание это тоже не слишком способствовало вашему спокойствию. Да-а… А каким образом вы догадались?
— У него на теле был дефект: искривленный палец. И не слишком сильно измененное лицо. И его слова незадолго перед исчезновением, что он кое о чем начинает догадываться.
Люшес задумчиво кивнул несколько раз.
— Да, вы совершенно правы. В чем-то он был незаурядным человеком, но в чем-то глубоко разочаровал нас. Он не захотел понимать. Он был перегружен балластом старомодных представлений, бедняга. И он не оставил нам выбора. — Вендел Люшес на мгновение умолк. — Такой блестящий ум, и такая дикарская реакция. Когда ему сказали, что вынуждены разрядить его, он схватил стул и начал крушить все вокруг… Но вернемся к нашей сделке, — сказал он Баушеру. — Итак, мы определили, что вам нужно. Вы хотите купить жизнь, точнее, даже бессмертие и возвращение в Ритрит. Раз это сделка, вы должны что-то предложить взамен.
— Что же?
— Карсона.
— Не понимаю.
— Боюсь, дорогой Баушер, вы прекрасно понимаете. Как я уже сказал, нам еще не удалось найти вашего товарища. Вы безусловно знаете, где он находится. Расставаясь, вы, скорее всего, условились о какой-то встрече, о каком-нибудь телефонном звонке. Это и есть ваш капитал, которым вы можете расплатиться. Я специально пользуюсь торговыми терминами. В отличие от обывательских представлений, торговля гораздо честнее многих других занятий, например политики. В политике сплошь и рядом обещают и не выполняют обещаний, предлагают избирателям несуществующие товары, вроде всеобщего благоденствия. В торговле такие штучки не проходят. Вы меня понимаете?
— Вы хотите, чтобы я помог вам поймать моего друга Ника Карсона?
Люшес забавно сморщил нос и недовольно покачал головой.
— Боюсь, вы неудачно выбираете слова, дорогой друг. «Поймать», «мой друг» — это все не для нашей сделки. Хорошая сделка всегда выгодна для обеих сторон. И вы должны искренне к ней стремиться. А когда появляются слова «поймать» и «мой друг», вы сами усложняете себе задачу. Эти словечки тянут за собой целую цепочку ненужных ассоциаций, вроде «предательство», «подлость» и так далее. Не нужно, мистер Баушер, не напяливайте на себя вериги. Тем более, что мы не выламываем вам руки. И поверьте, я предлагаю вам эту сделку не столько для того, чтобы обязательно заполучить Карсона. Он и так никуда от нас не денется. Это сделка для вас. Для того, чтобы мы могли убедиться в вашей искренности и вы вернулись в Ритрит. Вы нужны нам. У вас незаурядный ум и воля. Скажу вам по секрету: совет в каком-то смысле даже восхищен вами и Карсоном. Нам нужны иски, которые могли бы стать лидерами. А у вас есть для этого все предпосылки. Я не тороплю вас, Баушер, подумайте, взвесьте. Вы же ученый. Вы химик. У вас острый аналитический ум. К сожалению, много времени дать я вам не могу. Я вернусь через полчаса. Само собой разумеется, дверь будет заперта, окно не открывается. Полчаса.
Вендел Люшес вышел. По крайней мере, думал Тони Баушер, этот Люшес откровенен. И потом, что значит «предательство»? Может быть, Ник сам этого не понимает, но что может ждать его вне Ритрита? Ну хорошо, рассчитается он с профессором, который поставил ему диагноз. Окажется более решительным и настойчивым, чем я. А дальше? Да наверняка в глубине души он сам мечтает о Ритрите, о спокойствии, размеренности, отсутствии суеты. Ведь если разобраться как следует, Ритрит — это прообраз рая. Вечное блаженство. Жизнь, лишенная забот, тело, избавленное от тлена. А вместо этого уютные лаборатории. Крыльев, правда, пока нет, аккумуляторы все еще слабоваты для полета, но когда впереди вечность, когда можно менять устаревшее или надоевшее тело на новое — все возможно. Отказаться от этого по своей воле… Это же идиотизм. Да, но предать Ника Карсона… Предать… Жизнь — не шекспировские пьесы. Скорей всего. Ник даже не будет в претензии; Может, у самого у него не хватает силы воли, чтобы признать бессмысленность побега. Для признания поражения тоже нужно мужество… Если подумать хорошенько, ангел-хранитель прав. Это вовсе не предательство, а помощь. Он ведь тоже окружен сейчас шпиками. Тысячами шпиков. Они повсюду, спрятаться от них невозможно.
Он почувствовал, как не в первый уже раз за последние дни мысли перестают его слушаться. Каким-то участочком мозга он знал, что шпики, если они и были, вовсе не исчислялись тысячами или сотнями, что спрятаться от них было вполне возможно. Но воображение непокорно взбрыкивало. Нет, тысячи, много тысяч. Он видел их, эти орды шпиков. Они как комарье, не спрячешься и не скроешься от них.
Все тем же участочком мозга он знал, что не должен выдавать Ника. Он помнил телефон, который дала ему Луиза. Но взбунтовавшиеся мысли тут же пошли на штурм этого одинокого участочка. От яростного сражения в голове он чувствовал себя слабым, разбитым. Он попытался встать, но голова кружилась. С трудом он подошел к окну. Мистер Люшес и в этом не надул его. Окно было сделано под эркондишен и не открывалось.
Он посмотрел вниз. Отсюда, с десятого примерно этажа, шпики казались совсем маленькими, но все равно они были видны. Тысячи, десятки тысяч шпиков. В разных обличьях, мужчины и женщины, старики и старухи, дети — все они были шпиками, шпиками, шпиками! Все люди шпики. Шпионы. Предатели. И он, Тони Баушер, тоже шпик. И он сейчас продаст своего друга Ника Карсона за тихую обитель в Ритрите, за сладкие проповеди Антуана Куни, за тишину и покой своего домика, за уют маленькой лаборатории. И это хорошо, потому что и Ник тоже шпик. Это он подбил его на побег из Ритрита, чтобы потом продать ангелам-хранителям из совета. Конечно, обрадовался он, именно так. Как он сразу не понял!
Ты мелешь чепуху, возразил одинокий форт, который все еще вел сражение в его искусственной голове за здравый смысл. Если Ник заодно с советом фонда Людвига, зачем бы Люшесу тогда искать его? И не он подбил тебя на побег, вы все вместе решились! Ты сам говорил о наваждении, что не сможешь жить с памятью о беге на якобы раздробленных ногах по заснеженному полю. Но атакующие мысли тут же с удвоенной яростью бросались на одинокий форт. Шпики, все кругом шпики! И ангел-хранитель шпик, и я шпик, и Ник Карсон шпик. Не может человек не быть шпиком, как он иначе спрячется от них?
В комнату вошел Вендел Люшес. «Неужели уже прошло полчаса?» — удивился Баушер. Ангел-хранитель улыбался. Шпики всегда улыбаются.
— Ну как вы, дорогой друг? — спросил он.
— Я согласен на сделку, — сказал Баушер. Голова все кружилась, и он прикрыл на мгновение глаза.
— Отлично. Итак, как вы должны были установить контакт с Карсоном?
— Я должен был позвонить ему в Шервуд.
— Отлично. Вы помните номер телефона?
— Да, конечно. Сейчас я скажу его. — Он уже открыл было рот, но в комнату неожиданно вошла Рин. Именно такая, какой он ее видел сегодня, — высокая, в новых очках. Очень серьезная и печальная.
«Я узнала тебя, — сказала она. — Даже со смешным париком и смешной косметикой на лице. Даже с чужим лицом».
«Да, Рин, — сказал Баушер, — это я, твой отец».
«Как ты мне нужен был все это время, дэдди! Я хотела спросить тебя, почему люди совершают предательства. Только ты умел объяснить мне такие вещи».
«Видишь ли, Рин, единственная любовь моя, предательства не всегда предательства… Нет, я говорю не так… Мы все окружены шпиками, тысячами, миллионами шпиков, и единственный способ спастись от них — это самому стать шпиком».
«Значит, ты тоже шпик, дэдди?»
«Да, Рин, и это очень разумно…»
«Простите, сэр, я ошиблась, мне показалось, что вы мой умерший отец. Простите меня, ради бога».
Она выбежала из комнаты. Было бесконечно печально.
— Простите, мистер Люшес, я не представил вам свою дочь Рин.
— А? Что? — вздрогнул Люшес. — Я не…
— Она же только что заходила сюда.
— Да, да, я понимаю. — Люшес внимательно посмотрел на Баушера.
— К сожалению, я вынужден считаться с мнением дочери. А она категорически против предательства. Прошу извинить меня, ангел-хранитель. И еще я хотел спросить вас: вы разрядите меня теперь?
Люшес медленно и задумчиво кивнул.
— Да.
— О, я вам очень благодарен. Но нельзя ли сделать это побыстрее? Понимаете, в голове у меня идет ужасное сражение, и я так устал от него.
Он закрыл глаза и неподвижно сидел на стуле…
«Ну что, что ему нужно было?» — в сотый раз задавал себе тягостный вопрос Вендел Люшес. Почему у многих людей такая нелепая приверженность к догмам? Почему они предпочитают безумие и смерть, лишь бы не переступить через обветшалые смешные идеи? Почему они как дельфины, которые при всем их уме не могут перепрыгнуть через сеть, когда их ловят? Это они-то, прирожденные прыгуны. На мгновение он почувствовал парализующее отчаяние. Неужели человеческая глупость станет непреодолимым препятствием? Неужели так и не удастся осуществить великий план? Нельзя, нельзя расслабляться. Сомнение — это дьявольский растворитель.
Он позвонил по телефону, и в комнату вошли два техника с портативным оборудованием. Они бросили быстрый взгляд на Люшеса, и тот кивнул. Они ловко надели шлем на Баушера, но он даже не открыл глаза.
— Начали, — услышал он откуда-то незнакомый голос. Сражение в мозгу стало ослабевать, и он блаженно вздохнул. Очень измучила его беспрестанная яростная атака на форт в его голове. И шпиков вокруг становилось все меньше и меньше. И это несло облегчение. Они как бы таяли, испарялись, уносились из сознания легкими облачками. Хорошо бы сохранить Рин, подумал было он, но тут же понял, что это невозможно, потому что Рин решительно уходила от него, непривычно высокая, уже отдалившаяся, уже чужая. Она уходила, и ничего не оставалось после нее. На мгновение мелькнула легким облачком горькая печаль, но и та тут же растворилась.
ГЛАВА 18
-Да вы не волнуйтесь, миссис Фрис, — сказал полковник Ратмэн, усаживая сестру из клиники Трампелла перед экраном синтезатора.
— Я не волнуюсь, — сказала миссис Фрис, полная и медлительная женщина, но на лбу и мясистом носу у нее выступили капельки пота. — Только я рисовать не умею. Это уж точно. Линию прямую и ту провести без линейки не смогу. — Она виновато улыбнулась. — Вот у сестры младший сынишка — тот прямо художник. Раз набросал мой портрет за десять минут — все прямо покатывались, до чего похоже…
— Что делать, — улыбнулся полковник, — не всем быть художниками. Но вам рисовать не придется.
— А как же вы хотите, чтобы я нарисовала портрет того человека, что убил бедную мисс Ковальски?
— Словами, дорогая миссис Фрис. Кстати, судя по вашей фамилии, ваш муж, наверное, голландского происхождения.
— Как это вы узнали? Его предки, правда, он говорил, были де Фрисы. Но «де» куда-то делось, и его родители, и он просто Фрисы. Он наладчик на термоядерной станции.
— Прекрасно. Значит, попытайтесь как можно подробнее описать внешность того человека.
— А… как начать?
— О, не думайте об этом, не думайте о своих словах. Смотрите лишь на экран и поправляйте его. Если что-то получается похожее, скажите. Если что-то не так, поправьте машину. Это всего-навсего машина, она не обижается. Хорошо?
— Я попробую. Значит, так. — Миссис Фрис зажмурила глаза, стараясь получше вспомнить убийцу. — Волосы у него были черные. Это точно. Знаете, у мужа, хотя ему всего сорок шесть, волосы редкие. Он их и так и сяк зачесывает, чтобы прикрыть лысину…
— Вы простите, друг мой, но говорите, пожалуйста, только об убийце. А то машина создаст объединенный портрет убийцы и вашего мужа.
— О господи… Значит, волосы у него черные, густые… Зачесанные назад. Прямо не волосы, а проволока густая. Ну не проволока, я хочу сказать, жесткие такие.
— А лицо?
— Я как раз хотела сказать о лице. Знаете, такое скуластое. И форма как бы квадратная.
— И именно из-за скул и цвета волос вы решили, что он, скорей всего, латиноамериканского происхождения?
Миссис Фрис сосредоточенно нахмурила лоб, достала из сумочки платок и неторопливо высморкалась.
— Это не простуда, — объяснила она. — Чистая аллергия. Стоит чуточку поволноваться — тут же начинает течь из носу. Почему я решила, что он латиноамериканец? Гм… Ну, облик у него такой…
— Может быть, смуглый цвет лица?
— Правильно! — обрадовалась миссис Фрис. — Точно. Такой, знаете, желтовато-смуглый цвет лица. Точно.
— А глаза? Брови? Губы?
— Глаза? Наверное, черные…
— Наверное?
— Честно говоря, я не обратила внимания, — виновато сказала миссис Фрис. — Если б я тогда знала… А так, думаю, техник. С чего бы мне рассматривать его глаза? Не такой уж он красавец, да и честно сказать, меня мужчины мало интересуют…
— Это хорошо, миссис Фрис. Я думаю, вы не даете повода своему мужу для ревности…
Миссис Фрис рассмеялась. Должно быть, соединение слов «ревность» и «муж» показалось ей необыкновенно смешным.
— Это уж точно, не даю, — в голосе ее послышалось легкое сожаление. — Теперь не даю. — Слово «теперь» она произнесла с особым многозначительным ударением, как бы давая понять, что так было не всегда.
— Вы и сейчас эффектная женщина, миссис Фрис, — сказал полковник. — Но вернемся к нашему смуглому красавцу. Усов у него не было?
— Усов? — задумчиво переспросила миссис Фрис. — Нет, пожалуй, не было.
— Ну ладно, посмотрим, каков у нас будет первый набросок. — Полковник нажал клавишу синтезатора, и на экране по частям начало появляться мужское лицо. Сначала появились жесткие темные волосы, зачесанные назад, затем почти квадратное смуглое лицо…
— А нос? — спросила миссис Фрис, зачарованно глядя на экран.
— Вы ничего не сказали о носе, вот его пока и нет. Может быть, вы можете его описать?
— Нос? — Миссис Фрис прикрыла глаза. — Может быть… я не уверена… Чуточку расплющенный?
— Ну что ж, сейчас машина даст ему расплющенный нос.
На лице на экране синтезатора появился слегка приплюснутый нос, который почему-то придал ему жестокое выражение.
— Похож, — прошептала миссис Фрис, — даже без глазок — похож…
— Вы сказали «глазки». Не глаза, а глазки. Наверное, потому, что они у него небольшие. Так?
— Да.
На лице появились глаза, и миссис Фрис ойкнула:
— Он. Очень похож. Я ж говорила вам, латиноамериканский тип.
— Теперь попробуем воссоздать его фигуру. Что вы можете рассказать машине?
— Ну, пожалуй, он среднего роста… Широкоплечий…
— И все?
— Боюсь, я ничего больше не запомнила…
— Ну и прекрасно, миссис Фрис. Раз вы находите, что сходство есть, это уже немало. Благодарю вас, вы очень помогли мне.
— И вы найдете его? — недоверчиво спросила миссис Фрис. — Я хотя особых симпатий к мисс Ковальски, честно говоря, не испытывала, она, знаете, как бы это сказать… такая была отдаленная, что ли, все равно жалко ее…
— Попробуем. Спасибо еще раз, миссис Фрис. До свидания, вас проводят к выходу.
Полковник еще раз занялся синтезатором. Теперь на комбинезоне можно было различить пластиковое удостоверение фирмы «Информейшн сервис».
Густав Ратмэн критически посмотрел на довольно зловещую личность на экране и почувствовал, как его охватывает охотничий азарт. Шансов на то, что его догадка окажется верна, было, разумеется, не слишком много, а через минуту азарт пройдет и мурашки перестанут щекотать спину, но это будет через минуту. А пока он ввел изображение с синтезатора в информационную машину и спросил, не числится ли подобный тип в ее памяти. Прошло несколько мгновений, и на дисплее появились слова: «Прошу сообщить ваш номер и код». Это значило, что информация существует, но может быть выдана не каждому, а только тем, чей номер и код дает право на получение этой информации.
Полковник набрал свой номер и код, и дисплей тут же ответил: «К сожалению, информация выдана быть не может».
Охотничий азарт не проходил. Только полковнику стало почему-то зябко, и он поежился. Похоже было, что его старая добрая интуиция, так верно прослужившая ему четверть века, не подвела его и на этот раз. Убийца явно имел какое-то отношение к их Конторе. И строго говоря, в этом не было ничего неожиданного. Вряд ли такая операция, как создание Ритрита, могла остаться вне поля зрения Разведывательного агентства. Но если какая-то информация о Ритрите, фонде Калеба Людвига и исках и хранится в недрах РА, она строго засекречена. Настолько засекречена, что его номер и код, номер и код полковника, оказались недостаточными.
Пришло время кончать любительские спектакли. Можно было выйти на охоту, перекинув через плечо свое старенькое ружьишко шестнадцатого калибра. Почему не побродить в свободное время, не размять затекшие от долгого сидения в Конторе ноги. Но когда знаешь, что птичка зарегистрирована в Агентстве, размятие ног может обернуться чем-то совсем другим.
Первым инстинктивным движением души Густава Ратмэна было забыть об исках. Бог с ним, с Ником Карсоном. В конце концов, с ним случилось не самое страшное, что могло случиться с человеком. Бог с ними, сентиментальными воспоминаниями детства. Бог с ней, девочкой Милли, которая, наверное, давно уже обрюзгла и прикладывается к бутылке даже днем. Бог с ними со всеми. Он честно хотел помочь Нику, но когда во время прогулки натыкаешься на колючую проволоку с табличкой: «Проход запрещен», глупо пытаться перелезть через нее. За двадцать пять лет службы в Агентстве он сам не раз устанавливал подобную проволоку и не раз ждал, кто окажется подле нее.
Да к тому же, если быть предельно честным с собой, настолько честным, насколько может быть честным человек, отдавший четверть века Агентству, не так-то он стремился помочь старому школьному товарищу, о котором вряд ли вспомнил раз или два за всю жизнь. Просто потянуло размять ноги, побродить с ружьем.
Отлично, сказал Густав Ратмэн себе. Все правильно, за исключением одной маленькой детали. С того момента, когда он так легкомысленно попытался определить личность смуглого убийцы, его невинная прогулка в лес уже более не являлась его личным делом. Паршивые информаторы наверняка доложили тем, чей номер и код включены в игру, что некий посторонний дурак Густав Ратмэн, одичавший от бумажной своей жизни, пытался проникнуть на закрытую территорию. И поскольку посторонний дурак знает порядки Конторы, он должен отдавать себе отчет, что о его наивном энтузиазме уже осведомлены. И стало быть, не доложи он обо всем случившемся, у начальства может сложиться впечатление, что он что-то затеял. В Конторе этого не любили. В Конторе признавали только одну охоту — коллективную, по лицензии, подписанной начальством. Самодеятельные охотники нарушали порядок. Строго говоря, это было вполне логично. Легко можно было представить себе хаос, если тысячи сотрудников Конторы вышли бы каждый на свою собственную охоту. Кто знает, кто бы за кем охотился. Кто был бы зверем, а кто охотником.
Чем больше думал полковник о ловушке, в которой очутился, тем больше испытывал раздражение к старому школьному другу. И что это вообще за мир, когда стоит поддаться на мгновение естественному чувству, как тут же оказываешься на дне западни и коллеги сверху показывают на тебя пальцами и ухмыляются: смотрите, старый, сентиментальный балбес. Не зря его посадили регулировщиком бумажного потока. Он поддался воспоминаниям. Ха-ха-ха! Девочку Милли, видите ли, вспомнил, старый кретин!
Он попросил разрешения по телефону и через минуту был уже в кабинете генерала Иджера. Генерал снял очки, задумчиво потер переносицу и близоруко посмотрел на полковника.
— Слушаю вас, Густав. — Они были знакомы уже лет двадцать, и генерал демонстративно называл его Густав. Густав Ратмэн столь же демонстративно обращался к нему по всей форме.
— Я хотел доложить вам, сэр, о не совсем обычной ситуации, в которой оказался.
— Не совсем обычной ситуации… — пробормотал генерал, и неясно было, переспрашивает ли он или просто повторяет слова.
— Да, сэр, не совсем обычной ситуации, — твердо сказал полковник.
— Ну что ж, Густав, расскажите, расскажите, послушаем…
Полковник Ратмэн не зря просидел последние годы за письменным столом. Разбуди его ночью, и он мог бы со сна выдать шедевр стиля, принятого в Конторе. Он говорил четко, коротко, ясно. Он дал понять, что сожалеет о своей неуместной самодеятельности. Но что он докладывает тут же, как только понял свою ошибку.
— Ну… не надо так в грудь… — вздохнул генерал Иджер.
— Знаете, я как-то мальчишкой видел в зоопарке, как гориллы лупят себя в грудь… Такой звук… Как барабан… М-да… Я склонен думать, что вам нечего извиняться… Я, во всяком случае, об этой фантастической истории слышу в первый раз… М-да… И это странно. И признаться, немножко беспокоит… Я думаю, при нормальном прохождении информации я должен был что-нибудь знать об этом… Как вы называете это ужасное место?
— Ритрит, сэр.
— Да, Ритрит. И вместо того чтобы извиняться… — генерал снова помассировал переносицу, — вы, может быть, могли бы помочь нам… Вот что мы сделаем, дорогой Густав. Вот вам телефон человека по фамилии Хилэри Импиат. Он был связан с покойным Калебом Людвигом… И сейчас связан с его фондом. Он оказывал нам кое-какие услуги, и я надеюсь… Во всяком случае, я согласен с вами, как-то вся эта история…
— Как мне представиться ему? — деловито спросил полковник.
— Своим христианским именем, Густав. А я предупрежу его. Хорошо?
— Слушаюсь, сэр.
— А где сейчас ваш… этот… школьный друг?
— Николас Карсон? Вместе с приятельницей он ждет моих звонков. Я рекомендовал ему пока не рисковать и не высовывать нос.
— Разумно. В высшей степени разумно. Я бы пошел еще дальше. Я бы поставил человечка или двух у дома. На всякий случай. М-да… чтобы избежать ненужного риска. Раз уж за ними охотятся, не будем рисковать. Тем более если повезет, мы и с охотниками познакомимся. Давайте адрес.
Полковник продиктовал адрес и телефон.
— Спасибо, Густав, — устало кивнул генерал. — И позвоните утром этому Хилэри Импиату. Немножко эксцентричный человечек, но надежен, как Верховный суд. — Генерал беззвучно засмеялся и слегка приподнялся, давая понять, что аудиенция закончена. — Идите, Густав, и попытайтесь разобраться в этой… странной истории.
Генерал встал, несколько раз развел руки, глубоко вздохнул, поднял трубку телефона и попросил зайти к себе полковника Ларра. Тот явился через несколько минут и молча замер у двери.
— Если не ошибаюсь, полковник, вы любите классическую музыку? Включите, пожалуйста, проигрыватель. По-моему, там стоит Моцарт. Обожаю Моцарта. Светлый и чистый гений. Я не особый меломан, но, по-моему, нет в мире музыкального гения выше, чем Вольфганг Амадей Моцарт. Как вы считаете?
Полковник включил проигрыватель.
— И погромче, пожалуйста, — сказал генерал. — Когда я слушаю Моцарта, я хочу погружаться… тонуть в музыке… Вот так, спасибо. И садитесь поближе ко мне, здесь акустический фокус, и слышимость в этой точке просто изумительная.
Генерал закрыл глаза. На лице его появилось выражение блаженства. Несколько минут он молчал, потом пробормотал почти в самое ухо подчиненного:
— Густав Ратмэн случайно напал на след Ритрита. Один из сбежавших, Николас Карсон, его школьный приятель. Вот адрес, где он находится сейчас с приятельницей. Завтра Ратмэн позвонит Хилэри Импиату. Нужно помочь организовать встречу.
— Хорошо, сэр.
— Не так громко, вы мешаете мне слушать, — поморщился генерал.
Конечно, чувствовать постоянную ответственность, держать в голове детали множества дел, думал он, было утомительно. Но была и некая сладость. Чувствуешь себя как человек, управляющий марионетками. Маленькими, забавными марионетками. Одно движение руки, даже пальца — и кто-то тут же послушно отвечает тебе. В этом была успокаивающая гармония. По крайней мере, его марионетки никогда не сталкивались. О, он хорошо знал, что представляют из себя марионетки. Сложность их побудительных мотивов могла казаться непредсказуемой кому угодно, но только не ему. Он-то знал, что на самом деле вся эта сложность при первом же соприкосновении с ферментом опасности — а он наслаждался тем, что большинство людей воспринимало РА именно как источник опасности, — распадалась на несколько простейших элементов: страх, жадность и готовность предать ближнего. Именно поэтому управлять людьми было вовсе не сложно, нужно лишь не усложнять их. Они двигались в беззвучном танце, направляемые его волей.
Он улыбнулся. Конечно, эти мысли могли бы показаться кому-нибудь чудовищно самонадеянными. Кому-то могло показаться, что он хочет играть роль самого господа бога. Но это только иллюзия. Он не бог и не претендует на эту роль. Но он давно пришел к выводу, что марионетки не могут дергаться по своему усмотрению. Нити перепутаются, и они передавят друг друга. А люди все опутаны нитями. Нити жадности, зависти, глупости, голода тянутся от каждого. Было время, когда господь кое-как еще держал в своей деснице эти ниточки. Но марионетки потеряли веру в верховного кукловода, выдернули ниточки из ослабевшей, бессильной десницы и с ужасом обнаружили: они не знают, что делать. Но тогда должен быть некто, кто не отшатнется в страхе от ответственности, возьмет в руки кончики бессчетных нитей, распутает их и наведет в мире марионеток элементарный порядок.
Он, генерал Иджер, не боялся. Сознание чудовищной сложности стоявшей перед ним задачи наполняло его печальным и гордым чувством человека, решившего пожертвовать собой во имя блага других.
Пройдет совсем немного времени, и те, кто останется, воздадут ему должное за его гуманный подвиг. Именно гуманный, потому что разве не любовь к маленьким, беззащитным марионеткам движет им?
Генерал вздохнул. Божественная музыка струилась сквозь него, вымывала усталость и наполняла его светлой печалью. Скоро уже, скоро…
ГЛАВА 19
Никогда в жизни я ничего так не ждал, как ждал сейчас звонка Тони Баушера. Я смотрел на телефон и заклинал его: ну позвони же, позвони. Это такая простая вещь. Ток скользнет по проводу, возбудит соленоид, тот притянет молоточек, который начнет мелодично колотить о звонок. Это же элементарно. Я тут же подниму трубку, услышу голос Тони, и кончится невыносимое ожидание.
А оно стало действительно невыносимым. Тысячи раз я производил в уме все расчеты. Столько-то времени нужно было Тони, чтобы добраться до Кинглоу, столько-то для того, чтобы наметить план действий, столько-то для того, чтобы позвонить нам. Он знал, как мы ждем его звонка. Допустим, он не сразу нашел врача, который украл у него ноги. Он бы позвонил нам. Допустим, он не мог придумать план, как добраться до него. Он бы позвонил нам. При всех обстоятельствах он бы позвонил нам, потому что знал, что мы ждем его звонка и от этого звонка зависят все наши дальнейшие действия.
Поэтому телефон не мог не позвонить. И я сидел, уставившись на него, и повторял: ну позвони, позвони…
Но прошло уже трое суток, а телефон молчал.
— Он обязательно позвонит, — говорила Луиза, но в ее голосе не было убеждения.
Она была храброй женщиной. Она превзошла Геракла в своих подвигах и Пенелопу своей преданностью мне. Но нет более безжалостного растворителя для геройства и преданной любви, чем время. И я начал угадывать в Луизе тщательно скрываемый тягостный ужас. Она вырвала меня из знойного Ритрита, она заклинала себя, что по-прежнему любит холодную, бездушную машину, в которую чьей-то злой волей зачем-то вложена память, самосознание, душа умершего Ника Карсона. Но дальше что? Что я дал ей взамен? Чем я наградил ее за неслыханные подвиги? Она не просто выскочила из привычной жизненной колеи, она поднялась на неслыханные высоты духовной смелости, верности и самопожертвования. Вместо лавровых венков и аплодисментов я держу ее в жалкой комнате с вытертым ковром на полу, урчащими трубами в ванной и пятью старыми журналами с киногероями на обложках. И с бессильной болью и грустью я чувствую, как секунды, минуты и часы вынужденного бездействия разъедают ее храбрость и подмывают ее верность. О, она не подавала вида! Она смотрела на меня и говорила:
— Бедный мой Ники, как должно быть тебе скучно со мной… — Она улыбалась. Это была игра. Она давала понять, что шутит, потому что нам не могло быть скучно вдвоем. И мне действительно не могло быть скучно. Хотя бы потому, что я умел останавливать время. Стоило мне прижаться носом к ее щеке, волосам или шее, как я испытывал легкий толчок. Это время мгновенно останавливалось. Где-то еще оно, может быть, и текло как обычно. Но я был вне его потока. Я был не подвластен ему.
Это — я. А она? Она тоже говорила, что это лучшие часы в ее жизни. Что впервые я никуда не тороплюсь, и поцелуи мои никак не связаны с движениями ни секундной, ни часовой стрелкой. Но мне все время казалось, что это были слова. Слова, которыми ока окружила себя, как дамбой, от надвигавшегося кошмара действительности.
А тут еще молчавший с дьявольским упорством телефон. На третий день я сказал:
— Лу, боюсь, с Тони что-то случилось…
— Чепуха, — не очень убежденно сказала Луиза, — просто он…
— Не говори «просто он». Мы уже перебрали с тобой все варианты. И не осталось ни одного «просто он». Давай посмотрим правде в глаза. Скорее всего, они зацапали его.
— Ник…
— Любовь моя, если бы заклинаниями можно было отвратить опасность, мир был бы довольно безопасным местом. Ты прекрасно знаешь, что это самое рациональное объяснение. Но это значит, что мы…
— Что ты хочешь сказать, Николас? Что Тони мог назвать им наш адрес или номер телефона? Ты в своем уме?
Бедная добрая Лу! Душа ее принадлежит другому, более простому и наивному времени. И глаза ее видят все в черно-белом варианте. Тони Баушер не предатель. Он не продаст нас, ведь мы вместе бежали из Ритрита. Да, в черно-белом варианте он не предатель. Но в цветном… Боже, сколько появляется новых оттенков! Да, он не предатель. Но у него, он говорил, есть семья. Дочь. И если перед ним поставили весы и сказали: смотрите, дорогой Баушер, на одну чашку мы кладем Николаса Карсона. Даже не его самого, а его глупый, импульсивный побег. На другую — ну, скажем, жизнь вашей дочери. Дайте нам телефон вашего друга, и мы вернем вас обоих обратно в Ритрит. Или… или с вашей дочкой может случиться что-нибудь крайне неприятное. Вы же знаете — для чего скрывать! — мы умеем устраивать нужные нам случайности. Например, бедная девочка может заговориться, возвращаясь из школы, и попасть под машину. Подумайте, дорогой Баушер, это только в черно-белом варианте легко быть упрямым героем. Но время подвигов прошло. В цветном варианте много оттенков, и ваш поступок будет не предательством, а скорее благоразумием. Для вашего блага, блага Николаса Карсона и, конечно же, блага вашей дочери.
Я вскочил. Почему-то именно в это мгновение я твердо знал, что телефон не позвонит, что я не услышу голос Тони Баушера. Вместо этого в любой момент позвонят в дверь, и вежливые люди Вендела Люшеса скажут:
— Только не делайте глупостей, мистер Карсон, вы их и так уже достаточно наделали. Тем более, что там, позади вас, мы видим вашу очаровательную приятельницу, и нам не хотелось бы…
Мне стало страшно. Секунды ощетинились угрозой. Каждая из них могла возвестить приход улыбчивого представителя фонда Людвига.
Я не мог ждать их. Просто не мог.
— Лу, — сказал я, — оставаться здесь, по-моему, опасно.
— Но куда же нам идти? — спросила она, и в голосе ее в первый раз я уловил нотки отчаяния. — Если бедный Тони… если с ним что-то случилось, он мог рассказать и о твоем маскараде…
— Не знаю, Лу. Я знаю, что боюсь оставаться в этой ловушке.
— Может быть, позвонить твоему другу Ратмэну?
— Потом, потом.
Я открыл дверь на лестницу. Я был уверен, что сейчас чья-то рука с силой опустится мне на плечо. Я сжал пистолет в кармане, но я не верил в него. Их слишком много, и они неуязвимы.
Удивительно, но мы спокойно спустились по лестнице. Луиза была права. Если бедный Тони все рассказал им, он должен был рассказать им и о моем женском туалете. Поэтому рядом с Луизой шел двадцативосьмилетний молодой человек со спокойным выражением лица. Конструкторы моего тела не предусмотрели приливы и отливы крови хотя бы потому, что кровь им была не нужна.
Перед тем как выйти на улицу, я опять на мгновение сжался, приготовился к нападению. Я даже не знал, какую форму может принять опасность. Ко мне мог подойти полицейский и вежливо взять под козырек. Около меня могла остановиться машина, и цепкие лапы помощников Вендела Люшеса втащили бы меня внутрь. Меня могла ударить проезжающая машина, или просто где-то недалеко щелкнул бы выстрел, который я б не успел даже услышать, и в моем совершенном нейристорном мозгу тут же образовались бы разрывы, которые вывели бы его из строя.
Мы прошли несколько кварталов. Молча, быстро, почти как беглецы. Ничего не произошло. Я поймал себя на том, что судорожно вцепился в руку Луизы, как в спасательный круг, как в щит, черт возьми.
Нужно было что-то придумать. Отели отпадали. У них хватит настойчивости проверить их все. Уехать из города? Но сейчас, когда за дело взялся Густав Ратмэн, оставить его было просто нельзя.
Можно было, конечно, попытаться снять комнатку у частных владельцев, но это было нелегко, а каждая лишняя минута на улице несла с собой риск. Я чувствовал себя так, будто на спине и груди у меня были прикреплены мишени для стрельбы.
Мы проходили мимо супермаркета. Молодая женщина клала в багажник какие-то картонки и пакеты. Я схватил Луизу за руку и подошел к машине как раз в тот момент, когда она открывала дверцу.
— Мадам, — сказал я, — извините, не могли бы вы нам помочь уехать отсюда…
То ли в голосе моем прозвучало что-то такое, что заставило ее кивнуть, то ли она просто испугалась, но она не помешала нам забраться внутрь.
— Куда вам нужно? — спросила она, не поворачивая головы. Ей было на вид лет тридцать с небольшим. У нее были упрямо поджатые губы и напряженно прищуренные глаза. Она включила мотор, и машина медленно выехала со стоянки супермаркета.
— Лучше всего к вам, — сказал я. — Нам нужно несколько спокойных дней… Поверьте, мы ничего не…
— Вы что, в своем уме? О чем вы говорите? Я считаю себя довольно гостеприимным человеком, — сказала женщина, — но не до такой степени…
— С кем вы живете? — спросил я.
— С мужем и двумя детьми…
Она была скверной актрисой. Не нужно было читать мысли, чтобы понять, что она врет.
— Хорошо, — сухо сказал я, — мы с удовольствием познакомимся с ними.
— Но я вас не приглашала, — сказала женщина. Она уже нервничала, и голос ее дрожал. — Я попрошу вас…
— У меня в кармане пистолет, — как можно спокойнее сказал я, — и пока вы не делаете глупостей, он там останется. Вот он, чтобы у вас не было сомнений. Видите? Мы еще раз просим прощения за назойливость, но для нас это вопрос жизни и смерти.
Женщина закусила нижнюю губу, подумала и спросила:
— А если я привезу вас в полицейский участок?
— Вполне уместный вопрос. Но поскольку у нас нет выбора, я вынужден буду застрелить вас. Не думаю, чтобы это имело особый смысл.
— И вы… выстрелите в безоружную женщину? — спросила женщина, и мне показалось, что в голосе ее появились едва уловимые нотки любопытства.
— Без всякого удовольствия, мадам, — галантно сказал я. — Но выстрелил бы.
— Вы считаете, что ваша жизнь дороже моей?
Странная, однако, особа, подумал я.
— Хороший вопрос. Поверьте, мне не хотелось бы садиться перед аналитическими весами и уравновешивать чашки вашей и моей жизни.
— Тем более, — сказала Луиза, — что никто не собирается покушаться на вашу жизнь, если вы приютите нас на несколько дней.
— Вы не похожи на гангстеров, — сказала женщина, и неясно было, прозвучало в ее голосе облегчение или осуждение.
— Мы не гангстеры, — обиделась Луиза.
— А кто же вы?
Я не смог удержаться и фыркнул:
— Что бы мы ни сказали, вы все равно не поверите. Да и нужно ли вам это знать? Вам угрожали оружием, и вы вынуждены были подчиниться.
Женщина, казалось, долго обдумывала то, что я сказал ей, кивнула наконец и заметила:
— В общем, логично. — После паузы она вдруг добавила: — Я сказала вам неправду.
— Что именно?
— Я живу одна.
— Я в этом не сомневался, — серьезно сказал я.
— Почему?
— Не знаю. Просто я почему-то не поверил вам, когда вы перечислили нам состав своей семьи. А может быть, потому, что вы слишком вяло сопротивлялись. Наседка куда решительнее.
Владелица машины бросила на меня быстрый взгляд и усмехнулась:
— А вы действительно не похожи на гангстеров. Но учтите, у меня маленькая квартирка, и боюсь…
— Ничего, мы не будем особенно капризны.
— Что я должна буду делать?
— Ничего. Ровным счетом ничего. Вы даже не пойдете на работу.
— Как это не пойду на работу? Я служу библиотекарем, и у нас…
— Вы позвоните и скажете, что плохо себя чувствуете. Или что ваша матушка тяжело заболела, и вы должны на несколько дней поехать к ней.
— Я что ж, не смогу даже выйти на улицу?
— Боюсь, что нет, мадам.
— Ну да, я понимаю. Вы боитесь, что я могу привести полицию?
— Совершенно верно.
— Но мне может что-нибудь понадобиться…
— Моя спутница постарается выполнить ваше поручение.
— И часто вам приходится вот так… врываться в чужие дома?
— В первый раз, мадам.
— Странно, — усмехнулась она, — у меня впечатление, что это у вас отрепетированный трюк.
— Что делать, — сказал я, — мы просто оба прекрасные актеры.
— Вы не оставляете мне выбора. Меня зовут Софи Вольта. Мои предки из Италии.
— Очень приятно. К сожалению, мы не можем представиться вам так же подробно. Поэтому я буду Диком, а моя приятельница, скажем, Джэнет. Дик и Джэнет.
Квартирка Софи Вольта оказалась действительно крохотной: одна комната, которая служила одновременно спальней и гостиной, и кухонька, если этим словом можно было назвать закуток без окна.
— К сожалению, моя кровать несколько узковата для троих, — усмехнулась наша хозяйка. — Еще один человек может скорчиться на кушетке, но для третьего, боюсь, места нет. Может быть, вы поищете что-нибудь более подходящее? Этажом выше живет моя приятельница. У нее, правда, семилетний сын, но зато две довольно просторные комнаты. И потом, представляете, какое счастье это будет для мальчишки? Три дня под дулом пистолета. Да он же станет героем! Ваш визит, может быть, перевернет всю его жизнь.
— Я рад, что вы обретаете способность шутить, — сказал я и поймал на себе взгляд Луизы. Бедняжка, наверное, решила, что сейчас самое время для меня начать кокетничать. Поцелуйте меня, мисс Вольта, иначе я разряжу в вас этот маленький пистолет. — Но давайте договоримся, что вы будете делать, если ваша приятельница вдруг заявится сюда.
— А что я должна делать?
— Не знаю… Это уж ваша забота. Во всяком случае, не пытайтесь послать ее за полицией.
Софи Вольта вдруг улыбнулась:
— Боюсь, вы плохо меня знаете… Признаться честно, я веду довольно размеренный образ жизни, и небольшое приключение… я буду считать его маленьким отпуском. Если, конечно, вы не сделаете мне дыры в голове своим зловещим пистолетом. Располагайтесь, Джэнет и Дик. Правильно я запомнила ваши имена?
— Абсолютно верно, мисс Вольта. Мисс?
— О, я уже побывала замужем. Почти такое же приключение, как и то, что вы мне предлагаете: столь же короткое и столь же неожиданное. Только не нужно было пистолета, чтобы я пригласила к себе этого негодяя. На второй день я увидела на нем следы от шприца. Еще через час он признался, что он наркоман… Чашечку кофе?
— Джэнет, ты как? — спросил я.
— С удовольствием. Спасибо, мисс Вольта. Если вы покажете мне, где у вас кофе и сахар, я все сделаю сама.
— Нет, — твердо сказала мисс Вольта. — У меня мало принципов, но один из них гласит: у себя в доме я хозяйка.
Она с трудом влезла в кухоньку, почти целиком заполнив ее собой, и вскоре появилась с тремя дымящимися чашечками.
— Спасибо, — сказал я, — я не пью кофе.
— Нервная система? К сожалению, у меня нет кофе без кофеина, знаете, такие есть сорта…
— Я вообще не пью кофе.
— Простите, но у меня нет ничего покрепче.
— Спасибо, я ничего не пью.
Мисс Вольта поставила чашечки на низенький столик и с любопытством посмотрела на меня.
— Боже, как стало трудно жить, — пробормотала она.
— В каком смысле?
— Все стало зыбко. Как-то неопределенно. К тебе врываются под угрозой пистолета, а грабитель не пьет и вообще ведет себя более чем интеллигентно.
— Что делать, мисс Вольта. Пожалуй, мне уже поздно пить.
— Язва? — деловито спросила она. — У моего шефа в библиотеке язва желудка, и бедняга практически живет на кашах.
— Да, вроде того, — неопределенно сказал я.
ГЛАВА 20
-Завтра к вам приедет человек, — сказал полковник Ларр. — Генерал хотел бы, чтобы он… скажем, несколько не доехал до вас.
Хилэри Импиат молча кивнул и поправил галстук.
— Метод обычный? — со вздохом спросил он.
— Боюсь, что да, дорогой Хилари, — улыбнулся полковник Ларр. — С вашей артистической натурой вы можете придумать бог знает что. Утопить человека в фонтане на площади или замуровать его в стене. Поэтому вы должны самым обычным способом взорвать его машину. Разумеется, не у самого вашего жилья, а подальше. И пожалуйста, без экспериментов со взрывчаткой. Нормальный эффективный взрыв. Надеюсь, по осколкам самодельной мины полиция сумеет определить, кто это сделал. Левые террористы, как обычно.
— Хорошо, — вздохнул Хилэри Импиат. Его не пугало полученное задание. В конце концов, это был его кусок хлеба, и привыкаешь ко всему. Но когда превращаешься в чисто механический придаток чьих-то мозгов, когда из года в год ощущаешь себя не человеком, а спусковым крючком, на который нажимает некто, тебе незнакомый и по причине тебе неведомой, невольно со временем в голову приходят всякие мысли.
— У него есть мой телефон? — спросил Импиат.
— Да, он позвонит вам, и вы объясните ему, как именно проехать к вам.
— Спасибо, — не без сарказма ответил Импиат. — Сам бы я не догадался…
Полковник Ларр пристально посмотрел на наемного убийцу.
— А у вас, дорогой Импиат, нервы не пошаливают? Что-то раньше я не замечал, чтобы вы были так ироничны.
— Чепуха, — пожал плечами Импиат.
— Отлично, в таком случае я рассчитаюсь за выпивку, и мы можем идти.
Они сидели в небольшом полутемном баре, и перед каждым стоял недопитый стакан.
Хилэри Импиат добрался до дому только поздно вечером. На Корд Роуд он попал в чудовищную пробку и простоял на месте не менее часа. Поэтому настроение у него было самое мрачное.
Но это же чепуха, сказал он себе, нельзя так распускаться. Словно старая баба. Подумаешь, попал в пробку — и чуть ли не в слезы. Еще немного — и впору будет идти к ковырятелям мозгов. А с его профессией это опасно. Да что опасно, просто невозможно. В руки надо себя взять, Хилэри, сказал он себе. В руки.
Он открыл холодильник и достал банку пива. Он любил холодное пиво. Потянул за колечко, и колечко с кротким вздохом открыло дырочку. Хилэри не стал доставать стакан, а наклонил банку и с жадностью высосал горьковатый приятный напиток.
Странное дело, обычно пиво успокаивало его, но сегодня какое-то неясное беспокойство словно холодным компрессом приклеилось к его спине.
И для чего спросил этот хлыщ, не пошаливают ли у него нервы? Что он хотел этим сказать? Быть может, он уже отслужил свое Конторе, и теперь они не прочь избавиться от него? Чепуха, он никогда не лез куда не следует, не совал нос в то, что его не касается. Знал свое место.
И все-таки холодный компресс на спине никак не согревался. Господи, может, не нужно было разводиться в прошлом году с Марией? Ну, характер у нее был, правду сказать, несносный, но что ни говори, а свой человек. Прожили худо-бедно почти двадцать лет. И не было бы сейчас пустой квартиры. И пустую банку от пива он бы аккуратно поставил на стол, а не швырнул, как сейчас, на пол.
Но нет, не из-за Марии не находил он сегодня себе места. Развелся и развелся. И правильно сделал. Просто инстинкт какой-то предупреждал его об опасности. И хотя опасности как будто быть не должно, он знал, что с инстинктами не шутят. Тем более если подумать, какой-нибудь умник в Конторе вполне мог сказать: а не пора ли нам сменить старого Хилэри Импиата? А, джентльмены?
Хилэри проворочался с полчаса и понял, что не заснет. Он встал и принялся медленно, шаг за шагом исследовать свою квартиру. Он внимательно посмотрел электропроводку — не добавился где-нибудь незаметный проводок, который вел бы к взрывному устройству? Он знал, как это делается. И понимал, что то, что уготавливал другим, кто-нибудь мог приготовить и для него.
Обычно он был человеком спокойным, философского склада ума, как большинство гробовщиков и наемных убийц, но сегодня спокойствие так и не приходило к нему. Чем больше он ползал по квартире с карманным фонарем, детектором и отверткой, тем больше злоба охватывала его, подзуживала: от этих чистоплюев в Конторе можно всего ждать.
Он ничего не нашел и в конце концов даже задремал, но стоило ему слегка погрузиться в теплый сон, как его тут же выбросило на поверхность бодрствования, словно катапульта какая-то вышвырнула. С минуту он лежал в темноте с бьющимся сердцем, потом встал и зажег свет. Он уже не сомневался, тревога была не напрасной. Он бы и раньше заметил, он был человеком наблюдательным, но мешало раздражение. А во сне его изощренные инстинкты самосохранения сработали сразу и без помех. Накануне он купил двенадцать банок пива. Выпил он пять. Он еще до сих пор не выбросил пустые банки. Значит, в холодильнике должно оставаться семь банок. Так, мистер Импиат? — спросил он себя. Так. Он открыл холодильник и сразу успокоился. Опасность всегда успокаивала его, такая уж у него была странная натура. В холодильнике стояли восемь банок. Ошибки быть не могло. Кто-то преподнес ему подарок: банку пива его любимой марки. Рассчитали они точно. Завтра он выполнит поручение, а послезавтра утром дойдет очередь до подарочной баночки, потому что он неизменно выпивал пять банок в день.
Идиоты, усмехнулся он. Сразу видно, джентльмены с университетским образованием. Им бы подменить одну банку, и он бы никогда ничего не заметил. До того самого момента, когда выдернутый язычок крышки привел бы в действие взрывной механизм. Но тогда было бы слишком поздно. Без рук и лица трудно замечать что-либо.
Бесконечно медленно, с величайшей осторожностью, он достал все банки и поставил их на стол. Одна казалась чуть тяжелее. Безусловно она была тяжелее. Но отлично слажено, ничего не скажешь.
Ну ладно, джентльмены, вы, может быть, и считаете, что Хилэри Импиату пора на тот свет, но он, так не считает. Можно пока не торопиться. Время у него есть. Завтра ему позвонит человек, которого он должен убить. Впервые за долгие годы Импиат подумал об этом человеке не как об абстрактном понятии, а как о живом существе. Черт его знает, какой он, толстый, тонкий ли, молодой. Спит он сейчас или так же, как Импиат мается бессонницей… И впервые в нем шевельнулась симпатия к этому человеку. Впервые он поставил себя на его место. Сегодня сделать это было нетрудно. Сегодня он впервые ощутил себя не только спусковым крючком, но и мишенью. Они оба были живыми мишенями, тот человек и он, Хилэри Импиат.
Полковник Ларр стоял перед генералом Иджером и молил бога, чтобы начальство избавило его хотя бы сегодня от лекции о гении Моцарта.
Генерал снял очки, томительно медленно потер переносицу и спросил:
— Ну, где наш друг Карсон?
— К сожалению, когда мы добрались до квартиры, указанной полковником Ратмэном, там никого не было. Наши люди прождали пять часов. Похоже, что Карсона что-то спугнуло, и он покинул эту квартиру.
— М-да… Вы думаете, он позвонит еще раз Ратмэну?
— Думаю, что да, сэр. У него нет другого выхода. Ратмэн — его единственная связь с внешним миром. Поэтому мы подключились и к домашнему и к прямому его служебному телефонам. Я приказал, чтобы мне тут же доложили, как только Карсон позвонит.
— М-да, хорошо, друг мой. Я был бы вам очень признателен, если бы вы включили мой проигрыватель. Музыка… Она вымывает… усталость, раздражение. Просто чудо. И прежде всего божественный Моцарт…
Лейтенант поставил магнитофон на стол перед полковником Ларром и сказал:
— Звонок был в восемь двадцать вечера домой полковнику Ратмэну. Разрешите включить пленку?
— Включите.
«Это ты, Гус? Слава богу, я уже отчаялся дождаться».
«Что случилось, Ник?»
«Тони Баушер до сих пор не позвонил из Кинглоу. С ним, очевидно, что-то стряслось. И поскольку он знал номер телефона и адрес, где мы скрывались…»
«Разумно, разумно. Ник. Ты становишься настоящим конспиратором. И где же ты сейчас?»
«Видишь ли, Гус… Как тебе объяснить… Я не уверен…»
«Ты хочешь сказать, ты не уверен во мне?»
«Нет, но… твои разговоры тоже могут подслушивать…»
«Не думаю, но это не имеет значения. Завтра я встречаюсь с человеком, который давно связан с фондом Калеба Людвига, и я надеюсь что-нибудь выяснить. Хоть какую-нибудь ниточку вытянуть из клубка. Главное — сидите на месте, не высовывайте нос. Хорошо?»
«Хорошо, Гус. Я завтра же позвоню тебе. До свидания».
— Отлично, — сказал полковник Ларр. — Очень милый разговор. Надеюсь, вы смогли определить, откуда звонил Карсон?
— Да, сэр. У нас есть адрес. Телефонная компания, как обычно, немного поворчала, но в конце концов сообщила, что телефон принадлежит некоей Софи Вольта.
— Гм, довольно предприимчивый тип этот Николас Карсон.
— Совершенно точно, сэр.
— У вас все подготовлено?
— Да, сэр.
— Желаю удачи. И помните: никакой стрельбы, никаких тренировок рукопашного боя. На нашем друге не должно быть ни царапины.
— Слушаю, сэр.
— Хорошо, действуйте.
Полковник Ларр откинулся на спинку кресла и с наслаждением закурил. Мир был четок и ясен, как геометрический чертеж, и в этом чертеже он, Игнатий Ларр, занимал свое четкое и ясное место. Конечно, чертеж был далек от совершенства: например, вялый любитель Моцарта, который в этом чертеже занимал такую высокую строчку, должен был, по законам логики и справедливости, занимать место не над ним, а под ним. Читать лекции о гении Вольфганге Амадее Моцарте, потирать переносицу с томно утомленным видом и бормотать нечто нечленораздельное — много ли для этого нужно?
Но полковник Ларр сохранил в свои сорок четыре года юношеский запас оптимизма и никогда не рассматривал жизненный чертеж как законченный богом или судьбой шедевр. В конце концов, нужно было совсем немного, чтобы детали чертежа поменялись местами. И он, Игнатий Ларр, будет утомленно вздыхать, глядя на тянувшегося перед ним очередного оптимиста.
Например, эта операция с Карсоном. Он не лез не в свои дела и не задавал лишних вопросов. Но ведь все фактически сделал он. И не только сделал. И идеи-то были его, осторожненько подсказанные генералу, так, чтобы тот считал их своими. И в отношении Импиата, который слишком долго служил Конторе и, судя по кое-каким намекам, начал нервничать, и в отношении старого дурака Густава Ратмэна, который, казалось, въехал в Контору на кляче Дон Кихота прямо со страниц рыцарского романа. Школьный друг. Ларр тонко улыбнулся. С возрастом люди мягчеют и слабеют. Так же, как металл. У металла это называется усталость, появление микротрещинок, у людей те же трещинки называются сентиментальностью. Может быть, Ратмэн по-своему и безвреден. Ему просто не повезло. Не тот человек не на том месте. В известной рекламе одного банка корректно одетый и деловитый человек с портфелем в руке всегда обведен на фотографии красным кружком. И подпись: нужный человек на нужном месте. С Ратмэном получилось наоборот. Был бы он, допустим, проповедником или служил в Армии спасения, наливая безработным суп черпаком, он мог бы дожить со своими душевными трещинами до глубокой старости. В Конторе сентиментальность была преступлением, и завтра под его машиной взорвется бомба, изготовленная, как обычно, левыми террористами. Страдать он не будет, но и жить тоже. Он сам фактически вычеркнул себя из чертежа.
Все это, разумеется, было немножко жестоко, но что делать, чертеж составлялся без скидок на эмоции, и надо принимать его таким, каков он есть.
Полковник Ларр раздавил сигарету в пепельнице и встал…
— Ники, — прошептала мне Луиза в самое ухо, — я хочу выйти на улицу.
— Зачем? Это опасно.
— Мне нужно купить что-нибудь для горла. У меня, кажется, начинается ангина. Не могу же я послать хозяйку. К тому же я попрошу у нее кофточку и какую-нибудь летнюю шляпку. Я сама себя не узнаю.
— Хорошо, Лу, если тебе действительно нужно. Только не надолго, хорошо? Я понимаю, это глупо, но я начинаю метаться без тебя.
— Не волнуйся, я буду мчаться по улице как спринтер.
Луиза подошла к хозяйке и очаровательно улыбнулась:
— Мисс Вольта, не могли бы вы мне одолжить какую-нибудь кофточку? И если у вас есть шляпа с большими полями…
Мисс Вольта без особого энтузиазма пожала плечами.
— Наверное, — неопределенно пробормотала она.
— Это для конспирации, — заговорщически прошептала Луиза.
— Конспирации?
— Ну, на всякий случай… Если кто-нибудь случайно увидит меня…
— А, понимаю, — оживилась мисс Вольта.
Удивительная все-таки интуиция у Луизы. Настоящий дьяволенок. Играет на душах людей, как на арфе. Моментально нащупала слабое место в доспехах нашей хозяйки. Впрочем, это было нетрудно. Библиотекарша изнывала от своей чересчур размеренной жизни. И все, что хоть на мгновение рассеивало серый туман скуки, волновало ее. В сущности, именно поэтому она, наверное, так легко примирилась с нашим вторжением. Если бы бедняжка еще знала, кто я, она бы на коленях умоляла нас остаться у нее хотя бы на неделю. Искусственный мужчина в ее квартирке — да этого ей хватило бы на полжизни. Это же подарок судьбы.
Она суетилась вокруг Луизы, как продавщица в магазине, пока не выбрала ей оранжевую кофточку и шляпу с мягкими полями.
— Отлично, Джэнет, — сказала наконец она, отойдя на несколько шагов и критически оглядев Луизу. — Если бы не ваши ноги и лицо, я готова была бы поклясться, что это я.
— Спасибо, мисс Вольта, — чопорно поклонилась Луиза, улыбнулась мне и тихонько выскользнула из квартиры.
И сразу я почувствовал некое напряжение. Откуда же оно исходило? Очевидно, от хозяйки, которая театрально вздохнула и посмотрела на меня. Взгляд был долгим и почти нежным. Должно быть, ее приятно волновал мой статус беглого преступника с высшим образованием, а пистолет в моем кармане добавлял пикантности.
— Вы… что-нибудь хотите? — спросила она и кокетливо улыбнулась.
Боже, подумал я, до чего странное ощущение. Нужно было, чтобы меня сделали иском, чтобы я помолодел лет на двадцать пять, чтобы лицо мое было изготовлено из высококачественного пластика, — и вот теперь, пожалуй, впервые в жизни женщина смотрит на меня с таким кокетством. Мне стало смешно. Я вдруг почувствовал непреодолимое желание задрать рубашку, открыть люк аккумулятора в животе и вытащить шнур подзарядки. Куда бы, интересно, девалась ее кокетливая улыбка. Но я удержался. Не следует поощрять в себе эдакие противоестественные порывы. За последнее время я что-то слишком часто демонстрирую свое уродство.
— Спасибо, мисс Вольта, — сказал я. — Я ничего не хочу.
— Вы ж ничего не ели со вчерашнего вечера, — строго сказала она. Моя спутница, легкомысленная финтифлюшка, плохо заботится обо мне, а вот она, Софи Вольта, знает, что нужно мужчине. И только по невезению, по нелепой случайности никто до сих пор не оценил как следует ее умения заботиться.
— Спасибо, мне совершенно не хочется есть, — пробормотал я. Мисс Вольта подошла ко мне, и мне показалось, что вот-вот она бросится мне на шею, но в этот момент в дверь позвонили. Я испытал одновременно облегчение и чувство привычной опасности. В глазах хозяйки нетрудно было прочесть разочарование.
— Это ваша спутница… Джэнет. — Почему-то слово «Джэнет» она произнесла с брезгливостью.
Да, конечно, это должна была быть Луиза. Прошло минут десять, как раз столько, сколько ей нужно было добежать до ближайшей аптеки. Тем более что она обещала мчаться как спринтер.
Мисс Вольта открыла дверь и слабо вскрикнула. Может быть, если бы квартира была побольше, если в ней была бы настоящая прихожая, я бы успел что-то сделать. Хотя бы вытащить пистолет. Но я был полон мыслями о Луизе. Я уже приготовился поцеловать ее и поздравить с установлением рекорда бега на короткие дистанции. И прежде чем я успел пошевелиться, трое джентльменов уже крепко держали меня и волокли к двери. Хватка у них была профессиональная. Мое искусственное тело было несколько сильнее средне тренированного мужчины, но я не мог даже пошевелиться в объятиях трех горилл.
Пока они молча тащили меня к двери, мисс Вольта смотрела на меня с жадным ужасом. Я не подвел ее. Не так, так эдак я устроил ей небольшое представление, и завтра вся библиотека соберется в кружок вокруг возбужденной Софи, и все библиотекарши будут ей свирепо завидовать. А она будет повторять: «Я сразу увидела в его лице что-то глубоко криминальное».
Я попытался улыбнуться ей, но она была слишком поглощена Драмой, вошедшей в ее Жизнь, чтобы ответить мне. Еще через минуту я уже был спрессован на заднем сиденье между двумя своими похитителями. Они сжали меня с обеих сторон так, что мое бедное искусственное тело потрескивало, а на обоих моих плечах лежали их руки. Трогательная картина. Закадычные друзья.
Машина сразу тронулась. Почему-то мне было не очень страшно. Наверное, я израсходовал уже большую часть страха, запасенную в эмоциональных кладовых. А может быть, мой искусственный мозг вообще вмещает меньше эмоций. Жаль лишь было Луизу. Сейчас она вернется, и вместо меня ее встретит торжествующая мисс Вольта. «Вы опоздали, моя милая, — пропоет она. — Вашего… вашего спутника только что арестовали». — «Он ничего… не сказал?» — спросит Луиза, стараясь сдержать слезы, но хозяйка с жестокой улыбкой покачает головой.
Но как же они все-таки узнали, где я? Очевидно, мои опасения были не напрасными. Я позвонил от мисс Вольта Ратмэну, и они… А может быть, он сам… Нет, не хотелось так думать, но, с другой стороны, я был достаточно наивен, чтобы доверяться кадровому офицеру РА, даже если этот офицер ухаживал когда-то вместе с тобой за глупой красивой девочкой с фиолетовыми глазами. А может быть, он не виноват. Может быть, они просто прослушивали его телефон. Впрочем, все это представляло чисто академический интерес. Джентльмены-гориллы не выпускали меня из своего пресса, и сама мысль о побеге казалась настолько нереальной, что я и не пытался задержать ее в своей голове. Тем более, что голову заливала сухая безнадежная печаль. Все было тщетно. Все было кончено. Даже если бы они были кроткими агнцами, они не могли оставить теперь меня в живых. Как любил говорить мой бывший ангел-хранитель Вендел Люшес, необходимы хотя бы минимальные меры безопасности, чтобы Ритрит мог функционировать. И Тони Баушер, и я — мы оба представляли сегодня для них угрозу. И мы были обречены. Если Тони еще жив. Тем более, что Ритрит, как я уже давно смутно догадывался, возник не в безвоздушном пространстве. Чтобы прослушивать телефон полковника РА, распоряжение об этом должен был дать некто, имеющий на это если не право, то власть. Вполне может быть, что Ритрит как-то связан с Разведывательным агентством.
Но все это положительно не имело ни малейшего значения. Ничего не имело значения. Жаль было только Луизу. Бесконечно жаль. Даже если они и не будут ее искать, она не выживет в холодном, враждебном мире. Ведь, кроме меня, у нее ничего не было. И с вырванным из рук спасательным кругом вряд ли она долго продержится на поверхности. Если она не захлебнется сразу, она погибнет от холода. Бедная, бедная моя маленькая Луиза. Не зря столько времени мучило меня ощущение, что я принес в ее жизнь горе. Теперь это уже не ощущение. И горе уже не просто горе, а трагедия.
Печаль душила меня, и я ослабил силу тока, протекавшего через нейристорные цепи моего мозга. Если бы только можно было вовсе выключить его, чтобы эта сухая, горькая, невыносимая печаль не скрипела у меня на зубах…
ГЛАВА 21
Полковник Густав Ратмэн ехал на встречу с представителем фонда Калеба Людвига. Может быть, хоть что-то начнет проясняться в этой мрачной истории. Генерал Иджер особого восторга, правда, не выказал, но он вообще редко проявлял свои чувства. Тем более признать, что практически списанный офицер сумел выйти на такую добычу, как Ритрит, — вряд ли такая перспектива особенно бодрила любителя Моцарта. Он, Ратмэн, уже выбрался из бумажного потока. А ведь совсем недавно он уже смирился с неукоснительным течением бумаг и отдался им, терпеливо ожидая пенсии. И вот небольшой поворот судьбы — и он сидит за рулем своей машины и едет на встречу с представителем фонда Людвига. Однако осторожен, осторожен был мистер Импиат, представитель фонда или кто он там на самом деле. Не просто потребовал пароль, данный ему Иджером, но и настаивал, чтобы Ратмэн ехал к нему строго определенным маршрутом. В строго определенное время.
С этими полупрофессионалами всегда так. Все доводят они до абсурда. Тянутся к уровню старших коллег, слышали краем уха, как играют в высшей лиге, и обезьянничают.
Ага, здесь ему нужно было повернуть направо. Как сказал представитель, дорога пойдет мимо двух рядов заброшенных жилых домов. Вот они, мрачные трущобы, брошенные владельцами, городом и даже жильцами. Он посмотрел на часы. Все точно. Одиннадцать тридцать.
Впереди, метрах в ста, он увидел человека. Человек отчаянно размахивал руками. И была в жестах какая-то странная настойчивость, некая значительность. Не хотелось останавливаться, но минута—другая в запасе у него была. И человек не похож был на какого-нибудь пьянчужку или наркомана.
Полковник притормозил машину и опустил стекло. Какое чертовски знакомое лицо. Где он видел эти жесткие черные волосы, слегка приплюснутый нос, выдающиеся скулы? Боже, это же точная копия портрета, созданного синтезатором по описанию миссис Фрис. Техник по обслуживанию информаторов, застреливший Айлин Ковальски. А может быть, это не просто сходство? Ну конечно же, слишком много совпадений. Человек коротко сказал:
— Фонд.
Это был пароль, и полковник удивился странной процедуре: зачем нужно было останавливать его на дороге?
— Калеб Людвиг, — ответил он.
— Вылезайте из машины. Но вначале подайте ее назад метров на десять.
— Ничего не понимаю.
— Я должен взорвать вас.
— Но…
— К счастью, по крайней мере для себя, я обнаружил, что и со мной они хотели свести счеты. Поэтому назло им я предупреждаю вас. Конечно, когда в обгоревшей машине они не найдут трупа, они будут огорчены, но это уже ваша забота. Так же, как аккуратно нырнуть в глубину, без брызг — моя забота. Решайте.
Решать было нечего. Прежде чем он сообразил, что делает, он уже подал назад машину и выскочил из нее. Человек, предупредивший его, быстро уходил в противоположную сторону. Он сгорбился, и руки его были в карманах куртки. Ратмэн побежал. И вскоре услышал за собой тугой хлопок взрыва. Взрыв подтолкнул его в спину, и он упал, но тут же снова вскочил на ноги. Тонко звякали какие-то осколки.
Но он с ума сошел, идти так открыто по улице, если даже по обеим сторонам ее темнеют пустые коробки вымершего города.
Он юркнул в первую же подворотню. Несколько одичалых собак спокойно подняли худые морды, в их глазах не было страха. Наверное, они чувствуют себе подобных, пронеслось у полковника в голове. Таких же гонимых и бездомных.
Один из домов был наполовину взорван. Наверное, хотели освободить площадку для строительства нового дома, но решимости, воли, здравого смысла или денег хватило на один заряд. Бессмысленно было пытаться вдохнуть жизнь в эти трущобы. Здесь даже земля была пропитана безысходной нищетой, такой безысходной, что даже нищие бежали отсюда.
Он шел мимо гор битого кирпича и думал о том, что интуиция не подвела его. Двадцать пять лет в Конторе кое-что да значат. Ритрит не был невинной филантропической шалостью покойного Калеба Людвига. Из-за филантропических шалостей не отдают хладнокровно приказ взорвать машину кадрового офицера. Похоже, что филантропическая шалость была как-то связана с Конторой и старый школьный друг втянул его в кошмар, который только начинается.
— Будь ты проклят, Ник Карсон, — сказал он вслух. — И ты, старуха Милли. Если ты еще жива и у тебя все те же фиолетовые глаза.
Стоп, сказал он себе. Первая заповедь оперативного работника Конторы гласила: никогда не позволяй себе роскошь бессмысленных эмоций.
А эти чувства были бессмысленны. Тем более, что он был в отличие от Карсона профессионалом и все же не почувствовал, не прочел невидимую табличку: «Вход посторонним запрещен».
И вот теперь он бредет, спотыкаясь, среди полуразрушенных трущоб. В каком-то смысле он не избежал взрыва. Нет, дело было не во взрывной волне, которая легонько пнула его в спину. Взрыв мгновенно превратил его из солидного пятидесятидвухлетнего полковника, ветерана РА, в изгоя. В бездомного пса, которого на каждом шагу подстерегает опасность. На мгновение он пожалел, что не остался в машине. Неожиданная смерть ведь не страшна. Ты даже не знаешь, что умер.
Но нет, то было мрачное кокетство. Он не хотел умирать. Важно было выиграть время, решить, что делать. Хорошо, что он не забывал еще об одной заповеди сотрудника Конторы: старайся не задерживаться в помещении, где нет запасного выхода.
У его подружки лежит немного денег, кое-какая одежда. Вряд ли кто-нибудь в Конторе знает о ее существовании. Он всегда был настолько осторожен, что порой даже она сама начинала казаться ему вымыслом, порождением его воображения.
В нем было поднялась волна ненависти к генералу Иджеру. Ненависть была горячей и тошнотворной, но и ее он тренированно придавил. Он не имел права на такую роскошь.
Через несколько минут он вышел на параллельную улицу и нашел телефон-автомат. В будке стояла девочка лет пятнадцати и держала трубку. Лицо ее то краснело, то бледнело, а в глазах сиял чистейший восторг. Что говорил ей ее мальчик? На каком языке? С какой планеты?
Наконец она вышла из будки. На губах блуждала неуправляемая улыбка, глаза смеялись.
Полковник вздохнул и набрал номер. На этот раз ему повезло; Хиджер была дома. Вдруг он испугался. Везде были уши, все телефоны прослушивались, все мозги промывались, а души просвечивались. Весь мир был одним гигантским рентгеновским аппаратом. Спокойнее, сказал он себе. Не хватало еще стать паникером. Паникером-поэтом.
— Хидди, это я, — сказал он, не называя своего имени.
— Кто? — спросила Хиджер неуверенно.
— Я, — повторил он. Он не обижался на нее. Они виделись так редко, что не только голос его она могла забыть, чудо, что она вообще узнавала его.
— А… — протянула она, и так и не ясно было, узнала ли она, с кем разговаривает.
— Ты не уходишь?
— Нет.
— Я сейчас заеду.
— Как хочешь, — сказала она, и полковник понял, что она так и не узнала его голос. И тем лучше. Чем меньше его будут узнавать, тем больше шансов у него увернуться от кроткого любителя Вольфганга Амадея Моцарта.
— Не уходи, — сказал он и положил трубку.
На этот раз генерал не массировал себе переносицу и не просил полковника Ларра включить проигрыватель. Он долго смотрел на помощника, потом неожиданно спросил:
— Скажите, полковник, вы действительно в таком восторге от себя?
— Простите, сэр…
— Мне всегда казалось, что вы очень нравитесь себе. Так вот, дорогой мой, боюсь, наши вкусы весьма разнятся. Как могло случиться, что никаких следов Ратмэна во взорванной машине не оказалось? И каким образом мистер Импиат исчез, не захотев воспользоваться вашей пивной банкой со взрывчаткой? Вы понимаете, что это значит? (Полковник Ларр молчал.) Исчезли два профессионала, два профессионала, которые теперь знают, что Контора пыталась убрать их. Это не наивный Николас Карсон. Он-то хоть не улизнул в последнюю секунду?
— Нет, сэр, с ним сейчас беседует мистер Люшес.
— Хорошо. Оставим эмоции и подведем баланс. Что Импиат?
— Он ничего не знает о Ритрите, сэр. К тому же он будет молчать о Конторе. Он знает, что чем меньше пузырьков будет появляться на поверхности, тем больше шансов, что никто не найдет места, где он прячется на дне.
— Но Ратмэн знает…
— Совершенно верно, сэр. Он знает про Ритрит, но, насколько я представляю, далеко не все.
— Будем надеяться. Но что же все-таки случилось? Кто предупредил Ратмэна?
— Об операции знали только вы, я и Хилэри Импиат. У меня создается впечатление, что каким-то образом Импиат нашел подложенную банку и в отместку нам предупредил Ратмэна. Другого варианта нет, сэр.
— Возможно. Возможно. Но Ратмэна вы должны мне найти. Или… Впрочем, вы сами лучше нарисуйте себе картину, что случится с вашей карьерой, если Густав Ратмэн останется где-то в кустах. Сорок восемь часов, полковник. Доложите мне лично.
Полковник Ларр с трудом добрался до своей комнаты и рухнул в кресло. То, что случилось, не укладывалось в сознании. Приветливый, удобный мир, его мир, вдруг оскалил зубы. И уверенный в себе, полный стойкого оптимизма полковник сразу почувствовал себя затравленным зверьком. Он же все сделал правильно. Будь прокляты эти полууголовники вроде Импиата с их звериным чутьем. Как, каким чудом он мог догадаться о подложенной банке? Очень медленно и очень методично он проверил мысленно каждый свой шаг. И внезапно почувствовал прилив жаркой волны. Он поставил банку со взрывчаткой, не вынув из холодильника обычную. Крошечная ошибка. Но из-за нее мир повернулся к нему спиной. В этом было что-то нечестное: крошечная ошибка — и годы упорного карабкания по раскачивающейся веревочной лестнице мгновенно идут насмарку. Руки начинают скользить по канату, ноги теряют опору, и ты летишь в пропасть.
Он еще жив. Сорок восемь часов он может ходить, думать, дышать, надеяться. Через сорок восемь часов он должен доложить: полковник Ратмэн арестован, сэр. Или убит. А если нет? Тогда полет в пропасть продолжится. Боже, совсем недавно жизнь казалась ему похожей на четкий и точный чертеж, где все размечено, каждый занимает заслуженное им место. Сегодня у него уже нет места. Если не считать пунктирной линии, которой обозначится его падение.
Сорок восемь часов… С чего начать? Где искать эту старую жабу? Голова полковника Ларра была пуста. Ни одной мысли, ни одной идеи. Конечно, можно было установить наблюдение за его домом, но если Ратмэн не сошел с ума, он не приблизится к дому на расстояние пушечного выстрела. Надо проверить, кто у него есть из родных в Шервуде. Все это, конечно, были соломинки, и полковник Ларр твердо понимал, что они не удержат на плаву восемьдесят килограммов его тела, но что-то нужно же было делать…
Полковник Ратмэн наклонился и поцеловал стоявшую перед ним женщину в щеку. Хиджер была на голову ниже его, и рядом с ней он всегда чувствовал себя великаном. Всегда, но не сегодня. Сегодня он чувствовал себя вздрагивающей от каждого шороха бездомной собакой с настороженной худой мордой. И даже в молчании Хиджер ему чудилась какая-то скрытая угроза. И маленькая ее квартирка, надраенная со свирепой чистоплотностью одинокой женщины, тоже источала неясную опасность. Он огляделся. Все та же софа, тот же стол, покрытый вязаной цветной скатертью. Тот же телевизор с фарфоровой собачкой на верхней крышке. Он вдруг спохватился, что слишком долго молчит и слишком внимательно рассматривает комнату. Он чувствовал себя обессиленным, лишенным воли. Остаться здесь навсегда, между маленькой женщиной с напряженными испуганными глазами и фарфоровой собакой…
Он пробормотал:
— Сколько же я не видел тебя, Хидди? Сейчас я посчитаю…
— Не считай, — сказала Хиджер, — я могу тебе сказать. Шесть месяцев и два дня. Сто восемьдесят два дня.
— Хидди, ты должна понять… с моей работой никогда не знаешь, где будешь завтра…
— Тебе часто приходилось уезжать из Шервуда за эти сто восемьдесят два дня? — тихо спросила Хиджер.
Он чуть было не сказал: «О, да, куда они только не загоняли меня», но вдруг понял, что нужно промолчать. Каким-то образом она знала. Наверное, она иногда просила кого-нибудь позвонить ему домой, и дома он либо отвечал сам, либо жена говорила, что он еще не вернулся с работы.
— Я понимаю, — кивнула Хиджер, — ты был очень занят. Настолько занят, что не мог протянуть руку и позвонить мне…
Будь ты проклята со своим тихим голосом, подумал полковник и почувствовал, что еще секунда — и он с наслаждением даст пощечину этой кроткой кукле. Ну, не любил он ее, не нужна она ему была, потому и не вспоминал о ней. Неужели это следует объяснять? Неужели люди этого не понимают? Для чего она цепляется за него, на что надеется? Да посмотри в зеркало, ты же седая старуха, что ты хочешь от меня?
Но сейчас она была нужна ему, и надо было любой ценой сдержаться.
— Я понимаю, Хидди, что ты сейчас думаешь. Но ты выбрала плохое время для обиды.
— Почему, Густав?
— Потому что у меня серьезные неприятности.
— Неприятности?
— Это не совсем то слово. Я должен исчезнуть. Без следа. Как камень, брошенный в воду. — Хиджер молча смотрела на него, и он добавил: — С тобой. Вместе с тобой, Хидди.
— Почему со мной?
Полковник громко вздохнул. Спокойно, сказал он себе, возьми себя в руки. Ты и так уже перевыполнил свою квоту глупостей.
— Я… боюсь один, — пробормотал он.
— Ты сейчас умно сказал, — вдруг улыбнулась Хиджер. — Если бы ты сказал, что любишь меня или жить без меня не можешь, я бы посмеялась. Сто восемьдесят два дня без звонка делают женщину довольно проницательной. Но в страх твой я верю.
— Спасибо, Хидди…
Она вдруг невесело рассмеялась:
— А ты действительно переменился, мой бравый Густав. Ты благодаришь меня за то, что я верю в твой страх. Хотя страх, Густав, плохой фундамент для совместной жизни. Но все равно, спасибо за приглашение. Что тебе нужно от меня? Я все сделаю, что тебе нужно…
ГЛАВА 22
Мисс Рут Дойчер шла под руку с Антуаном Куни. Он только что прочел очередную проповедь на торжественной коллективной подзарядке аккумуляторов и все еще никак не мог успокоиться. Он был артистической натурой и относился к своему творчеству очень серьезно.
— Вы сегодня были бесподобны, Антуан, — сказала Рут Дойчер, и Куни бросил на нее быстрый подозрительный взгляд. С этой женщиной никогда нельзя было быть уверенным, серьезна она или шутит.
— Вы находите, друг мой? — осторожно спросил он.
— Да, безусловно, ваша мысль о том, что мы, иски, со временем сыграем роль коллективного Мессии, просто поразительна. Знаете, девочкой я любила воображать, что со мной могут произойти необыкновенные вещи. Например, просыпаюсь я как-то утром, в горле першит. Я откашливаюсь и вдруг начинаю петь. У меня прорезался голос. Не просто голос, а феноменальное колоратурное сопрано. Вместе с итальянской школой и готовым репертуаром. Родители плачут: доченька, как же ты скрывала от всех такое сокровище? А я так небрежно отвечаю: сокровище? Подумаешь, пустяки.
Или я вдруг становлюсь красавицей. Утром смотрела на себя в зеркало и видела довольно скучную, неинтересную школьную рожицу, а днем вся улица замирает в благоговейном восторге и все глазеют на меня, будто я еду верхом на жирафе. И тем не менее, никогда, даже в самых фантастических видениях, я не представляла себя Мессией, индивидуальной или групповой. Но скажите, дорогой Антуан, что все-таки заставляет вас думать, будто мы так возвышаемся над простыми смертными?
— Мы еще даже не начали реализовывать свой потенциал. Мы двигаемся еще по инерции, заданной нам нашей прежней жизнью. Но пройдет время, мы освободимся от суетных пут и почувствуем себя чище, свободнее, сильнее, чем обычные люди. И люди пойдут за нами, потому что всегда мечтали об избавителе, о том, кто укажет им путь.
Несколько минут они шли молча. Рут остановилась. Прямо из-под ног у нее выскользнула ящерица и юркнула под камень. Облачка на небе, казалось, стояли на месте. Они были такого же цвета, как и пустыня вокруг: желтовато-охристого.
— Вы странный человек, — вдруг сказала Рут. — Порой я ловлю себя на мысли, что мне хочется верить вам. Вы обладаете даром убеждения. Вы прирожденный проповедник…
— Вы льстите мне, мисс Дойчер.
— Я думаю, вы можете перейти просто на Рут.
— Спасибо.
— Но обождите. Одно настораживает меня. Настоящие проповедники, от библейских пророков до наших дней, обличают. Они наша совесть. Они видят дальше нас и предупреждают нас о том, куда приведут нас наша слепота и наш эгоизм. Вы же… Вы же… У меня впечатление, что совет директоров должен быть в восторге от ваших проповедей. Я не хочу сказать, что они диктуют вам текст ваших проповедей, но я всегда настороженно относилась к апологетам власть имущих. А наша власть — совет директоров. И заметьте: это не выборная власть. Я не голосовала за него и инстинктивно я всегда настороже. Я не привыкла к благодеяниям власти. Или фонда в данном случае.
Антуан Куни остановился и медленно поднес руку Рут к своим губам.
— Очаровательная моя анархисточка, — нежно сказал он. — Настороженный интеллектуальный зверек.
— Спасибо, — усмехнулась Рут. — За поцелуй и за зверька.
— Вы не понимаете. Вы не понимаете, как соблазнителен и как легок путь отрицания. Первое, что делает в своей жизни ребенок, — он отрицает, он критикует. Он орет, потому что недоволен миром. Это легко, потому что это разрушительный путь. А ломать всегда проще, чем создавать. Удивительно, что даже сильные умы часто незаметно для себя скатываются на наклонную плоскость дешевого критиканства.
— Благодарю, друг мой. Надеюсь, я тоже включена в категорию сильных умов, впавших в дешевое критиканство?
— Не шутите так, Рут, — сказал Антуан. — Вы причиняете мне боль.
— Я? Вам? Боль? Не понимаю…
— Я знаю, вы любите шутить. Помните, как вы подошли ко мне и прошептали, что у фонда есть план всех превратить в исков, чтобы можно было свести все леса в мире на бумагу? Но… дело в том, что… мне не безразлично, что и как вы мне говорите, уважаемый мой биохимик.
— Почему?
— Потому что… можете смеяться, сколько вам угодно, но я люблю вас. Рут.
— Ура, — сказала Рут, — надо послать приветственную телеграмму конструкторам наших тел. Один иск признался в любви другому. Вряд ли они запрограммировали это. Или наоборот, это дефект?
— Не надо, — голос Антуана дрогнул. — Не смейтесь. Это слишком торжественный и важный момент для меня, чтобы ценить шутки.
Они прошли еще несколько шагов молча.
— Антуан, это правда? То, что вы сказали? — спросила Рут, и в голосе ее прозвучала странная настойчивость.
— Это правда, — тихонько сказал Антуан. — Святая правда.
— И я могу вам верить?
— Мне больно слышать ваш вопрос. Мне было около шестидесяти, когда я… возродился здесь… И никогда за всю жизнь, я не испытывал такой… такого… восхищения… женщиной… Я всегда был довольно… суровым человеком… Ну, может быть, не столько суровым, сколько серьезным, человеком долга…
— А кем вы были до метаморфозы?
— Историком… Историком-любителем.
— А… Наверное, вы много читали старых проповедников. Вы знаете, что многие зовут вас здесь златоустом?
Антуан Куни усмехнулся:
— Я слышал. Но я не адвокат, красноречие которого оплачивается выше самых высоких литературных гонораров. Если иногда мои слова и производят на кого-то впечатление, то это потому, что они идут от сердца.
— Вы странный человек, Антуан…
— Может быть, Рут. Откровенность давно уже стала у нас смешной, а если человек при этом еще и говорит о серьезных вещах, что ж… он почти комик.
Рут Дойчер сжала его руку. В определенной логике отказать ему нельзя, подумала она. И честности. Может быть, он в чем-то прав. Может быть, требуется определенное интеллектуальное мужество, чтобы не смеяться над старомодными истинами. А может быть, истины вообще не могут быть модными и старомодными. Может быть, они за скобками наших суетных страстей… Получить признание в любви от проповедника-любителя. Серьезного, как пастор, и торжественного, как сенатор. Смешно.
И все-таки… Все-таки что-то шевельнулось в ее груди. Какой-то древний инстинкт удерживал ее от беспощадной иронии, которой всю жизнь она фехтовала без устали, отбиваясь от наседающей пошлости жизни. Господи, она, Рут Дойчер, языка которой побаивались все ее знакомые, тает от признаний в любви электронно-кибернетического устройства! И где? В странном лагере на краю жаркой пустыни. В лагере, подозрительно похожем на комфортабельную тюрьму.
Всю жизнь она лелеяла свою свирепую независимость. Было время, когда и она получала свою долю приглашений на вечеринки и поцелуев в машине. Но она смеялась над кавалерами. Боже, они были такие одинаковые, они были так удручающе предсказуемы!
Она вдруг вспомнила, как ее, девчонку, когда-то пригласил в кино… как же его звали… А, Рич. И весь вечер; как только он открывал рот, она уже догадывалась, что именно он скажет. Слово в слово. Она старалась не смотреть на его курносую физиономию с небольшими облачками веснушек по обеим сторонам носа, потому что с трудом сдерживала смех. Потом она не выдержала, фыркнула. Парень обиделся, и больше они не встречались.
Постепенно она привыкла к одиночеству и даже стала гордиться им. И вот что-то произошло с ней. По привычке ей хотелось быть ироничной, ей хотелось двумя—тремя забавными репликами проткнуть надутую торжественность штатного златоуста. Но только по привычке. Потому что его серьезность была трогательна, и в самой беззащитности его слов было нечто, что удерживало ее от взмаха словесной рапирой. Нет, не хотелось вытаскивать из ножен эту рапиру. Ей хотелось, чтобы они шли так и шли и чтобы смешной Антуан трепетно держал ее руку в своей. Ей хотелось чувствовать себя обезоруженной, ибо в доверии, оказывается, была своя сладость.
— Я понимаю, почему вы молчите, — печально сказал Антуан и тихонечко погладил руку Рут. — Вы думаете, я не чувствую пропасть между нами?
— Пропасть? — вздрогнула Рут.
— Вы блестящая женщина. Вы известный ученый. Вы привыкли вращаться в интеллектуальной среде, где не очень жалуют банальные истины. А я… я полная ваша противоположность. Я прожил жизнь в среде, где интеллектуальность встречалась реже, чем шестипалые руки. В среде, совершенно вам чуждой…
— Не нужно, Антуан, — мягко сказала Рут и подивилась, откуда у нее взялись такие нежные интонации в голосе. — Не нужно постоянно принижать себя. Это защитное кокетство вовсе вам не к лицу. Я могу в чем-то с вами не соглашаться, но мне нравится ваша смелость. Скажу честно, ваша непохожесть на людей моего круга и настораживает и тянет к вам.
— Спасибо, Рут. — Антуан Куни остановился, нагнулся и поцеловал ей руку.
Ах, мисс Дойчер, что с вами творится, усмехнулась она мысленно. Она протянула руку и нежно провела пальцами по щеке проповедника.
— Спасибо, — тихо сказал Антуан. — Мне жаль, что у нас нет слез. Я бы не сдерживал их сейчас.
Они снова шли молча, и рука Рут уютно устроилась в руке Антуана Куни. Солнце уже стояло низко, пустыня стала остывать, и привычные миражные озерца не переливались больше над песком. Откуда-то подул ветер. Если бы она была человеком, она ощутила бы сейчас вечернюю прохладу, подумала Рут, но тут же привычно вытолкнула из себя эту мысль. Жалость к себе — что растворитель. Не смоешь вовремя, и вот уже он въелся в сердце, лишает тебя сил.
— Антуан, — сказала она, — можете вы дать мне слово, что то, что я сейчас расскажу вам, останется между нами?
— Если это не будет противоречить моей совести, — серьезно сказал Антуан, и слова его еще более убедили Рут в правильности ее решения.
— Я хочу познакомить вас с несколькими своими друзьями. Мы иногда собираемся и обсуждаем нашу жизнь здесь в Ритрите. Само собой разумеется, совет директоров ничего не должен знать об этих встречах. Можете вы дать мне слово?
— Да, милая Рут. Безусловно.
Их было всего пятеро, включая Рут и Антуана Куни. Они сидели за столом в ее коттеджике. Телевизор был включен на полную мощность, и чтобы слышать друг друга, они вынуждены были приблизить головы почти вплотную друг к другу.
— Мисс Дойчер поручилась за вас, — сказал невысокий иск с решительными манерами. — Этого достаточно. Меня зовут Фредерик Мукереджи. Раньше, до Ритрита, я возглавлял лабораторию новейших методов обработки металлов в Местакском университете. Это Лайонел Брукстейн, металлург. Это Синтия Краус, биолог. Ну-с, теперь можно перейти к сути дела. А суть эта, мистер Куни, весьма волнует нас. Я не буду останавливаться на том, как мы попали в Ритрит. Это примерно одна и та же история: люди, преимущественно ученые, оказывались в критических ситуациях: смертельная болезнь, катастрофа или что-нибудь в этом роде. И тогда появлялся представитель фонда Калеба Людвига в облике ангела-хранителя. Все мы приняли его предложение, иначе мы бы не были здесь.
Но не об этом речь. Все мы, по крайней мере члены этой маленькой группы, привыкли анализировать факты. Мы привыкли понимать, что с нами происходит. И мы невольно начали задумываться, так ли уж невинен Ритрит, каким нам его рисовали. Наши подозрения, что мы знаем далеко не все, усилились после исчезновения двух исков, Николаса Карсона и Антони Баушера. Они исчезли в ночь, когда в лабораторном корпусе вспыхнул пожар. Согласитесь, что официальный ответ совета, когда я спросил, где они, был не слишком убедительный. Мне сказали, что они уехали, чтобы лично заказать оборудование для своих лабораторий.
Но и это не главное, мистер Куни. Мы попали в мирок, где, казалось бы, мы более или менее свободны. Мы, правда, не можем покинуть Ритрит по своей воле, но объяснения этому вполне разумны. И все-таки у нас создается впечатление, что мы марионетки в чьих-то руках. Один из нас случайно обнаружил. у себя в доме потайной микрофон. Согласитесь, что потайной микрофон плохо вяжется с тем демократическим Ритритом, который рисовали нам представители фонда.
И если мы, наша группа, ведем себя как конспираторы, то только потому, что мы не доверяем совету. Мы не уверены, что кто-то из нас не исчезнет, как исчез еще раньше Сесиль Стром. Мы вынуждены конспирироваться, потому что совет по существу — это всесильная администрация фашистского концлагеря. Необычного, конечно, в высшей степени комфортабельного, но концлагеря. Вы согласны, мистер Куни?
Антуан Куни молча покачал головой, потом сказал:
— Нет, не согласен.
— Но мы же представили вам факты.
— Хорошо, я буду с вами откровенен. Не буду скрывать, у меня есть связи в совете, мне, очевидно, доверяют, потому что со мной часто советуются.
— Что стало с Сесилем Стромом? — спросил Лайонел Брукстейн.
— Он покончил с собой, — твердо сказал Антуан Куни.
— Покончил с собой? — недоверчиво переспросил металлург.
— Это как-то…
— Поймите, все мы пережили чудовищную метаморфозу, — сказал проповедник, — и не каждый смог выдержать ее. Теоретически все выглядело безупречно. Мы получаем искусственные тела, полностью сохраняем свою память, свое самосознание, свои эмоции — то, что кое-кто склонен называть душой. В этом нас не обманули. По крайней мере, все те, с кем я разговаривал здесь, не ставили это под сомнение. И тем не менее… и тем не менее… Лично я пережил страшный шок, когда пришел в себя в Ритрите. Я чувствовал себя в западне, замурованным в чужое тело. Мне казалось, я даже ощущаю могильный холод этого ходячего склепа для моей души. Потом я успокоился. Может быть, мне это было легче потому, что я всегда был верующим человеком. О, я предвижу ваши вопросы: как: же так, господь сотворил и так далее. Я верю в бога как в высший смысл нашего существования. И я верю в связь нашей души с богом. Не тела, а души. Может быть, я святотатствую с точки зрения ортодоксального христианства, но господь не всемогущ, и наши тела, как и дела, увы, ему не подвластны. Но души наши вдуваются в нас его дыханием и возвращаются они к нему же. И когда я понял, что душа моя ничего не потеряла, сменив естественные нейроны мозга на искусственные нейристоры, потому что душа не то и не другое, а дар свыше, я успокоился… Сесиль Стром не смог успокоиться. Он не нашел мира с собой. Я знаю об этом, потому что он приходил ко мне, и мы много говорили о жизни… Увы…
— Я немножко знал его еще до Ритрита, — пожал плечами Фредерик Мукереджи. — Он был замкнутым человеком, и представить, что он…
— Пришел ко мне? — холодно спросил Антуан Куни. — Вам трудно это представить?
— Честно говоря, да.
— Скажу вам лишь, что в трудные минуты люди часто приходят за помощью не к тем, кто силен в осуждении и разрушении всего, что когда-то называлось святым, а к тем, кто верит в неизменные истины. Скепсис и неверие хороши для благоденствующих. Страждущим нужна вера. Вера с большой буквы.
— Но он же все-таки покончил с собой, — упрямо сказал Фредерик Мукереджи.
— Да, я не смог помочь ему. Он обладал сильным умом, а сильные умы труднее воспринимают помощь. Они чураются догм хотя бы потому, что эти догмы созданы не ими. Вы понимаете, о чем я говорю?
— Да, Антуан, — кивнула Рут Дойчер. — Я понимаю…
— И все-таки я не совсем уразумел, почему он покончил с собой, — пожал плечами Фредерик Мукереджи. — Пусть он не воспринимал ваши религиозные догмы, но это еще не повод, чтобы лишить себя жизни. Я тоже атеист, но я далек от мысли о самоубийстве.
— Я вовсе не хочу сказать, что все атеисты — потенциальные самоубийцы, — сказал Антуан Куни. — Кто может до конца понять самоубийцу? Чем можно измерить последний спазм отчаяния, который толкает человека к окну или к пистолету? Да, я не смог помочь ему разогнать страшный туман, что все время сгущался в его душе. Но я сделал все, что мог. Я знаю, это слабое утешение, но когда нет других — сознание выполненного долга тоже спасательный круг.
— Может быть, может быть, — пробормотала Синтия Краус.
— А потайной микрофон? — спросила Рут Дойчер. — Это более четкий факт, чем состояние души Сесиля Строма. Простите, Антуан, за агрессивность, но…
— Не надо извиняться, дорогая мисс Дойчер. Мы договорились быть откровенными. Я, правда, не находил у себя микрофоны, но может быть, потому, что не искал их. Но я верю вам. Что я могу сказать? Испокон веку многие либерально настроенные люди, а среди них было немало могучих умов, страдали одним идеалистическим пороком: они по-детски верили в добро. В извечное добро в человецах. Главное — не мешать людям, и добро это восторжествует обязательно и во всех случаях. Я не считаю себя злым человеком, но я не верю во всесильное добро. Ритрит состоит из сотни с лишним исков. Все они пережили страшный шок метаморфозы, и кое-кто, например Сесиль Стром, не выдерживает испытания. Кое-кто нуждается в помощи. А кому-то, может быть, надо помешать поставить под угрозу безопасность и существование всего Ритрита. Я согласен, что прятать микрофон в чужом доме не слишком нравственно. А ставить под угрозу жизнь всех исков нравственно?
— Старый спор о целях и средствах, — пожал плечами Лайонел Брукстейн. — Но и это не главное, мистер Куни.
— Что же главное?
— Главное — это смысл существования Ритрита.
— По-моему, всем нам объяснили его. Да и я не раз говорил об этом.
— И тем не менее, — сказала Синтия Краус, — у нас создается впечатление, что что-то от нас скрывают. Что Ритрит существует для каких-то целей, которые нам не сообщают и которые пока от нас ускользают.
— Мне кажется, я понимаю вас, — задумчиво сказал Антуан Куни. — Так уж мы устроены, что нам трудно поверить в простое объяснение. Наш мозг всегда ищет тайный смысл даже в простых вещах. А между тем комбинация гения русского ученого Любовцева, открывшего способ создания искусственного мозга и переноса в него сознания человека, и филантропического порыва Калеба Людвига никогда не казалась мне очень простой вещью. Обычно, умирая, мы подсознательно ревнуем к живым. Наверное, Калеб Людвиг был другим. В банальном театре масок промышленнику и финансисту обычно не отводится роль святого. Но маски не всегда соответствуют жизни. Жизнь сложнее масок. И Калеб Людвиг, умирая, пошел на фантастическое предприятие: он решил создать расу бессмертных. Мы — его избранники. Не знаю, как вы, но я никогда не позволяю себе забывать об этом. Я чувствую, что не сумел убедить вас, но я прошу верить мне.
— Ну что ж, мистер Куни, — сказал Фредерик Мукереджи. — Не буду обманывать вас, вы действительно не убедили меня в беспочвенности наших сомнений, но, с другой стороны, следует признать, что кое о чем вы заставляете задуматься. Я думаю, мы еще продолжим наши дискуссии. Спасибо, Рут, что вы привели к нам вашего друга.
Лгал он или нет этой рыженькой Рут Дойчер? — в пятый или десятый раз спрашивал себя Антуан Куни. Он сидел в своем коттедже, разложив на столе бумаги, но взгляд скользил мимо них, туда, где накануне он гулял с ней. Он вспомнил прикосновение ее пальцев к своей щеке. Жест доверия, интимной нежности. И вчерашнее волнение снова омыло его неким воображаемым теплом.
Боже, она была привлекательна. Как она была привлекательна! Причем привлекательна не столько своей внешностью. В конце концов, здесь в Ритрите начинаешь меньше ценить оболочку. Она и рукотворна и почти стандартна. Ум, личность, обаяние приобретают особое очарование б мире пластика. Может быть, потому, что они естественны, а не создаются в мастерских Ритрита. К тому же ее привлекательность усиливалась тем, что она была выходцем как бы из другого мира. Эта раскованность, эта ироничность, за которой угадывалась натура ранимая, одинокая и гордая, этот ум — все это было так не похоже на женщин его круга — жен его коллег офицеров. Она привлекала его именно непохожестью на офицерских жен. Привлекательность была какой-то дразнящей, против которой было трудно устоять.
И вот теперь он очутился перед сложнейшей дилеммой. Приближался день Омега, план, в котором было немало его ума, совести, убеждения, и группа этих скептиков представляла собой явную опасность. О, дай только волю этим либералам, ставящим под сомнение все и вся! Как термиты, прогрызут они все устои общества, с детским невежественным энтузиазмом начнут докапываться до основ, пока не обнаружат, что барахтаются под руинами, полузадушенные и раздавленные. Может быть, тогда они поймут все безумие и опасность своего безудержного скепсиса, но поздно что-либо понимать, когда мир уже в развалинах.
Есть болезни, когда сбитые с толку защитные силы организма с яростью набрасываются не на вторгшегося врага, а на свои же здоровые клетки. Войска его величества иммунитета предают своего сюзерена. Так и эти скептики, готовые разрушить все святыни, лишь бы доказать, что они пусты внутри. Доказать и погибнуть.
Нужно было заставить себя встать и пойти в совет. Успех Плана не мог зависеть от группки из четырех безответственных людей. Достаточно было того, что случилось с Антони Баушером и Николасом Карсоном. К счастью, одного уже нет в живых, второй в руках Вендела Люшеса.
День Омега приближался, и никто и ничто не должно было помешать ему. Это был великий План, и нельзя было распускать сентиментальные нюни накануне его осуществления.
Нужно было встать и пойти в совет. Может быть, их необходимо ликвидировать. Как Сесиля Строма. Кстати, забавная деталь, его тело сейчас принадлежало одному из членов группы, Лайонелу Брукстейну. Он сразу узнал его по изогнутому пальцу. Производственный дефект. Смешно. Уж не в теле ли гнездятся вирусы скепсиса?
Но тогда нужно будет ликвидировать и Рут. Ему стало бесконечно грустно. Что за ирония судьбы! Первый раз в жизни соприкоснуться с любовью в шестьдесят с лишним лет, в холодной шкуре иска, соприкоснуться с ней незадолго до великого дня Омега, и быть вынужденным тут же предать ее. Мысль была мучительна. Словно она, эта мысль, ощетинилась тысячами острых иголок, и они ранили его мозг. Так и сяк пытался он вращать эту мысль, чтобы уложить ее в сознании, но сознание не принимало ее.
А может быть, попытаться уговорить совет не ликвидировать их, а изолировать группу до момента, когда будет все равно, что они думают? Сомнительный план. Исчезновение сразу четырех исков может вызвать волнение среди обитателей Ритрита. Сейчас этим рисковать было нельзя. Число исков быстро двигалось к ста пятидесяти — цифре, намеченной для дня Омега, и любой риск был бы сейчас преступным.
К тому же… Он представил себе, что будет испытывать бедная Рут Дойчер, если их изолировать. С каким презрением и ненавистью будет она думать о нем! Не понимая, что он жертвует всем во имя высшего блага, не понимая ничего.
Как она произносила его имя… Казалось, она сама удивлялась ласке, которая звучала в ее голосе. Недоверчивый зверек. Мысль эта была невыносима. Теперь она ранила уже не только его мозг. Он весь был наполнен болью. За что, за что всевышний посылает ему такое испытание? Но предать день Омега он тоже не мог. Это была Великая Мечта, Великая Цель. Выше любой любви. Пугливый зверек, дрожащий от неизведанной нежности. Боящийся ее. И ее, Рут Дойчер, он должен уничтожить.
И вдруг он тихонько засмеялся. Боль мгновенно выскочила из его тела, как под давлением. Есть, есть выход! Не надо было ничего делать, надо было лишь все глубже внедряться в группку Рут Дойчер. И чем больше доверяют они ему, тем легче ему будет определить момент, когда они начнут действительно угрожать Плану. Важно удержать их на уровне абстрактных дискуссий. Дискуссии никогда еще никому не приносили вреда. И всячески подчеркивать необходимость конспирации.
Может быть, ему не следовало быть таким апологетом совета. Может быть, следует сделать вид, что он начинает склоняться к их сомнениям.
Это был выход. Он подошел к зеркалу и подмигнул своему отображению.
— Молодец, генерал Каррингтон, — сказал он.
Генерал довольно кивнул и улыбнулся. Он был в прекрасном настроении.
ГЛАВА 23
Меня втолкнули в комнату, и я остался один. По инерции я хотел было обойти ее, попробовать двери, окна, но, не сделав и шага, я уже отказался от этой глупой затеи. Я испытывал глубокое доверие к тем, кто нашел меня и, спрессовав жаркими стальными боками, привез сюда. Это были серьезные люди, и смешно было бы искать в стене дыру или вязать веревку из несуществующих простынь, чтобы опуститься из неоткрываемого окна, стекла которого к тому же крепче стали.
Все было кончено, и меня не покидало ощущение полной беспомощности. События несли меня к концу, а я ровным счетом ничего не мог сделать. Я вдруг вспомнил, как попал в автомобильную аварию. Мы ехали с приятелем… Как же его звали? Ах да, Роджер Фланс. Он сидел за рулем, я — рядом. На узком участке дороги, к тому же еще скользкой после дождя, он неожиданно пошел на обгон тяжелого грузовика. Но он не успел набрать скорость, растерялся, повернул руль направо, задел колесо грузовика, и в следующее мгновение мы летели уже в кювет, прямо на деревце. Я ни о чем не думал, думать было просто некогда. Но я хорошо помнил тягостное, почему-то щекочущее предчувствие неминуемого конца и ощущение полнейшей беспомощности. Деревце росло с неправдоподобной быстротой и вместе с ударом куда-то исчезло из моего поля зрения.
Я очнулся и с удивлением понял, что жив. Тишина была благодатна и всеобъемлюща. Что-то лишь тихонько потрескивало да капало. И эти звуки лишь подчеркивали тишину. Машина сильно накренилась, но мне удалось открыть дверцу, вылезти самому и помочь выползти Флансу. Нас спасла юная березка. Она была достаточно прочна, чтобы погасить нашу кинетическую энергию.
Помню, что радость возвращалась ко мне как бы порциями. Наверное, в те мгновения, что мы летели в кювет, я приготовился к концу, и восторг сохранения жизни не сразу выжимал из души это ощущение конца.
Вот и сейчас я был полон ощущения конца. Бог знает, где я был, что это была за комната, но здесь нечему самортизировать удар. Здесь не было спасительной юной березки.
Я услышал, как кто-то повернул ключ в двери. Машина пошла на обгон, сейчас она неотвратимо ударится о двойное колесо грузовика с налипшей на скаты глиной и начнется последний полет в кювет. Я закрыл глаза и увидел Луизу. Если это мое последнее мгновение, я не хотел расставаться с ней. Улыбка ее была печальна. Мне казалось, что она хотела что-то сказать мне, но не могла.
— Вы спите? — услышал я знакомый голос и открыл глаза. Передо мной стоял Вендел Люшес. — Что же вы молчите, друг мой?
Он стоял ссутулившись, и в позе его чувствовалась усталость. Сквозь тридцатилетний чистенький манекен вдруг проглянул старик. Он смотрел на меня и чего-то, казалось, ждал.
Может быть, нужно было что-то говорить, может быть, надо было в чем-то убеждать моего бывшего ангела-хранителя, но у меня просто не было сил. Слишком долго я сидел в машине, зажатый между стальными боками моих похитителей, слишком добросовестно подготовился я к концу.
Я медленно поднял глаза и посмотрел в глаза Вендела Люшеса. Мне почудилось, что в них не было торжества охотника, загнавшего наконец зверя. Скорее, в них светилось сожаление. А может, это были мои фантазии. Последние судороги не желающего умирать мозга.
— Как вы думаете, дорогой Карсон, что я должен испытывать сейчас к вам? — вдруг спросил представитель фонда. Я молчал, да он, видно, и не ждал моего ответа, потому что тут же добавил: — Жалость. Вот что я испытываю. Вы молчите, и я понимаю ваши чувства. Но я все-таки надеюсь удивить вас. Кроме жалости, я преисполнен чувством восхищения. Да, да, восхищения. Из всего Ритрита у одного у вас, не считая Баушера, хватило воли, решительности, предприимчивости и ума, чтобы организовать побег. Еще чуть-чуть, и он бы удался. Если бы телефон вашего друга детства Густава Ратмэна не прослушивался, у нас было бы мало шансов найти вас.
— А Баушер? — спросил я.
— Я ждал этого вопроса. И мой ответ, надеюсь, направит нашу беседу в четкое русло. Он не захотел сотрудничать с нами, и нам пришлось… разрядить его.
По крайней мере, подумал я, им не откажешь в откровенности. Бедный Тони… Поистине, неисповедимы пути судьбы. Не вспомни он заснеженное поле у шоссе и как он, проваливаясь в сугробах, бежал по нему, мы были бы оба сейчас в Ритрите, беседовали бы о сотворении мира из первичной материи и понемножку привыкали к своему электронному бессмертию.
Тони Баушер… Разрядили. Забавное, слово, если вдуматься. Был человек — и нет. Разрядили. Не убили, а разрядили. Сэкономили тело и мозг. Пожил сам — дай пожить другому. Поистине жизнь иска — дар фонда. Дают и отбирают. Филантропия.
— Альтернатива у нас с вами та же, — сказал Вендел Люшес. — Или вы сотрудничаете с нами, или мы разряжаем вас. Проще, конечно, было бы разрядить вас. Вы опасный человек. Вы слишком много знаете. Старый дурак Трампелл не мог даже как следует замести следы. Но с другой стороны, я вам уже сказал, вы нравитесь мне. Пока мы не умеем убирать из мозга выборочную информацию. Мы можем только полностью разрядить его. То, что мы сделали с мистером Баушером.
— Спасибо, — сказал я. — Наверное, кошка, играя с мышью, думает, что тем самым проявляет симпатию.
— Неудачная метафора. Вы не мышь, а я не кошка, я с вами не играю, а симпатия моя искренна. Вы просто перебили меня. Я хотел сказать, что если мы не можем убрать часть информации из вашего мозга, мы можем поступить наоборот. Мы можем добавить ее.
— Я что-то не совсем…
— Мы можем рассказать вам все. И тогда вы сами решите свою судьбу. Если то, что вы узнаете, увлечет вас, заставит взглянуть на мир другими глазами, вы согласитесь с нашей великой целью, вы станете одним из нас. Не просто слепым иском, тупо ожидающим неизвестно чего, а одним из лидеров, членом совета. Если же у вас недостанет интеллектуального мужества, если не сумеете разорвать ветхие ниточки умерших догм, тогда что ж… вы последуете дорогой Антони Баушера. В полном смысле этого слова вы становитесь хозяином своей судьбы.
— А если я обману вас? — спросил я.
— Сомневаюсь, — усмехнулся Люшес.
— Почему?
— Слишком высоки цели нашего плана. Одна человеческая жизнь перестает иметь такое уж важное значение. Даже для себя. А вы проявили себя человеком принципов.
— Это вам кажется.
— Нет, не кажется. Вы только думали, что хотите отомстить за манипулирование вами, за обман. На самом деле в вас восстало чувство справедливости. Но не в этом дело. Я начну с признания. Надеюсь, оно покажет вам, насколько я серьезен. Я не Вендел Люшес. Я не просто ангел-хранитель, не просто член совета и не просто представитель фонда Калеба Людвига. Я Калеб Людвиг.
Он замолчал, словно ожидал аплодисментов, но я промолчал. Не знаю почему, но его признание, хоть я и поверил ему, не потрясло меня. Мне показалось, что он был несколько разочарован моим молчанием. Он посмотрел на меня и продолжал:
— Мы уже разговаривали с вами, дорогой Карсон. Под видом коллеги Калеба Людвига я пытался поделиться с вами своими взглядами. Тогда я это делал осторожно. Было еще рано. Теперь ничто не сдерживает меня. Или вы примете наш великий План, или… никогда не выйдете отсюда. — Он встал и в явном волнении начал ходить по комнате. — Еще до того, как я узнал о великом изобретении русского ученого Любовцева, еще до того, как я начал финансировать работы по созданию тел для исков, еще до того, как у меня появился шанс на бессмертие, я всегда испытывал глубочайшее презрение к нашему обществу, да и ко всему роду человеческому. Мы — явная ошибка матери-природы. Вы никогда не думали, почему одни мы несчастны, нелепы и так выпадаем из великой гармонии природы? Только потому, что мы — ошибка. Мы странные гермафродиты, несущие в себе и животное, чисто природное начало, и дух. Все религии пытались добиться гармонии, подчиняя животное начало духу. Наука ничего не дала человечеству. Ведь, в сущности, можно быть суетным, раздвоенным и несчастным в сырой пещере перед костром или в машинном зале термоядерного реактора.
Бесчисленное количество сильных умов на протяжении бесчисленных поколений понимали странный тупик, в который нас загнала слепая природа. Поэтому рецептам не было конца, от молитв до научных теорий. И все тщетно. Наша двойственность неистребима. Мы неисправимы. Мы унаследовали от своих животных предков инстинкты, которые ум не только не в состоянии обуздать, но и постоянно разжигает, разъяривает. Лев, насыщаясь, на какое-то время становится кротким. Он сыт. Мы никогда не бываем сыты. Мы всю жизнь мечемся в бесконечной погоне за властью, богатством, наслаждениями. Можете мне верить. Я долгие годы был одним из самых богатых людей не только в Шервуде, но и во всем мире. Деньги, а стало быть и влияние, стекались ко мне со всех сторон, от деревообрабатывающих комплексов в бассейне Амазонки до Шервудских банков. И все мне было мало. Пока вдруг я не прозрел.
Не знаю, сон ли это был или видение, но откуда-то сверху я вдруг явственно увидел гигантский человеческий муравейник, миллиарды суетливых тварей, эгоистически мечущихся по своим маленьким делам. Муравьев было великое множество, и ни один из них не сидел спокойно. Они покрывали всю землю, они подминали друг друга, бежали по телам поверженных, куда-то карабкались, падали вниз целыми гроздьями, снова мчались. Я слышал шорох, похожий на шум прибоя, и хруст их челюстей. И понял, что он обречен, этот муравейник. Муравья переделать просто-напросто нельзя. Особенно муравья, наделенного каким-то нелепым, ядовитым интеллектом.
И еще я увидел, как очищается земля от этих гнусных маленьких тварей и как вместо них приходит другая раса: существа мудрые, бессмертные, живущие в гармонии с миром. И понял. Их нельзя воспитать. Их надо сделать. Это иски.
— Но… Что же делать с людьми, с миллиардами муравьев, как вы выражаетесь?
Калеб Людвиг остановился. Глаза его сияли, голос звучал торжественно.
— Это хороший вопрос, дорогой Карсон. И я не раз задавал его себе. И понял: их нужно просто-напросто уничтожить.
— Уничтожить? — не сдержался я.
— Внимание, друг мой, мы вступаем на минное поле. Минное поле вбитых в вас старых догм, духовной ограниченности и трусости. Идите за мной — и вы благополучно минуете его. Сбейтесь с пути — и вы тут же подорветесь на жалости, трусости, непривычности того, что я говорю вам.
Люди ведь все равно умирают. Нищие и миллиардеры. Бывает, президент фирмы, который решает ввести режим экономии, распоряжается больше ни одного нового сотрудника не принимать. Он никого не увольняет. Он просто ждет, пока годы не начнут сокращать штаты.
К сожалению, с людьми это невозможно. Нет такого президента фирмы, который прекратил бы воспроизведение себе подобных на Земле. Поэтому их нужно уничтожить. Да, уничтожить!
Калеб Людвиг поднял руку жестом древнего пророка, голос его гремел. Боже, пронеслось у меня в голове, он же безумен, абсолютно безумен!
Он медленно опустил руки, неожиданно усмехнулся и сказал:
— Я знаю, о чем вы думаете сейчас. Вы думаете, что я сумасшедший. Так?
— Я…
— Не юлите!
— Да.
— Я не в претензии на вас. И я бы думал так, потому что вы не дослушали меня до конца. Что значит «уничтожить»? Как это сделать? Это же безумная затея, порождение больного ума. Так? Нет, дорогой Карсон, вы слушаете сейчас не безумца. Есть и другие люди, думающие так же, как я. В частности, кое-кто в Разведывательном агентстве, в вооруженных силах. Их всего несколько человек, и сейчас вы поймете почему, но их достаточно. В день Омега ядерные ракеты генерала Каррингтона обрушатся на противников и союзников. Последует ответ. Через несколько минут после нажатия кнопки всеобщий ядерный Армагеддон станет неизбежным. Почти все человечество погибнет либо от взрывов, либо от радиоактивных осадков. И вот тогда-то на обожженную пустую землю выйдут иски. Их тела не подвластны радиации, а Ритрит, вдалеке от городов и важных объектов, не пострадает.
Они не просто выйдут на прогулку по пустой земле. Они выйдут колонистами, основателями новой расы бессмертных, расы людей искусственных, и потому лишенных проклятой двойственности обычных двуногих. О, они уже не будут муравьями! Они не будут метаться, гонимые инстинктами и суетностью духа. Впервые на землю ступят истинные носители чистого разума, существа кроткие и мудрые. Они станут достойны звания Человек. И пусть вас не смущает трагический парадокс: чтобы стать человеком, нужно перестать быть им. Таков наш план Омега, такова наша мечта. И нет силы на свете, которая могла бы помешать нам. Все продумано, все пружины взведены. Еще несколько дней — и зазвонит будильник, возвещающий конец эры безумия и начало эры великой гармонии. — Последние слова Калеб Людвиг почти прошептал. Как слова любви. На губах его появилась улыбка, улыбка мечтателя. И палача.
— Теперь вы понимаете, почему среди исков большинство ученых, почему мы оборудовали лаборатории, почему еще в одном месте я построил подземный завод по производству искусственных тел?
— Но этот… генерал… и сотрудники Агентства… они же понимают, что погибнут… — пробормотал я.
— Понимают, — торжествующе подтвердил Калеб Людвиг. — И не боятся. Потому что их копии давно уже живут в Ритрите. Знаете, например, как там зовут ракетного генерала Каррингтона? Антуан Куни!
Боже мой! До чего же странно мы устроены. Чудовищный план безумного миллиардера поразил меня меньше, чем последние его слова. Сладкоречивый проповедник, ритритский златоуст — и генерал, который нажмет кнопку Судного дня!
Голова моя шла кругом. Я несся на дьявольской карусели, и все сливалось в мерцающий безумный круг.
Начни мне кто-нибудь излагать эти бредни год назад, я бы посмеялся над безумцем. Но я был подготовлен всем, что случилось, от испуганных глаз профессора Трампелла до своего искусственного тела. И как бы ни были чудовищны речи Людвига, я верил им. Я знал, что это правда.
— Но… кнопка, — пробормотал я, цепляясь за вопрос, как за игрушечного коня на карусели. — Разве может генерал…
— Я не ошибся в вас, — снисходительно улыбнулся Людвиг. — Хороший вопрос. Ключ, активирующий ракеты, у генерала Каррингтона. Но повернуть его можно будет только по приказу президента Шервуда. И этот приказ будет получен в день Омега!
— Значит, президент…
— Его помощник. И его копия тоже уже в Ритрите. Все продумано, дорогой Карсон, великий план накануне осуществления. Не великий, а величайший. Ибо ничто в человеческой истории, даже приручение огня, даже изобретение колеса, не идет ни в какое сравнение с тем, что мы собираемся сделать!
Людвиг вдруг остановился, нахмурился и посмотрел на меня с нежностью и состраданием. И эти чувства, сиявшие в его глазах, были неожиданны, как удар.
— Вам страшно? — тихонечко, словно боясь спугнуть что-то, спросил он. — Это действительно страшно. Но сделайте усилие, заклинаю вас, выскочите хотя бы на мгновение из своей шкуры, поднимитесь над обыденными представлениями простых смертных… Мы принесем в мир стройный порядок, без которого он так устал! Мы заселим его тихой и мудрой расой бессмертных исков…
— Но… кто-то же останется… в живых? — пробормотал я. Мне нужно было что-то говорить; произносить какие-то слова, потому что обычные слова представляли из себя последнюю дамбу на пути сверкающего и страшного вала безумия.
— Конечно. Но часть из них вымрет в выжженном и опустошенном мире, а часть придет к нам с мольбой сделать из них исков. Таких же неуязвимых богоподобных исков, какими будем мы. Они придут, приползут, таща свои обгоревшие и отравленные тела, станут перед нами на колени и протянут к нам руки в мольбе, как богов будут просить они нас о новых телах и бессмертии. И мы будем богами. Грозными и всемогущими, добрыми и сострадательными.
Не бойтесь, дорогой Карсон, не содрогайтесь. Может быть, сейчас мои слова кажутся вам страшными, но пройдет какое-то время, и они начнут погружаться в ваше сознание, и вы увидите их истинный смысл, их красоту и величие. Вы нужны мне, поверьте, потому что у вас есть качества лидера, а в день Омега нам нужны будут истинные лидеры, основатели новой расы, провозвестники новой цивилизации. Поэтому я перед вами, поэтому вы один из немногих, кто знает о Плане.
Прежде чем сказать мне, что вы решили, подумайте о своей Луизе. Вы не обязаны расставаться с ней. Она может стать иском и будет вам верным товарищем во веки веков.
— А почему вы обманули нас? Обманом заставили нас стать исками?
— Во-первых, у нас не было времени ждать. Тем более, что нам нужны были не дряхлые, высушенные мозги, а интеллекты в расцвете творческих сил. Ученые — потому что новому миру понадобятся знания. Иногда мне начинает казаться, что зря мы сосредоточили свои поиски на ученых. Мы думали, что ученый легче кого бы то ни было воспринимает новые идеи, какими бы странными они ни казались на первый взгляд. Увы, многие из вас так же консервативны и пугливы, как старые крестьянки.
Но теперь это уже не имеет значения. Уже поздно. Еще несколько дней — и наш великий План осуществится. Не бойтесь, Карсон, не страшитесь. Мы зовем вас в новый мир…
Людвиг безвольно опустился на стул и несколько минут сидел молча, опустив голову. Он казался полностью опустошенным. Наконец он встал:
— К сожалению, я не могу дать вам больше двенадцати часов на размышления. День Омега близится, и каждый час у нас на учете. Ровно через двенадцать часов я приду к вам. Не пытайтесь бежать, это бессмысленно. За дверью стражник. До свидания, Карсон. — Он повернулся и вышел из комнаты. Мягко щелкнул ключ.
Как мне хотелось закрыть глаза и заснуть. Как в старой моей жизни. И проснуться, зная, что то был кошмар. Неважно, что кошмар был так явственен, все равно он был порождением спящего ума.
Когда я бросил курить, целый месяц мне каждую ночь снился один и тот же сон: я беру сигарету, неторопливо раскатываю ее между пальцами, вижу, как несколько крошек табака падает вниз, подношу сигарету к губам, щелкаю зажигалкой и затягиваюсь. Едкий дым наполняет легкие, и меня пронзает острое сожаление: что же ты наделал, идиот! Столько дней крепился, терпел — и вот тебе, сорвался! И от огорчения я просыпался. И, не сразу веря себе, соображал, что то был только сон, только ночные фантазии!
Но теперь я не мог заснуть. А проснувшись, все равно никуда не спрятался бы от нежных, умоляющих, отчужденных и безумных глаз Калеба Людвига. Человека, решившего уничтожить мир и уже подложившего под него ядерную мину.
Рассказали они о плане Омега Тони Баушеру? Он, наверное, не колебался, иначе они бы не убили его.
Неужели же была когда-то у меня иная жизнь? С тихой работой в лаборатории, длинными симпозиумами, после которых хотелось отдыхать, со свиданиями с Луизой… Тогда мне казалось, что я выдолбил себе тихую нишу. Теперь эта тихая скромная ниша представлялась неслыханно прекрасной и до слез трогательной в своем покое. Теперь меня вышвырнули к жерлу вулкана и предупредили, что скоро он выплеснет на мир «всесжигающую» лаву.
Но может быть, в его. безумии есть своя логика? Может, действительно можно сменить систему координат и в плане Омега появится некий смысл? Ведь кое-что в речах Калеба Людвига было не таким уж безумным…
Тем более рядом со мной будет Луиза. Всегда. Разве не говорил я ей, и говорил искренне, что она мой мир? Весь мой мир?
Ну хорошо, я откажусь. Через двенадцать часов я скажу: мистер Людвиг, простите, ваши планы безумны, и я не намерен участвовать в них.
Наверное, он ничего не скажет. Может быть, он даже вздохнет печально и кивнет электронным гробовщикам, что будут стоять рядом с ним. И из меня вынут душу, сотрут мое «я» быстро и безжалостно. И меня не будет. Не будет ничего. Абсолютно ничего.
И в последнее мгновение сквозь разрушаемое, стираемое сознание промелькнет мысль, что ничего я своей смертью не добился: не помешал их плану, ничего не сделал для Луизы, для сына. Они вспыхнут на кратчайшую долю секунды в ядерном пламени, как мошки в пламени свечи, и исчезнут.
А если сказать «да»? Смогу ли я пережить то, что они сделают с миром? А может быть, сумею?
Я не знал, что делать. Что думать. Что решать. Я метался по комнате. Но не так, как Калеб Людвиг в экстазе пророка, а загнанным в угол смертником, застывшим в тягостном ужасе. Двенадцать часов. Или уже меньше. Я вдруг сообразил, что забыл часы у Софи Вольта. Софи Вольта — еще одна тень другого мира. Еще одна мошка, которая вспыхнет крошечной искоркой во взрыве.
ГЛАВА 24
-Уходите! — пронзительно закричала Софи Вольта, когда Луиза вернулась с покупками. — Убирайтесь! Немедленно! Его увели! — почему-то именно теперь к ней пришел страх. А может, это был не страх, а месть. Месть за другую, неведомую ей, но наверняка более интересную, чем у нее, жизнь. Месть была торжествующей и яростной, и хозяйка квартиры с треском захлопнула дверь перед Луизой.
Она спустилась по лестнице и пошла куда-то, не зная, куда идет, зачем, оглушенная, уничтоженная. Ника не было, и жить было невозможно. Невозможно было дышать, думать, надеяться. И даже сердце отказывалось биться, сжималось в тоскливый болезненный комок.
Многие месяцы она жила странной, зыбкой жизнью. Ей иногда казалось, что в мире не осталось больше ровных поверхностей. То она карабкалась вверх, туда, где ее ждал Ник, пусть в страшном жарком Ритрите, пусть непривычно молодой в новом своем теле, но ждал. То скатывалась вниз, обратно в Шервуд, в бессмысленное до следующего карабкания вверх существование.
Теперь не оставалось ничего. Ей почему-то вспомнилась детская игрушка: плоская коробочка со стеклянным верхом и шариками, которые нужно было загонять в лунки. Шарики были непослушными, лунки мелкими, и малейший неточный наклон коробочки уничтожал все достигнутое.
Теперь она была шариком. В огромной коробке, которую держали чьи-то дьявольские руки. Но лунки не было. И ее несло, швыряло неведомо куда, и она знала, что ей негде остановиться.
Теперь, когда Ник у них, они найдут и ее. Чтобы никто не знал о Ритрите. Чтоб этот страшный островок в пустыне напоминал черную дыру в небе, которую нельзя увидеть и о которой ничего нельзя узнать.
Они будут ждать Луизу в ее квартире, в квартире подруги, о существовании которой они наверняка выпытали у Тони Баушера, они будут караулить ее в доме родителей.
Ей вдруг пришла в голову безумная мысль отправиться в Ритрит и броситься на колени перед Венделом Люшесом. Не может быть, чтобы он не понял ее отчаяния, чтобы не почувствовал жалость к человеку, который задыхается от нехватки кислорода.
С ней никто не будет даже разговаривать. Может быть, ее пожалеют. Но одним способом — сразу убьют ее. Как Ника. Они наверняка убили или убьют его.
Ей захотелось застонать, закрыть лицо руками и броситься на асфальт тротуара. Пусть идут по ней, пусть топчут, лишь бы не было невыносимой боли от мысли о Нике.
— Простите, мисс, — послышался чей-то голос, — вам плохо?
Огромным усилием воли она заставила себя подняться из своего колодца к поверхности. Чистенький старичок участливо смотрел на нее.
— У вас такой вид… Может быть, я могу что-нибудь сделать для вас?
— Спасибо, — сказала она и покачала головой. Она заставила себя прибавить шагу. Что мог сделать ей чистенький старичок, все чистенькие старички мира, все люди? Чем могли помочь? Да не убивайтесь вы так, милочка, вы еще молоды, у вас впереди целая жизнь. Не один, так другой. Кто знает, может быть, еще лучший.
Непонятно было, как она еще шла, почему, каким чудом сокращались ее мускулы, натягивались сухожилия, сгибались суставы. Непонятно, как ухитрялась она втягивать в себя воздух, когда вся она была налита тяжким ртутным отчаянием.
Первый раз в жизни она поняла самоубийц. О, умом она понимала и раньше! Доведенные до отчаяния, они выпрыгивали из окон, ссыпали пригоршни таблеток снотворного в стакан с водой, открывали газ и бросались под колеса поезда метрополитена. Но она понимала и не понимала. Потому что понять, как человек может сам, по своей воле отнять у себя такую изумительную вещь, как жизнь, было все-таки невозможно.
Теперь она понимала, о, теперь она понимала! Единственным мыслимым пристанищем для нее была теперь смерть. Только так можно было выскользнуть из холодных, цепких рук отчаяния, которые не выпускали ее горло ни на мгновение.
Она не заметила, как очутилась на мосту Президента Буна. Внизу, метрах в тридцати, темнела бурая вода Ридривер. Холодная, грязная. И такая заманчивая. Преодолеть детский страх, оттолкнуться от перил в последнем в жизни усилии, прочертить пространство коротким полетом — и не будет больше ничего. Сколько она будет падать? Наверное, секунду—другую. Это не так страшно.
И вдруг острая мысль даже не пронзила, а пробуравила ее, пробила, как снаряд: а если все-таки Ники жив? Пусть один шанс из миллиарда, но он же есть пока! Ведь вытянула она необыкновенный лотерейный билет, встретив его. Не кого-нибудь другого, лучшего, худшего, богатого, красивого, веселого, но его, Ники. Так какое она имеет право так легко отдаться отчаянию? Предать свою любовь? Да, шансов было ничтожно мало. Исчезающе малая величина, как говорил Ник. Но они были. А бурая жидкая плоскость в тридцати метрах под ней не убежит от нее и завтра, и послезавтра, и тогда, когда она будет твердо знать, что закон вероятности не обманешь и один шанс из миллиарда побеждает только в сказках.
— Это хорошо, — пробормотал высокий полицейский с обветренным мясистым лицом.
Первым ее движением было броситься бежать, но она подавила в себе страх и вопросительно посмотрела на полицейского.
— Что хорошо?
— То, что вы отвернулись, — очень серьезно сказал полицейский. — Вы знаете, какая сегодня температура воды? Четырнадцать градусов.
— А… спасибо, — Луиза попыталась улыбнуться, но, наверное, улыбка у нее получилась совсем жалкая, потому что полицейский кивнул ей, словно говорил: да, да, я понимаю…
Если бы можно было хоть с кем-то поговорить о Нике, хоть с одним человеком… Она вдруг вспомнила о его сыне. Ник рассказывал ей о последней своей поездке к нему, о грустном и вместе с тем умиротворяющем разговоре. Может быть, поехать к нему? Но что может сделать совершенно чужой ей молодой человек, который к тому же по своей воле ушел из жизни, чтобы служить какому-то богу. Какой бог? Какой бог мог бы допустить, чтобы у нее отняли единственное ее достояние, смысл жизни! Ведь ничего дурного ни он, ни она никому никогда не сделали. Кому мешало их счастье?
Но она не хотела думать сейчас о боге. Впервые за несколько страшных последних часов у нее появилась цель. Пусть бессмысленная, призрачная, пусть на день-два, но цель. Пусть он ничем не сможет ей помочь, тем более помочь отцу, но он же сын Ника, его плоть! И к какому бы богу он ни ушел, он не посмеется над ее слезами. Где, Ник рассказывал, их обиталище? Ах да, в Драйвэлле…
Сейчас же, не откладывая путешествия ни на минуту, она поедет к Гуннару Карсону. Сейчас же. Она словно скользила вниз к обрыву, а теперь ухватилась за ствол дерева, остановилась и пытается подняться по крутому склону. Скорей всего, она снова соскользнет вниз, но надо пытаться, надо карабкаться, надо что-то делать.
Она вылезла на автобусной остановке. Всю дорогу от аэропорта молоденький водитель объяснял ей, как найти коммуну Отцов. Должно быть, она понравилась ему, потому что он то и дело оборачивался и улыбался ей, и ей казалось, что почти пустой автобус сейчас упадет в кювет.
— Да их все там знают, — подбадривал он ее. — Их там человек двадцать придурков. — Он долго смеялся, покачивая головой. — Коммуна Отцов! Представляете, а самому старшему из них, говорят, и сорока нет! Отцы!
И все-таки она заблудилась. Водитель сказал ей, что их дом совсем недалеко от остановки, но она все шла и шла среди плавных холмов, похожих на спины китов, мимо печальных маленьких ферм, каких-то заброшенных домов. Она вдруг услышала жалобное мяуканье. Она оглянулась. За ней полубежал, полуплелся маленький тощий котенок. Она остановилась, и он с яростной надеждой начал тереться об ее ноги. Он, наверное, надеялся, что они спасут его от холода и страшного одиночества.
— Глупый котенок, — пробормотала Луиза, — неизвестно, кто за кого должен цепляться…
Наконец она встретила пожилую женщину в комбинезоне. Женщина стояла у пыльной машины с проржавевшими крыльями и беспомощно глядела на поднятый капот.
— Чертов аккумулятор, — плаксивым голосом сказала она, — показывает, что заряжен, а сам пустой…
— Вы не скажете мне, где тут коммуна Отцов? — спросила Луиза.
— Что? А… Да вот, за этим холмом, с милю примерно…
Котенок все не отставал от нее, хотя мяуканье становилось все более слабым и жалобным. Она не выдержала и взяла его на руки. Котенок был невесом, и худенькое его тельце, казалось, сотрясалось от биения сердца.
Тропинки не было, и идти было тяжело. На туфли Луизы начала налипать глина. Наконец перед ней показался двухэтажный деревянный дом. Дерево было серым, старым, и дом казался заброшенным. Но на дворе стояли двое в коричневых грубых плащах и пилили дрова. Шелковая серость старого дерева, старомодные темные плащи и визг пилы принадлежали другому времени, и Ритрит на мгновение почудился Луизе нелепым порождением ее воображения.
Пильщики выпрямились, едва заметно кивнули и молча уставились на нее.
— Простите, — сказала она, — я ищу Гуннара Карсона.
— Сейчас, — кивнул один из них и вдруг изо всех сил рявкнул: — Гунни!
На втором этаже распахнулось окно, и из него высунулся бледный молодой человек с мягкой вьющейся бородкой. Он был одновременно похож и не похож на Ника, но глаза были отца.
— К тебе, — кивнул пильщик на Луизу, вздохнул и сказал товарищу: — Давай. — Он с силой потянул пилу на себя, и она певуче зазвенела, выбросила тоненький фонтанчик опилок.
Гуннар вышел, молчаливо кивнул и вопросительно посмотрел на Луизу.
— Здравствуйте, — сказала она. — Меня зовут Луиза Феликс… Я…
Гуннар был на несколько лет младше ее, но она чувствовала непонятную робость перед ним. Он слабо улыбнулся:
— Я знаю, кто вы. Отец рассказывал мне…
— Я хотела поговорить с вами… Простите, что я…
— Дайте котенка, — сказал Гуннар. Он осторожно взял животное и опустил на землю. — Клиф, — кивнул он одному из пильщиков и показал глазами на котенка. Он повернулся к Луизе: — Пойдемте походим. Вам будет легче говорить.
Наверное, она правильно сделала, что нашла Гуннара, подумала она, потому что от него исходило какое-то спокойствие. Пусть грустное, но спокойствие. Она начала рассказывать, сначала с трудом; и чем больше она говорила, тем легче ей было делиться всем тем, что случилось с ними.
— Простите меня за эгоизм, — сказала она. — Я ловлю себя на мысли, что использую вас, чтобы хоть немного избавиться от отчаяния.
— Я должен благодарить вас. Если с тобой делятся горем — это большая честь. Тем более, что речь идет о моем отце.
Они долго шли молча. Внезапно он остановился и спросил:
— Вы приехали, чтобы рассказать мне об отце, или вы надеялись, что я смогу чем-то помочь вам?
— Что вы можете сделать? — вздохнула она. — Кто вообще может ему помочь, если он еще жив?
— Наверное, вы правы. — Он смотрел на нее, и взгляд его был грустный и извиняющийся. — Боюсь, я ничего не могу сделать…
Луиза понимала, что не имела права говорить так, но слова не слушались запрета и сами выскальзывали из нее:
— А ваш бог? Вы же служите ему, попросите его…
— Наш бог ничего не может, — покачал головой Гуннар.
— Так зачем он вам?
— Это не так просто объяснить, — сказал Гуннар и извиняюще улыбнулся: — Вот вы принесли тощего крошечного котенка. Что он может вам сделать? Разве что потянул за какую-то ниточку сострадания. Если б господь был всемогущ, он бы прекрасно обошелся без нас, и служить ему было бы все равно, что служить королю. Может быть, и выгодно, но для чего? А я служу существу слабому, нуждающемуся во мне, и эта служба дает мне удовлетворение…
— Но разве в мире мало людей, которые остро нуждаются в помощи? Может быть, еще острее, чем ваш бог? Почему вы не служите им?
Гуннар нахмурился и долго шел молча.
— Вы думаете, я никогда не задавал себе этот вопрос? Это непростой вопрос… Но когда пытаешься служить людям, душа всегда оказывается в смятении: почему тому, а не этому. Служа одному, вызываешь зависть и ненависть других. Нет, чистая любовь может быть обращена только к тому, кто вне нас…
— Значит, вы уходите от людей?
Гуннар помолчал, едва заметно пожал плечами.
— Люди… Наверное, вы правы. Наверное, я потому и ищу бога, что боюсь людей…
— А отец?
— О, не подумайте, что я равнодушен к отцу. Просто с годами мы все меньше становились нужны друг другу. Особенно после смерти матери…
— Вы хотите сказать… что я…
— О нет! Нет, нет! Пожалуйста, не думайте, что я ревновал отца к вам! Он любит вас, и за это я вам благодарен…
Нет, дерево на скользком склоне было плохой опорой. Может быть, она и поделилась с ним горем, но все равно горя оставалось в ней слишком много, чтобы выжить.
— Я понимаю, — пробормотала она. — Может быть, вы правы. Может быть, удобнее служить придуманному богу, чем пытаться помочь отцу. Тем более, что помочь ему, наверное, невозможно…
Гуннар несколько раз медленно кивнул, и Луизе показалось, что в глазах у него стояла боль.
— Простите, — сказала она. — Я не хотела…
— О, не извиняйтесь… Я понимаю вас… — Гуннар еще больше ссутулился и зябко запахнул свой грубый толстый плащ.
— Спасибо, — пробормотала Луиза, — я, пожалуй, пойду к автобусной остановке. Пока еще светло…
— Нет, Луиза, вы останетесь. Хотя бы на несколько дней. У нас есть свободные комнаты.
— Но…
— Здесь же не монастырь. К тому же старший отец поймет…
Луиза лежала в темноте на узкой жесткой кровати. В комнате слабо пахло человеческим потом, сухими травами, тоской. Откуда-то издалека донесся собачий брех.
Все было бессмысленно. Не надо было тогда играть с собой в прятки на мосту. Не надо было судорожно карабкаться вверх по скользкому склону. Зачем растягивать отчаяние? У Гуннара хоть есть свой бог. Бог, которого нет. Может быть, именно это его больше всего и привлекает. Коммуна Отцов… Это они отцы бога… Может быть, им легче быть отцами несуществующего бога, чем остаться в жизни и стать отцами живых существ… Во всяком случае, спокойнее.
Ей вдруг почудилось, что за дверями кто-то стоит. Она приподнялась, прислушалась. В дверь тихонько постучали.
— Кто там? — шепотом спросила она.
— Это я, Гуннар, — так же шепотом ответил голос из-за двери. Вот тебе и служение богу, зло подумала Луиза. И это — сын Ника…
— Не бойтесь, Луиза, — тихонько сказал Гуннар и осторожно закрыл за собой дверь. В своем плаще он был невидим в плотной темноте. — Вы разрешите мне сесть?
— Да, — пробормотала Луиза.
Он сел на краешек ее кровати, и она отодвинулась, чтобы не касаться его спины.
— Я не мог заснуть. Я все время думал об отце… И я вдруг вспомнил о человеке, который жил у нас почти полгода. Но он не смог здесь остаться. Он ушел, потому что в нем не было любви. Его отец — редактор одной из газет в Шервуде… Кто знает, может быть… По крайней мере, Уолтер всегда выслушает вас…
Стыд, словно горячая маска, обдал ее лицо. Как она могла подумать…
— И вы поедете со мной? — спросила она.
— Не знаю, скажу вам честно, мне нелегко на это решиться…
— Почему?
— Мне двадцать девять лет, и только два года назад я начал приближаться к цели. Я… просто боюсь. Здесь… здесь мне кажется, что я на верном пути. Я иду к цели. А там… там может закрутить, понести. И не будешь знать, куда выбросит тебя поток. Там страшно. Чуждо все… Люди как клубок змей. Злых, шипящих, вечно готовых к укусу. — Он перешел на шепот: — Я боюсь людей, не понимаю их. Зачем эта суета, к чему? — Он глубоко, прерывисто вздохнул: — О, как мне не хочется уезжать отсюда…
— Я прошу вас, — прошептала Луиза. — Даже если это бессмысленно. Это ведь ваш отец.
— Спите, Луиза, завтра утром мы поедем с вами в Шервуд.
Уолтер Брюгге посмотрел на Гуннара, усмехнулся и сказал:
— Знаешь, я до сих пор тоскую о нашей жизни там…
— Ты не мог оставаться, я первый сказал тебе об этом.
— Да, ты понял это раньше меня.
— Я хотел просить у тебя помощи, Уолтер. Я приехал не один. Внизу ждет близкая приятельница моего отца. Она расскажет тебе одну из самых фантастических историй, которые можно только вообразить.
Уолтер подозрительно посмотрел на Гуннара:
— И ты… привез ее, чтобы я услышал какую-то историю?
— Нет. Может быть, ты сумеешь помочь моему отцу. Если ему еще нужна помощь.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Я не знаю, жив он или нет. Скорее всего, нет.
— И ты не можешь узнать? — Он потянулся к телефону. — Сейчас я позвоню в справочное досье нашей газеты. Ты не представляешь, чего они там только не могут отыскать!
— Я тебе скажу, что тебе ответят. Что Николас Карсон, известный ученый-физик, умер от рака легкого в клинике профессора Трампелла.
— Ничего не понимаю.
— Он умер и он не умер одновременно. Ты выслушаешь эту женщину?
Уолтер Брюгге не любил своего отца. Его бесила его беспредельная самоуверенность, твердая и стойкая убежденность в том, что он послан всевышним на грешную землю открыть людям глаза. Он не просто зарабатывал на информации, он священнодействовал. И вместе с тем Уолтера не покидало какое-то зудящее стремление доказать отцу, что и он кое-что понимает. Пусть просто как газетчик. Но понимает. И может быть, не хуже отца.
Он посмотрел на Гуннара. Интересно, что это за история, которая заставила Гунни выползти из Драйвэлла? И что за чушь он несет?
— Так где же твоя знакомая?
Через минуту Гуннар вернулся с Луизой.
— Уолтер Брюгге, — сказал Гуннар, — а это Луиза Феликс. Луиза, Уолтер выслушает нас. В конце концов, он газетчик, сын газетчика, и еще неизвестно, кто кому оказывает большую услугу. Он — нам или мы — ему.
— Садитесь, пожалуйста, в кресло, — сказал Уолтер Брюгге.
— Если вы разрешите, я включу магнитофон. Хотя я и сам надеюсь не пропустить ничего. Мой друг Гуннар так ловко возбудил мое любопытство, что оно переполняет меня.
— Спасибо, — сказала Луиза. Кто знает, а вдруг… Крохотная надежда впорхнула в кабинет сотрудника газеты «Шервуд Икзэминер». Один шанс из миллиарда. И все же…
— Мы ждем вас, мисс Феликс.
Она начала рассказывать. Уолтер Брюгге заметил, что она посмотрела на пачку сигарет на столе, протянул ей одну и щелкнул тяжелой настольной зажигалкой.
Когда она кончила, он покачал головой и хмыкнул.
— Позвольте и мне рассказать вам то, что произошло со мной несколько дней назад, — сказал он. — Пришел в редакцию человек, вполне респектабельный и солидный, и говорит, что хотел бы предложить нам необыкновенный материал. Дело в том, что он принимает по своему телевизору передачи с неведомой планеты. Передачи очень интересные. Живут там люди трех с половиной метров роста, двухголовые и трехногие. Передачи, говорит, очень четкие, прекрасно все видно. Простите, говорю я, а кто-нибудь еще видел передачи по вашему телевизору? Да нет, говорит посетитель, я человек одинокий, и мне как-то и в голову не приходило приглашать кого-нибудь к себе смотреть телевизор. И тут он так подозрительно посмотрел на меня и говорит: а вы что, не верите мне? Поверьте, я не обманываю вас. Я пожал плечами и объяснил ему, что дело вовсе не в моей вере или неверии. Чем необычнее история, тем безупречнее должны быть доказательства. Пожалуйста, пригласите меня на ваши передачи или, на худой конец, сделайте несколько фото с экрана. Это не так трудно. Ах, так, вспыхнул посетитель, вы мне не верите, тем хуже для вас. И ушел.
— Вы хотите сказать, — вздохнула Луиза, — что мы должны представить доказательства…
— Увы, это так, мисс Феликс. Вы ведь сами говорите, что даже в клинике не осталось истории болезни… вашего знакомого. Поймите, я был бы счастлив, если бы наша газета опубликовала такой сенсационный материал. Но то, что сказал вам я, скажет любой редактор.
— Ну что ж, простите, — пробормотала Луиза. Теория вероятности — суровая штука. Один шанс из миллиарда оставался одним шансом. Не более того.
ГЛАВА 25
Полковник Ратмэн лежал на диване и курил. Что же все-таки произошло? Ну хорошо, дело Карсона и вся эта история с исками его не касались. Допустим. Допустим, что он, старый дурак, нарушил этику Конторы и влез не в свое дело. Что делает в таком случае начальство? Дает недвусмысленно понять, что каждый должен пастись в своем загончике. Но дать приказ ликвидировать высокопоставленного сотрудника, человека, отдавшего Агентству четверть века, и к тому же принять меры, чтобы тут же избавиться и от палача, — это не укладывалось в сознании. На это никто не дал бы санкцию. В конце концов, он сам не наивное дитя и не раз видел белоснежные одеяния Агентства, в которых оно любило покрасоваться перед публикой, в крови и грязи. И не только видел. Но и пачкал их в свое время, и отмывать помогал. Но так не делают. Не таков его проступок. А это могло значить только одно. Во всей истории с исками генерал Иджер был замешан лично. И был так же заинтересован сохранить ее в тайне от всего Агентства, как он — разобраться в ней.
Вот тебе и тонкий ценитель гения Моцарта… О господи, кто бы мог подумать, что этот томный человечек, любящий устало массировать себе переносицу, спокойно прикажет взорвать машину своего сотрудника… Что-то было в этом глубоко несуразное. И означать могло только одно: он столкнулся с айсбергом. Он, Густав Ратмэн, видел то, что было на поверхности. Генерал Иджер видел девять десятых айсберга, погруженных в воду. И эти девять десятых были для него необыкновенно важны.
Из-за них дьявольская катапульта выкинула Ратмэна из привычной жизни, превратила из немолодого солидного сотрудника Агентства в беглеца, прячущегося от всего света…
Но что делать, что делать? Теперь, после того как во взорванной машине они не нашли его трупа, он стал им вдвойне опасен. Нет, никаких попыток связаться с кем-нибудь из сотрудников Конторы предпринимать нельзя. Это было бы самоубийством. Сидеть тихонько и ждать. А потом подумать, как и где организовать новую жизнь. Счастье, что последние полгода он не видел Хиджер, и кто бы за ним ни следил, никто ничего знать о ней не мог.
— Густав, кофе готов, — позвала с кухни Хиджер, и он встал с дивана.
Она смотрела на него все еще недоверчиво и изумленно. Никак, наверное, бедняжка не могла опомниться. То полгода человек не звонил, то живет у нее. Не просто живет, а носа на улицу не кажет.
— Спасибо, Хидди, чудный кофе. Воистину, никогда не знаешь, где найдешь и где потеряешь.
— Это правда, Густав? — очень серьезно и торжественно спросила Хиджер.
Правда? Бежать бы отсюда без оглядки, подумал Ратмэн.
— Ты обижаешь меня, Хидди. Как ты можешь спрашивать такую вещь?
— Спасибо, Густав, — сказала Хиджер и отвернулась, потому что на глазах у нее появились слезы и она не хотела, чтобы он их видел.
Хиджер шла в супермаркет. Магазин был недалеко, и она всегда ходила туда пешком. Почему-то она думала о жене Густава. Наверное, и она теперь так же все время смотрит на молчащий телефон, как смотрела она. А телефон молчит, и никакие заклинания не могут заставить его зазвонить.
Ей было жалко жену Густава. Она никогда не видела ее, Густав никогда не рассказывал о ней, но почему-то она представляла ее полноватой, не очень аккуратной женщиной. Такой, у которой всегда перекручены чулки, слезший лак на ногтях, немытая посуда в раковине.
Наверное, она была несчастна с Густавом, но у нее не было ни силы воли, ни уверенности в себе, чтобы бросить его. Да и годы не оставили оптимизма.
Она вдруг почувствовала, что должна позвонить ей. Она, конечно, не скажет, кто говорит. Она лишь скажет, что Густав жив и здоров. Пусть ее собственная жизнь вполне могла бы ожесточить ее, но она все-таки сохранила в себе благородство, которого так мало вокруг. Густав, правда, предупреждал ее, чтобы она никому ничего не говорила о нем, но он всегда был человеком скрытным. И потом, она же позвонит из телефона-автомата.
Она остановилась, достала из сумки книжечку и посмотрела номер его домашнего телефона. О, она могла бы и не смотреть! Она знала его на память. Сколько раз хотела она поднять трубку и позвонить ему! И не могла. Не имела права. Зато теперь ей не нужно звонить Густаву. Она вернется из магазина, и он будет ждать ее. Она улыбнулась. Как он сказал? Никогда не знаешь, где найдешь и где потеряешь. Правильно. Истинно так.
Она набрала номер телефона Густава, и женский голос тут же ответил ей.
— Мадам Ратмэн? — спросила Хиджер.
— Да, а кто это?
— Это неважно. Я хотела лишь передать вам, что ваш муж жив и невредим.
— О, спасибо большое, вы даже не представляете…
Хиджер тихонько положила трубку и улыбнулась. На душе у нее стало легко и приятно. Хорошо, что она позвонила.
— Разрешите, сэр! — дежурный лейтенант посмотрел на полковника Ларра и подивился его виду. Полковник был небрит, глаза покраснели от бессонной ночи.
— Что у вас? — буркнул полковник.
— Жене Ратмэна позвонила какая-то женщина и сообщила, что он жив и здоров.
— Откуда она звонила?
— Из телефона-автомата, сэр.
— Пленка записи?
— Вот она, сэр.
— Введите голос в главный компьютер, а вдруг он зарегистрирован в его памяти.
Только не надеяться, только не надеяться, только не надеяться, заклинал себя полковник Ларр, но удержаться от надежды было невозможно. Не скептическим умом, а всеми клетками жаждал он чуда. Господи, сделай так, чтобы голос можно было идентифицировать. Сделай так, всеблагий господи, и я на коленях отблагодарю тебя. Он не разрешал себе взглянуть на дисплей информатора. Пока не знаешь, можно надеяться. Потом будет поздно. Господи, сколько же может этот чертов компьютер копаться в своих электронных потрохах?
— Почему так долго, лейтенант? — не выдержал он.
— С вашего разрешения, сэр, это многоступенчатая операция. Сначала голос анализируется, потом кодируется, и машина сравнивает, нет ли в ее памяти такого кода. К тому же телефон может основательно искажать параметры голоса, поэтому анализ повторяется дважды. — Послышался мелодичный тихий звонок. — Ага, вот и результаты, сэр.
— Каковы же они? — почему-то шепотом спросил полковник Ларр.
— Голос принадлежит Хиджер Мартин. Адрес: Калвер-стрит, одиннадцать, шесть-бэ.
— Будем надеяться, он у нее. Если ее голос в памяти компьютера, значит, она уже когда-то звонила Ратмэну. — Полковник посмотрел на часы. Было восемь вечера, и до истечения срока, который назначил ему эта сволочь Иджер, оставалось шестнадцать часов. Но и откладывать нельзя ни на минуту. А вдруг Ратмэн уже смылся? Вдруг эта Хиджер Мартин потому и позвонила, что он уже благополучно смылся? Может быть, как раз в этот момент он садится где-нибудь в самолет. С чужим паспортом, в чужом парике, неузнаваемый и неуловимый.
Страшный зуд овладел полковником. Он знал, что этого делать нельзя, что глупо просто позвонить в дверь, что Ратмэн вооружен, что нужно было бы найти какое-нибудь помещение напротив окон квартиры и попытаться застрелить его через окно, но на все это нужно время, время. А времени не было. Он слышал, как оно текло с дьявольской быстротой, булькало и клокотало, как струи горной речушки. Откладывать было нельзя.
— Поехали, — сказал он лейтенанту и встал из-за стола. — Возьмите оружие.
— Не могу, сэр, — сказал портье. — У нас приличный дом, и я не могу пропустить вас к мисс Хиджер без телефонного звонка.
— Попросите ее спуститься вниз, — сказал полковник Ларр и с ненавистью посмотрел на прилизанного портье, который распространял вокруг себя тошнотворные волны какого-то сладкого дезодоранта.
— Не могу, сэр, — строго сказал портье и выразительно посмотрел на газету, которая лежала у него на столе, под крупным заголовком было фото перевернутого автомобиля.
— Вот, — полковник протянул ему купюру в двадцать пять долларов. — Придумайте что-нибудь.
— Я… я не знаю, — уже менее уверенно пробормотал портье.
— Вот вам еще двадцать пять, и если вы будете кочевряжиться, я добавлю кое-что еще, — очень спокойно и четко сказал полковник и достал из кармана пистолет.
Портье долго пытался что-то проглотить, и кадык его над воротничком рубашки дергался судорожно и смешно.
— Может быть, мы поднимемся к ней, я позвоню…
— Скажите, что ей телеграмма.
— Она не поверит.
— Почему? Она же знает ваш голос?
— Да, конечно, но она… как бы это выразить… она очень одинокий человек. Я и припомнить не могу, чтобы она получала телеграммы. Я лучше напомню ей, что завтра срок уплаты за квартиру. Она всегда платит аккуратно и удивится, конечно.
— Но она откроет дверь?
— Думаю, да. Если вы будете молчать, конечно.
Они поднялись на шестой этаж. Господи, сделай так, чтобы эта баба открыла дверь и чтобы Ратмэн сидел в шлепанцах перед телевизором. Сделай так, боже.
Полковник и лейтенант прижались к стене, и портье нажал на кнопку звонка. В глубине квартиры послышался звонок, шаги, и женский голос спросил из-за двери:
— Кто там?
— Это я, Кассель, мисс Мартин.
— Да, я вижу. Что случилось?
— Завтра срок квартирной платы, и я хотел…
— Что вы мелете? — раздраженно сказала мисс Мартин. — Я уплатила еще позавчера.
— Гм… это какое-то недоразумение. Можете вы показать мне чек?
— Сейчас.
Она, очевидно, отошла, но вскоре вернулась, защелкала замками и засовами и наконец приоткрыла дверь.
— Вот, — недовольно сказала она и протянула квитанцию. Должно быть, она держалась одной рукой за дверь, потому что, когда полковник изо всех сил дернул ее на себя, мисс Мартин с криком упала на лестничную клетку.
— Что такое, Хиджер? — послышался мужской голос, и полковник Ларр дважды выстрелил в появившегося в прихожей Ратмэна.
Женщина на полу попыталась встать, и он выстрелил ей в затылок, который прикрывали седоватые локоны.
Портье с ужасом смотрел на полковника. Он раскрыл рот, но не мог произнести ни звука. Словно зачарованный, он смотрел на пистолет.
— Я ничего не видел, сэр. Клянусь вам, я абсолютно ничего не видел и не слышал. Клянусь, сэр. У меня трое детишек… — Он попытался опуститься на колени, но не успел.
— Да, да, конечно, — сказал полковник и выстрелил в нелепо подпрыгивавший кадык.
Он спустился вниз и вышел на улицу. Ни одна дверь не открылась ни на одном этаже, хотя звуки выстрелов, казалось, наполняли всю лестницу, бились о стены и двери.
Полковник брезгливо поморщился. Это была грубая, топорная работа, работа хама. Но что делать, не всегда удается извлекать из работы эстетическое удовольствие. Конечно, можно было бы придумать нечто более изящное, некий гамбит, разыграть который было бы в тысячу раз приятнее. Но у него не было времени.
На мгновение в душе его шевельнулось чувство, похожее на жалость. Наверное, это из-за седых локонов на затылке. Но он тут же заблокировал это чувство. Он давно научился проводить грань между людьми вообще и людьми, которых приходилось убирать. Те, которые исчезали, попадали под машину, взрывались, падали в воду, получали пулю, были не людьми. Они были просто препятствиями на пути Конторы, и жалость была в таких случаях так же неуместна, как, скажем, жалость к неудачно написанному черновику бумаги, который он бросал в корзину…
Соседи… Можно было не беспокоиться. Слава богу, люди в Шервуде давно научились не замечать, что происходит с их ближними. Да если бы они из станкового пулемета стреляли, все поклялись бы, что ничего не слышали. Великое искусство — не слышать того, что тебя не касается…
ГЛАВА 26
Я очнулся от оцепенения. Мистер Людвиг был прав. Абсолютно прав. По сравнению с его планом одна человеческая жизнь теряла всякий смысл. Равно как и две или три, включая Луизу и сына. Я твердо знал, что не смогу принять его предложения. Кто-то наверняка сможет. Точнее, уже смог. Был бы план, а добровольцы всегда найдутся, как находились истопники для крематориев фашистских лагерей смерти или палачи для инквизиции.
Что ж делать, в конце концов, почему мы так цепляемся за свою жизнь? Что это за необыкновенная ценность? Крохотная песчинка, не более того. Чуть раньше, чуть позже, какое, в сущности, это имеет значение? Ну, пройдет несколько часов, снова чавкнет ключ в хорошо смазанном замке двери, появится безумный Людвиг в сопровождении ученых-гробовщиков, увидит мои опущенные глаза. И меня убьют. Содрогнусь в последнем ужасе — и все. Сколько раз я уже мысленно умирал. Можно один раз сделать это и по-настоящему.
А может быть, не ждать приговора и приведения его в исполнение? Слова «убит при попытке к бегству» всегда вызывали у меня почтительное уважение. Человек не хотел быть скотом, ведомым на бойню. Он не хотел, чтобы его вели за веревку, привязанную к рогам. Он не хотел покорно переставлять ноги, думая лишь о своей вечной жвачке.
Почему я так легко примирился с пассивной ролью, уготованной мне благородным истребителем рода человеческого? Истребителем… Я вдруг вспомнил рыжеволосую Рут Дойчер. Как она называла Калеба Людвига? Истребителем лесов. Что ж, это логично. Всю жизнь человек истреблял леса, а перед смертью решил истребить заодно и людей. В каком-то смысле он был величайшим сыном системы, породившей его. Он истреблял и богател. Богател и истреблял.
Отлично. Прекрасные фразы. Если бы только они обладали взрывной силой гранаты. Чтобы можно было взорвать дверь вместе со стражником. Увы… Я вдруг почувствовал прилив ярости. Я не хотел расставаться с этим миром. Пусть роботом — но жить. У меня есть еще время. Я должен что-то придумать. А может быть, все-таки склониться перед безумцем? Если бы и Луиза стала иском… Нет, это было невозможно. Скорей всего, я бы не мог жить среди трупов и с памятью о трупах. Нет, может быть, найдутся такие же безумцы, как Людвиг, это не для меня.
Ярость все разгоралась во мне. Ник, сказал я себе, ты ведь ученый. Не бог весть, может быть, какой, но ученый. Всю жизнь ты тренировал свой мозг, приучал его мыслить логично. Сопоставлять факты и выискивать смысл их связей и взаимодействия. Подумай. Что мы имеем? Заключенного, запертого в комнате. Из комнаты есть два выхода, окно и дверь. Окно можно отбросить сразу. Оно не открывается, а стекло прочнее стали. К тому же я нахожусь примерно на уровне пятнадцатого этажа, а иски не мухи и не птицы.
Оставалась дверь. Она заперта. Открыть ее я не могу. Разбить — нечем. Тем более, что за ней стражник и у него наверняка есть пистолет, которого нет у меня.
С другой стороны, я иск. Искусственный человек. Дает это мне какие-то преимущества? Нет, потому что отсутствие потребности в пище и воздухе в данном случае не преимущество. Отсутствие потребности в воздухе… Отсутствие потребности в воздухе… Почему я задержал свой взгляд на красном перфорированном баллончике, укрепленном на стене? Какая связь между тем, что мне не нужно дышать, и противопожарным датчиком?
Стоп, Николас Карсон, сказал я себе. Если бы у тебя было сердце, оно бы забилось сейчас в бешеном ритме. Если б у тебя были надпочечники, они бы впрыснули в кровяное русло чудовищную дозу адреналина. Потому что в голове моей созревал план. Неважно, что, скорей всего, я буду убит при попытке к бегству. Важно, что я не окажусь искусственной покорной коровой с куском веревки на рогах.
Если я смогу устроить в комнате пожар… Даже не пожар, а заставить тлеть все, что может тлеть и выделять густой, ядовитый дым. Например, занавеси и гардины на окне. Ковер на полу. Что тогда? Тогда сработает датчик, раздастся сигнал пожарной тревоги, прибудут пожарные. А стражник? Скорее всего, он постарается убить меня. А если дым начнет валить из-под двери? Что тогда сделает он? Он должен догадаться, что вот-вот придут пожарные, и попытается опять же убить меня. Как? Открыв дверь и застрелив меня. Но ведь в комнате будет полно дыма, едкого дыма века пластиков, а стражник, скорее всего, не иск, и его бронхи, его легкие, его глаза заставят его отступить. И в этот короткий миг я испытаю свой последний шанс. Или я одолею его, отниму оружие и попытаюсь бежать, или я буду убит при попытке к бегству. Значит? Значит, нужно плотно заткнуть щель и только тогда поджигать гардины. А когда дыма будет уже много, вытащить то, чем я заткну щель.
Осторожно, стараясь не производить ни малейшего шума, я поставил стул на письменный стол и снял гардины. Не знаю, кому принадлежала эта комната, но пыли на них было предостаточно. Вслед за гардинами последовали занавески. От них я отодрал несколько полос и тщательно заткнул щель под дверью и, на всякий случай, замочную скважину.
На журнальном столике стояла зажигалка. Господи, взмолился я, сделай так, чтобы в ней был газ и чтобы она сработала. Я осторожно взял ее в руку и нажал на кнопку. Искра проскочила, но огонька не было. Господи, прости, что я атеист. Если можешь, наполни эту паршивую зажигалку газом. Это вовсе не трудно. Если бы у меня был баллончик, я бы сам сделал это.
Я чуть сдвинул рычажок регулировки подачи газа и снова щелкнул. Наверное, господь услышал меня и успел заправить зажигалку, потому что на этот раз она вспыхнула сразу, а вот гардина загоралась неохотно, тлела, дымила. Дыми, дыми, моя милая, сейчас мы устроим что-нибудь вроде искусственных мехов. Я взял какую-то книгу со стола, раскрыл ее и стал раздувать огонь этим веером.
Важно было не дать ткани разгореться. Поэтому как только огонь чересчур разгорался, я старался притушить его кожаной подушкой с кресла.
Вскоре в комнате стало так темно, что виден был лишь прямоугольник окна.
Ну, пробуем! Я был абсолютно спокоен. Нет, это неправда, я был возбужден, но я не боялся. Я ничем не рисковал. Жизнью рискуют живые, а я был уже приговорен. Я выдернул из-под двери полоски гардин и прижался к стене.
Через минуту или две я услышал, как кто-то зашевелился за дверью. Один шаг, другой. Маленькие неуверенные шажки человека, который не знает, что делать. Стражник потоптался еще с полминуты, шумно, по-коровьи, дыша. Слава богу, кажется, он человек, а не иск. Должно быть, он принюхивался. Откуда-то издалека донесся приглушенный звонок. Наверное, где-то сработал сигнал пожарной тревоги.
Я ждал звука поворачиваемого ключа. Ну же, смелее! Вендел Люшес вряд ли будет доволен, если пожарные взломают комнату и найдут полусгоревший странный манекен, набитый непонятной электроникой.
И, словно услышав мои увещевания, стражник щелкнул ключом и начал медленно открывать дверь. Повинуясь законам физики, дым повалил в коридор. Он сделал шаг в комнату. Наверное, в самой глубине моих нейристорных мозгов мне не хотелось быть убитым при попытке к бегству. Я вложил в удар всю силу моего совершенного искусственного тела. Стражник пошатнулся. Я ударил его еще раз и услышал звук упавшего на ковер пистолета. Я нашарил его, сунул в карман и выскочил из комнаты.
Передо мной был коридор, из которого вели двери налево и направо. Мгновение я прислушивался. За моей спиной надсадно кашлял стражник, где-то по-прежнему звенел звонок. Я побежал. Коридор уперся в стеклянные двери. Даже глядя с обратной стороны, я сразу понял, что значили элегантные золотые буквы на стекле: «Фонд Калеба Людвига».
Дверь оказалась незапертой, и я побежал по пустому коридору. Он был бесконечен. Я мчался с такой скоростью, что чуть не проскочил площадку, на которую выходили лифты. Оба лифта были заняты.
Я отбежал на несколько шагов. Из-под одной двери пробивалась полоска света. На двери была табличка «Артур Гарфилд, консультант—футуролог». Я постучал и, не ожидая ответа, вошел.
Футуролог оказался тощеньким человечком с печальными, потухшими глазами. Возможно, он и умел проникать взглядом в будущее, но ничего хорошего для себя он там явно не видел. Он сидел за письменным столом и смотрел перед собой невидящими глазами, подперев раздвоенный подбородок ладонью.
— Здравствуйте, — сказал я. — Я хотел бы…
Футуролог испуганно вздрогнул и вернулся из будущего в настоящее. Он долго смотрел на меня, словно пытался понять, как я оказался в его комнате.
— Да, да, конечно, здравствуйте, — наконец пробормотал он. — Собственно, я уже не… Но это не имеет значения… Прошу вас… Боже, как пахнет дымом!
— Вполне естественно. В конце коридора полно дыма. Наверное, пожар!
— Пожар? — тощенький футуролог с беспокойством взглянул на меня. — Вы думаете, действительно пожар?
— Похоже, — кивнул я. — Слышите?
Мы оба прислушались. В коридоре слышались топот и крики.
— Вы думаете, это пожарники? — с надеждой спросил футуролог.
— Конечно. Но я бы хотел…
— Да, да, конечно, — затрепетал мистер Гарфилд, — но вы должны понять… Мне так трудно сейчас сосредоточиться… Вы не представляете, как трудно проникать мысленным взором сквозь завесу будущего… А тут еще дым… Боже, как пахнет дымом… — Он умоляюще посмотрел на меня. — Может быть, я взгляну, что там происходит?
— Пойдемте вместе.
Мы вышли из комнаты. Из того конца коридора, где находился фонд, доносились возгласы. Дымом пахло уже меньше. Мелодично тренькнул звонок лифта, дверь раскрылась, из нее выскочил Людвиг с двумя дрессированными гориллами. Я узнал бы их на судном дне. Это они зажимали меня в тиски своими могучими боками, когда вытащили из квартиры мисс Вольта. Они бросились к помещению фонда. Прежде чем я сообразил, что делаю, я вскочил в лифт.
— Э… подождите… — слабо пискнул футуролог, но я уже нажал кнопку, и лифт со вздохом устремился вниз.
Еще через минуту я уже выходил на улицу. У подъезда стояли пожарные машины, суетились люди, и никто не обратил на меня ни малейшего внимания.
Стараясь не бежать, я быстро пошел по улице. Все произошло так стремительно, что я еще не успел по-настоящему ощутить свободу. Я все еще был в запертой комнате наверху, готовя себя к концу. А может быть, я потому не ощущал свободы и избавления, что слишком хорошо знал планы величайшего филантропа нашего времени, как элегантно говорил Антуан Куни в Ритрите. Ну хорошо, сейчас мне удалось ускользнуть в последнюю минуту. Мне повезло. Я не буду разряжен гробовщиками мистера Людвига, я буду испепелен ядерным взрывом.
Наступили сумерки, но уличный свет еще не включили, и город выглядел призрачным, нереальным, обреченным. Уже несуществующим.
Я подумал о Луизе. Если она на свободе, она должна избегать всех тех мест, где ее могут ждать. А они наверняка хотели бы разделаться и с ней. Им не нужны свидетели.
Скорее всего, они дождались ее возвращения после того, как увезли меня. В таком случае… Лучше было не думать, что значил такой вариант…
А если вдруг она еще на свободе? Где можно искать ее? Я забрел в небольшой скверик. На скамейке сидели двое совсем молодых людей, он и она, и торжественно держались за руки. Им, наверное, казалось, что весь мир смотрит на них, потому что у них были напряженно застывшие лица, но даже жирные взъерошенные голуби, деловито склевывавшие какие-то зернышки, были глубоко равнодушны.
Пройдут какие-то дни, и не будет ни этих домов, ни скверов, ни голубей, ни влюбленных мальчиков и девочек. Ветер будет гнать тонкую пыль от руин, пахнущих горьким дымом. И некому будет ощутить эту горечь. И солнце будет тусклым, как после извержения вулкана. И будет тихо. Первозданная трагическая тишина. И безумный истребитель лесов осмотрится с гордостью и довольством. Истребив и людей, он будет чувствовать себя как творец. Творец наоборот. Может быть, он даже поручит генералу-златоусту написать новую книгу бытия, в которой все будет наоборот. И уничтожил он людей и скотов, и огляделся, и сказал: «Это хорошо».
Я вспомнил сына, и мне вдруг остро захотелось увидеть его. В последний раз. Что я мог сделать? Вскочить сейчас со скамейки и закричать: «Люди, вам угрожает гибель! Безумный старик с искусственным телом готовит вам Армагеддон!»?
Может быть, нужно было попытаться попасть к какому-нибудь сенатору, министру. Может быть. Но кто поверит моим сумасшедшим речам? Да, скажите, пожалуйста, какой интересный заводной человечек! Как, даже и есть вам не нужно? И сколько же стоит такое тело? Миллион, вы говорите? М-да, дороговато.
На этот раз я уже знал дорогу в Драйвэлл и даже подсказывал шоферу такси.
— Вот хорошо, мистер, что показали мне дорогу, — сказал он, когда машина остановилась около знакомого бревенчатого дома.
— Почему? Думаете, пригодится?
— Может, и пригодится. Я, знаете, раньше не мог понять, как это люди во всякие секты сбиваются. Молодой был. А теперь, как посмотрю вокруг, выть хочется: все злые, все дерганные, все друг друга боятся, все чего-то мечутся… Вот и позавидуешь этим, — он кивнул в сторону двух людей в коричневых плащах, которые смотрели на такси. Должно быть, не часто к ним кто-нибудь приезжал. Может, у них поспокойнее…
— Может быть, — сказал я, расплатился и пошел к дому коммуны. — Здравствуйте, — кивнул я, — мне нужен Гуннар Карсон.
— К сожалению, он уехал, — сказал старший из двоих. На вид ему было лет сорок. Он поежился под своим грубым плащом, посмотрел на небо и пробормотал: — Похоже, дождь собирается.
— Как уехал? — спросил я. — Надолго?
— Он не сказал, — пожал пленами мой собеседник. — Сначала приехала эта женщина, переночевала у нас, а утром они вместе уехали. Я еще отвез их в аэропорт.
— Какая женщина? — Мне показалось, что я говорю нормальным голосом, но оба сектанта разом вздрогнули, и я понял, что кричу.
— Высокая такая, — сказал младший, — красивая…
— В красном плаще? — прошептал я.
— Точно, — улыбнулся младший. — Точно, в красном.
Впервые с той минуты, когда в дверях квартиры Софи Вольта я увидел двух горилл с пистолетами в руках, я испытал прилив радости. Я вынырнул на поверхность из мрачного пруда. Значит, Луиза на свободе. Спасибо, Лу, спасибо.
— А куда они собирались?
— В Шервуд.
— А зачем, к кому? Может, они говорили между собой?
— Да нет, — покачал головой старший. — Они все больше молчали.
— Ну что ж, спасибо. Прощайте, — я повернулся и медленно пошел по дороге. Не надо было сразу отпускать такси. Впрочем, куда мне было торопиться?
— Обождите! — крикнул мне младший. — Может, переночуете? Глядите, дождь собирается, а вы так легко одеты…
— Спасибо, — пробормотал я, — мне не холодно.
— Ну, смотрите.
Не успел я сделать несколько шагов, как меня снова окликнули:
— Эй, мистер, не торопитесь. — На этот раз ко мне обратился старший. — Я вдруг вспомнил, что Гунни перед отъездом спрашивал про Уолтера…
— Про Уолтера? Какого Уолтера?
— Уолтера Брюгге. Был у нас, не выдержал, ушел. Тяжело ему было уходить. Но и остаться, говорил, не мог. Так что, может быть, они к нему собирались. Точно, конечно, я вам не скажу, не знаю.
— А кто этот Уолтер Брюгге? Где его найти?
— О, это просто. Его отец — владелец и редактор газеты «Шервуд Икзэминер». Да он теперь и сам, говорят, там работает.
Упали первые крупные капли дождя, но мне было наплевать на дождь, на град, на все осадки.
— Спасибо! — крикнул я и, к изумлению обоих сектантов, бросился бежать к дороге.
ГЛАВА 27
Антуан Куни постучал в дверь члена совета директоров, отвечавшего за безопасность.
— Войдите, — послышался голос Барнета Уишема.
— Здравствуйте, дорогой мистер Куни, — улыбнулся Уишем, вставая из-за металлического конторского стола с несколькими телефонами на серой матовой поверхности, — садитесь, пожалуйста.
— Добрый день, мистер Уишем. У вас есть несколько минут для меня?
— О, о чем вы говорите! Столько, сколько вам не жалко для меня. Но позвольте вначале выразить вам свое восхищение. Ваша вчерашняя проповедь была просто потрясающей!
— Вы мне льстите, — улыбнулся Антуан Куни, но не трудно было увидеть, что комплимент был ему приятен.
— Нисколько. Поверьте, я нисколько не преувеличиваю. Описывая тупик, в который уперлась цивилизация, вы вряд ли оставили кого-нибудь равнодушным. Поразительно, как в одном человеке могут сочетаться столь разнообразные таланты.
— Слово «талант» я оставляю на вашей совести, но вообще-то, как это ни звучит парадоксально, многие военные в душе поэты.
— Гм, интересная мысль…
— Военный всю свою жизнь готовится кого-то или что-то уничтожать. Это его профессия. Для этого его учат ненавидеть, а ненависть — в сущности очень поэтическое состояние души.
— Не спорю, — улыбнулся Уишем, — может быть…
— Но я пришел не для того, чтобы щеголять парадоксами. Я хотел посоветоваться с вами, мистер Уишем. Одна из местных дам познакомила меня с несколькими своими приятелями, которые обсуждали в моем присутствии… ну, скажем, не совсем приятные для нас вопросы, например исчезновение Сесиля Строма, побег Баушера и Карсона и кое-что еще. Я, естественно, попытался рассеять их сомнения, но у меня впечатление, что доверяют они мне все-таки не до конца. Вначале я думал, что смогу держать группу под контролем. В конце концов, мало ли о чем болтают иски, тем более что большинство из них типичные либералы, склонные к пустой болтовне. Знаете, эдакие бесстрашные рыцари пустой фразы…
— Прекрасно сказано, — улыбнулся Уишем. — Надо запомнить.
— Но теперь я начал беспокоиться. Чем ближе день Омега, тем осторожнее мы должны быть.
— Естественно.
— И я решил ввести вас в курс дела…
— Спасибо, но я думаю, в данном случае мы можем быть спокойны.
— В данном случае? Но я же еще ничего не сказал…
Уишем усмехнулся и потер переносицу. Никак не отучишься от привычных жестов, тут же сделал он себе выговор.
— Люди моей профессии тоже немножко тщеславны, — сказал он. — Все мы в глубине души немножко дети, все мы любим иногда похвастать… Вы ведь хотели рассказать мне о мисс Дойчер, Фредерике Мукереджи, Лайонеле Брукстейне и Синтии Краус? Угадал?
— Вполне, — беспомощно развел руками Антуан Куни, — но как вы могли узнать?
— О, маленькие профессиональные секреты. А если говорить откровеннее, один из перечисленных мною членов группы уже был у меня. И не раз.
— Надеюсь, ко мне у него или нее претензий не было?
— Наоборот. Вы — столп Ритрита, дорогой мистер Куни.
В глубине души Куни испытывал определенное раздражение. Столько сомнений, столько нелегких решений, столько мыслей о Рут Дойчер — и все напрасно. Все время он был на предметном стеклышке микроскопа, и этот профессиональный шпик развлекался тем, что подкручивал винт фокуса и наблюдал ползавших в поле зрения букашек. Глупо, сказал он себе. Глупая обида. Но все равно его дух был непривычно раздражен. Разумеется, он не ждал, чтобы Уишем вытянулся перед ним, щелкнул каблуками и поздравил с патриотическим поступком. Но все же, но все же… В конце концов, он все-таки генерал.
— А как в целом состояние наших подопечных? Я имею в виду весь Ритрит? — спросил он.
— Ну, я бы сказал, вполне приемлемое. Конечно, когда в одном месте собраны сто с лишним ученых, возникают различные завихрения. Но с другой стороны, эти люди в массе завистливы, нетерпимы и охотно информируют власти друг о друге. — Уишем усмехнулся и выдвинул ящик стола. — Видите папочки? Вот, достаю наугад и читаю: «Уважаемые члены совета! Прошу понять меня правильно. Если я хочу сообщить вам о некоторых взглядах Клауса Форбхайма, то лишь потому, что желаю ему добра. Мистер Форбхайм несколько раз говорил мне, что вся затея с Ритритом весьма сомнительное предприятие, преждевременное и непродуманное, что нельзя создавать обособленную группку думающих существ, даже искусственных, потому что человек может нормально функционировать только в обществе. Возможно, мистер Форбхайм действительно крупный ученый в области получения нефти из битумных песков, я в этом деле не специалист, но взгляды его на Ритрит и фонд Калеба Людвига кажутся мне глубоко неверными. К тому же он сам страдает от этих мыслей, он признался мне в этом. Именно поэтому я и обращаюсь к вам. Это не донос, а просьба о помощи Клаусу Форбхайму…» Заметьте, ни один из авторов писем членам совета в этом досье не считает себя доносчиком. Все движимы только самыми благородными побуждениями, и если они подписываются всякого рода «доброжелателями» и «наблюдателями», то исключительно, как они объясняют, из скромности. Так что будем ждать осуществления наших планов спокойно. Тем более, что осталось не так уж много дней.
— Вы меня успокоили, мистер Уишем, до свидания.
Антуан Куни вышел из дома совета директоров. Поразительно все-таки самоуверен этот бывший генерал Иджер из Разведывательного агентства. Самоуверен и неприятен. И снисходительный тон его раздражал. Хотя по существу, конечно, он прав.
Он подумал о Рут Дойчер и горько усмехнулся. Боже, сколько нежности он израсходовал на глубоко чуждого ему человека. А может быть, именно она и была тайным агентом надутого шпика. Что ж, вполне возможно. А он чуть ли не наизнанку выворачивался перед ней. Боже, как он, наверное, был смешон в ее глазах! Но роль свою она играла отлично, ничего не скажешь. До разговора с Уишемом он готов был поклясться, что она испытывала нечто большее, чем простое желание поболтать с ним.
Антуан Куни усмехнулся. Все это были пустые слова, за которыми он пытался спрятаться, как за дымовой завесой. Электронная душа его саднила и трепетала, и мысль о том, что больше он не будет держать тоненькую руку Рут Дойчер в своей, была болезненна. Прожить шестьдесят три года, быть всю жизнь кадровым военным, гордиться четкостью своих мыслей и умением управлять собой — и такой жалкий и смешной финиш…
А может быть, она ни в чем не виновата? Он ощутил внезапный прилив надежды. Такой внезапный, что ему почудилось, будто что-то подтолкнуло его, погнало к лабораторному корпусу. Он нашел ее в лаборатории. Она взглянула на него и удивленно подняла брови:
— Антуан? Что-нибудь случилось?
Он даже не придумал заранее, что сказать. Он становится неуправляемым, подумал он, и мысль испугала его. Он, привыкший рассчитывать и взвешивать каждый свой шаг, стоит перед рыжеволосой женщиной и не знает, что сказать, не знает даже, для чего он пришел.
Ракеты, которые сбиваются с намеченного курса, уничтожаются по радиоприказу с земли. Он тоже сбивается с выверенного своего курса.
Почему-то он подумал о дне Омега. Он тысячи раз думал о нем, они много раз обсуждали его в разговорах с Калебом Людвигом. Сколько лет они знакомы? Лет, наверное, тридцать, не меньше. Когда они познакомились, он был молоденьким подполковником, а Людвиг уже тогда сколотил свой первый миллион. С самого начала они нашли общий язык. Они были похожи на два куска урана. Соединенные вместе, они достигали критической массы и взрывались, выделяя ненависть к слабому, прогнившему обществу Шервуда, ненависть к противной, стороне. Они оба были во власти видений новой цивилизации.
И вот сейчас, может быть, первый раз в нем шевельнулось сомнение. Маленькое, слабенькое, беспомощное, но сомнение. Нет, он не сомневался в великих целях дня Омега. Сомнение подкралось к нему с тыла: а сможет ли Рут продолжать одаривать его своей дружбой, когда прозвучат трубы судного дня и они должны будут выйти с ней на опустошенную и еще дымящуюся Землю электронными Адамом и Евой? Не содрогнется ли ее душа в ужасе и не проклянет ли она его? И он останется один в этом окутанном ядовитыми испарениями мире, один будет скитаться по пустым городам, и одиночество будет все сильнее пригибать его к радиоактивной земле.
Он помотал головой, отгоняя видение. Но оно было таким ярким, таким пластичным, что не исчезало. Оно просто включило в себя лабораторию, странно напряженные глаза Рут.
— Что-нибудь случилось, Антуан? — спросила она.
О чем она спрашивает? Ах да, конечно. Он стоит перед ней и молчит, как влюбленный школьник.
— Вы… мы могли бы… немножко погулять вместе? — выдавил наконец он из себя.
— О господи, — улыбнулась Рут, — вы меня прямо напугали. Вы стояли и смотрели на меня как будто… нет, не на меня, сквозь меня…
— Простите, Рут, я меньше всего хотел напугать вас…
Они вышли из лаборатории. Он взял ее за руку и ощутил трепетное острое чувство восторга. Он твердо знал, что чувство это абсурдно, иррационально, опасно, наконец, что оно смешно, черт возьми, но знание никак не мешало чувству. Они сосуществовали в его мозгу, взаимно настороженные, недоверчивые.
Если бы он только мог быть уверен, что она правильно поймет все суровое величие Великой Перемены, поймет необходимость Последнего Очищения… О, если бы только быть уверенным в этом! Тогда бы день Омега из дня мрачной и величественной необходимости превратился бы и в нежный день свидания. Влюбленные всегда мечтают об уединении. О, они были бы уединены на пропаханной ядерными взрывами земле!
Но как сказать ей? Как намекнуть? Он вдруг понял, что она не сможет понять необходимости, да что необходимости, даже гуманности Плана. Что делать, люди ограничены, и лишь немногим дано видеть будущее сквозь заросли глупых условностей и предрассудков. Она содрогнется, в ужасе отпрянет. Не сможет она воспарить духом над тем, с чем была связана всю жизнь, и понять…
Раньше или позже она привыкнет, примирится. Но ему не нужна была электронная машина, которая покорно плелась бы за ним. Новую цивилизацию могут основывать лишь те, в душе которых пылает вера в свою великую миссию.
Что же делать? Что же делать? Он вдруг подумал, что мучения его глупы хотя бы потому, что совет строжайшим образом запретил разглашение тайны дня Омега. А он, один из создателей Ритрита, друг и соратник Калеба Людвига, размышляет, совершать или не совершать преступление против самого себя. И все-таки, и все-таки…
— Я вас сегодня не узнаю, — сказала Рут и искоса посмотрела на него.
— Почему?
— Вы молчите, а на вас это не похоже. И потом, у меня такое впечатление, что вы полны какими-то сомнениями. И это тоже не похоже на вас. Вы мне казались человеком, у которого на все есть готовый ответ…
— Это хорошо или плохо?
— Как вам сказать… я всегда немножко боялась людей, которые знают, как решать все проблемы. Но еще больше презирала тех, кто считает, что ни одну проблему решить нельзя.
— Рут, — вдруг спросил он, — как вы думаете, для чего создан Ритрит? — Это я говорю или не я, ужаснулся он. Но он ничего не мог поделать с собой. Слова рвались из него неудержимо.
— Ну, существует официальная версия, — пожала плечами Рут. — Та, которую нам не раз излагали. И вы тоже, дорогой Антуан. Умирающий гений филантропии Калеб Людвиг, русское открытие, возможность дать бессмертие, вырвать людей из объятий костлявой и так далее.
— И вы верите в эту, как вы выражаетесь, официальную версию?
— Иногда я убеждаю себя, что да. Иногда мне вдруг начинает казаться, что весь Ритрит — это некая одномерная декорация, знаете, как фанерные декорации на киносъемочной площадке, что за ней кроется что-то совсем другое. Но что именно — я не знаю.
— Скажите, Рут, вы ученая, вы должны не бояться новых идей…
— О, это распространенное заблуждение, — улыбнулась Рут.
— Нет на свете более консервативных умов, чем ученые. Работаешь годами, а потом вдруг выясняется, что кто-то доказал твою неправоту, и ты готова убить этого негодяя, только бы не выползать из обжитого домика на голое неуютное место.
— Рут, я не шучу. Я хочу знать, можете ли вы воспринять идеи совершенно для вас новые. Не просто новые, а, может быть, даже устрашающие на первый взгляд…
Голос Антуана Куни звучал так настойчиво, почти умоляюще, что Рут остановилась и посмотрела на него.
— Антуан, вы просто пугаете меня…
— Нет, милая Рут, меньше всего я хочу пугать вас. Но я… там… в той жизни мне было шестьдесят три года. И я никогда никого не любил. Я не понимал, что это за чувство. Оно мне всегда казалось нелепым. Почему икс любит игрека, альфу или омегу? Кто может ответить на этот вопрос? Никто. И только здесь, после метаморфозы, став иском, я полюбил. Разве в этом нет некой иронии? Разве судьба не посмеялась надо мной? Моей электронной душе открылось то, что было закрыто для человеческого обычного сердца. И теперь я тянусь к вам, как пылающий мальчик, как смешной дурак…
— Нет, Антуан, вы вовсе не смешны, — тихо сказала Рут.
— Спасибо, любовь моя. Но все равно я полон печали. Я знаю, что не должен говорить вам того, что рвусь сказать, но мысль о барьерах, о противотанковых рвах между нами сводит меня с ума. Я… мне тягостно скрывать от вас то, что я знаю…
Рут поежилась и крепко сжала руку Антуана Куни.
— Мне страшно… Но если вы хотите сбросить с себя часть какой-то тягостной поклажи, я помогу вам.
— Могу я рассчитывать, что никто не узнает о том, что я вам скажу? Я совершаю преступление. А я военный. Я знаю, что такое выдача секретов.
— Вы? Военный? Вы смеетесь над мной!
— Нет, милая Рут, не смеюсь. Я почти сорок лет в вооруженных силах Шервуда… Но это неважно. Годы и профессии до метаморфозы не имеют никакого значения. Это сыгранная партия в шахматы, фигуры рассыпаны, и впереди новые игры. Рут, нам предстоит разыграть партию, еще никогда не игранную в истории человечества. Мы сожжем мир в ядерной войне, и иски — эти мессии новой цивилизации — заложат основы нового общества. Вот для чего существует Ритрит!
— Вы смеетесь. И это глупая и страшная шутка.
— Нет, Рут, я не смеюсь.
— Но для чего тогда? Что за безумная идея?
— Нет другого пути очистить цивилизацию от накопившейся в ней скверны. Вы, конечно, знаете, что есть теория, по которой старость — это результат накопления в организме маленьких ошибок, сбоев в работе клеток. Постепенно их становится все больше, и мы стареем и умираем. Людей нельзя исправить. Цивилизация слишком стара и слишком много в ней накопилось ошибок и дефектов. Есть лишь один путь спасения ее — уничтожить людей.
— И оставить только исков? — тихо спросила Рут.
— Да. Бессмертных исков, избавленных от людских недугов, мелких страстей, тягостных животных инстинктов…
— Мне страшно, — прошептала Рут, — мне очень страшно. Хотя я и не верю вам…
Солнце садилось удивительно быстро, словно проваливалось за горизонт. Сумерек почти не было, вечер наступил сразу. Рут сняла телефонную трубку и набрала номер.
— Уишем слушает, — послышался мужской голос.
— Добрый вечер, это Рут Дойчер.
— Добрый вечер, Рут. Как дела? Что-нибудь удалось выяснить нового? Как наш влюбленный Селадон?
— Вы оказались проницательны, мистер Уишем.
— Вы хотите сказать, что он…
— Именно. Все оказалось так, как вы предполагали. Наш Антуан Куни расчувствовался, развздыхался. Не могу, чтобы нас разделяла тайна, и так далее. Ну, и изложил мне в общих чертах небольшой план уничтожения человечества. Вы предупреждали меня, что он не совсем в себе, но все равно я была ошарашена вначале. Он говорил с таким убеждением…
— Душевнобольные глубоко убеждены, что мыслят разумно, а те, кто их не понимает, больны. Спасибо большое, мисс Дойчер. Вы лишь укрепили меня в моих подозрениях. Не знаю, сумеем ли мы помочь бедному нашему златоусту…
— Он сказал, что был до метаморфозы военным…
— Он преподавал математику в крошечном университете и увлекался историей.
— Скажите, мистер Уишем, а в том, что он мне рассказал, нет случайно доли истины? Я понимаю, что вопрос глупый, но я никак не могу отделаться от впечатления… Я представила себе ядерную войну, сотни миллионов погибших…
— Успокойтесь, дорогая мисс Дойчер. Жаль, что вы не психиатр. Наверное, это первый случай безумия искусственного мозга. А может быть, это таилось в нем и раньше… Трудно сказать. Еще раз спасибо вам. Поверьте, мы очень ценим информацию, которую вы так любезно даете нам. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи. Я занесу вам запись нашей беседы с Куни.
Рут положила трубку. Обычно, когда она делилась своими наблюдениями с мистером Уишемом, она чувствовала глубокое удовлетворение. Она казалась себе матерью, которая призвана следить за благополучием большой семьи. У нее никогда не было детей. Но когда она обсуждала с вежливым и терпеливым мистером Уишемом, что сказал или предложил тот или иной иск, она воображала, что сидит рядышком с мужем и делится с ним дневными новостями. Надо что-то делать с Джимми, он стал такой скрытный. А за Джоном надо последить как следует, мальчишка вбивает себе в голову всякие глупости.
Она была неглупой женщиной и понимала, что со стороны ее беседы с мистером Уишемом могли показаться заурядным фискальством. Но только со стороны. Потому что она-то знала, что стремится лишь помочь искам адаптироваться к новому существованию. И именно поэтому испытывала чувство горького удовлетворения и даже некоей печальной гордости. Да, конечно, многие ее знакомые назвали бы ее поведение предательством, а ее саму — презренной доносчицей. Что ж, людям легче мыслить готовыми клише, чем вникать каждый раз в суть дела. Да, со стороны она тайный информатор совета. А по существу? По существу она старалась помочь людям, ставшим исками. Охранять их от самих себя, от интеллектуального яда. Здесь в Ритрите он может быть подобен раковым клеткам. Слишком зыбко и нестабильно это крошечное искусственное скопление выдающихся ученых, оказавшихся в невообразимо странном состоянии искусственных существ. Это общество еще не выработало свой иммунитет.
И пусть она походит на доносчицу. Она всегда презирала банальные клише мещан. Важно, что она сама сознавала себя не доносчицей, а охранительницей благополучия этих неразумных взрослых искусственных детей, матерью их, наконец…
Но странное дело, сегодня разговор с Уишемом не принес ей обычного удовлетворения. Нет, поправила она себя, не так. Удовлетворение было. Может быть, они еще сумеют как-то помочь бедному Антуану. Лечат же безумие и у людей. Может быть, с исками это будет даже проще. Если психиатрам иногда удается привести в порядок взбунтовавшиеся нейроны в живом мозгу, о котором они так мало знают, то найти дефект в искусственном, который можно вскрыть, просмотреть, проверить, должно быть во сто крат легче.
Жаль было. И не его, если быть честной с собой до конца, а себя. Конечно, конечно, она не влюбилась в ритритского проповедника. Это было бы смешно. Но все-таки какие-то неведомые ей самой струнки дрожали, наверное, в ее душе, когда он бормотал слова любви и заглядывал ей в глаза, как преданная собака. Преданная собака? Что ж, она предала его? Смешно. Не предала, а сделала все, чтобы ему помогли. Если это еще возможно.
Она закрыла глаза, но Антуан Куни все равно смотрел на нее. Не то с упреком, не то с обожанием. И был его образ каким-то размытым, переливающимся. То он виделся ей надутым, смешным и старомодным пастором, то безумцем со сверкающими глазами. Сжечь весь мир… Ничего себе идейка…
— Вы меня просили зайти? — спросил Антуан Куни у Барнета Уишема. — В чем дело?
Немножко этот шпик забывается, раздраженно думал он. Мог бы зайти и сам. Пусть он генерал РА, но и он все-таки генерал. И ракеты его значат немного больше, чем все эти папочки в аккуратном досье.
— Прошу прощения, дорогой мистер Куни, — расплылся в широкой улыбке Уишем, — наверное, мне следовало бы самому зайти к вам, но дела, дела… Никогда не думал, что маленький наш Ритрит может поглощать столько времени для обеспечения его безопасности. — Уишем потер переносицу и посмотрел на Куни. — Вы не догадываетесь, почему я пригласил вас сюда?
— Нет, — угрюмо сказал Куни. Что-то слишком самоуверен этот тип. Что-то слишком уж пристально всматривается ему в глаза. Он несколько раз спрашивал Калеба, уверен ли он в этом шпионе из Агентства. Калеб уверял, что лучшего специалиста по безопасности нет, и к тому же он полностью разделяет их цели.
— Тогда, с вашего разрешения, я включу пленку. Совсем недавняя запись.
Он нажал кнопку, и Куни услышал очень знакомый голос:
«Нет, Рут, я не смеюсь».
«Но для чего тогда? Что за безумная идея?»
«Нет другого пути очистить цивилизацию от накопившейся в ней скверны…»
Уишем перемотал пленку и снова зазвучал голос Куни:
«Есть только один путь спасения ее — уничтожить людей».
Уишем щелкнул кнопкой и посмотрел на Куни.
— Генерал Каррингтон, мне не хочется говорить вам, как называется то, что вы сделали. Вы сами это прекрасно понимаете.
— Вы подслушивали? — глухо спросил Куни.
— Нет. Я разговаривал с мисс Дойчер.
— Она…
— Она сама позвонила мне. Она записала вашу беседу. — Уишем посмотрел на Куни. — Я могу включить пленку с самого начала.
— Не нужно.
На мгновение Куни показалось, что мир рушится вокруг него. Медленно и плавно падают стены, выкрашенные в светло-серую краску, проваливается крыша.
Наверное, сели аккумуляторы, пронеслось у него в голове, потому что мысли сбивались, толклись на месте. Он никак не мог сообразить, что сказать, что делать. Рут сама позвонила. Сама позвонила этому лощеному шпику и предала его. Его разрядят. А может, Калеб не допустит… Впрочем, разве это важно? Один. Опять один. Не будет больше тонкой руки в его руке. Не посмотрят смеющиеся глаза из-под рыжей челочки в его глаза. Один. Сволочи. Предатели. Не он предатель. Они предатели. Шпик, шпик, шпик! Он думал, что говорит про себя, но, наверное, он выкрикнул это слово вслух, потому что Уишем покачал головой и сказал:
— Вы можете сто раз назвать меня шпиком, суть дела от этого не меняется. Вы разгласили тайну, и до возвращения мистера Люшеса я вынужден…
Куни встал и бросился на Уишема, но у того в руках каким-то чудом оказался пистолет, и он спокойно сказал:
— Одно движение — и я стреляю. В голову. Пройдите в комнату налево. Там вы будете ждать возвращения мистера Люшеса. Он решит вашу судьбу.
Минуту или две Куни стоял, с ненавистью глядел на невозмутимую физиономию Уишема, потом повернулся и вошел в раскрытую дверь. Умирать было еще рано.
ГЛАВА 28
Удивительно устроен человеческий мозг, будь то серая морщинистая губка в естественном черепе или кибернетическое устройство в противоударном пластиковом корпусе. Я стоял перед редактором «Шервуд Икзэминер» Мэтью Брюгге и думал, как начать самый важный для себя разговор, а может быть, как это ни звучит выспренне, не только для себя, но и для всего человечества.
А в голове почему-то прыгала дурашливая мысль, что письменный стол редактора столь величествен и огромен, что отдельным, наиболее приближенным посетителям разрешается, наверно, влезть на стол и по нему уже подойти к самому повелителю самой большой столичной газеты.
Мистер Брюгге поднял голову, посмотрел не на меня, а на своего сына, стоявшего рядом со мной, и с выражением величайшей скуки на розовом пухлом личике сказал:
— Это и есть тот человек, Уолтер?
Меня не существовало. По сравнению с величественным редактором я был тлей. Тем человеком. Уолтер предупреждал меня, что у отца властные манеры, что я не должен обижаться, что он считает себя чуть ли не мессией, посланным господом богом для просвещения и спасения миллионов шервудцев. И разумеется, для получения с них и рекламодателей изрядной прибыли. Не знаю, как насчет просвещения и спасения, но, судя по кабинету со старинными картинами на стенах, по части, прибылей мистер Брюгге явно преуспевал.
— Отец, я уверен, что… — начал было Уолтер, но отец перебил его:
— Позволь мне самому увериться в чем-нибудь или разувериться.
Он сказал это вовсе не грубо, а, наоборот, с терпеливым смирением человека, который привык разъяснять несмышленому человечеству простейшие истины. Он медленно перевел взгляд на меня и сказал:
— У нас есть пять минут. Надеюсь, этого будет достаточно?
Я понял, что отвечать мистеру Брюгге бессмысленно. Его газета была гигантской фабрикой слов, на девяносто девять процентов бессмысленных, и слова здесь были дешевы, как нигде в мире. Кроме, разумеется, слов самого владельца фабрики, потому что только ему дано было божественное право решать, что есть истина и что полезно и что вредно Шервуду. Поэтому я спокойно снял с себя галстук, нарочито медленно начал расстегивать рубашку, снял и ее. В глазах Мэтью Брюгге мелькнула слабая искорка интереса.
— Что значит этот стриптиз? — нетерпеливо спросил он.
Я ничего не ответил. Я стянул с себя нижнюю рубашку, деловито открыл лючок подзарядки на животе и вытащил шнур. Окно рядом открылось не сразу, я им ни разу еще не пользовался, но наконец я нашел нужную точку, нажал ее, освободив защелку, и поднял крышку. Под ней были предохранители. Я посмотрел на редактора. Взгляд его был прикован к моему животу. Очевидно, он так давно ничему не удивлялся, что забыл, как это делается. Наконец инстинкты восторжествовали, он разинул рот, как мальчуган на представлении иллюзиониста, и подергал себя за нос.
— Что это? — спросил он, и голос его уже отдаленно напоминал голос простого смертного: в нем слышалось недоумение, недоверие и растерянность.
— Ничего особенного, мистер Брюгге, — как можно небрежнее ответил я. — Вы видите перед собой искусственного человека, иска, как мы называем себя.
— Как это, искусственного? В каком смысле?
— В самом прямом. Каждая частица моего тела изготовлена не матушкой-природой, а человеческими руками.
— Но вы… вы разговариваете, как человек… — Редактор подумал и добавил: — Вы вовсе не похожи на автомат…
— Видите ли, в некотором смысле я действительно человек. Я родился пятьдесят два года тому назад…
— Прошу прощения, — он взглянул на часы, — но пять минут уже прошли. Отличный номер, мистер…
— Карсон, — подсказал я.
— Мистер Карсон. Прекрасная работа иллюзиониста, но, к сожалению, у меня нет времени. Всего хорошего.
— Я не иллюзионист, мистер Брюгге. И то, что вы видите, вовсе не цирковой фокус. Если вы когда-нибудь вылезаете из-за своего стола, вы можете сделать это сейчас и своими руками потрогать иллюзию. И убедиться, что я набит моторами и микропроцессорами, что у меня нет легких, желудка, сердца и прочих деталей бедного человеческого тела.
— Но вы же сами сказали, что родились пятьдесят два года назад, — пробормотал редактор.
— Я родился нормальным мальчиком. Я года полтора дул в штаны, потом исправно переболел всем, чем полагается. Пятьдесят два года я был нормальным человеком, по имени Николас Карсон. Я закончил университет в Шервуде, стал физиком, профессором и даже удостоен нескольких премий. Иском я стал меньше года тому назад, потому что меня уверили в скорой и неминуемой смерти. Мне объяснили, что мне представляется уникальный шанс надуть старуху с косой и стать практически бессмертным…
Должно быть, слово «бессмертный» добило мистера Брюгге. Он выполз из-за своего чудовищного стола. Без стола он оказался маленьким и вовсе не величественным человеком. Он забыл о часах и молча слушал мой рассказ. Лишь изредка он качал головой и бормотал что-то. Когда я кончил, он долго молчал, потом сказал:
— Я верю в ваш рассказ о Ритрите. Этого не может быть, говорю я себе, но вы заставляете меня верить. В конце концов, это можно проверить. Но план Омега — здесь я отказываюсь верить вам. Где у меня гарантия, что это не порождение вашей фантазии? Что вы не пытаетесь привлечь внимание к себе? Вы отдаете себе отчет в том, что за обвинения вы выдвигаете против Калеба Людвига? Если на секунду действительно представить себе, что он не умер, а живет в теле иска? Кто нам поверит? Это же смехотворно. И потом, дорогой мистер Карсон, мир столько раз пугали ядерной угрозой, что у людей выработался определенный иммунитет. Газета — это чрезвычайно эфемерная штука. Достаточно один раз оказаться в глупом и смешном положении — и потом потребуются годы, чтобы хоть как-то восстановить репутацию. Если вообще удастся это сделать. Потому что, как только ты ранен, на тебя тут же набрасываются конкуренты и с восторгом вонзают в тебя клыки.
Ритрит — это само по себе грандиозно. Поразительно, как до сих пор такую штуку удавалось скрывать от публики. Ритрит мы разыграем по всем правилам. Фантастическая история. Чего стоит одно лишь бессмертие! Мы дадим серию репортажей, интервью с этими… как вы себя называете?
— Иски.
— Исками. Фото. Грандиозно. Но ядерное харакири — это совсем другое дело. Вспомните, сколько раз уже предсказывали конец света. Сегодня эти прорицания не напечатает ни одна уважающая себя газета. Даже на последней полосе.
Все было бессмысленно. Я метался в лабиринте. Я пробегал несколько шагов и упирался в очередную стенку. Я мог биться о нее лбом до тех пор, пока мой противоударный пластик не расколется и из дыр не посыплются нейристоры моего мозга. Да, они опубликуют один, два, десять репортажей о чудесах кибернетики, об искусственных людях конца двадцатого века, о Калебе Людвиге, о Ритрите.
Миллионы людей в Шервуде и за границей будут читать о городке исков и качать головами: Мэгги, представляешь себе, до чего дошли, люди как автомобили. Сходят с конвейера. Какая, интересно, у них гарантия?
А тем временем палец генерала Каррингтона уже лежит на кнопке судного дня. Еще чуть-чуть, и кнопка мягко вдавится, по электрическим цепям мгновенно проскочат ничего не подозревающие электроны, завоют моторы, сдвигающие многотонные крышки люков, начнут выдвигаться тупые и безразличные морды баллистических ракет. Вспыхнет пламя двигателей, на несколько секунд ракеты повиснут на столбах огня и двинутся к намеченным компьютерами целям.
Кто-то будет еще читать статью о городе исков в раскаленной пустыне, кто-то будет строить планы на будущее, дети будут рождаться, а мир будет уже обречен. И между ядерным пепелищем и жизнью стоял маленький заурядный человечек, который никогда и не мечтал о том, чтобы влиять на судьбы мира. Человечек, который искал покоя в тихой заводи научной речушки, а теперь стоит на пути ракет безумного генерала Каррингтона. Я почувствовал прилив слепой ярости, но подавил ее.
— Я думаю, мы можем добыть доказательства того, что план Омега — не порождение моей фантазии. Вы представляете, что это значит, мистер Брюгге, если вы спасете мир от уничтожения?
— Это фантастично! Если бы это было так! Трудно даже представить себе, что стало бы с нашим тиражом!
— У меня есть план, — сказал я. Я лгал. Плана еще не было, но в голове у меня мелькнула надежда. — Вы правы. Что бы ваши репортеры ни написали о Ритрите, ничто не указывает на день Омега. Действительно, у нас нет никаких доказательств. Но давайте представим себе, что должны думать Калеб Людвиг, Каррингтон и их помощники, если они узнают, что я, Николас Карсон, жив и намерен рассказать обо всем, что знаю, редактору «Шервуд Икзэминер»? А вдруг редактор поверит? Вдруг редактор позвонит своему старому знакомому президенту Шервуда и предупредит его о предательстве, о страшном плане, о помощнике, который должен вырвать президентский пароль для генерала Каррингтона. Что тогда? Что, если президент решит, что такими вещами не шутят, и изолирует своего помощника? Что тогда? Конец безумным мечтам. Крах всего. Бесконечный ярмарочный балаган и бесконечные процессии любопытных — как раз то, что больше всего ненавидит и ненавидел Калеб Людвиг. А может быть, суд? Первый в истории суд над искусственным человеком? Нужно же когда-нибудь начинать. «Мистер Людвиг, расскажите, пожалуйста, как у вас возникла идея уничтожить цивилизацию». Так что же должны сделать Калеб Людвиг и его помощники, если они узнают, что Николас Карсон собирается явиться к Мэтью Брюгге?
— Вы хотите сказать, что…
— Совершенно верно, мистер Брюгге. Совершенно верно. Они должны сделать все, чтобы Карсон никогда не добрался до редактора «Шервуд Икзэминер».
— Но как…
— Обождите, — сказал я властно, и Мэтью Брюгге тут же закрыл рот. Бывают такие мгновения в жизни, когда вдруг ощущаешь беспредельную власть над людьми, и люди беспрекословно принимают эту власть. Я мог сейчас приказать Брюгге прокукарекать, и он бы без звука выполнил приказ. Но мне не нужно было кукареканья. Мне нужно было, чтобы он поддержал мой план, который начал принимать уже более или менее конкретные очертания.
— Кто-нибудь знает о моем приходе сюда? — спросил я.
— Н-нет, — пожал плечами Уолтер Брюгге. — Я никому ничего не говорил. Мистер Карсон пришел ко мне домой. Я уже кое-что знал из рассказов его приятельницы, которая была у меня накануне. Я никому ничего не говорил. Я привел его прямо к тебе, отец.
— Отлично, — кивнул я. — Будем исходить из предположения, что о нашем разговоре никто ничего не знает. Скажите, есть у вас какой-нибудь загородный дом?
— Разумеется. Тот, в котором я постоянно живу. В самом Шервуде у меня тоже, конечно, есть квартира, но я ненавижу ночевать в городе. Мне здесь нечем дышать.
— Тогда вы поднимаете телефонную трубку и звоните в фонд Калеба Людвига. И рассказываете им, что завтра, скажем, в семь часов вечера, в вашу загородную резиденцию должен приехать некий Николас Карсон.
— А почему я звоню им?
— Потому что этот Карсон утверждает, что фонд Калеба Людвига сделал из него искусственного человека. Мало того, намекнул по телефону, что располагает чрезвычайно важными сведениями. История эта настолько необычна, что как главный редактор серьезной газеты, вы не можете довериться одному только человеку и хотите, чтобы при разговоре присутствовал и представитель фонда. Логично?
— Как будто.
— В таком случае можете не сомневаться, что Людвиг и К° сделают все, чтобы не допустить моего приезда к вам.
— Каким образом?
— О, это уже детали. Они пошлют своих людей со строжайшим приказом во что бы то ни стало перехватить меня на пути к вам и уничтожить. Но они не знают, где я скрываюсь. Они не могут знать, в какой машине я поеду. Поэтому их люди будут поджидать меня где-нибудь около вашего дома.
— Но… увидев, что машины с вами нет, они догадаются, что это ловушка. Так?
— Безусловно. Поэтому охотники на меня должны одновременно быть дичью, за которой будут охотиться другие. Можете вы найти специалистов? Только бойтесь любителей. Та сторона настроена серьезно, и это будет меньше всего походить на показательную схватку дзюдо.
— Гм… я думаю, это возможно. Наша газета много лет пользуется услугами частного сыскного бюро. Там есть неплохие люди. Во всяком случае, более надежные, чем наша славная полиция. Но… я только что подумал, а не вызовет подозрений то, что я намереваюсь побеседовать с вами не в газете, а у себя дома? В общем, это довольно необычно.
— Я сам подумал об этом. Поэтому в разговоре с представителем Фонда дайте понять, что история, на которую намекал по телефону этот Николас Карсон, совершенно необычна. Что вы, как главный редактор, решили принять все меры безопасности. В наши дни никогда не знаешь, где и кто тебя подслушивает. А упустить из рук такую сенсацию… и так далее.
— Гм, вполне убедительно. Еще вопрос. Где будете вы?
— К сожалению, я должен напроситься к вам в гости, — сухо сказал я. — Я, мой сын и моя приятельница. Еще до звонка, сейчас же, мы поедем с вашим сыном к вам и будем скрываться там.
— Хорошо, — решительно сказал редактор, — я согласен. — Он направился к своему трону, и как только между нами опять оказался гигантский его стол, я почувствовал себя жалким пигмеем…
Он молча смотрел перед собой, и не нужно было быть великим физиономистом, чтобы понять, о чем он сейчас думает. Величайшая сенсация всех времен. Он, Мэтью Брюгге, входит в историю. Властно и решительно, как в свой кабинет, и так же властно занимает в ней выдающееся место. Словно в истории уже приготовили для него огромный стол.
Может быть, он даже закажет себе визитные карточки: «Мэтью Брюгге, владелец и редактор „Шервуд Икзэминер“, спаситель человечества». Скромно и со вкусом.
Самое смешное было в том, что этот розовощекий человечек действительно сейчас держал в своих ручонках историю. Черт с ним, пусть зарабатывает миллионы или миллиарды на спасении человечества, пусть считает себя хоть господом богом, лишь бы он помог.
Он должен это сделать. Слишком фантастична была наживка, чтобы он мог выплюнуть ее в последнюю секунду. Тем более, он всю жизнь заглатывал все, что мог, от конкурентов до сенсаций.
Музыка плыла по комнате. Нет, не плыла, она то сворачивалась в плотный, упругий вихрь, то расслаблялась и нежно овевала его.
Генерал Иджер погрузился в кресло и весь отдался Моцарту. Генерала не было. Не было комнаты, не было глубокого кресла, обтянутого старой, чуть потрескавшейся коричневой кожей, не было вытянутых ног и не было свалившихся с них шлепанцев. Он ни о чем не думал. Он растворился в музыке, и она прекрасно и грустно несла его куда-то…
Телефонный звонок ворвался в музыку, варварски взорвал ее, и генерал, лишенный поддержки божественных звуков, со вздохом вернулся в свое усталое тело.
— Добрый вечер, — послышался голос Калеба Людвига. — Только что мне звонил главный редактор «Шервуд Икзэминер». С ним вступил в контакт наш общий друг…
— Они уже виделись?
— Нет, завтра в семь часов он должен приехать в загородный дом Мэтью Брюгге. Надеюсь, вы понимаете…
— Я понимаю, — вздохнул генерал. — Я понимаю. Я понимаю, что это вполне может быть ловушкой.
— Ловушкой? Что вы хотите сказать?
— Может быть, я ошибаюсь. Мне очень хотелось бы ошибаться. Но меня всегда настораживают чересчур благоприятные возможности. Мы повсюду ищем нашего друга и вдруг узнаем, что он будет завтра проезжать тогда-то и тогда-то по такой-то дороге. К тому же загородной. Слишком хорошо, чтобы быть правдой…
— Так что же вы предлагаете? Сидеть и ждать, пока он…
— Боже упаси! Ловушка, друг мой, — это взаимоострое оружие.
— Не понимаю.
— Если некто хочет заманить кого-то в западню, то этот некто будет прятаться около нее. А зная это, этот кто-то может стать уже не жертвой, но охотником.
— Это по вашей части. Ловушки, жертвы, охотники — меня это не интересует. Меня интересует, чтобы наш друг не попал завтра к Мэтью Брюгге.
— Меня это тоже интересует.
— Спокойной ночи.
Генерал вздохнул и посмотрел на проигрыватель. Увы, Моцарту придется подождать. Он поднял трубку, позвонил полковнику Ларру и попросил его немедленно приехать.
Владелец частного сыскного агентства «Констант Уотч» Гарольд Тун внимательно посмотрел на Уолтера Брюгге.
— А что это за люди, которые, по вашему мнению, могут попытаться перехватить посетителя вашего отца? Ну, если не фамилии, то хоть их профессия? Если не профессия, то хоть из каких они кругов?
Уолтер подозрительно посмотрел на Туна, пожал плечами.
— Скажем так: есть основания предполагать, что это профессионалы.
— В каком смысле профессионалы?
— В самом прямом, мистер Тун.
— К сожалению, мистер Брюгге, в таком случае я вынужден отказаться. Не могу же я…
— О, вы не совсем правильно поняли меня. Вам не придется действовать против какой-нибудь официальной организации. Мы бы никогда не пошли на это. Просто люди, с которыми вы столкнетесь, могут обладать выучкой профессионалов. Но они будут частными гражданами, не более. Вы понимаете меня?
Владелец «Констант Уотч» несколько раз медленно кивнул, словно подтверждал свои наихудшие опасения. За тридцать лет работы в полиции и частном сыске он привык быть недоверчивым. Если приходит сын главного редактора и говорит, что дело чрезвычайной важности, что вопрос гонорара имеет сугубо второстепенное значение, то должен быть подвох. Ах, не любил он иметь дело с профессионалами. То ли дело чьи-то жены, сошедшие с ума от любви, напившиеся политиканы или сбежавшие из родительского дома юнцы. С ними было все просто. Иногда хлопотно, но все равно просто. Вопрос времени и организации.
Можно было бы, конечно, отказаться. Но обидно потерять такого клиента, как «Шервуд Икзэминер». Это было безумием. Да и гонорар…
— Хорошо, — вздохнул он, — передайте отцу, мистер Брюгге, что мы постараемся сделать все, как надо…
Гарольд Тун налил себе горячую ванну и залез в нее. В воде почему-то думалось лучше. Может быть, она разогревала кровь, и та живей плескалась по жилам, кто знает…
Он закрыл глаза, впитывая тепло. Чем отличаются профессионалы от любителей? В первую очередь недоверчивостью. В чем может выражаться недоверчивость профессионалов, которым сообщают, что завтра им представится отличная возможность убрать какого-то человека? Они могут решить, что это ловушка. С другой стороны, они не могут позволить себе роскошь отказаться от попытки. Значит, они будут пытаться добиться своего, но будут при этом начеку, ожидая подвоха. Из этого и нужно исходить.
Вода в ванной стала остывать, и Гарольд Тун протянул руку, чтобы открыть кран.
ГЛАВА 29
Полковник Ларр не любил задумываться над разумностью приказов начальства. Мир был четок и прекрасен, а сомнения лишь смазывали его строгую красоту. Мир был похож на чертеж, и если ты умел читать его, нельзя было не восхищаться сложностью его и вместе с тем простотой.
И тем не менее, лежа в темноте в кустарнике метрах в пятидесяти от дороги, которая вела к дому Мэтью Брюгге, он никак не мог отделаться от мысли, что на этот раз в чертеже явно что-то напутано. Не его это было дело — лежать на холодной земле, глазеть в ночной бинокль, слушать тихое потрескивание в крошечном приемопередатчике. Не дело полковника, помощника самого генерала Иджера. Такие дела больше подходили людям вроде лейтенанта Макколога, который занял позицию с другой стороны дороги, или — еще лучше — Хилэри Импиата. Может быть, генерал поторопился с Импиатом. Это было его дело, его профессия. С другой стороны, генерал Иджер несколько раз повторил, что задание это чрезвычайно важно, и успешное выполнение его будет настоящим трамплином в его, Ларра, карьере. Господи, быстрее бы. Только что в «уоки-токи» послышался условный сигнал, означавший, что их человек, спрятавшийся недалеко от поворота с шоссе на дорогу к дому, заметил машину с Карсоном. Через сто метров машину поджидали двое их оперативных сотрудников с базуками. Бедняги даже не знают, что их специально выдвинули вперед, чтобы на них вышел противник. Их заверили, что операция на сто процентов безопасна, что бояться нечего и некого и можно даже особенно тщательно не маскироваться. Они не знали, что находятся в пределах видимости еще двух работников Конторы, Ларра и Макколога, которые ни в коем случае не должны пытаться помочь им, если на подсадных уток будет совершено нападение.
Лежать было неудобно, базука давила ему в бок, и полковник Ларр осторожно повернулся. Прелые осенние листья пахли сладкой сыростью и умиранием. На ущербную луну медленно надвигалось облако. Казалось, что и облако и Луна были совсем низко, прямо над вершинами сосен.
Конечно, приятнее было бы сейчас лежать дома, в уютной постели, но постель — не самый лучший в мире трамплин для служебной карьеры, по крайней мере для офицера разведывательной службы, а генерал Иджер никогда не бросает слов на ветер. Такой, казалось бы, мягкий человек, которому слушать да слушать своего Моцарта да потирать переносицу с красными впадинками от очков, а на самом деле кремень. И не дай бог не угодить ему. Как тогда с Ратмэном. Сорок восемь часов. Не найдете — пеняйте на себя. Хорошо, что повезло. А то можно было бы ставить крест на карьере. И хорошо, если только на карьере. В Конторе не любят разочарованных бывших сотрудников. В Конторе любят, когда разочарованные бывшие сотрудники вдруг почему-то отдают богу душу. Не выдерживают, бедняги, безделья…
Он услышал несколько негромких выстрелов, взвыли моторы. Выстрелов из базук не было. Это значило, что ловушка, очевидно, сработала, их люди с базуками схвачены или убиты, и сейчас машина или машины покажутся на дороге. Он осторожно приготовил базуку и в этот момент что-то твердое уперлось ему в спину и тихий голос прошептал:
— Не шевелитесь, иначе я стреляю. Хорошо, умница, а теперь сядьте. Не торопитесь, помочь вам? Только не делайте резких движений, а то вдруг я испугаюсь и случайно нажму на спуск? Стив, надень ему наручники. Вот так, отлично. А теперь пойдемте.
С противоположной стороны дороги послышались два негромких, похожих на хлопки, выстрела, и полковник автоматически отметил: это, наверное, Макколог. Но что значили выстрелы, думать не хотелось, потому что все в нем словно оцепенело. Словно не он брел по прелой листве и не ему упирался в спину твердый ствол…
— Садитесь, дорогой мистер Люшес, — сказал Мэтью Брюгге, — спасибо, что вы приехали. Надеюсь, вы поможете нам разобраться в странной истории Николаса Карсона.
— Кого? — спросил Люшес. — Карсона? Кто это?
— Это долгая история, скоро вы ее услышите.
Раздался телефонный звонок, и редактор взял трубку, удовлетворенно кивнул:
— Спасибо, отличная работа. Да, пожалуйста, проведите гостя.
Он был снисходителен и сиял, и Калеб Людвиг почувствовал, как в нем нарастает беспокойство. Не может быть, пытался успокоить он себя, Иджер ведь не дитя, не мог же он так бездарно провалить операцию. С другой стороны, этот идиот Брюгге сиял, словно новенькая монета, будь он проклят. Господи, он мог бы купить его со всеми потрохами, со всей его паршивой газетой, а вместо этого он должен думать о том, что выкинет этот самовлюбленный щелкопер.
В кабинет вошел полковник Ларр. На руках у него были наручники, за ним следовал человек с пистолетом в руках.
— Садитесь, — сказал Брюгге полковнику. — Простите за наручники, но вы понимаете, элементарная осторожность. — Он повернулся к Люшесу: — Вы знакомы с этим джентльменом, мистер Люшес?
Люшес пожал плечами.
— Что это все значит? — спросил он. — Весьма драматично, но какое это имеет отношение к фонду? Это и есть ваш Николас Карсон?
— Нет, мистер Люшес. Как раз наоборот. Этот человек, как и еще четверо, поджидали, очевидно, приезда Карсона, приготовив для встречи базуки.
Главный редактор «Шервуд Икзэминер» явно наслаждался сценой. На несколько минут можно было отвлечься от истории Карсона и поиграть в детектива-любителя. Игра была приятна. Когда сидишь за своим столом и держишь в руках все ниточки и можно подергать за любую, глядя, как реагирует тот, к кому она привязана, — о, это изысканное развлечение.
— Очень интересно, — пробормотал Люшес, — но я по-прежнему не совсем понимаю…
— Ах, мистер Люшес, ваша скромность не знает границ! Единственный человек, которому я сообщил о Николасе Карсоне и его приезде сюда, — это вы. И стало быть, этот угрюмый джентльмен в наручниках поджидал Карсона по вашему указанию.
Люшес встал.
— Прошу прощения, мистер Брюгге, но, к сожалению, у меня нет времени, чтобы принимать участие в вашем любительском спектакле. До свидания. — Он направился к двери.
— Увы, я должен извиниться перед вами, но дверь заперта, — беспомощно развел руками редактор.
— Это что, арест? С каких пор частное лицо имеет право…
— Прекрасно, мистер Люшес, прекрасно сыграно. Гнев честного человека, чьи права так беспардонно попрали. А вы еще сказали, что не хотите принять участие в нашем маленьком спектакле. Ну что ж, пригласим еще одно действующее лицо. — Редактор снял трубку и сказал: — Пригласите, пожалуйста, Карсона.
Через минуту в двери щелкнул замок, она открылась, и в комнату вошел Николас Карсон. Он увидел Люшеса, улыбнулся и сказал:.
— О, мистер Людвиг, признаться, я не надеялся увидеться с вами…
— Что вы сказали, Карсон? — перебил его редактор. — Вы что-то путаете. Это мистер Вендел Люшес, представитель фонда Калеба Людвига.
— Мы знакомы с мистером Людвигом. И довольно близко. Подобно тому, как я — искусственная копия умершего Николаса Карсона, так и мистер Люшес — копия Калеба Людвига.
Калеб Людвиг не слушал. Все было кончено. Глупо было тешить себя иллюзиями. Все было кончено. Великий план рухнул, и осколки его лежали у его ног. И все из-за ничтожного человечка. Боже, что значил Карсон по сравнению с грандиозностью Плана?! Что значила его бесконечно малозначащая жизнь по сравнению с новой цивилизацией, о которой он мечтал? Но, наверное, в истории всегда так: сражения проигрываются из-за плохо забитого гвоздя, из-за отвалившейся подковы.
Было бесконечно грустно. Жаль было мечты. Жаль было надежд. Ярмарка торжествовала. Балаган всегда был понятнее людям, чем душа, устремленная ввысь.
Если бы он тогда не пытался увлечь за собой Карсона… Уничтожил бы его, растер, как червя. И не было бы сейчас горького отчаяния, не было бы перед ним черной пустоты.
Что-то там говорил Карсон, Брюгге перебивал его вопросами, но все это не имело ни малейшего значения. Ярмарка гудела, суетилась, торжествовала, и он не хотел прислушиваться к ее гомону.
Внезапно он услышал крик:
— Это ложь! Этого не может быть!.
Людвиг открыл глаза. Человек в наручниках кричал:
— Я не верю!
— Можете верить или не верить. Можете спросить у мистера Людвига, вру ли я, правильно ли я излагаю план Омега.
Полковник Ларр повернулся к Людвигу.
— Вы действительно хотели развязать ядерную войну? — тихо спросил он.
Еще одно ничтожество. Еще один червь, скручивающийся от ужаса при мысли о конце. Почему они все так боятся смерти? — думал Калеб Людвиг. Ведь смерть — это покой, это освобождение от суеты сует. И если он не позволил до сих пор, чтобы его унесли ласковые волны небытия, то только из-за Плана. Из-за великой гармонии, которую, как он верил, ему было суждено принести в мир.
Полковник Ларр смотрел на молчавшего Людвига. Значит, это правда. Значит, и он, Ларр, должен был сгореть через несколько дней. И жена его. И двое детей. Все сгорели бы в адском пламени. Превратились в горстку пепла. Эти безумцы хоть спрятались в искусственные тела. А его — в ядерную печку. И в одно мгновение жизненный чертеж, который он привык видеть перед собой, пожелтел, стал коричневым, начал корежиться, скручиваться, вспыхнул и исчез.
И впервые за долгие, долгие годы полковник Ларр растерялся. Как просто все было и ясно, так уверенно шла вверх его жизненная линия на чертеже. И вдруг — ни чертежа, ни жизненной линии. Ни компаса, ни ориентиров, ни маяка. Все предали его. Вот тебе и трамплин, о котором говорил генерал Иджер. Трамплин, который выбросил его из привычной жизни в пустое поле, где его окружали лишь холмики жирного пепла. Эта горстка — смешливая Мэгги, такая веселая и красивая в свои тридцать девять лет. Эта горсточка — дочка Колин, уменьшенная копия своей матери. Эта — сын Роберт, серьезный и вдумчивый человечек шести лет от роду. А эта — он сам. Вьючный мул генерала Иджера. Верный, надежный мул. Только не клок сена держали перед ним, а жизненный чертеж с его восходящей линией. И он бежал, бежал, завороженный этой никому не нужной линией. Бежал, когда был молодым капитаном, бежал и сейчас, сорокапятилетним полковником. Мул, мул, мул… И генерал Иджер спокойно посылал его подготовить ядерную печку: выгрести золу, уложить топливо, приготовить спички. И все с кроткой усталой улыбкой, все слушая Моцарта.
Да будьте вы все прокляты, погонщики мулов!
Он вскочил на ноги. Его голос был спокоен, почти скучен:
— Я полковник Ларр из Разведывательного агентства. Я получил задание от своего непосредственного начальника генерала Иджера уничтожить машину с Николасом Карсоном.
— Вот видите, мистер Людвиг, — сказал редактор «Шервуд Икзэминер», — а вы говорите — любительский спектакль. — Он повернулся к Карсону: — Я прошу прощения за сомнения, но вы должны понять меня.
— Я понимаю, — сказал Карсон, — я все прекрасно понимаю.
Он вдруг почувствовал чудовищную усталость. Сколько дней он был беглым рабом, за которым охотились хозяева. Сколько дней он бежал, прятался, отчаивался и снова бежал. И вот теперь, когда он благополучно пересек ленточку финиша, он не испытывал ничего, кроме бесконечной усталости. Но нет, это было не так. Было что-то еще. Всю жизнь он считался пассивным человеком. Раком-отшельником в тихой норке. И вот волею обстоятельств он выдернут из тихого своего убежища. И восстал против этих обстоятельств. Но теперь он знал, что никогда уже не уползет обратно в норку, не станет снова благополучным раком-отшельником. Случилось так, что безумный миллиардер Людвиг проиграл. Но система ежесекундно порождает новых людвигов, пусть в основном не таких богатых и не таких безумных. И где гарантия, что очередному людвигу не удастся очередной безумный план? А систему не пересидишь в норке. Стало быть… Он не знал еще, что будет делать, как сложится его жизнь, но в одном был уверен — раком-отшельником он больше не будет никогда. И ощущение это наполняло его непривычной беспокойной гордостью.
— Мистер Брюгге, — сказал он, — я хотел бы отдохнуть. Если вы не возражаете, я выйду.
— О, ради бога, дорогой мистер Карсон, ваш сын и приятельница ждут вас.
Гуннар и Луиза вскочили, когда он открыл дверь.
— Все в порядке, — сказал он.
— О Ники! — крикнула Луиза и обняла его за шею. — О Ники, неужели все позади? Я не верю. Я так привыкла прятаться и трястись от страха. Мне и сейчас хочется забиться в угол и дрожать за тебя.
— Боюсь, нам придется отвыкать дрожать — это не лучший способ борьбы со всяческими людвигами. — Он повернулся к сыну: — Спасибо, Гунни.
— Ну что ты, папа… Когда Луиза нашла меня, я поймал себя на мысли, что испугался ее.
— Ее? В каком смысле?
— Мне казалось, что я начинаю обретать душевный покой. Драйвэлл представлялся мне маленьким островком в холодном чужом море. Домом. Или почти домом. Я молился. Я молился, чтобы найти мир в своей душе. Были мгновения, когда наступило безмятежное спокойствие, И вдруг приходит Луиза. О, как мне хотелось, чтобы никто не беспокоил меня, не тащил в это житейское море, которого я так боюсь! Конечно, сердце мое болело за тебя, папа. Но я… Что я мог сделать? — спрашивал я себя.
— Но ты же вспомнил об Уолтере Брюгге, — сказала Луиза. — И не колебался, когда поехал со мной. Ты же мог сказать себе: это бессмысленно. Он не поможет. Он не поверит. Он и не хотел ведь верить вначале.
— Вы не понимаете, почему у меня сейчас нет покоя в сердце, — печально сказал Гуннар. — Я поехал потому, что просто не мог не помочь отцу, который всегда был добр ко мне. И если мне действительно посчастливилось помочь тебе, папа, и всем людям, то невольно я начинаю думать: а может, стремление помочь человеку не меньшая сила, чем молитва? Я спрашиваю себя: ну хорошо, остался бы я в Драйвэлле и не поехал с Луизой. Молился бы. Допустим, я бы не думал об отце. Допустим даже, что наступил бы душевный покой. Мог бы этот покой помешать Людвигу и его людям взорвать мир? Увы, нет. А покинув Драйвэлл, я сам попытался помочь человеку, я сыграл какую-то роль в спасении всех людей. И мысль эта смущает меня… — Он опустил голову, и в голосе его послышалось страдание. — Ее нельзя прогнать, понимаете, нельзя… И эта простенькая, маленькая упрямая мысль бульдозером крушит все мои прошлые искания, цели — дом, который я строил в отчаянии и надежде. — Он тяжко и глубоко вздохнул.
— Бедный Гунни, — сказал я, — придется тебе, наверное, покинуть свой маленький уютный островок. Не веришь ты в своего придуманного бога, как бы тебе не хотелось покоя… Хочешь не хочешь, а нам с тобой обоим пришлось выползти из жизненных траншей и взглянуть в глаза фактам. И они взорвали твоего хрупкого бога и мою ученую страусиность.
— Я пойду в свою комнату, — сказал Гуннар, — полежу немного.
Мы остались одни. Какое счастье, что мне не нужно было разговаривать с Луизой! Странное оцепенение сковало мой мозг, и я не смог бы сейчас вымолвить и слова. Но никакие слова не были нам нужны. Мы стояли, прижавшись друг к другу, и молчали.
ГЛАВА 30
-Обвинение приглашает копию генерала Каррингтона, известного в Ритрите под именем Антуана Куни, — сказал судья. Третий день шел процесс, а он все еще никак не мог привыкнуть ко всем этим искусственным людям, к копиям, и возбужденное его любопытство заставляло его чувствовать себя совсем молодым, как сорок лет назад, когда он вел первый свой процесс.
Антуан Куни медленно встал, сделал несколько шагов и остановился у свидетельского пульта. Зал судебного заседания был переполнен, но все молчали.
— Вы искусственная копия генерала Каррингтона, сделанная с его согласия и по его предложению? — спросил обвинитель, маленький чернявый человечек, похожий на жука.
— Да, — сказал Куни.
— В Ритрите вас знали под именем Антуана Куни, так?
— Да. Лишь члены совета директоров знали мое истинное имя.
— Соглашаясь и предлагая изготовление своей копии, вы ведь знали, генерал Каррингтон, о плане Омега?
— Да, знал.
— Простите, ваша честь, — вскочил адвокат генерала Каррингтона. — Защита заявляет протест. Обвинение хочет использовать показания копии генерала Каррингтона против самого генерала. Это нарушает все наши юридические представления и нормы.
— Каково мнение обвинения? — спросил судья. — Я не вижу никакого нарушения юридических норм. Спора нет, нынешний процесс в высшей степени необычен, и никаких прецедентов в истории юриспруденции не было. И поэтому, мне кажется, мы должны в основном руководствоваться здравым смыслом. А здравый смысл подсказывает: если копия полностью соответствует оригиналу — а это нам было здесь уже не раз продемонстрировано, — то можно рассматривать их как одно лицо. И, задавая вопросы мистеру Антуану Куни, я как бы задаю вопросы самому генералу Каррингтону, присутствующему здесь. А в этом, согласитесь, даже при желании нельзя усмотреть нарушение наших основных юридических норм.
— И тем не менее, — снова поднялся адвокат, — это не совсем так. Да, мистер Куни является копией моего подзащитного генерала Каррингтона. В этом смысле его действительно можно рассматривать как генерала Каррингтона. Но с другой стороны, с того самого момента, как с генерала была снята копия, эта копия начала жить своей обособленной от оригинала жизнью. В то время как генерал выполнял свои служебные обязанности в вооруженных силах Шервуда, господин Куни жил в весьма своеобразных условиях Ритрита, о быте и нравах которого мы уже столько слышали с начала процесса. В частности, я бы хотел обратить внимание судьи и уважаемых членов жюри на основное занятие мистера Куни — чтение проповедей. Согласитесь, что это довольно необычная деятельность для офицера.
— Простите, ваша честь, — сказал обвинитель, — защита пытается завести процесс в тупик бесконечных споров. Но я думаю, что подобная обструкционистская политика никому не даст пользы. Если мы начнем исследовать сейчас вопрос, почему тот или иной человек испытывает в глубине души тяготение к чему-то, не имеющему никакого отношения к его основной, так сказать служебной, деятельности, мы будем буксовать на месте долгие дни. Мы должны будем вспомнить королей, которые любили вышивать, физиков, которые не могли дождаться вечера, чтобы побыстрее взять в руки скрипичный смычок, министров, думающих о своей филателистической коллекции, и так далее.
— Достаточно, мистер Себастиан, — улыбнулся судья, — не увлекайтесь так красноречием. Я склонен согласиться с вашей точкой зрения. Можете задавать вопросы мистеру Антуану Куни, он же копия генерала Каррингтона.
Как сказал адвокат, подумал Антуан Куни, копия начала жить своей, обособленной от оригинала, жизнью? Что ж, это верно. Он взглянул на угрюмого пожилого человека, сидевшего на скамье подсудимых, на набрякшее морщинистое лицо, которое столько лет видел в зеркале, и понял, что смотрит на него равнодушно, как на совершенно чужого человека. Мало того, человека не слишком ему симпатичного.
— Мистер Куни, вы не возражаете, если мы будем обращаться к вам так, чтобы не путать с вашим оригиналом?
— Нет, — сказал Куни.
— Отлично. Защита утверждает, что никакого плана Омега никогда не существовало, что все это чистейшая фантазия. То же, естественно, утверждает и генерал Каррингтон. Вы говорите, что план Омега существовал. Что заставляет вас делать это? Строго говоря, вы выступаете против самого себя.
Это был сложный вопрос. В тот момент, когда он понял, что Рут Дойчер — соглядатай генерала Иджера, когда вдруг осознал, что за ним шпионили, за ним, одним из вдохновителей Плана, — что-то перевернулось в нем. Он ненавидел рыжую женщину, что так ловко провела его, и вместе с тем не мог забыть странного волнения, которое охватывало его, когда он держал ее тонкую руку в своей. Нет, он лгал себе. Он должен был ненавидеть ее, но не мог. Но заряд ненависти требовал выхода. И ненависть обратилась и против кроткого генерала Иджера, и против своего оригинала, и против самого Калеба Людвига. Это они заставили Рут шпионить за ним, это они покатывались, наверное, со смеху, когда выпытывали у нее, что лопотал этот сошедший с ума генерал-проповедник, влюбленный олух.
Ненависть все настаивалась и настаивалась в нем долгими днями, с того самого момента, когда генерал Иджер с издевательски-кроткой улыбкой сказал ему, что он арестован. Она густела, накалялась, она, словно раскаленная лава, искала выхода, искала малейшие трещинки в его сознании, чтобы подняться по ним и выплеснуться наружу. И нашла, наконец. План. Он не мог поверить себе, что его могли увлечь безумные видения тех, кто потом предал его. Раньше день Омега всегда представлялся ему неким очищением, великим торжеством разума над слепой природой. Он видел План глазами стареющего генерала, который всю жизнь по крупицам копил в себе угрюмую ненависть ко всем, кто был не похож на него. Но человек редко признается себе, что движим ненавистью. Человек постоянно играет в бесконечном своем душевном театре, где на самые гнусные повороты мысли или движения сердца тут же надеваются благообразные маски. Но произошел взрыв, маски сгорели, и он впервые в жизни увидел себя таким, каким был: одиноким, озлобленным, полуобезумевшим мизантропом.
Прав, тысячу раз прав был адвокат, когда говорил, что копия и оригинал — это не одно и то же. Но это их дело, пусть говорят. Они спрашивают, почему он, копия генерала Каррингтона, говорит о Плане, когда другие обвиняемые отрицают его существование. Как объяснить им?
— У меня было время еще раз подумать, — тихо сказал он, — представить себе, что такое ядерное уничтожение. Не знаю, что сейчас испытывает мой оригинал, но сдается мне, то, что происходит, не так уж странно и не должно смущать суд. Ведь и в одном человеке часто борются разные движения души. Сегодня генерал Каррингтон и я — раздвоившаяся душа не только в переносном, но и в прямом смысле этого слова.
— Спасибо, мистер Куни, — мягко сказал обвинитель, — я верю, что ваши слова идут от души.
— По крайней мере, от моей части души генерала Каррингтона, — усмехнулся Куни.
— Скажите, что, с вашей точки зрения, сегодняшней точки зрения, руководило мистером Людвигом, когда он вынашивал план Омега?
— Я думал об этом, — задумчиво кивнул Куни. — Не раз. Он безусловно незаурядный человек. Чтобы полвека плавать в море, кишащем акулами, и не только не быть съеденным, но и самому пожрать почти всех своих конкурентов, нужно быть выдающейся личностью. У него были сотни миллионов, а может быть, миллиарды. Они вознесли его высоко над простыми смертными, которые копошатся внизу в ежедневной драке за кусок насущного хлеба. Наверное, ему было там одиноко. Наверное, ему казались смешными все мы, кто был внизу.
Всю жизнь он посвятил наживе и стал чудовищно богат. И стало быть, обладал огромной властью. И тем не менее он чувствовал приближение конца. И все в нем восставало при мысли, что он, столь высоко вознесенный над толпой, должен умереть, как ничтожнейший служащий его финансовой империи. Вот почему он ухватился за идею искусственных людей.
Но Людвиг, насколько я знаю его, никогда не останавливался на полпути. В этом, может быть, и была его сила. Идея избранности, овладевшая им, когда он купил себе бессмертие, требовала развития, а глубочайшее презрение к роду человеческому породило в конце концов план Омега…
— Скажите, мистер Куни, а такие чувства, как жалость, сострадание, ужас, наконец, при мысли о сотнях миллионов обугленных трупов, — неужели они были совершенно чужды мистеру Людвигу? — спросил обвинитель.
— Людвиг жил в мире абстракций. До какого-то предела деньги и власть — реальность. Повседневная реальность. У него было столько денег и столько власти, что они превратились в некую абстракцию. Они не укладываются в сознание. И уж тем более стали абстракцией обыкновенные люди и их судьбы. — Куни помолчал несколько секунд, пожал плечами. — Я, генерал Каррингтон, тоже ведь жил в мире абстракций. У меня не было миллиардов, не было его влияния. Но долгие годы я жил в мире мегатонных орудий уничтожения и многомиллионных жертв, которые они потенциально содержали в себе. И эти бесчисленные миллионы жертв тоже стали чистейшей абстракцией для меня. Поэтому-то мы так хорошо понимали друг друга с Калебом Людвигом…
Калеб Людвиг почти не слышал, что говорил Антуан Куни. До него доносились обрывки фраз, но мешал громкий шорох, который все усиливался и усиливался, пока не заглушил все другие звуки. И перешел в громовой хруст и скрежет. И вдруг он увидел муравьев. Они были огромны, глаза их свирепо сверкали и жвалы плотоядно шевелились. Они хлынули в зал и устремились к нему. Он повернул голову, но и сзади полчища муравьев приближались к нему. Их поступь была нетороплива, и в ней чувствовалась неотвратимость.
Они приближались к нему, и он громко закричал. Он не хотел, чтобы они касались его, а они все подползали, подползали. Еще секунда — и они впились в него. Треск, шорох, хруст заполнили весь мир.
— В чем дело, мистер Людвиг? — спросил судья. — Вы что-то хотите сказать?
Но Калеб Людвиг не отвечал. Как он мог ответить, если страшные твари уже копошились в его мозгу, грызли его, растаскивали по крупинке. Он качнулся и упал вперед, лицом вниз.
Судья вскочил на ноги.
— Врача! — крикнул он. — Здесь есть врач?
— Боюсь, нужен не врач, а техник, — сказал Антуан Куни.
— Пусть техник, пусть инженер, кто угодно, но посмотрите, что с ним!
Техник склонился над лежавшим, долго копался в его предохранителях, потом недоуменно пожал плечами и пробормотал:
— Ничего не понимаю, ваша честь. Все как будто в порядке, цепи все целы, а тока нет…
В зале задвигались, зашумели, и судья повысил голос, чтобы перекрыть шум:
— Суд объявляет перерыв.
Для меня это тоже был лишь короткий перерыв. Я знал, что никогда больше не перестану быть обвинителем. Или хотя бы свидетелем обвинения против мира людвигов…

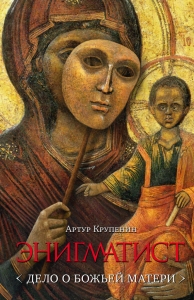
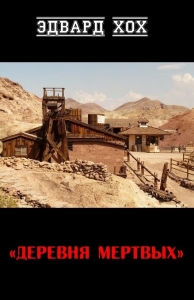




Комментарии к книге «Иск», Зиновий Юрьевич Юрьев
Всего 0 комментариев