Максим Дегтерев Карлики
Нет ничего явного, что не попытались бы сделать тайным
Дэвид М.Гиптфил. О тайном и явномС ищущего да взыщется..
Апокриф ЗенонаГлава первая: Задание.
1
Если я не на задании и не в отпуске, то начинаю свой день с просмотра накопившихся за ночь новостей. На каждый год приходится в среднем двадцать таких дней, поэтому утренний просмотр новостей нельзя считать моим регулярным занятием. Но сегодня именно такой день. Разумеется, все новости узнать невозможно, да и не нужно. Для того, чтобы не тратить попусту время и не забивать себе голову всякой ерундой, я использую фильтры. По заданному правилу фильтры сортируют сообщения, поступающие со всех концов обитаемой части Вселенной, тем самым значительно облегчая мне работу. Самый главный фильтр отделяет хорошие новости от плохих, отдавая предпочтение именно плохим, поэтому новости с Земли до меня практически не доходят или все же доходят, но с большим опозданием. Для моей работы хорошие новости не нужны.
Строго говоря, любые новости с Земли до нас доходят не сразу. Потому что наш сектор находится от Земли довольно-таки далеко. Настолько далеко, что если землянину сказать каталоговые наименования тех звезд, что образуют наш сектор, то он в ответ только пожмет плечами. Поэтому все говорят просто: Сектор Фаона. Фаон — это название планеты, где мы живем — единственная приличная планета в нашем секторе. Я считаю это название красивым, а Татьяна — древнегреческим, и тут нет никакого противоречия. «Оркус» — тоже красивое название, и планета с таким именем тоже находится в нашем секторе, но ее жаркий влажный климат мне не подходит. В определенном смысле, Фаон можно сравнить с высокогорным курортом, в то время как Оркус — курорт, скорее, тропический. Я знаю, мне возразят, мол, стоило ли называть тропический курорт именем древнеримской богини смерти. Отвечу, что название «Оркус» не имеет никакого отношения к богине смерти, как, впрочем, и к любой другой богине. Первоначально, планета называлась «Орхус» — так же как небольшой датский городок (это на Земле), откуда был родом то ли первооткрыватель Оркуса, то ли кто-то из первых переселенцев. Затем, название из «Орхус» трансформировалось в более благозвучное «Оркус», а о древнеримских богинях никто и не подумал…
Итак, сегодня у нас пятнадцатое августа по синхронизированному времени, понедельник. Плохих новостей немного, а действительно новых среди них и того меньше. «Нарушение канала дерелятивизации в подсекторах А-6 и Б-5», — предупреждает диктор. Это означает, что несколько межпланетных рейсов придется отложить. Диктор продолжает: «Зафиксировано возрастание радиоактивного фона в районе северного полюса». Куда «зеленые» смотрят, спрашивается? «Близится конец света! Сверхновая в системе Плерома вот-вот взорвется! Спешите застраховать свое имущество в „Глобальном Страховом Обществе“». Я уже много раз объяснял нейросимулятору, что вспышка сверхновой — еще не конец света, к тому же, это далеко не новость, но — бесполезно — реклама все равно прорывается. Дальше… «Пожар на биохимических заводах концерна „Фаон-Дюпон“ в районе Южного Мыса, есть жертвы. Причины выясняются», — вот это действительно неприятно. Новость о том, что «поток заряженных частиц грозит нарушить связь с терминалом» оказалась последней среди тех новостей, что относятся непосредственно к Фаону. Плохие новости с других планет были таковы, что за то время пока они шли до Фаона, последствия неприятных событий, послуживших поводом для этих новостей, наверняка уже успели ликвидировать, поэтому такие новости не заслуживают даже простого перечисления. И это нормальное явление — ведь мир так устроен, что с опозданием приходят сообщения о событиях, случившихся вдалеке от нас, следовательно, имеющих к нам мало отношения. И наоборот, больше всего на нас влияет произошедшее совсем рядом, но и узнаем мы о местных происшествиях гораздо раньше других. В этом смысле, мир устроен мудро.
— Федр, свари кофе! — донеслось из ванной. Тут необходимо пояснение. С того момента, как мои родители узнали, что у них будет мальчик и до того, как мне исполнилось четыре года, и я пошел в детский сад, меня звали Фёдором, но потом понеслось: Фред, Тэд, Тод, а Татьяна зовет меня Федр — через "е". И когда чем-нибудь недовольна, то рычит вот так: «Федррр». Никак не отучу. Мать с отцом не знали на что меня обрекают, давая такое имя. Еще буквально пару слов о родителях. Родные и близки в один голос уверяют, будто страсть к разгадыванию тайн ко мне перешла от отца, в то время как от матери мне перепало смутное подозрение, что на одной только страсти к разгадыванию тайн в жизни далеко не уедешь. Вот о чем умалчивают и родные и близкие, так это о том, что ни от отца, ни от матери я не получил никаких инструкций по поводу того, куда и на чем в этой жизни надо ехать.
Справедливости ради, нужно отметить, что вопрос о средствах и направлениях скорее философский нежели генетический. У нас в Отделе, с философскими вопросами мы обращаемся к Берху. Взамен мы получаем не менее философские ответы. Вопросы на ответы обмениваются один к одному и это, пожалуй, единственный принцип, которому Берх следует неукоснительно. Что же касается Татьяны, то если бы она потрудилась покричать погромче, то ее услышал бы не только я, но и кухонный комбайн. Повинуясь ее голосу, он тут же сварил бы ей кофе. Мой голос фонетический транскриптор почему-то не декодирует, поэтому кухонный комбайн слушать меня напрочь отказывается. И я подумал: «Какой ей еще кофе, она же сама обещала сварить.» Однако безропотно пошел на кухню и вручную сварил что просили. Затем, не дожидаясь пока Татьяна вылезет из душа, попробует кофе и в очередной раз скажет, что мне ничего нельзя доверить, я сделал два глотка, обжегся, нацепил положенные мне по службе причиндалы и поспешил на свидание с шефом.
2
О своей работе короче всего могу сказать так: я работаю на шефа — и на этом поставить точку. Но я скажу больше: шеф возглавляет Отдел Оперативных Расследований одной малоизвестной организации, точнее, ее фаонского филиала. История организации уходит своими корнями в далекое прошлое. Когда все человечество умудрялось жить на одной маленькой Земле, организация тоже была маленькой, и называлась она то ли «Международная полиция», то ли «Международное бюро расследований», то ли как-то еще, но в том же духе. Минула одна сотня лет, другая, начали осваиваться далекие планеты, и у организации появились филиалы. Их становилось все больше и больше, а, поскольку, как говорит шеф, нельзя дважды войти в одну и ту же плазму, то и филиалы организации с какого-то момента начали жить своею собственной жизнью. И есть ли на свете кто-то Главный — тот, кто дергает за ниточки, сказать трудно. Меня, во всяком случае, никто кроме шефа не дергает.
На тянучки с хруммелями мы зарабатываем выполняя заказы от различных коммерческих компаний — тех, что стали жертвами вымогателей или мошенников. Но и о своем гражданском долге мы не забываем, оказывая бесплатное содействие Службе Общественной Безопасности, а так же попавшим в беду простым гражданам. Но иногда судьба подкидывает такие дела, что и вправду поверишь в существование таинственного Главного, — о таких делах говорят вполголоса, а по завершении — стараются забыть, как о ночном кошмаре. Поэтому, отныне и навсегда, — я буду я, шеф — Шефом, а наш филиал организации — Редакцией (и тому есть свое оправдание). И еще — я буду очень скуп на подробности. Как говорит Шеф, подробности ищите на последней полосе в разделе некрологов.
Кроме своеобразного чувства юмора у Шефа есть еще неприятная привычка во время любого, даже очень серьезного разговора, постоянно крутить в руках небольшой кусочек тонкой медной проволоки. И в зависимости от содержания разговора проволочка может принимать самые причудливые формы: от правильных геометрических фигур, до людей и животных — узнаваемых и не очень. Мой коллега Берх говорит, что по форме проволочных фигурок он может определить настроение шефа, а, подчас, и прочитать его мысли. По части настроения я еще готов ему поверить, но вот мысли — нет уж, увольте, не верю.
Сегодня Шеф мастерил проволочного человечка. Человечек долго не давался — то руки оказывались разной длины, то для правой ноги не хватало проволоки. Проволочник (так я назвал человечка) оказался очень капризен — он упорно отказывался сидеть или стоять. Только лежать он мог без посторонней помощи. Манипуляции с Проволочником оказали на меня гипнотическое действие: когда Шеф для равновесия вывернул ему руки, я почувствовал болезненный укол в плечевом суставе и невольно дернулся так, как иногда случается с людьми, задремавшими в неудобной позе.
— Ты что, спишь что ли? — рявкнул Шеф — должно быть краем глаза следил за мной. Неужели я действительно задремал? Последние полчаса Шеф просматривал материалы по делу, которое я только позавчера закончил. Одновременно он мастерил Проволочника. Материалы в комментариях не нуждались, и занять себя в эти полчаса мне было нечем. Кресло, в котором я сидел, большое, старомодное, с обивкой из кусков коричневого вельвета и замши, обладало странным свойством казаться теплым, едва садишься, — будто бы кто-то только что из него встал. Оно было чертовски удобным, а я за последние двое суток спал от силы часа три, так что не мудрено и уснуть.
— Нет, просто задумался, — ответил я поспешно.
— Что ты знаешь об Институте Антропоморфологии? — спросил Шеф ни с того ни с сего. В моем отчете об Институт Антропоморфологии не было ни полслова.
Ага, думаю, стало быть, не зря он скрутил из проволоки именно человечка! Неужели, опять контрабанда биороботов. Я принялся судорожно размышлять над тем насколько для меня чревато проявить полную неосведомленность относительно института — с Шефа станется передумать и отдать новое дело кому-нибудь другому.
— Они работают над чем-то связанным с биоконгруэнтностью, вот только не помню точно над чем, — ляпнул я.
Слово «биоконгруэнтность» возникло само собою откуда-то из запасников памяти — оттуда, где хранится многочисленные и по большей части бесполезные обрывки информации, почерпнутой из всевозможных научно-популярных изданий. Звучало оно длинно и убедительно. Более того, я был абсолютно уверен в том, что биоконгруэнтность не имеет ни малейшего отношения к вышеназванному институту, как и в том, что Шефу это слово абсолютно неизвестно.
— Ну да, что-то вроде этого, — пробормотал шеф и подозрительно посмотрел на меня. — Стало быть, мне не нужно рассказывать тебе, чем этот институт занимается?
— Я посмотрю наше досье, если понадобится, — не желая утруждать Шефа, бодро ответил я.
— Вот-вот, посмотри. Яна подготовила для тебя кое-какие материалы. Суть дела в следующем. Две недели тому назад — ты был тогда на задании — к нам за помощью обратилась компания «Фаон-Информканал». В их ведении находятся информационные сети, системы связи и накопители, включая большой Накопитель Фаона. Точнее, они сперва обратились в Отдел Информационной Безопасности. Проблема, с которой столкнулась компания, выглядела вполне банальной. Кто-то уничтожил часть информации с наших накопителей. Удалось выяснить, что информацию уничтожил нейровирус, и что заслан он извне, то есть через Канал. На хулиганство это непохоже — информация уничтожалась выборочно. Такое впечатление, что автор вируса терпеть не может биологии, а в особенности же — биологии человека. Люди из ОИБ стали проверять другие локусы, где могла храниться аналогичная информация, и, в результате, они пришли к одному странному выводу: злоумышленник упорно уничтожал все, что связано с генетической антропоморфологией. Персональные накопители и накопители других планет они пока не проверяли — это дело практически невыполнимое — в разумные сроки и за разумные деньги, я имею в виду. Из всей потерянной информации удалось восстановить только ту часть, что в свое время переползла в другие сектора.
— То есть по копиям, — уточнил я.
— Ну да, по копиям. Из соседних секторов жалоб пока не поступало, поэтому есть надежда, что вирус не попал по Каналу в их накопители. Но локализовать источник вируса и установить, в чем же состоит настоящая цель преступника, ОИБ не удалось, поскольку в каждом случае слишком много разных данных было уничтожено. Возможно, научные конкуренты пакостят, или очередной сумасшедший гений мстит за то, что его отвергли. В общем, пока это загадка…
— Да, я понял, но мы то тут при чем? Неужели в ОИБ своих людей не хватает?
— Ты сперва дослушай, вопросы потом будешь задавать. С чего я начал?… Правильно, с Института Антропоморфологии, — Шеф не дождался пока я сам отвечу. — Он пострадал в числе остальных. Вирус уничтожил ряд институтских локусов на их собственном накопителе. А на чьей территории находится институт? Правильно — на нашей (я даже не пытался ответить). Виртуальным пространством пусть занимается ОИБ — мы туда не лезем, а вот реальное, это уж извините, не их дело. Так вот: займись этим институтом. Не исключено, что создатель вируса — один из его бывших или нынешних сотрудников.
— Иными словами, вирус был заслан через Канал лишь для отвода глаз. По дороге он потер локусы на большом Накопителе, а, дойдя до института, занялся уничтожением нужной ему информации.
— Может быть и так, а может — иначе. Не знаю. Съезди в институт, побеседуй с сотрудниками — вдруг что-нибудь раскопаешь. Яна подготовила досье на некоторых сотрудников института, а что ОИБ успел нарыть — в текущих делах найдешь, под твоим кодом уже лежит. Если еще что понадобится, ищи, где сочтешь нужным. Вопросы есть?
Да какие тут вопросы. Вопросы не возникают на пустом месте. А много ли он мне сообщил? Я слишком хорошо знаю Шефа, и, если он дает задание вроде «иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», то это вовсе не оттого, что он сам не знает, чего ему надо. Шеф, хоть и ниже меня на голову, но и на столько же — умнее. И свои собственные соображения он любит держать при себе — до поры до времени. Вариант: сотрудники ОИБ засветились, где не следовало, и теперь им нужны независимые люди. Поэтому я ответил:
— Все ясно, вопросов нет.
— В самом деле? — Шеф не поверил своим ушам. — Ну тогда ступай, раз нет вопросов. Да, там Татьяне привет передавай… — он был, по-видимому, в хорошем расположении духа.
— Обязательно передам, — пообещал я и удалился к себе в кабинет.
Наши с Шефом кабинеты находятся на одном этаже. И размером мой кабинет не меньше шефского, но лишь по одной причине — он у нас с Берхом один на двоих. Расследование стоило начать с самого простого, а именно, с тех данных об институте, что лежат в открытом доступе. Открытые данные были организованы по давно заведенному правилу: история создания института, круг изучаемых вопросов, названия отделов и научных программ, список сотрудников (всего шестьсот человек). Я пришел к выводу, что открытых данных либо слишком много, либо слишком мало. Посматривая краем глаза в отчет ОИБ, я начал просматривать досье на сотрудников, чьи локусы пострадали от вируса. Таковых было пятеро:
Дэн Симонян, заместитель директора, заведующий отделом Прикладной Генетики, тридцать девять лет, женат, двое детей — девочки, пятнадцати и восьми лет соответственно. Интересно, о чем Яна думала, когда писала слово «соответственно». Возраст Яна указывает в собственных земных годах — так полагается делать во всех официальных документах. В дальнейшем я буду поступать точно так же.
Лесли Джонс, Отдел изучения Ретро… Транспо… Трансзо… нет, это название я и под пыткой не выговорю… старший научный сотрудник, двадцать шесть лет, не женат, детей, насколько известно Яне, не имеет. Что-то он слишком молод для «старшего», подумал я.
Альм Перк, руководитель Лаборатории Тонких Нейроструктур, лауреат всего чего угодно, пятьдесят пять лет, состоит во втором браке, имеет от второй жены ребенка — мальчика пяти лет от роду.
Фил Шлаффер, Доминантные Структуры, заведующий отделом, сорок четыре года, женат, причем — трижды, имеет семнадцатилетнего сына от первого брака.
Лора Дейч, Лаборатория Тонких Нейроструктур, тридцать два года, ни мужа, ни детей. Хм, симпатичная, — я невольно засмотрелся на ее снимок. Дальше шла приписка, что, мол, список пострадавших составлен со слов самих пострадавших.
Я откинулся в кресле и положил ноги на стол. Если бы Шеф увидел меня в такой позе, он бы подумал, что у меня нет никакого желания заниматься делом Института Антропомофологии. И он был бы прав. Своим отношением к сотрудникам Шеф в зародыше подавляет любой здоровый трудовой энтузиазм. Берха Шеф в последнее время шпыняет, как мальчишку, хотя тому уже сорок один год, и он один из наших самых опытных сотрудников. Меня, ни словом не поблагодарив за успешно завершенное расследование и, не дав отдохнуть даже пару деньков, загружает новым делом, которое, вдобавок ко всему, еще и не по моему профилю. Когда я не испытываю особого энтузиазма по поводу очередного расследования, я пытаюсь найти разгадку не выходя из кабинета. За те три года, что я работаю в Отделе, мне лишь однажды удалось вот так, сидя в кресле, найти преступника. Что и говорить — статистика печальная, но я не теряю надежды повторить достижение.
Хотя кабинет у нас с Берхом один на двоих, нам в нем не тесно — мы редко видимся с ним на рабочем месте. Обычно, либо я, либо он, на задании. Общаемся же мы, по большей части, через комлог. Он очень замкнутый — этот Берх, слова лишнего из него не вытянешь. Но он мне симпатичен, поэтому я очень обрадовался, когда вдруг услышал знакомые шаги за спиной, скрип соседнего кресла. Берх буркнул «Привет» и напялил нейрокоммутатор. Лично я предпочитаю пользоваться архаичной мануалкой, дабы не терять связь с внешним миром. Для работы это очень даже полезно.
— Привет, — говорю, — ты чего, не в духе?
Мог бы и не спрашивать: кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы Берх был в духе?
— Нет…, ну что за бред! — Берх ударил кулаком кого-то очень виртуального и что есть силы оттолкнулся ногами от стола, отчего его кресло отъехало аж до противоположной стены, а кабель коммутатора едва не порвался.
— Давай выкладывай, что на этот раз.
Молчание и изредка — сопение.
Стоит только побывать у Шефа, как заражаешься его, скажем так, не совсем вежливыми манерами. А с Берхом так нельзя. Он человек легко ранимый и разговаривать с ним нужно деликатно, а я — «Давай, выкладывай». Нет, так не годится. Я сделал второй заход:
— Слушай, мне необходим твой совет…
Таких вещей Берх мимо ушей не пропускает.
— Так бы сразу и сказал. Что стряслось? — вмиг отозвался он.
— Представь себе абстрактную ситуацию…
— Представил.
— Погоди, я же еще не объяснил — какую.
— Тогда она уже не будет абстрактной, — саркастично заметил Берх.
Вот и разговаривай с ним после этого.
— Хорошо, — вздохнув, согласился я, — пусть будет не абстрактная, а более-менее конкретная ситуация…
— Это совсем другое дело, — признал он и тоже вздохнул. Я продолжил:
— Так вот. Представь себе, что есть шестьсот человек и пятеро из них утверждают, что они пострадали от рук неизвестного преступника. Преступник находится среди этих шестисот. Если бы ты был этим преступником, стал бы ты называть себя среди пострадавших?
— А проверить, кто на самом деле пострадал, а кто — нет, нельзя?
— Нет, о преступлении известно только со слов пострадавших.
— В любом случае, глупо причислять себя к жертвам, когда их пять на шестьсот, ведь любой следователь начнет работу именно с них. Вот если бы пострадавших было человек триста или больше — тогда другое дело. Надо все время быть среди большинства — не в жизни, конечно, а в… эээ, — Берх никогда не был среди большинства, оттого и замялся.
— А в конкретной, совсем не абстрактной ситуации, — подсказал я.
— Ты все правильно понял, — неуверенно согласился он.
— Ладно, спасибо, ты меня утешил.
— Не за что… А в каком смысле утешил? — Берх уловил фальшь.
— Теперь мне выбирать не из пяти, а из шестисот…
— Мне очень жаль, — посочувствовал Берх.
— Кстати у тебя такой вид, что тоже невольно посочувствуешь…
Я невольно напомнил ему о его собственных проблемах.
— Да к черту все… — он вскочил и принялся мерить шагами комнату. А чего, спрашивается, ее мерить, и так всем известно — четырнадцать в длину, девять — в ширину.
— Тоже очередное задание получил? — я не оставлял надежды его разговорить.
— Что значит «тоже»? А, ну да, раз ты здесь… Новое, в каком-то смысле, даже слишком новое!
— Не тяни, выкладывай, — я забыл, что собирался быть деликатным.
— Тебе знакома такая аббревиатура — АККО — Агентство по Контролю и наблюдению за Космическими Объектами?
— Не-а, не знаю, я же не космический объект. А что с ними?
— Работу нам подкинули.
— И она досталась тебе?
— Вот именно.
— Так чего тебе не нравится-то?
— Бред, другими словами и не назвать… просто бред.
Информацию из Берха приходилось выжимать по капле.
— А в чем бред?
— Астронавт у них пропал. Понимаешь — взял и потерялся.
— Ну и что?
— А то… представь себе — я теперь должен его искать!
Задание действительно странное. Нет, в принципе, мы подобными делами занимаемся — розыском пропавших людей, я имею в виду. Но не астронавтов — для этого есть космические спасательные службы. И уж во всяком случае, не Берху заниматься поисками людей. Мне — еще куда ни шло. Но у Берха совсем другой профиль: высокие технологии, финансы, на худой конец.
— Так значит, ты только что от Шефа, — догадался я.
— Ну да, сразу после тебя предстал пред его ясными очами…
— Не очень-то они у него ясные… А Шеф как-нибудь объяснил, почему посылает именно тебя.
— Сказал, что все остальные сотрудники заняты.
— А Номура?
— Сказал, что тот молод еще, а в этом деле ему нужен человек опытный… польстил мне, короче.
— Однако странно… — прежде чем я успел закончить фразу, в кабинет заглянул Номура.
— О, легок на помине, — вырвалось у Берха.
Номура не стал спрашивать по какому поводу его поминали. Вот Берх обязательно спросил бы. И я спросил бы. И любой другой — кроме Номуры. Мне всегда было интересно, он по природе такой сдержанный или просто японское имя обязывает вести себя подобающе. Если бы родители назвали меня Номурой или как-нибудь еще по-японски, то я бы значительно спокойнее относился к тому, как коверкают мое имя все кому ни лень. Кроме имени, от далеких предков Номуре достался только тяжелый взгляд исподлобья и необычная перламутровая бледность кожи. Когда я впервые увидел его рядом с Берхом, я попытался сформулировать для себя, чем взгляд одного отличается от взгляда другого. Проницательная Яна нашла ответ быстрей меня. Она сказала, что Номура смотрит, будто читает твои мысли, а Берх, наоборот, старается определить, можешь ли ты прочитать его, Берха, мысли. Работал Номура у нас всего четвертый месяц, и Шеф не ошибался, называя его неопытным. Среди всех сотрудников Отдела моложе него только Яна — ей двадцать шесть, а Номуре — двадцать семь. Все та же Яна насплетничала, что до прихода в Отдел, Номура служил астронавтом-испытателем в Секторе Улисса, но как он оказался у нас, она не знала.
— Добрый день, — вежливо поздоровался Номура и поздравил меня с успешным завершением дела. Мне показалось, что Номура был бы рад и Берха поздравить с чем-нибудь, но не знал с чем. Я ответил, что, мол, день и впрямь добрый и еще сказал «спасибо» за поздравление. Берх сказал «привет» и отвернулся. Номура ушел так и не сказав зачем приходил.
— А где тот астронавт потерялся? — спросил я Берха. Мне было интересно найти связь между пропажей астронавта и Отделом.
— На Плероме, — обреченно вздохнул Берх.
— Ну ничего себе… — присвистнул я. Связь с Отделом все еще не просматривалась. — Она же вот-вот взорвется!
— Может, Шеф хочет таким образом от меня избавиться? — грустно пошутил Берх, найдя, таким образом, искомую связь.
— Шансы невелики, если серьезно.
— Шефу лучше знать.
Это Берх верно подметил.
— Ладно, успеха тебе… И держи меня в курсе, — добавил я.
Долго засиживаться в Отделе мне не хотелось — не привык я думать о работе на рабочем месте. Дома, почему-то, гораздо легче сосредоточиться. Я переписал все документы по делу Института Антропоморфологии в свой комлог (делать такие вещи строжайше запрещено) и вернулся к себе в термитник.
«Термитниками» мы называем то же, что на Земле называют «муравейниками», а на Оркусе, который еще дальше от Земли, — «формикариями» — язык сломаешь. Я давно уже заметил, что чем дальше от Земли, тем более «неживыми» становятся названия. Татьяна говорит, что происходит своеобразная пространственно-временная инверсия относительно орбиты Луны. В том смысле, что слова и понятия из глубины Земного Времени растекаются в ширь и даль Внеземного Пространства. Я с ней не спорю. Потому что, как не называй — «муравейник», «термитник» или, извините за выражение, «формикарий», выглядит ЭТО везде одинаково: поистине циклопический, объемом в одну восьмую кубического километра, жилой дом. Будь он единственной постройкой во всей округе, его можно было бы смело назвать городом. Окна в моей квартире выходят на озеро. Оно бесформенное точно клякса, зато пресное и с двумя маленькими островками посередине. Береговая линия до того извилиста, что ее хватило бы на десять озер такого же размера, но более правильной формы. С другой стороны, длинная береговая линия позволяет строить на берегу озера достаточно домов для тех, кто может себе позволить — летом — влажную озерную прохладу, а зимой — катание на буере по хрупкому ледяному зеркалу.
Все термитники в столице Фаона (Фаон-Полис, если угодно) выстроены вокруг озера — в полукилометре от берега, но лишь жалкие проценты от общего числа квартир выходят окнами на озеро, а не, скажем, на горы или вообще в никуда — я говорю про те квартиры, у которых вместо окон — световоды. Поэтому, двойной блок с окнами на озеро — такой как у меня — стоит столько же, сколько тройной, но без окон. Лет тридцать назад термитники были экзотикой, а теперь в них выросло целое поколение. Матери рассказывают детям сказки про мрачных домовых, что живут в напичканных коммуникациями подвалах. Легких на подъем эльфов они обычно селят под крышей, то есть прямо надо мной, а кровожадных вампиров — в лифтовые шахты. И если трезво взглянуть на вещи, то где им еще жить?
Здание Редакции куда меньше термитника. Построено оно не на берегу озера, а немного поодаль — там, где заканчиваются красные прибрежные дюны, и начинается полупустыня — мелкий кустарник, песок и камни. Только вокруг здания есть растительность выше меня ростом, но вырастили ее искусственно. Деревья рассадили как попало, чтобы парк походил на настоящий лес и чтобы мы поскорее забыли (а наши дети — никогда и не узнали) о его искусственном происхождении.
Мой термитник и здание Редакции расположены по разные стороны озера. По прямой между ними всего двадцать километров. Но по прямой летать над городом нельзя — только кругами. На высоте до километра — по часовой стрелке, выше километра — против. Озеро находится в центре воображаемых маршрутных окружностей, и воздушное пространство над ним предназначено для перехода с одного высотного уровня на другой: сектор для подъема и сектор для спуска. Неявно подразумевается, что флаеры могут сталкиваться только при совершении подобных маневров, а раз так, то пусть лучше падают в воду, чем на дома.
Описав над городом тридцатикилометровую дугу, я приземлил флаер на крыше термитника и, игнорируя лифт, сбежал по крутой узкой лестнице к себе на этаж.
3
На столе лежала записка от Татьяны — аккуратная такая, черным карандашом на розовой бумажной салфетке, хорошо хоть не иероглифами, а нормальными человеческими буквами: «Стас заболел. Вместо него взяли на … (неразборчиво, черт знает — то ли планета какая-то, то ли здесь где-нибудь), связь чрез ифер-код…» Надо мною издевается: ифер-код — это наша рабочая терминология, но нарочно искаженная. Ничего, думаю, отыщется — и не таких отыскивали. Татьяна у меня — археолог, а у археологов всякие издевательские анахронизмы, вроде записочек на салфетках — излюбленный прием. Вопрос: почему салфетка розовая, а не, к примеру, желтая? Я заглянул в шкаф и быстро нашел ответ — салфеток другого цвета попросту не было.
Я прекрасно понимаю, почему Татьяна никогда не звонит мне в Отдел — позвонить можно только через коммутирующий цензор, а тот вечно подслушивает. Но на комлог-то сообщение она могла послать. По крайней мере, я бы смог разобрать название того места, куда она упорхнула. Или ее упорхнули,… хм, … умыкнули. Ну пусть теперь сама звонит, пишет… не знаю я, что за «ифер-код» она имеет в виду — ключевой номер-то она не указала.
Вот что пришло мне в голову пока я добирался до термитника. Чем, по словам Шефа, занимались люди из ОИБ всю последнюю неделю? Они старались отыскать и систематизировать пострадавшие от нейровируса локусы. Ладно, возражений нет. Но как они это делали? Искали локусы, аналогичные тем, что потерялись с накопителей. Плюс к тому, пытались восстановить утраченные данные. Рано или поздно, можно все восстановить. В наше время, окончательно потерять что-либо очень трудно. Но, зачастую, бывает еще труднее найти что-то нужное, даже если ты уверен, что оно существует.
Ситуацию с поиском пропавших локусов можно объяснить на простом примере. Представим себе, что нужно решить задачу с числом неизвестных больше двух, ну, скажем, с тремя. Как бы точно я не определил первое неизвестное, если мне нечего сказать про второе, то и третье, самое главное неизвестное, никак не найти. А ОИБ как раз и занималось только одним первым неизвестным.
Или нет, вот пример получше. Чтобы засечь источник сигнала, надо запеленговать его с двух точек. ОИБ смотрит из одной точки. Следовательно, мне надо поймать сигнал, глядя из другой точки.
Теперь подойдем вот с какой стороны… Как работает нейровирус? Хм…Кто ж его знает, как он работает! Я не специалист. Важно, что он уничтожает определенную информацию, а не всю подряд. Откуда ему известно, что именно надо стирать? Глупый вопрос, понятное дело — от кодировщика. Которого и требуется найти. Если вирус не очень умный, то он стирает данные в соответствии с неким трафаретом, состоящим из ключевых слов или фраз. Но он просто обязан быть НЕ умным, иначе бы ОИБ в два счета вычислил, какую конкретную цель он преследует. Следовательно, вирус непременно уничтожит что-нибудь лишнее, абсолютно не относящееся к биологии, антропологии и т.д. Разумеется, не все так просто. Но вывод напрашивается сам собою: пострадавшие локусы надо искать не в области биологии, а совсем в другом месте. И если мы их найдем, это и станет тем дополнительным условием, что поможет определить второе неизвестное. Иными словами, нам удастся восстановить трафарет, а с ним — и точную цель преступника.
Итак, где искать? Всех остальных локусов в миллионы раз больше, чем биологических. Надо ограничиться какой-то одной тематикой, желательно очень узкой и редкой. Поэтому, бизнес и финансы не пойдут. Эротические локусы, по той же причине, отпадают. Искусство — да на каждую научную тему приходится по сотне научно-фантастических романов, плюс еще фильмы! Нет, искусство никуда не годится. Тут я вспомнил о Татьяне. Она — археолог. Так, что ж, выбрать археологию? Или, еще лучше — палеонтологию? Бред. Возьмем-ка мы вообще, историю. У нее очень большое преимущество — она упорядочена по времени, по крайней мере, так нас учили в школе. Двигаясь назад во времени можно сужать круг поисков. Но история вообще — штука не маленькая. Строго говоря, она включает в себя решительно все, поэтому я пришел к тому с чего начал — к определению темы.
Мозги едва-едва варили. Следовало бы поспать, но раз озадачившись какой-нибудь проблемой, я все равно не усну, пока не выработаю ну хоть какой-нибудь план действий. Еда иногда заменяет сон и я приготовил себе ужин. Пока ходил на кухню, мой взгляд случайно упал на толстый фолиант, оставленный Татьяной на столике в прихожей. Темная, из натуральной кожи, обложка была истерта прикосновениями тысяч рук, когда либо ее державших. Мне непременно захотелось чтобы она не оказалась такой чистой и стерильной, как все вокруг (Татьяна убралась в квартире перед отъездом). Я провел рукою; от пальцев остался едва видимый след. Полистал. Страницы плотные, пожелтевшие. Незнакомый язык. Снова полистал. Чего только она не читает! На этот раз и безо всяких сомнений — это был словарь. Похож на толковый — параллельные, насколько мне известно, выглядят иначе.
«Ты, загадочная тварь, полезай живей в словарь», — написано карандашом на внутренней стороне обложки. Я сравнил с Татьяниной запиской — почерк не ее. А что, это идея! Словари! Вирус уничтожает слова — отлично. И он просто обязан зацепить какие-нибудь словари. Возможно и даже непременно, — биологические, химические и т.д. и т.п. Но они меня не интересуют. А вот остальные… Итак, план действий таков: первое — определить тематику — это я почти сделал. Второе — время. Следует выбрать те словари, что со времени возникновения первых прообразов Канала не обновлялись. Когда создавался Канал, старые локусы свалили в одну кучу и, затем, размножили ее по всем Накопителям, следовательно, есть возможность сравнивать копии словарей между собой. При этом, вирус не мог добраться до ВСЕХ копий, и я смогу восстановить утраченные страницы.
В итоге, искать следует на нашем, местном Накопителе, в древних ненаучных словарях, относящихся, ну, скажем, к веку девятнадцатому или раньше. Окрыленный разработанным планом, я принялся сочинять запрос для поиска.
Канал — он как гигантский пузырь, переполненный макулатурой. Одно неверное движение, одно легкомысленное нажатие — и этот пузырь мгновенно лопается, засыпая тебя с головой всевозможными нелепыми и бесполезными сведениями, рекламными объявлениями, криками души и криками «Души!», как однажды скаламбурил Ларсон. Примерно так и произошло, когда я стал искать древние словари. Я исходил из того, что испортить весь локус со словарем вирус не мог. По крайней мере, название-то должно остаться. Я применял все более и более изощренные методы, чтобы из десятков тысяч предложенных мне вариантов отобрать хотя бы несколько сотен наиболее «толковых» словарей. Словари попадались самые что ни на есть экзотические. Например, «Божественная Грамматика» Уилмота предлагала словарь для расшифровки сновидений. Некто Деккер составил словарь языка злодеев, а Дрю Д"Радье — словарь любви. Мне очень подошел бы «Хазарский словарь», но на поверку выяснилось, что составлен он не в семнадцатом веке, как решил было нейросимулятор, а в конце двадцатого.
Что дальше делать со всем этим «словарным запасом» было не совсем ясно. Самый тупой метод мог состоять в том, чтобы локус за локусом сравнивать копию с нашего Накопителя с копией, хранящейся, скажем, на Земле. Если было что-то потеряно, восстанавливать потерю вряд ли кому-то придет в голову. Ну кому, скажите, на Фаоне может понадобиться словарь латинских идиом. Разве что Татьяне, и то вряд ли. Работы — на неделю, но результат будет. Непонятно какой — но будет. Похоже, именно так поступил ОИБ, но с другими локусами.
Или же просто обратиться по очереди ко всем словарям и, сравнивая обозначенное количество слов с имеющимся в наличии, установить недостающее. Если чего-то не хватает, то словарь следует сравнить с его ближайшей (в пространственном смысле) копией Из полученного таким образом списка недостающих слов, нужно убрать те слова, что встречаются на потертых, но, затем восстановленных, биологических локусах.
Конечно, существовал вариант, при котором я ничего путного не получу, но попробовать стоило. И я принялся объяснять нейросимулятору, что от него требуется. Когда он ответил, что задача ему ясна, я с чистой совестью отправился спать.
4
Двумя днями позже, ближе к вечеру, результат был у меня на столе, вернее, на экране. Он состоял из одного единственного слова:
ГНОМЫ
«Ну вот, приехали. Гномы-то тут при чем?», — я не заметил, как начал говорить сам с собой. Велел показать мне полный текст восстановленной страницы. Нейросимулятор, освоивший с помощью Татьяны вольный перевод со средненемецкого, предъявил мне статью из «Словаря братьев Гримм», которая, и в самом деле, была посвящена гномам:
Гномы
В двух словах, гном — это карликовый дух, земной или горный.
Как и о Сильфе, о гномах впервые упомянул Парацельс и это упоминание содержится, практически, лишь в одной его работе, а именно в «Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris, et de caeteris spiritibus», что означает «Труд о нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и об остальных духах».
Слив воедино народные сказаний и тайное учение, Парацельс получил некую всеобъемлющую систему сущего, в основе которой лежат четыре элемента — огонь, вода, земля и воздух, а населяют ее стихийные и природные духи, которым он подобрал имена (по большей части — немецкие). По замыслу автора, стихии и духи казуально взаимосвязаны. Но когда и как для той или иной стихии нужно выбирать соответствующего духа — понять также трудно, как и все остальное в его до крайности умозрительной доктрине. У многих авторов, не исключая и самого Парацельса, слово «гном» — подчас не более чем синоним для сильфид, пигмеев, лемуров и т.д. и т.п., а также для таких популярных сказочных немецких персонажей как: горные люди, земные люди, карлики.
Среди введенных Парацельсом понятий и обозначений царит большая путаница. Например, хоть все и согласны, что гномы все же скорее земные духи, чем небесные, в своих философских сагах Парацельс называет их «духами воздуха».
Не смотря на то, что сам Парацельс нигде этого не признавал, есть все основания считать, что этимология слова «гном» восходит к греческому слову «гнозис», то есть «знание». Называя их так, имел ли Парацельс в виду, что гномы знакомы с его физической доктриной, или они всего лишь ЗНАЮТ, где добыть золота и драгоценных камней — непонятно.
Но зато доподлинно известно, что своим ЗНАНИЕМ о гномах французы и англичане, испанцы и итальянцы, не говоря уж об исландцах и датчанах, обязаны именно Парацельсу и никому другому. Открытые им существа прочно обосновались в науке и литературе. Особенно — в последней. Писатели и поэты не слишком жаловали гномов, приписывая им всевозможные злобные черты — как внутренние, так и внешние. Гномы превращаются и превращают, творят злые дела под землей и на земле, ночью и при свете дня. Они пробираются даже в людские сны, где притворившись призраками, строят спящим всевозможные козни. Вот что написал о гномах известный немецкий поэт Матиссон:
словно черные фантомы, из пещерной глубины, лезут сумрачные гномы в тьму ночную без луны.Библиография этой темы неисчерпаема. Ниже приведены лишь имена тех, кто стоял у истоков учения о гномах. Справа от имени указан год издания той книги данного автора, где упоминаются эти странный существа.
Парацельс, 1589
Токситес, 1573
Боденштейн, 1575
Руланд, 1612
Козак, 1636
Франкенберг, 1688
Статья, безусловно, поучительная, но никакой связи с Институтом Антропоморфологии я не заметил. На всякий случай, следовало бы посмотреть остальные локусы с гномами. Таких локусов было хоть отбавляй. Я открыл первый попавшийся:
Сообщения из мира моды.
Гномы прочно вошли в нашу жизнь. Снова в моде муаровые шапочки, коричневые бархатные курточки с втачным рукавом на манжете, буфы и бриджи со шнуровкой. Мужчины вновь отпускают крашеные перекисью бороды, а в фотомодели опять стали брать девушек ростом не выше подоконника…
Бред…Дальше…
…посвящается памяти Ивана ГномЫ (2167-?!): стихи, проза, песни, танцы…
Проехали…
Рубрика «Письма читателей».
«Нет на свете никаких гномов, вампиров, вурдалаков, драконов, единорогов и т.д. и т.п. Как бы, по вашему, размножались эти самые пресловутые единороги? Да они бы до самок-то не добрались — на брачных турнирах попротыкали бы друг другу … (вычеркнуто — ред.) своими рогами. То ли дело — быки и коровы. Надо раз и навсегда положить конец всем этим безответственным, досужим выдумкам».
Подпись: Старший Гоблин Его Величества Хоббита Семнадцатого.
Хм, лечиться надо… Что еще?
На стыке тысячелетий — ученые размышляют.
С новой силой интерес к гномам вспыхивает только в начале двадцатого века, и связано это с тем, что в науке возобладала позитивистская точка зрения. Возникла даже такая наука «гномология» (не путать с гносеологией, хотя, этимологически, эти слова очень близки). С тех пор, как те, кто видел гномов воочию, стали интересовать не только священнослужителей и психиатров, но и ученых, выяснилось, что понятие «гном» скорее феноменологическое и относится к группе явлений, таких как: порча людей и одежды, необоснованное перемещение в пространстве предметов домашней утвари, маленькие грязные следы перед буфетом в сочетании с исчезновением еды и крепких напитков, а так же, неожиданные счета за междугородние телефонные разговоры…
Тем не менее, вера в реальность гномов была столь велика, что ученые скорее усомнились бы в существовании тех, кто видел гномов, чем в существовании самих гномов. Были проделаны многочисленные попытки их явного обнаружения. Как уже было замечено, основным признаком присутствия в доме гномов, считается перемещение предметов в отсутствие хозяев. Долгие споры вызывал вопрос, что следует считать «отсутствием». В конце концов договорились, что «отсутствием» субъекта в каком-либо месте, следует считать его присутствие в другом, достаточно удаленном от исходной точки месте, но …
Бог ты мой, кто и когда это писал?! Но главный вопрос в другом — почему эти страницы уцелели. Ответа может быть два: либо нейровирус не пробил защиту над-локусов этих страниц, либо в статье из словаря есть что-то еще, что заставило вирус заинтересоваться именно ею. У меня мелькнула мысль, что вирус мог перепутать гномов с геномами. «Гномы» — «геномы» — слова довольно похожие. Я заглянул в институтские локусы по генетике. Все геномы оказались на месте.
Итак, что-то я все-таки раскопал. Гномы, надо же. Впрочем, «Гномы» — вполне нормальное название для проекта по выведению какой-либо новой породы биороботов-рудокопов. И пусть себе копаются. Может рудокопами в Институте Антропоморфологии и занимались? Кто знает. На всякий случай, я проверил восстановленные ОИБ, но прежде пострадавшие от вируса, локусы. Как и следовало ожидать, слово «гномы» там не встречалось.
Теперь мне было с чем идти в институт. Точнее — лететь. Оказалось, что автопилот моего флаера лучше меня знает, где находится институт — все крупные учреждения заносят в автопилот по умолчанию. Я даже не взглянул на карту — так забавнее — лететь, не зная толком куда. Флаер осторожно приблизился к озеру, стал набирать высоту. Следовательно, институт где-то на востоке. Зря я все-таки не просмотрел маршрут заранее: после набора высоты флаер оказался над облаками, и теперь я действительно не знал куда лечу. Угадывалось только направление — восток-юго-восток. Вылетев за городскую черту флаер снизился, пробил облака и полетел над «трубой» — так называется транспортное средство для тех, у кого нет ничего летающего. Мой флаер — служебный. «Труба» лежит на земле, а внутри нее проносятся капсулы с пассажирами. Сто сорок километров я преодолел за двадцать минут — в этой зоне все еще действовало ограничение скорости. Капсулы в «трубе» мчатся лишь немногим медленнее.
Когда флаер затормозил, мне чуть не оторвало голову. Обычно, когда знаешь, где остановка, можно заранее приготовиться к торможению. Но сегодня был не тот случай и по пути от посадочной площадки до здания Института Антропоморфологии я усиленно растирал шею — было бы крайне неловко предстать перед учеными мужами скособоченным. Дорожка шла через парк. Биологи высадили деревья ровными рядами, а сами деревья вымахали повыше тех карликовых берез, что растут в искусственном лесу вокруг здания нашей организации — я заметил сосны высотою никак не меньше шести метров. Либо высаженные по строгому плану деревья растут лучше чем высаженные хаотично (прямо как люди!), либо сотрудники института знают, как за ними ухаживать. Последнее — более правдоподобно, ведь институт, как-никак, — биологический. В противоположность деревьям, четыре институтских корпуса были расставлены в максимально возможном для четырех одинаковых объектов беспорядке, но, как и деревья, стояли они рядом друг с другом. Корпуса — гигантские кирпичи со скругленными углами и слегка припухшими боками — друг друга не касались, из чего я вывел, что соединены они подземными переходами. Как только я сделал столь логичное умозаключение, я увидел человека в белом халате, спокойно шествующего на высоте двадцати метров от одного корпуса к другому. И без какой-либо видимой опоры. Я снял солнцезащитные очки, потер глаза и на, всякий случай, шею. Человек исчез. Я успокоился, но тут появился еще один и в том же самом месте. Без очков мне удалось разглядеть его получше. Теперь я разочаровался: оказалось, что никакого чуда тут нет — корпуса института соединялись абсолютно прозрачными цилиндрическими переходами. Я бы их и раньше заметил, если бы не светофильтры. Оставшиеся сто метров я прошел, не глядя по сторонам.
5
Я не стал договариваться о встрече предварительно. Если была какая-то утечка информации, то меня, безусловно, там уже ждут. Если нет, то лучше появиться внезапно. Проходная напоминала шлюзовую камеру, только сильно устаревшую. Комлог у меня отобрали, но к этому я был готов — их всегда отбирают. Оружие я предусмотрительно оставил в флаере.
— Назовите цель вашего визита? — спрашивающий неудачно пародировал голосовой симулятор — меня такими вещами не проведешь.
Хм,… цель. Причина есть — Шеф послал, а вот цель… «Назовите дату и цель вашего рождения» — вдруг припомнилось мне непонятно откуда.
— Встреча с Филом Шлаффером. Он на месте?
Что Шлаффер, как и остальные четверо пострадавших находятся в институте, я, разумеется, знал, — иначе, стоило ли ехать.
— У вас назначено?
— Да, — очевидное вранье, но зануда по ту сторону переговорного устройства начал меня раздражать.
— Какую организацию вы представляете? — задал он провокационный вопрос.
— Журнал «Сектор Фаониссимо», — без колебаний ответил я.
Журнал «Сектор Фаониссимо» является нашим рабочим прикрытием. Он и в самом деле существует и даже регулярно публикует всевозможные научные сплетни, собранные со всех уголков нашего необъятного сектора. За всех сотрудников, и за меня в том числе, все пишет один единственный человек, некто Редактор. Статьи он подписывает нашими именами, причем строго выдерживает индивидуальный, специально подобранный для каждого «сотрудника» стиль, который, честное слово, абсолютно не соответствует реальным характерам. Например, мои статьи неглубоки, но остроумны, я позволяю себе слегка иронизировать над серьезными вещами, но не на столько, чтобы вызвать у читателей ответный гнев. Статьи Берха, напротив, слащаво-сентиментальны, полны домыслов и непроверенных слухов, однако — безобидных. Берха просто трясти начинает от возмущения, когда ему доводится читать статьи за своей подписью. Остальные сотрудники делают вид, будто им не смешно.
Ларсон использует в статьях выдуманную им же самим (или Редактором) терминологию и обещает к следующему номеру построить машину времени или расширить Канал до соседней галактики.
Яна в журнале не сотрудничает, поскольку работает в Отделе легально. За подписью Номуры я пока еще ни одной статьи не видел. Какое прикрытие у Шефа — не знает никто, но ходят слухи, что Шеф и Редактор — одно лицо. Лично я этому не верю. Но я готов поверить, что эти слухи распространяет именно Шеф. Ссылаться на «Сектор Фаониссимо» я предпочитаю лишь в случае крайней необходимости, чтобы люди не стали его, паче чаяния, читать. Была еще одна проблема: последний месяц я не читал своих статей, — даже не знаю, о чем они, поэтому, если б вдруг кто-нибудь спросил меня о них, ответить мне было бы нечего.
— Проходите, корпус "С", комната 626, вас проводят, — последовал долгожданный ответ, и над входом зажегся зеленый индикатор.
План здания я более-менее себе представлял — он имелся в нашем досье, и я постарался его запомнить. Когда знаешь, куда идти, никогда не помешает немного заблудиться. Поэтому я не стал дожидаться провожатого, а двинулся прямиком к лифтам. В кабине нажал первый попавшийся этаж (он оказался седьмым) и стал обдумывать свои дальнейшие действия. Еще дома я решил, что та «не абстрактная» ситуация, о которой мы размышляли вместе с Берхом, не совсем верно иллюстрирует порученное мне дело. Что мы знаем? Во-первых, вирус уничтожил несколько локусов, содержавших информацию о биологических и антропологических исследованиях. Во-вторых, среди уничтоженных локусов находились те, ради которых злоумышленник и запустил свой вирус. Для определенности, будем считать, что настоящей целью являлось уничтожение информации о «гномах». Логично предположить, что у владельца локуса с «гномами», попутно, были стерты и другие, не столь ценные и не столь секретные, локусы. «Владелец гномов» мог рассуждать так: «Если я ни слова ни скажу об утраченных „малоценных“ локусах, то и остальные пострадавшие и следователи из ОИБ могут заподозрить неладное — у одних сотрудников такой-то локус стерт, а у меня почти такой же локус остался цел. И на всякий случай проверят, на самом ли деле у меня ничего не пропало или я, попросту, пытаюсь скрыть факт исчезновения данных. Поэтому мне лучше заявить о пропаже „малоценных“ локусов, но про „гномов“, разумеется, — ни слова.»
Рассуждать от собственного имени труднее чем от чужого. Я не придумал ничего умнее как намекнуть всем пятерым — Джонсу, Шлафферу, Симоняну, Перку и Дейч — что, мол, мне, как журналисту, кое что о гномах известно, а затем послушать, что они на это скажут. В конце концов, я же не шантажист, чтобы действовать исподтишка и не адвокат, чтобы уважать чужие секреты. Намекать всегда удобнее при личной встрече — за тем я и прибыл в Институт Антропоморфологии.
Длинные институтские коридоры плавно, по дуге, расширялись к середине, затем снова сужались, создавая иллюзию бoльшего объема и странного, искривленного пространства. Я брел по ним в полнейшем одиночестве. Все вокруг будто вымерло… или я неудачно выбрал этаж. Впереди показался очередной перекресток — мой коридор, выкрашенный в нейтральный бежевый цвет, пересекался под прямым углом с ядовито-желтым и более узким коридором. До перекрестка оставалось шагов семь-восемь, когда из правого желтого ответвления до меня донесся топот, сначала едва слышный, как биение чьего-то торопливого сердца. Звук шел по нарастающей.
Берх однажды сказал, что всегда может определить по звуку шагов, бежит ли человек за кем-то или от кого-то. Это он при Шефе такое сказал. А Шеф за словом в карман не лезет — ответил, что Берх даже не способен определить, идет ли человек вперед или пятится задом. Но зря он так о Берхе. Просто Берх невезучий. В том смысле, что хоть он и оказывается обычно прав, но выясняется это лишь тогда, когда все уже напрочь забыли, что именно он говорил и говорил ли вообще что-нибудь. Один я, как правило, все помню. Поэтому Берх дружит только со мной.
Топот все приближался; отдавая в ушах сбивчивой, неритмичной дробью, он становился все громче и громче. Я прижался к стене не дойдя нескольких шагов до перекрестка — не хотел быть замеченным раньше, чем я сам увижу бегущего. Наверное, именно в этот момент я и отвлекся, точнее, посмотрел куда-то не туда, а бегущий мог оказаться очень маленького роста (например — гномом!). Так или иначе, но топот стал стихать, но уже слева от меня. Будто невидимка пробежал перед самым моим носом. Свалить вину на солнцезащитные очки я уже не мог — они лежали в кармане. Может, они тут еще и невидимок разводят? Только я сделал несколько шагов вперед, как из правого коридора бесшумно выскочил небольшой кар. Кар промчался, едва не задев меня, и устремился вслед за невидимкой. Я успел разглядеть, что каром управлял некто в красном биозащитном комбинезоне и еще, я думаю, он меня не заметил. Я посмотрел им вслед, но увидел лишь быстро удалявшийся от меня кар. Того, кого он преследовал мне видно не было. Коридор был настолько длинным, что я так и не понял — они исчезли, потому что свернули или потому что зрение у меня никудышное.
Так или иначе, но преследовать их не было никакого смысла. И я пошел прямо — как шел до этого. Седьмой этаж оставался по-прежнему пустынен и неинтересен. Я спустился на шестой. Но это был не тот шестой, где находится кабинет Шлаффера. Фил Шлаффер сидел в корпусе "С", а я в данный момент путешествовал по корпусу "А". План института подсказывал мне, что где-то рядом должна была находиться лаборатория Тонких Нейроструктур вместе с симпатичной Лорой Дейч. На шестом этаже я наткнулся на нескольких сотрудников. Я поинтересовался, как мне разыскать госпожу Дейч, они отвечали, охотно, но противоречиво. Тот же вопрос я задал и красному комбинезону — точь-в-точь такому как тот, что управлял каром и гонялся за невидимкой. Комбинезон снял маску и оказался Лорой Дейч.
— Ну как, догнали? — я изменил прежнюю формулировку вопроса.
— Еле — еле… А, так это вас я чуть не переехала? — догадалась она. По голосу было трудно понять, сожалеет ли она о том, что я не попал под кар, или нет. Но сам голос был приятный. Совсем не похожа на Татьяну, подумал я.
— Было дело, — признался я, — а за кем вы гнались. Уж не за гномом ли?
— Да ну что вы, у нас гномы не водятся, — улыбнулась она, — бикадал трипода сбежал. Они такие непоседы!
— А этот, как его… бикадал — он не гном? — я продолжил гнуть свою линию, но без особой надежды — слово «гном» не произвело на Лору Дейч никакого впечатления.
— Вы что ж, гномов никогда не видели? — изумилась она очень натурально. Я возразил:
— Гномов видел, а бикадалов — нет.
В кармане красного комбинезона запищал зуммер. Лора хлопнула по карману и карман мужским голосом произнес:
— Лора, это Фил. Вы только что были на седьмом, там вам не попадался некий господин Ильинский, репортер?
Лора вопросительно посмотрела на меня, затем доложила:
— Да, он здесь, на шестом, и делает вид, что твой вопрос его не касается.
— Хорошо, скажи ему, пусть зайдет ко мне.
— Уже иду, — сказал я громко.
— Жду, — буркнул Фил Шлаффер.
— Идите, идите. О гномах после поговорим, — пообещала она и, кокетливо улыбнувшись, скрылась за ближайшей дверью. «Гномы не по ее части», — вслух подумал я и посмотрел на дверь. На ней значилось: «Доктор Альм Перк. Заведующий лабораторией.»
Все правильно — и Дейч и Перк работают вместе. Я решил, что Шлаффер никуда от меня не денется и без стука вошел в кабинет Перка.
— А вы кто такой? — невысокий мужчина с бесцветными глазами и широченным лбом встал из-за стола.
— Это господин Ильинский, он — репортер, — представила меня Лора.
— Вы знакомы? — удивился Перк.
— Совсем недавно, — признался я.
— Но встречи я вам не назначал… — испуганно заметил он.
— Это верно, — согласился я, — но случайно оказавшись рядом с вашей лабораторией и, более того, познакомившись с вашей очаровательной сотрудницей, я не мог не воспользоваться случаем, чтобы лично не…
— Да, да я все понял, — прервал Перк мою длинную тираду, — у меня очень мало времени, но раз вы уже здесь, то я вас слушаю.
— Не буду вам мешать, — скромно сказала Дейч и вышла. Я проводил ее игривым взглядом (так, по моему мнению, поступил бы каждый настоящий журналист) и, как бы припоминая зачем пришел, сказал:
— Еще раз прошу простить меня за столь неожиданный визит… Мы тут с госпожой Дейч успели немного побеседовать об…, извините забыл, как тот зверь называется… маленький такой — как гном, и я, право, подумал, что та информация, что я располагаю, так нежданно-негаданно подтвердилась…
Я уверен, что при слове «гномы» в его глазах зажегся огонек неподдельного интереса, даже, я бы сказал, беспокойства. У человека с бесцветными глазами подобный огонек всегда легко заметить.
— Не понимаю, о чем вы говорите, — быстро ответил он.
— Хорошо, скажу яснее. По нашим сведениям существует некий проект под названием «Гномы». Также, есть все основания полагать, что вам этот проект известен. Вот о гномах я и пришел поговорить.
— Вы что-то путаете, — отрезал Перк, — никакими гномами мы не занимаемся. Да и кто вам о них сказал?
— Это неважно, — нарочито грубо ответил я, — но источник надежный. Мне кажется, что вам лучше довериться мне, нежели дожидаться того, кто придет после меня… — сымпровизировал я.
— Как я могу вам доверять, если ничего о вас не знаю, — возразил Перк, но тут же спохватился, — впрочем, мне и нечего вам доверить, поскольку я даже не понимаю о чем вообще идет речь.
— Ладно, у вас пока еще есть время подумать, но, — я поднял указательный палец, — поспешите. И еще одно: я скажу вам, как со мной связаться, но убедительная просьба: не звоните ни из института ни со своего личного комлога. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду?
По его лицу было ясно, что, по крайней мере, последнюю мою фразу он понял правильно. Я развернулся к выходу.
— Погодите, объясните же наконец… — бормотал он, провожая меня до дверей.
— Жду вашего звонка, — выдал я напоследок и оставил его одного и в растрепанных чувствах.
В тот момент мне казалось, что предупреждение не пользоваться институтским и личным каналом связи придаст моим словам убедительности. Отдел Информационной Безопасности мог прослушивать и Перка и всех остальных, но только теоретически, практической надобности я в этом не видел. Если только ОИБ не набрел на гномов, или на кого похуже, самостоятельно.
Для того чтобы попасть из зоны "А" в зону "С" я воспользовался одним из прозрачных переходов, но особого впечатления он на меня не произвел.
Снимок Шлаффера присутствовал в моем досье. В жизни Шлаффер оказался таким же огненно-рыжим и толстощеким, как и на снимке, но ростом он был еще ниже Шефа. Он приветливо пожал мне руку, предложил сесть (Перк этого не сделал).
— Вы долго до меня добирались, — усмехнулся он.
— Извините, заплутал немного, — оправдывался я, — такой огромный этот ваш институт.
— Понимаю, понимаю, — загадочно улыбнулся он, — хотели побродить, посмотреть без помех… Я знаю, что вы мне ответите — мол, такая у вас профессия.
Если б он только знал, насколько он был прав.
— Ну что вы, все совсем не так, как выдумаете, — ответил я не менее загадочно, — но в одном вы правы — моя профессия имеет некоторые особенности, многие из которых людям не нравятся…
— Не стоит оправдываться, — великодушно разрешил Шлаффер, — так что вас ко мне привело?
Я наморщил лоб, затем, начал издалека:
— Совсем недавно я был в командировке на Земле, и одна вещь меня неприятно поразила. Там, на Земле, люди с большим недоверием относятся к нам, жителям других планет. Я видел публикации, где иногда полунамеками, а иногда и прямо говориться, что, мол, мы, инопланетники, используем запрещенные на Земле технологии. Ну взять хотя бы тот прошлогодний скандал с биороботами… Помните, в чем там было дело?
Шлаффер почесал затылок.
— Кажется, смутно припоминаю. Производители биороботов обвинялись в использовании человеческих тканей.
Далеко забегая вперед, скажу, что прошлогодний скандал с контрабандой запчастей к биороботам не имеет никакого отношения к моему нынешнему расследованию.
— Вот именно! — подтвердил я, — в прессе упоминалось, что при производстве биороботов использовались ткани, взятые у живых людей!
— Если это правда, то это ужасно, — согласился Шлаффер, — но наш институт тут абсолютно не при чем!
— А я и не говорю, что Институт Антопоморфологии замешан в деле с биороботами. Но землян теперь трудно в чем либо убедить. Они вдолбили себе в голову, что на Фаоне ведется разработка каких-то неведомых никому биологических…, — я запнулся — биологических объектов, скажем так. Каково, а!
Шлаффер погрустнел.
— И вы считаете, что опасения землян имею под собой почву?
— Прежде всего, мне хотелось бы уверить их в обратном, — патриотично заявил я. Он удивился:
— Почему вы решили, что я могу вам чем-то помочь?
Я подошел к окну и печально посмотрел на небо — туда, где по моему мнению, могли находиться озабоченные земляне. Затем перевел взгляд вниз. Из соседнего корпуса вышел Альм Перк и быстрым шагом направился в сторону «трубы». Мне это не понравилось. К чему солидному человеку, посреди рабочего дня, сломя голову бросаться неизвестно куда? То есть, разумеется, Перк знал куда шел, но этого не знал я. И именно это мне и не понравилось. Я прижал пальцем мочку уха — будто бы получил какое-то важное сообщение через микроком и поспешно сказал:
— Прошу вас, подумайте над моими словами. Сейчас я должен срочно идти, прошу прощения… Увидимся. И лучше — в другом месте — эти стены не вызывают у меня доверия.
Шлаффер проводил меня ошалелым взглядом.
Симоняна и Джонса пришлось оставить на потом — Перк интересовал меня гораздо больше. Мелькнула мысль: Перк спешит на встречу с тем, с кем, до свидания со мной, он хотел переговорить через один из своих каналов связи.
Интересно, догадывался ли Перк что я буду за ним следить. Или, иначе: догадывался ли он, что за ним КТО-НИБУДЬ будет следить. Вероятно, да. Но он не был похож на человека, который пытается уйти от слежки. Он был похож на человека, который спешит куда-то, НЕСМОТРЯ на возможную слежку. Поэтому следить за ним было нетрудно. Перк лишь однажды оглянулся по сторонам — перед тем как ступить на движущуюся дорожку тротуара. Дорожка довезла его до ближайшей станции «трубы». Я неотступно следовал за ним, всю дорогу думая, не «плюнуть» ли в него следящим «жучком», но подходящий момент я упустил — теперь вокруг были люди. Зашел следом в капсулу «трубы». Если судить по выбранному направлению, ехал он домой. Во время коротких остановок двери, разъезжаясь, открывали мне вид столичных пригородов, с трудом отсюда узнаваемых.
Капсула остановилась, снова дорожка тротуара, снова несколько сотен метров пешком. Жилище Перка не было термитником — дом как дом, квартир на триста, не больше. Перк сунул руку в детектор электронного охранника — мне дальше нельзя — да и не нужно. Ясно, что Перк решил воспользоваться домашним терминалом — глупо, однако, — если институтский на контроле у ОИБ, то, и домашний — там же.
Когда это случилось, я шел вдоль его дома по направлению к «трубе». Уезжать я не собирался (для этого я вызвал бы свой флаер), а шел просто, чтобы не стоять на месте. Не знаю, кричал ли он, когда падал с восемнадцатого этажа, думаю — нет, иначе я бы услышал. Но я слышал только удар о землю. Хлопок — не глухой, а как ладонью — по воде, или как… в общем, как удар живого о мертвое, если вы понимаете о чем я говорю. Я приблизился к телу лишь настолько, чтобы убедиться, что это был Перк, затем, ринулся в здание. Какой-то мужчина сунул руку в сторож-детектор; я дождался щелчка замка и, подхватив мужчину под локти, ввалился вместе с ним в узкий проем двери. Проем специально сделали узким, чтобы исключить подобные ситуации, но, видимо, не достаточно узким, чтобы помешать тому, кто действительно спешил. А я очень спешил. Не задерживаясь в холле, побежал к грузовому лифту — меньше свидетелей, да и быстрее. Лихорадочно соображал: правильно ли я поступаю, может стоило остаться внизу и попытаться засечь выходящего убийцу — если, конечно, Перк не сам выпал из окна. Но было уже поздно — лифт нес меня наверх.
На площадке восемнадцатого этажа не было ни души. Квартира Перка оказалась незапертой. Вошел: прихожая, четыре комнаты, в одной из них — распахнутое настежь окно. Я глянул вниз — тело едва видно, вокруг столпились люди, затем появилась Служба Общественной Безопасности, проще говоря — полиция, врачи из «скорой»… Порыв ветра ворвался в комнату, разбросал бумаги, до того, мирно лежавшие на письменном столе рядом с окном, на полу что-то зашелестело. Целлофановая обертка, куски упаковочного пенопласта — непонятно откуда они взялись. Я еще раз осмотрелся и заметил то, что должен был заметить с самого начала — на столе, что возле окна, лежал маленький примитивный комлог — совсем новый, купленный, наверняка, в подарок сыну. И обертка и упаковка были из-под комлога. Комлог был выключен. Но разбросанная по всей комнате оберточная пленка, наводила на мысль, что комлог распаковали только что. В остальном, в квартире царил полный порядок — ни пылинки, ни соринки. Времени на размышления не оставалось, я сунул комлог под куртку и покинул квартиру Перка.
6
Доклад Шефу много времени не занял. Я рассказал ему все как есть, включая «гномов». Они Шефа не слишком вдохновили, но спорить со мной он не стал. Комлог я отдал Яне на экспертизу.
— Я думаю, не стоит сообщать Отделу Информационной Безопасности о моем визите в институт, а потом — к Перку, — предложил я.
— Правильно, — сказал Шеф, — обойдемся без них. Ты уверен, что Перк отреагировал именно на гномов?
— Больше не на что — мы ни о чем больше не говорили. Если, конечно, он не приревновал меня к Лоре Дейч. Шеф насторожился:
— А ты дал повод?
— Я пошутил, — поспешил я его заверить, — ляпнул не подумав.
Шеф недоверчиво посмотрел на меня и покачал головой:
— Неловко вышло, и как ты его прошляпил! — не понятно, кого «его» имел в виду Шеф — Перка или убийцу. Скорее всего — обоих. Шеф продолжал размышлять:
— Если жена скажет полиции о пропаже комлога, а она обязательно скажет, то полиция уже не сможет выдать смерть Перка за самоубийство и тогда начнет искать убийцу. То есть — тебя!
Хорошенькую перспективу он мне обрисовал.
— Почему бы комлогу вдруг не найтись? — предположил я, — его серийный номер у нас есть, информацию, если она в нем сохранилась, Яна сейчас скачает. Потом комлог можно вернуть обратно.
— Это нам ничего не даст, — возразил Щеф и вызвал по внутренней связи Яну.
— Ну что, нашла что-нибудь?
— Нет, он стерилен, — гордо ответила Яна — так, словно речь шла об инфекционном заражении, и она лично уничтожила всех микробов.
— Ладно, ищи дальше… — последовало ценное указание, и он хотел отключить интерком, как меня вдруг осенило:
— Яна, попробуй узнать не был ли комлог куплен будучи уже подключенным к каналу связи. Если да, то не звонили ли с него.
Когда я даю Яне какое-либо распоряжение в присутствии Шефа, то прежде чем его выполнить, ей обязательно надо поспорить:
— Если бы с комлога звонили, то код абонента остался бы в памяти, и я бы его обнаружила.
Я хотел сказать, что память могли стереть.
Шеф озвучил мой вопрос по-своему:
— Яна, скажи, можно ли быстро удалить из комлога всю информацию?
— Можно. Если знать специальный пароль, то запись стирается одним нажатием клавиши. Или одним словом — если пароль звуковой. Начальный пароль устанавливается при изготовлении комлога и сообщается покупателю. Но потом его можно менять.
— В таком случае, Яна, будь добра, сделай, как он просит, — приказал Шеф.
— Да Шеф, — подобострастно ответила Яна и выразительно посмотрела на меня — мол, скажи спасибо Шефу, а то черта с два я стала бы возиться с такой ерундой.
— Ты полагаешь, он побежал домой звонить? — спросил Шеф, обращаясь ко мне.
— Другого объяснения я не нахожу. Если Яна соизволит выполнить мою просьбу, то мы скоро узнаем, звонил ли Перк кому-либо или нет. На всякий случай надо проверить звонки с его домашнего компьютера — он мог выйти на связь и с него, но сам я в это не верю. Если он побоялся одолжить комлог у кого-нибудь из своих сотрудников, у той же Дейч, например, то вряд ли он осмелился бы позвонить с домашнего компьютера.
— Логично. Так чем ты так его напугал? Неужели гномами? — недоверчиво спросил Шеф.
Все, что я мог ему рассказать, я уже рассказал.
— Больше вроде нечем, — честно ответил я.
Шеф выдвинул очередное предположение:
— А что если Перк спешил домой не звонить, а чтобы встретиться с тем, кто его, собственно, и выкинул из окна?
— Вполне реально, — согласился я.
— Проверь эту версию, — приказал Шеф и объявил, что я свободен.
Я вернулся в свой кабинет. Берха не было — он готовился к вылету на Плером. Завеса секретности над его заданием была просто ни с чем не сравнимая. Берх сам не мог взять в толк, к чему Шеф заставил его прикинуться сотрудником АККО — клиента, поручившего Отделу разыскать астронавта с Плерома. Шеф сказал, что, мол, не притворяться же ему журналистом из «Сектора Фаониссимо». Я бы тут возразил, сказав, что журналисты, в отличие от нас, хоть изредка, но все же разыскивают астронавтов. Но возражать я не имел права, поскольку считалось, что о задании Берха мне ничего не известно.
Пока я размышлял о Берхе, Яна успела сделать массу полезных вещей. Она установила, что, во-первых, комлог Перка был снабжен доступом к каналам связи, а во-вторых, с комлога звонили и именно в то время, когда я прогуливался возле дома Перка. Выяснить имя конечного абонента оказалось не так-то просто. Сигнал шел через несколько адресов на разных накопителях, и Яна справилась с задачей только к вечеру — но только частично, поскольку набор букв «Б ПРОФ НКНР БРГФ» мне мало о чем говорил.
— Ну и что с этим делать? — спросил я у нее.
— Не знаю, проверь всех профессоров, — посоветовала Яна.
— Может, только БОЛЬШИХ профессоров, — предположил я.
— Тебе видней… Если хочешь, давай отдам криптологам.
Янино предложение меня не устраивало. Криптологи состоят в отдельной группе, но уж больно они дружат с Отделом Информационной Безопасности.
— Не надо, сам попробую разобраться. Пока.
— Пока-пока, — с улыбкой ответила она и отключила связь.
Похоже, я оказался прав. Перк решил, что звонить с нового комлога будет безопаснее — в общем-то, справедливое решение. Как быстро безобидное информационное расследование превратилось в дело об убийстве! «О предумышленном насильственном лишении жизни» — так пишут полицейские в своих протоколах. Хотя, теоретически, Перк мог и сам стереть адрес абонента из памяти комлога, и сам выброситься из окна. Но так или иначе, ключ к разгадке — в имени абонента.
Я взглянул на адрес. Искать человека по такому адресу, в общем случае, — задача для криптологов. Но две идеи у меня все же были. Если оставить в стороне первую букву Б, то Янино предположение, что ПРОФ означает «профессор» выглядит вполне разумным. Тогда следом должно стоять имя. И наоборот: если НКНРБРГФ — имя, то логично предположить, что перед ним стоит ученое звание — «профессор». Я вспомнил, как один мой знакомый лейтенант космического флота даже письма друзьям подписывал: «лейтенант такой-то». «Профессор» — раз в сто солидней, чем «лейтенант», и я мог исходить из того, что и в данном случае абонент не смог устоять перед соблазном и, рискуя быть разоблаченным, сообщил нам свой научный титул.
Вторая идея касалась непосредственно "НКНРБРГФ" — набор букв не мог быть случайным, поскольку среди восьми букв нет ни одной гласной, а это редко случается в такого сорта наборах. Даже если случайно тыкать пальцем, вероятность получить набор из восьми согласных букв — процентов шесть — не так много. Если кодовое слово придумано специально, то гласные нужны, чтобы легче его запомнить. И потом, придумывая код, часто берут реально существующие слова, но не имеющее к абоненту никакого отношения. То есть, конечно, любой психолог докажет, как дважды—два, что выбранные слова имеют к абоненту самое что ни на есть прямое отношение, но данный случай психоанализом явно не лечится.
Следовательно, хотя и не без определенной натяжки, но можно предположить, что абонент взял собственные имя и фамилию, выкинул гласные и вставил вместо кода. Итак, его зовут Н-к-н-р Б-р-г-ф. Ну и имечко! Никанор Бергоф какой-то. На всякий случай я велел компьютеру проверить на Накопителе все имена с таким порядком согласных. В то время пока я объяснял нейросимулятору, что ему делать, позвонил Шеф и спросил, как идут дела. Я отвлекся на Шефа, а нейросимулятор, не дослушав инструкцию до конца, принялся за работу.
Одно время, я часто задумывался, не обязан ли я успешно проведенным расследованием какой-либо счастливой случайности. Эта проблема так меня заела, что я нарочно провел статистическое исследование. Оно меня утешило: на каждые три счастливые случайности приходилось четыре несчастливые, поэтому нет никаких оснований утверждать, что мои успехи случайны. К чему, собственно, я вспомнил про случайности… Из-за Шефа я не успел рассказать нейросимулятору про пробел между четвертой и пятой буквами. И ничего не сказал про порядок букв. Поэтому нейросимулятор выдал мне и простые и составные имена, причем с произвольным порядком букв Н, К, Н, Р, Б, Р, Г, Ф. Вариантов было множество — одних только всяких Франков было пруд пруди. Еще мне понравилось — Рубен Фергана, и Генефер Каберне — тоже неплохо.
Простые имена встречались ничуть не реже. На двухстах тысячах локусах упоминались всевозможные Франкенбурги, Франкенборги, Франкенберги, Френкенберги, Франкинберги и даже Фрункенберги. Также присутствовало несколько десятков Фрекенборгенов.
И тут до меня стало смутно доходить. Я ведь недавно видел что-то похожее. Я соединился со своим домашним компьютером и просмотрел статью о гномах. Дошел до библиографии. Так и есть: Абрахам фон Франкенберг, издание 1688 года. Час от часу не легче. Долгонько ты живешь, профессор Франкенберг! Или же мне требуется найти Франкенберга более свежего года издания. Впрочем, имя как имя, судя по количеству локусов, где оно упоминалось, — и не редкое вовсе. Хозяин адреса переставил буквы в своей фамилии и добавил пробел, чтобы использовать все шестнадцать дозволенных позиций. И теперь понятно, почему именно из словаря братьев Гримм исчезла статья — имя «Франкенберг», как и слово «гномы», — было ключевым.
Я снова связался с Яной.
— Неужели нашел профессора? — на ее лице была та же ехидная улыбка, с какой она со мной распрощалась полчаса назад. Наверное, она с ней так и сидела.
— Угу, найди мне все что можешь на всех профессоров Франкенбергов, желательно — биологов и желательно — не старше ста лет от роду.
Замечание про возраст ее слегка озадачило, но уточнять она не стала, а лишь кивнула, слегка меня передразнивая:
— Угу, будет сделано.
— Вперед!
— Пока.
Экран погас.
Осталась буква "Б" в начале кода. Скорее всего у Франкенберга есть несколько адресов и он их обозначил А, Б, В и так далее. Я ткнул в интерком:
— Яна, а-ууу…
— Да здесь я, еще не закончила. Вернее — и не начинала.
— Я про другое: найди все адреса, отличающиеся от того, что ты мне дала, только первой буквой. Если найдешь, проверь не светились ли они где, ну ты понимаешь…
— Понимаю. Ладно, проверю.
— Давай.
7
На следующий день я едва успел переступить порог своего кабинета, как сияющая словно новогодняя елка (я слышал это выражение от Татьяны) Яна, мне объявила:
— Мы вычислили его!
— Давай, говори, — я почувствовал охотничий азарт.
— А что мне за это будет? — кокетливо спросила она.
— Сначала скажи, потом решим, — отрезал я. В конце концов, я для нее начальство, и нечего тут глазки строить и условия выдвигать.
— Так вот, установлено следующее, — обиженная Яна перешла на сухой официальный тон, — на Накопителе Фаона есть адрес: АПРОФНКНР БРГФ. Один раз им воспользовались с рейсового пассажирского флаера. Транспортная компания фиксирует все звонки с их судов. В то время, когда был сделан звонок, на борту среди прочих пассажиров находился некто Франкенберг…
Меня охватил легкий озноб:
— То есть адрес А и так далее теперь был входящим?
— Да, именно так.
— И где сошел тот пассажир?
— На Южном Мысе.
— Хм, не плохо, — похвалил я ее, — либо у него там логово, либо…
— Вы позволите договорить? — сурово спросила Яна.
— Да, да, продолжай, — мне не хотелось ее сердить, Яна — хорошая девочка, трудолюбивая и вообще…
— В тот же день, некто, тремя четвертями схожий с Франкенбергом, арендовал флаер до Укена.
— Тремя четвертями?..
— Да, именно так. Я нашла снимок Франкенберга, правда двадцатилетней давности и отослала его на Южный Мыс в местную транспортную компанию. Там у них довольно безлюдно, все клиенты наперечет и вдобавок, они каждого клиента фотографируют. Прислать нам снимки клиентов они отказались, и я послала им снимок Франкенберга. Они сравнили его с клиентским каталогом и с вероятностью семьдесят пять процентов установили, что наш Франкенберг несколько раз брал в аренду их флаеры. Правда, он у них проходит совсем под другим именем.
— Каким?
— Руланд.
Хм, еще одно имя из Словаря.
— Это все?
— А этого мало? — Яна вздернула носик.
— Золотце ты мое, — я расчувствовался, — зайди ко мне, я тебя расцелую!
— Это называется сексуальное домогательство! — возмутилась она, но, по моему, не совсем искренне.
— Это называется сексуальное поощрение, — возразил я. Обиженная Яна тут же выключила интерком.
На мой взгляд, достаточно совпадений, чтобы считать Франкенберга именно тем, кто нам нужен. Вирус постарался на славу: последние сведения о Франкенберге имели двадцатилетнюю давность: доктор философии, профессор, работал на Земле, совершил массу открытий в области прикладной киберморфологии. Список опубликованных работ прилагался. И это — все.
На автопилоте арендованного им флаера осталась запись полета. Пункт назначения — северная оконечность острова Укен. На наше счастье, абонент обитал не на другой планете, а на местном, фаонском острове, холодном, как взгляд Шефа. Расположен Укен чуть-чуть не доезжая до южного полюса. Трудно поверить, чтобы человек, пусть даже и профессор, мог всерьез обосноваться в этом неуютном, морозном краю.
Я запросил спутник. О реальном изображении нечего было и мечтать — небо над Укеном круглый год затянуто облаками, но макет рельефа северной оконечности острова выглядел отлично. Лишь одна деталь выделялась на фоне естественного природного ландшафта — скал в виде правильного цилиндра на свете не бывает. По крайней мере, у нас на Фаоне. Других искусственных сооружений по близости от того места, где высадился профессор, я не заметил. Дальше было два пути. Первый: разузнать побольше информации о Франкенберге у сотрудников института или где-нибудь еще. Второй: не мешкая ни минуты лететь на Укен, поскольку либо профессор как-то связан со смертью Перка, либо ему самому грозила опасность. Шеф решил, а я был с ним согласен, что мне следует навестить Франкенберга, пока сам Шеф будет наводить справки на месте.
В полдень того же дня я покинул Фаон-Полис и взял курс на Укен.
8
Снег. Только снег. Если бы я сейчас развернулся и отправился назад, и если бы потом меня спросили, что я там видел, то я сказал бы, что видел снег. Много снега. В окрестностях Фаон-Полиса зимою тоже морозно, но снег выпадает редко. Укен — совсем другое дело. В этих широтах зима была уже в полном разгаре, солнце стояло низко над горизонтом, хотя и в самой высокой для этого дня точке.
Для начала я немного покрутился над береговой линией. Из-за прибрежного ледяного панциря невозможно различить, где кончается суша и начинается океан. Там, где океан свободен ото льда, он похож на потускневшую от времени, мятую алюминиевую фольгу, шевелящуюся так, словно упакованные в нее морепродукты внезапно ожили и теперь спешат выбраться наружу.
Исследовав береговую линию, я по спирали двинулся в сторону профессорской башни. Издали, это мрачное сооружение напоминало огромную банку из-под тянучек, иначе говоря, оно представляло собою правильный цилиндр диаметром метров двадцать и высотою, вероятно, столько же. Цилиндр как бы врос в склон ледяного холма, наружу выступала лишь четырехметровая «крышка» и небольшая часть боковой поверхности. Мне следовало поторопиться, если я хотел успеть добраться до башни до того как надвигающаяся снежная буря скроет от меня немногочисленные, видимые простым глазом ориентиры.
Проблемы начались, когда до цели оставалось два километра. В принципе, я ожидал чего-либо подобного. Вряд ли выбор столь необычного местоположения являлся единственным средством защиты от постороннего вмешательства — уж экранирующее-то поле хозяева должны были поставить, поэтому я подкрадывался на минимальной высоте и, насколько возможно, используя рельеф местности. Но мне это не слишком помогло. Индикаторы динамики полета словно взбесились, аварийные сигналы вспыхивали и снова гасли, я понял, что теряю управление. Башня — цель моего полета — была близка, и сворачивать мне не хотелось. Только вперед и как можно выше. После отказа двигателей (а я ожидал этого с секунды на секунду) флаер способен еще некоторое время планировать. Я перевел двигатели в режим как при экстренном старте, а элевоны вывернул, будто собирался сделать мертвую петлю. Петли не получилось, двигатели рыкнули как в последний раз и… и в самом деле затихли. Флаер планировал еще с километр, пока не рухнул в снег…
Думаю со стороны все выглядело очень красиво: этакий снежный взрыв, сверкнувшая на солнце ледяная пыль, ее подхватывает ветер и несет, несет… Солнце выглянуло совсем ненадолго — только посмотреть, как здорово я умею падать.
Через десять минут после падения я уже мог самостоятельно шевелиться, а еще через пять — двигаться. Если бы люк открывался наружу, мне ни в жизнь бы не выбраться, но инженеры словно знали, что делали. Я натянул маску, капюшон и полез откапываться. Заодно я выяснил, что в это время года глубина снежного покрова на острове Укен достигает двух метров. Нет, кажется, говорят «толщина снежного покрова составляет столько-то…» Но я-то достиг как раз глубины… глубины своего падения. Такими размышлениями я развлекал себя пока орудовал лопаткой — она комплектовалась вместе с открывающимся вовнутрь люком. Предусмотреть только что-то одно, было бы крайне неостроумно. Откопавшись, я обнаружил, что до башни всего какая-то пара сотен метров. Преодолевал я их минут тридцать. Мне пришлось снять две панели с потолка кабины и, попеременно укладывая их впереди себя, я мог кое-как продвигаться вперед. Тем временем пошел снег — медленно и плавно — как в волшебном шаре (Татьяна привозила такой). Буря откладывалась. Мне очень хотелось сдернуть эту чертову маску и почувствовать наконец, как приятно тают снежинки на лице, но из-за ультрафиолета снимать маску — предприятие рискованное, и я с трудом подавил соблазн. Я еще вот о чем думал: пустят ли меня внутрь или сделают вид, что они меня в упор не видят. С одной стороны, судя по тому, как они обставили встречу, ничего хорошего ждать не приходится. Но с другой стороны, неужели им не любопытно взглянуть на того, кого они только что чуть не убили.
Дверь открылась до того, как я успел к ней прикоснуться — она как бы увернулась от моей руки. А рука, сделав нелепый взмах и не найдя опоры, провалилась во внезапно открывшийся проем. Порог оказался более-менее вровень с нападавшим снегом. Интересно, как сюда забираются, если снега больше, недоумевал я. Вошел в «банку». Тянучками тут и не пахло. «Идите прямо и никуда не сворачивайте», — услышал я бесстрастный, но живой голос. Спорить с голосом не было ни малейшего желания. Это в Институте я мог позволить себе самовольничать, но сейчас я находился на чужой территории, и ее хозяин едва меня не угробил. Я шел темным изогнутым коридором, постепенно спускающимся вниз. «Осторожно, ступеньки», — продолжал вести меня невидимый хозяин. Я спустился по короткой лестнице, одиннадцать — не известно для чего, отсчитал я ступеньки. «Теперь оставьте все ваши вещи в стенной нише и поверните направо». Пришлось повиноваться. Ниша закрылась сдвигающейся панелью сразу после того, как я положил туда комлог, оружие, ну прочие мелочи — все, как в Институте. Впереди появился неяркий свет, и я очутился в тесном помещении без окон, — вероятно, это был холл или прихожая. Не успел я, как следует, осмотреться, как стена впереди меня бесшумно раздвинулась и я увидел профессора Франкенберга.
Ему было около семидесяти. Глядя на стариков, невольно задумываешься, во что сам-то превратишься лет через тридцать-сорок. Может, в него: длинные, спутанные седые волосы — там где они остались, седая щетина на впалых щеках, серый болезненный цвет лица, сизые мешки под красноватыми, слезящимися глазами, усталый взгляд. Только одежда Франкенберга — что-то вроде длинного, до пят, иссиня-черного шелкового халата — была безупречна.
— Вам следовало предупредить меня о своем визите, — голос был тот же, что вел меня сюда, но менее бесстрастный и, в тоже время, не по-стариковски сильный. Фраза прозвучала как извинение за мое неудачное приземление, но насмешки в голосе я не уловил.
— С вами было трудно связаться, — сурово ответил я.
— В этом вы правы. Прошу садиться. Хотите чего-нибудь с дороги? — он указал сначала на низкое мягкое кресло напротив письменного стола, затем на череду разноцветных бутылок, выстроившихся на небольшом столике явно штучной работы. Сесть, я, конечно, сел, но от напитков отказался — мы не настолько близко с ним знакомы и мало ли что в них могло оказаться.
— Не стесняйтесь, наливайте. Пока вам нечего опасаться, — сказал он с легким ударением на слове «пока». Я вторично отказался. — Итак, что вас привело в наши края? — поинтересовался он.
— Меня привел сюда ваш знакомый, некто Альм Перк. Надеюсь, вы не станете отрицать, что знаете этого человека.
— Вы еще не представились, а уже задаете вопросы, — напомнил профессор.
— Вот здорово! — обрадовался я, — вы пытались меня убить, а теперь спрашиваете имя. Когда я грохнулся в снег, вы на кого подумали?
— На того, кто является без спросу, — парировал он, — я уже сказал — ко мне без приглашения не являются. Итак, ваше имя…
— Ильинский, репортер из… впрочем, не важно.
— Репортер? Хм, и вы думаете, я вам поверю?
— Ну и не верьте, — пожал я плечами, — в любом случае, раз я уже здесь, вам придется ответить на несколько вопросов. И не все из них будут вам приятны, я надеюсь.
— Посмотрим, — тихо сказал он.
— Вчера, в одиннадцать тридцать вы разговаривали с Перком через комлог. О чем вы говорили?
Профессор молчал. Именно так я более-менее и представлял себе начало нашей беседы. Поэтому, пока одна половинка моего мозга пыталась подвести профессора к нужной для меня теме, другая продолжала потихоньку осматриваться. Был ли это кабинет профессора или гостиная — сказать трудно, поскольку, за исключением полутемной прихожей, я нигде побывать не успел, но и здесь любопытных вещей было хоть отбавляй. Слева от письменного стола стояла полутораметровая статуя необычного божества с птичьей головой, человеческим туловищем и руками. Ноги божества заканчивались змеиными головами. Если бы на моем месте оказалась Татьяна, то она, без сомнения, догадалась бы, кто позировал скульптору. За спиной у профессора высились стеллажи с кодексами. Названия на корешках книг я со своего кресла разглядеть не мог. В стеклянной витрине были расставлены статуэтки размером поменьше, чем птицеголовый. Некоторые из статуэток мне напомнили те рисунки, что я видел, когда просматривал локусы с гномами. Там же, в витрине, находилось несколько засушенных паукообразных существ, привезенных, скорее всего, с Оркуса. Издалека, их можно было перепутать со статуэтками, изготовленными (я надеюсь) человеком. Письменный стол загромождали модели старинных алхимических приборов — как намек на преемственность ученых поколений, вероятно; ворох исписанных бумаг рядом с зажженной масляной лампой грозил неминуемым пожаром. Лежавший рядом с лампой, современный комлог показался бы анахронизмом тому, кто никогда не видел, что творится у меня дома. Прямо напротив меня, на столе стоял колокольчик — он именно стоял, поскольку подставкой и одновременно язычком ему служил вертикальный металлический стержень, проходивший одним концом внутрь колокольчика. Внизу стержень заканчивался плоской треногой. Вокруг стержня, узлом была завязана засушенная змейка.
На стене, рядом с витриной висела картина с приблизительно таким сюжетом: человек стоит лицом к зеркалу, но видит в нем собственный затылок. Нет, не так — мы, зрители видим в зеркале его затылок, что видит человек — нам неизвестно. Эту картину я точно где-то видел. Я готов допустить, что за исключением картины, все предметы в комнате имели оригинальное происхождение, но только она одна не походила на бутафорию.
Слева от меня находилось большое — во всю стену — окно. Когда я осматривал башню — сначала в бинокль, затем — вблизи, когда барахтался в снегу, я не заметил никаких окон; вся поверхность здания была совершенно однородной, темносерого цвета и не более гладкой, чем необработанный камень. Но мало того: легко различимые сквозь оконное стекло снежинки двигались как-то странно, прямо на меня, а облака, если приглядеться, плыли снизу вверх, как из-под земли. Но сама земля, вместе с океаном, куда-то подевалась. Метель напрочь размыла горизонт. Бледный солнечный диск время от времени проглядывал сквозь низкие облака, но находился он, почему-то, в зените, а не над горизонтом — где ему надлежало быть в это время и на этой широте.
— Вы смотрите на небо, — вкрадчиво произнес Франкенберг и видя, что я его не понимаю, пояснил:
— Окно смотрит вверх. Так гораздо удобнее, чем сидеть задрав голову.
Тут до меня, наконец, дошло. Я хотел спросить, не кружится ли у него голова, но постеснялся.
— Сейчас переключу на океан, — сказал профессор мне, а затем, уже обращаясь к окну, внятно произнес: «Северо-запад.» Картинка практически не поменялась, если не считать того, что солнце совсем исчезло, но ведь оно могло и за облаками спрятаться.
— Вы уверены, что не нужно сказать «абракадабра» или вроде того, — ухмыльнулся я.
— Уверен, просто погода окончательно испортилась — ничего не видно.
«Что-то мы отвлеклись от темы», — подумал я и снова спросил про Перка.
— Да, я его ЗНАЛ, — с нажимом произнес Франкенберг, — талантливый был человек. Но к его смерти я не имею ни малейшего отношения. Интересно, как вы умудрились так быстро меня найти. Не думаю, что он успел вам что-то сказать.
— То, что мне нужно было услышать от него, я услышал. Но, к сожалению, наша беседа прервалась на очень интересном месте, мы беседовали о гномах, такие древние человечки были, вы вероятно слыхали?
— Что ж, это достойная тема для беседы… особенно для людей столь равноудаленных от проблем истории, как вы и Перк.
— Вы тоже не историк, насколько я знаю. Но Перка больше нет и поговорить о гномах мне не с кем — только с вами. Перк был убит из-за них?
— Так это убийство… Как странно… Но при чем тут я?
— Лично вы, возможно, и не причем, но сами гномы наверняка тут очень даже при чем. И ваше имя упоминается рядом с ними далеко не однажды.
— Хорошо, если вы так настаиваете… Я расскажу, но исключительно из симпатии к вам, поскольку теперь я вижу, что Перк на ваш счет ошибался…
— А что Перк сказал обо мне? — я попытался поймать его на слове.
— Теперь это уже не важно, — моя попытка не удалась, — скажите, как вы думаете, человек по природе своей порочен или нет? — неожиданно спросил Франкенберг. Мне показалось, что он уж слишком издалека начал.
— Непонятно, где начинается человеческая природа, а где заканчивается…
Профессор улыбнулся:
— Ваш ответ вполне в духе человеческой природы. И это несмотря на то, что вы хотели ответить максимально неопределенно. Нет, правильнее сказать так: именно неопределенность и является одной из основных составляющих человеческой природы.
Я возразил:
— Ничего удивительного — ведь нельзя и слова сказать, чтобы потом не посмеяться над тем, что сказано. В конце концов, вся природа состоит из определенности, то есть законов физики, и неопределенности, которая тоже, своего рода, закон физики.
— Ну да, добавьте сюда свободу воли, и вы получите человека, — согласился Франкенберг и, непонятно чему улыбаясь, уставился в окно.
Мне пришлось напомнить ему о том, с чего он начал:
— Вероятно, вы спросили меня о порочности и непорочности, потому что сами знаете ответ?
— Ответ давно известен. Человек порочен, чтобы вы там не подразумевали под «человеческой природой». Порочен не в бытовом смысле, а, если так можно выразиться, в библейском. То есть несовершенен.
— Это разные вещи, — уточнил я, — порочность и несовершенство. Насчет несовершенства никто не спорит.
— Нет, эти, как вы сказали, вещи прочно взаимосвязаны, — возразил он, — порочность — это внешнее проявление несовершенства. А наука имеет дело с внешним, с тем что на поверхности — с наличием, так сказать. И ищет связи. Но что мы имеем в наличии? Мы имеем простой факт: так называемое «открытое общество», то есть общество в котором недостатки каждого уравновешиваются недостатками остальных, оказалось наиболее эффективным с исторической точки зрения. Следовательно, речь идет уже не просто о недостатках, а о глубоко укоренившейся порочности всякого человека. Недостатки — это то, что можно подправить, устранить, в конце концов — хотя бы осознать. Порочность можно только уравновесить еще одной — такой же. Открытое общество вынуждено тратить огромные ресурсы на поддержание собственной стабильности, своего существования — точно так, как работающий человек тратит часть заработанных денег на лекарства, чтобы иметь силы ходить на работу, а он должен на нее ходить — иначе не сможет оплатить лекарства. Как общество в целом сжигает свои ресурсы, так и каждая отдельная личность тратит силы на поддержание в равновесии себя, отдельного члена этого общества. Я подхожу к другому примеру распыления ресурсов — сексуальной раздвоенности. Она выжигает человека изнутри, заставляет человеческую душу вечно скитаться в поисках другого, способного дать ей целостность, покой… Поиски бесплодны, ибо самой природой они задуманы быть бесплодными. Природа заставляет нас вести поиски вне себя, в то время как ответ — внутри нас самих… Как проклятие, над нами висит дуализм — дуализм в всем — в обществе, в теле, в душe, наконец. Все это давно известно. Вопрос — есть ли такому положению вещей альтернатива? Ответить на него можно лишь создав альтернативную модель рефлексирующего сознания. Раньше я говорил — альтернатива должна быть — несовершенное не может быть в единственном числе. Несовершенное может быть лишь частью целого. Следовательно, есть и другие части того же целого. И я их нашел. Поэтому теперь я говорю — альтернатива есть. Модель рефлексирующего разума, предложенная давным-давно Лефевром, свою задачу выполнила — надо идти дальше, изменяя сублимационное число. Говоря общими словами, человек находится в тупике, потому что не может, как следует, взглянуть на себя со стороны, выйти за пределы своего "Я", если угодно. Следовательно, это должен сделать за него кто-то другой…
— И этот другой — это вы, — догадался я, — вы решили заняться улучшением человечества?
Профессор досадливо поморщился:
— Ну что вы! Какое там улучшение! Да и к чему? Человечество — оно такое какое есть, поскольку так задумала природа. А улучшать… Улучшать можно только себя, и не я придумал, что совершенствование — путь сугубо индивидуальный, и реализуется он через творчество. Тот кто первый изобрел телескоп, усовершенствовал, таким образом, человеческий глаз. Мои гномы — такие же орудия сознания, как телескоп — орудие или, вернее, инструмент для наших глаз. Но в тоже время, это орудие является мыслящим, сознающим себя и окружающий мир. Вы понимаете, в чем разница между моим открытием и всеми предыдущими человеческими открытиями? Я сотворил разум, способный посмотреть на мир другими глазами!
Я возразил, но скорее из чувства противоречия, чем из-за непонимания:
— Да таким творчеством семейные люди занимаются несколько раз в неделю — в зависимости от темперамента…
— Выше замечание безусловно остроумно, но не более того, — сказал он в ответ — да так, что не оставалось никаких сомнений — Франкенберг не считал мое замечание не только остроумным, но и даже просто — умным. Профессор продолжал:
— Простите за трюизм, но дети — они тоже люди, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нет, я творю нового Адама Кадмона, нового первочеловека, андрогина, объединяющего в себе всю человеческую раздвоенность. Первочеловека, способного к неограниченному познанию, ибо он сможет, по собственному желанию, быть и внутри и одновременно вне всего сущего. Он будет одновременно всем и никем — ведь только так можно и испытать Мир и посмотреть на Мир со стороны. Но сейчас у меня есть только четыре гнома, они — это первые четыре шага к пониманию природы разума, и каждый шаг — совершенней предыдущего. Они — это мой пробный шар, но и он способен пробить брешь в антропоцентристском самомнении и проложить путь для постижения истинного единства природного и разумного. Гномы — знающие существа — освободят дорогу для Великого Нуса, для его следующего шага. И пусть я уже не застану тот момент, когда этот шаг будет сделан — как любой творец, я мечтаю, чтобы мои творения пережили меня…
С того момента как он помянул Адама Кадмона, я перестал его понимать. Слова профессора все больше и больше наполнялись пророческим пафосом, а я сидел и хлопал глазами — вести беседу в подобном ключе я не был готов. Да и когда мне было готовиться, ведь события развивались слишком быстро, и с некоторого момента — независимо от меня. Нить его рассказа окончательно от меня ускользнула. Заполняющие кабинет загадочные безделушки постоянно отвлекали мое внимание. У Шефа, кроме терминала, на столе нет ничего. Правда, его дурацкая медная проволочка отвлекает внимание больше чем, если б на его столе стоял магический кристалл. С другой стороны, я бы сильно удивился, если бы среди обилия таинственных предметов, у Франкенберга не нашлось магического кристалла. И он был — прозрачный икосаэдр на невысокой бронзовой подставке. Я не знаю, насколько он и в самом деле магический, но когда я стал наблюдать, как все вокруг отражается и преломляется в его треугольных гранях, мне показалось, что каждая грань обращается с реальностью по-своему. Легче всего это можно было проследить на примере изображения самого профессора. В то время как одна, ближайшая ко мне, грань была полностью согласна с моими глазами и изображала Франкенберга седым старцем, произносившим речь не мне, но к Вечности, другая, словно насмехаясь и над соседкой, и над хозяином, демонстрировала мне разевающую рот глупую рыбу в шутовском наряде звездочета. На третьей грани профессор вообще молчал и хитро так поглядывал в мою сторону. В какой-то момент мне показалось, что он едва заметно подмигнул…
Не стану спорить, — скорее всего, увидев, что я засмотрелся на кристалл, он и в самом деле замолчал, но вот чтоб подмигивал — не похоже.
— Вас что-то отвлекло? — спросил профессор.
— Да, — признался я, — необычный язычок у вашего колокольчика — длинный, но, кажется, бесполезный…
— Это «Колокольчик с примерзшим языком», — пояснил Франкенберг, — вы когда-нибудь в детстве пробовали во время сильного мороза коснуться языком голого металла?
— Да где сейчас вы найдете голый металл! — воскликнул я и переспросил: — Так он что, примерз к столу?
— Это метафора. У колокольчика вытянулся язык, когда он пытался оторвать его. Язык стал длинным, но бесполезным.
— А змею зачем вы привязали?
— Змею? Ах, да, вы говорите об оркусовском удаве. Он душит жертву завязываясь вокруг нее узлом, но и сам при этом становится беспомощным, поскольку может развязаться лишь когда высосет из жертвы всю кровь и прочие мягкие внутренности… Вот видите, теперь вы и меня отвлекли, — добавил он.
— Предлагаю вернуться к гномам.
— Сейчас я вам кое-что покажу…— сказал он серьезно и как будто на что-то решившись. Затем, обратился к своему компьютеру. Но показать он мне ничего не успел — взвыл сигнал тревоги, и тут же страшный удар сотряс башню. В момент удара Франкенберг стоял, склонившись над экраном, и от сильного сотрясения не смог удержаться на ногах. Он упал навзничь, сильно ударившись головой о твердый, как мрамор, подлокотник своего старинного кресла. Я бросился его поднимать. Одновременно я пытался разглядеть в окно атакующих. Удар импульсного излучателя ни с чем не спутаешь. В окне промелькнула черная точка. Неизвестный флаер находился далеко — вне зоны действия защитного поля, поэтому импульсы были не столь опасны для профессорского убежища. Но они могли разрушить генераторы защитного поля, и тогда, уже с близкого расстояния, нападавшие могли уничтожить нас вместе с башней.
Я разрывался: нужно было помочь профессору, нужно было уносить отсюда ноги, и в то же время, я не мог не взглянуть на экран.
— Уходите, это пришли за мной, а не за вами, — хрипел Франкенберг.
Я усадил его в кресло. Рана на затылке была пустяковой — шишка, только и всего. Но профессор заметно ослаб: его физические силы истощились задолго до моего прихода, а удар о подлокотник кресла был последней каплей… или предпоследней, поскольку Франкенберг еще мог кое-как двигаться и говорить.
Явно или косвенно, я послужил причиной смерти Перка. Если погибнет и Франкенберг, то это будет уже вторая смерть за два дня, и все по моей вине. Да даже и без меня — две смерти за два дня для нашей планеты — это перебор. Не знаю, как там на Земле, но на Фаоне такое редко бывает — я говорю о насильственной смерти. Не удержался, взглянул на экран. С него на меня смотрели ОНИ.
Не знаю, откуда взялась уверенность, что это были именно ОНИ, — наверное, я все еще находился под впечатлением от рассказа Франкенберга. Четыре лица, четыре взрослых человека — при других обстоятельствах я не увидел бы в них ничего особенного, но теперь… Я увеличил изображение. В воздухе повисла голограмма, стала медленно поворачиваться. Под рукою не было ничего, чем бы я мог скопировать, отсканировать или любым другим способом зафиксировать увиденное. Я боялся снова притронуться к компьютеру — было такое чувство, что изображение вот-вот пропадет, исчезнет навсегда, как те локусы, с которых началось расследование. Когда в моем распоряжении есть только простая человеческая память, я запоминаю лица, срисовывая их в нее. То есть, я представляю себе, как я нарисовал бы то или иное лицо, будь я художником. Сразу оговорюсь — рисовать я не умею, ну, то есть абсолютно. Но зато, не раз видел, как это делается. Татьяна неплохо рисует. Тем не менее, она запоминает лица совсем по-другому. Про первого из четверых она бы сказала: «Не идет ему такая прическа, да и цвет волос никуда не годится, надо бы его перекрасить в блондина». Так она бы запомнила его прическу. Или воскликнула бы: «Да он косит!» — так она про Берха однажды сказала, хорошо, он не слышал. Но зато, она запомнила, какие у Берха глаза.
— Это и есть ваши гномы? — спросил я профессора. Дом сотряс еще один удар и я не расслышал ответ. «Гомоиды» — так он их назвал и сказал что-то еще — про рекомбинацию синапсов, если я правильно его понял.
Все четверо были молоды, лет двадцати плюс-минус пять — точнее никак сказать нельзя. Лица вытянутые, с тонкими, правильными чертами, но скорее мужскими, чем женскими. Светлые глаза зеленоватого оттенка, исключая одного — у него глаза были темные, но не черные. В глазах — никакого выражения, взгляд устремленный в бесконечность — пустой и оттого — страшный. Чтобы четыре лица не слились в моей памяти в одно, я придумал гомоидам имена. Того, кого Татьяна перекрасила бы из светло-русого в блондина, я так и назвал — Блондин, хотя, строго говоря, это было неправдой. Гомоида с через чур (для андрогина) выпирающим кадыком, я назвал Старшим — он действительно выглядел несколько старше остальных. У темноглазого гомоида было две родинки под подбородком и я назвал его «Пятнистый». Четвертого, на вид — самого молодого, с тусклыми водянистыми глазами и восковой, будто искусственной кожей, я назвал Младшим и, думаю, не сильно ошибся. Я поймал себя на мысли, что про себя говорю о любом гомоиде «он». Мужской шовинизм? Вряд ли. Любая женщина на моем месте тоже сказала бы «он». Правда, скорее, с целью отделить себя и свой пол от этих существ.
Нужно было уходить. Но для взлета необходимо выключить защитное поле, и тем самым — дать противнику возможность приблизиться. И тогда мы с профессором попросту не успеем добраться до флаера. Единственный выход: не выключая защитного поля выбраться из дома, дойти до моего флаера и взлететь в тот момент, когда атакующий выведет из строя генераторы поля. Я взвалил Франкенберга на себя и потащил из кабинета. Профессор оказался тяжеловатой ношей. В холле — в том самом, где я оказался перед тем, как войти в кабинет, я остановился, чтобы перехватить его поудобнее. В ту секунду он словно очнулся, оттолкнул меня и бросился назад, в комнату.
— Уходите один, я остаюсь, — крикнул он.
— Но почему, черт возьми?! — заорал я, стараясь перекричать вой сирены и гул термический ударов.
— Я вам уже ответил — надо было внимательнее меня слушать, — прохрипел Франкенберг, и толстая металлическая створка навсегда разделила нас. Вернуться к нему я уже не мог, но путь к отступлению был свободен. Я добежал до той стенной ниши, где оставил комлог и оружие. Закрывавшая ее панель не поддавалась, как я ни старался. На раздумья времени не оставалось, и я поспешил к выходу. К счастью, внешняя дверь была открыта — профессор давал мне возможность беспрепятственно уйти.
Меня выручило то, что атака велась со стороны океана и атакующий меня не видел. Пока мы с профессором беседовали, снега выпало немного, но все же достаточно, чтобы скрыть мой небольшой флаер. Утоптанная дорожка вкупе со страхом помогли мне добраться до него минут за десять. Пока я продирался, я тешил себя мыслью, что раз Франкенберг решил остаться, то, возможно, у него есть какое-то неизвестное мне средство, чтобы противостоять нападавшему противнику.
Приборы флаера внезапно ожили — это могло означать только одно — генераторы защитного поля разрушены. Я дал команду на взлет. Последние надежды рассеялись, когда я был уже в восьми километрах от башни — в экране заднего вида я увидел черный зловещий гриб, выраставший на том месте, где прежде находилась профессорская башня. Его силуэт напомнил мне то страшное птицеголовое божество, чья статуя стояла в кабинете профессора, слева от письменного стола.
Всю обратную дорогу я делился впечатлениями с бортовым комлогом, поскольку мой собственный, в виде пыли и пепла, носился холодным южным ветром где-то над Океаном. Я тараторил без умолку, смешивая услышанное от Франкенберга со своими собственными домыслами. Разбираться буду потом. Один раз комлог переспросил меня, мол, понимаю ли, я что говорю, но я велел ему заткнуться и писать все, как есть. Из вещественных доказательств у меня с собой был лишь кристаллик внешней памяти — перед тем, как попытаться спасти хозяина, я схватил его со стола и машинально сунул в карман.
Глава вторая: Лабиринт.
1
— М-да, итоги, прямо скажем, неутешительные, — задумчиво произнес Шеф и посмотрел мне в глаза. Последовавшая затем пауза получилась у Шефа весьма многозначительной. Медная проволочка была, как всегда, в его руках, и на этот раз он согнул ее в большой вопросительный знак.
— Мне нечего сказать, — вздохнул я, — нас постоянно кто-то опережает…
— А эти гномы, кто они?
— Гомоиды — дети из пробирки — андроиды или вроде того. Искусственные человекообразные существа. Франкенберг назвал своих гомоидов «гномами», поскольку, как и гномы Парацельса, гомоиды что-то такое знают — то, чего нам с вами знать не дано. Это я понял из его рассказа. А что я НЕ понял — я надиктовал в комлог и написал в отчете, — и я кивнул в сторону экрана, — думаю, Перка и Франкенберга убили либо те, кто уничтожил информацию с накопителей, либо…
— Либо — не те… Понятно, — отмахнулся Шеф, — еще какие соображения? Только не тараторь так…
И я принялся вслух рассуждать — медленно и обстоятельно — в надежде, что порядок в мозгах наступит сам собою, непосредственно в процессе рассуждений.
— Итак, что мы имеем на сегодняшний день. Во-первых, два трупа — Перк и Франкенберг. Во-вторых — пропавшая информация о каких-то биологических исследованиях. Строго говоря, ее то у нас как раз и нет, но то, что она пропала — это факт. Далее, очевидно, существует некая связь между этими двумя убийствами и исчезновением данных с накопителей.
— Не то чтобы совсем очевидно, но… ладно, пусть будет так. Смерть Франкенберга, без сомнения, убийство, но вот Перк мог и сам выпрыгнуть, — Шеф пытался возражать, но без видимой охоты.
— Да хоть бы и сам, но не без причины ведь. Адрес Франкенберга он стер перед смертью, следовательно Франкенберг тоже замешан. Когда я отправился к профессору, убийца следил, либо за мною, либо за домом и попытался убить нас обоих, потому что мы оба — и я и Франкенберг — связаны с Перком. Возможно, убийца не планировал убивать меня, но ему подвернулся удобный случай, к тому же он испугался, что Франкенберг мне все расскажет… В общем, тут все, на мой взгляд, понятно. Теперь о гномах. Когда я первый и единственный раз беседовал с Перком, я спросил о них напрямик. Перк все отрицал, но, по-моему, очень неубедительно. Добавьте к этому стертые локусы с гномами, рассказ самого Франкенберга и, наконец, снимки в его кабинете, и вы поймете, что гномы — не плод моего воображения. Гномы действительно существуют!
Последняя фраза у меня получилась, что надо! Если бы кто-нибудь услышал только ее, то ему и в голову бы не пришло со мною спорить — кто же спорит с сумасшедшим. Но Шеф слышал все и потому сказал:
— А если «гномы» — это всего лишь название для биороботов, ведь Франкенберг ими занимался какое-то время. Надо бы показать твою запись о беседе с Франкенбергом специалистам по биороботам.
Делиться со специалистами мне не хотелось.
— Не стоит. Франкенберг действительно конструировал биороботов — лет двадцать тому назад. Что делал потом, никому неизвестно — вся информация исчезла. Стоило ли ее уничтожать, если бы он продолжал заниматься только ими. Из биороботов никто не делает тайны, они же, в сущности, та же нейросеть, только не на кристаллах, а на нуклеотидных цепях. А снимки? Биороботов не делают похожими на людей. Единственное исключение — детские куклы. Нет, тут что-то другое.
— А что нам вообще известно про Франкенберга? Кроме того, что он умер, — спросил Шеф.
— До того срока, что я назвал — довольно много. Учился на Земле, в Еврапе…
— В Европе…произносится — Европа, — вежливо поправил меня Шеф.
— А…, ну да, в Европе, потом работал в эээ…(я боялся опять переврать название) в общем, справку я подготовил, она должна быть у вас. Я проверил — ни с кем из тех, кого мы знаем — я имею в виду сотрудников института и их окружение — в контакт не входил. В Институте Антропоморфологии Франкенберг не работал. Но, опять таки, моя информация устарела уже лет на двадцать. Можно предположить, что он с сотрудничал с Институтом, но негласно. Перк, безусловно, об этом знал. Среди уничтоженной информации наверняка было что-то, что указывало на такое сотрудничество.
— А не мог ли Перк сам ее уничтожить?
Я уже задавался подобным вопросом, и потому ответ был у меня готов, если это можно считать ответом:
— Вся каша заварилась, когда пользователи пожаловались в ОИБ. Нужна ли была Перку такая шумиха? Не разумней ли уничтожить информацию потихоньку, без лишнего шума, без скандала.
— Резонно. Итак, кроме Перка и Франкенберга, в деле замешаны еще какие-то лица. Кто они — мы пока не знаем.
— Факт! — радостно согласился я. Мне нравится, когда Шеф прав — в таких случаях с ним можно соглашаться не кривя душой.
— Да, забыл сказать, — продолжал тем временем Шеф, — я побеседовал со Службой Общественной Безопасности и я так понял, что жена Перка сказал им про комлог.
— Еще бы она не сказала — упаковку-то они бы в любом случае нашли!
— Ладно, для нас сейчас важно не это. Для нас важно знать, как скоро полиция найдет тебя, и сколько будет стоить то, чтоб они от тебя отстали.
Я представил себя в тюрьме. Татьяна будет фрукты носить — такое вроде бы разрешается.
— Может и не найдет, — робко предположил я, — или мне лучше исчезнуть на время?
— Ну-ну, …хм, не найдет… Исчезновение тебе мало поможет, разве что, если ты исчезнешь навсегда…
Когда Шеф говорит «ну-ну», это означает, что он даже не может себе вообразить, что я должен сделать, чтобы загладить свою вину перед ним. За годы совместной работы, он всего раза два говорил мне «ну-ну». Сегодня я услышал третье «ну-ну», и если к «ну-ну» добавить неявное предложение исчезнуть навсегда, то картина складывалась совсем безрадостная.
— В том кристалле, что я привез от Франкенберга нашли что-нибудь? — я срочно переменил тему.
— Ничего особенного — только карту Южного Мыса.
— Зачем она ему? — удивился я, — флаеры и так дорогу знают.
— Криптологи пока колдуют над ней. Может, чего и наколдуют.
— Надеюсь, вы не сказали им, откуда у нас этот кристалл? — осторожно спросил я.
— А сам-то как думаешь? — возмущенно ответил Шеф. Следовало ли понимать его ответ как «нет» — не совсем ясно.
Обменявшись еще парой-тройкой столь же информативных реплик, мы расстались. После провала с Франкенбергом мне следовало бы пойти к себе в кабинет и продемонстрировать служебное рвение, но настроения не было даже для того, чтобы имитировать работу. И я поехал домой.
2
Через час после возвращения засигналил домашний нейросимулятор, а когда я ответил, на экране появилась недовольная Татьяна.
— Я целый день тебя ищу! А ты — на звонки не отвечаешь, сообщений не читаешь!
Представляю себе: дымящиеся останки профессорской башни, а среди них лежит мой комлог — целый и невредимый и, то и дело, принимает всякие вздорные сообщения. Я нехотя объяснил:
— Извини, было много работы…
— Какой еще работы?
А то она не знает какая у меня работа.
— Опасной… Ты скажи мне лучше вот что: кто такой бикадал трипода?
— Кто-кто? — удивленно переспросила она.
— Бикадал трипода.
— Не знаю кто это, но могу предположить как оно выглядит, — уверенно сказала Татьяна.
— Ну и как?
— Три ноги, два хвоста, голова, вероятно, одна, иначе назвали бы по-другому.
Объяснение не слишком понятное.
— И как такое может быть? — снова спросил я.
— Не знаю. Может четвертая нога атрофировалась в хвост. Или, например, было у него сначала две ноги, один хвост и два крыла, а потом одно крыло стало ногой, а другое — хвостом.
— Ты что, издеваешься?
— Ты первый начал.
— Ладно, проехали. Ты где?
— Я же написала — на Сапфо.
Сапфо — спутник (спутница, если опираться на легенду) Фаона.
— Ты так написала, что я не разобрал. То же мне, нашла где сапиенсов ловить.
— Какие там сапиенсы! На Фаоне они за собой чистенько прибрали, так может хоть на Сапфо что-нибудь оставили — следы или хвост отброшенный…
— Какой еще хвост? — не понял я.
— Ты что, не помнишь? Фильм был такой. Там сапиенсы отбрасывали хвосты, как ящерицы. Люди искали сапиенсов, но находили только хвосты. А мне и хвосты не попадаются, — с грустью добавила она.
— Скажи, а тебе и вправду хочется найти хвосты… тьфу… следы сапиенсов? Может, ну их к черту — без сапиенсов как-то спокойнее. Вселенную, опять же, ни с кем делить не надо. Я не вижу ни одной причины, по которой мне хотелось бы встретить хотя бы одного сапиенса.
— Ты рассуждаешь, как обыватель, — пригвоздила меня Татьяна.
— А ты безответственный…, — я хотел сказать «ученый», но это было бы недостаточно обидно, поэтому я быстро поправился:
— Просто безответственная!
— Сам ты… Ладно, буду не скоро, пока.
Давно выработанное мной с Татьяной правило: прекращать беседу до того, как успеем поругаться. Я вернулся к своим гомоидам.
Карта Южного Мыса могла оказаться в кабинете Франкенберга случайно. Но я в это не верил. С другой стороны, где-то же у него должна быть лаборатория. Эксперты сейчас роются на месте башни, но пока ничего не нашли. Да и маловата она для лаборатории. Зная, что в создании гномов-гомоидов принимал участие Перк, можно предположить, что лаборатория находится в Институте Антропоморфологии. Но тогда в проекте «Гномы» должно участвовать слишком много людей, а непохоже, чтобы это было так. Я вспомнил, как несколько дней назад в новостях упоминался Южный Мыс. Начал просматривать новости за пятнадцатое августа.
Так… радиоактивный фон, нет — это не то, метеоритная опасность — не то… конец света, спешите застраховаться… тьфу…, стоп, вот: «Пожар на биохимических заводах концерна „Фаон-Дюпон“ в районе Южного Мыса, есть жертвы. Причины выясняются.» Южный Мыс — ближайшая к Укену точка на континенте. Их разделяет две тысячи километров ледяных вод Южного Океана. В тоже время, Южный Мыс не так далек и от Фаон-Полиса. Я открыл карту, стал увеличивать разрешение, пока не стали видны цистерны с химикатами, сеть трубопроводов, дома… Все выглядело целым и невредимым, поскольку снимали до пожара. Заводы располагались частично — на поверхности, частично — в естественных пещерах, насквозь пронизывающих недра Южного Мыса. Для работы лаборатории можно использовать и коммуникации, и энергоресурсы заводов — там бы все равно ничего не заметили. Где пещеры — там и гномы, подумал я. Следует проверить, нет ли связи между биохимическими заводами и Институтом Антропоморфологии.
Я запросил спутник дать мне последние снимки Южного Мыса. Через десять минут я их получил, но они оказались малопригодными — дым от пожара заволок всю округу.
Мысли расползались, ни собрать их воедино, ни хоть как-то упорядочить никак не получалось. Тогда я стал их записывать, или, точнее, зарисовывать, поскольку их графическое изображение походило на сложную трехмерную диаграмму со множеством стрелок, знаков неравенства, включения и исключения. На концах стрелок часто возникали вопросительные знаки. В целом, диаграмма выглядела не проще, чем тот спутанный клубок мыслей, что сидел в моем мозгу. Зато я как бы вынес этот клубок за пределы головы и теперь мог его хорошенько рассмотреть. Берх как-то раз сказал (хотя никто его за язык не тянул), будто однажды он представил себе вспышку света, настолько яркую, что сам едва не ослеп. Но Берх всегда умудряется выбрать себе неблагодарных слушателей. Вот и в тот день поблизости оказался Нимеш из ОИБ, и он спросил Берха, а может ли тот сам себя напугать так, чтобы самому наложить в штаны. Берх огрызнулся, мол, себя — нет, но вот чтоб Нимеш наложил в штаны — это пожалуйста. Они тогда чуть не подрались.
В моем случае, недостаток воображения компенсировал домашний нейросимулятор. Вместо того, чтобы думать над проблемой, я долго размышлял над тем, как озаглавить диаграмму. Татьяна говорит, что абстрактная живопись ей нравится больше, поскольку можно самой придумывать подписи — как находить ключи к замкам. Но некоторым больше по душе, наоборот, замки к ключам подбирать. В смысле, уметь находить загадку там, где ее нет. Все, запутался.
Построенная диаграмма даже на абстрактную живопись не тянула, но придумать к ней подпись мне ничего не мешало, и я назвал ее «Гомоидологическое древо».
Шеф полагал, что следует привлечь специалистов, — может, они смогут понять то, что наговорил мне Франкенберг. В сущности, сказал Франкенберг не так уж много. И упомянул всего лишь два имени: Лефевр и Адам Кадмон. Очевидно, первый жил позже второго, поэтому следует начать с Лефевра. Франкенберг сказал, что Лефевр положил начало какой-то теории, которую сам он то ли опроверг, то ли, наоборот, использовал.
Я вновь обратился за помощью к Накопителю Фаона. Подумав несколько секунд, компьютер высыпал мне список из сотни-другой локусов. Фамилия «Лефевр» оказалась довольно-таки распространенной — как Смит или Кузнецов — значение, во всяком случае, похожее. Я добавил к трафарету слово «гномы», но взамен ничего не получил. Стало быть, о гномах он ничего не писал. Что ж, это к лучшему — есть вероятность, что он писал о чем то более важном. Я стал подключать к поиску другие слова, имеющие отношения к антропологии и биологии. В том числе и те, что произносил Франкенберг. Относительная удача меня постигла, когда я добавил к Лефевру «рефлексию». Удача состояла в том, что в конце двадцатого земного века жил ученый с такой фамилией и занимался он построением моделей, симулирующих эту самую рефлексию. Относительность же удачи заключалась в том, что имя упоминалось в статье, принадлежавшей вовсе не Лефевру, а кому-то из его критиков. Критик жил двумя столетиями позже Лефевра — в двадцать втором веке. Ничего более позднего, я не нашел. Когда один ученый ссылается на другого, жившего много раньше него, очень трудно восстановить, что же происходило в науке, когда один уже умер, а другой еще не родился. Пока я искал только на нашем Накопителе, поэтому данных было немного, но поступали они быстро. Мелькнула еще одна ссылка. Тот же В. Лефевр, та же «рефлексия», но дальше меня отсылали в архив, а находился он, судя по адресу, где-то на Земле. Искать там несколько дольше. Послав запрос и для ближайших планетных Накопителей и для Земных, я принялся обдумывать текущие дела.
Не позднее, чем завтра утром, нужно представит Шефу план действий, иначе за его «ну-ну» могли последовать оргвыводы, вплоть до отстранения от задания. И это было бы грустно. Но погрустить прямо сейчас мне не дали — Шеф вышел на связь:
— Значит так, завтра похороны Перка, пойдешь туда, там наверняка будут его коллеги, постарайся познакомиться с ними поближе, но не так, чтобы знакомство закончилось, как с Перком. Насчет семьи, тоже, не забудь. Все ясно? — произнес он скороговоркой.
— Абсолютно! — резво ответил я и спросил: — Вы не против, если я скажу пару слов о…
— Валяй.
— Во-первых, по поводу того, где искать лабораторию Франкенберга…
— Уже ищут.
— А где?
— В башне, вернее, в том, что от нее осталось.
— Это правильно, но есть еще вариант — Южный Мыс. Там что-то произошло — пожар на биохимическом заводе или вроде того — об этом говорили в новостях. Южный Мыс находится довольно близко от…
— Географию я знаю, но почему…, то есть, в чем тут связь? — опять прервал меня Шеф.
Я поспешил выплеснуть на него все свои домыслы:
— В таком случае, вам, безусловно известно, что биохимические заводы, вернее их наиболее опасная часть, расположена в местных пещерах. Преступники уничтожают всех и все подряд, может и пожар — их рук дело. Там удобное место для лаборатории — сравнительно безлюдно, близко от Укена, все коммуникации имеются — там ведь завод. Плюс — карта Франкенберга. И главное: ведь сказано, что гномы живут в пещерах!
— Стоп, стоп. Так это Франкенберг тебе сказал, что он держит своих созданий в пещере? Почему в отчете об этом ничего не сказано?
— Да нет, я про настоящих гномов. Они живут, или жили, в пещерах. Для убедительности, могу показать ссылки, — и тут до меня доходит, какой бред я несу. Шеф помолчал секунд пятнадцать, видимо, решая, кто из нас двоих чего-то не понимает, потом неуверенно выдал:
— Ладно, проверим пещеры. Ты сказал — две идеи, — напомнил он. Я-то думал, ему так понравится первая, что о второй он и не спросит.
— Вы говорили, что дадите экспертам прослушать ту запись, где я пересказываю беседу с Франкенбергом. Они что-нибудь говорят?
— Заметь, это вопрос, а не идея… Запись я пока никому не давал.
— Это хорошо. Я, тут, между делом, поискал, и нашел нечто занятное. Вернее, думаю, что нашел. То есть, нет — я точно нашел, но занятно это или нет — решайте сами. Франкенберг говорил мне о неком Лефевре и о его теории рефлексирующего разума. Я принял слова Франкенберга всерьез и поискал этого самого Левефра.
— Ну и …
— Нашел. Правда, жил он довольно давно, в двадцатом — двадцать первом веке — на Земле, разумеется.
— С таким же успехом Франкенберг мог упомянуть Франкенштейна — такой тип и в самом деле жил когда-то на Земле — так же, как твои гномы.
Шеф любил блеснуть эрудицией не меньше, чем Берх.
— Нет, это абсолютно разные вещи, — возразил я, ни сном ни духом, не ведая, кем таким был Франкенштейн. Но ведь Шеф поступил ничуть не лучше: взялся судить о Лефевре, ничего о нем не зная. — Я отправил запрос о Лефевре на все подряд накопители и когда придет ответ, думаю, тут будет с чем повозиться.
Я так и выразился — «повозиться» — поскольку, что именно мне с ним делать, пока не знал.
— Ну делай, как знаешь, — Шеф отнесся к моему плану безо всякого энтузиазма, — это и была твоя вторая идея?
— Она самая, — с достоинством сказал я.
— Ладно, о результатах доложишь. Завтра — на похороны — в центральный крематорий, с утра. Оденься поприличнее. До встречи.
«Оденься поприличнее» — его дежурная шутка. Мне же было не до шуток. На похоронах могла появиться полиция, встречи с которой мне теперь строго противопоказаны.
Перед сном я почитал книжку про того типа, что Шеф упомянул в разговоре — про Франкенштейна. Оказалось, что они с профессором не только почти однофамильцы, но и занимались чуть ли не одним и тем же, только первый — в начале девятнадцатого земного века. И кончили они одинаково плохо. Была еще одна деталь, общая для них обоих, но в тот момент я не мог обратить на нее внимание.
3
«Здание центрального крематория является старейшим в Фаон-Полисе» — написано в туристическом путеводителе. Наверное, так оно и есть: когда осваивались новые планеты, переселенцы первым делом заботились о том, чтобы органические отходы и прочие продукты жизнедеятельности (к которым, как это не печально, следует отнести и тела умерших людей) не засорили новый неизведанный мир и не привели бы к экологической катастрофе. Поэтому приходилось строить специальные перерабатывающие заводы — в просторечии — крематории.
Если исключить покойных, то тем, кто впервые попал в Зал Прощания казалось, что они очутились внутри опрокинутой на бок, четырехгранной усеченной пирамиды: потолок и боковые стены помещения почти сходились у противоположной от входа стены. Возле нее уже невозможно стоять в полный рост, да и не нужно — там располагается жерло кремационной печи. Глядя на задрапированные плотной черной тканью, старомодные осветительные лампы, я подумал, а не станет ли светлее, если их выключить. Люди вокруг стояли тихо, лишь изредка перешептываясь, при этом они шептали о вещах посторонних, непосредственно к виновнику похорон не относящихся.
— Мне это напоминает конец света в конце тоннеля, — прошептал кто-то позади меня. Шептала женщина. Думаю, она имела в виду сужение зала перед жерлом.
— Чрево Канала, — ответил ей мужской шепот, — черная дыра наоборот.
— Почему «наоборот»?
— Потом объясню…
Объяснений я так и не услышал.
Две дамы справа от меня, пожилая и молодая, шептались о вещах куда более приземленных:
— А ты заметила? — прошептала пожилая, но так, чтобы всем рядом стоящим было слышно.
— Что заметила? — переспросила дама помоложе.
— Я не ожидала, что она придет… надо же, ни стыда ни совести у людей…
О ком они говорили, оставалось лишь предполагать. Стоявшая впереди меня немолодая семейная пара не ожидала ничего, кроме скорого окончания печальной процедуры. «Потерпи, недолго осталось», — донесся до меня голос жены. Фраза была двусмысленна, поскольку ее супругу было никак не меньше восьмидесяти.
Согласно завещанию покойного, его прах должен быть развеян над Южным Океаном, что снова возвращало мои мысли к одноименному Мысу, где была гора, а в горе…нет, не дыра, а пещера, естественный лабиринт, весьма подходящее место, чтобы спрятать от посторонних глаз то, что для этих глаз не предназначено. Накануне я еще раз просмотрел снимки сотрудников Института и теперь без труда узнал в читавшем надгробную речь чернобородом крепыше Дэна Симоняна — заместителя директора Института и руководителя одела прикладной генетики. Здесь же присутствовала уже попадавшаяся на моем пути, симпатичная худенькая брюнетка Лора Дейч, вынужденная теперь, вместо Перка, руководить Тонкими Нейроструктурами. Молодого и тощего Лесли Джонса, старшего сотрудника отдела, название которого мне не в жизнь не выговорить, я не сразу заметил, поскольку он жался где-то в углу. По-моему, он притворялся служащим крематория. Во всяком случае, и уныло-безразличным выражением лица, и костюмом он очень напоминал «крематорцев» — у кого еще в столь молодом возрасте может быть поношенный траурный костюм. На мой взгляд, Джонс не тянул даже на двадцать шесть — такой возраст был указан в досье.
Фил Шлаффер мог стоять у жерла не пригибаясь, только рыжие, торчащие во все стороны волосы касались бы потолка. Но сейчас он находился не у жерла, а возле гроба, прямо напротив Симоняна. Бок об бок с Шлаффером стояла темноволосая женщина в черном траурном платье; за руку она держала маленького мальчика. Ее я определил как вдову Перка — Эмму Перк. Когда ее взгляд скользил по присутствующим, он на мгновение остановился на мне — так мне показалось, но я мог и ошибиться, поскольку вдова была в темных очках. На всякий случай, я кивнул в ответ. Никак не прореагировав на мой кивок, она отвернулась.
— Вы знали покойного? — вопрос подкравшегося сзади Джонса застал меня врасплох. Голос у него был предельно, даже, чересчур, проникновенным. Я очень рассчитывал на то, что на похоронах не принято расспрашивать, кто и зачем пришел.
— Я знаком с его работами, — ответил я достаточно стандартной фразой и тем же тоном.
— Вы биолог? — еще проникновеннее спросил Джонс.
— Не нужно быть биологом, чтобы по достоинству оценить значение его открытий, — ответил я совсем елейным голоском. Если так и дальше пойдет, то скоро мы с ним разрыдаемся. Наверное, он это понял, и следующий вопрос был задан уже с нажимом:
— Тогда кто вы? Репортер?
В другой обстановке я бы послал его за радиус Хаббла, но в крематории полагалось держать себя в руках.
— Вы почти угадали, — ответил я.
Джонс неожиданно признался:
— А вы знаете, я грешным делом подумал, что вы из Службы Общественной Безопасности, они ведь ходят на такие… хм, мероприятия.
— Насколько я слышал, Перк сам, …ну, вы понимаете… — я не договорил.
— Да, я понимаю, но они и на самоубийства ходят, то есть, я хотел сказать, туда, где хоронят тех, кто — сами, — еле слышным шепотом, с трудом подбирая слова, ответил он.
— Ученый, изучавший жизнь, добровольно выбрал смерть… Парадоксально, вы не находите?
— Я об этом не думал… — ответил он.
Заиграла траурная музыка, все склонили головы и гроб медленно двинулся в жерло кремационной печи. Когда люк закрылся, свет стал ярче, музыка стихла, и висевшее в воздухе напряжение стало понемногу спадать. Через десять минут должны были вынести прах покойного.
Кто-то тронул меня за локоть. Я ожидал снова увидеть Джонса, но тощий молодой человек вдруг превратился в коротышку Шлаффера.
— Я знал, что вы придете, — прошептал он мне на ухо и подмигнул, — здесь поспокойнее чем в институте, правда?
Я согласился. К чему это он про спокойствие-то вспомнил.
— Полиция меня допрашивала, — продолжал нашептывать он, — но про вас я не сказал ни слова.
— А с какой стати вы должны говорить им обо мне? — удивился я, — насколько я помню, речь мы вели не о Перке.
— Иными словами, вы настаиваете на том, что ваш визит в институт и самоубийство Перка никак не связаны?
— Ни коим образом, — заверил его я и отвернулся.
— Обидно, — пробормотал он, вновь коснувшись моего локтя, — обидно, что я, пренебрегая, можно сказать, своим гражданским долгом, молчу как рыба, а вы не хотите мне ничего рассказать. Это нечестно.
Уж не шантажировать ли он меня собрался. Он начинал меня злить.
— Щлаффер, придет время, и вы сами прибежите ко мне… Вы же не хотите последовать вслед за Перком? — брякнул я первое, что пришло в голову.
Он отшатнулся от меня, как от зачумленного. Воспользовавшись его замешательством я направился к Лоре Дейч.
По тому, как она на меня посмотрела, я понял, что она меня узнала и, похоже, удивилась.
— Печальный день… — сказал я.
— Да, вы правы, — Лора от чего-то смутилась, нервно сжала в замок кисти рук, и когда они хрустнули, вздохнула так, будто этот хруст принес ей облегчение.
— По моему, вы опечалены больше, чем все остальные вместе взятые.
Это была не просто вежливость, я действительно так подумал. Лора промолчала. Не было никакого желания ее беспокоить, но я пришел на похороны не по собственной прихоти.
— Я смотрю сейчас в ваши глаза и знаете, что они мне напоминают?
— И что же? — Лора поняла, что сейчас грянет комплимент.
— У вас радужная оболочка вокруг зрачка светлее чем у края. Понимаете, получаются такие светло-коричневые лучики вокруг черного зрачка, у края они сходят на нет… В общем, солнечное затмение маленькое такое…
— …Или фонарь в Зале Прощания, — закончила она мою мысль, — фонари навели вас на этот необычный комплимент?
— Нет, что вы…— растерянно пробормотал я.
Играть с ней в ассоциации на деньги я бы не стал. Но зато, решил блеснуть интуицией:
— Почему вы не сказали полиции, что я встречался с Перком незадолго до его смерти?
— Мне и в голову не пришло, что тут есть связь… А она действительно есть? — испуганно спросила она.
Ситуация вышла прямо противоположная той, что была со Шлаффером.
— Просто, мне это показалось странным.
— Постойте, а откуда вы знаете, что я не сказала им о вашем визите? — спохватилась она, — вы работаете на полицию?
— Я работаю только на себя, — ответил я. Слышал бы Шеф, каким гордым тоном я это сказал. Вдохновленный, я продолжал угадывать:
— Возможно, мне это только послышалось, но некоторым из присутствующих не нравится, что вы сюда пришли, и мне кажется, я знаю почему…
Она вспыхнула:
— Я не понимаю, о чем вы говорите. И вообще, почему вы все время ко всем лезете, что вам нужно, в конце-то концов?
Только-только наладив контакт, я вмиг все испортил. Начал неуклюже извиняться:
— Ради бога, простите, я не имел в виду ничего дурного… И успокойтесь, прошу вас… У меня одна цель — разобраться в том, что произошло — только и всего. Но если вы не хотите сейчас об этом говорить, я не буду настаивать — в другой раз поговорим. Расскажите мне лучше о сотрудниках. Вот, например, Джонс — такой молодой, а уже старший…
Она могла бы и не отвечать. Но обрадованная тем, что я не стал больше касаться ее отношений с покойным, она ответила:
— Он способный, Перк ему очень симпатизировал. Джонс его протеже, если можно так выразиться.
— Давно он у вас работает?
— Лет шесть. Он начинал у Перка простым лаборантом. Не знаю, откуда Перк его выкопал, но он в Джонсе не ошибся.
— Ясно, а Шлаффер, он что за тип?
— Неприятный — жуткий сплетник и всюду сует свой нос как…
Я подсказал:
— Как я?
— Вас я не знаю, — сказала она резко, — может и как вы… Ой, извините, но вы сами напросились.
— Согласен, — кивнул я, — а Симонян?
— Серьезный ученый, я с ним мало знакома, но он большой авторитет в своей области.
Как бы опровергая только что сказанное, Дэн Симонян окликнул Лору по имени. Обменявшись координатами, мы попрощались.
Тем временем урну с прахом вынесли, все потянулись к выходу. На площадке перед зданием крематория стоял черный флаер-катафалк — на нем вдова и двое сотрудников похоронной команды полетят к тому месту, где покойный завещал развеять свой прах. Пока я наблюдал за погрузкой урны, человек средних лет, одетый в костюм настолько неприметный, что это сразу же бросалось в глаза, отделился от стены (последние пять минут он ее старательно подпирал) и направился ко мне.
— Тэд Ильинский? — строго спросил он.
Никаких иллюзий по поводу того, к какому ведомству он принадлежит, я не испытывал.
— Нет, — ответил я.
Мужчина секунду колебался, затем представился:
— Майор Виттенгер, Служба Общественной Безопасности. Возможно, мы ошиблись касательно имени, но это ничего не меняет. У нас есть к вам ряд вопросов, поэтому прошу вас проехать с нами.
— Если вы даже с именем ошиблись, то могли ошибиться и в остальном. Почему я должен с вами ехать? — для начала, я решил немного понаглеть — там видно будет.
— Тише, не стоит привлекать внимание — это не нужно ни вам, ни мне, — прошипел полицейский.
Я посмотрел вокруг. Никого мы с майором не интересовали, все давно прошли вперед, к посадочной площадке.
— Начинайте прямо здесь, а я уж решу, где нам будет удобнее, — сказал я.
Майор Виттенгер, без сомнения, знал, как произвести нужный эффект. Он не стал грозить или уговаривать. Он просто произнес мне на ухо несколько букв и цифр, и я понял, что мои худшие опасения сбылись.
— Ладно, поехали, поговорим, — сказал я.
— Вот так-то лучше, — мягко произнес он, и мы двинулись к полицейскому флаеру.
4
В департаменте расследований тяжких преступлений было победнее, чем у нас в Отделе. Департамент располагался там же, где и все остальные городские учреждения — в сером аляповатом здании муниципалитета. Оно одиноко стояло на высоком песчаном холме в десяти километрах к северу от озера — отсюда весь город виден, как на ладони. Кабинет Виттенгера был тесен и грязноват, но обладал одним неоспоримым преимуществом перед кабинетом Шефа: высокие застекленные двери выходили на просторный балкон, размерами превосходивший сам кабинет. Из-за таких просторных, беспорядочно расположенных балконов здание муниципалитета и казалось аляповатым и бесформенным.
Виттенгер не спешил начинать беседу. Он указал мне на жесткий металлический стул, стоявший возле обшарпанного казенного стола; спросил нет ли у меня каких пожеланий (думаю, — спросил не всерьез), затем прошел к балконным дверям и распахнул их настежь. Колкая холодная пыль вперемешку с шумом взлетавших и садившихся флаеров заполнила комнату. Постояв у выхода на балкон с полминуты, он, со словами «нет, так, пожалуй, будет холодновато», закрыл двери и вернулся к своему столу. Пока он стоял в дверях, я успел его рассмотреть (во флаере мы сидели в разных отсеках — он в кабине пилота, я — в «садке» для задержанных). Виттенгеру было лет сорок — сорок пять; одного со мной роста, но пиджак носил на три размера больше моего. Квадратная челюсть, крупный мясистый нос, серые глаза, полные высокомерного презрения, — в общем, полный набор, чтобы не дослужиться даже до лейтенанта. Однако Виттенгер был майором и начальником группы по расследованию убийств. Кроме нас двоих в кабинете никого не было, но при желании, за нами могла наблюдать хоть сотня человек. Оружие и комлог у меня, разумеется, отобрали.
— Почему вы сказали, что вас зовут не Тэд Ильинский, — поинтересовался он первым делом. Я молча сунул ему карточку журналиста. Он взял ее двумя пальцами, взглянул.
— Ну извините — всех вас не выучишь, — извинение плавно переходящее в хамство.
— Кого это «нас»? — спросил я с любопытством.
— Сами знаете, — не долго думая ответил он, — чем занимаетесь, господин Ильинский?
— Там написано, — я ткнул я карточку, — для грамотных…
Виттенгер небрежно бросил карточку на стол — так, как бросают в урну использованную салфетку.
— Значит «Сектор Фаониссимо», говорите… И с каких это пор репортеры носят с собой оружие?
— В нашем деле всякое бывает — как и в вашем.
— Ладно… Так что вы там делали?
— Где, в «Секторе Фаониссимо»?
— Нет — в квартире Перка, — прорычал он.
— А я там был?
— Перестаньте, — поморщился Виттенгер. Создавалось впечатление, что всерьез он меня не воспринимает. — На похоронах я был не один, а со свидетелем, который видел вас выходящим из квартиры Перка сразу после того, как Перк выпал из окна. Свидетель вас опознал. Метод допотопный, я согласен, но на этот раз он сработал.
— А как вы узнали мое имя?
— От одного из ваших знакомых. Он немного ошибся, но вы уж его извините.
Шлаффер настучал, подумал я. И спросил:
— А вы уверены, что Перк не сам выпрыгнул из окна?
— Сам — не сам, разберемся. Важно, что вы там были и унесли с собою кое-какую вещь, так что, давайте, рассказывайте, пока мы разговариваем по-хорошему.
— Рассказывать я ничего не буду. Хотите — спрашивайте.
— Во-первых, мне нужно знать как и почему вы там оказались. Во-вторых, мне нужен комлог, в-третьих, вы мне скажете имя абонента, которому Перк звонил перед смертью.
— Здесь у нас разговор не получится, — сказал я выдержав паузу и обвел взглядом комнату.
— Все отключено, — сообщил Виттенгер.
— Не-а, давайте где-нибудь на свежем воздухе, а еще лучше, — у меня дома, а то ведь вы и за километр способны все записать, — предложил я.
Он задумался. Поведение Виттенгера меня настораживало. Зачем-то выложил мне все, что знает. И совсем не так я представлял себе допрос в СОБ — один на один, я имею в виду. У Витеннгера был вид игрока, обдумывающего следующую ставку. Наконец он созрел:
— Балкон подойдет?
Я уперся:
— Нет уж, везите меня назад, откуда взяли, — место там спокойное, располагающее к беседе.
— Там на другие темы хочется говорить, — усмехнулся он, — ладно, пойдемте, заберете свое барахло и вперед.
Не ожидал я, что он так быстро согласится.
Перед крематорием было пусто, двери закрыты. Мы прогуливались от его флаера к моему и обратно, и беседовали, как старые знакомые. Правда пять минут назад эти старые знакомые поискали друг у друга подслушивающие устройства. Наверное, со стороны, это выглядело по-идиотски. У меня было две причины приоткрыть ему свои карты. Во-первых, он, если и не мог навесить на меня убийство, то уж продержать неделю-другую в камере вполне способен. И даже обязан. А это означало конец моему расследованию и весьма туманные перспективы продолжить работу в Отделе. Во-вторых…, а во-вторых, он сказал:
— Я могу лишь предполагать, на кого вы работаете, но уверен в одном — огласка вам нужна меньше всего. А я легко могу это устроить.
В глубине души, я надеялся, что еще не все на свете знают, на кого я работаю. Поэтому, необходимо было искать компромисс. Оставался только один вопрос: стоит ли откровенничать с Виттенгером не переговорив предварительно с Шефом.
— Мне нужно переговорить со свои руководством, — сказал я.
— Хотите приберечь информацию для первой полосы? Ладно, валяйте, — позволил он.
Я соединился с Шефом и обрисовал ему ситуацию. Тот велел позвать Виттенгера. О чем они говорили, я не слышал. После разговора с Виттенгером Шеф сказал мне: «Комлог и Франкенберг — это все».
Получается, что, в сущности, я сообщил ему только про Франкенберга. И понятно, почему Шеф велел мне сказать о нем Виттенгеру. Если не сказать, то полицейский начнет сам искать абонента, и даже с учетом того, что задача-то элементарная, за дело возьмется целая армия криптологов и, таким образом, о профессоре узнает не один десяток людей, а это нас никак не устраивало. О пропавших локусах, о моем неудачном посещении профессора и о гномах я не сказал ни слова, но у меня было такое предчувствие, что рано или поздно придется сказать. О взрыве на Укене Виттенгер слышал, но с Франкенбергом не сопоставил.
— Над чем работали Франкенберг и Перк? — спросил он.
— Толком не знаю, какие-то опыты над людьми, — ответил я и, в общем-то, не сильно соврал.
— И что теперь намерены делать?
Если б только я сам это знал…
— Зависит от того, найдем ли мы убийцу Перка.
— И вы туда же! Ну ладно, верю, — вздохнул он, — теперь о комлоге. Он мне нужен.
— Хорошо, но в обмен на…
— В обмен на что?
— Никаких обвинений и сотрудничество, разумеется.
— Посмотрим, — недовольно пропыхтел он, — так когда вернете комлог?
— Завтра устроит?
— Ладно, устроит.
Торговля прошла удачно — так мне показалось. На прощание мы пожали друг другу руки — и впрямь, как старые друзья, — и договорились встретиться на следующий день. Он уже направлялся к своему флаеру, когда я крикнул ему вдогонку:
— А вы ведь с самого начала знали, что я не убивал Перка.
— Конечно, знал, — спокойно ответил Виттенгер, — свидетель, верхом на котором вы ворвались в здание вас тоже опознал. Мы установили, что это случилось уже после того как Перк выпал из окна. Но помните: у свидетелей короткая память, — добавил он как бы предупреждая, чтоб я вдруг не пошел на попятную.
Обошелся он со мной вполне профессионально. Я смотрел, как он улетает и тут понял, что знаю имя убийцы. Идея не лезла ни в какие ворота, но то был единственный вариант — по крайней мере, исходя из тех посылок, что мы с Шефом обрисовали.
5
Выслушав меня, Шеф спросил:
— Ты уверен, что убийца именно она? — как будто моя уверенность или, наоборот, неуверенность, имела какое-то значение.
— Не уверен, но все сходится к ней. Убийца не забрал комлог по одной единственной причине — он знал, что в нем ничего нет. А кто мог это знать? Только тот, кто знал, что комлог совсем новый, и в нем попросту не может ничего быть.
— Не обязательно! Убийца мог стереть запись и уйти, — возразил Шеф.
— За две минуты? Да не в жизнь! Стереть так, чтобы не осталось ни кусочка информации можно лишь зная специальный пароль. Вспомните, что говорила Яна. Первоначально пароль устанавливает производитель и, естественно, сообщает его покупателю. Потом покупатель может изменить пароль, но когда бы Перк успел это сделать, если распаковал комлог прямо перед смертью? Таким образом, мы снова возвращаемся к Перку и его жене — она-то могла знать пароль.
— А почему ты так уверен, что убийцу могла заинтересовать информация на комлоге? Если уж на то пошло, ему гораздо важнее было представить смерть Перка как самоубийство, поэтому он и оставил все на месте.
— Стертые локусы — вы про них забыли? Убийца уничтожает все, что связано с «гномами» — и людей и информацию. Информация для него важнее! А что касается имитации самоубийства, то эта инсценировка лишний раз доказывает, что убийца — кто-то из ближайшего окружения Перка, кто-то, кого мы хорошо знаем. Поэтому ему очень важно, чтобы смерть выглядела более-менее естественно, иначе подозрение падет именно на него.
— Но саму версию самоубийства ты пока не исключил, — заметил Шеф.
— Согласен, но в свете того, что случилось с Франкенбергом, вряд ли смерть Перка была самоубийством.
— По-твоему и Франкенберга взорвала жена Перка?! Ну не женщина, а просто дьявол в юбке! Брось — надо сначала проверить ее алиби, а потом обвинять.
— Алиби я проверю, но вот второй момент — как вообще могло произойти подобное убийство? Что, предусмотрительный убийца заранее открыл окно? Или Перк спокойно наблюдал как готовится его самоубийство? Откуда убийца знал, что Перк появится дома именно в этот час? Пока Перк болтал с Франкенбергом, его жена спокойно открыла окно, расположенное как раз рядом с тем местом, где он стоял — не мог же он подумать, что его собственная жена готовит ему такое. Окно почти до пола, и не нужно быть силачом, чтобы вытолкнуть в него тщедушного Перка…
— Погоди, не тараторь ты так, — перебил меня Шеф, — ты безусловно прав, говоря, что убийца не мог знать, что Перк появится дома в этот час. И не ждал его. Убийца просто обыскивал квартиру. Тут возвращается Перк. Убийца прячется в соседней комнате и слышит его разговор с Франкенбергом. Он видит или слышит, что Перк распаковал новый, «чистый» комлог. Дождавшись пока Перк закончит говорить, он оглушает его чем-нибудь, открывает окно и выбрасывает бедного Перка прямо тебе под ноги. Затем, уходит.
— Ага, а Перк, зная, что сейчас его убьют, предусмотрительно стирает адрес Франкенберга с комлога. Умно — ничего не скажешь! — я распалялся все больше и больше.
— Почему бы и нет? Он же собирался подарить его сыну, зачем тому адрес Франкенберга? А о мотиве убийства ты подумал? Зачем жене понадобилось ни с того ни с сего убивать своего мужа?
— Вряд ли она планировала что-то подобное, скорее — это было спонтанное решение. Вероятно, ответ кроется в сути разговора Перка с Франкенбергом. Например так: Перк сообщил ему о моем визите и о том, что я знаю о гномах. И Перк говорит ему, что он готов мне все рассказать. И если предположить, что Эмму Перк, по какой-то причине, это не устраивает, то почему бы ей не воспользоваться случаем и не устранить его насовсем. Логично?
Шефу так не казалось.
— Твоя версия за уши притянута. Тут должно быть другое решение.
— Зачем другое, когда одно решение уже есть?
— А если все же выяснится, что у жены есть алиби на то время, когда было совершено нападение на дом Франкенберга?
— Не исключено, что у нее есть сообщник. Кроме жены и Перка есть еще кто-то третий…
— Угу, и третий, и четвертый… С помощью третьих и четвертых можно что угодно объяснить!
— Не забывайте — ведь есть еще и гомоиды или «гномы» или как вам угодно…
— Их никто не видел!
— Кто — никто? Мы с вами? Это верно. Но это не значит, что их вовсе нет на свете! — терпение у меня кончалось.
Шеф принял решение, абсолютно для меня неожиданное:
— Завтра, когда будешь встречаться с Виттгером, изложи ему свою версию. Но без подробностей. Пусть последит за вдовой. Посмотрим, к чему это приведет.
Решение несколько странное. Шеф не любит подключать к своим делам кого-то со стороны. Это не в его характере, да и сами наши дела не для чужих ушей и глаз. Происходило что-то, чего я не понимал. Шефу понадобилось параллельное расследование. Такое может быть лишь в одном случае — он боится, что ему не дадут довести дело до конца. Или обнародовать его результаты, если они стоят того, чтобы быть обнародованными. Подобное уже случалось и не раз. Как, например, в «Деле Оркуса». Властям Оркуса очень не хотелось оглашать результаты расследования — боялись массовой эмиграции жителей. Но тогда проблему решили. Текущее расследование на оркусовское ничуть не походило.
6
Мы договорились встретиться в заведении под названием «Пунктприемапищи». Первым поселенцам приходилось устраивать что-то вроде общественных пунктов питания, наверное, они так тогда и назывались. Движимые ностальгией, владельцы ресторана постарались воссоздать атмосферу тех романтических времен. Они развесили по стенам звездные карты, снимки первых поселков и тех мест, откуда были родом первые переселенцы. Ресторан располагался в основании восьмого термитника (я живу в шестом). Подобные заведения есть в любом термитнике, и местные обитатели, как правило, составляют большую часть посетителей. Только называются эти ресторанчики везде по-разному.
Когда я пришел, Виттенгер был уже там. Он сидел один, в самом дальнем и темном углу второго зала ресторана, держал обеими руками бокал с полупрозрачной коричневой жидкостью, как бы согревая его. Судя по тому, что бокал был полон, он никак не решался отхлебнуть.
— Что это там у вас? — спросил я его, чтобы не говорить сразу о делах. «Коньяк» — так он назвал ту этиловую настойку. Я заказал себе кофеиновой шипучки.
— Комлог принесли? — спросил он, когда я, получив свою шипучку, сделал первый глоток.
— Принес, — кивнул я и отдал ему комлог. Было заметно, что Виттенгер чем-то расстроен.
— Что случилось?
— Что?.. А, так, ничего, — его мысли витали где-то далеко.
— Слушайте, а что мой босс сказал вам вчера? — снова спросил я его.
— Вот у него и спросите… А если он не скажет, то значит так и надо, — в его ответе был определенный смысл. Мы замолчали.
В зале, где мы сидели, повисавшее время от времени молчание — обычная вещь — и вот почему. Помещение ресторана «Пунктприемапищи» состоит из двух залов. Первый — тот, что ближе к выходу — стилизован под корабельную кают-компанию, и именно в нем развесили по стенам снимки, картины местных живописцев, звездные карты и прочие ностальгены (как выразилась однажды Татьяна). Этот зал ничего интересного из себя не представляет. Пройдя под низкой широкой аркой во второй зал, посетители попадают внутрь голографической панорамы, названной «Рассвет над Фаоном». Панорама изображает типичный фаонский пейзаж: справа — каменистая полупустыня с ломаной линией гор на горизонте, слева — вплотную к зрителям — горный хребет с заснеженными вершинами. Как и положено перед рассветом, с запада на восток небо окрашено всеми цветами радуги, исключая, пожалуй, зеленый. Рассвет следовало бы назвать полярным, поскольку фаонское солнце лишь делает вид, что собирается взойти, но, насколько я помню, не было еще такого случая, чтобы солнце в «Пунктприемапище» полностью взошло. Алым заревом оно пульсирует на самой линии горизонта, и более чем условный зенит по времени совпадает с максимальным наплывом посетителей. Приблизительно раз в полчаса по залу проносится черная тень — призрак фаонского сапиенса. Что это — не галлюцинация, посетители могут догадаться по легкому прохладному дуновению, сопровождавшему каждое появление призрака и бросавшему в дрожь даже завсегдатаев ресторана. Но не движение тени и не дуновение ветра заставляет посетителей прерывать трапезу и напряженно, до рези в глазах, всматриваться в предрассветный сумрак. Два красных глаза с узкими стрелками зрачков внезапно вспыхивают в темноте и тут же гаснут. Глаза возникают на доли секунды, каждый раз в новом месте неба-экрана — там, где пролетает тень. Те, кто успел их заметить вздрагивают и тут же спешат поделиться впечатлениями с соседями по столу. Остальные, не скрывая разочарования, снова принимаются за еду, поскольку знают, что в ближайшие двадцать минут призрак вряд ли вернется. Однако, аппетит от взгляда летающего сапиенса ни у кого не пропадает. Через некоторое время стук столовых приборов затихает, разговоры молкнут и сцена повторяется.
Слева от арки кто-то охнул, следовательно, сапиенс посмотрел именно туда, а я, как всегда, ничего не заметил.
— В нем есть что-нибудь? — спросил Виттенгер указывая на комлог.
— Пустой.
— Сами опустошили?
— Нет, таким и был.
— Так я вам и поверил!
— Придется поверить, — посоветовал я ему и таинственным голосом сообщил: —Могу еще кое-что продать.
— А у меня есть, чем заплатить? — усмехнулся он.
— Обсудим.
— Тогда, валяйте.
Я пересказал ему свою версию. Правда, я ни словом не обмолвился о предполагаемом содержании разговора между Перком и Франгенбергом. Я вообще старался не говорить о возможных мотивах преступления.
— Неубедительно, — ответил он, внимательно меня выслушав. Мне захотелось сказать, что это, собственно, его проблемы, но — сдержался.
— Последите за ней. А заодно, узнайте, где она была, когда произошел взрыв на Укене, — посоветовал я.
— Чем она так вам досадила, что вы решили спустить на нее всех собак?
— Если у нее алиби на время взрыва, то — ничем…
— Ладно, за вдовой мы последим. Но мне не нравятся ваши постоянные недомолвки. У вас же на лице написано: «говорить или не говорить?» — спрашиваете вы себя.
— И отвечаю: «не говорить», — я решил держать его на крючке, — кстати, а где она была, когда погиб Перк?
— Сказала, что с утра она была дома, затем отправилась в детский сад за сыном.
— И вы проверили? — спросил я в надежде, что он ответит «нет».
— Не так чтоб очень тщательно. У нас нет оснований подозревать ее в убийстве мужа.
— Теперь, надеюсь, они появились.
Виттенгер вздохнул:
— Похоже, вы меня используете.
— Это еще не известно, кто кого использует, — возмутился я, — вы уже достаточно получили. Особенно, если учесть, что вам назвали имя преступника.
— Ладно, ладно, не кипятитесь так, — в его голосе впервые послышались миролюбивые нотки, — последим мы за ней, так и быть. Но, если что найдем, вам тоже придется делиться.
— Сначала найдите — там посмотрим.
Виттенгер допил коньяк и заказал еще. Перехватив мой взгляд, сказал:
— Работы что-то много в последнее время. Сегодня еще одного торопыгу прибило к нашим берегам…
Он так и сказал— «торопыга». Нельзя было давать ему напиваться, подумал я.
— Какой еще торопыга?
— Если вдова невиновна, если вообще никто в смерти Перка не виновен, то он — торопыга — тот кто торопит естественный ход событий, тот кто раньше времени выпрыгивает… — недоговорив, он сделал большой глоток своего напитка.
— Из окна?
— Необязательно. Вообще…, из лодки, — язык у него заплетался, и я подумал, что тот бокал, с которым я застал его, когда вошел в зал, был не первым и, вероятно, не вторым.
— Ну и названиеце вы придумали.
— Не мы — мы названия не придумываем. Мы лишь вносим их в картотеки.
Пьяный полицейский, говорящий афоризмами — это уже слишком. Я решил, что мне пора уходить. Но не тут-то было. Он схватил меня за рукав:
— Постойте, вы куда? Останьтесь…
На нас начали оглядываться. Я снова присел. Виттенгер молчал, рассматривая что-то на донышке бокала.
— Выкладывайте, а то я спешу.
— Успеете, — ответил он так, будто знал куда я спешу.
— Кроме дела Перка, вы еще что-нибудь ведете? — я решил помочь ему, а то сидеть нам здесь до закрытия.
— Как вы думаете, почему они это делают? — задал он встречный вопрос.
— Делают что?
— Не прикидывайтесь дурачком! — взревел он, — себя убивают, зачем, спрашиваю!
Робкая парочка топталась у соседнего столика. Девушка едва заметным движением головы показала в сторону пьяного Виттенгера и сделала страшные глаза. Молодой человек кивнул в ответ, и они ушли в другой конец зала. Я посмотрел вслед удалявшейся паре. Нужно было что-то ответить, но отвечать не хотелось. Над словом «самоубийство» довлеет табу, говорить на эту тему — как прилюдно раздеваться. Для Виттенгера табу, безусловно, тоже существовало, иначе, зачем придумывать этот шутовской эвфемизм — «торопыга». Я взял у него бокал с коньяком и отлил половину себе в шипучку. Полицейский осоловевшим взглядом следил за своим бокалом. Выражение лица у него было такое, будто бокал совершил все перемещения совершенно самостоятельно, без моей помощи. То, что в конце концов бокал снова оказался перед ним, его успокоило. Я сделал несколько глотков; крутившаяся в голове мысль обрела форму, но не содержание. Содержание так и осталось в той странной книге, откуда, собственно, происходила и сама мысль. Я осторожно предположил:
— Возможно, они вовсе и не себя убивают.
— Вы хотите сказать «не сами», в смысле, всем им кто-то помог? — Виттенгер не понял мою идею. Честно говоря, я и сам ее плохо понимал.
— Нет, не то… понимаете, себя убить невозможно — ну как невозможно самого себя съесть — что-то обязательно останется — челюсть хотя бы. Поэтому должно произойти какое-то разделение. Разделение души и тела, но еще до того как свершится само действие. Или разделение самой души…
— Все не так, — отмахнулся Виттенгер, — челюсть какую-то приплел — к черту челюсти! Вот скажите, с вами бывает так: вы знаете, но не можете сказать, или наоборот, рады бы сказать, но не знаете, как именно сказать?
Это мне знакомо. Я сказал, что такое со мною часто бывает.
— Видимо не часто, раз вы еще живы, — мрачно заявил он, — так вот, самоубийство — это знак, последнее сообщение, если угодно. В жизни мы много расставляем знаков — таких, которые ничем не выразимы, кроме как собою. Живым такие знаки ни в жизнь не разгадать. Вот так. А вы — челюсть! — и он что есть силы стукнул по столу кулаком. Зазвенела посуда. — Стойте, вы же мне подали отличную идею! — вдруг осенило его. — А я пока вас ждал все сидел и думал, куда же тот торопыга запропастился. Теперь все понятно, — и он зашелся дурным пьяным смехом. — От его души отделилась какая-то часть, убила его, а потом, видать, передумала и сделала ноги — и ноги, и руки и все остальное…
Я ничего не понял. Виттенгер продолжал хохотать, приговаривая, что, мол, какое отличное объяснение я придумал.
— Какой еще торопыга у вас запропастился, что вы несете? — я пытался добиться от него вразумительного ответа. Наконец, он перестал смеяться и внезапно протрезвевшим голосом объяснил:
— Вчера вечером привезли одного типа. Он убил себя разрядом цефалошокера. А сегодня утром он исчез.
— Откуда исчез?
— Из патологоанатомической лаборатории. Представляете себе?
— Нет, не представляю, — признался я, — вы хотите сказать, что тело украли?
— Я тоже так сначала подумал, но, принимая во внимание вашу оригинальную теорию, совсем иное объяснение в голову лезет.
— Так вот из-за чего вы сегодня, мягко говоря, не в себе! — догадался я.
— Да, черт возьми! — и он снова стукнул кулаком по столу.
К нам подошел служащий ресторана. Спросил, все ли у нас в порядке. Виттенгер схватил его за лацкан и сказал, что у нас не все в порядке и в порядке никогда не будет. Назревал скандал. Я взял Виттенгера под руку и потащил к выходу. На улице он немного оклемался, но ровно на столько, чтобы самостоятельно залезть в флаер. Я повторял ему, как заклинание: во-первых, установить слежку за вдовой Перка. Во-вторых, проверить, где она была на следующий день после смерти Перка. Виттенгер старательно кивал в ответ. Убедившись, что он, в прямом смысле, включил автопилот, я с ним распрощался.
7
Придя домой, я первым делом проверил, не пришел ли ответ на мой запрос о Лефевре. Ответа с Земли еще ждать и ждать, но с соседних планет кое-что поступило. Статьи были написаны на всех языках, кроме того единственного, на котором говорю я сам. Я поручил компьютеру сделать перевод, а пока он потел, занялся приготовлениями к бессонной ночи. Приготовления заключались, главным образом, в поисках заначки натурального кофе. Я точно помнил, что из тех шести банок, что Татьяна как-то раз привезла с Земли, по крайней мере одна должна была остаться. И я ее куда-то сунул, но куда — вспомнить не мог, впрочем, это не имело большого значения, поскольку Татьяна ее наверняка перепрятала перед отъездом. Она археолог и спрятать от нее что-либо — дело безнадежное. А сама она просто обожает прятать мои вещи, называя это уборкой. Потом издевается надо мной, мол, преступников ищу, а куда собственный бластер дел — не помню. Берх говорит, что это у нее такое профессиональное заболевание — все прятать. Превратности профессии понуждают Татьяну отыгрываться на мне. Если так рассуждать, то меня должно тянуть на преступления. И если Татьяна будет продолжать в том же духе, то она и станет моею первой жертвой. Так ей и скажу, когда приедет.
Кофе нашлось в банке из-под диетических тянучек, хотя я вспомнил, и теперь уже точно, что пересыпал его в похожую, но из-под какао. Тоже, кстати, привезенного Татьяной из очередной поездки на нашу историческую родину. Это она так Землю называет, хотя, что до меня, и Фаон сойдет за родину — историческую или фактическую — не важно. Только ни кофе, ни какао у нас не растет. Холодно слишком — даже на экваторе.
К тому времени, как я приготовил и кофе и то, чем можно его закусить, компьютер закончил перевод. Кроме работ самого Лефевра, тут были и более поздние варианты его теории. Все статьи касались построения некой математической модели, согласно которой работает человеческий разум. Да и не только человеческий, а вообще, любой «рефлексирующий» разум. Самые поздние работы читать мне бесполезно — там начиналась та математика, которую я уже плохо понимаю. Но ранние работы читать тоже особенно не хотелось — язык довольно-таки устаревший и вполне вероятно, что более важные для моего дела вещи появились позднее. И тут я вспомнил о Стасе. О том самом Стасе, который должен был лететь в экспедицию, но заболел, и вместо него полетела Татьяна. Она говорила, что он вроде как бывший математик. Занимался каким-то там, не побоюсь этого слова, структурализмом. Он бы смог помочь. Почему я не люблю обращаться за помощью к нашему штатному эксперту Хью Ларсону — скоро станет ясно.
Я залез в Татьянин справочник и без труда нашел его адрес-код. Стас оказался дома и, на первый взгляд, если и симулировал, то не слишком. Увидев меня он слегка опешил:
— Фед, я честно заболел! Я виноват, конечно, но так уж случилось… — начал он с ходу оправдываться
— Из-за тебя я опять поссорюсь с Татьяной! — я грозно наступал, поскольку понял, как можно использовать обострение комплекса вины у Стаса.
— Ну что я мог поделать! Ногу я сломал, ногу, вот смотри, — и он сунул мне в экран загипсованную конечность.
Она меня убедила.
— Ладно, ладно, убери копыто и слушай. Сегодня у тебя есть шанс загладить свою вину.
— До Татьяниного возвращения я весь к твоим услугам, — заверил он меня.
— Весь ты мне не нужен, — поспешил я его обрадовать, — нужны твои мозги. И потом, ты все равно там ни черта не делаешь. Сейчас я пришлю тебе кое-какие статьи, и ты должен в них разобраться. Обрати внимание на теорию Лефевра и на то, что из нее вышло. А если не разберешься, то все Татьянины дифирамбы по поводу твоих мыслительных способностей будут, отныне и навсегда, считаться подлым враньем, — страшно пригрозил я.
— Давай, шли, разберемся. С головою, слава богу, у меня все в порядке.
— Вот-вот, разберись, пожалуйста.
— А тебе это по работе нужно? — Стас подразумевал «Сектор Фаониссимо» (я надеюсь).
— По работе, по работе, — подтвердил я.
— Тогда, жду.
— Ладно, выздоравливай, — пожелал я ему напоследок.
Я расслаблено потягивал кофе и перелистывал присланные труды, стараясь отыскать что-нибудь более-менее понятное. Но, по-прежнему, оставалось неясным, как все эти научные результаты я мог бы применить на практике. Ведь то, что преступники считали для себя опасным, они уже уничтожили. Следовательно, даже если Стас очень постарается, на выходе я могу получить круглый ноль и ничего больше. Стоп, а почему они, то есть преступники, так убеждены, что полностью себя обезопасили? «Ну нет, дорогие мои, знание неуничтожимо», — порция коньяка все еще действовала, и я снова не заметил, как стал говорить сам с собою: "Сосед все видит, сосед все знает. И все, что он видит и знает, он сообщит в редакцию, — угадайте — какую? — правильно, в редакцию «Сектора Фаониссимо» — зловеще предупредил я невидимого собеседника. И принялся сочинять письмо обеспокоенного читателя в наш журнал. Вышло оно таким:
Уважаемая редакция!
Я всегда и с большим интересом читаю ваши научно-популярные статьи. Теперь же настало время мне, вашему читателю, поделиться с вами некоторыми загадочными, но достоверными фактами, что по большому секрету были сообщены мне одним моим знакомым, проживающим на Фаоне. Не просите меня назвать его имя, ибо это невозможно по целому ряду соображений и, в первую очередь, потому что он сам был бы против. Я буду краток и передам лишь самую суть.
Контрабандой биороботов в наше время уже никого не удивишь. Но в данном случае, мы имеем дело с чем-то большим. Речь идет о гоморобоидах — человекоподобных существах, выведенных искусственно и представляющих угрозу всему человечеству. Страшные сказки об инопланетянах покажутся нам детской забавой, если эти ужасные и безжалостные монстры смогут незаметно проникнуть в человеческое общество. Я уверен, что вы, с вашими возможностями, сможете либо успокоить взволнованную общественность, либо, если все изложенное — правда (в чем лично я не сомневаюсь), положить конец преступным замыслам.
С горячим оркусовским приветом,
Джон Смит.
Почему я поселил Джона Смита на Оркусе — не знаю. Наверное, из-за нелюбви к этой планете. Слово «гоморобоиды» привлечет внимание тех, кто знает о гомоидах, а те, кому про гомоидов ничего не известно, сочтут, что речь идет о биороботах. Одно нажатие клавиши — и письмо отправилось плутать по накопителям, дабы сделать вид, что идет оно с Оркуса.
8
В девять утра я позвонил Виттенгеру, чтобы напомнить ему о данных мне вчера обещаниях. Я ожидал застать его, в лучшем случае, за завтраком. В экране появилась помятая полицейская физиономия. Судя по одежде, Виттенгер был уже при исполнении.
— Чего тебе? — буркнул он. После вчерашней совместной попойки и в честь наступившего похмелья он окончательно перешел на «ты».
— Вы уже встали? — удивился я, продолжая, по привычке, говорить ему «вы».
— А ты еще спишь, как погляжу, — проворчал полицейский. Он говорил куда-то в сторону, словно комлог мог передавать не только звук и изображение, но и запах. За спиной у Виттенгера мелькнула знакомая обстановка.
— Решили навестить вдову? — спросил я, в душе радуясь тому, как рьяно он принялся выполнять мои рекомендации.
— Теперь она больше не вдова, теперь Перк — вдовец, если б только был жив, — доходчиво объяснил Виттенгер.
— Погодите, погодите… вы хотите сказать, что Эмма Перк мертва? Я вас правильно понял? — переспросил я для верности.
— Правильно, правильно — мертвее некуда, — с профессиональным цинизмом подтвердил он.
— Вы там долго еще пробудете? Я сейчас приеду! — крикнул ему я и стал второпях собираться.
— Сиди лучше… — очевидно он хотел сказать «сиди лучше дома», но я выключил связь.
Наплевав на правило летать ниже километра только по часовой стрелке, я помчался прямиком на восток-юго-восток — к дому Перка. Для проникновения в дом я применил тот же метод, что и в день смерти Перка — верхом на ком-то из жильцов.
— Ну и кто тебя звал? — такими словами встретил меня Виттенгер.
— Вы если и зовете, то только в одно место… — огрызнулся я.
— В одно место мы не зовем, а посылаем, — обычный полицейский юмор.
Тело Эммы Перк лежало возле письменного стола, с которого пять дней назад я забрал комлог. Одета она была так, будто только что встала с постели: верхняя часть пижамы, домашний халат. Рядом с телом стояло рабочее кресло, над столом светился экран домашнего компьютера.
Из соседней комнаты раздались детские всхлипывания.
— Мальчик? — спросил я.
— Нет — девочка!… Разумеется, мальчик — он в порядке, сейчас с ним психиатр, — злобно вымолвил Виттенгер.
— Как зовут ребенка? — я вдруг вспомнил, что никогда не интересовался его именем.
— Также как и отца — Альм — Альм-младший.
— К чему давать ребенку имя отца? — удивился я.
— Теперь уж точно — не у кого спросить, — ухмыльнулся Витенгер.
— Как она умерла, уже известно?
— Шоковый разряд, вот видите — с правой стороны чуть ниже уха покраснение, — нагнувшись Виттенгер показал, куда был нанесен удар цефалошокером.
— Давно? — продолжал расспрашивать я. На удивление, Виттенгер мне отвечал.
— Часов в пять утра — плюс-минус.
— Оружие нашли?
— Нашли, вот… — майор показал мне пакетик с шокером, — цефалошокер был зажат в ее правой руке, — пояснил он.
— Черт, похоже накаркали мы вчера… — выругался я.
— В смысле? — не понял Виттенгер. Он не помнил ничего из вчерашнего разговора.
— В смысле, не сама ли она все это устроила, — ответил я. На трезвую голову произносить слово «самоубийство» невыносимо тяжело. — Следы какие-нибудь нашли?
— Все пробы сняли, расшифровывать будем в лаборатории — все равно спешить теперь некуда. А на это вы обратили внимание? — Виттенгер указал на экран. Я посмотрел. На экране была лишь одна строка:
Я НИКОГО НЕ УБИВАЛА
— так там было написано, черным по белому.
— Вот те раз… — пробормотал я, — предсмертная записка? Или один из тех знаков, о которых вы мне вчера толковали?
— О чем вы? Какие еще знаки? — несколько напряженно переспросил Виттенгер. Я попытался напомнить:
— Ну вспомните, вы говорили, что каждое наше движение — это знак…
— И я так говорил? Знаете что, забудьте-ка вы все, что я вам вчера наговорил, — посоветовал он.
— Уже забыл, — я поспешно последовал его совету, — так это она писала?
— Не знаю. Вводили не голосом, поэтому авторство установить невозможно. Следы на мануалке мы конечно проверим, но вряд ли результат анализа поможет нам ответить на вопрос, кто это написал.
Я находился в полнейшей растерянности.
— Ерунда какая-то получается. Предположим, что мы имеем дело с суицидом и текст писала она. Тогда почему она написала «никого», а не скажем «своего мужа» или «Альма Перка». Кого еще она не убивала? И если она и в правду никого не убивала, тогда и нет видимого мотива для того, чтобы покончить с собой.
Виттенгер возразил:
— Но ты же собирался обвинить ее еще в одном преступлении. Помнишь, ты просил узнать, где она находилась во время взрыва на Укене. Мне только что сообщили, что взорванный дом принадлежал Франкенбергу и не исключено, что во время взрыва он находился в доме. Кстати, я уверен, ты с самого начала знал, что взорвали Франкенберга, но мне ничего не сказал. Ты и в убийстве старика-профессора собирался ее обвинить?
— Даже если и так — откуда ей стало известно о наших планах. Как она могла догадаться, что мы хотим обвинить ее и в убийстве мужа, и в убийстве Франкенберга. К тому же, обвинение в двойном убийстве, при условии, что она их не совершала, еще не повод для суицида, особенно учитывая, что у нее есть ребенок. Если только… — я задумался.
— Если только что? — переспросил Виттенгер.
— Если она причастна к обоим убийствам, то текст предназначался именно для сына — чтобы тот не считал свою мать убийцей. А для нас ее предсмертное послание — своеобразный намек — мол, я все сделала за вас, закройте дело и не травмируйте ребенка, ведь от посмертных обвинений, все равно, нет никакого проку. И вот еще что… — я отвел Виттенгера в сторону так, чтобы остальные криминалисты не могли нас слышать. — Скажите честно, может, вы вчера вечером или ночью, спьяну, попытались поговорить с ней и сболтнули чего лишнего — ей или кому другому?
— Да за кого ты меня принимаешь, черт возьми?! — взревел полицейский. Все криминалисты, как по команде, подняли головы. Заметив их движение он тихо добавил: — Перестань пороть чушь. Я не первый год в полиции, и не тебе меня учить, а тем более — обвинять.
— Ладно, это я так, на всякий случай, — примирительно сказал я, — кстати, как вы так быстро тут оказались?
— В пятнадцать минут девятого сработала сигнализация, — ответил Виттенгер и поспешно пояснил, — нет, не от вторжения… По всей вероятности, мальчик, проснувшись утром и обнаружив вот это, — он кивнул в сторону мертвого тела, — нажал тревожную кнопку. Теперь этому учат детей с пеленок.
— Понятно. А чем вообще занималась Эмма Перк? — к своему стыду, я до сих пор не удосужился это выяснить.
— Вы разве не знаете? Ну вы даете… Она работала все в том же Институте Антропоморфологии, — Виттенгер, похоже, усомнился в моей профессиональной пригодности.
— С мужем? — спросил я.
— Нет, она работала в отделе изучения ретро-трансзональных чего-то там… — Виттенгер тоже не научился выговаривать длинные названия институтских отделов.
— Да, да, я понял — в том же отделе, что и Лесли Джонс.Странно, что я не обратил на нее внимание.
— Она работала под своей девичьей фамилией, — подсказал Виттенгер, — а вы что, знакомы с Джонсом?
— Не совсем. Мы виделись только раз и то — на похоронах.
— И вы думаете, он может быть замешан? — допытывался Виттенгер.
— Здесь кто угодно может быть замешан, — развел я руками, — особенно если считать смерть Эммы Перк убийством…
Мое замечание Виттенгеру не понравилось.
— Если Эмма Перк была убита, то текст на экране писал убийца. В таком случае, ему следовало бы написать признание и в убийстве Альма Перка, и во взрыве на Укене, а тут все наоборот.
Я возразил:
— Убийца не так глуп. Он мог предполагать, что в конце концов нам удастся доказать, что Эмма Перк никого не убивала, а отсюда будет следовать, что и ее смерть — никакое не самоубийство. Предположим, что у убийцы нет железного алиби только на время смерти Эммы Перк и ему жизненно важно, чтобы именно ее смерть все считали самоубийством.
— Туманно, очень туманно, — протянул Виттенгер, — мы пришли к тому с чего начали.
— А с чего мы начали? — поинтересовался я.
— С того, что ничего непонятно, — ответил он.
— Факт! — согласился я.
Несмотря на обещание, наша вчерашняя дискуссия о природе суицида никак не выходила из головы. Я попросил Виттенгера прислать мне дело того сбежавшего самоубийцы.
— А зачем оно вам? — удивился Виттенгер.
— Хочу сравнить… Там ведь вы точно исключили убийство?
— Абсолютно точно, — заверил он.
— Тогда пришлите, — еще раз попросил я его.
Виттенгер пообещал, но уж больно странно: сказал, что он, конечно забудет, но как только снова вспомнит, то сразу пришлет.
9
Из дома Перков я направился в Отдел. Со смертью Эммы Перк было потеряно последнее связующее звено в деле, которое я считал уже практически раскрытым. Ведь именно через нее я собирался выйти и на гомоидов, и на всех остальных участников преступной группы, если такая группа и в самом деле существовала. Но смерть Эммы Перк перевернула все мои планы и заставила посмотреть на дело с другой стороны. Меня преследовал какой-то злой рок, который, на поверку, мог оказаться чем-то вполне материальным и от того — не менее опасным. И суть не в том, что смерть жены Перка обнаружила существование каких-то третьих лиц. Меня страшило то, что они идут буквально след в след со мною. Перк погиб сразу после разговора со мной. Франкенберг погиб, можно сказать, во время разговора со мной. Эмма Перк умерла еще до того, как я успел с ней поговорить, и я даже не успел установить за ней слежку. Мне казалось, что я нашел разумное объяснение гибели Альма Перка. Взрыв профессорской башни можно объяснить тем, что преступник проследил за мною до самого Укена. Но смерти Эммы Перк — не важно, убийство это или самоубийство, — объяснений не было.
Позднее, Виттенгер сообщил мне, что ни у нее, ни у других из моего списка не было возможности оказаться на Укене в тот же час, что и я. На время смерти Альма Перка твердого алиби не было только у Эммы Перк. В ночь ее смерти и Джонс, и Симонян, и Шлаффер, и Лора Дейч спокойно спали в своих постелях. Касательно второго и третьего, подтвердить их алиби могли лишь их жены. Алиби Джонса и Дейч никто подтвердить не мог, как, впрочем, и опровергнуть. В компьютере Эммы Перк ничего стоящего не нашли.
От мысли, что кто-то предугадывает каждый мой шаг мне стало не по себе. Я не стал говорить Шефу о своих опасениях, потому что единственным правильным решением могло бы стать мое отстранение от расследования. Во всяком случае, на его месте я бы так и поступил. Поэтому я доложил ему о смерти Эммы Перк без каких-либо комментариев. Он, в свою очередь, никаких особенных подозрений не высказал. Зная Шефа, трудно предположить, что у него вовсе не возникло подозрений, подобных тем, что появились у меня. Но смолчать о них — было вполне в его духе.
— Странное письмо к нам сегодня пришло, — сказал он, как только я закончил докладывать о событиях вчерашнего вечера и сегодняшнего утра.
— Что за письмо? —спросил я, уже понимая, о чем идет речь. Шеф показал мне текст за подписью Джона Смита.
— Твоя работа? — спросил он.
— Моя, — признался я.
— Думаешь, стоит опубликовать?
— До гибели Эммы Перк публиковать письмо было бы, пожалуй, преждевременно, но теперь… почему бы и нет…
Шефу затея с письмом казалась бессмысленной. Он сказал:
— Если те кто нам нужен просчитывают каждый наш шаг, то с какой стати им реагировать на письмо? Они догадаются, что письмо — подделка.
— Не обязательно, — возразил я, — впрочем, пусть думают, что хотят. Главное — дать им понять — сколько бы они не убивали, тайну все равно не сохранить.
— Так ты думал таким образом остановить убийства? — Шеф сам придумал объяснение, зачем я послал письмо Джона Смита. Сочинял я его после беседы с Виттенгером, когда мой боевой дух находился в апогее и мне хотелось просто запутать противника, заставить его понервничать. Я ответил:
— Похоже, что убивать уже больше некого… Подсунем им Джона Смита — хуже от этого не станет. С другой стороны, публикация даст им повод установить со мной контакт легально, в открытую, так сказать.
— Ладно, Джон Смит так Джон Смит, — согласился Шеф, — но сейчас речь не об этом. Пожалуй, ты оказался прав насчет Южного Мыса. Перк неоднократно наведывался на биохимические заводы, вел какие-то там переговоры о поставках химикатов. Но переговоры, раз за разом, кончались ничем, зато у Перка появлялся повод слазить в пещеры. Поэтому надо бы и тебе туда слазить.
— Ну вот, хоть в этом-то я оказался прав… — вздохнул я. Шеф по-отечески меня успокоил:
— Не расстраивайся, в твои годы я оказывался прав гораздо реже…
— Это первая, по-настоящему хорошая новость за всю неделю, — вырвалось у меня. К счастью, Шеф подумал, что я имею в виду Южный Мыс.
— Не знаю, насколько она хорошая, но одного я тебя в пещеры не отпущу, — остудил меня Шеф.
— А с кем? — спросил я и подумал: «Только бы не Ларсон.»
— С тобой пойдет Номура. У него и опыт спелеологический имеется, а у тебя, насколько я знаю, такого опыта нет.
Это было сущей правдой, и мне пришлось согласиться на Номуру.
— А Номура в курсе наших дел? Я имею в виду, знает ли он, зачем идет в пещеры?
— Надеюсь — нет, — усмехнулся Шеф, — если сочтешь нужным, расскажи ему сам.
Такой ответ меня вполне устраивал. Я пообещал завтра же двинуться в путь. Шеф, в свою очередь, пожелал, чтобы путь был счастливым.
10
Южный Мыс, как это следует из названия, — самая южная точка Континента, который на Фаоне один единственный. Когда я летел на остров Укен навестить профессора Франкенберга, я миновал Южный Мыс немного восточнее. От Фаон-Полиса до Мыса — четыре тысячи километров и наш служебный флаер способен покрыть их меньше чем за час. Но в особой спешке нужды не было, и мы подлетали к Мысу на небольшой скорости, чтобы, как следует, рассмотреть горный хребет, что начинается тысячью километрами севернее Мыса, и сопоставить увиденное с картой. Сделали несколько кругов над заводом. Спасатели уже заканчивали свою работу. Пожар на заводе был ликвидирован, несгоревшие остатки химикатов засыпали дезактиватором. По последним сведениям, пожар был вызван сильным взрывом в том месте, где завод уходит с поверхности вглубь горного хребта. Причину взрыва установить пока не удалось. Повисев немного над местом катастрофы, мы пришли к выводу, что начинать поиски отсюда было бы бесполезно: на несколько километров вглубь горы все сметено взрывной волной, а то, что уцелело при самом взрыве, засыпал последовавший за ним обвал. Поэтому мы решили подбираться к заводу с противоположной стороны хребта.
Лишь с большой высоты возвышенная часть Южного Мыса похожа на единый горный массив. На самом деле, это было чудовищное нагромождение скал и изъеденных эрозией отдельных вершин. Их расчленяли глубокие расщелины с бурлящими мутными потоками, не замерзавшими даже в самые лютые морозы. Склоны гор пестрели и зимними, и летними цветами: белые снежные пятна перемежались зелеными с красноватым отливом — местная растительность, там где она вообще была, к осени слегка краснела, но благодаря горячим источникам, не вымерзала.
Кое-что мы заранее просканировали со спутника, плюс к тому — мы располагали материалами, накопленными одиночными исследователями. Основные галереи пещер располагались на высоте нескольких десятков метров над уровнем моря. Пять сотен тысяч лет назад уровень воды в Океане был выше, и в течение миллионов лет соленая морская вода разъедала и размывала внутренности горного хребта, чтобы затем, отступив, оставить после себя многокилометровый подземный лабиринт.
У лабиринта имелось несколько выходов, но те из них, что были найдены давно, мы в расчет не приняли — слишком уж они известны. Поэтому нам предстояло выбирать из двух выходов, которые не были отмечены на карте, но находились неподалеку от завода. После получасового обсуждения, мы решили проверить оба выхода, а чтобы знать, с которого начать, попросту бросили жребий. Он пал на неглубокий каньон в пятнадцати километрах к западу от завода.
Выбранный каньон оказался довольно узким, поэтому флаер пришлось опускать вертикально, а когда мы достигли дна, то выяснилось, что кроме как в быструю горную речушку, сажать его некуда. Мгновенно образовалась запруда; уровень воды медленно поднимался, но несколькими минутами для разведки мы располагали. Номура предложил пристыковать флаер прямо к скале и оставить двигатели включенными: пусть себе болтается как воздушный шарик на привязи. Ресурса должно хватить на три-четыре дня, а к тому времени мы планировали вернуться. Чтобы не вымокнуть, мы нарядились в водонепроницаемые комбинезоны, но я все равно умудрился набрать за шиворот воды, когда, поскольнувшись, плюхнулся в реку. С берега за мною внимательно наблюдало целое семейство чешуйчатых вапролоков. Вапролоки похожи на крыс, но размером — с трех кошек, а вместо шерсти у них фиолетовые чешуйки. Они восприняли посадку флаера как должное, и, подождав пока уровень воды поднимется повыше, все как один бросились ловить водяных шнырьков в образовавшейся заводи. Я полагаю, что шнырьков назвали шнырьками, потому что на Земле это слово никому не подошло. Шнырьки практически неуловимы в быстрой воде и вапролоки с энтузиазмом воспользовались неожиданной возможностью поохотиться на юрких и, вероятно, вкусных зверьков.
— Мы здесь не первые, — сказал Номура, указывая на вапролоков, — скорее всего, вапролокам и раньше доводилось ловить шнырьков, когда приземлившийся флаер образует запруду на реке. Следовательно, флаеры садятся в этом месте довольно часто.
— Может туристы? — предположил я.
— Не думаю. Если бы этот выход из пещер открыли туристы, то они бы указали его на карте. Туристы страшно любят сообщать всем о своих открытиях.
— Ну и отлично, — ответил я, — выходит, мы удачно бросили жребий. Второй выход проверим как-нибудь потом — если этот ничего не даст.
Пока я стаскивал с себя промокшую одежду, Номура успел пройти метров тридцать вперед по каньону и десять — вверх по направлению к пещере, поэтому он никак не мог его заметить. Сам-то я его увидел, лишь случайно бросив взгляд вверх вдоль обрыва. Нет — не так. Все началось с нескольких камешков, скатившихся к воде. Сначала я подумал, что это Номура, но он был впереди, а не вверху. И тогда я поднял глаза. Наверное, там была тропинка, которую мы не заметили, иначе как он туда забрался? Несколько секунд мы не сводили друг с друга глаз, если эти две черные вмятины действительно были его глазами. Темносерый, даже, скорее, грязный балахон составлял всю его одежду. Я словно оцепенел под его взглядом и пришел в себя, лишь когда он сделал какое-то движение — шаг назад, по-моему. Я думал — он побежит вверх по тропинке. Чем мне понравился Номура, так это тем, что, когда я крикнул «К машине!» , он успел до нее добраться вперед меня. Берх бы начал: «Чего кричишь?», «А зачем?» и т.д. При этом, Номура, безусловно, не испугался, поскольку не знал, чего, собственно, нужно бояться. Просто у него такой характер. Мой расчет оказался неверным: едва мы поднялись до того места, где стоял незнакомец, тот, в свою очередь, бросился вниз по откосу. Я не знаю, как он не разбился, — ведь он летел так метров сорок. Однако, с ним ничего не случилось. Он живо вскочил на ноги и побежал к пещере, у ее входа остановился, бросил в нашу сторону прощальный взгляд и, через мгновение, скрылся в темноте. Преследовать его прямо сразу, мы не решились.
— Это был тот, кого мы ищем? — спросил Номура.
— Не знаю, — ответил я, ожидая дальнейших расспросов. Но Номура молчал.
Теперь уже не могло быть и речи о том, чтобы оставить здесь флаер. Мы снова опустились в воду и стали выгружать оборудование. Наш резкий старт оказался для вапролоков полной неожиданностью. Образовавшийся в одно мгновение водяной вал понес их вниз по течению, и они смогли вылезти на берег только сотней метров ниже. Пока я вытаскивал оборудование, Номура наблюдал, как вапролоки неуклюже выбираются из воды.
— А с нами так не произойдет? — спросил он.
— Как так? — переспросил я. До вапролоков мне не было никакого дела.
— Как с ними, — Номура кивнул в сторону трясущихся от холода животных.
До меня не сразу дошло, о чем это он.
— В воду мы не полезем, — заверил его я.
— Я не об этом…— Номура хотел пояснить, но я его прервал:
— Я тебя понял, нет — не произойдет, — не мог же я ему ответить, что ловить гомоидов в пещере не легче, чем шнырьков в горной речке. Номура все же закончил свою мысль:
— Я хотел сказать, что невозможно преследовать кого-либо оглядываясь по сторонам, если тот, кого ты преследуешь по сторонам не оглядывается. Но тогда можно и самому попасть в беду.
— Мудро сказано, — похвалил я его.
В это время засигналил бортовой комлог. Номура залез в кабину, потом махнул мне рукой. Я залез вслед за ним. Наваждение продолжалось.
«Твое освобождение уже близко», — поступившее сообщение Номура прочитал, почему-то, вслух. —Это не туристы, — мрачно заключил он, — флаер здесь оставлять не стоит.
— Точно, — согласился я. Номура был воплощенным здравомыслием. Я принял решение:
— Отошлю флаер на базу, — имелась в виду база возле завода. Там, до поры до времени, флаер мог затеряться среди десятка таких же точно машин. — Наши планы не меняются, просто впредь надо быть осторожнее.
Известное здравомыслие мне тоже не чуждо. С этого момента мы стали называть человекоподобное существо в грязном балахоне «туристом».
Мы доразгрузили оборудование, сообщили в Отдел о случившемся, отказались от подкрепления (любопытно, кого бы Шеф прислал — Яну, что ли), отослали флаер на базу и углубились в лабиринт. Перед самым входом в пещеру Номура остановился и посмотрел вверх — на небо и что-то прошептал. Затем снял перчатку и провел ладонью по жгучему красно-зеленому мху, облепившему все скалы вблизи незамерзающих рек. Мох оставил на ладони несколько розоватых пятен. Ожоги от него для людей безвредны, но покраснение и зуд остаются дня на два — на три.
— Ты что, прощаешься? — бестактно спросил я.
— Нет, — ответил он, — просто хочу запомнить…
При наличии тех приборов, что мы с собой прихватили, называть галерею пещер лабиринтом — все же, некоторое преувеличение. Датчики принимали сигналы от нейтринного маяка, затем аккуратно вырисовывали трехмерную картинку нашего маршрута. Сканеры прощупывали все и вся в радиусе ста метров, и никакие неожиданности, вроде провалов или обвалов, нам не грозили. В довершении всего, в нашем распоряжении были «зрячие жучки» — маленькие летающие «глаза» на тончайшей световодной нити. Жучков пускают вперед себя туда, где, возможно, притаилась опасность. Конечно, в кромешной темноте от них мало проку, но мы надеялись, что те, кого нам стоило опасаться, будут видимы в тепловых, инфракрасных лучах.
Несмотря на все эти приспособления, шли мы крайне медленно — не больше километра в час. Номура ступал уверенно, я бы сказал, — с некоторой долей фатализма, потому что светил фонарем вперед, а не под ноги. Я еле успевал за ним и к исходу третьего часа пути окончательно выбился из сил. Решили устроить короткий привал. Для отдыха мы выбрали небольшую пещеру с низким и, почему-то, безэховым сводом. Сняв с себя тяжелый рюкзак, я вдруг почувствовал прилив сил и, прежде чем сесть отдохнуть, немного побродил среди колоннады слившихся сталактитов и сталагмитов. Когда я шел к стене, противоположной той, у которой мы свалили свои рюкзаки, дорогу мне преградила подземная река. Гладь воды была настолько чистой и неподвижной, что казалась опрокинутым черным зеркалом. Подчиняясь естественному человеческому влечению разрушать все вокруг себя, я столкнул маленький камешек в воду. Подошел Номура.
— Не стоило тревожить реку. Круги на воде предупредят врага о нашем приближении, — сказал он.
«Наверное, это какая-то восточная мудрость», — подумал я и ответил:
— Хорошо, что ты напомнил — в какой-то момент надо будет вырубить сканеры, а то они фонят, как не знаю что.
— Вырубим, — согласился он.
Я поймал себя на мысли, что за исключением тех нескольких фраз, которыми мы обменялись, когда пришло анонимное сообщение на бортовой комлог, мы ни разу больше не заикнулись о том странном послании .
— Как ты думаешь, то сообщение прислали те, за кем мы идем? — Номура первым нарушил импровизированное табу.
— Вряд ли, это была шутка Ларсона, — ответил я, — но и не «туриста», очевидно.
— Как они могли узнать код флаера?
— Код тут не причем, сигнал шел через открытый канал — как «СОС» или вроде того. Но не запеленговался — вот в чем проблема. Впрочем, мы были слишком глубоко в ущелье, сигнал сто раз отразился, прежде чем дошел до нас, в таких условиях запеленговать невозможно. По крайней мере, с тем оборудованием, что есть на флаере. Кстати, с чего мы взяли, что сообщение адресовалось именно нам?
— Ни с чего… — пробормотал Номура и спросил: — Твой видоискатель успел снять «туриста»?
— Да где там! Я был мокрый по уши, никакой картинки не получилось.
На всякий случай, мы проверили. Я оказался прав: сквозь мокрый визор гомоида и от Номуры не отличить.
— Надо было в инфракрасном фиксировать, — предположил Номура.
— Черт,… забыл, — я, действительно, забыл про тепловизор — он сигналит, если в пределах установленного радиуса появляется кто-либо теплокровный. Включил — кроме нас двоих никого не было. И то хорошо.
— Почему не выпускают пещерных биороботов, таскали бы за нас оборудование, — вздохнул я.
— Так как идем мы, ходят только любители острых ощущений. Ради них никто роботов конструировать не станет, — спокойно ответил Номура.
— А как ходят те, кто не любит острых ощущений? —поинтересовался я.
— Сначала чистят дорогу лазером — потом идут…
Едва скрываемая агрессия чувствовалась в его ответе. Наверное впервые за все то время, что я его знаю, Номура не смог сдержать своих чувств. Я ткнул ногой лежавший рядом импульсный излучатель.
— Наш, кроме обвала, ничего не вызовет.
— Это правда, — согласился Номура, — в пещерах нужен не импульсный, а постоянный, высокоэнергетический…
После двадцатиминутного отдыха мы снова двинулись в путь. Очередные три часа пути длились вечность. После того, как я едва не свалился в трещинный колодец, Номура сказал, что на сегодня достаточно, и мы расположились на ночлег. Спать хотелось жутко, но ложиться сразу обоим было бы рискованно. Решили спать по очереди. Я первым забрался в спальный мешок, а Номура остался дежурить — через четыре часа я должен буду его сменить. Но не успел я сомкнуть глаз, как сработал сигнал тепловизора. Первым делом, я схватился за бластер. Номура вел себя более хладнокровно: лучом прожектора он стал обшаривать то боковое ответвление, где, согласно тепловизору, пряталось неизвестное существо. Если честно, я не надеялся кого-либо увидеть — здешние обитатели не стали бы беспечно ждать, пока их сначала обнаружат, потом подстрелят. Но я ошибся. Уже через несколько секунд луч прожектора выхватил замершего у стены вапролока. Он выглядел несколько ошарашенным, и, трясясь от страха, щурил на нас маленькие подслеповатые глазки. Пока я раздумывал, не стоит ли в него пальнуть, вапролок пришел в себя и спешно ретировался.
Мы перекинулись парой фраз насчет того, годятся ли вапролоки на жаркое, затем Номура снова занял свой пост, а я сделал вторую попытку уснуть. Но не прошло и получаса, как тепловизор снова засигналил и предыдущий сценарий повторился во всех подробностях.
— Нет, так не годится, — сказал я, — они не дадут нам поспать.
— Что ты предлагаешь?
— Выключи звуковой сигнал и следи за экраном.
— Ладно, — нехотя согласился Номура.
На этот раз я действительно уснул.
11
Такое бывает перед самым пробуждением — нечасто, но бывает. Сон как бы возвращает тебя в то место, откуда он начал свое путешествие. Снова стены в замерших потеках, блики от прожектора, затейливый рисунок из разноцветных прожилок под самым сводом, но глаза закрыты и все, что ты видишь — не более чем последнее воспоминание, точнее, отпечаток того образа, что запечатлел твой мозг пред тем, как сон сомкнул глаза. Я чувствовал чей-то взгляд, чье-то неуловимое присутствие. Смотревший стоял прямо надо мною, но я никого не видел. То есть я видел все тот же свод пещеры. В такие минуты мозг непонятно как работает. Я понимал, что уже не сплю, и что глаза — закрыты. Чувство тревоги все возрастало. Сон улетучился окончательно и интуитивное ощущение, что некто буквально склонился надо мной, переросло в уверенность. Я все еще боялся открыть глаза — пусть тот неизвестный думает, что я сплю. Вспомнил, где лежит оружие. Просчитал, как легче и быстрее до него добраться. Все остальное я делал одновременно: открыл глаза, нащупал бластер, а указательный палец начал сгибать еще до того как рукоятка оказалась в моей руке. Кто-то сказал, что мгновение — это не движение век — это удар сердца. Наверное, все произошло между двумя ударами моего сердца — мелькнуло в полуметре надо мной желтое изможденное лицо под серым высоким капюшоном, затем, — вспышка света и грохот сорвавшегося сталактита, — падая, он чуть не пригвоздил меня к спальному мешку. Со вторым ударом сердца я был уже на ногах, точнее, на коленях — на ноги я встать не смог — они затекли во время сна. Сделал несколько выстрелов в пустоту. Номура, не понимая что происходит, с ожесточением поливал из импульсного лазера темную полость — как на зло, прожектор светил совсем в другую сторону, а спаренного с лазером фонаря явно не хватало, чтобы разогнать тьму. Как потом выяснилось, он стрелял просто туда же, куда и я, вслепую. Мы взглянули друг на друга, убедились, что оба живы и здоровы, если не считать, конечно, легкого помрачения рассудка. Только после этого одновременно прекратили стрельбу. Пещеру заволокло дымом и гарью.
— Т-ты, ч-чего? — спросил он, слегка заикаясь.
— Да так, ничего — кошмар приснился, — ответил я, — а ты, заснул?
Зря спросил — и так ясно, что, отключив звуковую сигнализацию, Номура благополучно уснул.
— Н-нет, н-незнаю, — Номуре было стыдно, и я не стал усугублять:
— Ладно, бывает… Я его видел.
— Кого?
— Туриста…, если он тут один такой.
— Давай посмотрим, может, что-нибудь записалось, — предложил он.
— Сначала взглянем, вдруг попали, — возразил я безо всякой, впрочем, надежды.
Как и следовало ожидать, никаких поверженных врагов мы не обнаружили. Оплавленные осколки горной породы были единственными нашими трофеями. Стали просматривать запись. Аппаратура, в отличие от Номуры, не спала — она ясно зафиксировала приближение теплокровного существа, очертаниями похожего на человека. Существо приблизилось сначала к Номуре, потом — ко мне. На видеокамеру попал край балахона, капюшон, затем, всего на секунду, стало видно лицо «туриста», но лишь наполовину. Что не скрыл капюшон, скрыла тень от него. Поэтому ничего нового по сравнению с тем, что я уже видел, не записалось. Но и по такому неясному изображению комлог способен смоделировать приблизительный портрет гомоида. В итоге у нас получился мужчина средних лет, изможденный, как после продолжительной тяжелой болезни или голодовки. Острый нос с горбинкой, узкие скулы, кожа желтая и тонкая как пергамент. С глазами комлог ничего не смог сделать — все те же глубокие глазницы, и больше — ничего.
— Ну и приведение, — ухмыльнулся Номура, — если он и турист, то, вероятно, очень давно.
— Зато теперь есть надежда, что мы на правильном пути, — утешил его я, — в общем, поздравляю. Если б ты не уснул, он бы не приблизился и у нас не было бы записи его изображения. И заметь — он не пытался нас убить, хотя мог сделать это без особого труда. Кроме того, теперь мы знаем, куда двигаться дальше, — добавил я, просмотрев запись тепловизора с начала. На записи было четко видно из какого ответвления вышел гомоид. И вернулся он тем же путем, каким пришел.
На часах было начало пятого. Ни о каком сне не могло быть и речи — мы стали собираться в путь.
Второй день не принес никаких неожиданностей. От вчерашних нагрузок ноги у меня побаливали, но с обстановкой я уже освоился и Номуре не пришлось ни вытаскивать меня из колодцев, ни даже сдерживать шаг. Поскольку день начался раньше, чем мы планировали, мы устроили не один, а два коротких привала.
— Ну что, заночуем здесь? — спросил я Номуру, когда на исходе второго дня путешествия по лабиринту, мы оказались в гигантской полости с гладкими, будто отшлифованными стенами и высоким коническим сводом. Выходов из нее было несколько и на завтра мы запланировали проверить каждый из них. Пещера поразила нас своими размерами.
— Вот это да! — восхитился мой попутчик, нащупав, наконец, лучом прожектора ее свод, — метров тридцать, не меньше!
Над нашими головами свисал огромный сталактит, рядом с ним присоседились другие, поменьше, но их было столько, что, где ни встань, все равно окажешься под каким-нибудь сталактитом.
— Неуютно здесь, — я поежился, — как в пасти у оркусозавра.
— Согласен, — ответил Номура. Пещера нравилась ему не больше, чем мне.
— Выбора у нас нет. Исследовать ответвления мы сегодня уже не успеем.
Номура возразил:
— Давай хотя бы сенсорами прощупаем.
Своею неутомимостью Номура стал меня понемногу доставать. Но пасовать перед младшим коллегой мне было не удобно.
— Ладно, давай, будь по твоему, — согласился я.
Из пещеры было четыре выхода. Если верить карте и если считать, что нашей целью был биохимический завод, то годились два. Еще один, если верить все той же карте, вел, буквально, в никуда. А четвертый, и выходом-то, строго говоря, не был — скорее, это была узкая щель на высоте десяти метров от земли. Пока Номура настраивал аппаратуру, я обошел всю пещеру по периметру. Мне казалось, что на аппаратуру тут надеяться нечего, — нужно искать следы «туристов». Идя по кругу, я наконец дошел до того участка стены, что находился прямо под щелью. Стена как стена — такая же гладкая, как и везде, но слой льда на ней был толще чем на других участках стены. Этим льдом был замерзший водопад, который лил когда-то из той дыры, или щели, что находилась в восьми с небольшим метрах надо мною. В свете прожектора лед отливал розовым и желтым, сквозь перчатки холод не чувствовался и лед казался цветным стеклом, застывшим, прежде чем мастер решил, что из него вылепить. Желая убедиться, что это все-таки лед, а не стекло, я снял перчатку и провел рукою. От холода рука мгновенно онемела, и тем более удивительно, что я сумел различить на ощупь ту маленькую выбоину, или вернее, небольшой скол, правильной треугольной формы. Из-за бликов, выбоина была с трудом различима глазом. Что там ладони — внутри у меня все похолодело! Я готов был поклясться, что кто-то наблюдает за мною сверху, и ответных действий стоит ждать с минуты на минуту. Вот так, стоя у самой стены, я был слишком уязвим для нападения. Номура копался далеко в стороне, и, чтобы привлечь его внимание, я зашипел что-то невразумительное в микрофон. Когда он удосужился на меня взглянуть, я знаком попросил его отвернуть прожектор в сторону. Сам же стал подсвечивать ледяную стену фонарем так, чтобы от неровностей появились тени. Но зрению я по-прежнему не доверял и, меняя руку, исследовал стену еще и на ощупь. Обнаружил второй скол, совсем свежий — как и первый. Вероятно, были и другие, но выше по стене. Накопленная за весь день усталость исчезла в мгновение ока.
Мы отошли подальше от подозрительного места и стали шепотом совещаться. Говорить в полный голос у нас не было ни малейшего желания.
— Полезем сразу или запустим «жука»? — спросил Номура.
— Ну нет, сначала «жука», — решил я твердо.
С точки зрения «жука» наверху царило полное спокойствие. Разумеется, передаваемая им картинка была предельно абстрактной, ведь из-за кромешной темноты снять что-либо в видимых лучах было нереально. Немного выручил поднятый на десятиметровую высоту прожектор. Сразу за отверстием в стене шла довольно ровная площадка, затем — туннель, постепенно расширяющийся, через сорок метров — разветвление — туннелей стало два. Мы обследовали оба. Еще через пятьдесят метров — снова разветвление. И снова — ничего подозрительного. Радиус действия «жука» — пятьсот метров, но исследование пришлось прекратить на отметке «триста», поскольку световодная нить за что-то зацепилась и оборвалась. В этом не было ничего удивительного — все «жуки», как правило, одноразовые. Поэтому мы и берегли их на крайний случай.
Посовещались, стоит ли запускать еще одного.
— Не вижу смысла, — уверенно заявил Номура, — давай, я подниму наверх аппаратуру, и если она ничего не обнаружит, полезем сами.
Я согласился.
Минут пятнадцать Номура готовил снаряжение. До сих пор не пойму, почему никто из нас не догадался хотя бы на это время запустить наверх второго «жука». Ничего бы с ним не случилось. А в дальнейшем — и с нами. Намура взгромоздил на спину все, что только смог поднять, и лебедка медленно поволокла его наверх. Последние метры ему давались очень тяжело. Когда он перевалился за выступ, я потерял его из виду.
О том, что случилось наверху, я могу только догадываться. Похоже, Номура успел выстрелить первым — треск разрывающейся породы раздался где-то в глубине туннеля. И еще, мне кажется, что если бы он не стал стрелять первым, то с нами бы не обошлись так круто. Такое впечатление, что защищавшимся терять было нечего — они ударили из импульсного лазера, рискуя оказаться под завалом. Я бросился к тросу, но из-за отсутствия надлежащей сноровки провозился с креплением лебедки слишком долго — это меня и спасло. В противном случае, я бы спустился вниз еще быстрее, чем поднялся — вместе с тоннами обрушившейся горной породы. Но я поднимался очень медленно и преодолел всего метра два с половиной, когда тяжелый камень сбросил меня обратно вниз. Воздух заполнился влажной пылью, от низкого гула заложило уши. Я дернулся еще раз к тросу — бесполезно. Поток песка и мелких камней не дал мне продвинуться и на метр. Я еще надеялся, что Номура сможет спрыгнуть вниз; в защитном комбинезоне — это не так смертельно и, даже если он будет ранен, я смогу оттащить его в безопасное место. Я что-то орал ему, но мой крик тонул в нараставшем реве — начинался настоящий обвал. И я стал отступать. Об этом стыдно говорить, но в тот момент иного выхода у меня не было. Я пятился, делая очередной шаг назад, лишь когда камни начинали сыпаться прямо предо мной — таким образом я будто бы смягчал свою вину. Пятился пока не упал, запнувшись о какой-то сталагмит. Дальше, я уже ничего не помню. Должно быть, каменная волна отнесла меня к противоположной стене пещеры, потому что очнулся я именно у нее. Стояла гробовая тишина и тьма — такая же. Я щелкнул выключателем фонарика, что встроен непосредственно в комбинезон — фонарик работал. Комлог, к счастью, тоже уцелел. Запас прочности у всей этой техники рассчитывается по одному единственному принципу: из строя ее могло вывести только то, что неминуемо убило бы и хозяина — тогда она станет попросту не нужна.
Я ощупал себя с головы до ног — кости вроде целы. Комлог, который кроме всего прочего еще и следит за здоровьем своего хозяина, доверительно сообщил, что у меня сотрясение мозга, но об этом я мог догадаться и без него. Пыль еще не осела, свет фонаря пробивал ее не дальше вытянутой руки и, поэтому, продвигаться, что на ощупь, что со светом, было все равно. Шаг за шагом, или, лучше сказать «ползок» за «ползком», я обследовал пещеру, ставшую теперь вполовину меньше.
Вдруг мне стало нехорошо — рука наткнулась на что-то мягкое. Это был Номура. Камни завалили его по грудь. Я не мог без ужаса смотреть на его лицо: левая щека обожжена и разодрана от уха до подбородка, из уголка рта стекала струйка алой крови, левый глаз превратился в сплошную кровоточащую рану… Но он был жив. Я принялся вводить ему все подряд из своего медицинского пакета — антибиотики, стимуляторы, заживляющие и обезболивающие препараты. Затем, стал разгребать придавившие его обломки, стараясь не думать о том, во что могла превратиться та часть тела, что находилась под завалом. Камни с грохотом разлетались прочь и из-за этого я не сразу услышал его голос. Номура пришел в себя, но лишь на несколько секунд. Возможно, он и не приходил в себя, а то, что я услышал было его предсмертным бредом. Он произнес едва слышно: «Вас все равно найдут». Еще через минуту он умер.
«Вас все равно найдут», — слова звучали как угроза. Нет, это была именно угроза. Но кому? Мне? Действительно — бред. Кто это «мы», которых должны найти. По работе, под «мы», я мог подразумевать только себя и Шефа. Но что нас искать? Мы и так не прячемся. Я — уж точно. И до меня стало доходить, что, вероятно, он принял меня тех, кого мы ищем — за гомоидов. Но его угроза звучала слишком лично. Ведь, в сущности, Номуре поручили лишь сопровождать меня, а кого именно мы ищем, знал только я. Неужели у него было какое-то персональное задание! Необходимо было срочно добраться до его комлога. Я снова принялся разгребать завал, но чем больше песка и камней я отбрасывал, тем больше их прибывало. Уже в порыве отчаяния, я попытался силой выдернуть его тело из-под обломков. Взял под руки, рванул…бесполезно. Постепенно меня охватывало бешенство, и я уже не соображал, что делаю. Вцепившись в его комбинезон, я стал дергать из стороны в сторону — так, как мы вытаскиваем гвоздь из дерева. Кончилось тем, что застежки на комбинезоне не выдержали натиска и с треском расстегнулись. От напряжения кровь молотком стучала в висках; я присел, чтобы немного отдышаться.
Я сидел и с тупою злобой смотрел не мертвое тело. Комбинезон Номуры разъехался, луч фонаря скользнул по груди, превратившейся теперь в один большой синяк. У походного фонаря два режима работы: обычный и расширенный, когда он испускает не только видимые лучи, но и ультрафиолетовые. Когда Номура был еще жив, я переключил фонарик на расширенный режим, чтобы оценить состояние Номуры хотя бы зрительно. Не знаю, почему я решил, что в ультрафиолетовых лучах я увижу больше чем в обычных, но теперь я действительно увидел нечто — нечто странное — это было что-то наподобие небольшой татуировки, нанесенной краской, видимой только в ультрафиолетовых лучах. Татуировку вывели с правой стороны груди, чуть ниже ключицы. Я присмотрелся. Вытатуированный знак был чрезвычайно прост, но раньше я никогда его не видел. Он представлял собою равносторонний треугольник с тремя одинаковыми крыльями — по одному у каждой стороны. Чертовщина какая-то, подумал я. Мне еще больше захотелось добраться до его комлога. И тут, прямо надо мною раздался треск. Я машинально вскинул голову, но, разумеется, ничего не увидел. Треск повторился. Если кто-нибудь когда-нибудь слышал как трескается стеклянная бутылка с замерзающей водой, то вот это — оно. Я бросился к ближайшему туннелю. И очень вовремя, потому что за спиной у меня с грохотом обрушились несколько сталактитов. Все снова стихло. То место, где лежал Номура сплошь засыпало обломками.
Положение выглядело незавидным. Вся наша аппаратура была погребена под завалом; в моем распоряжении оставались только фонарь и комлог. Последний хранил запись нашего маршрута, что давало надежду вернуться тем же путем, каким мы шли сюда. Но было одно «но» — пещеру, где произошло столкновение, наполовину завалило, а вместе с нею — и тот вход в нее, откуда мы вышли.
Стоило мне похвалить нашу технику за надежность, как вышел из строя детектор нейтрино. Теперь он показывал не три, а только две координаты. Пятикилометровая дуга чертилась по двум координатам снова и снова, тщетно пытаясь найти себе еще одну точку опоры. Глядя на беспомощно метавшийся лучик, я ощутил себя маятником, вынужденным теперь вечно качаться где-то в недрах Южного Мыса. Движение было плавным и легким, я рассекал толщу породы как воздух, но едва земная поверхность оказывалась на расстоянии вытянутой руки, как движение начинало идти в обратную сторону и так, раз за разом, без конца. Сила, обрекшая меня на «вечное возвращение», оставляла ни с чем и моих преследователей — уже готовые схватить меня, когда я приближался, они ловили руками лишь воздух; затем, разочарованно отступали в темноту, чтобы снова броситься на меня, когда я, влекомый невидимой нитью, качнусь назад.
Я проснулся или, вернее, очнулся от страха быть схваченным во сне. Звучит парадоксально, но именно с этим чувством я открывал глаза. Первое же движение отдало в голове резкой болью. Даже двигать глазами стало нестерпимо больно. Я снял шлем и провел рукою по затылку — на ладони осталась кровь. Провел еще раз — царапина на шее — ерунда. Голова, благодаря защитному шлему, уцелела, но только внешне. Я ввел себе все, что оставалось в медицинском пакете и поднялся на ноги. К счастью, ноги меня еще слушались. Прочерченная детектором дуга с линией нашего маршрута не пересекалась, но проходила совсем близко. Но даже если бы эти две линии и пересеклись, то, все равно, я мог быть уверенным в том, что нахожусь на самой линии маршрута. Вот если бы они не просто пересеклись, а какое-то время оставались «сцепленными»… Я объяснил комлогу, что означает «какое-то время быть сцепленными». Теперь его задача — следить за дорогой. Дальнейшие теоретические выкладки ни к чему не привели, и я стал потихоньку продвигаться по той полости, что находилась ближе всего к нужному мне маршруту. Возле каждого разветвления я сверялся с картой, но дуга на экране не сообщала ничего утешительного — я только отдалялся пути, по которому шли мы с Номурой. Эти места никем до нас не изучались, а полученная путем сканирования стереокарта явно приукрашивала действительность.
Я остановился в раздумье. Правильно ли я поступаю — ведь я мог бы поискать дорогу не к тому выходу из пещеры, что мы использовали как вход, а ко второму — тому, который, в силу выпавшего жребия, был нами отвергнут. Расстояние до него по прямой составляло около десяти километров — на два километра больше, чем до каньона с вапролоками. Или, пока не поздно, мне следует вернуться в пещеру, где остался Номура, и там дожидаться помощи. За неделю меня бы нашли, а неделю-то я уж как-нибудь продержусь — дающие энергию батареи были в исправности, а льда (иначе говоря — воды) в пещере предостаточно.
Обезболивающие препараты имеют тот же недостаток, что и моя стереокарта — они приукрашивают действительность. Комлог же бил тревогу. Возможно, он слегка драматизировал, но если верить его показаниям — неделю моя голова не выдержит. Словно боясь, что я не поверю приборам, организм взбунтовался: голова внезапно налилась свинцом, к горлу подступила тошнота, перед глазами все поплыло, и я упал на колени. Меня начало выворачивать, затем, похоже, я вновь потерял сознание.
Все словно повторялось: пробуждение, блеск ледяных капель, чужое лицо, мелькнувшее перед глазами и исчезнувшее, лишь стоило мне сфокусировать взгляд.
— Постойте! — я прокричал, прохрипел, простонал — каждый слог этого слова был произнесен по-другому. Свет чужого фонаря бил мне в глаза. Почему-то я был убежден, что гомоид обязан понимать человеческую речь и нисколько не удивился, услышав ответ:
— Вставайте и идите за мной, — сказал гомоид ясно и вполне по-человечьи. Сказав так, он зашагал прочь.
Я встал и пошатываясь поплелся за ним. Мною двигала не надежда на спасение, — ведь с того момента, как я остался один, прошло на так много времени, чтобы успеть ее потерять. Зато, я потерял всякую надежду достичь той цели, ради которой отправился плутать по подземному лабиринту. Но сейчас все переменилось. И мне было плевать, кто в чьей власти, гомоиды — в моей (на такое я всерьез рассчитывал три дня назад), или я — во власти этих непонятных, неведомых существ. Фонарь выхватывал из темноты лишь смутные очертания моего молчаливого проводника. «Кто вы?» — спрашивал я его снова и снова. Собравшись с силами, я попытался его нагнать, но он тут же прибавил шаг, и дистанция между нами осталась неизменной. Расстояние он определял, вероятно, по звуку моих шагов. Тогда, я вновь попытался с ним заговорить.
— Подождите… — бормотал я, — я только хочу узнать, кто вы… я разговаривал с вашим создателем, профессором Франкенбергом перед самой его смертью… я не враг вам, поймите же наконец…
Я надеялся, что гомоида заинтересует какая-нибудь из брошенных мною наугад фраз:
— … он рассказывал мне о вас… я знаю — вы гномы… вас создали чтобы… честно говоря, я не очень понял — для чего… Франкенберг показывал мне ваши портреты… всех четверых… вы который из них?… я знаю, в пещерах находилась лаборатория, что с ней стало?
Он остановился, как вкопанный. Я сделал еще шаг, но гомоид строго приказал:
— Не приближайтесь!
И я был вынужден остановиться. Он повернулся ко мне, но рассмотреть свое лицо не дал — его фонарь, гораздо более мощный чем мой, светил прямо на меня.
— Повторите то, что вы сейчас сказали, — таким был его следующий приказ. Я с готовностью подчинился:
— Я говорю — мы предполагали, что лаборатория находится рядом с химическим заводом и шли, чтобы ее найти… не напасть на вас, а найти… Я не знаю, почему Номура стал стрелять — никто не отдавал ему такого приказа… — понимая, что такое оправдание немногого стоит, я замолчал.
— Странные вы… люди, — ответил гомоид, — идете искать неведомо кого, но не знаете, кто идет с вами рядом.
— Что вы знаете о Номуре? — прохрипел я. Но мой вопрос остался без ответа.
— Вы сказали что-то еще — не только о лаборатории. Повторите мне все! — донеслось до меня. Я силился припомнить:
— Я говорил о Франкенберге, о его плане, которого я не понял, о портретах четырех гомоидов, среди которых должен быть и ваш портрет; о том, что я вам не враг…
— Достаточно, — прервал он меня, — странно, очень странно…вероятно, я сильно отстал от жизни, столько лет проведя здесь, в пещере… — пробормотал он задумчиво.
— А сколько лет вы здесь пробыли? — на самом деле, это меня интересовало меньше всего, но теперь я старался спрашивать осторожно, стараясь попадать в такт его собственным мыслям.
— Шесть, — ответил он.
— Но почему вы прячетесь здесь? Кого вы боитесь — того, кто убил Перка и Франкенберга?
— Есть причины по которым я не стану отвечать на этот вопрос. Мой отказ не стоит понимать так, будто я точно знаю, кто это сделал. Я дам вам возможность выйти отсюда, но, поверьте, даже если вы снова вернетесь в пещеры, вы ничего и никого не найдете — ни меня, ни лаборатории. Самому мне уже недолго осталось жить, а о том, что осталось от лаборатории, я позабочусь…
— Вы говорите так, точно… — мой голос настолько ослабел, что боясь быть не услышанным, я сделал несколько шагов вперед, и в тот же момент гомоид исчез — как сквозь землю провалился. С минуту я вглядывался в темноту, ожидая его появления. Он появился, но полусотней шагов дальше. Я пошел к нему. Как и прежде, он не позволял мне приближаться, но и не исчезал, и я поверил, что гомоид действительно хочет меня отсюда вывести. Я спешил, как мог, боясь упустить его из виду. Падал, спотыкаясь о камни, и снова поднимался. Вероятно — терял сознание и вероятно — не раз. С какого-то момента для меня перестали существовать все преграды — и камни, и сталагмиты, и постепенно смыкавшиеся стены — все стало каким-то ватным, и ватным стал я сам. Не чувствуя боли, я протискивался, просачивался сквозь или мимо них — не знаю, наверное, я полз на четвереньках — просто не смог встать после очередного падения. Для меня существовал лишь свет его фонаря, и я полз на этот свет. Дальнейшие мои воспоминания обрывочны… Я помню узкий лаз, в котором очутился после того или, скорее, одновременно с тем, как потерял своего проводника. Но путь был один — только вперед. И я продолжал ползти. Дневной свет вспыхнул настолько неожиданно и настолько ярко, что я зажмурил глаза. И даже теперь, по прошествию стольких дней, если сильно зажмурить глаза, то можно вызвать из памяти эти красно-фиолетовые всполохи в ослепленной сетчатке и на их фоне черный, человекоподобный силуэт, на мгновение загородивший выход из подземелья…
12
Если у человека, как и у кошки, несколько жизней (девять или сколько там) то, интересно, какую их часть я успел израсходовать? И не похож ли момент расходования очередной жизни на пробуждение? Я открыл глаза. Сначала — яркий свет, затем — прямо надо мною — Татьянино лицо. Ну и что, думаю, почему бы Татьяне не быть гомоидом или, наоборот, гомоиду — Татьяной. Закрыл глаза. Услышал:
— Ой, он только что открыл глаза! Доктор, скорее…Ой, опять закрыл…
Мне стало любопытно, и я снова открыл глаза. Белый потолок, появляется некто в синей хирургической шапочке, затем — Шеф! Все понятно, Шеф — тоже гомоид, и я нахожусь в гомоидной лаборатории, и скоро сам стану гномом. Щеф говорит:
— Глаза у него шевелятся, надо бы проверить — шевелятся ли мозги…
Мне захотелось опять закрыть глаза, но заданный синей шапкой вопрос, напротив, заставил меня их открыть еще шире.
— Вы узнали свою супругу? — спросила шапка.
Я перевел взгляд на Шефа и твердо ответил — «нет». Вот уж глупости, думаю, я даже на Татьяне пока еще не женат, — по крайней мере, так было до спуска в лабиринт.
— Мозги в порядке… — сказал Шеф, — Татьяна, подойди.
Он исчез и появилась Татьяна. Синяя шапка снова спросила:
— Вы узнаете свою жену?
Я подумал, а не дать ли ему еще один шанс, но увидев, с какой надеждой Татьяна на меня смотрит, ответил — «да». Татьяна тут же бросилась меня обнимать и целовать. Пока она изливала свои чувства, я огляделся по сторонам, но судьи из муниципалитета не заметил. Я успокоился и открыл было рот, чтобы попросить ее не душить меня так сильно, но Татьяна мне не позволила:
— Тсс, молчи, тебе нельзя разговаривать, — сказала она. Она и здесь мне рот затыкает! Да не больно-то и хотелось! Я закрыл рот.
— Успокойтесь, все идет нормально, — заверила ее синяя шапка и обращаясь ко мне, сказала быстро-быстро:
— Вы были два дня без сознания, теперь вы в госпитале, я — доктор такой-то, как вы себя чувствуете?
— Нормально, — ответил я.
Шеф был тут как тут, он мгновенно выставил Татьяну за дверь, уселся на край кровати и внятно так спросил:
— Ты можешь говорить?
Мне захотелось закрыть глаза и уже больше их никогда не открывать — я вспомнил о Номуре.
— Да, могу, — ответил я тихо.
— Ты что-нибудь помнишь? — спросил Шеф.
— Пока нет, — мне не хотелось с ним разговаривать, — посмотрите комлог.
В комлоге должна была остаться запись беседы с гомоидом. Шеф ответил:
— Про комлог забудь, он чист как моя репутация до вчерашнего дня.
Я еще не настолько оправился, чтобы правильно оценивать шефские метафоры, поэтому просипел:
— А что случилось вчера?
Но он отмахнулся:
— Ладно, выздоравливай, потом поговорим.
Шеф вышел, вместо него появился врач, за спиной у него маячила взволнованная Татьяна. Врач что-то ей сказал, потом подошел ко мне, пощупал шею и, видимо, сделал что-то еще, поскольку я тут же провалился в сон.
Глава третья: Бабочки.
1
Сегодня у нас первое сентября по синхронизированному времени. Впрочем, раз по синхронизированному, то не только у нас, но и у всех. Зато вот воскресенье только у нас. Прошло три недели с того дня, когда мне было поручено дело о пропавших локусах. Я ничего не путаю, три недели — это по фаонскому календарю, а по синхронизированному времени прошло восемнадцать земных дней, ведь сутки на Фаоне короче земных, а синхронизированное время отсчитывают в стандартных земных днях. Два (фаонских) дня назад меня выписали из госпиталя. Татьяна, похоже, всерьез восприняла наказ Шефа поставить меня на ноги как можно скорее. Татьяна плохо знает Шефа, или, лучше сказать, совсем его не знает. Но меня-то ему не провести. Ведь ясно как днем, что ему хотелось бы видеть меня в постели больным (или, скажем иначе, — не видеть меня вовсе) как можно дольше — по крайней мере, до тех пор, пока все не утихнет. И еще, ему бы очень не хотелось, чтобы я попался на глаза кому-нибудь из начальства. Не знаю как он это определяет, но я так и не научился различать — на глазах я у начальства или в каком другом месте. Может быть от того, что само это начальство никогда мне на глаза не попадалось. Шефу здорово влетело за Номуру. Меня же высший гнев не коснулся по причине моей болезни. О дальнейшей судьбе расследования мне ничего известно, но по слухам, которыми меня исправно снабжает Яна, полиция пришла к выводу, что Эмма Перк сначала убила мужа, потом — себя. На нее же свалили вину и за исчезнувшие с накопителей локусы. Никакого мотива у нее не нашли, но, тем не менее, дело закрыли. Про Франкенберга никто вообще не вспоминал. Дело было сшито настолько ловко, что я ясно почувствовал руку Шефа, ведь он один имел выход одновременно и на Отдел Информационной Безопасности, заваривший всю эту кашу, и на Виттенгера, который расследовал и убийство Перка и самоубийство его жены. Поведению Шефа можно дать много объяснений. Мне хотелось бы верить, что Шеф продолжит расследование, но теперь уже в одиночку и без помех. Для этого необходимо было закрыть дело, и он это сделал. Но непонятно вот что: как ему удалось убедить Виттенгера забыть про тот звонок Перка профессору Франкенбергу? И куда приткнуть взрыв профессорской башни? Впрочем, я думаю, все скоро все станет на свои места. Скоро — потому что я всерьез надеюсь на скорое выздоровление, что бы там Шеф с Татьяной не замышляли.
Память потихоньку восстановилась, но об этом я пока никому не говорю. Даже Татьяне. Глупое, однако, выражение: «память восстановилась». Как будто есть какой-то способ проверить, правильно ли заполнились ее пустоты… И на ум сразу приходит Оркус.
Те, кому не довелось побывать на Оркусе, не много потеряли. Я был там однажды — года два с половиной тому назад — расследовал одно дело. Странное было дело: исчезали люди — переселенцы, я имею в виду. Их и тогда на Оркусе не так много было, а после тех случаев, стало еще меньше. Поначалу переселенцы думали, что планета не принимает их, борется с ними каким-то непостижимым образом. Старались вести себя осторожнее. Выставляли охрану, придумали хитроумную сигнализацию, но — все безрезультатно. Люди по-прежнему исчезали. Тогда Отдел и послал меня на Оркус, выяснить, в чем там дело. Ситуация выглядела бредовой. Переселенцы пропадали абсолютно бесследно — следов не оставалось никаких, и лишь со слов соседей можно было понять, что вот буквально день назад на этом самом месте стоял дом, жила семья, занималась чем-то там своим. Аппаратура ничем не помогла, ведь невозможно знать заранее, кто исчезнет следующим, а приставить к каждому жителю по сканеру и сенсору физически невозможно. Однажды я сам стал свидетелем исчезновения одной семьи. И лишь по счастливой случайности то место, где она жила, попало в поле зрения моей портативной камеры. Когда я просмотрел запись, я подумал, что с головою у меня что-то не в порядке. Никакой семьи, никакого дома не было и в помине. Я имею в виду, не после, а до исчезновения. В конце концов, выяснилось, что от долгого пребывания на Оркусе у людей в голове происходят определенные сдвиги — я даже не знаю, с чем это можно сравнить. В общем, массовая шизофрения — люди вдруг начинают воображать, что кто-то из их знакомых исчез, но до исчезновения, этих знакомых не было ни фактически, ни в чье-либо воображении. Просто в какой-то момент вы начинаете «помнить» людей, которых никогда не существовало. Вот такая история с этим Оркусом. Виновата во всем оказалась бифуркация пси-поля. Бифуркация же происходила из-за двух естественных спутников Оркуса. Бифуркацию побороли, но, все равно, люди на Оркус больше не едут. Разве что в отпуск — на недельку — другую. Меня туда не тянуло даже в отпуск.
После «Дела Оркуса», я для себя решил, что всем хорошо знакомый феномен «ложного воспоминания», то есть, когда нам кажется, что переживаемое событие уже с нами происходило, на самом деле, не что иное, как воспоминание о снах. Событие действительно происходило, но — во сне (если, конечно, тут уместно слово «действительно»). Я это к тому веду, что память возвращалась ко мне, как из сновидений. Думаю, здесь виновата не болезнь, а те лекарства, что мне давали поначалу. Разумеется, мне их давали для моего же блага, а как же иначе?
Диалог с «туристом» (если он был) я вспомнил слово в слово. Но говорил-то в основном я, а не он. Что же ему показалось странным в моих словах? Все вокруг меня говорят загадками. Когда я спросил Франкенберга, почему тот хочет остаться, хотя его дом вот-вот будет уничтожен, он сказал, что уже ответил на мой вопрос. И я до сих пор не понимаю, что он хотел этим сказать. Гомоид прервал меня, когда я говорил ему о портретах, увиденных мною в доме Франкенберга. Нет, стоп, я сказал ему о ЧЕТЫРЕХ портретах. Не это ли его удивило? А сколько тогда их должно быть? Пять? Десять? Нет, если бы портретов было десять, то чего удивительного в том, что профессор показал мне только четыре. Следовательно — их меньше. Вернее, гомоид думал, что портретов должно быть меньше. Кого-то из созданных Франкенбергом существ он не знает. Шесть лет «турист» не покидал окрестностей пещер и шесть лет назад Перк берет на работу Лесли Джонса, который, по словам Лоры Дейч, непонятно откуда взялся. Портрета Джонса не было среди тех четырех, но и «туриста» я бы никогда не узнал, даже имея под рукой все четыре снимка. Выходит, что беседа с гомоидом не проясняет, а еще больше запутывает все дело… Или мне и вправду нужно немного подлечиться.
Татьяна всерьез так думает и точно так же, всерьез, пытается меня лечить. Тянучек с кофеиновой шипучкой теперь мне не видать как своих ушей, зато непроваренные хруммели скоро из ушей полезут. Поэтому за едой я думаю о парадоксальной роли ушей в нашей жизни.
Режим — постельный, посещения — запрещены, доступ в Канал — строго ограничен. Большую часть времени Татьяна проводит дома — обрабатывает собранные на Сапфо материалы. Из-за меня ей пришлось вернуться с Сапфо раньше своих коллег. Время от времени она отлучается к себе в Университет, а возвратившись, рассказывает мне какие правила постельного режима я нарушил в ее отсутствие. Однако, вечером, забравшись ко мне под одеяло, вкрадчиво так мурчит: «Ты сегодня значительно лучше выглядишь» или «Меня сегодня долго не было, ты не соскучился?» ну и все в таком же духе. И вот что любопытно, на утро я чувствую себя бодрее — постельный режим мне все-таки помогает.
2
Второе сентября следует отныне считать праздничным днем — Татьяна официально согласилась на смягчение режима. «Долой непроваренные хруммели!» — закричал я. «Будешь есть как миленький», — спокойно ответила Татьяна. По случаю неожиданного праздника было решено пригласить в гости Татьяниных друзей и коллег. Я бы пригласил еще и Берха, но тот сейчас далеко и вернется, видимо, не скоро. Сбор назначили на семь часов, но я уговорил Стаса прийти пораньше — пока Татьяна будет у себя на кафедре. Я уже несколько раз ему намекал, а не пора ли ему рассказать мне про Лефевра, но он то ссылался на занятость, то просто отшучивался. Потом мы решили, что удобнее все обсудить при личной встрече, а сегодняшняя вечеринка была как нельзя кстати.
— Где тебя так угораздило? — поинтересовался Стас первым делом. Татьяна давно уже всем пожаловалась, какой неожиданно опасной оказалась работа у простого сотрудника простого научно-популярного издания.
— Засмотрелся на звезды, — ответил я и повел его в комнату.
Стаса следовало именно «вести», и даже эта предосторожность не всегда спасала хрупкие и ценные экспонаты, расставленные Татьяной по всем углам. Двухметрового роста, Стас, еще и постоянно жестикулировал, когда говорил, а в таких тесных квартирках, как наша, подобное поведение строго противопоказано. Про те статьи, что я послал ему на экспертизу, он начал говорить еще в прихожей, да так эмоционально, что я мысленно распрощался с висевшей на стене древней окаменелостью. На этот раз, окаменелости повезло. Я вспомнил, что Стас тоже недавно покалечился.
— Как твоя нога? — спросил я.
— Отлично! — сказал Стас и стал демонстративно приседать на одной ноге. Я не помню, которая из двух была у него сломана, но непохоже, чтобы та, на которой он довольно бойко приседал. Грохнулась ваза, переделанная из черепа оркусодонта.
— Принес? — спросил я, подбирая отвалившиеся от вазы зубы.
— Как сказал, — заговорщитски шепча ответил Стас и выставил на стол две банки этиловой настойки. Мне уже давно хотелось слезть с диеты, а с нами двоими Татьяне не справиться. Мы выпили. Стас обозвал настойку гадостью, отхлебнул еще и сунул мне в руки какой-то текст.
— Прочитай, может тебе этого хватит.
Текст оказался не длинным:
«У меня есть мысль и я ее думаю» — заявляет Герой У. из одного известного комикса. Эта фраза не так проста, как могло бы показаться на первый взгляд. В самом деле, пусть нeкто, к примеру, все тот же Герой У. думает о неком Предмете Х. Герой У. — существо рефлексирующее, поэтому, хочет он того или нет, но объектом его размышлений становится не только Предмет Х., но и сама мысль о Предмете Х. Такие размышления, в свою очередь, также не остаются без внимания, и размышления порождают себе подобных. В результате, каждая следующая мысль думает о предыдущей и этой цепочке несть конца. Особенно это заметно у тех, кто немотивированно раздваивает свое сознание. У таких субъектов четные мысли отличаются большей иронией, в то время как нечетные подернуты легкой грустью с примесью тоски, плавно переходящей в уныние.
Если Предмет Х. неодушевлен, то все мысли о нем видны отчетливо т.к. по мере удаления от Предмета Х. не блекнут от пессимизма. Напротив, если Предмет Х. одушевлен, то он шевелится, отчего и мысли о нем сбиваются и, в результате, путаются. Начиная с некоторого номера (психологи называют его индексом рефлекторного резонанса), мысли Героя У. уже перестают иметь какое-либо отношение к Предмету Х., а обращены непосредственно на себя, отчего Герой У. впадает в депрессию, и взор его туманится.
У каждого мыслящего субъекта свой индекс рефлекторного резонанса. В среднем, у детей до пяти лет он равен 2.6, у замужних женщин — 2.5, у ведущих научных сотрудников и хоккеистов — 4.3, у актеров — 0.9.
Подобный эффект размножения через отражение знаком нам с детства. Два зеркала, поставленные друг напротив друга, отражаются друг в друге необозримое количество раз и, тем самым, достаточно хорошо иллюстрируют процесс человеческого мышления. Последние исследования, проведенные в Стэнфордском университете, подтвердили наихудшие ожидания — оказалось, что в опыте с двумя зеркалами каждое последующее отражение смещено относительно предыдущего на одну и ту же величину, прямо пропорциональную расстоянию между зеркалами. Это означает, что цепочка отражений, начавшись в одном из зеркал, образует дугу огромного радиуса и заканчивается во втором зеркале. Поэтому число отражений, хоть и огромно, но — конечно, и тот, кто имеет ум, сочтет число отражений без труда, ибо число это — человеческое.
— Ты что издеваешься? — спросил я, закончив читать.
— Если не нравится, могу еще кое-что рассказать.
— Начинай…
И Стас начал рассказывать.
— Так вот, для затравки, несколько слов о предыстории проблемы. На самом деле, предысторий две, а не одна. Во-первых, сколько человечество существует, столько оно пытается понять, чем таким, оно, то есть человечество отличается от тех существ, которых принято называть неразумными. Проще говоря — чем отличается человеческий разум от животного…
— А я думал с этим уже давно все ясно, — перебил я Стаса. У меня не было времени слушать всем давно известные вещи.
— Не перебивай, дай досказать… Во-вторых, всем очень интересно, что у нас может быть общего с разумными представителями иных миров, и есть ли на свете какой-либо принцип или закон, по которому действует любой разум, и земной, и внеземной — не важно. Что касается первого вопроса, то ответ искали, и, в конце концов нашли, в области, скорее морально-этической, чем физиологической. Только человеку свойственно осознавать разницу между «добром» и «злом» и, при этом, не в контексте какой-либо личной выгоды. То есть, понимать, что «добро» — это не всегда «польза», а «зло» — далеко не тоже самое, что «вред». Кроме того, некоторые считали, что человек наделен свободой воли — он может осуществлять свободный выбор между добром и злом, между белым и черным, между тем, встать ли ему пораньше, чтобы идти на работу или, наоборот, поваляться в постели…
Стас потянулся к банке с настойкой. Я выхватил ее у него из-под носа.
— Давай, ближе к делу. Татьяна скоро придет.
— Хорошо, ближе так ближе. Ученые решили, что и внеземной разум должен функционировать более-менее также как человеческий, то есть, различать добро и зло, и иметь свободу воли, или свободу выбора — что тоже самое. Следующее важное отличие человеческого разума — это способность к так называемой рефлексии. Иначе говоря, способность создавать внутри себя образ или модель себя самого и, как бы смотреть на себя со стороны. Мы, люди, можем обдумывать свой следующий поступок, моделируя в своем воображении его последствия. И мы способны представить себе не только предмет наших размышлений, но и себя, размышляющего об этом предмете. На этом метафизика кончается и начинается математика.
— Может, как нибудь без нее? — жалостливо попросил я.
— Зачем тогда ты просил меня все это читать, — возмутился Стас, — ну да ладно… Я постараюсь попроще. В конце двадцатого века от рождества Христова, Лефевр предложил простую математическую модель — модель рефлексирующего разума. Сразу скажу, что простой она была только в конце двадцатого века. Сейчас все обстоит гораздо хуже… В смысле, для тебя — хуже, если ты хочешь понять, как эта модель работает. Так вот, в основе модели лежат несколько аксиом и постулатов. Например, для простоты, предположили, что мыслящий субъект принимает решение, основываясь на трех вещах…
— Какое решение? В смысле, решение чего, какой задачи?
— Ну, предположим, надо тебе решить, идти сегодня на работу или не идти. Или, нет, надо придумать что-то более животрепещущее…Это должен быть выбор между добром и злом…Вот: выпить тебе еще этиловой настойки или нет?
— Выпить!
— Э, нет. Не так быстро. Надо решать согласно теории. А теория говорит нам, что первое, на чем основано твое решение, это то, куда толкает тебя окружающий мир. При этом мы считаем выпивку безусловным злом, а трезвость, соответственно, добром.
— Миру плевать…
— Нет, не плевать. На подсознательном уровне он заставляет тебя выпить, чтобы, к примеру, снять напряжение или еще чего.
— Хорошо, мир — за!
— Пойдем дальше. Второе, что ты принимаешь в расчет, это твое личное предположение о том, чего желает от тебя мир.
— С миром, мы, вроде, уже покончили…
— То было на подсознательном уровне. А на сознательном — мир — против. Вот Татьяна же против?
— Против, но она — еще не весь мир, — возразил я.
— Не худшая его часть зато… Не важно… Итак, ты думаешь, что мир против выпивки, хотя на самом деле, он — за. И — хватит об этом. Перейдем, лучше, к третьему фактору…
— А сколько их всего?
— Я же сказал — три… И не перебивай. Третий фактор — это твоя внутренняя интенция, иначе говоря, твое НАМЕРЕНИЕ выбрать то или иное решение. Если оно совпадет с твоим решением, то тебя назвали бы «реалистом»
— А я реалист?
— Сейчас увидим. Так какова будет твоя интенция?
— Выпить!
— Вот заладил… — Стас заглянул в приготовленную заранее шпаргалку, —Ладно, выходит ты и в самом деле «реалист», — согласно модели — окончательное решение — «за».
— Ну ладно, пусть так. А если, скажем, миру, как это и есть на самом деле, все равно, то какой будет ответ?
— Пятьдесят на пятьдесят.
— Хм, а если Татьяне тоже безразлично, пьем мы тут или нет?
— То три против четырех, что ты выпьешь.
— Ааа, то есть, ответ — это вероятность того или иного решения.
— Угу, так точно.
— И что, как-нибудь экспериментально эту теорию можно подтвердить?
— Можно.
— И как?
— Ты слышал про «эффект золотого сечения» в экспериментальной психологии?
— Про то, что всем нравятся женщины, у которых некоторые пропорции близки к золотому сечению — слышал. Так ты хочешь сказать, что твоя теория может объяснить сей странный феномен?
— Отчасти — да. Можно провести такой простой эксперимент: собрать кучу народа и попросить их оценить своих знакомых по принципу сильный-слабый, или, скажем смелый-трусливый. И окажется, что, в среднем, люди выбирают положительное качество с частотою, близкой к золотому сечению — то есть, с вероятностью шестьдесят два процента. Это число как бы сублимирует наше представление о добре и зле. И это же число получается, как решение уравнения, предложенного Лефевром. Из его уравнения следует, что люди тянуться к добру с вероятностью шестьдесят два процента.
— Да, теперь я что-то такое припоминаю. Где-то я уже об этом слышал…— я вспомнил, как Франкенберг говорил, будто бы он «изменил сублимационное число», — а при чем тут свобода воли?
— Она тоже предусмотрена моделью. И потом, ведь модель не предсказывает твой поступок, а дает лишь вероятность того или иного решения. Каким оно будет — твое решение — зависит от тебя.
— Ладно, положим, уяснил, —сказал я не очень уверенно. — Выходит, алгоритм такой: берем мое изначальное намерение или, как ты говоришь, интенцию, смешиваем с влиянием среды и с тем, что я думаю про это влияние и получаем окончательное решение. Мне только про интенцию не понятно — она ведь тоже зависит и от окружающего мира, не важно, сознаю я эту зависимость, или нет. Моя интенция — штука не более понятная, чем то, что ты называешь окончательным решением. Как тут быть?
— Ты, можно сказать, зришь в корень. Процедуру поиска окончательного решения надо повторять много раз, на каждом шаге беря в качестве интенции предыдущее решение. Такой последовательный поиск и есть наша рефлексия, то есть общение с самим собою, с образом себя внутри себя. В модели, поиск осуществляется путем решения системы уравнений. В двадцатом веке уравнение было одно — простенькое квадратное, теперь же решают систему интегральных континуальных уравнений, но это уже такие дебри…
— В дебри мне не надо, — поспешил я его заверить, — мне надо суть уловить. А ее я представляю себе следующим образом: существует некая модель, согласно которой функционирует наш разум. Начали ее создавать в двадцатом земном веке, и с тех пор значительно продвинулись. Но принцип работы все тот же — берется какое-то количество входных данных, решается система уравнений, а ее решение — это вероятность того, что субъект, в конечном итоге, примет то или иное решение. Я ничего не напутал?
— Ты схватываешь на лету! — похвалил меня Стас и приложился к банке с настойкой.
Я решил, что пора поставить точку.
— В таком случае, спасибо за исчерпывающее объяснение. Впрочем, когда учитель говорит, что ученик все понял, то это может означать, что учителю просто надоело объяснять… Не понимаю только, если вся эта теория так хорошо известна, то почему профессор Фра…— я едва не проболтался. Пока я лихорадочно соображал, как мне выкрутиться, Стас удивленно переспросил:
— Что за профессор Фра?
— Да так, знакомый один… Не важно…
— Какой знакомый? — раздалось из прихожей. За болтовней я не услышал, как вернулась Татьяна. Так или иначе, но ее приход дал повод сойти со скользкой темы.
— Как ты тихо вошла, а Стас уже пришел, мы тут беседуем без тебя, — проговорил я скороговоркой, знаками показывая Стасу, чтоб тот спрятал банки. Он так и не придумал, куда их деть, поэтому, войдя в комнату, Татьяна застала его стоящим в глубоком раздумье, с банками в руках. Пойманный с поличным, он страшно смутился и взглядом стал искать поддержки у меня. Но я уже твердо решил всю вину свалить на него, и помощи от меня ему ждать не следовало.
— Стас, как тебе не стыдно! Я же просила! — накинулась на него Татьяна, — ну ни в чем нельзя на тебя положиться!
— Я… я больше не буду, — пообещал Стас.
— Не буду… уже приняли, значит, — продолжала она возмущаться. Я стал ее успокаивать:
— Да ладно тебе, мы ведь так только, за встречу, за скорое выздоровление.
— А ты… а ты марш готовить еду для гостей, они вот-вот придут, — наказание для меня оказалось не столь суровым, как я ожидал. Из ее слов следовало, что Стас на гостя не тянул.
Кроме него мы ожидали еще троих. Первой пришла лучшая Татьянина подруга Маргарита (для друзей — Марго). Они вместе учились на историческом. Про Марго всем известно, что она жуткая спорщица и болтушка, но вот касательно ее личной жизни, а в особенности, касательно роли Стаса в этой самой личной жизни, известно мало. Следом за Маргаритой пришла парочка Татьяниных коллег — Йохан и Ванда.
Ванда — очаровательное маленькое существо с огромными, удивленно смотрящими на мир, голубыми глазами. В этом мире, наибольшего восхищения достоин, разумеется, Йохан, поэтому Ванда смотрит ему в рот, даже когда тот ест. О характере их взаимоотношений я мог лишь догадываться, но там тоже, видно, не так все просто, поскольку весь вечер Йохан то пододвигался к Ванде на то минимально расстояние, когда пора начинать есть из одной тарелки, то, наоборот, отодвигался, едва не садясь Стасу на колени — все трое ютились на коротком диванчике. Вновь прибывшие, как и Стас, пришли не с пустыми руками, и Татьяна постепенно смирилась с изобилием напитков на столе.
Йохан — из нас самый старший, в его волосах уже появилась седина, но ее было ровно столько, сколько требуется, чтобы женщины считали ее признаком зрелости, но не старости. Держался он солидно — так, как и подобает вести себя руководителю исследовательской группы, куда входили все, кроме меня. Таким образом, я оказался в подавляющем меньшинстве, но это меня только радовало, поскольку привлекать к себе внимание мне никак не хотелось. К тому же, все понимающая Татьяна в корне пресекала любую попытку гостей заставить меня рассказать о моих приключениях, или, лучше сказать, злоключениях, так что, вопреки ожиданиям, мне не пришлось по этому поводу напрягаться. Татьяна и гости болтали, главным образом, об экспедиции на Сапфо. Экспедиция прошла не слишком удачно, поскольку никаких следов фаонских сапиенсов они не обнаружили.
— Словно чисто-чисто за собой убрали, — эмоционально рассказывала Ванда, — знаете, такое ведь часто с нами бывает, когда знаешь, что кто-то чужой был в твоем доме, но никаких следов нет. И непонятно, откуда это чувство…, интуиция, что ли — не знаю, как назвать… Я читала, что когда люди впервые высадились на Фаоне, на Оркусе, и на других землеподобных планетах, то они испытали тоже самое ощущение — будто вот только что кто-то здесь был, но исчез бесследно прямо перед прибытием землян. Просто мистика какая-то!
— Мистика тут не причем, существуют методы, как отличить природные явления от следов деятельности разумных существ, — возразил Йохан.
— Ага, как раз до вашего прихода, я рассказывал Федру про один из таких методов, — про тот, что основан на модели рефлексирующего сознания.
Я так и думал, что Стас не удержится — ведь я же просил его не трепаться. Я пнул его под столом ногой; Стас замолчал, но ненадолго.
— Вы собираетесь писать об этом в своем журнале? — спросил Йохан настолько серьезно, что я понял: можно отвечать что угодно — он, все равно, читать станет.
— Пока не знаю, посмотрим…
— А что за моделирование такое, расскажите, — Марго почуяла, что, наконец, есть о чем поспорить. Стас, который уже потренировался на мне, начал довольно складно объяснять, но Марго его остановила:
— А, точно-точно, это мы на прикладной психологии приходили, помнишь, Тань?
Татьяна не помнила. Марго это не обескуражило:
— Я лично считаю, что всякое такое моделирование — это пифагорейство в чистом виде — «числа правят миром», фу, скучно и бесполезно. А бесполезно, потому что мыслим-то мы на языке, а язык наш совсем никудышный — к примеру, на нем нельзя толком объяснить, что мы считаем истинным, а что — ложным. Имея под рукой только такой убогонький язык, как ты сможешь описать принципы мышления, то есть принципы самого этого языка?
— А на каком языке, позволь спросить, ты только что изъяснялась? — нашелся Стас, — если никакое суждение о мышлении не может быть истинным, то и твое в том числе.
— Твоей теории от этого не легче, — отбила мяч Марго и злорадно хихикнула: — Человек никогда не сможет понять самого себя, как нельзя деревяшку перепилить такой же деревяшкой.
— От чего же, можно, — Йохан пришел на помощь Стасу, — только они обе при этом сотрутся. Обе — и одновременно. Боюсь, именно, две трущиеся друг о друга деревяшки и моделируют процесс познания. Познание как способ самоуничтожения.
Выходит, он вовсе не собирался заступаться за Стаса.
— Вот уж угораздило нарваться на двух агностиков, — возмутился последний, — от трения, между прочим, еще и огонь бывает…
— И Йохан о том же, — Марго не дала ему закончить мысль, — смерть в огне, чего ж хорошего?
Стасу теперь отбивался от двоих:
— Нет, вы не поняли, огонь здесь символизирует плоды познания. А они есть!
— Ну и какие же, перечисли, — не унималась Марго. Исключительно из чувства противоречия.
У Стаса дыхание перехватило от возмущения. И, как неопытный игрок, ударил сразу козырем:
— Канал, например. Или он тебя не устраивает?
— Фу, тоже мне, удивил. При чем тут познание-то? Канал — это, можно сказать, подарок судьбы. Пространственная неоднородность, волею случая возникшая недалеко от солнечной системы. Тау-лептонные мембраны, дескать, слиплись. Как насмешка. Эй, люди, хотели попутешествовать, пожалуйста, извольте, но далеко не уходите, — не положено. По сравнению с размерами нашей галактики, не говоря уже об обозримой части Вселенной, твой Канал — что песчинка, нет, молекула, в Южном Океане. Тоже мне, квутцат ха дерех нашел!
Марго было не остановить. Выручил, как всегда, Йохан:
— Погоди, не гони так. Канал, разумеется, не подарок. То есть в прямом смысле — не подарок. Подарки раздают намеренно и добровольно. Мне он напоминает, скорее, результат чьей-то беспечности. А мы его присвоили как трофей, хотя вряд ли он предначен именно нам. Канал — это такая щелочка в неплотно прикрытой двери. Настолько узкая, что и подглядеть-то толком в нее нельзя, она лишь указывает, что дверь именно тут. Как будто те, кого мы ищем, вышли через эту дверь, но закрыть за собою, как следует — не удосужились. Мы мечемся от планеты к планете, застаем чисто убранные помещения — и только. Странно все это, определенно странно…
Он замолчал.
Ванда услышала несколько незнакомых понятий, потому спросила:
— Йохан, а что такое «квутцат»… ну и так далее?
Прежде чем объяснить, Йохан исполнил свой всегдашний ритуал. Он медленно и задумчиво взял в левую руку плод фанго (это фаонский аналог манго, но для ритуала подходит и он), в правую — нож, и стал не спеша чистить фрукт. Со стороны можно было подумать, Ванда именно это попросила его сделать, однако Йохан так собирает мысли воедино. Пауза получилась восхитительной. Марго обвела всех ехидным взглядом и тихо хихикнула. Когда нож срезал сантиметров семь-восемь кожуры (если бы Марго не хихикнула, то хватило бы и пяти), Йохан заговорил:
— Более-менее точно «квутцат ха дерех» означает «короткий путь». Теперь, представь себе, что ты живешь на сфере и…
— Мы и так живем на сфере. Чем Фаон не сфера? — встряла Марго.
Стас на нее рыкнул. «Больше не буду» — прошептала она. Йохан подождал пока они меж собой разберутся и продолжил:
— Хорошо, Фаон так Фаон. Предположим, далее, что от одной точки к другой можно передвигаться только по экватору, проходящему через эти две точки. Пусть, эти точки находятся близко друг от друга, близко — в нашем обычном понимании. Тогда у тебя есть в распоряжении две дуги экватора — малая и большая. Любую из них ты можешь выбрать в качестве маршрута. Идя по большой дуге ты совершаешь практически кругосветное путешествие, и такой путь долог — он значительно дольше, чем если двигаться по малой дуге, но и длинный путь приводит к цели — ко второй точке, я имею в виду. В том мире, где мы живем, происходит нечто подобное: куда бы мы не двигались, какую бы цель себе не выбирали, мы все время идем по большой, длинной дуге, поскольку короткий путь закрыт для непосвященных. Мы не рискуем заблудиться, но времени на дорогу тратим гораздо больше, чем могли бы… Для наглядности, можно считать, что каждая точка пространства — это маленькая сфера и каждую такую сферу мы проходим так быстро, что нет возможности разобрать — по короткому пути мы ее преодолеваем или по длинному. Но из мгновений складываются годы и, будь мы в силах сделать каждое мгновение в десять раз короче, то в итоге, годы бы превратились в месяцы. Возможно, Канал и есть тот загадочный квутцат ха дерех…
Стас терпеливо дождался, пока Йохан не кончит говорить, и вернулся к прежней теме:
— Да вы выпендриваетесь тут, а на самом деле думаете так же, как и я. Просто вы расстроились, что не нашли ничего на Сапфо, а теперь обобщаете!
— А ты завидуешь нам, поскольку не смог поехать, — получил он в ответ от Марго.
Так, думаю, примирения не вышло, спорщики перешли на личности, пора это дело пресечь.
— Господа, хватит спорить, хруммели остывают, — говорю я, — Татьяна так старалась, готовила.
Самый лучший способ остановить слишком уж разгорячившихся спорщиков, это задеть кого-нибудь третьего. Татьяна меня так и поняла, поэтому смолчала. Все дружно зачавкали непроваренными хруммелями. Первым справился с ними Стас.
— Нормально, есть можно, — сказал он, но видя, что Татьяне такого заключения не достаточно, добавил: — Даже вкусно! А ты Йохан не прав по поводу короткого пути. Твой аналог с дугами на сфере не проходит, поскольку нарушается аддитивность по времени.
Все уже успели забыть про короткий путь, но Стас все время пока ел, проводил в уме необходимые вычисления. Йохан проглотил-таки последний кусок, запил чистой водой, прокашлялся и вынес Стасу приговор:
— Ты, Стас, аллегорий не понимаешь!
Покончив со Стасом, он вслух продолжил мысль, начало которой мы не слышали:
— …Нет, конечно, никогда невозможно точно определить, мыслящий субъект перед вами или нет. Это даже с людьми не всегда понятно. Вот ты, Татьяна, если встретишь неизвестное существо, как определишь, мыслящее оно или нет?
— Предложу ему любимых федоровых тянучек. Если не возьмет — то мыслящее, — ответила Татьяна не задумываясь.
Я же за словом в карман не полез:
— То-то ты никого найти не можешь — тянучки раздаешь, а они их берут, ты и идешь дальше — мол, немыслящее существо опять попалось. Так всех в немыслящие и записала. В несознательные, то есть.
Татьяна замахнулась на меня вилкой:
— Сейчас ты у меня снова бессознательным станешь!
Йохан опять проявил себя хозяином положения — ловким движением он выхватил вилку из ее руки. Как-то уж слишком легко, и я бы даже сказал, по интимному нежно, разжал он ее пальчики. Меня это несколько напрягло. Ванду, кажется, — тоже. Йохан же, как ни в чем не бывало, говорит:
— Татьяна сейчас занята другой проблемой — она хочет раскрыть тайну открытия Фаона.
— Что за тайна? — спрашиваю.
— Да ну вас всех, — отмахнулась Татьяна, — опять издеваться начнете.
Мы хором поклялись, что не начнем, а я даже извинился за свое прежнее, абсолютно необдуманное, высказывание. Стас, как и я, не был в курсе «тайны открытия Фаона» и упросил-таки Татьяну о ней рассказать.
— Я бы назвала это не тайной, а недопониманием. В школе мы все проходили, что Фаон был открыт двести пятьдесят лет назад экспедицией Рампо, но я недавно и совсем по другому поводу просмотрела их бортовые записи и обнаружила, что Рампо вовсе не считал себя первооткрывателем Фаона.
— Как так, не понял, — я действительно не понял.
— Из записей следует, что когда они высаживались на Фаоне, они думали, будто планета уже была открыта до них, но кем открыта — не упомянули. Меня это немного удивило, и я стала просматривать бортовые журналы других экспедиций на Фаон. В записях было все что угодно, кроме одного: никто не заявлял, что именно он первым ступил на поверхность планеты.
— Вот, я же говорила, — Ванда впервые за последние полчаса напомнила о себе, — мистика, кругом мистика, да и только. Когда несколько экспедиций спорят меж собой, кто из них первооткрыватель — это понятно. Но чтобы все отказывались — такого попросту не бывает!
Я поинтересовался:
— А в хронологическом порядке все эти экспедиции нельзя выстроить?
Марго посмотрела на меня «поверх очков», хотя очки уже давно никто не носит.
— Какая хронология, Федр! Тогда еще не было синхронизированного времени!
Не следует мне встревать в научные споры. Стас сделал рискованное предположение:
— Может, они там напортачили чего? Сделали что-нибудь не совсем приличное, что-нибудь недостойное гордого звания посланцев человечества, вот и открещиваются теперь.
Но Татьяна возразила:
— Да нет, они не открещиваются — их ведь никто ни в чем не обвиняет…
— Значит, заранее решили себя подстраховать, но, как видно, все и так сошло с рук — потомки ничего подозрительного не заметили, — Стас не хотел так просто отказываться от своей идеи.
— А у них не могло случиться какого-нибудь психического расстройства — как у тех, кто высадился на Оркусе? — спросила Марго.
— В случае Оркуса, влияние исходит от самой планеты, вернее от ее поля, искаженного двумя ее спутниками. Если бы все дело было в поле Фаона, то не только участники первых экспедиций, но и все остальные, и мы в том числе, почувствовали бы что-то неладное, — у Татьяны на все был готов ответ, — да бросьте вы! Все эти простые варианты я давно перебрала. Перебрала и отвергла.
После такой отповеди у всех сразу пропало желание выдвигать новые гипотезы. Воцарилось молчание. Стас ненавидит, когда все молчат, ему от этого делается неловко. — Да ладно тебе, — сказал он, — нам ведь тоже интересно. Не хочешь говорить об этом — не надо. Я вам сейчас сон расскажу. По поводу него, я принимаю любые гипотезы, кроме обидных.
Мы пообещали, что его сну никаких обидных объяснений мы специально придумывать не будем. Если, конечно, Стас сам не даст нам повода. Стаса такое обещание вполне устроило: —Не дождетесь… Так вот, слушайте. Все дело происходило в загородном коттедже, где-то на Земле. Комната, где я находился, была большой и светлой. За окном — лес средней полосы, или, нет, все же ближе к тропикам. Что меня поразило, так это тамошние насекомые. И дело не в том, что в комнате их было слишком много. Как раз по началу их было лишь чуть больше, чем обычно. Странным выглядело другое — их поведение и размеры. Два комара-типулита, оба величиной с воробья, боролись друг с другом на лету. Затем в углу на потолке я увидел, как гигантский кузнечик (или это была саранча — но все равно гигантская) пожирает такого же огромного — сантиметров двадцать между кончиками лапок — паука. Комнату заполнили бабочки, не яркие — светло зеленые и желтые — но тоже большие. Они назойливо мельтешили перед глазами, их крылья касались лица — жутко противное ощущение. На стенах проступили следы от их экскрементов. Потеки шли от потолка до пола и как-то странно фосфоресцировали. Свет, до того момента яркий как при свете дня, стал меркнуть. И тут я увидел самое странное существо из всех, что видел раньше.
Сначала, я подумал, что это летучая мышь-альбинос. Только у этой мыши было не два крыла, как полагается, а три. Третье крыло располагалось чуть сзади и волочилось по полу. Я пригляделся. Существо оказалось вовсе не мышью. У него было тело маленького человека, но по пропорциям — взрослого. Человечек был ярко розового цвета и абсолютно гол. Ростом — сантиметров двадцать пять — тридцать. На меня таращилась злобная мордочка с огромной челюстью и тупыми коричневыми зубами, но все равно — человечьими, как и все прочее. Странно, но мне не было страшно. Я схватил его за край третьего крыла — мне казалось, что так он меня не достанет. Этот мини-бэтман попытался удрать, взмахи его крыльев были настолько мощны, что он сумел оторвать меня от пола, но не больше чем на несколько десятков сантиметров. То третье крыло, за которое я его схватил, начало вытягиваться пока не превратилось в длинный белый шлейф, наподобие нитяной сетки. Я продолжал сжимать его в руках. Сил у существа было достаточно, чтобы передвигаться вместе со мною огромными скачками — он то поднимал меня на полметра, то опускал. Мне это даже понравилось, и я стал помогать ему, изо всех сил отталкиваясь ногами от земли. Скачки увеличились, но полностью взлететь мы не смогли. В какой-то момент он, то ли вырвался, то ли исчез… Не помню. Я вышел во двор и там были вы, то есть ты, Йохан, Татьяна, Ванда, на счет тебя, Марго — точно не помню…
— Ну вот, все интересное, как всегда, без меня, — вставила Марго. Мы зашипели на нее, чтоб не перебивала.
— Ладно, была ты там, как же можно без тебя, — миролюбиво согласился Стас. — Но, собственно, это уже конец. Выйдя из дома, я рассказал вам про того бэтмана, но, зная, что вы мне не поверите, представил все как некую странную галлюцинацию. А вы, в свою очередь, стали гадать, отчего она могла произойти, но так нечего и не придумали…
Стас закончил рассказывать. Никто не решался говорить первым — мы помнили о данном Стасу обещании. Ванда не нашла ничего умнее, как спросить:
— А почему у него было три крыла?
— Не знаю. Может, крыло и с самого начала было шлейфом… Да, нет, вроде, — крылом, — теперь уже трудно вспомнить.
— Три крыла — это странно, — задумчиво произнесла Татьяна, как будто что-то вспоминая.
— Вот-вот, — согласился Йохан, — даже три ноги — не совсем удобно, а три крыла — и подавно.
Татьяна вспомнила, что хотела:
— Федр, помнишь, ты спрашивал меня про …, как его там, бикадал триподу, про трехного? Три ноги — три крыла — забавно, не находишь?
Я не находил ничего забавного. Ну сколько можно объяснять: на людях спрашивай меня, только если знаешь, что я отвечу. А не знаешь — отведи в сторонку, шепни на ухо, — я и скажу, может быть. А еще лучше, дождись, пока все разойдутся. Но не мог же я ответить, что встретил «трехного» в Институте Антропоморфологии, перед тем как поговорить с Перком, которого, сразу после нашей с ним беседы, убили.
— Трехногий мне приснился, как и Стасу, — ответил я.
Естественно, Стас подумал, что я над ним издеваюсь:
— Начинается! Вы же обещали!
Йохан решил блеснуть эрудицией:
— Тебе Трискелион приснился, — сказал он мне, — знак такой, три ноги из одного места. У древних греков этот знак означал победу и прогресс.
— А три крыла что-нибудь значат? — спросила его Ванда.
Меня как током ударило. Вот умница, думаю. О знаке на груди Номуры я уже давно подумал, но, даже пользуясь таким случаем, спросить о трех крыльях не рискнул. Ответ Йохана меня разочаровал:
— Ни разу не встречал…Не знаю. Человек— летучая мышь встречается довольно часто. Это мог быть, например, Камазоц, Повелитель Мышей у индейцев Центральной Америки, но того голова была мышиная, а ты, Стас, говоришь, видел человечью?
Стас обрадовался, что о нем снова вспомнили:
— Да, голова была человечья. Челюсти и зубы — большие, то есть, больше, чем у людей, но по форме — все равно человечьи.
— А уши?
— Уши? Обычные уши. Уши как уши. Как у Марго, например.
Марго фыркнула, но смолчала. Йохан шутливо заключил:
— Ну если как у Марго, тогда точно не Камазоц. У того уши огромные — больше чем сама голова. Я почему вспомнил про Америку — твой сон, возможно, запоздалая реакция на ту экспедицию в Перу. Помнишь, мы хотели сравнивать образцы, найденные на Оркусе, с изображениями на камнях из Ики.
— Помню, помню. Я тоже так подумал. Насекомые тогда нас достали — на Фаоне их значительно меньше.
— Вы все неправильно интерпретируете, — возразила вновь осмелевшая Марго, — на самом деле, тот мыш, — это частица твоего внутреннего "Я" и, удерживая его, ты отстаиваешь целостность своей души… Ну скажи, ведь я права? — обратилась она за поддержкой к Татьяне.
— Не думаю. Почему именно мыш?
— Да это я так, для определенности его мышем назвала… Человечек с крыльями — испокон веку так представляли себе душу.
— Ее как только не представляли! Твою, например, я представляю себе в виде…
— Все, все, молчу. Больше — не слова, — Марго не захотела, чтобы Стас рассказал всем, как он представляет себе ее душу.
В начале одиннадцатого, все, наконец, решили, что таинственных историй на сегодня уже достаточно — надо что-нибудь оставить и на другой раз. Встав из-за стола, Стас захватил несколько грязных тарелок, чтобы отнести их на кухню (по случаю прихода гостей, Татьяна не стала выставлять одноразовые). Все, за исключением Марго, последовали его примеру. Тогда Стас, обращаясь к ней, сказал вполголоса: «Поднявшись с постели, сгладь отпечатки тела». Марго покраснела до корней волос, а Стас, как ни в чем ни бывало, пояснил:
— Это Пифагор сказал — тот, которого ты не любишь.
— Отчего же, люблю, — тихо ответила Марго и взялась за тарелки.
Татьяна со Стасом оседлали нейросимулятор и о чем-то оживленно спорили. Ванда с Марго сплетничали на кухне. Мы с Йоханом остались наедине. Я подумал, что раз Ванда уже спрашивала про три крыла, а я сказал, что мне приснился трехногий, то не будет ничего страшного, если я спрошу его про треугольник. Потом скажу, что треугольник приснился Татьяне.
— Йохан, ты случайно не встречал такой знак: треугольник с тремя крыльями и с человеческим глазом посередине? — про глаз я добавил для конспирации.
— Далась вам эта цифра три…— усмехнулся он, — треугольник с человеческим глазом — знак достаточно распространенный. Типичная оккультная символика, я бы сказал — «Всевидящее око» или вроде того. Про крылья сказать ничего не могу. А ты уверен, что именно крылья, а не, скажем, листья?
— Точно! — спохватился я, — там были листья! А они что значат?
— Три листа клевера вплетенные в треугольник — это раннехристианский символ. По преданию, с помощью трехлистного клевера святой Патрик объяснял язычникам-ирланцам триединство божественных сущностей… Продолжать? — спросил он, видя, что я его не слушаю. Хоть клевер и не растет на Фаоне, но я способен отличить крылья от листьев.
— Спасибо, я все понял, — поблагодарил я его, — теперь я знаю где про это можно найти в литературе.
— Всегда пожалуйста., — ответил Йохан и пошел на кухню.
Гости разошлись в половине двенадцатого. Стас все норовил остаться «еще на полчасика», но мы его выпроводили вслед за Марго.
Остаток вечера мы с Татьяной провели в напряженном молчании. Она продолжала на меня дуться неизвестно за что. Когда мы уже погасили свет, я решил, что последнее слово должно остаться за мной.
— Вот, пришлось опять из-за тебя врать. Зачем ты вспомнила про бикадала? — спросил я безо всякого предисловия, словно мы до этого не молчали, а только и делали, что обсуждали трехногого.
— Больно нужен мне твой безногий… А он что, как-то связан с твоим заданием?
— Напрямую, — я снова покривил душой, но уж больно мне хотелось вызвать у Татьяны угрызения совести.
— Извини, не знала. Сказал бы…
— А почему ты его безногим обозвала? У него их целых три — больше чем у нас.
— Не знаю. У животных их обычно четыре, вот и сказала — безногий.
Ее ответ меня заинтересовал.
— А у кого четыре крыла?
— У кого, у кого… у бабочек.
— А бабочки у кого? — настаивал я.
— Федррр, отстань… у японцев… спи давай, — пробубнила она еле слышно — гости ее утомили, и она уже засыпала.
Занятно, ведь Номура — японец. Точнее, его предки когда-то ими были. Мистика, как говорит Ванда. Напоследок, я подумал, что если сегодня ночью мне приснится кто-нибудь трехногий, трехкрылый и с повадками Марго, то, пожалуй, придется сменить работу.
3
С утра я просмотрел новости. О моем деле там ни словом не обмолвились. «Спасение — предусмотрительным!», — пророчествовало Глобальное Страховое Общество в промежутках между новостийными блоками. Ну как тут возразишь!
Разбирая почту, наткнулся на дело того самоубийцы, чье тело потом пропало из патологоанатомической лаборатории. Виттенгер решил, что раз дело о смерти Эммы Перк закрыто, то почему бы и не выполнить мою давнишнюю просьбу.
Когда я взглянул на снимок жертвы, я понял, почему врач рекомендовал мне по крайней мере месяц избегать любых потрясений. Сердце учащенно забилось, затылок сдавила тупая боль. Я сполз с кресла на пол — почему-то мне казалось, что чем ниже я буду находиться, тем скорее пройдет дурнота. Я сел, прислонившись спиной к столу, потом лег. Потолок то надвигался на меня, то отодвигался. Татьяна, с утра, уехала в Университет, и ждать помощи мне было не от кого. К счастью, ничья помощь и не понадобилась: волны еще раз прошли по потолку и все успокоилось. Затих и тот шторм, что бушевал в моей голове. Я снова сел в кресло.
Если бы не две родинки под подбородком, то вряд ли бы я его узнал так быстро. Я продолжал вглядываться в снимок. Казалось, словно два разных изображения слились вместе. Одно из них, в течение минуты, я разглядывал в кабинете профессора Франкенберга. Другое изображение принадлежало существу из пещер Южного Мыса. Я с трудом взял себя в руки и стал сопоставлять изображение жертвы и собственные воспоминания, какими бы смутными они не были. Узкие скулы, тонкий нос, глубокие темные глазницы — все это скорее относилось к «туристу». Но у «туриста» было лицо ожившего мертвеца, а это… стоп. Голова совсем не работает — я же смотрю на снимок, сделанный уже после смерти. Разницу можно было бы сформулировать так: у «туриста» — лицо ожившего мертвеца, а на снимке — лицо умершего… чуть не сказал «живца»…— нет, — человека, умершего буквально только что. К делу о самоубийстве прилагался единственный прижизненный снимок — с личной карточки жертвы. Нет сомнений — я видел этого человека на экране профессорского компьютера. Странно, теперь я назвал гомоида человеком. Но у него вполне человеческое имя — Джек Браун! Сведения о нем были крайне скудны. Жил один, работал… ого!… техником в Институте Антропоморфологии. Опять Институт! Однако, кроме названия места работы, в материалах дела не содержалось ничего такого, что указывало бы на связь Джека Брауна с Перком. СОБ пришла к выводу, что документы Брауна подделаны, хотя, довольно искусно. В патологоанатомическую лабораторию тело привезли поздно вечером, а уже ночью оно было выкрадено, поэтому среди материалов дела не было результатов вскрытия.
Я связался с Виттенгером. Он сидел у себя в департаменте; говорить со мной из офиса ему не хотелось. Я сразу это понял и потому был предельно лаконичен.
— Привет, что-то давно тебя не слышно, — вяло поздоровался он.
— Привет-привет, дела были кое-какие… Спасибо за сообщение, ну, за то, последнее…
— Я понял, продолжай… — поторопил он меня.
— Только в нем кое-чего не хватает.
— И чего же?
— У последнего пациента отсутствует история болезни.
— Ее нет, — кратко ответил Виттенгер.
Это и так ясно. Я спросил:
— Снимки тела успели сделать?
— Да.
— В обычном или расширенном диапазоне?
— Расширенном…
— Пришли.
— А тебе зачем?.. Стоп, не надо, не объясняй. Потом, при встрече… А босс в курсе?
Он сказал «босс», а не «твой босс» или «твой шеф», — словно у нас с ним один босс на двоих. Видимо, они с Шефом здорово сблизились, пока я был вне игры.
— В курсе, — соврал я не моргнув глазом.
— Хорошо, пришлю, — пообещал он.
— Спасибо. Тогда — до встречи.
— Не за что. Пока.
Вот так история! Что только ни делают гомоиды, чтобы их не обнаружили — даже трупы воруют!
Через полчаса пришли снимки. Длинное, худое, истощенное тело. Что-то не срослось у господина профессора — сверхчеловеки оказались слабоваты. Но никаких намеков ни на трехкрылый треугольник, ни на какой-либо другой опознавательный знак. Затея с самого начала выглядела безнадежной. Очевидно, Номура не из их компании.
Снимок Джека Брауна подтвердил опасения, зародившиеся в тот момент, когда я впервые увидел гомоида воочию. Отныне, мне не следует надеяться на то, что два оставшихся гомоида будут походить на профессорские снимки. Вероятно, они делались давно — лет пять, может, десять назад и с тех пор гомоиды сильно изменились. Говорить о сходстве можно лишь по некоторым формальным признакам: строение черепа, цвет и разрез глаз. Номура не подходил ни по одному параметру. Мне очень хотелось, чтобы круг лиц, причастных к «делу гномов», ограничивался самими гномами и сотрудниками Института. Номура не был сотрудником Института — он был нашим сотрудником. И он — не гном. Тогда, кто он? Шефу не понравилась бы такая постановка вопроса.
Джонс — другое дело. Он — и сотрудник Института и, если хорошенько загримировать, мог сойти за гнома. Формально, Джонса можно принять и за Блондина, и за Младшего, если бы не цвет глаз, но ведь его нетрудно изменить. Снимок Джонса находился у меня под рукой, но мне необходимо было увидеть Джонса «живьем». Я набрал его код. Комлог Джонса вежливо сообщил, что хозяин для меня недосягаем, но если мне так будет угодно, то комлог передаст ему мое сообщение. Отсутствие Джонса можно объяснить чем угодно, но я решил уточнить у Виттенгера, разрешил ли он и Джонсу и остальным, кто допрашивался в связи с убийством Перка, покидать Фаон.
— Что еще? — недовольно буркнул Виттенгер. Он сидел все в том же кабинете, за спиной у него сновали люди.
— Я по поводу Джонса, вы случайно не знаете, не покидал ли он Фаон?
— Покидал.
— Вы ему разрешили? Ведь во время следствия…
— Следствие завершено, — грубо прервал меня Виттенгер.
— Куда он направился?
— В отпуск, — полицейский сообщил мне не совсем то, о чем я его спрашивал.
— А про остальных вы что-нибудь знаете?
— Остальные, это кто? — попросил он уточнить.
— Симонян, Шлаффер и Дейч.
— Шлаффер в командировке, двое других — здесь.
Несмотря на его недовольство я продолжал спрашивать:
— И куда у него командировка?
— На Оркус, — ответил Виттенгер.
— И по чьему распоряжению?
— Симоняна, насколько мне известно.
— Это вам Шлаффер так сказал?
— Да… А что, я должен был проверить? — подозрительно спросил Виттенгер. Ничего предосудительного в командировке на Оркус я не видел и потому ответил:
— Да нет, я так, на всякий случай спросил.
— Тогда это все? — Виттенгер был как на иголках.
— Все! — громко ответил я, и мы расстались не прощаясь.
Шлаффер меня не особенно интересовал, но поспешный отъезд Джонса меня встревожил. Нет никаких гарантий, что он действительно уехал и действительно в отпуск. Нет даже гарантий, что он жив… Я позвонил в Отдел и попросил Яну выяснить, когда и в каком направлении отбыли и Джонс, и Шлаффер. Если они улетали через космопорт, чтобы затем воспользоваться Терминалом Фаона, и если они путешествовали под собственными именами, то начальное направление их маршрутов выяснить несложно. Через сорок минут Яна перезвонила и сказала, что у Шлаффера на двадцать пятое августа был заказан транзит до Оркуса и он его использовал. Следы Джонса ведут к ТК-Хармас (т.е. к терминалу планеты Хармас) и там теряются. Джонс покинул Фаон двумя днями позже Шлаффера.
Итак Джонс исчез, а Симонян посылает Шлаффера на Оркус. Точнее, наоборот — сначала уезжает Шлаффер, затем Джонс. Но из этого еще ничего не следует. Я вернулся к материалам по делу Джона Брауна. Виттенгер клялся, что это было стопроцентное самоубийство. Способ тот же, что и у Эммы Перк — разряд цефалошокера. Ясно виден красноватый след чуть ниже правого уха. Шокер был зажат в руке; кисть удалось разжать с большим трудом. Браун разрядил шокер стоя на мосту через одну из неглубоких речек, что впадают в наше озеро. Вероятно, он думал, что течение вынесет его тело в озеро, и там его уже никто не найдет. Так бы оно и произошло, если бы не случайный свидетель. Он увидел, как Браун перелез через перила моста и секунду спустя бросился в воду. С того места, откуда свидетель видел Брауна, рассмотреть шокер было невозможно, к тому же — дело происходило поздно вечером. Свидетель тут же сообщил о случившемся в Службу Общественной Безопасности. Те прибыли на место трагедии спустя пятнадцать минут, и еще через полчаса тело удалось извлечь из воды. Затем тело отвезли в патологоанатомическую лабораторию, откуда, той же ночью, оно и исчезло. Экспертам не удалось взять пробы для анализа ДНК, а теперь такой анализ мне бы очень пригодился. На шокере следов никаких не нашли, поскольку Браун был в перчатках, что вполне нормально в это время года. Место жительства, которое он указал при приеме на работу в Институт Антропоморфологии оказалось вымышленным, а предъявленные документы — фальшивыми. Самого Брауна удалось опознать только со слов одного из его коллег — тот случайно увидел снимок Брауна в новостях. Полиция опросила всех, кто знал Брауна по работе, но так ничего и не добилась — Браун был замкнут, дружбы ни с кем не водил, о себе не рассказывал. Работа он выполнял самую, что ни на есть, черную — на институтском очистном коллекторе, и Брауном никто особенно не интересовался. Виттенгер допросил всех, кто работал рядом с Брауном. Техник по фамилии Типс назвал его слабоумным, точнее «недоумком». Остальные не высказывались так прямо, но из их слов следовало, что они тоже считали Джека Брауна умственно не совсем нормальным.
Вызвавший полицию свидетель никаких подозрений не вызывал, и, не исчезни тело, дело обязательно бы закрыли. С этого момента в деле царил полный мрак. Тела умерших на Фаоне сроду не похищали. Как потом шутили патологоанатомы, замок лаборатории мог бы открыть даже покойник. Но тело Брауна похитил не покойник — кто-то очень не хотел, чтобы полиция провела вскрытие. А она бы обязательно это сделала — как и полный анализ ДНК. Таким образом, цель похитителя абсолютно ясна. Он не мог допустить, чтобы эксперты выяснили, что Браун — не человек. Следовательно, либо смерть Брауна самое настоящее самоубийство, либо похититель не является одновременно и убийцей — иначе, он бы выбрал для убийства более подходящее место. С другой стороны, зачем убивать Брауна, если не из-за того, что он — гомоид. И заставить тело исчезнуть, для убийцы не менее важно, чем совершить само убийство. Вывод: смерть Джона Брауна — определенно суицид, что Виттенгер и утверждал с самого начала. Причины, заставившие Брауна свести счеты с жизнью, ясны не более, чем все остальное в деле Института Антропоморфологии.
Я так увлекся изучением дела Джона Брауна, что об остальной почте вспомнил лишь к обеду. А зря, потому что пришло одно прелюбопытное письмецо от некоего доктора Абметова:
Уважаемый господин Ильинский!
Мне приятно осознавать, что и на далеком Фаоне проявляют интерес к истории развития науки о человеческом разуме. К сожалению, на Земле совсем не знакомы с Вашим журналом «Сектор Фаониссимо», но, я надеюсь, что это досадное недоразумение вскоре будет исправлено.
В ответ на Ваш запрос, мы высылаем Вам ряд работ, которые, без сомнения, вас заинтересуют. Более того, я с удовольствием встречусь с Вами лично, если только Вы найдете возможным посетить Оркус в период с 4-ого по 12-е сентября по Синхронизированному Времени.
Буду рад засвидетельствовать Вам свое почтение,
директор Архива Истории Науки,
доктор Абметов.
К письму прилагались несколько научных статей, часть из которых я уже видел, а Стас, — тот даже читал. Ну вот, еще один доктор, подумал я (до сих пор мне вполне хватало докторов из Института). Тому, что мой запрос касательно Лефевра попал в Архив Истории Науки я не удивился — в недрах Канала и не такое происходит. Но в сочетании с опубликованным в «Секторе Фаониссимо» письмом озабоченного читателя, послание Абметова выглядело несколько подозрительно. Придуманный мною Джон Смит живет на Оркусе. Доктор Абметов едет на Оркус — и Шлаффер отправляется туда же. Сегодня уже третье сентября по синхронизированному времени и решать, ехать на Оркус или нет, нужно срочно. Но не переговорив с Шефом ехать я не мог.
4
Когда я дома, я мало придаю значения своему самочувствию. Другое дело, когда вылезаешь за пределы своей берлоги. Пусть всего лишь для того, чтобы доехать до Отдела. Почти две недели я просидел в четырех стенах, и расслабленное состояние стало входить в привычку. Так было до того момента, пока я не открыл дверь флаера и не нагнулся, чтобы влезть вовнутрь. Я почувствовал, как чей-то взгляд словно вонзился мне между лопаток. Обернулся — никого — только выстроившиеся точно по разметке разноцветные флаеры. Я насчитал восемь. На первый взгляд — пустые. Я с трудом подавил в себе желание пройтись вдоль них и заглянуть в кабины — не надо давать волю нервам. Дальше, за стоянкой, была только серо-голубая пустота — сразу за флаерами крыша термитника обрывалась, а прозрачное, двухметровое ограждение не мешало мне лишний раз убедиться, что в это время года любоваться на Фаоне нечем.
Я не спеша сел в кресло, захлопнул дверь и только после этого снова огляделся вокруг. Все тихо. Конечно, в переносном смысле — на противоположном конце крыши термитника, то и дело, садились и взлетали флаеры — ничего подозрительного, все как всегда. Но чувство, что опасность где-то рядом, не проходило, наоборот — оно только усиливалось. За три года работы на Отдел мне не раз приходилось быть не только преследователем, но и преследуемым. И нервотрепки тут никак не избежать. Но меня беспокоило другое: на этот раз напряжение рождалось не в голове, оно не давило на сердце, как это бывает при сильном волнении. Оно возникло где-то в животе, ближе к солнечному сплетению, и предательской тошнотою ползло все выше и выше.
Страх. Без сомнения — это был он. Блуждание по лабиринту и смерть Номуры не прошли для меня бесследно. И стоило лишь подумать о своем страхе как о неком отдельном, но живущем внутри меня, существе, как страх начал проникать в легкие — стало трудно дышать. Сердце бешено заколотилось. Положив руки на рычаги управления я ощутил, как вспотели ладони. Я вызвал в автопилоте адрес Отдела и стал вспоминать, чему меня учили на курсах аутотренинга.
Шеф встретил меня радушно. Поздравил с возвращением к нормальной жизни, даже пожал руку. Что он там крутил из проволочки, я не видел — загораживал стол.
— Я смотрю, дело Перка само собой уладилось, — спросил я его после ответных приветствий.
— Не само собой, а просто уладилось. Еще лучше сказать — благополучно разрешилось, — поправил он меня.
— А как быть с Номурой?
Вопрос был для Шефа болезненным. Он поморщился:
— С Номурой вышло не очень удачно. Для всех — он погиб при исполнении служебного долга.
Я возразил:
— Номура умер не своею смертью — в него стреляли. Это — раз. Гомоид из пещеры мне тоже не померещился — я его виде и даже записал, но не моя вина, что записи исчезли. Это — два. Кстати, пустой комлог — тоже доказательство, что в пещере был кто-то еще. Плюс, то сообщение, что мы с Номурой получили перед тем, как спуститься в пещеру: «Твое освобождение уже близко». И, наконец, самое главное — Джон Браун. Вы о нем ничего не знаете, но я дам вам почитать материалы его дела.
Я передал Шефу присланные Виттенгером материалы и пересказал свои соображения на сей счет. Содержание и сам факт моей беседы с гомоидом я решил держать про запас — как и знак на груди Номуры. Шеф и так поверил в гномов. Сидевший во мне страх подсказывал, что большего мне пока не нужно. Все, кто общался или мог общаться с гомоидами на этом свете не задерживались. Роль Номуры была самым темным пятном во всем расследовании.
Шеф мельком взглянул на дело Брауна.
— Так ты говоришь, что именно его снимок ты видел в кабинете Франкенберга?
— Да, я в этом абсолютно уверен.
— Ну а тот пещерный гомоид, он тоже был на снимке?
Шеф задал трудный вопрос.
— Видимо, гомоиды сильно меняются с возрастом, — предположил я, — какая-то неизвестная болезнь или вроде того…
— Иначе говоря, ты его не узнал, — Шеф догадался, почему я мямлю.
— Не узнал, — повторил я вслед за ним, — но с нас достаточно и Брауна — его-то я точно узнал! Франкенберг говорил о четырех созданных им существах. И я видел четыре портрета. На одном был Браун. На другом — гомоид из пещеры. Вероятно, он и убил Номуру. Но и ему недолго осталось жить — у него вид был, как у утопленника. Остаются еще два. Где их искать, я пока не знаю.
Шеф упорно стоял на своем:
— Номура мог стрелять в кого угодно, хоть в вапролоков. Выстрелы вызвали обвал. Он погиб, ты — выжил, такое случается на нашей работе.
Я напомнил ему про сообщение, пришедшее на комлог флаера перед тем, как мы вошли в пещеры.
— Удалось вычислить источник?
— Да мы и не вычисляли…
— А зря! — воскликнул я.
— Здесь я решаю, что зря , а что не зря! — взревел Шеф.
Я был готов растерзать его собственными руками — оружие у нас на входе отбирают. В некрологе написали бы: «Погиб при выполнении служебного долга». И это было бы сущей правдой. Если Номура сам вызвал обвал, то Шеф, своим упрямством, сам довел меня до помешательства. Наверное, Шеф понял, что находится на волосок от гибели, поскольку быстро поправился:
— Ладно, мне нужно подумать. У самого-то какие планы? По моему, тебе следует отдохнуть недельку-две, слетай на Землю…
— …на Оркус, — выпалил я.
— На Оркус? Ты же его терпеть не можешь.
Я рассказал ему про письмо Абметова.
— Думаешь, клюнули на твою авантюру с письмом в редакцию? — он удовлетворенно потирал руками. Пришлось его слегка разочаровать — я сказал, что Абметов мог попросту наткнуться на мой запрос по Лефевру.
— Черт, ну и времена настали, ничего нельзя скрыть! Стоит заказать пару носков, как на следующий же день тебе присылают рекламу нового крема для ног! — Шеф внезапно разоткровенничался. Замечу, что фразу произнес начальник Отдела Оперативных Расследований. Что же тогда должны думать простые смертные? Вероятно, они должны думать, что скрыть можно все что угодно.
— Полностью с вами согласен, — поддакнул я и поспешил уточнить: — Ну так как насчет Оркуса?
— Давай работай, — Шеф обошелся без подробных инструкций, — помощники нужны?
Один помощник у меня уже был, но недолго.
— Нет, — ответил я.
— Ну, как знаешь… давай, поосторожней там, — и он постучал пальцем себе по лбу.
Выйдя от Шефа, я зашел на минутку к Ларсону. Будучи нашим штатным экспертом-биологом он, казалось, и ночевал в лаборатории. Стоило мне переступить порог, как Ларсон подскочил ко мне с каким-то инструментом в руке и попытался сунуть его мне в ухо. Я вырвался, но вышло это у меня несколько неосторожно — Ласон чуть не повалился на стойку с препаратами.
— Ты что такой бешенный? От Шефа нагоняй получил, что ли? — он здорово испугался. Ларсон привык, что мы, с некоторых пор, стали довольно спокойно относиться к его эксцентричным выходкам. Да, именно так: сначала мы привыкли к его выходкам, а потом, он привык к нашему спокойствию. Его последней хохмой был аппарат для записи снов. Что такой аппарат вот-вот должны построить, всем известно, благодаря «Сектору Фаониссимо». На самом деле, высокотехнологичная компания «Нейроника Стокса» еще год назад обещала создать видеозаписывающее устройство для снов — сновизор.
И вот, Ларсон во всеуслышание объявляет, что он, дескать, такой аппарат построил вперед всех. В любом другом учреждении его бы подняли на смех. Но не в нашем — у нас все серьезно. В качестве испытуемого Ларсон выбрал Берха. Сказал, что Берх из нас самый впечатлительный, и что однажды Берх хотел рассказать ему свой сон, но так и не смог его толком вспомнить. Берха обвесили с ног до головы проводами, дали снотворного. Первые три часа Берх спал довольно беспокойно — ворочался, кряхтел, даже стонал время от времени. Видно, сны были бурными. Потом внезапно затих и проспал, как убитый, еще два часа. Лишь много позже выяснилось, что Ларсон ввел ему еще одну дозу снотворного — специально, чтобы Берх начисто забыл все свои сновидения. После пробуждения испытуемого Ларсон показал всем нам очень интересную видеозапись. Мужчины пребывали в восторге, дамы — в тихом замешательстве и не все досидели до конца просмотра. Я думаю, не стоит пояснять, что именно показал нам Ларсон. Как только он умудрился все это смонтировать? Берх его чуть не придушил, но потом отошел. Самое смешное, что Берх, поначалу, и сам поверил в то, что изготовленный Ларсоном фильм — его сон. Но репутацию Ларсон испортил себе навсегда. Особенно — среди дам.
— А ты чего? — вскипел я, — это у тебя что, устройство для записи слуховых галлюцинаций?
— Нет, для чтения мыслей через среднее ухо, — ответил Ларсон. Он потирал ушибленный локоть.
— Ладно, извини.
— От лабиринтов все никак не отойдешь? — спросил он.
— Да вроде отошел. Скажи, тебе, конечно же, приходилось обследовать сотрудников на предмет… как бы это сказать… ну, скажем, заболеваний профессионального характера?
— Например?
— Например, связанных с нарушением психики.
— Хм, даже не знаю, как тебе ответить. Врачебная тайна — сам должен понимать.
— Не нужны мне твои тайны! Своих по горло хватает. Я же не по именам спрашиваю… Так «да» или «нет»?
— Ну случалось… Ты говори прямо — не стесняйся. И не бойся — Шефу не скажу.
Этого-то я как раз и не боялся — при всех своих недостатках, Ларсон болтуном не был. В определенном смысле, конечно.
— Скажи, ты можешь мотивированное чувство преследования отличить от немотивированного?
— У себя или у другого?
— У другого.
Ларсон мгновенно посерьезнел, прошелся несколько раз по кабинету. Беременность страхом… — тихо пробормотал он и с опаской посмотрел на меня, раздумывая, услышал ли я диагноз. Затем предложил:
— Можно, конечно, сделать анализы, но ты ведь не о том спрашиваешь. Тебе нужно, чтобы я определил, следит ли за тобой кто-нибудь, или это тебе только кажется.
От Ларсона трудно что-либо скрыть, и я ответил, что он угадал верно.
— А традиционными способами пробовал проверять? Пусть кто-нибудь за тобой походит, посмотрит. Потом проанализируете картинку… — посоветовал он.
— Пробовал, разумеется, но — все чисто, — мне нужен был совет врача, а не следователя. И не Ларсону объяснять мне, что такое двойная слежка.
— Давай попробуем гипноз.
После случая с Берхом, о гипнозе он мог бы и не заикаться. Я отказался.
— Тогда, я вряд ли смогу помочь. Но анализы все же стоит сделать. Камеру слежения носишь?
— Нет, а что?
— Поноси — спокойней будет.
— Пожалуй, так и поступим… — со вздохом согласился я.
Я сходил к себе в кабинет, забрал камеру и вернулся к Ларсону. Он помог мне установить камеру так, чтобы она брала панораму градусов в сто позади меня. Раз Ларсон сказал, что так будет спокойнее, то почему бы не попробовать.
— Так что насчет гипноза? — спросил Ларсон после того, как мы закончили с камерой.
— Спасибо, но — в другой раз.
— Ладно, не за что, — пожал плечами Ларсон.
— Вот именно, — ляпнул я не задумываясь.
— Тебе нужно сменить обстановку, — посоветовал он на прощание.
У меня не было возможности пустить кого-либо по собственному следу. Доверить такое я бы смог только Берху… Ноги сами несли меня домой, но я понимал, что сейчас они слушают не меня. Назло себе я решил немного погулять по лесу. Сотня гектар, засаженная скромными деревцами разных пород — местными и адаптированными — вот и весь наш лес. Плодородный слой почвы на Фаоне чрезвычайно тонок, а зимой, вдобавок, еще и промерзает, поэтому деревья тут растут только самые неприхотливые. Высокая трава, кустарник, карликовые, в полтора метра ростом, деревья — таков обычный фаонский пейзаж. Почву для искусственного леса завозили специально, зато и деревья выросли, по Фаонским меркам, просто гигантские — метра на три с половиной, а то, и на все четыре. Но до парка возле Института Антропоморфологии нашему лесу еще расти и расти.
Принято говорить, что времен года на Фаоне всего два: одно — сухое, другое — холодное. Названия даны от противного — сухое, потому что не влажное, а холодное… хотел бы я посмотреть на того, кто назовет его теплым. При этом, в холодный период влаги не больше, чем в сухой, а последний лишь немногим теплее первого. Но никто не запрещает пользоваться и обычными, земными названиями: зима, лето, весна, осень… И теперь, в начале сентября по синхронизированному времени, так уж совпало, что зима втихомолку вытесняла осень, и даже днем стали случаться заморозки.
Натянув капюшон, как пещерный гомоид, то бишь гном, я пересек стоянку флаеров, прошел вдоль опушки до прямой, как стрела, главной аллеи. По ней можно дойти до самого озера, что я и сделал. Главная аллея, в отличие от остальных дорожек, присыпана мелким оранжевым гравием. Другие дорожки попросту протоптали любители утреннего и вечернего бега. Шел пятый час вечера и вечерние бегуны еще не появились. Гравий кое-где поистерся и выступила земля — утрамбованная, жесткая, она приобрела бледно оранжевый оттенок. С наступлением холодов в трещинках на земле появился лед. Интересно, откуда берется лед, если воды там никогда не было? А воды в трещинах я отродясь не видел.
Свернув с аллеи, я принялся бродить не разбирая дороги. Я то шел, нарочно громко хрустя сухими ветками, то резко останавливался и прислушивался — не хрустит ли кто вслед за мной. Но осторожный преследователь (если он был) внимательно следил куда ступить и ничем себя не выдал. Я вернулся на главную аллею и пошел по направлению к зданию Редакции. Осенью и весной, незадолго перед закатом, есть такой момент, когда солнце, уже совсем было скрывшееся за верхушками деревьев, внезапно появляется в западном конце аллеи, чтобы ненадолго осветить целиком всю аллею (ее оранжевый цвет тут как нельзя кстати) и увидеть свое отражение в зеркальных стеклах. Я все еще шел в сторону здания, как вдруг увидел перед собою свою собственную тень — и без того длинная, она была бы еще длинней, если бы не серый портал Редакции. Я обернулся, чтобы проводить глазами заходящее солнце, постоял так несколько минут и, когда солнце окончательно спряталось за деревьями, я почувствовал, как неожиданно хмуро и неуютно стало вокруг. Вдалеке от меня, ближе к противоположному концу аллеи я заметил несколько фигур — появились первые вечерние бегуны. Но одна фигура стояла неподвижно. Разглядеть мне удалось немногое: стоявший был скорее мужчиной (или, в крайнем случае, гомоидом), но не женщиной; он стоял лицом ко мне. Трудно сказать, был ли он там все то время, что я наблюдал за солнцем или появился из леса, лишь когда исчезли длинные тени, способные, как круги на воде, выдать мне его местонахождение. Мы стояли и смотрели друг на друга, а моя камера смотрела в прямо противоположном направлении. Я развернулся и неторопливым шагом направился к восточной опушке леса. Чтобы было легче вертеть головой, я снял капюшон. Бегуны меня догоняли; мне стоило больших усилий не оборачиваться, через минуту они меня обогнали — мужчина и женщина в спортивных костюмах — по-моему, наши сотрудники, но из другого отдела. В конце аллеи я обернулся — все чисто, никого нет. Дошел до стоянки флаеров, отыскал свой, забрался в него и велел везти меня домой.
Лишь когда входная дверь захлопнулась у меня за спиной, я перевел дух.
— Ужинать будешь? — спросила Татьяна.
Есть мне хотелось меньше всего. Я ответил, что поем попозже.
— Как знаешь, — ответила Татьяна. — Смотри, а то остынет, — добавила она, потом спросила: — Что, с Шефом поругался?
Наверное, до сего дня я отказывался от ужина только после перепалок с Шефом.
— Нет, не поругался, все нормально. Ты извини, мне нужно немного поработать… — сказал я. Татьяна, ничего не ответив, ушла в другую комнату.
Запись визора пришлось просматривать в замедленном режиме — картинка так тряслась, что при обычной скорости ничего кроме мешанины из деревьев, дорожек, окон Редакции и облаков, рассмотреть было невозможно. Никто меня не преследовал. Наконец, я добрался и до захода солнца. Когда оно только появилось в главное аллее, сама аллея была пуста. Затем, я разворачиваюсь, чтобы полюбоваться закатом, и камера, скользнув по деревьям, упирается в здание. Опять ничего интересного. Я снова разворачиваюсь. Появляются бегуны. Точно, так и есть: мужчина и девушка работают в Отделе Стратегического Планирования — предсказаниями занимаются, в общем. Их имен я либо не знаю, либо не помню. Неподвижного незнакомца из-за них не видно. Вот коллеги меня обгоняют, и стала видна маленькая фигурка в противоположном конце аллеи. Фигурка двигалась к озеру и поэтому видна была со спины. Я остановил кадр и начал увеличивать изображение. Оно вышло довольно смазанным. Несомненно, это мужчина — средний рост, темно-русые волосы, черная куртка с откинутым капюшоном, похожая на мою, — это все, что я разглядел.
Позвонил Яне.
— Все работаешь? — удивился я.
— Угу, а ты, все болеешь? — точно также спросила она меня.
— Нет — уже нет, сегодня вот с Шефом довелось пообщаться…
— А почему ко мне не заглянул? — обиженно поинтересовалась Яна.
Она была права — надо было заглянуть к ней в «шкаф» — так мы прозвали Янин кабинет. Мало того, что размером он — с душевую кабину, так туда еще и аппаратуры всякой битком набили. Поэтому работать экспертом по информационным системам у нас в Отделе могла бы только миниатюрная женщина — такая, как Яна. Мы подозревали, что Шеф взял ее на работу исключительно исходя из ее габаритов — все остальные претенденты и претендентки были покрупнее.
— Виноват — исправлюсь, — ответил я и попросил: — Яна, взгляни пожалуйста на ту запись, что я сейчас тебе перешлю. На ней есть один тип — он появляется сразу после тех двоих из Стратегического Планирования, про которых ты говорила, что они не только вместе бегают по вечерам, но и…
— Поняла, поняла… — Яна догадалась, о ком я говорю, — хорошо, присылай скорее, а то я уже домой собралась.
— Кто тебя там ждет? — полез я не в свое дело, о чем мне тут же напомнили:
— Не твое дело!
— Согласен, все, высылаю… — ответил я и отправил ей видеозапись.
Не прошло и десяти минут, как Яна снова появилась на моем экране.
— Что, уже? — не поверил я.
— Фед, ты давно у врача был? — настороженно спросила Яна, в голосе — ни тени иронии.
— Ты о чем? — я мысленно готовил себя к худшему, но Янин ответ стал для меня полнейшей неожиданностью:
— О чем я?! Ну ты даешь… дожился — себя уже не узнаешь!
— Бред! Не может быть! — воскликнул я. Татьяна выглянула из соседней комнаты: — Где бред?.
— Нигде! — прорычал я, — это я не тебе, — сказал я изумленной Яне, — не может такого быть!
— Почему? Тебя кто-то снял… — Яна быстро нашла наиболее очевидное объяснение.
— Так это же я сам снимал!
— Как это? — не поверила Яна.
— Как — как, визор на затылке у меня был — вот как! — психанул я.
— Погоди, успокойся. Всему этому должно быть какое-то разумное объяснение, — судя по ее голосу, как раз разумного-то объяснения у нее и не было.
— Может отражение? — предположил я. Яна взглянула мимо меня — на другой экран.
— Нет, не отражение. Ты извини, конечно, я давно хотела тебе сказать, но как-то не решалась… У тебя на куртке сзади, с правой стороны, небольшое пятно — как и на изображении.
— Голограмма? — выдвинул я чуть более фантастичную версию. Следующей своей версии я испугался — гномы умеют превращаться в кого угодно — в Номуру, Джонса, меня и, не дай бог, в Шефа!
— Голограммы следов на гравии не оставляют, — возразила Яна, внимательно взглянув на запись.
— Ладно, — сказал я, после минуты напряженных размышлений, — кажется, я понял в чем дело.
— И в чем же?
— Как нибудь потом… Спасибо, увидимся, — я быстро распрощался с заинтригованной до крайности Яной.
За ужином я рассказал Татьяне о намечающейся поездке на Оркус.
— Я поеду с тобой, — заявила мне она, еще, как следует, не дослушав, — давно пора взять отпуск. Мне, в отличие от тебя, Оркус нравится — и по работе и вообще…
— Ты не понимаешь, я же не просто так туда еду, а по делу.
— Да ты все время — по делу, можем мы хоть раз в жизни куда-нибудь вместе съездить. И потом, какие там у тебя дела? Этого Абметова повидать? Ну повидаешь — я ж мешать не буду. И не волнуйся, мне тоже будет о чем с ним поговорить.
— Это о чем же?
— А ты о чем?
— Тебе это еще рано знать.
— Ах так! Ладненько — будь по-твоему. Кстати, Йохан меня звал на симпозиум по планетарной археологии, и не на какой-нибудь дурацкий Оркус, а на Землю. Еще не поздно согласиться. Я-то думала, ты после болезни возьмешь отпуск, слетаем куда-нибудь вместе…
Мне стало совестно и я решил взять тайм-аут.
— Ну хорошо, я подумаю. А что, Йохан без тебя никак не может?
— Может — он сегодня днем улетел. И сказал, чтобы я его догоняла.
— А когда симпозиум?
— Через две недели.
— Чего же он тогда тебя не дождался?
— Он и не должен был дожидаться. Йохан — в оргкомитете, и ему положено там быть раньше остальных. Знаешь, ты как хочешь, но я начинаю собирать вещи! — заявила она.
Татьяна не на шутку обиделась. Она наморщила нос и приготовилась хныкать. Когда она хнычет, то становится похожей на маленького грустного ежика — и ей об этом хорошо известно.
— Ладно, ежик, не плач, — я погладил ее по голове и поцеловал в покрасневший носик, — придумаем что-нибудь, я обещаю.
Нужно было ее как-то отвлечь.
— Ты вчера мне про японских бабочек начала рассказывать, да уснула. Расскажи мне о них, ну пожалуйста, — попросил я ее.
— Что-то я не помню такого… ты меня ни с кем не путаешь? Когда это я тебе про бабочек рассказывала?
— Ты уже засыпала; и когда я спросил, у кого бывают бабочки, ты пробормотала что-то там про японцев.
— А, ну да… На самом деле, бабочки у кого угодно бывают.
— Давай, для начала, остановимся на японцах.
— Ну хорошо, японцы так японцы. Ничего особенного я тебе рассказать не могу, помню только, что бабочка у них — это символ легкомыслия, брака и семейного счастья…
— Отличный набор, — восхитился я, — и главное — очень последовательный.
— Нет, стоп, я кажется перепутала — это у китайцев — легкомыслие, а у японцев — любовь и брак. Или нет…, — она задумалась, — наверное так: одна бабочка — это ветреность и легкомыслие, а пара — это брак, семья и все такое. Давай сейчас глянем…
И она полезла в библиотеку.
— Ты что ищешь? — спросил я.
— Японские трехстишия, хокку, там про бабочек непременно должно быть… Во смотри, Кобаяси Исса написал…
Я посмотрел:
Порхают бабочки. Я же по миру влачусь, Словно пыль по дороге.— Ясно? — спросила Татьяна.
— А что тут непонятного? Стой, вот на этот дай взглянуть, — я не дал ей закрыть страницу.
Потеряв крыло, Бабочка бьется в пыли, а у кошки — трофей.Подписано: Тамака Таники.
— Хм, любопытная идея, — похвалил я, имея в виду связь со злополучным трехкрылым треугольником. Бескрылое легкомыслие — звучит не слишком осмысленно и непохоже, чтобы знак на груди у Номуры означал именно это.
— Бабочки и пыль — возрождение и смерть, вечные темы, — последовало объяснение для тупых. Я продолжал рассматривать текст, как вдруг вместо него появилась довольная Марго — компьютер решил, что Марго для нас важнее.
— Вы чего так уставились? — удивилась она.
— На твоем месте только что были стихи, — с укоризной в голосе объяснила Татьяна.
— На каком таком, моем месте? Ааа, на экране что ли? Ну извините… Не поздновато ли для стихов? — и она хихикнула.
— Для стихов никогда не поздно, — отрезал я.
— Про что хоть стихи?
— Про бабочек, — ответили мы хором.
— Ну вы даете… почитайте и мне, что ли, — попросила она.
Татьяна уполовинила Марго — так, чтобы стал виден текст.
— Марго, ты не возражаешь, если мы тебе правое ухо подрежем? — прокомментировал я Татьянины действия.
— Режьте, оно все равно великовато — не то что левое, — разрешила она. Татьяна зачитала ей про бескрылую бабочку.
— Тоскливые стихи вы читаете… — пошмыгав носом отозвалась Марго, — и зачем кошке такой трофей.
Никакой тайны из бабочек у меня не получилось, и я спросил ее напрямик:
— Марго, расскажи нам какую-нибудь историю про трехкрылую бабочку. Только не спрашивай, зачем.
Марго задумалась минуты на две, а потом выдала:
— Я где-то читала, но уже не помню где… Была такая история, произошла она давным-давно и, к тому же, на Земле. Одна путешественница гуляла где-то в тропиках — на Амазонке, по-моему. Сорвала она как-то раз цветок орхидеи и стала обрывать с него лепестки…
— А это еще зачем? — удивился я.
— Тогда так гадали, чет-нечет, понимаешь? У них цветы были вместо генератора случайных чисел. Ей нужно было выбрать, куда идти дальше, заблудилась она, одним словом. Так вот, на цветке сидела золотая бабочка и лепестки были тоже, золотые. Путешественница оборвала бабочке крыло — перепутала с лепестком. Бабочка оказалась очень мстительной. Когда путешественница, измученная долгой дорогой, уснула, бабочка подлетела к ней и убила… Вот такая трагическая история, — подвела итог Марго.
— Ты все напутала, — возразила Татьяна, — у Эверса немного иначе… Та путешественница коллекционировала бабочек и, найдя золотую бабочку, проткнула ее иглой. А дальше было примерно так, как ты сказала.
— Ну не знаю, — странно, но Марго не хотелось спорить, — вы просили, я рассказала… Я, собственно, по другому поводу звоню. Ты на симпозиум едешь?
— А тебя почему это волнует? — поинтересовался я у Марго. Она призналась:
— Так я тоже хочу, а туда только одно свободное приглашение осталось. Ну так ты едешь? — снова спросила она.
Татьяна вопросительно посмотрела на меня. Делать было нечего, и я согласился взять Татьяну на Оркус.
— Никуда она не едет, — ответил я за Татьяну.
— Ну и чудненько! — обрадовалась корыстная Марго, — тогда — пока!
Марго пропала. Татьяна поспешила чмокнуть меня в щеку. После столь трогательной благодарности, я уже не имел права передумать.
5
Всю ночь я проворочался, изобретая для Ларсона самую страшную месть на свете. Впечатление от вчерашнего розыгрыша не рассеялось и к утру. Но как отомстить Ларсону, я так и не придумал.
В этот день мне почти удалось добраться до Отдела. У самых дверей Отдела я притормозил и подумал, а за каким чертом я сюда приехал — Шефа на рабочем месте не было, от шутника Ларсона меня тошнило, Яна наверняка начнет приставать по поводу галлюцинирующего визора. Я вышел на улицу. За ночь и земля и деревья покрылись тонким слоем инея. Тень от здания мешала фаонскому солнцу растопить иней прямо с утра. И пока земля и деревья из седых не превратились в мокрых, я решил повторить свой вчерашний маршрут, а заодно, еще раз продумать, что сказать Ларсону. Или сделать.
Рабочий день начался полчаса назад и те сотрудники, что предпочитали утреннюю пробежку вечерней, уже покинули лес. Я снова был один, но вот что странно: ларсоновский розыгрыш так меня встряхнул, что за все время прогулки я ни разу не вспомнил о своих вчерашних страхах. Или, лучше сказать, страх ни разу не вспомнил обо мне, хотя я о нем как раз вспомнил, но только под конец прогулки — когда шел к стоянке; и я удивился, почему это он не появляется. На Ларсона я больше не обижался, но в Отдел так и не пошел. Вместо этого я с полчаса покружил над городом, затем полетел к Институту Антропоморфологии.
Я поджидал Типса у заднего выхода корпуса "D". Флаер припарковать здесь было негде, пришлось коротать время сидя на бетонной скамье напротив выхода. Через десять минут я пожалел, что с утра не надел куртку с обогревом. Техники из службы энергоснабжения и регенерации дежурили посменно. Их утренняя смена заканчивалась, когда у всех остальных сотрудников Института наступало время обеденного перерыва. Долговязый, угрюмый Типс появился в компании сослуживцев. Я окликнул его:
— Типс, можно вас на пару слов.
Он покосился на коллег.
— Мы тебя подождем, — сказал один из них.
— Лучше не стоит, — каменным голосом посоветовал я.
— Я тебя предупреждал, что они от тебя не отстанут, — напомнил Типсу его коллега. Остальные техники, включая Типса, посмотрели на него с какой-то странной укоризной. Наверное, он них был признанным занудой. — Ладно, держись, — ободрил зануда.
Поочередно оглядываясь, они пошли вдоль корпуса Института по направлению к стоянке.
— Ну что вам еще?! — спросил Типс недовольно, — меня уже три раза вызывали. Не знаю я ничего про этого Брауна.
— Два, — поправил я его, — два раза вызывали.
В «Деле Брауна» я нашел только две записи беседы с Типсом. Он вскинул подбородок и пропыхтел:
— Ну два, и что с того?
— Вы куда шли? К стоянке флаеров? — спросил я, с трудом вынося его грубоватый тон.
— Вообще-то мне к «трубе», — ответил он уже мягче.
— В таком случае, я вас довезу, куда скажете, — пообещал я ему, — но прежде мы немного побеседуем. Когда вы познакомились с Брауном?
— Полтора года назад — может, чуть больше. Об этом у вас все записано. Со мной беседовал этот, как его… майор, по-моему…
— Виттенгер, — подсказал я.
— Да, он самый, — подтвердил Типс, — он уже не ведет это дело?
— Виттенгер занимается убийствами. Браун не его клиент. Итак, вы познакомились полтора года назад. И с тех пор вы работали в одно смене?
— По-разному — то в одной, то попеременно…
Он, по-видимому, хотел напомнить, что об этом он тоже уже говорил Виттенгеру, но промолчал. Я снова спросил:
— Почему вы назвали Брауна недоумком?
— Так вот вы про что… Что, я прямо так и сказал?
— Все записано, — подтвердил я. Если до этого он только пыхтел, то теперь, точно, вскипел:
— Да пусть хоть трижды записано — я же вам не врач! Я говорю, что думаю. Будь я психиатром, может и обязан был бы объяснять почему да зачем. Но котелок у Брауна плохо варил, это факт!
— Вот о фактах мне и расскажите.
Типс нахмурился.
— Забывал он все. Витал где-то в облаках. Случалось, десять раз ему повторишь, что мол, к примеру, завтра септофлотатор надо поставить на профилактику, а придешь утром — опять все забито. А он глядит тебе в глаза, радостный такой, будто так и надо! Или возьмите хоть барионную центрифугу…
— Не надо брать центрифугу, — предостерег его я, — итак, Браун страдал забывчивостью, вы это хотели сказать?
Типс расстроился, что я не дал ему дорассказать про центрифугу.
— Не забывчивость это была. Я сам иной раз забуду у протомайзера турбулятор отключить. А Браун… Как будто не ему объясняешь, понимаете? То человек, как человек, то словно в упор тебя не видит, как автомат какой-то или как во сне. И взгляд другой. Я все твержу ему: ты подумай сперва, прежде чем что-то сделать, а он кивает — да, мол, понял, подумаю, а барионную центрифугу заклинило, как в прошлый раз…
Они что, все здесь такие, размышлял я.
— Вам куда? — спросил я его. За милой болтовней, мы дошли до стоянки Флаеров.
— Как куда? — переспросил он, — а, домой, в смысле… в Восточный Пригород.
Я отвез его, потом направился к своему термитнику. Дома меня ждала записка от Татьяны: ей нечего надеть, и перед поездкой она непременно должна обновить свой гардероб, поэтому жди ее только к вечеру.
Глава четвертая: Оркус.
1
На рейсовых пассажирских кораблях экскурсоводы не предусмотрены. Зато среди пассажиров всегда найдется экскурсовод-любитель. Сидевший впереди нас господин провозгласил во всеуслышание:
— Оркус — это пародия на нормальную планету. Вы спрoсите почему, — обратился он к пожилой соседке справа. Та ничего не ответила — общительный попутчик донимал ее всю дорогу. — Ну вот, например, как мы представляем себе поверхность Фаона или пусть даже Земли? Если забыть про то, что, в целом, форма любой планеты близка к шарообразной — тут, надо признать, Оркус вполне традиционен, мы мыслим поверхность планеты как нечто плоское, и лишь местами выпуклое, то есть гористое. Можно сказать, что в этом виноваты океаны — они, по определению, плоские и занимают большую часть поверхности как на Земле, так и на Фаоне. Но даже на тех планетах, где океанов нет, например, на Марсе или на Хармасе, зрительно, картина та же самая: сначала равнина или плоскогорье, а уж затем горы, горные массивы, хребты и тому подобное, — после слов «и тому подобно» пожилой пассажирке пришлось пригнуть голову, чтобы дать ему изобразить руками то, на что слов у него не хватило. — Также можно сказать, что виновато наше мировосприятие: воображая себе какой-нибудь пейзаж, мы скорее представим себе равнину с возвышенностями, чем равнину с ямами и канавами. Так вот, в двух словах, поверхность Оркуса — это именно равнина с ямами и канавами, а, так же с каньонами, провалами, расщелинами, но не с горами. Причудливая игра света и тени заставляет нас думать, что провалы совсем не глубоки, или, что они — всего лишь заболоченные впадины или озера. Но на самом деле, глубина многих впадин превышает десяток километров. Самое загадочное явление на Оркусе — это «воронки» — впадины, края которых образуют правильную окружность диаметром до десяти километров. Воронки, постепенно сужаясь, уходят вглубь планеты на пятнадцать — двадцать километров. Чем уже горловина, тем глубже воронка. Один исследователь как-то раз заметил, что если бы на Оркусе жили человекоподобные племена, то они бы покланялись не солнцу и звездам, а воронкам. И весь технический прогресс у оркусовских племен был бы направлен на освоение движения вниз, а не в даль или вверх. Сканирование показывает, что многие воронки между собою соединены, но убедиться в этом воочию пока никто не решился.
К радости всех пассажиров словоохотливый господин замолчал.
— Вы забыли про поле Оркуса, — ни с того ни сего, напомнила ему Татьяна. Пожилая пассажирка злобно посмотрела на нее и что-то пробурчала. Экскурсовод-любитель деловито сообщил:
— Ну про то, как странно действует на наш разум поле Оркуса, всем уже давно известно. И все слышали, будто бы ложные воспоминания побеждены с помощью пилюль. Однако жители, по-прежнему, покидают планету. В тех местах, где плотность населения достаточно высока, многие научились обходиться без пилюль — и впрямь, какая разница, помнишь ли ты соседа которого вообще никогда не было или, наоборот, забыл того, кто только что жил с тобою рядом. Когда людей вокруг много, за всеми все равно не уследишь. Главное, чтобы вещи не пропадали, не правда ли?
Чрезвычайно довольный своей шуткой, он расхохотался. Татьяна улыбнулась. Корабль несся по низкой околооркусовской орбите, ожидая разрешения на посадку. Моя спутница прильнула к иллюминатору.
— Смотри, — сказала Татьяна показывая вниз, — видишь, те четыре воронки — они друг рядом с другом, а там, дальше — еще четыре. Знаешь… они похожи на следы когтей огромного космического дракона, который хотел стащить планету с ее орбиты.
— Я думаю, у него ничего не вышло, — авторитетно заявил я.
— С чего ты взял, что не вышло?
— Обрати внимание на вон то море — прямо между двумя четверками воронок. Как ты полагаешь, откуда оно взялось?
— Вечно ты все опошлишь! — возмутилась Татьяна.
По кораблю объявили, что разрешение на посадку получено.
Пока я узнавал, где можно арендовать флаер, Татьяна ходила выяснять отношения с транспортной компанией — при выдаче багажа ей подсунули чужой рюкзак. Я предлагал сначала проверить, что в нем лежит, а то, может, стоит оставить его себе. По крайней мере внешний вид у чужого рюкзака был подороже, чем у Татьяниного. Подруга велела перестать молоть чепуху и заняться делом. Я узнал про аренду и возвращался к багажному блоку (там меня должна была ждать Татьяна со своим рюкзаком), когда выросший словно из-под земли мужчина вежливо поинтересовался:
— Господин Ильинский, если не ошибаюсь?
— Да, а в чем дело?
— Замечательно, я так вас себе и представлял! — обрадовался незнакомец ни чуть не смущаясь такой явной непоследовательности. Я высказался вполне в духе Берха:
— Если вы меня себе только ПРЕДСТАВЛЯЛИ, то как, таком случае, вы меня узнали?
— Исключительно исходя из того, что мое ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о чем или о ком либо всегда оказывается верным, — вывернулся незнакомец.
Его ответ меня позабавил и я уточнил:
— Прямо так и всегда?
— Сдаюсь-сдаюсь, — замахал он руками и, наконец, назвал себя:
— Доктор Абметов, Симеон Абметов, если угодно…
Из дверей грузового терминала вышла недовольная Татьяна. Рюкзак, на этот раз, свой собственный, она волочила за собой по полу. Не думаю, что он был слишком тяжелым, но нужно же ей как-то меня устыдить! Я извинился перед Абметовым и поспешил ей навстречу. Стоило мне к ней подойти, как она буквально одним пальцем подхватила рюкзак и водрузила мне плечо. Я шлепнул ее легонечко по заду, но так чтобы никто не заметил.
Подошел Абметов.
— Вы нас не представите? — попросил он меня. Что за манеры, подумал я, однако выполнил его просьбу незамедлительно:
— Татьяна, это доктор Абметов, доктор, это — Татьяна.
Кажется, я все правильно сделал — сначала представляют мужчину даме, потом, даму — мужчине. Не помню, как правильно. Татьяна изобразила книксен и сказала, что ей очень приятно.
— Можно просто Семен, — фамильярно предложил Абметов и поцеловал Татьяне руку.
— Хорошо, только не называйте меня Таней или Танюсей, — Татьяну веселили его старомодные манеры. Но, надо признать, в его исполнении они выглядели очень натурально. И наряд его был вполне подобающим — из-за полурасстегнутого ворота куртки выбивался белый воротничок рубашки и черный галстук-бабочка. Вообще-то, Татьяна всегда питала слабость к элегантным ученым мужам возрастом за сорок. А Абметов был, без сомнения, лучшим образцом этой породы мужчин — сухой, подтянутый, ростом слегка выше меня. Подозрительно черные волосы он, вероятно, подкрашивал под цвет глаз; небольшая бородка сошла бы и за профессорскую и за мефистофелевскую — это кому как нравится. Что и говорить — Йохан ему и в подметки не годился.
— Где вы планируете остановиться? — важно осведомился он.
— Где мы планируем остановиться? — тем же тоном спросил я Татьяну.
— А где остановились вы? — в свою очередь, спросила Татьяна у Абметова. Я подумал, чтo он, интересно, теперь спросит у меня. Но он ответил предельно просто:
— В Оркус-Отеле. Я только что проводил своих коллег и тут встретил вас.
Врет, подумал я.
— Ежели там приличное обслуживание, то мы, пожалуй, последуем вашему примеру, правда, дорогой? — продолжала придуриваться Татьяна.
— Вне всяких сомнений, дорогая, — серьезно произнес я.
Татьяна едва не прыснула со смеху. Абметов принял все за чистую монету.
— Обслуживание там превосходное, даже по Земным меркам, — заверил он нас и предложил подвезти. Я отказался, сославшись на то, что арендовать флаер мне нужно в любом случае, а в космопорте это обойдется дешевле. Абметов настаивать не стал, пообещал найти нас в отеле и, на всякий случай, назвал номер своих апартаментов. Засим, раскланялся. Мы с Татьяной отправились в «Бюро по найму средств передвижения» — именно так оно себя рекомендовало.
— Нет, ну какой мужчина! — воскликнула Татьяна, развалившись в кресле легкого трехместного флаера. И пихнула меня локтем в бок. Флаер мотнуло в сторону.
— Ты поосторожней, я же еще не включил автопилот, — огрызнулся я. Татьяна насупилась и до самого отеля не проронила ни слова.
Когда я последний раз был на Оркусе, Оркус-Отель находился еще только в проекте. Уже начинало темнеть и, подлетая, мы увидели разлапистую, слепящую мешанину из желтых окон, изумрудных пальм и бассейнов с неестественно синей водой. Отель поднимался террасами, и в сгустившихся сумерках, даже обилие огней не позволяло угадать — корпуса выросли среди джунглей или джунгли проросли сквозь гостиничные корпуса. Что же касается пальм и бассейнов, то их было, буквально, выше крыши. Перед тем как сесть на посадочную площадку (она походила на огромную протянутую ладонь), флаер завис над одним из бассейнов. Татьяна посмотрела вниз, убедилась, что под нами никого нет, затем молча потянулась к рычагу амплефаера и толкнула его от себя. Флаеру было решительно все равно, а мне — тем более. «Никто тебя не слушается», — прокомментировал я. Флаер благополучно приземлился в центре посадочной ладони. По эскалатору мы спустились в вестибюль.
— Какой номер у Абметова? — спросила у меня Татьяна, когда мы стали регистрироваться у портье.
— Четыреста двенадцатый, сектор "Б", а зачем тебе? — удивился я.
Ее мгновенный ответ вызвал у меня еще большее недоумение:
— Тогда возьми двести пятьдесят четвертый в том же секторе.
— Почему именно двести пятьдесят четвертый?
— Чтобы сумма номеров была ровно шестьсот шестьдесят шесть.
Даже я не смог бы так быстро вычесть из одного трехзначного числа другое.
— А тебе зачем? — спросил я.
— Будет о чем с ним поговорить, неужели непонятно? Отличная тема для светской беседы — у Абметова вид змея-искусителя.
— Угу, на пенсии…
— Посмотрим, что из тебя выйдет, когда окажешься на пенсии.
— При моей работе до пенсии не доживают, — мрачно парировал я.
Нас зарегистрировали, и мы поднялись на второй этаж. Из-за Татьяниной нумерологии, я теперь не смогу любоваться видом из окна. Впрочем, я не за этим сюда приехал.
Татьяна прошла в номер первой, я же немного задержался в дверях — проверял, во-первых, можно ли открыть дверь не имея ключа, а во-вторых, можно ли ее закрыть так, чтобы нельзя было открыть даже ключом. Похоже, и то и другое было вполне реально.
Дама в изысканном вечернем туалете вышла из лифтового холла; быстро взглянув на меня, прошла мимо и стала отпирать дверь соседнего, двести пятьдесят третьего номера. На голове у дамы красовалась белая шелковая панама с тонкой полупрозрачной вуалью того же цвета и материала. Такие вуали, вернее, вуалетки, вошли на Оркусе в моду, когда отпала необходимость носить на голове москитные сетки. Это мне потом Татьяна объяснила, но я ей не слишком поверил — зачем вообще нужно было таскать москитные сетки, когда есть масса других способов отпугнуть назойливых насекомых.
Я насколько мог вежливо улыбнулся и собрался пройти в свой номер, но у дамы что-то там никак получалось с замком — она несколько раз вставляла ключ, дергала что есть силы за ручку, но дверь не поддавалась.
— Помочь? — спросил я.
Дама испуганно посмотрела на меня, решая, стоит ли принять помощь от незнакомого человека. Решила, что стоит:
— Если вас не затруднит… Что-то с дверью случилось.
Мне почему-то пришло в голову, что про замок и про дверь она нарочно выдумала. Просто ей было одиноко — если это так называется. Я взял у нее ключ, попробовал отпереть дверь, но ничего не вышло. Из дверей двести пятьдесят четвертого показалась Татьянина голова:
— Федр, ну где ты? …И дверь нараспашку оставил…, здрассте, — это она увидела соседку, — Федр, можешь не проверять — наш ключ к соседнему номеру не подойдет…, — Татьяна хмыкнула и вернулась в номер.
— Да она у вас с характером, — сказала дама насмешливо и кивнула в ту сторону, где только что была Татьянина голова, — стойте, вы не той стороной вставляете, надо вот так, — она отобрала ключ и сунула мне в руки дорогую женскую сумочку, — подержите.
Это был хороший ход — с ее сумочкой я уже не мог никуда уйти.
С виду соседке было примерно столько же сколько и Абметову, довольно высокого роста; то, что просвечивало сквозь вуаль не было ни приятным, ни неприятным. Иными словами, это был не тот случай, когда принято говорить о «следах былой красоты». Для доктора Абметова она бы была прекрасной парой, а то, не нравится мне, как он зыркает на Татьяну своими черными-пречерными глазами.
Замок по-прежнему не поддавался.
— Надо вызвать портье, — предложил я.
— Знаете, после этого коктейля, у меня что-то не то с координацией… вы пробовали коктейль «ОНО» — «Отпуск На Оркусе»? — пропустив мое предложение мимо ушей, спросила она с игривой улыбкой. — Здесь нужна твердая мужская рука, попробуйте-ка еще раз, — и вернула ключ мне.
— Я, признаться, всегда считал, что «ОНО» — это именно оно — чудовище-гоморкус. В честь него и назвали коктейль.
Странно, но теперь замок открылся легко.
— Вот что значит твердая мужская рука! — восхитилась она, — а то в этом отеле одно старичье.
— Да что вы, тут сущий пустяк…— пробормотал я.
— Вы в отпуске или по делам?
— Мы путешествуем.
От дальнейших расспросов меня спасла Татьяна.
— Федр, ты скоро? — послышалось из моего номера. Нужно было возвращаться.
Не скрывая разочарования, соседка благосклонно позволила мне уйти:
— Ну что ж, раз вас ждут, то… — и она со вздохом забрала у меня сумочку.
— Да, пожалуй, я пойду, — согласился я и тоже вздохнул (мол, сами видите, — я себе не принадлежу).
2
Позавтракать мы с Татьяной решили в ресторане. Абметов был вездесущ. Не думаю, чтоб он специально караулил нас в лифте, но оказался он именно там.
— Доброе утро! Вы тоже завтракать? Если позволите, то я вас приглашаю, — любезно предложил Абметов.
Мы, разумеется, позволили.
Лифт набился битком — не мы одни решили в этот день позавтракать. На всякий случай я втиснулся между Татьяной и Абметовым. На первом (точнее, нулевом) этаже толпа вынесла нас в вестибюль, и на какое-то время я упустил их из виду. Между тем, я едва не сшиб нашу вчерашнюю соседку — она собиралась ехать наверх. Стоявший позади нее худощавый смазливый блондин приготовился подхватить ее под руку. К счастью, соседка устояла. Лицо ее, как и вчера, прикрывала короткая вуалетка, но, завидев меня, она вежливо приподняла ее край:
— Доброе утро, — сказала она и сразу же опустила вуалетку.
— Доброе… надеюсь, проблем с ключом у вас больше не будет — в противном случае, я готов вам помочь, — галантно предложил я ей свои услуги.
— Думаю, на этот раз все обойдется, — скромно ответила соседка и, одарив меня томным, фиалковым взором, направилась к освободившемуся лифту. Я высмотрел в толпе Татьяну и Абметова. Та излагала ему свою инфернальную новость:
— Нами управляет какой-то злой рок: во-первых, мы вас повсюду встречаем, но это еще куда ни шло. Гораздо подозрительней, что сумма номеров наших с вами апартаментов сколько, вы думаете? Шестьсот шестьдесят шесть!
Абметов расхохотался:
— У нас на Земле это сочли бы добрым предзнаменованием!
— Кто ж у вас там теперь у власти в таком случае? — Татьяна сделала страшные глаза.
— Ах, не спрашивайте — скука царствует над нами… — отмахнулся он. Фраза звучала немного пафосно, если это только не цитата. — Пусть хоть тринадцать раз по шестьсот шестьдесят шесть, лишь бы что-нибудь произошло!
— Неужели все так плохо? — удивился я.
— Уж поверьте мне — все именно так и обстоит. Taedium vitae, скука жизни, как говорили древние. Кто потемпераментней — улетают на поиски загадок и разгадок. А домоседы придумывают загадки, не сходя с места, — сказав это, он внимательно посмотрел на меня. «Как ты думаешь, я на что нибудь намекаю или нет?» — спрашивал его взгляд. Я его мысленно послал. Видимо, он это понял, потому что сразу же повернулся к Татьяне:
— Что будете заказывать? — этот вопрос был задан обычным способом, то есть, вслух.
Дело в том, что нам все-таки удалось найти свободный столик — отель кишмя кишел туристами, в основном — с Земли.
— Хочу местной экзотики, — заявила Татьяна.
— И я хочу, — согласился я с ней.
Не прошло и пятнадцати минут, как весь столик был заставлен чем-то сине-зелено-буро-малиновым (без крапинок). Пряным ароматом мне обожгло веки, поэтому я запомнил запах, а не названия блюд. Абметов сказал, что он сыт Оркусом по горло и заказал хруммелей, которых на Оркусе готовить абсолютно не умеют.
— Вак вы во вуки вуда виевали? — с набитым ртом спросила Татьяна.
— Да нет, не от скуки я сюда приехал, — Абметов каким-то чудом понял вопрос, — Феодор вам уже рассказал, чем я занимаюсь?
Он — Симеoн, я теперь — Феодoр — неплохо, подумал я.
— Да, рассказал, то есть, показал… письмо ваше показал. Вы работаете в Архиве Истории Науки?
— Вот-вот, все верно.
— Но какая же на Оркусе наука и, тем более, ее история? Вся история — на Земле. Тут народ развлекается — климат отличный, а если антиоркусовские пилюли не принимать, то вообще — красота.
— Как вы сказали? Антиоркусовские? Хм, смешно…— Абметова название искренне позабавило, — нет, дело, разумеется не в них. Кстати, вы случайно не знаете, как они действуют?
Татьяна не знала, и отвечать пришлось мне:
— Я знаю, но лишь приблизительно. С вами когда-нибудь случалось так, что в некоторый момент вам начинает казаться, будто то, что вы делаете или говорите или слышите, вы уже делали, говорили или, соответственно, слышали?
— Дежа-вю, — подсказала Татьяна.
— Да, пожалуй, было, — подумав немного, ответил Абметов, — так, что оркусовская болезнь — это дежа-вю?
— Не совсем, это я так, для аналогии… Теперь представьте, что вам когда-то уже снилось нечто похожее на ваши нынешние реальные действия, и, хотя вы о самом сне уже забыли, мозг по-прежнему хранит его обрывки. И эти обрывки могут проявлять себя как ложные воспоминания. Идем дальше… Как образуются сны, точно никто не знает, но поле Оркуса сами сны не создает, оно создает, если можно так выразиться, обрывки не существовавших снов. Оно создает их из того хаоса воспоминаний, что наполняет самые дальние закоулки нашей памяти. В каком-то смысле Оркус упорядочивает хаос, так же как обычное магнитное поле упорядочивает кучу железных опилок. Вновь созданные воспоминания не имеют ни какого отношения к тем реальным событиям, что послужили источником материала, то есть, того самого хаоса. Пусть например, вы когда-то видели человека с носом, как вот этот… Татьяна, как называется этот фрукт?
— Это овощ, «оркусец обыкновенный», — ответила Татьяна, заглянув предварительно в меню.
— Хорошо, окусец так оркусец… И пусть однажды вы встретили другого человека, ну, скажем,… с зелеными волосами, — я решил больше не использовать оркусовские блюда для сравнений. Татьяна толкнула меня под локоть и кивком головы указала на сидящего за соседним столиком молодого человека. У того были волосы ярко-салатового цвета. Мы все улыбнулись, и я продолжил:
— Так вот… Поле Оркуса может породить в вашей памяти одного человека, у которого и нос, как оркусец, и волосы, как у того типа за соседним столиком. Плюс еще что-нибудь… Вы поняли?
— Более-менее… Так что, антиоркусовские пилюли — это какой-то ингибитор или вроде того? — предположил Абметов.
— Нет, не думаю. Фармакодинамика другая… Действие пилюль направлено против самого поля, своего рода — его нейтрализация. Фармакологи уверяют, что на нормальную память они не действуют.
— Здорово! — обрадовалась Татьяна, — теперь понятно, что имел в виду Сократ, когда говорил «знание — это воспоминание». В самом деле, знание — это текст, текст состоит из символов, символов в нашей голове хоть отбавляй, надо только их правильно упорядочить — вот тебе и знание. Таинственная сила превращает хаос символов в текст, но, правда, непонятно как. На Оркусе Сократ побывать не мог… хотя, кто его знает.
— Когда-нибудь ты дошутишься! — мне не нравится, когда Татьяна пытается острить не по делу. Но Абметов тоже был настроен не слишком серьезно:
— Я-то думал, что жизнь порождает сны, а выходит — все наоборот — сны определяют жизнь…
— Все определяет все — это напрочь известный факт, — вторила ему Татьяна.
— Скрупулезно подмечено, — согласился он, — но тут возникает интересная проблема. Вот вы говорите, что знание — это превращение хаоса символов в текст. То есть какой-то гений берет и упорядочивает значки. Получается доказательство некой теоремы. Возникает законный вопрос: существовал ли это текст до того, как тот гений превратил в него кучу беспорядочных символов. Ведь закон всемирного тяготения существовал до того, как Ньютон его открыл. Может быть и с доказательством теоремы тоже самое…
Заданная тема оказалась слишком трудной для дружеской беседы за завтраком.
— Думаю, не тоже самое… — это все, что смогла ответить Татьяна.
Мы сосредоточились на еде. А я подумал, как ловко он увел разговор от своей собственной персоны к общеоркусовским проблемам. Но — не тут-то было — Татьяна вспомнила, с чего началась беседа:
— Я догадалась! С помощью поля Оркуса вы хотите обрести какие-то новые знания, или, на худой конец, вспомнить старые — в Архиве Истории Науки, должно быть, много пробелов поднакопилось.
Абметов молча улыбнулся. Неужели, думаю, он заранее не придумал какой-нибудь уважительной причины. Письмо, опубликованное в «Секторе Фаониссимо» , за уважительную причину сойти никак не могло.
— Насколько я знаю, вы, Татьяна, в конечном итоге, хотите доказать, что когда-то, в далекие времена, жители Фаона, Оркуса и других, подобных им планет, посещали Землю…
Не знаю, с чего он взял, что Татьяна занимается именно этим. Она возразила:
— Для начала, надо доказать, что они, то есть инопланетяне-сапиенсы и в самом деле населяли эти планеты.
— Я немного не с того конца начал, ну да ладно… — согласился Абметов. — Теперь, предположим, что вы и впрямь нашли следы неземных разумных существ, и более того, эти следы ведут от недавно открытых планет к Земле и обратно. Вы бы этому обрадовались?
— Пожалуй да… — неуверенно ответила Татьяна.
— А зря! Вдумайтесь только: если все так и обстоит, если сапиенсы в доисторические времена посетили Землю, то всю историю земной цивилизации придется переписывать заново. И то знание, что до сих пор называлось ненаучным и не принималось всерьез, будет выглядеть совсем в другом свете. Знание, полученное, как откровение, как внезапное озарение, окажется, на самом деле, информацией, оставленной пришельцами. Эта информация перерабатывалась и интерпретировалась первобытным человеческим умом, пока не приобрела форму предания, мистерии или герметического учения. Чем больше мы изучаем мир, тем больше накапливается вопросов. И у нас уже не хватает ни сил, ни времени искать ответы везде, где только возможно. Нам приходится искать наугад. А если не угадаем? Может, те сапиенсы, что посещали Землю тысячелетия назад уже пытались намекнуть человечеству, где искать ответы? Не следует ли, в таком случае, более бережно относиться ко всему, что когда-либо породил человеческий ум?
— Да кто ж спорит, — согласилась Татьяна, — то есть, вы, в вашем архиве хотите собрать и сохранить все, что навыдумывало человечества вне зависимости от происхождения и степени научности. Но я с другим вашим тезисом не согласна. Я против того, чтобы все валить в одну кучу. Не все одинаково ценно. Вот, например, как по вашему, сколько времени надо учиться, чтобы понять, что думает современная физика по поводу устройства мира?
— Лет десять-пятнадцать, — ответил Абметов. Татьяна посмотрела на меня, но я лишь пожал плечами, — мол, откуда мне знать.
— Хорошо, пусть — десять. Но это ведь очень долго! Не многие готовы все бросить и сидеть десять лет за учебниками. Тогда возникает некто, и этот некто говорит: «Не хотите десять — не надо. Вот вам наука, которой можно овладеть лет за пять. Местами будет непонятно, но вы уж поверьте на слово, — там все верно.» Пойдем дальше. Пять лет — это тоже срок. Нельзя ли побыстрее? Отчего же, конечно можно! Очередной нeкто берется вам все растолковать за год. Но взамен, вы должны ему верить на слово еще больше, чем тому, кто укладывается в пять лет. Иначе говоря — верить в откровение. И так далее — спрос рождает предложение. Пророки и ясновидцы плодятся, как шнырьки в сытный год. Для мореплавания нужна была настоящая наука и, хочешь не хочешь, а изучай астрономию, математику, физику и бог знает, что еще. А сидишь дома — тут и откровением обойтись можно. В общем, все от лени — и хорошее и плохое.
— Я и не ожидал, что ты такая материалистка, — искренне удивился я. Абметов пояснил:
— Татьяна говорит, что природа выдумала некоторый механизм, который позволяет человеку «допридумывать» то, чего он не может получить извне. Такая точка зрения позволяет смело отмахиваться от любого эзотерического знания — мол, это что-то вроде рефлекса, ответной реакции на недостаток знания научного. И плевать, что человечество большую часть своей истории жило именно откровением, а не наукой.
Татьяна отозвалась не менее эмоционально:
— Так ведь зло берет — сиди тут, изучай, мучайся, а приходит очередной проныра с очередным откровением и у него на все готов ответ. А ты, со своими поисками, никому не нужен!
Грустную она обрисовала картину. Абметову захотелось помириться:
— Кто знает, кто знает… Я вас прекрасно понимаю. Но все вами сказанное относится к более поздней эпохе — когда наука ушла далеко от практической жизни и стала непонятной для простых обывателей. Более того, учений, желавших называться научными, становилось все больше и больше. Теория относительности проникла в теорию познания — люди решили, что научная истина — вещь весьма относительная, а потому всяк имеет право на свою науку. И тут стало происходить то, о чем вы говорили — науки стали печься как пирожки — каждому на его вкус. Теперь, когда люди расселились по разным планетам, это особенно актуально.
«Не на Франкенберга ли с его гомоидами он намекает», — мелькнуло у меня в голове. Абметов продолжал вещать:
— Про проныру с готовым ответом — тоже правильно. Хуже всего, если этот ваш проныра окажется инопланетянином, и тогда вся наука пойдет прахом — вся антропоцентричная наука, я имею в виду. В определенном смысле, вы сами роете себе могилу. С вашими убеждениями, я бы бросил искать сапиенсов — не к добру это. В конечном итоге, что мы, люди, хотим знать? Мы хотим знать, как устроен мир и какое место мы занимаем в этом мире. Но что мы подразумеваем под устройством мира? Некий текст, написанный на человеческом языке и отвечающий на все вопросы, заданные, опять-таки, на человеческом языке. Неявно, мы подразумеваем, что наш язык, наше мышление исчерпывает собою всю Вселенную. Любая наука — антропоцентрична. Любая наука подразумевает, что Вселенная целиком и полностью содержится внутри нас. Это очень сильное допущение. Стоит только предположить, что существует кто-то мыслящий не как мы, то сама познаваемость мира автоматически ставится под сомнение. Научная познаваемость, конечно же, а не интуитивная…
Абметов поймал-таки на вилку кусок недоеденного хруммеля и отправил себе в рот — хруммель послужил предлогом для того, чтобы не заканчивать мысль.
Еле слышным попискиванием комлог известил меня о приходе сообщения из Отдела. Возникшая по вине Абметова пауза была как нельзя кстати. Получив разрешение ненадолго отлучиться, я вышел в вестибюль, нашел свободное кресло в самом дальнем углу и включил комлог.
Яна торопливо докладывала о своих изысканиях. Сведений об Абметове в Канале еще меньше, чем о Франкенберге. Архив Истории Науки в природе существует, но ни где он находится, ни списка его сотрудников Яне разыскать не удалось. Имя Симеона Абметова всплыло дважды. Во-первых, Абметов упоминался как участник научной конференции по фундаментальной антропологии. Та конференция проходила на Земле, двадцать пять лет тому назад. Примечательно, что одним из докладчиков на конференции был профессор Франкенберг.
Во-вторых, Яна раскопала старую — тридцатилетней давности — статью, за подписью «С. Абметов» — в то время он еще не был «доктором». Статью я привожу частично — только в качестве иллюстрации к тому научно-историческому направлению, что выбрал для себя молодой Абметов. Отрывок является, по сути, пересказом значительно более старой концепции, выдвинутой в самом начале двадцать первого века неким Дэвидом М. Гиптфилом. Вот этот отрывок:
Всем хорошо известно, с какими трудностями пришлось столкнуться египтологам, пытавшимся современным языком передать представление древних египтян о пространстве и времени. Основная проблема заключалась как раз в том, что у египтян не было отдельного слова, которое бы могло означать понятие, близкое по значению к нашему понятию «пространство», и, аналогично, для понятия «время» у них также не было специального слова. Но, зато, вместо привычных нам «пространства» и «времени» у египтян были «нехех» и «джет». Вот тут мнения ученых и расходятся. Многие так и переводят эти слова, как, сответственно, «время» и «пространство». Этих горе-переводчиков смутило то, что в «Книге Мертвых» «нехех» и «джет», в совокупности, означают «все сущее». Ближе всех к истинному смыслу этих таинственных слов подошел крупнейший египтолог двадцатого столетия, профессор Хайдельбергского университета, Ян Ассман. Он справедливо заметил, что «нехех» можно интерпретировать как «изменчивость», то есть это «время», движение которого суть изменения, происходящие в природе. Что же тогда такое «джет»? Ассман интерпретирует это слово как «завершенность», или, точнее, как «продолжение того, что уже завершилось», или как «результат завершения». Итак, что мы имеем. «Нехех» и «джет» вместе означают «все сущее» или, что на наш взгляд, более правильно, «когда-либо сущее». Так ведь это, ничто иное, как ставшее теперь классическим четырехмерное «пространство-время» или «пространство событий»!
Мы установили, чтo «нехех» и «джет» означают в совокупности, но что же они означают по отдельности? Подойдем с другой стороны. Как в двадцатом веке представляли себе пространство событий? Критики теории относительности знают ответ: пространство событий делилось на две области — область событий абсолютно удаленных во времени и область событий абсолютно удаленных в пространстве. Называли эти две области соответственно времениподобной и пространственноподобной. Формально, первая характеризуется тем, что для любого события из этой области существует система отсчета, в которой это событие происходит в том же месте, что и начало исходной системы отсчета, но, разумеется, в другое время. Напротив, для любого события из пространственноподобной области существует система отсчета, в которой это событие происходит одновременно с началом исходной системы отсчета. Но все это лишь формальные определения. В чем же их суть? А суть в том, что абсолютно удаленные в пространстве события хотя и происходят где-то рядом, но недоступны для нашего влияния, более того, мы их не видим, хотя наша интуиция подсказывает, что там, «по ту сторону добра и зла» находятся и живут своей жизнью результаты некоего становления. То есть пространственноподобные события суть «джет». Но в отличие от своих далеких потомков, древний египтянин считал, что именно такие события и решают судьбу мира. Если б боги жили где-нибудь в туманности Андромеды, то нам бы оставалось лишь предполагать, чем там они сейчас занимаются, ведь с Земли галактику мы видим такой, какой она была полтора миллиона лет назад. Иначе говоря, мы не поспеваем за тем, что там происходит. Не случайно именно с концепцией «джет» связывают образ бога Осириса. Его, также, часто называют «сеф», то есть «вчерашний день» — мы знаем его таким, каким он был вчера.
С событиями из времениподобной области ситуация другая и она куда проще. Это события «нашего» мира: рождение и смерть, восход и заход Солнца-Ра, вечный круговорот — все суть «нехех».
В целом, статья была посвящена тому, чтобы уже с позиций современной науки пересмотреть точку зрения Гиптфила на древнеегипетскую мифологию.
Когда я вернулся, Абметов с Татьяной ворковали как два голубка.
— О чем речь ведете? — поинтересовался я.
— О Боге, который покинул мир, — ответила Татьяна и стыдливо потупила глазки.
— То есть вы воспользовались моим отсутствием, чтобы поговорить наконец о делах серьезных… — я осекся. Моим собеседникам было не до шуток. Абметов недовольно поморщился.
— Это действительно серьезный вопрос. Я бы не стал так иронизировать, — сказал он.
Мне пришлось извиниться.
— Да, все это очень серьезно… — задумчиво повторил Абметов, — у разных народов, раз за разом повторяется одна и та же легенда о Боге, оставившем наш, посюсторонний мир. Как объяснить исчезнувших невесть куда сапиенсов? Куда они делись? Нырнули в Канал и там утонули? Но мы в нем не тонем — мы по нему плаваем, но плаваем-то мы лишь вдоль одного берега — вдоль того, что ближе к нам, людям. И как перебраться на другой — мы не знаем. Где тот Харон, что перевезет нас через Канал, и сколько он возьмет с нас за перевоз?.
— С мертвых он брал обол, — подсказала Татьяна.
— Вот именно. Живым перевоз обходился дороже… — опять полунамеком, тихо и с трагическим оттенком, произнес Абметов.
Принесли кофе. Разговор о покинувшем нас Боге мы не возобновляли. После кофе Абметов вспомнил про какой-то важный разговор или важный звонок, который ему просто позарез нужно сделать, причем, немедля и из своего номера. Десять раз извинившись, он церемонно раскланялся, поцеловал Татьяне руку и заявил, что никогда раньше не встречал такой умной и очаровательной женщины. Пообещав напоследок, что за ужином мы непременно встретимся снова и уж тогда вдоволь поговорим обо всем на свете, он удалился. Он так обставил свой уход, что я все ждал, не разразится ли зал аплодисментами, но завтракающие постояльцы не обратили на Абметова ровно никакого внимания — все были заняты исключительно едой. Татьяна сказала, что после такого плотного завтрака не мешало бы немного прогуляться. Идея мне пришлась по душе и мы пошли к выходу.
К вестибюлю отеля примыкали две застекленные галереи. В них расположились десятка три магазинов и магазинчиков, торговавших местными сувенирами и всем, что только можно выдать за такие сувениры. Вместе с соединявшим их переходом, галереи образовывали букву "П". Поскольку ни Татьяне, ни другим энтузиастам-археологам настоящих внеземных артефактов найти не удалось, торговцы выкручивались, как могли, — каждый в меру своего воображения и своей предприимчивости. Салоны, дорожащие репутацией, выставляли только «настоящие» сувениры, то есть такие, про которые нельзя сходу сказать, что изготовлены они не раньше, чем в прошлом году. К «настоящим» сувенирам относились, прежде всего, отшлифованные камни самых причудливых раскрасок и форм — от прозрачных, как хрусталь, отполированных линз, до остроконечных звезд, словно наполненных жидким пламенем, и черных (почему-то именно черных!) «бутылок Кляйна». На одном из камней, фактурой и формой напоминавшем глиняный черепок, при известной фантазии, можно было различить знаки загадочного внеземного языка. После камней, вторыми по популярности, шли геометрически правильные кусочки металла, якобы, доселе неизвестного и, следовательно, выплавленного, сами догадайтесь, кем… Впрочем, респектабельные продавцы прямо не настаивали на «сапиенском» происхождении своих товаров, но и не опровергали этого.
Галерея тянулась метров на сто. В самом ее конце находились совсем небольшие лавчонки, чьи хозяева … ну разве что сами себя не выдавали за гоморкусов, то есть, за мифических коренных обитателей планеты Оркус. В одну из таких лавочек мы зашли. Вокруг царил таинственный полумрак, на лиловом бархате были выставлены экспонаты, подсвеченные, для еще большей таинственности, желтовато-пепельным светом. У тех, кто создавал эти сувениры, перед глазами все время маячили только памятники древних земных цивилизаций, поэтому и сами сувениры больше походили на творения рук земных аборигенов. Татьяна сказала, что до сего дня ей и в голову не приходило, что когда-то давно Оркус заселяли шумеры, кельты и индейцы племени квакиутль, — о пребывании на Оркусе последних, свидетельствовали выставленные на продажу, изогнутые медные пластинки с двумя характерными перпендикулярными ребрами. Татьяну все это страшно забавляло. Чрезмерно назойливому продавцу, она сказала, что народную гоморкусовскую чурингу она может подделать гораздо лучше него. Продавец, не моргнув и глазом, предложил Татьяне взаимовыгодное сотрудничество, а о том, чтоб обидеться — даже и не подумал.
Пока Татьяна обсуждала с продавцом детали будущего сотрудничества, мое внимание привлекла небольшая, сантиметра четыре от вершины до вершины, трехгранная рогатая пирамидка из тяжелого серого металла. Я назвал ее рогатой, потому что к трем ее граням прилепились продолговатые наросты, вроде лопастей, и если взглянуть на пирамидку со стороны вершины, то выглядела она точно так же, как трехкрылый треугольник. Заметив мой интерес, продавец подскочил ко мне и стал нашептывать на ухо, что мол, пирамидка эта — вещь абсолютно уникальная, принес ее некий человек, с ног до головы закутанный в темный плащ так, что даже лица не разглядеть, и говорил тот человек хриплым голосом, явно измененным. Денег незнакомец за пирамидку не попросил, лишь сказал перед тем как уйти, что мол, когда будете передавать пирамидку из рук в руки, произнесите такие слова: «Милостью небес мы существуем».
— Что он сказал?! — у меня отвисла челюсть.
Продавец повторил. На Татьяну рассказанная продавцом история произвела эффект обратный тому, которого он добивался.
— Нужна тебе эта ушастая пирамидка. Потом будешь мучиться — почему, дескать, у нее три уха. Четыре было — одно оторвали! Да тебе здесь про любую вещь скажут, что принесло ее неизвестное существо с пятью глазами и щупальцами вместо носа. Естественно, существо пожелало остаться неизвестным. И скажи спасибо, что тебе не Апокалипсис процитировали.
Услышав Татьянину тираду, продавец всерьез оскорбился. Он выхватил пирамидку из моих рук и заявил, что не продаст нам ее ни за что.
— А почему вы ее продаете, если она вам бесплатно досталась? — не унималась Татьяна.
— А плата за аренду? А энергия? За все надо платить. И есть мне тоже надо, хотя бы время от времени, — огрызнулся продавец.
Я принялся убеждать его продать мне рогатую пирамидку. Продавец долго ломался, но я выдвинул абсолютно неопровержимый аргумент: мол, раз он уже передал мне слова незнакомца, то теперь мне известна ее тайна и, что для него же будет безопаснее избавиться поскорее от такого сомнительного товара. В конце концов он уступил. Ту немыслимую сумму, что мне пришлось заплатить за пирамидку, я намеревался внести в служебные расходы. Татьяна только пожала плечами.
Мы вернулись в отель, чтобы передохнуть, а, заодно, — принять душ — от здешней духоты не спасали никакие кондиционеры.
3
— Я этого не потерплю, так и знайте! — услышали мы возмущенный женский возглас, когда вышли из лифта на втором этаже. У дверей нашего номера столпилось несколько человек. Угрозы в адрес отеля перемежались невнятными извинениями. Подойдя ближе, мы обнаружили, что это возмущалась соседка из двести пятьдесят третьего номера, а наш номер тут ни причем. Теперь она была без вуалетки, но в темных очках. Тонкие губы выговаривали слова хлестко и точно. Управляющий отелем сносил словесные пощечины со стойкостью опытного бойца, ведь в таком большом отеле каждый день кто-нибудь да скандалит.
— Я сегодня же съезжаю! Нет, подумать только, я здесь всего два дня, а ко мне в номер уже успели забраться!
— Погодите, не волнуйтесь вы так, — успокаивал ее управляющий, — возможно, он просто ошибся номером. В любом отеле такое может произойти — не только в нашем.
— Но дверь была заперта — он открыл ее своим ключом. Как, позвольте спросить, такое может быть?
— А вы уверены, что заперли дверь? — спросил управляющий. Со его стороны, сказать такое было непростительной ошибкой. Постоялица с сарказмом заметила:
— Что вы хотите этим сказать — что я лгу, или что я сама себя не помню?
Предложенный выбор поставил управляющего в тупик. Дама язвительно продолжала:
— Мало того, что меня в вашем отеле чуть не убили, вы меня еще и оскорбляете. Я полагаю, мне следует вызвать полицию.
— Постойте-постойте, зачем нам полиция? — опомнился управляющий, — у вас ведь ничего не взяли. Расскажите все начальнику нашей службы безопасности, и он примет все необходимые меры, — управляющий старался избежать скандала во что бы то ни стало.
Вперед вышел молодой, спортивного вида мужчина с напомаженными, гладко зачесанными волосами, бликовавшими пуще чем лысина управляющего.
— Сэм Бруц, начальник службы безопасности. Я целиком в вашем распоряжении.
Потерпевшая уже истратила весь свой гнев на управляющего и отнеслась к Бруцу, на удивление, благосклонно:
— Найдите его, а то он не оставит меня в покое. Я уверена — мерзавец снова ко мне заберется.
— Вы успели его разглядеть?
— Ну разумеется! Я же видела его собственными глазами.
— Где он находился?
— То есть как, где? В моем номере, конечно!
Бруц поправился:
— Я спрашиваю, где именно — в спальне, в гостиной или еще где-нибудь?
— Да, он был в спальне — шарил по вещам.
— А где в это время находились вы?
— В душе. То есть сначала я была в душе и поэтому не заметила, как он вошел, но когда я выходила из ванной комнаты, он уже был в спальне, и до него было, ну вот как до вас… — она ткнула в меня пальцем, — так это были вы!
Вот так номер, думаю.
— Я все утро был в ресторане и, как это не смешно звучит, завтракал. К тому же, у меня есть свидетели, — поспешил я предоставить алиби.
— Да? Очень жаль, — соседка была разочарована.
— А где вы были потом? — спросил меня Бруц.
— Потом мы вместе с…
— Со мной! — подсказала Татьяна.
— Да, вместе с моей подругой прогулялись по галерее, где торгуют сувенирами, — с Татьяниной помощью я соорудил себе железно алиби. Бруцу моих слов показалось недостаточно:
— Вы что-нибудь купили? — настаивал он.
Я предъявил крылатую пирамидку и описал ту лавочку, где мы ее купили.
— Спросите у торговца, мы у него долго проторчали, — вставила Татьяна.
Бруц временно от нас отстал.
— Стало быть, нападавший был молодым мужчиной, ростом чуть выше среднего? — обратился он к потерпевшей.
— Ну да, я это уже говорила, да вы все не слушаете!
При мне она ничего подобного не говорила.
— Какое у него было лицо? — снова спросил Бруц.
— Как какое? Мужское, разумеется!
— Это понятно, — Бруц мобилизовал все свое терпение, — как он был одет, какие глаза, волосы, вы помните?
— Одет он был примерно как и вы, — она снова ткнула в меня пальцем, —остальное… шторы в спальне я задернула еще с вечера — сами понимаете — второй этаж. Свет — погашен. Он что-то сунул мне в лицо, затем — треск, удар…и я, наверное, упала, потом… — соседка задумалась, ей очень не хотелось признавать, что толком она ничего не помнит.
Чуть ниже ее правого уха я заметил знакомый красноватый след — по всей вероятности туда пришелся удар шокера. Перехватив мой взгляд, она прикрыла шею рукой. Подними нападавший свое оружие немного выше, и ей бы не пришлось с нами разговаривать.
— Так что же случилось потом? — поинтересовался Бруц.
— Потом он, вероятно, убежал, но я его узнаю, непременно узнаю, если увижу, конечно.
— Хм, так же, как меня, — сказал я вполголоса, но Бурц меня прекрасно слышал и понимающе кивнул.
— Ты выходил в туалет, — прошептала Татьяна мне на ухо.
— Откуда ты знаешь, что в туалет. Ты что следила? — шепнул я ей в ответ.
— Вот и я о том же — не знаю куда ты ходил… Вчера с дверью соседкиной возился, а сегодня ее грабят — подозрительно!
— Тихо ты, — я приложил палец к ее губам, — не шипи так громко. И вообще, пошли в номер, нечего тут стоять.
Мы незаметно удалились.
— Так о чем вы беседовали с Абметовым, пока меня не было? — полюбопытствовал я уже в номере.
— Ха, все тебе расскажи… — Татьяна решила немного пококетничать, — мы говорили о природе любви.
Я состроил такую физиономию, что Татьяна была вынуждена пояснить:
— Заметь — не о любви, а о природе любви. Разницу улавливаешь?
— Улавливаю, но смутно. При мне вы только и делали вид, что вас исключительно высоконаучные темы интересуют, но стоило мне отлучиться, как Абметов тут же забывает про науку и давай толковать про любовь. Нечего сказать, прыткий малый! Давай-ка поконкретней, чего он там тебе наговорил?
— Да не нервничай ты так! Сюжетец он изложил сугубо философский. По мнению Абметова, Господь Бог придумал двуполых существ, дабы у них — у двуполых существ — появилась возможность потренироваться в любви. То есть, самоцелью являлось не размножение, а подготовка почвы к возникновению альтруистической любви — любви к истине, например, или к красоте. Но для начала, следовало изобрести любовь попроще. К примеру, любовь к кому-то живому, но отличному от себя. Для этого изобрели двуполое размножение. Согласись, ну какая любовь может быть у амеб?
— Исключительно альтруистическая, — ответил я.
— Да с какой стати! Им бы пожрать, да поспать — вот и все интересы. Нет альтруистическая любовь сама по себе возникнуть не может. Поэтому, Господь Бог решил так: пускай живые твари научатся любить друг друга, ну хотя бы для размножения — все лучше, чем никак. Так возникла любовь, пардон, сексуальная. Поднабравшись опыта в половой любви, живая тварь на этом не остановилась. Да она уже и не могла остановиться — камень покатился — любить что-то, что вне тебя, стремиться к тому, что вне тебя, пусть даже недостижимому, так понравилось, что живая тварь начала искать себе все новые и новые объекты для любви. Дело дошло до того, что все объекты попросту кончились, и пришлось живой твари их придумывать. Ну а как только тварь стала подключать свое воображение — к тому времени тварь стала уже совсем разумной — тут и до альтруистической любви недалеко. Как тебе такой сюжетец?
— Что-то мне подсказывает, что без конкретных примеров Абметов обойтись никак не мог. Например, он мог сказать так. Вы, Татьяна, говорит Абметов, такая прекрасная женщина (дама, девушка, барышня), что могли бы стать музой для кого-то получше него (то есть — меня), ну а тем несчастным, кто не заслужил твоего расположения, остается только подключать, как ты выразилась, воображение и заниматься альтруистической любовью… Я ничего не напутал?
— Фу, что ты несешь? Абметов до такой пошлости не опустится. Про тебя он вообще ни слова не сказал.
— А про тебя? — поймал я ее на слове.
— Ну, он позволил себе выразить некоторое восхищение…— она запнулась.
— Чем? — мне стало еще любопытнее.
— Не чем, а кем… мною естественно!
— И…?
— И он сказал, что мои рыжие волосы и голубые глаза — это земное небо наоборот.
— Чего наоборот?
— Что ты разчевокался? Неужели непонятно! На Земле солнце рыжее, а небо — голубое. А он сказал, что глядя на меня теперь сомневается, не ошибся ли Создатель и не лучше ли было сделать наоборот — солнце голубым, а небо — рыжим.
— У нас на Фаоне солнце тоже рыжее, а небо, если погода хорошая, то голубое.
— Тем более непонятно, как ты сам до такого не додумался. Да где тебе… — Татьяна махнула рукой.
Я вспомнил, какие комплименты я расточал в адрес Лоры Дейч и мне стало стыдно.
— Я исправлюсь…
— Все обещаешь, да обещаешь, — Татьяна давала понять, что лимит доверия ко мне у нее исчерпан.
— На Оркус обещал взять — и взял, — оправдывался я, — ты скажи лучше, чего это Абметова на комплименты потянуло?
— От скуки, вероятно… — Татьяна нашла для Абметова оправдание.
— Кстати, ты вовсе не рыжая. Это Шлаффер рыжий, а у тебя волосы… ну золотистые, что ли…
— Тьфу, пошлятина какая! Еще скажи, что я — блондинка. Да, а кто такой Шлаффер?
— Так, тип один…
Ладно, думаю, пора сменить пластинку. Альтруистическая любовь в исполнении Абметова может подождать. А вот история с неудавшимся ограблением госпожи из соседнего номера показалась мне более чем странной. Брать у нее, судя по всему, нечего. И почему грабитель не проверил, есть ли кто-нибудь в номере или нет…
Мне стало не по себе. Страх, оставивший меня еще на Фаоне, вернулся вновь. Маленьким комочком он возник где-то внизу живота, начал подниматься и, миновав солнечное сплетение, замер. Движимый нехорошим предчувствием, я связался с Оркус-Отелем, но не чрез интерком, а через внешнюю сеть. Долго никто не подходил, затем, юный девичий голос спросил, что мне, собственно, надо.
— Извините, это четыреста тринадцатый?
— Смотрите куда нажимаете — это четыреста двенадцатый, — схамила девица и отключилась. Теперь все стало на свои места. Слегка успокаивало только то, что дьявольское число теперь связывает Абметова не с нами, а с нашей соседкой из двести пятьдесят третьего. Татьяна, выслушав мое объяснение, все поняла по своему:
— Вот, я же говорила, ты даже номер не в состоянии запомнить…
— Ты не поняла, тот тип собирался обыскать наш номер, а не соседний, — растолковал я ей.
Татьяна прикрыла ладонью рот и молча опустилась на краешек кровати.
— Кто, кроме Абметова, мог знать про твои нумерологические изыскания?
— Никто… Хотя, постой, мы как раз выходили из лифта, когда я сказала ему про шестьсот шестьдесят шесть. С нами еще человек десять выходило… Может, кто-то из них слышал.
— Теперь остается только гадать.
Я не помнил, чтобы в лифте находился кто-нибудь, похожий на меня. Если соседку вырубили цефалошокером, то нечего из ее рассказа нельзя принимать всерьез. Чтобы хоть как-то прийти в себя, я принял холодный душ. Татьяна последовала моему примеру.
Лежа на кровати я не спеша обдумывал происшествие с соседкой. В дверь позвонили. Я подумал, что это пришел вездесущий Абметов, но ошибся — в номер вошел начальник службы безопасности Бруц.
— Чем обязаны? — спросил я.
— Я вынужден задать вам несколько вопросов в связи с нападением на госпожу Бланцетти, — заявил он сухо и официально.
— А кто такая госпожа Бланцетти? — снова спросил я, впрочем, понимая, что речь идет о соседке.
— Постоялица из двести пятьдесят третьего номера.
— С ней все в порядке? — поинтересовалась Татьяна. После душа наряд на ней был довольно легкомысленный, и Бруц никак не мог сосредоточиться.
— И да и нет, — уклончиво ответил он, —Ее здоровье вне опасности, но вот память… Очевидно, ее поразили цефалошокером или подобным ему оружием.
— Понятно, но нас-то это как касается?
— Мы проверили ваше алиби и считайте, что его у вас нет — господин Абметов был вынужден признать, что во время завтрака вы выходили. На дверях ее номера есть только ваши следы и следы самой госпожи Бланцетти. Выводы делайте сами…
— Ну и что? — возмутился я, — вам же сказали, что вчера я помог ей открыть дверь.
— И заодно просканировали замок, — предположил Бруц.
— Вранье, — ответил я.
— Чушь собачья, — поддержала меня Татьяна.
— Не знаю, не знаю, — вздохнул Бруц, глядя в разрез Татьяниного платья.
— Если не знаете, то тогда оставьте нас в покое, — взвилась Татьяна. Разрез на платье еще больше расширился и Бруц забыл, за чем пришел. Он спросил:
— С какой целью вы приехали на Оркус?
— Ограбить первого попавшегося соседа по номеру, — огрызнулся я.
— Ну почему же первого попавшегося, — деликатно возразил Бруц, — вы же специально попросили этот номер.
Крыть мне было нечем. Рассказывать про сумму номеров было бы глупо, тем более, что она оказалась вовсе не той, что требовалась.
— Для нас число двести пятьдесят четыре — счастливое, — нашлась Татьяна, — и попробуйте, докажите, что это не так.
А что тут доказывать, думаю я, оно и вправду оказалось несчастливым. Хотя, нет, все же счастливым — ведь ворвались не к нам, а к соседям. Ход мысли у Бруца был примерно такой же, как у меня:
— Ваш друг попал в скверную историю, — сказал он Татьяне, — а это, согласитесь, уже — несчастие.
Когда убили Перка, я попал в число подозреваемых. История повторяется, но теперь как фарс: я ограбил какую-то Бланцетти. Мне надоело спорить с Бруцом, и я ударил тяжелой артиллерией:
— Дайте мне номер местного полицейского участка, — велел я тоном, не терпящим возражений.
— А не рано ли вызывать полицию, — растерялся Бруц, — прежде всего мы хотим избежать скандала. Как и вы, я полагаю.
— Делайте, что вам велели, — еще более грозно приказал я, — а не то скандал вам обеспечен. Например, вашим клиентам будет очень интересно узнать о том, что вы прослушиваете их разговоры.
Бруц напрягся — видимо, я попал в точку. После того как он выдал мне и номер полиции и имя местного начальника, я связался с одним из руководителей Оркуса — с тем, с кем мне довелось сотрудничать во время расследования двухгодичной давности. Я вкратце обрисовал ему ситуацию, назвал имя полицейского чина, который, по моему мнению, мог бы эту ситуацию исправить. Мой собеседник, в свою очередь, позвонил кому-то из полицейских боссов, последний — еще кому-то и так далее, пока цепочка не дошла до самого Бруца. Наверное, ему здорово влетело, потому что он напрягся еще больше. Заикающимся голосом он долго извинялся, сказал, что всегда к нашим услугам, после чего, неловко пятясь, удалился. Никакой дополнительно помощи я у оркусовского руководства не просил — сказал, что я здесь на отдыхе, а не на задании. А Бруц и так все прекрасно понял и будет теперь у меня на посылках, если, конечно, потребуется.
— С чего ты взял, что они нас прослушивают? — спросила Татьяна, после того как за Бруцом захлопнулась дверь.
— Слишком быстро они вышли на Абметова. Бруц узнал, что я звонил в четыреста двенадцатый номер. Само по себе это еще ни о чем не говорит — исходящие звонки могут фиксироваться, чтобы потом вставить их в счет. Девице из того номера я сказал, что звоню в четыреста тринадцатый — и Бруц это слышал, потому и нашел Абметова так быстро. За одно мы теперь точно знаем, что Абметов живет именно в четыреста тринадцатом.
— А не проще ли у него самого спросить?
— Не стоит. Пускай думает, что мы не догадались…
— Так ты подозреваешь Абметова?
— Никто не знает, сколько времени эта Бланцетти пролежала без сознания, следовательно и время нападения точно установить невозможно. Выйдя из ресторана Абметов мог прямиком отправиться к ней. Или у него был сообщник, что, кстати, вполне реально. Да и вообще, я теперь всех подозреваю, — заявил я, но тут же поправился, — кроме тебя — ты из ресторана не отлучалась, а после ресторана все время была со мной.
— Ах так, только поэтому! — возмутилась Татьяна и запустила в меня подушкой. Я не стал уворачиваться и подушка попала в цель. А Татьяна даже не посмотрела, куда попала — она вдруг о чем-то задумалась.
— Хочешь еще одного подозреваемого? — неожиданно спросила она.
— Выкладывай, — потребовал я.
— Сегодня утром, перед завтраком, я видела Йохана…
— Шутишь?
— Нет, я думаю, это был он, — уверенности в ее голосе не было, — я сначала не хотела тебе говорить — ведь это мог быть и не он. И еще, я боялась, что ты подумаешь… впрочем, не важно.
— Давай, давай, договаривай, — строго потребовал я.
— Я боялась, что ты подумаешь будто про симпозиум по археологии мы с Марго нарочно придумали, чтобы ты взял меня на Оркус.
Я рассмеялся:
— Да я бы вас в секунду вычислил! Забыла, где я работаю?
— Лучше бы я о твоей работе вообще не знала, — сказал она в ответ, — из-за этой истории с Бланцетти я и решила рассказать тебе про Йохана — так, мало ли что…
— И правильно сделала, — похвалил я ее, — он тебя видел?
Татьяна троекратно ответила «нет», но, на всякий случай, я ей не поверил. Народ настойчиво тянулся на Оркус: Шлаффер, Абметов, мы с Татьяной, а теперь еще и Йохан, которого вообще непонятно куда приткнуть. Собирается целая научная конференция, но не по планетарной археологии, а по фаонским гомоидам, и не на Земле, а на Оркусе. Не удивлюсь, если и Лесли Джонс бродит где-то рядом. Что же касается нападения на Бланцетти, я все больше и больше склонялся к мысли, что истинной целью преступника было вовсе не похищение чего-либо. Никаких ценностей я с собою не прихватил. Единственным, что могло бы заинтересовать преступников, была трехкрылая пирамидка, но приобрел я ее только этим утром. Скорее всего, нападавший хотел не украсть, а, наоборот, установить какое-либо устройство — подслушивающее или подсматривающее. Но кого, кроме меня, он собирался подслушивать? Сам с собою я пока еще на служебные темы не разговариваю, с Татьяной — тоже. Остается Абметов. Подслушать нас, когда мы находимся где-нибудь в общественном месте — пара пустяков. Поэтому Абметов не стал говорить в ресторане о делах. Следовательно, он подозревает, что за нами могут следить. Автоматически снимается подозрение с самого Абметова, но только если все вышесказанное — верно.
Поразмыслив таким образом, я позвонил Бруцу и велел ему, как только появятся реальные подозреваемые, не предпринимать никаких дальнейших шагов, не поставив меня в известность. Так ему и сказал: сначала сообщить мне, а уже потом — управляющему и всем остальным, включая подозреваемых. Бруц обещал все исполнить точь-в-точь.
4
Снова звонок в дверь.
— Ну кто на этот раз, — проворчала Татьяна и пошла открывать. Кого-кого, а Абметова мы никак не ожидали. Он был здорово смущен и прямо с порога залепетал:
— Я пришел просить прощения. Феодор, вы знаете, я вынужден был сказать Бруцу, что вы выходили тогда, за завтраком. Пожалуйста, не поймите меня превратно, но у меня не было другого выхода — рано или поздно он все равно бы узнал… Вы не сердитесь?
— Да ладно, дело житейское, на вашем месте я поступил бы так же. Ничего страшного, правда, Татьяна?
— Правда что? Что ты поступил бы так же? Это, безусловно, правда, — согласилась Татьяна, но не с тем, о чем я ее спрашивал.
Абметов все еще стоял на пороге, сконфуженно переминаясь с ноги на ногу. Не было другого выхода, как в очередной раз принять извинения и предложить ему сесть. Он так и сделал. Я подумал, что теперь, после того как он прощен, по всем правилам бытовой психологии, он должен проявить живейшее участие в моей судьбе и, заодно предложить свою помощь. Так оно и произошло:
— Я думаю, Бруц вам порядком надоел. Невыносимый тип — абсолютно невыносимый. Я ваш должник, поэтому располагайте мной как вам заблагорассудится, — любезно предложил он, — кстати, я живу в четыреста тринадцатом номере, так что дьявольское число нас больше не связывает…
— В самом деле, какая жалость! — Татьяна разыграла удивление лучше, чем Абметов — раскаяние.
— В таком случае, вам следует получше присмотреться к нашей соседке, госпоже Бланцетти. Теперь дьявольское число связывает вас с ней, — заметил я.
— Увы, это так — с грустью согласился Абметов и вдруг шутливо добавил: — Но я на нее не нападал!
— Охотно верим, — согласилась Татьяна, — к чему это вам!
— Не к чему… но кому-то она понадобилась… или что-то из ее вещей. Странно, я думал, что таким способом уже давно никого не грабят, — наморщив лоб бормотал Абметов, — хотя, постойте, может тот тип вовсе не был грабителем, а как раз наоборот… Я имею в виду — он хотел что-то подложить ей. Что она из себя представляет? Вы с ней знакомы?
Трудно разобрать, пришла ли эта мысль ему в голову только сейчас или он явился к нам специально, чтобы ее высказать. Я пересказал вчерашнюю историю с ключом.
— Поначалу она не заметила, что Федр не один, вот и решила подцепить симпатичного молодого человека, — безапелляционно заявила Татьяна.
Абметов сказал, что у Бланцетти нет никаких шансов, по той простой причине, о которой «вы сами, Татьяна, несомненно, догадываетесь» — так он объяснил и… покраснел.
Пока преступник не установил в наш номер ничего подслушивающего, мне следовало, не теряя ни минуты, поговорить с Абметовым о том, ради чего, собственно, я прилетел на Оркус.
— Господин Абметов, в своем письме вы проявили большую осведомленность… даже слишком большую осведомленность о моих научных интересах. Так не пора ли нам поговорить об этом?
— Ну зачем же так официально, — насупился Абметов, — просто Семен, или вы все еще на меня сердитесь?.. — Абметов проводил глазами Татьяну — она вышла из комнаты, тактично оставив нас одних.
— Сержусь я на вас, или нет — значения не имеет, — отрезал я.
— Как знаете… Я надеюсь, что встреча со мной не является единственной причиной вашего приезда — иначе, может статься, что вы потратили время впустую.
— Ближе к делу, — Абметова приходилось подгонять. Он еще больше возмутился:
— Зря вы так давите. Я думаю, вам этот разговор нужен еще больше чем мне, — заявил он.
Я понял в чем дело: никто из нас не хотел подступать к теме создания гомоидов прежде, чем станет ясно, чтo именно известно другому. Ситуация становилась патовой.
— Хорошо, я сам угадаю. Вы прочитали опубликованное в «Секторе Фаониссимо» письмо некоего Джона Смита, в котором тот утверждает, что будто бы созданы некие человекоподобные существа, назовем их гомоидами, и вы прилетели на Оркус, чтобы разыскать этого Смита и поговорить с ним лично. Я прав?
— А разве вы не за этим сюда прибыли? Ах, простите, я забыл, что сам вас сюда вызвал…
— Не ерничайте — я же перестал, — попросил я вполне миролюбиво.
— Ладно, больше не буду, — согласился он, — скажите, только серьезно, сами-то вы верите в этих, как вы их назвали, гомоидов?
— Я верю только фактам.
Мое неудачное заявление очень повеселило Абметова:
— Я читал ваши статьи… не похоже, чтобы вы верили фактам. Скорее уж — слухам…
— Покупай на слухах, продавай на новостях — кажется так говорят у вас на Земле?
— Да, что-то в этом роде, — он рассмеялся, — в конце концов, слухи — это те же факты, только непроверенные. Но на вопрос вы не ответили.
— Не очень-то я в них верю, но проверить никогда не мешает — в этом и заключается моя работа. А вы верите в гомоидов?
— Буду с вами откровенен. Я тоже в них не верю.
Теперь настал мой черед рассмеяться:
— Забавная ситуация сложилась: два скептика прилетели за тридевять земель только для того, чтобы сообщить друг другу о том, что оба они не верят какому-то Джону Смиту. Абсурдно, не правда ли?
— Согласен. Поэтому возьмем в качестве основной гипотезы, что оба мы не то чтоб слишком верим, но и окончательно не отвергаем… Идет? — с улыбкой предложил Абметов
— Идет! В таком случае, мы должны подозревать, что у гипотетических гомоидов есть гипотетический создатель. Какие у вас версии на этот счет?
— А у вас?
— Вы меня пригласили, а не я вас, поэтому, вам первому и отвечать.
— Логично, — признал Абметов, — но вот, что любопытно: вы заинтересовались работами по моделированию человеческого разума раньше, чем появилось письмо Джона Смита. Только не спрашивайте меня, откуда я это узнал.
— Не буду, хотя стоило бы спросить. Объяснение тому простое: я журналист, и мое дело интересоваться всякой такой ерундой.
— Не такая уж и ерунда, — возразил Абметов, — очень даже не ерунда. Многие, на этой, как вы сказали, ерунде, сломали голову…
— Кто например? — быстро спросил я, — уж не Франакеберг ли, с которым вы встречались двадцать пять лет назад на конференции по фундаментальной антропологии?
Конечно, не стоило мне раньше времени хвастать своею осведомленностью, но в тот момент я не видел другого способа его разговорить. Абметов воспринял вопрос неожиданно хладнокровно:
— Хм, вам многое известно, — усмехнулся он, — давно это было, я и забыл уже.
— Франкенберг там выступал? Или вы не помните?
— Отчего же, помню… Да, он выступал.
— И о чем он говорил?
— Вам так это важно? Нет, мы лучше вот как сделаем: я вам расскажу все что знаю о Франкенберге, а вы, взамен, расскажете мне о Джоне Смите, — предложил Абметов.
Отличная сделка, подумал я и решительно согласился:
— По рукам!
— И еще одна маленькая просьба: поскольку это не интервью, то не надо меня записывать.
Просьба была не такой уж и маленькой, но я ее выполнил.
— Отлично, — обрадовался Абметов, не подозревая как подло я собираюсь его надуть с Джоном Смитом. — Речь на той конференции шла о множественности моделей рефлексирующего разума. Вы с ними знакомы? Ну хотя бы в общих чертах?
— С одной моделью, пожалуй знаком… Именно что в общих чертах, — неуверенно ответил я, силясь припомнить то, что наговорил мне Стас.
— Очевидно, вы говорите о модели человеческого мышления — модель Лефевра. Тогда вы, должно быть, помните, что Лефевр основывает свою модель на ряде аксиом и постулатов. Изменив одну или несколько аксиом, мы получаем другую модель и, даже, много моделей. Ситуация, как в геометрии. Отказавшись или изменив некоторые из аксиом Эвклида, мы получаем новую геометрию, которая описывает совсем другие природные процессы. Первоначальную, «человеческую» модель рефлексирущего разума в научной литературе называют «стабильной».
— Могу предположить, что все остальные называются «нестабильными», — догадался я.
— Да, вы абсолютно правы, — согласился Абметов, — сама идея множественности сомнению не подвергалась, но вот ее практическое воплощение… Франкенбергу тогда здорово досталось от оппонентов.
— В чем заключались их возражения?
— В том, что все модели, отличные от человеческой, действительно нестабильны.
— То есть, что — они описываю нестабильную личность? — я старался переводить абметовскую терминологию на человеческий язык, — иными словами, если бы подобную модель удалось реализовать, то в результате получился бы психически ненормальный субъект, — добавил я, вспомнив, что говорил Типс о Джоне Брауне.
Абметов едва сдержал улыбку — он понял, что имеет дело с дилетантом.
— Ненормальным кого угодно назвать можно. Психически нормального человека представить себе труднее, чем ненормального. Поэтому, я бы воздержался от подобных оценок.
— Тогда поясните, что вы имеете в виду под «нестабильностью».
— В классической бинарной модели мыслящему субъекту предлагается сделать выбор между двумя сценариями поведения. Что именно он выберет — мы не знаем, но мы можем говорить, с какой вероятностью он выберет тот или иной сценарий. Вероятность — это просто число — ничего больше. Число, являющееся решением некого уравнения. У того уравнения, что описывает человеческое мышление, решение одно единственное. Теперь, представьте себе, что у уравнения оказалось не одно решение, а два. Если бы личность, чье мышление соответствует такому уравнению, существовала — она долго бы не прожила. Тем более, не может существовать общество, состоящее из таких личностей.
— Под обществом вы подразумеваете в виду внеземную цивилизацию?
— Ее самую. Вопрос стоял именно так: могут ли существовать цивилизации разумных существ с иной, отличной от человеческой, формой мышления.
— Ну ладно, уравнения уравнениями — оставим их пока в стороне… Кстати, а что будет, если у того уравнения вовсе нет решений?
— Такие модели даже Франкенберг в расчет не принимал, — развел руками Абметов, — пришлось бы конструировать субъекта из антивещества.
Честно говоря, этого замечания я не понял — наверное, это все же была шутка. Я спросил:
— Почему вы сказали, что личность, соответствующая нестабильной модели, долго бы не прожила?
Оговорка Абметова меня поразила. Умирающий гомоид из пещер Южного Мыса, самоубийца Джон Браун — в один миг они вновь встали перед моими глазами.
— Да это я так, фигурально выразился.
Я настаивал:
— Ну а все таки… Представьте на минуту, что удалось создать существо, мыслящее не так, как мы, но в чем-то похожего на нас — гомоида, одним словом. Что бы оно из себя представляло? Только, прошу вас, без уравнений, пожалуйста…
— Наиболее близкий аналог нестабильности, это, так называемый, синдром раздвоения личности у человека. Точнее говоря, такой синдром — это защитная, компенсирующая реакция человеческого организма на воздействие окружающей среды. Или наоборот, на отсутствие привычного нам воздействия. Например, если вас или меня надолго изолировать от общества — в сурдокамере или еще где-нибудь — то рано или поздно, вы начнете говорить сам с собой, у вас могут появиться галлюцинации — вам будет казаться, что рядом есть кто-то еще. В случае же выдуманного вами искусственного существа-гомоида, никакого внешнего воздействия и не нужно — существо будет само на себя воздействовать, пока его сознание не распадется на две отдельные личности — по одной на каждое решение уравнения. Или же сработает механизм самооторжения…
— Иначе говоря, существо покончит жизнь самоубийством — вы это имели в виду, когда говорили, что нестабильная личность не смогла бы жить?
— Да, примерно это я и имел в виду.
— Но почему?
— На этот вопрос не так просто ответить. То есть ответить-то просто, но вам, вероятно, будет трудно понять…
Прежде чем перестать понимать, я подвел промежуточный итог:
— Хорошо, пока остановимся. Итак, согласно теории, гомоиды страдали бы раздвоением личности. Но это еще не доказывает невозможность их создания — ну страдали бы и страдали… Люди же живут как-то… Кроме как проблем с раздвоением личности, что еще можно ожидать от гомоидов? Иначе говоря, какие еще возражения в адрес Франкенберга звучали на той конференции?
— Да, безусловно, возражений было хоть отбавляй. Но чтобы изложить их мне придется немного углубиться в теорию. Без, уравнений, знаете ли, никак… Вы готовы?
— Ничего, потерплю, — без энтузиазма пообещал я ему.
— Отлично. В таком случае зададимся вопросом: кого мы вообще считаем мыслящим или разумным существом?
— Я бы сказал, себе подобных. По индукции, понимаете? Во-первых, я считаю разумным себя. Вы мыслите и ведете себя более-менее так же как я, следовательно, по всей вероятности, вы тоже — разумный. Если вы назовете кого-то разумным, я поверю вам на слово — и разумных существ разом станет больше. Ну и так далее…
Абметов улыбнулся:
— А что если я считаю свою собаку разумным существом?
В комнату неожиданно вошла Татьяна — что-то ей срочно понадобилось. Она слышала вопрос Абметова и поспешила его успокоить:
— Если вы только про одну собаку так думаете, то вам не о чем беспокоиться — со всяким бывает…
— Вот-вот, — поддакнул я, — главное, чтобы ваша собака всех остальных собак не считала разумными. И потом, если вы считаете собаку разумным существом, то, тем самым, вы даете мне повод усомниться в вашей собственной разумности.
Не знаю, что уж там Татьяна подумала, но посмотрела она на нас, как на двух идиотов:
— Ну и проблемки вы тут решаете…, — она пожала плечами и вернулась в спальню.
Абметов принялся разъяснять:
— Для науки такой метод не подходит — метод простого перечисления или индукции. Требуется более общее определение, хотя, согласен, предпочитая общность, мы жертвуем точностью. В общечеловеческом смысле, разумен тот, кто способен посмотреть на себя со стороны. Внутри себя мы имеем не только образ внешнего, по отношению к нам самим, мира, но и образ самих себя. Наше внутреннее "Я" смотрит на нас со стороны. Можно задаться вопросом, а способно ли внутреннее "Я" посмотреть на себя со стороны? По всей вероятности, способно, но для этого нужно еще одно "Я". Это уже будет третье "Я". Ограничимся пока тремя "Я". Таким образом, первое "Я" взаимодействует со вторым, второе — с третьим. Во всех существующих моделях, взаимодействие одного "Я" с другим описывается системой уравнений, не будем уточнять каких — сейчас это не важно. Важно, что система уравнений для обоих пар "Я" должна быть одной и той же. В противном случае, мыслящее существо не сможет правильно оценивать самого себя.
— Но я встречал добрую сотню людей, которые неправильно оценивали себя, и что с того?
— Это всего лишь ваше субъективное мнение. Мыслящее существо должно само иметь возможность всякий раз убеждаться, что оно имеет о себе правильное представление. Уясняете, в чем разница? Не вы должны оценивать насколько другой человек адекватен, а, в первую очередь, он должен правильно оценивать свое мнение о самом себе. Природа так и задумала, чтобы человек не нуждался во внешнем наблюдателе или, выражаясь вашим языком, «оценщике». Безусловно, природный механизм тонок, и, если он разлаживается, то человек перестает давать себе отчет в своих действиях. Но это — исключение, а не правило. В большинстве случаев люди способны анализировать свои ошибки, потому что понимают, что они, то есть ошибки — это их собственные ошибки. Такой анализ возможен, поскольку есть связь, есть единство между поведением модели человека внутри себя и реальным поведением человека. Мозг сопоставляет внутреннюю картину и внешнюю — это и есть рефлексия.
Абметов даже вскочил — так он разволновался.
— Успокойтесь, доктор, мне все ясно, — заверил я его, — вы меня убедили, системы уравнений должны быть одинаковы и точка. А у Франкенберга они выходили неодинаковыми?
— Неодинаковыми, — подтвердил он и посмотрел мне в глаза. Он старался определить, понял ли я его объяснение или только притворяюсь. Я же почти не притворялся.
— Хорошо, а чем эта неодинаковость чревата? Два решения уравнения вместо одного — это что-то вроде раздвоения личности. А как интерпретировать неодинаковость уравнений?
— Синдром дереализации вас устраивает?
Я присвистнул. Меня даже раздвоение личности не устраивало.
— Ничего себе — раздвоенная личность и каждая — шизофреник. Это же не лечится!
— Вы правы — не лечится, — кивнул он.
— И вы утверждаете, что у нестабильного сознания присутствуют оба синдрома сразу — и раздвоение личности и дереализация?
Абметов замялся.
— Нет, не обязательно оба. Что-нибудь одно — это точно.
— Уже легче, — обрадовался я.
Абметов снова уселся в кресло, положил руки на колени, точно древнеегипетское изваяние, и поджал губы. Так он ждал новых каверзных вопросов. Я сказал:
— Смотрите, вот мы только что доказали, что не только какие-то там выдуманные гомоиды, но и вполне обычные люди могут вести себя так, как предсказывает нестабильная модель — и дереализация, и раздвоение личности встречаются и у людей. Правда, мы таких людей считаем больными, но мы же не считаем, что они перестали быть мыслящими существами! Почему же тогда антропологи убеждены, что теория Франкенберга не может быть воплощена в жизнь. Почему его оппоненты говорили, что нестабильные модели нереализуемы практически?
Абметов ответил не сразу.
— Понимаете ли в чем дело… Вести себя так, как предсказано нестабильной моделью — это не тоже самое, что реализовать такую модель. Психические отклонения у людей — это всего лишь отклонения, а не общее правило. У двух разных болезней могут быть одинаковые внешние симптомы, но лечить-то их нужно по-разному. Поэтому, ваша аналогия с человеком не совсем удачна. Теперь, о том, что говорили оппоненты. Знаете, природа во— первых, требует простоты. А во-вторых — долговременности или, иначе говоря, стабильности. Простота может быть принесена в жертву стабильности. Очевидный пример тому — человек. Стабильная модель рефлексирующего разума и проще нестабильных моделей, и она УЖЕ более-менее успешно реализована в человеке. Заметьте, никто не говорит, что эта модель полностью человека исчерпывает. Я, так же, согласен с тем, что человек несовершенен, как впрочем, и весь наш мир. Если допустить существование иерархии мыслящих существ и если предположить, что человек занимает лишь некоторую ступень в этой иерархии, причем, не самую высокую, то из этого еще не следует, что те, кто стоят выше, на нас совсем не похожи. В том смысле, что следующая ступень не обязательно должна отвергать предыдущую. К чему природе испытывать остальные модели, если даже при поверхностном рассмотрении они никуда не годны…
— Вы все про природу да про природу, — перебил я Абметова, — речь-то идет об искусственных существах, о гомоидах!
— Нельзя создать то, что не предусмотрено самой природой, — отрезал он, — вам нравится квадрат больше чем эллипс — ради бога, но планеты летать по квадрату вы не заставите. Так и тут — слепить Голема из глины всякий сможет, но чтоб вдохнут в него жизнь — одной пентаграммой не обойдешься!
— Какой такой пентаграммой? — спросил я и подумал, только бы он про Адама Кадмона не вспомнил.
— "Шем ха фораш", что означает «истинное имя Бога». Так в свое время оживляли големов-гомоидов.
Что-то уж больно он разнервничался. Я продолжал его донимать:
— Очень кстати вы вспомнили о Големе. Помниться за завтраком вы рассказывали прелюбопытную теорию, о том как легенды превращаются в быль. Так вот вам еще один пример: Франкенберг воплотил в жизнь легенду о Големе.
— За големов и биороботы сойдут, — огрызнулся Абметов, — вы либо и впрямь не понимаете, либо не хотите понять: все что ни делает человек, все несет печать его, человеческого, способа мышления. Чтобы создать субъекта мыслящего по-другому нужно быть, по меньшей мере, Господом Богом. Мало того, нужно весь существующий мир переделать так, чтобы само существование этого субъекта стало возможным. Как в примере с планетами — чтобы заставить одну единственную планету летать по квадрату, необходимо всю Вселенную перестроить по новым законам.
Ну вот, думаю, и Господа Бога приплел.
— Вы хотите сказать, что существование гомоидов противоречит законам физики. И каким же, позвольте спросить?
— Второму началу термодинамики, если угодно! — выпалил он не задумываясь. Опять врет, подумал я.
Из-за двери в спальню выглянула испуганная Татьяна.
— Вы еще не подрались? Может вас обедом покормить, а то вы друг друга сожрете скоро.
— Не думаю, что это своевременная идея, — сухо заметил Абметов. Он вдруг превратился в этакого обиженного педанта.
— Закажем в номер, — отозвался я.
Не вовремя Татьяна вмешалась — мне почти удалось вывести его из себя. Хорошо испытанный на Шефе способ общения — сначала довести собеседника до белого каления, а потом внимательно выслушать все, что он на самом деле о тебе и об всем на свете думает — результата не дал. Татьяна заказала обед и включила телевизор. Уходить она больше не собиралась.
— Продолжайте, продолжайте, я не слушаю, — сказала она, глядя в экран. Реклама «Глобального Страхового Общества» прорывалась и здесь: «Если вы застрахованы у нашего конкурента, то мы застрахуем вас от его банкротства», — обещали с экрана.
Абметов вспомнил о сделке:
— Теперь ваша очередь рассказывать. Кто такой этот ваш Джон Смит?
Ни слова ни говоря я протянул ему выдуманный мною самим адрес.
— И это все? — возмутился Абметов, — по этому адресу человека найти невозможно.
Я пожал плечами:
— Это все что у меня есть, — и это была чистая правда. Абметов, однако, не поверил:
— Вы сами-то пробовали связаться с ним по этому адресу.
— Бесполезно, — уклончиво ответил я.
Абметов задумался.
— Знаете что, — выдал он минуты через три, — сдается мне, никакого Джона Смита нет и в помине.
Если бы, сказав это, он посмотрел мне в глаза, то, безусловно, прочитал бы в них утвердительный ответ, поскольку, чтобы врать систематически мне необходимо вдохновение, а вдохновения в ту минуту у меня как раз и не было. К счастью, Абметов смотрел не на меня, а куда-то в пол. Пока он кончиком ботинка приглаживал ворсинки на ковре, у меня возникла одна идея.
— Вот, взгляните, — я протянул ему крылатую пирамидку.
— Что это? — удивился Абметов и осторожно, двумя пальцами взял у меня пирамидку.
— Да я, собственно, у вас хотел спросить. Пирамидка какая-то…
— А, трисптерос показываешь! — воскликнула Татьяна не оборачиваясь. Она все-таки подслушивала.
— Не знаю, никогда не видел ничего подобного, — равнодушно ответил Абметов, — откуда она у вас?
— Купил в сувенирной лавке, внизу, рядом с вестибюлем, — ответил я не совсем точно.
— Я не заметил там никаких сувенирных лавок, — возразил Абметов.
— Я не точно выразился, я имел в виду застекленную галерею, что примыкает к вестибюлю гостиницы. Там магазинчики всякие, лавочки… Торгуют всяким таким барахлом, — пояснил я.
— Мне кажется, это должно быть что-то древнеегипетское, — сказала Татьяна, продолжая смотреть в экран.
— Возможно-возможно, — не очень уверенно произнес Абметов, — но — не берусь судить.
Он без особого интереса рассматривал загадочный сувенир и вернул мне его как-то слишком поспешно.
— Здесь много всякой ерунды продается, — пожал он плечами, — надо же как-то подогревать интерес у публики. Вот и выдумывают мифические артефакты мифических сапиенсов.
— Это верно, — согласилась Татьяна, — где ж наш заказ-то — через десять минут обещали прислать, — вспомнила она об обеде.
Абметов тоже как будто о чем-то вспомнил, несколько раз взглянул на часы и начал прощаться:
— К сожалению, не могу составить вам компанию — уже поздно, а мне надо еще кое-что успеть, — пробормотал он. Убедить его в том, что дела могут подождать нам не удалось, и он ушел.
— Куда это он так сорвался? — спросила Татьяна, — это его дело как-то связано с вашим разговором?
— Не знаю, — для меня поведение Абметова тоже было непонятным, — а что ты там ляпнула про трис… птерос? — я не был уверен, что правильно повторил небрежно брошенное Татьяной слово.
— Ну да, «трисптерос» — означает «трехкрылый». Раз мы решили, что все артефакты имеют земное происхождение, то и название должно быть каким-нибудь земным. Я и придумала — «трисптерос». Тебе не нравится?
Я сказал, что очень даже нравится. Татьяна взяла пирамидку и принялась ее разглядывать.
— Думаешь, мы что-то пропустили? — спросил я.
— Посмотри на нижнюю грань — на ту, которая без крыла, — и она повернула пирамидку так, чтобы я мог разглядеть.
— Видишь, тут посередине такое круглое пятнышко, — она ткнула ногтем в середину основания пирамидки.
Я пригляделся. Татьяна была права — в центре свободной грани темнело едва заметное пятно величиною с косточку от вишни. На ощупь, пятно было гладким, в то время как остальная поверхность пирамидки — слегка шершавой.
— Что если на месте пятна находилось четвертое крыло, но его отломали, — предположил я.
— Вряд ли, — возразила она, — След облома должен быть более светлым и более шершавым. Смотри, каждое из трех крыльев направлено вдоль средней линии соответствующей грани, причем, направление одно и тоже — от вершины к основанию. Четвертое крыло нарушило бы симметрию, следовательно его там никогда и не было, — заключила Татьяна. Она была очень довольна своею безупречной логикой и принялась развивать мысль: — Нам этот след как бы намекает, что на его месте должно быть еще одно крыло. Таким образом мастер, изготовивший пирамидку, передает нам свое послание… — она остановилась, увидев, что я едва сдерживаю смех. — Не понимаю, что в этом смешного?
— Татьяна, ты тысячу раз права — у тех, кто изготавливает все эти сувениры очень плохо с воображением.
— Я согласна, но при чем тут пирамидка?
— Потом расскажу.
— Опять потом? — возмутилась она.
— Опять… — подтвердил я, — а сейчас мне срочно нужно побеседовать с торговцем. Погоди, я мигом…
5
До которого часа работают сувенирные лавки я не знал, но оставалась некоторая надежда на то, что они все еще открыты. В вестибюле толпились приезжих, но в самой галереи не было ни души. Свет в витринах погасили и их стекла из прозрачных обратились в зеркальные. Теперь все магазины выглядели на одно лицо. Та лавочка, где мы с Татьяной приобрели пирамидку, располагалась в самом конце галереи — там, где галерея сворачивала налево, чтобы, посредством недлинного перехода, соединиться с параллельной галереей. Я прошел до конца первой галереи и остановился перед двумя зеркальными дверьми. Я размышлял, которая из них мне нужна, что, впрочем, было уже не так важно, поскольку на обеих дверях висела табличка «закрыто», а свет — и там, и там — полностью погашен. Внезапно мое отражение в одной из дверей как будто раздвоилось — рядом с моим лицом показалось еще одно. Я резко обернулся, но позади меня никого не было. Не исключено, что оригинал второго отражения находился в переходе, соединяющем параллельные галереи, и, пока я оборачивался, он успел свернуть налево — во вторую галерею. Я бросился в переход, пробежал до второй галереи, свернул в нее, но и там никого не оказалось — вторая галерея была такой же пустой, как и первая. Я обозвал себя идиотом. Разумеется, неизвестное лицо находилось внутри сувенирной лавки — ведь зеркальное стекло двери становится прозрачным, если предметы за ним освещены. Тот, кто проник в лавку, невзначай осветил свое лицо фонарем и, поэтому, я его заметил. Вернулся назад — к двери, заглянул во внутрь, но, кроме собственного отражения, я ничего не видел. Дернул дверь изо всех сил. Удивительно, но она поддалась. Прошел внутрь. Это была та самая сувенирная лавка, где мне продали пирамидку. Сквозь зеркальную витрину сюда проникало достаточно света, чтобы разглядеть помещение и чтобы не споткнуться о распластавшееся возле прилавка тело. В нем я узнал продавца, всучившего мне пирамидку.
Убедившись, что я уже ничем не могу ему помочь, я прошел вглубь помещения — до задней двери, что вела непосредственно на улицу. Честно говоря, я не ожидал, что такая дверь имеется, иначе бы поспешил к ней с самого начала. Но теперь время было упущено — тот, кого я видел, — был уже далеко. Мне совсем не улыбалось оказаться замешанным в убийстве, да еще, вдобавок, не у себя на Фаоне, и я вернулся в отель, но уже через улицу. Так, по крайней мере вдвое меньше людей смогут заявить, что видели меня у входа в галерею.
Когда я вошел в номер, Татьяна дожевывала свою порцию — обед привезли через минуту после моего ухода.
— Что случилось, объясни, — нетерпеливо потребовала она.
Я рассказал. Татьяна представляла себе отпуск на Оркусе несколько иначе, поэтому известие о смерти торговца пирамидками расстроило ее больше, чем меня.
— И что теперь будет? — вопрос прозвучал так, будто следующей жертвой должна стать она или, в лучшем случае, я.
Я пожал плечами, поскольку ответить мне было нечего — события проносились не давая мне даже опомниться. Я зашел в ванную и посмотрел в зеркало. Попытался вспомнить лицо в зеркальной двери. Мужчина точно не был Абметовым — его бороду я бы заметил. Может она у него накладная? Нет, то лицо было помоложе… Но — не моим — если, конечно, Ларсон не приложил тут руку.
Засигналил интерком. Звонившим оказался Бруц.
— Полагаю, вам будет интересно узнать, — начал он неторопливо, — только что обнаружен труп мужчины. Убитый — владелец сувенирной лавки — одной из тех, где вы сегодня побывали.
Я, как мог, изобразил удивление:
— Что за чертовщина! Вы думаете это как-то связано с нападением на госпожу Бланцетти?
— Мы сейчас опрашиваем свидетелей на случай, если они кого-нибудь видели. К вам можно подняться?
Раньше он не спрашивал разрешения.
— Да, заходите, — ответил я и посмотрел на заставленный тарелками стол, — минут через десять, если не трудно.
Бруц ответил, что ему не трудно зайти и через час.
— Быстро принимайся за мою порцию и за абметовскую, — велел я Татьяне.
— Я не справлюсь, — искренне ответила она.
— В таком случае, поднимайся к Абметову и, если он в номере, скажи ему, что до…, — я посмотрел на часы, — до девяти часов он был у нас и с аппетитом отобедал, или отужинал — это уже на его выбор.
— Ты что тут раскомандовался? — совсем не кстати возмутилась Татьяна, — зачем к нему идти, когда можно позвонить.
Тут она была права. Я набрал номер Абметова, а когда он ответил, тут же повесил трубку.
— Все нормально — он у себя. Иди скорее, а то Бруц сейчас уже будет здесь, — поторопил я Татьяну. Спорить с ней мне было некогда.
До нее, наконец, дошло, чего именно я добиваюсь. Она помчалась к Абметову, а я стал в спешке поедать две порции сразу. Вернулась она через пять минут и с обнадеживающим известием, что, мол, Абметов все понял и скажет все как нужно. Тут явился Бруц. Мы пригласили его к столу, но он отказался.
— Что-нибудь уже известно? — спросил я.
— Пока ничего особенного. Кое-кто из свидетелей видел, как в половине девятого в галерею прошел мужчина… примерно ваших лет, — добавил Бруц и подозрительно посмотрел на меня, — полиция сейчас его разыскивает.
— Как он выглядел? — снова спросил я.
— Описание схоже с описанием того типа, что напал на Бланцетти, — как ловко Бруц дал понять, что подозреваемый похож на меня!
Я беззаботно ответил:
— Я вас понял — я прекрасно помню, какое описание дала госпожа Бланцетти, но я весь вечер находился в номере.
— Заметьте, я вас об этом не спрашивал, — вкрадчиво произнес Бруц, — но раз уж вы сами завели речь об алиби, то скажите, кто, кроме вашей подруги, может это подтвердить, — и он указал на третий столовый прибор.
— Доктор Абметов вас устраивает?
— Хм, так я и думал, — ответил Бруц, не поясняя, почему он так думал.
— Вы, очевидно, будете составлять список подходящих под описание постояльцев? — предположил я. Бруц кивнул.
— Вы позволите мне на него взглянуть?
— А вам-то зачем? — удивился он.
— Чтобы убедиться в том, что и кроме меня есть кого подозревать…
— Ну, зачем же вы так…, — расстроился он, — никто вас не подозревает. Кстати, полиции я о вас ничего не сказал.
А вот за это большое спасибо, подумал я.
— Как он был убит?
— Похоже, опять цефалошокер, — коротко ответил Бруц.
Возникла неловкая пауза.
— У вас все? — полюбопытствовала Татьяна.
— Пожалуй, что все, — нерешительно ответил Бруц и отступил к дверям. —Да, чуть не забыл, — сказал он, стоя уже в дверях, — просто так… на будущее, учтите — Абметов — левша, — и он указал на третий столовый прибор, — до встречи!
Он ушел, оставив нас сидеть с разинутыми ртами. Давненько я так не прокалывался. Зато я теперь знаю другую, не менее важную вещь, — у Абметова нет алиби на время с восьми до девяти часов, — иначе, с чего это ему так быстро соглашаться на мое предложение. Был и другой вариант: Абметов встречался с кем-то, кого он предпочел бы не афишировать.
6
Первым, кто заявился к нам с утра был Абметов. Он пребывал в крайнем возбуждении:
— Вы уже слыхали новость?! — воскликнул он. В его глазах мелькнула догадка, — а, я кажется понимаю…Так вот для чего Татьяна попросила меня составить вам компанию не до восьми, а до девяти! Но, мой друг, — его тон внезапно стал развязным, — как вы-то в это дело вляпались? Неужели госпожа Бланцетти снова утверждает, что видела вас недалеко от места преступления? Впрочем, я догадываюсь — вы купили крылатую пирамидку именно у того, убитого, торговца. Но ведь этого абсолютно недостаточно для того, чтобы вас подозревать! Так в чем же тогда дело?
— Дело в том, что я видел убийцу.
Он еще больше растерялся:
— Вы хотите сказать, что оказались на месте преступления в тот самый момент, когда… Но как вас угораздило? Или нет, не надо, не говорите — меня это не касается. Но я всецело на вашей стороне. Если нужно, я кому угодно скажу, что мы все время были вместе… В смысле, в то время, когда произошло убийство.
— А вас самих с восьми до девяти никто не видел? — спросил я.
— Никто, кто мог бы опровергнуть наше с вами алиби, — уверенно ответил Абметов, — но расскажите же, как выглядел убийца? И как все произошло?
— Как все произошло я сказать не могу, поскольку видел очень мало, — признался я, — мужчина, скорее худой, чем полный — вот, пожалуй и все. Человек, если это действительно человек, — добавил я понизив голос, — мог быть тем, кто напал на Бланцетти. Большего я, к сожалению, сказать не могу.
Взгляд у Абметова потускнел — без сомнения, он обратил внимание на мою оговорку.
— Так вы считаете, что… ОНИ где-то рядом, — он сделал упор на слове «они», — но почему? Почему вы думаете, что убийство торговца — их рук дело?
Связь: пирамидка — крылатый треугольник — Номура была известна только мне, и с Абметовым я делиться не собирался. Татьяна, в недоумении слушавшая наш диалог, наконец не выдержала:
— Да объясните же наконец, кто это ОНИ и кого это ИХ! Я же имею право знать!
— Имеешь, имеешь, но — не все сразу, — сказал я ей, — подожди нас в спальне, — и я вытолкал ее за дверь. Отправить бы ее первым же рейсом обратно на Фаон, но, при ее упрямстве, отправлять пришлось бы багажом.
— Мы теперь оба связаны с этим делом, вы должны мне доверять, — настаивал Абметов, окончательно перейдя на шепот.
— Прошу вас, не настаивайте, — убеждал я его, — для вас же безопаснее ничего о них не знать. Тем более, что вы в гомоидов не верите.
— Поверю, если мне будут предоставлены доказательства, — возразил он.
— Считайте, что труп торговца и есть то самое доказательство!
— Ладно, как вам будет угодно… — сказал он обиженно и добавил: — Хотя, право, странно — я помогаю вам, как могу, а вы относитесь ко мне с таким недоверием.
В этом он был прав — доверять ему у меня не было никаких оснований. Но я стал убеждать его в обратном:
— Напротив, я вам доверяю. В противном случае я бы не стал вам говорить о связи между убийством торговца и гомоидами. А гомоидов, судя по всему, вы знаете лучше меня…
Абметов в знак протеста замахал руками. Я поправился:
— Теоретически, конечно, только теоретически. Поэтому мне необходима ваша помощь. Если считать, что убийца — гомоид, то какие у него могли быть мотивы, как вы думаете?
Абметов пожал плечами:
— Вы же сами их обозвали психами. А какие мотивы у психа? Никаких. Тяга к насилию может быть запрограммирована в самой модели.
Тут я припомнил кое-что из того, что говорил мне Стас.
— Вы говорите о той вероятности, с которой нестабильная модель выбирает зло? Эта вероятность может быть не такой, как у людей?
— Безусловно. Вы знаете, что такое сублимационное число?
Это я знал:
— Золотое сечение!
— Для модели Лефевра сублимационное число действительно равно золотому сечению, то есть, приблизительно, шестидесяти двум процентам — или ноль целых, шестьдесят две сотых — если мерить в долях от единицы. Я спросил, понимаете ли вы смысл этого числа?
— Грубо говоря, сублимационное число равно той вероятности, с которой мы выбираем добро. Я где-то слышал, что те, кому добро и зло одинаково безразличны, любят все квадратное, — попробовал я сострить.
— Ну разве что грубо говоря… — моя шутка его не тронула, — в какой-то мере это число, действительно, выражает нашу способность различать добро и зло, наше, пусть и не абсолютное, предпочтение первого — второму. Но я бы сказал иначе: сублимационное число показывает, насколько человек тянется к добру, предпочитая его в тех ситуациях, когда лично человеку безразлично, что выбрать — добро или зло. У нестабильных моделей с одним решением уравнения сублимационное число может оказаться совсем иным, чем у нас с вами. Если решения два, то одно или оба числа могут отличаться от золотого сечения.
— Другими словами, есть модели злые, а есть — добрые. У «злых» моделей сублимационное число меньше человеческого, у «добрых» — больше. Отчего природа не создала человека с сублимационным числом равным единице и или, хотя бы, близким к единице?
— Есть одна сложность. Чем ближе сублимационное число к одной второй, тем легче мыслящий организм приспосабливается к окружающей среде. Организм более гибок, более податлив, он в большей степени расположен к, так называемому, естественному отбору. С другой стороны, чем ближе сублимационное число к нулю или единице — то есть — к крайним точкам, тем целеустремленнее мыслящий организм. Франкенберг выдвинул интересную гипотезу. Он считал, что, если сообщество мыслящих существ достигло той стадии, когда борьба за существование престает быть главной заботой такого сообщества, то близость сублимационного числа к единице может ускорить процесс интеллектуального и нравственного развития. Мое возражение этой гипотезе чисто терминологическое — слова «нравственный» или «интеллектуальный» придумал человек с вполне определенным, раз и навсегда, фиксированным сублимационным числом — ноль целых, шестьдесят две сотых. Субъект с другим сублимационным числом должен оперировать совсем другими категориями. Природа не предусмотрела способа менять число в процессе эволюции — это факт. Она выбрала, в буквальном смысле этого слова, «золотую середину» — за что ей и спасибо! — поблагодарил он, напоследок, природу.
Общие рассуждения о сублимационных числах мне мало что давали. Я спросил:
— Применительно к нашему делу, какую роль мог бы сыграть синдром раздвоения личности?
— Вполне обычную: если у вас будет подозреваемый, и, если в момент допроса он будет другой личностью, нежели та, что совершила преступление, то никой детектор лжи вам не поможет. Перед вами будет абсолютно невиновный субъект.
Я возразил:
— Может как раз наоборот, «невиновная» личность донесет на «виновную», например, чтобы окончательно снять с себя подозрения.
— Такое иногда происходит, но для этого необходимо, чтобы «невиновная» личность знала о том, что свершила «виновная». Тогда она, то есть «невиновная» личность, может оказаться заинтересованной в том, чтобы остановить «виновную». Но не забывайте, если вы правы относительно гомоидов, то мы имеем дело не с людьми, а … непонятно с кем. И все наши «людские» рассуждения могут оказаться ошибочными.
— В этом я с вами согласен — все может обернуться не так, как мы предполагаем, — на этом избитом трюизме я прервал беседу, потому что появился Бруц.
Застав Абметова у меня, он почему-то обрадовался.
— А, и господин Абметов здесь, отлично, отлично. Я вас все утро разыскиваю, — он довольно потирал руки, — как спалось после вчерашнего? — это он уже мне.
— Спасибо, нормально, — ответил я.
— И зачем же, позвольте спросить, вы меня разыскиваете? — недовольным голосом спросил Абметов.
Вместо ответа Бруц ехидно так посмотрел на нас и, подмигнув мне, сказал:
— Понимаю, понимаю, беседуете значит…, — и обращаясь теперь уже к Абметову, — вы не оставите нас одних, господин доктор.
Бесцеремонность Бруца несколько шокировала Абметова, однако он безропотно подчинился. Поведение начальника службы безопасности со вчерашнего дня претерпело некоторое изменение. Бруц решил, что теперь он с нами заодно и поэтому сможет из всей ситуации извлечь для себя какую-нибудь выгоду. Едва Абметов вышел, он заверил меня:
— Как я и обещал, полиции, я не сказал ни слова. А где госпожа Татьяна?
— Здесь я, здесь. Где ж мне еще быть! — Татьяна вышла в гостиную. Как я и предполагал, Татьяна все это время подслушивала за дверью.
— Доброе утро, как спалось?
— Вашими молитвами, — огрызнулась Татьяна, — кого еще убили?
— Больше, к счастью, никого. Я зашел, чтобы вместе с вашим… эээ… другом, составить план, который помог бы нам поймать убийцу.
Не иначе, как назначили вознагражденье.
— Даже так! — Татьяна не поверила своим ушам.
— Именно, именно так, — еще раз заверил ее Бруц.
Интересно, сколько, подумал я. Спросил:
— Причину смерти установили?
— Как я и сказал вчера — в него разрядили цефалошокер. Следует заключить, что госпоже Бланцетти еще повезло.
— Из лавки было что-нибудь украдено?
— Не похоже… Но, как вы понимаете, точно установить это невозможно. Лавку обыскивали, вернее, ее начали обыскивать, но кто-то спугнул преступников. Либо они нашли, что искали и не стали обыскивать дальше.
— И что вы теперь намерены делать?
— Признаться, я хотел сперва выслушать вас, — с легким сарказмом ответил Бруц.
— Ну мой-то план прост: составить список всех одиноких молодых мужчин, проживающих в вашем отеле. Надеюсь, их будет не так много…
— Вот в этом вы ошибаетесь, — перебил он меня, — в отеле проживает около двух тысяч человек, что, согласитесь, немало. А сейчас здесь полно студентов на каникулах. Многие из них любят путешествовать в одиночку. Паломники, опять же…
— Какие еще паломники? — спросили мы с Татьяной хором.
— Извините, это наш местный жаргон. Так мы называем тех, кто приезжает на Оркус специально, чтобы испытать воздействие его поля.
— А для чего им это? — поинтересовалась Татьяна. Бруц не слишком уверенно ответил:
— Эти люди, то есть паломники, считают, что ложные воспоминания — это язык, на котором с нами общаются прежние жители Оркуса, гоморкусы, то есть. По мнению паломников, гоморкусы конструируют свои сообщения из того, чем наполнены наши головы. Если вдуматься, то это самый простой способ для передачи сообщений — как бы без посредника — прямо сразу в голову…
— Какая чушь! — возмутилась Татьяна, — ну и что гоморкусы им насообщали?
— Паломники не любят об этом распространяться. И вообще, они люди замкнутые — варятся в своих воспоминаниях. В отеле их полным полно. Кстати, вы никогда не сможете отличить паломника от обыкновенного туриста.
— Хорошо, проверяйте всех — и студентов, и паломников.
— Но таких людей десятки, если не сотни, — возразил Бруц.
— В отеле установлены телекамеры? — спросил я.
— Только в вестибюле — там где проходят регистрацию.
— Прекрасно! В таком случае, у нас есть изображения всех подозреваемых — ведь день и время прибытия каждого постояльца вы фиксируете.
— Фиксировать то фиксируем, но, как я уже сказал, подозреваемых может быть очень много. К тому же, убийца не обязательно постоялец отеля — чего, кстати, я всячески желаю.
— Нам нужно с чего-то начинать. Все записи, возможно, и не понадобятся. Первым делом проверьте тех, кто въехал в отель в течение последней недели, потом посмотрим. И вот еще что… Вы, наверное, сумеете это сделать. Попробуйте установить, не остановился ли в каком-либо оркусовском отеле некий Фил Шлаффер. И тоже самое касательно Лесли Джонса, если, конечно, получится, — попросил я.
— Ладно, как скажете, — нехотя согласился Бруц.
— Тогда это пока все, — сказал я важно — будто он был моим подчиненным. Бруц так не считал:
— Все-таки вы чего-то не договариваете…
— Вам это только кажется, — убежденно ответил я, — а теперь, извините, нас ждут дела.
— О да, я понимаю, — усмехнулся Бруц, — конечно, конечно, не смею вас больше отвлекать своими пустяками, — он театрально раскланялся и вышел из номера.
— Фигляр! — обругала его Татьяна, — чего, спрашивается, он тут паясничает.
— Он умнее чем мы думаем, вот и старается нам это доказать, — заключил я.
7
До самого обеда мы из номера никуда не выходили. За обедом Абметов (мы его специально пригласили) вел себя подозрительно непринужденно, много шутил и даже сказал пару тостов за скорейшую поимку гомоидов, но говорил он о них весьма иносказательно. Мы с Татьяной морщились, скрипели зубами и едва сдерживались, чтобы ему не нагрубить. Суп из хобота молодого птероркуса окончательно испортил мне и настроение и аппетит.
— Бедный птероркус, — вздохнула Татьяна, помешивая ложкой тонко нарезанные колечки. В ответ Абметов принялся перечислять достоинства Земной кухни. Он дошел до сравнительного анализа птероркуса и курицы, когда я не выдержал и сказал ему:
— Вы вчера так и не доказали, что нестабильные сапиенсы должны сами себя уничтожать. Если они кого и уничтожают, то только людей.
Абметов поперхнулся виртуальной куриной грудкой в земляничном соусе, способ приготовления которого он как раз описывал.
— Ой, мама, — тихо воскликнула Татьяна и отодвинула тарелку с супом.
— Как я вас понимаю, — сказал Абметов, посмотрев на Татьяну. Затем ответил мне: — Что ж, постараюсь объяснить попонятнее. Вы конечно же слышали, как в том или ином случае, люди говорят о себе: «Во мне боролось два человека». Человек обуреваем одновременно многими страстями, часто — противоположными, поэтому формальная логика, подразумевающая закон исключения третьего, не приспособлена для описания сознания — даже человеческого, не говоря уж о нестабильном сознании. Конечно, когда речь идет о людях, мы говорим о «борьбе двух личностей в одной» лишь в переносном смысле, поскольку одно из амбивалентных чувств подавляется другим.
— Все это общие слова. Я вас не о том спросил, — напомнил я ему, боясь, что после паузы, он снова вспомнит о курице.
— Я как раз подхожу к нашей теме. В киберпсихологии, синдром раздвоения личности называют горизонтальной нестабильностью, дереализацию — вертикальной. В сочетании, они приводят к тому, что сознание субъекта полностью распадается на противоборствующие подсознания. Внутри нестабильного сознания ведется настоящая борьба не на жизнь, а насмерть. И тут уже напрашивается другая аналогия. Когда-то давно, в хирургии использовали пересадку тканей от одного человека к другому. Если нужной совместимости вдруг не оказывалось, то организм-хозяин начинал отторгать пересаженные ткани. Организм боролся с чужеродным телом, не зная, что такая борьба приведет и к его собственной гибели. Похожая вещь происходит внутри нестабильного сознания. Части сознания воюют друг с другом не ведая, что исход сражения — гибель организма-носителя сознания. Поэтому-то я и сказал с самого начала, что нестабильная личность обречена на самоуничтожение.
Абметов замолчал. Пока он говорил Татьяна напряженно теребила салфетку.
— Пожалуй, я поднимусь в номер, — вяло сказала она.
— Вам плохо? — спросил он.
— Вы так скачете с куриц на отторжение органов и сознаний, что мне лучше оставить вас вдвоем, — едко ответила Татьяна и вышла из ресторана. Делового разговора у нас с доктором так и не получилось. Быстро попрощавшись, я вышел вслед за ней.
Через два часа после обеда я вновь встретился с Бруцем. Новостей от полиции не было никаких, зато он сказал, что за полдня успел составить список подозреваемых из числа постояльцев отеля. Отдать список мне на руки он не захотел, и мы пошли к нему в контору. Расположена она была где-то под вестибюлем, на минус первом этаже. Прежде чем в попасть в контору, мы довольно долго плутали по коридорам, миновали кухню ресторана, несколько складских помещений, технический центр и еще какое-то мрачное помещение, назначение которого осталось для меня загадкой.
— Ну вы и забрались! — оценил я степень конспирации службы безопасности Оркус-Отеля.
— А вы что хотели? Ведь нам приходится контролировать не только то, что происходит наверху, — Бруц поднял указательный палец, — но и технические службы. Нечасто, но иногда опасность исходит и оттуда, — улыбнулся он.
— То есть вы оберегаете постояльцев не только друг от друга, но и от себя, — предположил я.
— Можно сказать и так, — не стал спорить Бруц, — я начну с того, что оказалось проще всего. Ваш Фил Шлаффер в настоящий момент проживает в нашем отеле.
— Что?! — изумился я, — и давно?
— Недавно. Он въехал в отель только вчера днем.
— Какой у него номер?
— Восемьсот пятидесятый. А почему он вас так интересует?
— Рад бы сказать, да не могу, — признался я, — а Лесли Джонс, вы его разыскали?
— Вы слишком много хотите, — проворчал Бруц, — нет, его я пока не нашел.
— Тогда взгляните в список постояльцев еще разок и посмотрите, нет ли там такого Йохана.
Бруц посмотрел на меня с нескрываемой досадой и полез в компьютер. Йохан среди постояльцев отеля не значился.
— Ну и черт с ним, — сказал я, — давайте займемся списком подозреваемых.
Бруц открыл список.
— Вот смотрите…
Список оказался не таким большим, как мы предполагали накануне — всего пятнадцать человек.
— Это только те, кто въехал начиная с первого сентября, — пояснил Бруц, когда я сказал ему, что пятнадцать человек — это ерунда.
Под описание более-менее подходило четверо.
— Ну-с, с кого начнем? — спросил Бруц после того, как я закончил просматривать список и соответствующие видеозаписи. Последние мало чем помогли — входящие в вестибюль постояльцы были видны только в профиль, поскольку единственная камера находилась у боковой стены в самом конце вестибюля и оттуда пыталась ухватить все помещение разом.
— Скажите, а нас с Татьяной камера записала?
— Конечно. Хотите взглянуть?
— Да. Хочу посмотреть получились ли мы похожими на себя.
Бруц отыскал запись. На ней было видно, как мы с Татьяной подошли к портье, и как она объясняет мне, какой именно номер ей нужен. Вдалеке маячила женщина в панаме с вуалеткой.
— Неужели Бланцетти? — удивился я.
— Она самая, — подтвердил Бруц, — она зарегистрировалась сразу после вас.
Я чуть не задохнулся от возмущения:
— Так какого черта, вы обвинили меня в том, что я специально выбрал номер по соседству с Бланцетти?! — заорал я на детектива.
— На всякий случай, — спокойно ответил он, — мне было интересно, почему вы взяли именно двести пятьдесят четвертый.
— Ладно, проехали… — я остыл на редкость быстро, — давайте сюда ваших подозреваемых.
— Они ваши, а не мои, — парировал Бруц, — кто вам больше нравится?
— Вот этот, — я ткнул пальцем в молодого красавчика-блондина с бледным, немного женственным лицом. Я не случайно его выбрал. На следующий день после прилета на Оркус, когда, выходя из лифта, я чуть не сшиб Бланцетти, именно он стоял у нее за спиной. Он тогда еще выставил вперед руки, чтобы подхватить ее, если она вдруг вздумает упасть. И у него была возможность подслушать Татьянины нумерологические выкладки. Я его хорошо запомнил, хотя доверяться собственной памяти, находясь на Оркусе, — дело весьма рискованное, что бы там ни говорили про антиоркусовские пилюли. И, наконец, по формальным признакам, молодой человек вполне мог сойти за гомоида.
— Себастьян Дидо. Написано, что прибыл с Земли, но мы такие вещи не проверяем, — пояснил Бруц.
Ничего, проверим, думал я. Только вот появление Шлаффера несколько портило картину. Человек либо скрывается, либо — нет. Зачем ему вздумалось переезжать в тот же отель, где поселился я? Я сказал:
— Хорошо бы узнать планы Шлаффера и Дидо. Возможно, они заказали какие-нибудь экскурсии или билеты в другой район Оркуса. Если они арендовали флаер, то не мешало бы просмотреть карту маршрутов.
— Вы слишком многого хотите! — остановил меня Бруц, — насчет экскурсий я, пожалуй, узнаю, но в их флаерах я не полезу, да и вам не советую. Это дело полиции, я такими вещами не занимаюсь. Если у вас есть по-настоящему серьезный повод их подозревать, то почему бы вам не навести на них полицию?
— Вы правы, пусть полиция пусть занимается своими делами, а мы займемся своими, — предложение подключить полицию звучало, по меньшей мере, глупо. Лично мне хватало и Виттенгера. — Узнайте про Шлаффера и Джонса, что сможете, а все остальное я беру на себя.
После долгих уговоров, Бруц согласился дать мне список всех пятнадцати вместе с их изображениями.
— Не перенапрягитесь, — мрачно посоветовал Бруц, — мой помощник укажет вам дорогу назад.
Это было очень любезно с его стороны, поскольку дорогу я не запомнил.
В этот день я решил никуда из отеля не отлучаться — на случай, если Бруцу удастся разузнать что-нибудь интересное о Дидо и Шлаффере. Я отправил Яне список пятнадцати подозреваемых с просьбой проверить каждого досконально. Теоретически, я мог бы справиться и сам, но Отдел располагал значительно большими техническими возможностями, да и времени на подобную рутину у меня не было. Покончив с инструкциями для Яны, я направился к Филу Шлафферу. Звонить ему не стал — мне хотелось сделать ему приятный сюрприз. В номере Шлаффера не оказалось. Я успокоил себя тем, что устроить Шлафферу сюрприз — не самоцель, вышел на террасу восьмого этажа и позвонил ему на комлог. Как ни странно, Шлаффер ответил сразу, но только в аудиорежиме.
— Привет, узнаете? — спросил я его, предварительно выключив изображение. Тот меня узнал:
— А, господин Ильинский, вы откуда? Неужели тоже…
Его голос заглушила музыка и мне показалось, что в ушах у меня двоится — музыка доносилась и из комлога и откуда-то снизу. Я подошел к краю террасы, посмотрел вниз. Веселая танцевальная мелодия лилась со стороны большого открытого ресторана на террасе первого этажа, рядом с бассейном. Где-то среди пестрой толпы отдыхающих прятался мой собеседник.
— Сейчас я к вам спущусь, только никуда не убегайте, а то не люблю я бегать в такой духоте, — стараясь перекричать музыку, посоветовал я ему.
— Ну что вы! — воскликнул Шлаффер, — я сам терпеть не могу здешнего климата. Спускайтесь, я вас жду, — радушно пригласил он.
Найти ресторан оказалось не так-то просто. Со стороны вестибюля музыки слышно не было, и мне пришлось долго объяснять дежурившему на входе швейцару, какой именно ресторан и бассейн мне нужны. И то и другое находилось на южной стороне отеля, в то время как главный вход (где находился я) — на западной. Из двух возможных маршрутов — сквозь здание и по улице — вокруг него, я, почему-то выбрал, последний. Улицы, в полном смысле этого слова, здесь не было — площадка перед входом плавно переходила в джунгли. Те, в свою очередь, подходили вплотную к зданию отеля как раз между южным и западным секторами. Проходя через джунгли, узкая бетонная дорожка вела от одного сектора к другому.
Двести метров джунглей я преодолел бегом. Дыхание тропического леса действует на меня как слезоточивый газ, поэтому я подходил к ресторану весь в слезах, с тяжелой отдышкой и поминутно чихая. Шлаффер заметил меня первым и вежливо приподнялся, дав мне разглядеть его в толпе. За двухместным столиком он сидел один. Я уселся напротив него.
— Аллергия? — сочувственно спросил Шлаффер.
— Нет, просто, я ненавижу Оркус до слез, — сквозь кашель отозвался я. Над террасой гулял легкий ветерок и он понемногу приводил меня в чувство.
— Могу порекомендовать вам одно очень хорошее средство, — предложил он.
— Мне помогает только скафандр, — сказал я, чем тут же вызвал еще больший прилив сочувствия:
— Здесь есть хорошие врачи, они персонально подберут вам необходимые антиаллергены.
— Так и сделаю, — согласился я.
— Вы не любите Оркус, но, тем не менее, приехали сюда. Я позволю себе сделать вывод: вы здесь находитесь по делам, — вкрадчиво произнес Шлаффер.
Несмотря на недельное пребывание на планете-куроте, заведующий доминантными структурами нисколько не загорел. Хуже того, Шлаффер похудел и осунулся. Однако одет он был как завзятый отпускник — белые шорты, цветастая рубашка навыпуск. Рядом на столе лежала большая белая панама — попроще чем у Бланцетти и, разумеется, без вуалетки.
— Вашему умению мыслить логически можно только позавидовать. Вы, насколько я слышал, здесь в командировке?
Шлаффер парировал:
— Хм, выходит, уши для вас то же, что для меня — логика.
— Уши дешевле в эксплуатации…
— …но и изнашиваются скорее, — уточнил он.
И мы оба засмеялись — каждый над своею шуткой.
— Вы один здесь сидите? — спросил я.
— Как видите, — с грустью ответил он и мечтательно посмотрел на трех изящных юных созданий в открытых, почти невидимых, купальниках. Вожделенные создания плескались в бассейне и не обращали на бедного одинокого Шлаффера ровно никакого внимания — именно так я понял его тяжелый вздох.
— Какие здесь неряшливые официанты, — заметил я, — взяли и усадили вас за грязный столик, — и я провел пальцем по округлому мокрому следу — такому, какие обычно оставляют стаканы. Но подходящего стакана на столе не было.
Шлаффер на секунду напрягся, потом выдохнул:
— Вот-вот, все против меня!
— Джона Смита ищите? — резко спросил я.
— Какого Смита? — испуганно переспросил он.
Страх на его лице был столь естественен и неподделен, что я никак не мог вообразить заведующего доминантными структурами в роли серийного убийцы. Шлаффер не тянул даже на сообщника.
— Ну и бог с ним, — добродушно сказал я, — тогда вот вам другой вопрос. Когда я бежал к вам через джунгли, я чуть не наступил на такую тонкую змейку — она переползала через дорожку. Змейка была завязана странным узлом… Вы ведь биолог и должны знать, кто ее так завязал?
Про змейку я не выдумывал — я едва сумел через нее перескочить. Не знаю, какого вопроса ожидал Шлаффер, но теперь он вздохнул с облегчением.
— Я не специалист по змеям, тем более оркусовским, но вы, вероятно, говорите о местном узелковом удавчике. Для людей он абсолютно безопасен, но вот шнырька задушил бы в два счета.
— Чем задушил, узлом?
— Конечно — а чем же еще? Удавчики завязываются в узел во время охоты и то, что вы его увидели завязанным — это большая удача. Обычные удавы душат жертву обвиваясь кольцами вокруг шеи, поэтому все то время, что удав душит жертву, он вынужден преодолевать ее сопротивление — ведь жертва стремится вырваться. А оркусовский удавчик завязывается в такой узел, который изнутри невозможно ни растянуть, ни развязать. Иначе говоря, у узла нет обратного хода. И удавчик, поймав жертву, может затягивать смертельную петлю так долго, как это ему необходимо: подтянет — передохнет, снова подтянет — снова передохнет. Очень эффективная тактика, знаете ли…
— А как он потом развязывается? — удивился я.
— Когда жертва погибает, ее мышцы расслабляются, соответственно, удавчик тоже полностью расслабляет мышцы и узел повисает более-менее свободно, поэтому его можно без труда развязать.
— Но мне рассказывали, будто удавчик может развязаться только после того, как высосет из жертвы все соки, и она похудеет.
— Это не более чем легенда, — заверил меня Шлаффер, — или вы на что-то намекаете?
— Ничуть, — возразил я, — а зачем вам Смит? — спросил я без паузы.
— А вам он зачем? — огрызнулся тот.
— Шлаффер, вы странный како-то сегодня — то трясетесь, как лист на ветру, то грубите… Что с вами? Что вас тревожит, скажите мне и мы вместе придумаем как вам помочь, — ласково посоветовал я ему.
Мои увещевания не возымели никакого действия.
— Вы сами все прекрасно понимаете, — заявил Шлаффер, — и сколько бы вы не пытались меня запугать, у вас ничего не выйдет. Вы подлый шантажист — вот вы кто! — прошипел он.
«Вот это новость!» — подумал я и постарался сообразить — хорошо это для меня или плохо — то, что Шлаффер считает меня шантажистом. Понять бы, чем я его так зацепил.
Запищал комлог — Бруц спешил с докладом.
— Ладно, потом договорим, — сказал я Шлафферу и добавил, — десяти тысяч с меня хватит.
Я похлопал его по плечу — мол, иди собирай деньги, и пересел за другой столик, чтобы поговорить с Бруцем без помех. Шлаффера как ветром сдуло. Детектив сообщил, что на завтра Дидо запланировал экскурсию к Большой Воронке. Прогулочный флаер отправится от отеля к воронке ровно в десять утра. Я попросил Бруца найти мне пару свободных мест. Бруц поинтересовался:
— Одно для вас — это понятно, а для кого второе — для вашей спутницы?
— Нет, на этот раз спутница будет сидеть дома. Закажите место для Бланцетти.
— Я понимаю, вы хотите их свести — преступника и жертву, как в кино, — усмехнулся Бруц, — а Бланцетти согласится?
— Надеюсь, что да. Кино — не кино, но либо она его вспомнит, либо Дидо чем-нибудь себя выдаст. Или, скажем, она сделает вид, что вспомнила и попробует его… пошантажировать, что ли… — обвинения Шлаффера навели меня на эту мысль.
— Рискованная затея, — усомнился Бруц, — но если Бланцетти не будет против, то попробуйте. С местами во флаере проблем не будет.
Переговорив с Бруцем, я послал задание для Яны: либо найти, либо придумать, чем могли бы себя скомпрометировать Шлаффер и Симонян. По дороге к своему номеру, я постучал в дверь Бланцетти, но там никто не откликнулся.
Татьяна сидела перед телевизором. На экране мелькали шикарные пляжи океанского побережья, и Татьяна, с каменным лицом, смотрела на загорелых курортников, резвящихся в газированном молоке — так на оркусовских пляжах выглядит океанский прибой.
— Ты неудачно выбрала программу, — сказал я ей.
— А ты — профессию, — ответила Татьяна.
— Сходила бы в бассейн окунулась…
— Уже сходила, и уже окунулась.
— Не помогло?
— Отстань.
Я отстал. Затем, позвонил через интерком в номер Бланцетти и оставил ей сообщение с просьбой связаться со мной, как можно скорее.
— Зачем она тебе понадобилась? — спросила Татьяна. Я честно ответил:
— По делу.
Татьяна фыркнула и снова уставилась в экран. Я включил гостиничный компьютер и до одиннадцати вечера просматривал местные и секторные новости. Попутно, используя свои каналы, я пытался установить местонахождение Лесли Джонса, но — безуспешно. В одиннадцать я позвонил Абметову и изложил ему план действий. В содействии Абметова особой нужды не было, но все же лучше держать доктора в поле зрения. Абметов одобрил план и согласился составить мне компанию. На вопрос, поедет ли с нами Татьяна, я ответил «нет». Абметов ответил, что ему жаль, а Татьяна сказала «гы-гы, я так и знала». Мелькнула мысль, а не взять ли с собой Шлаффера — до полного, что называется, комплекта, но Шлаффер на звонки не отвечал, да, к тому же, без Йохана и Джонса полного комплекта все равно не получится.
Через двадцать минут после беседы с Абметовым позвонила Бланцетти. Испросив разрешения зайти к ней по очень важному делу я встал и, под испепеляющим взглядом Татьяны, направился к дверям.
— Сегодня ждать? — спросила она.
Ничего не ответив, я вышел в коридор и постучал в соседний, двести пятьдесят третий номер. Меня тут же впустили.
— Извините, я ужасно обгорела на солнце и теперь вот мажу себя всякими спасительными средствами, — сказала мне Бланцетти. Лицо у нее было густо намазано каким-то белым кремом. — Располагайтесь.
Она вернулась к зеркалу на туалетном столике в спальне. Слава богу, не попросила растереть ей спину.
— Почему вы сняли номер по соседству с нами? — спросил я.
— А почему вы думаете, что это не была просто случайность, — возразила она продолжая растирать крем.
— Если хотите, можно уточнить у портье.
— Хорошо, вы меня поймали, — улыбнулась она. В сочетании с кремом улыбка у нее получилась так себе. —Я путешествую в одиночестве и мне хотелось, чтобы поблизости был настоящий мужчина! — слишком откровенно призналась Бланцетти. Приятно, черт побери, когда о тебе так говорят, подумал я.
— Но вы же видели, что я не один.
— Конечно видела. Но я не подразумевала ничего такого, что могло бы вызвать гнев вашей подруги. Вы, мужчины, все понимаете, только в одном, вполне определенном, смысле, — обиняками и несколько многословно, она свела на нет свой же комплимент. — Это и есть ваше срочное дело? — поинтересовалась она.
— Нет, это так — к слову. На самом деле, я пришел поговорить о вчерашнем нападении.
— Нападении? — переспросила она, — но я уже рассказала все что знаю.
— Хорошо, если так… Скажите, вы свободны завтра в первой половине дня?
— Это зависит от того, что вы собираетесь предложить мне взамен, — ответила она. Кокетство или ирония — недоумевал я. И сказал, что, к сожалению, ничего предложить ей не могу. Но Бланцетти была противоположного мнения: «Как, встретиться лицом к лицу с убийцей?! Это же здорово!», —воскликнула она. Мы досконально обговорили все детали: что она должна говорить в том или ином случае, как ей себя вести, если ситуация выйдет из под контроля, ну и тому подобные вещи. Кое-что мы даже прорепетировали.
Когда я вернулся в свой номер Татьяна уже спала — или делала вид.
8
Пока мы завтракали, Татьяна беспрестанно канючила, напрашиваясь на поездку к Большой Воронке.
— Мне страшно оставаться тут одной, — сказала она, после того, как я в очередной раз отказал.
— Я тебе бластер оставлю, хочешь, — предложил я.
— Зачем он мне? — удивилась она.
— Для храбрости.
— Для храбрости у меня есть только ты! — видя, что мольбами она ничего добьется, Татьяна перешла на грубую лесть.
Признав ее безусловную правоту, я твердо отказал и теперь уже окончательно.
— Ну и ладно, — неожиданно успокоилась Татьяна и включила телевизор.
По пути к посадочной площадке, я зашел в гостиничный медпункт. В персонально подобранные антиаллергены верилось с трудом, поэтому, вопреки совету Шлаффера, я собирался поглотить все, чем располагала оркусовская медицина. И если бы не врач, то мне бы это вполне удалось. Врач остановил меня на шестой таблетке, сделал инъекцию и велел носить с собой специальную маску-респиратор.
Полтора десятка экскурсантов топтались на северной посадочной площадке. Я планировал познакомиться с Себастьяном Дидо как бы случайно и даже придумал несколько способов, как это сделать, не вызвав подозрений. Но когда я поднялся на площадку, Абметов и Дидо были уже там и уже о чем-то спорили. Абметов представил меня как своего давнего знакомого, и мы с Дидо пожали друг другу руки. Пожатие у него оказалось вялым, да и сам Дидо выглядел флегматичным студентом-отличником. «Паломник» — шепнул мне на ухо Абметов и повернулся к Дидо.
— Так вы говорите оркусознание… хм… и у кого, позвольте спросить, об этом можно прочитать?
— У профессора Воробейского, — Дидо с трудом выговорил фамилию.
— Ха, да с такой фамилией я бы и под анекдотом не подписался! — высокомерно воскликнул Абметов. Можно подумать, у самого фамилия — ну по крайней мере — Орловский. Дидо оскорбился и замолчал. Поэтому я так и не узнал, о чем они спорили.
Бланцетти пришла в числе последних. Для прогулки по джунглям она выбрала бежевый комбинезон из тонкой плотной ткани, панама была подобрана в тон комбинезону; вуалетка отсутствовала, поскольку она не сочеталась с ярко-розовыми солнцезащитными очками. По плану, я с Бланцетти незнаком, но ничто не мешало нам познакомиться по дороге. Места во флаере заранее не распределили, и все уселись кто куда хотел. Абметову место тоже нашлось. Он и Дидо сели прямо передо мной. Бланцетти — справа, в другом ряду. В пять минут одиннадцатого мы взлетели.
Я впервые увидел Оркус-Отель с высоты птичьего полета и при свете дня. Архитекторы так и задумали — рассматривать отель следовало не с земли, а сверху. Взлетно-посадочные ладони оказались не протянутыми как за подаянием, а поднятыми в приветственном жесте: коренной гоморкус, голову которого изображал отель, делал ручкой (точнее — ручками) кому-то в небесах. Из-за избытка пальм гоморкус выглядел порядком заросшим и нецивилизованным. Два больших симметрично расположенных бассейна служили гоморкусу глазами. Россыпь бассейнов размерами поменьше изображала, должно быть, слезы умиления.
Флаер пересек узкую полоску джунглей, что отделяла Оркус-Отель от океанского побережья, повернул на запад и около получаса летел над бескрайними песчаными пляжами — теми самыми, куда так влекло Татьяну. Затем мы повернули на юг — в глубь континента. Флаер проглатывал километры сотня за сотней; поднимавшаяся над влажными джунглями сизая дымка испарений обтекала корпус как океанская волна, давая ощущение скорости, хотя, на самом деле, флаер летел не слишком быстро, дабы пассажиры могли хорошенько рассмотреть пока еще не захламленные человеком, знаменитые оркусовские джунгли.
Воронка возникла прямо под нами так неожиданно, что на мгновение мне показалось, будто разверзлась чья-то пасть и флаер вот-вот в нее затянет — для этого хозяину пасти достаточно было лишь легонечко вдохнуть. Флаер шел вниз по спирали, мы опустились примерно на два километра ниже края воронки и на полтора километра ниже уровня океана. Из чрева воронки поднимался горячий смог и дальнейший спуск ничего бы нового не дал — видимость и так была уже нулевой. Мы вынырнули — сначала из смога, потом — из воронки и пошли на посадку.
Посадочную площадку «Большая Воронка» построили в полукилометре от воронки. Первым, кого я увидел выходя из флаера была Татьяна — рот до ушей и еще машет мне руками, будто я только ее и ждал. И сразу стало понятно, что держали в голове архитекторы Оркус-Отеля, когда проектировали посадочные ладони. «Супруга — всюду за ним следит», — услышал я за спиной приглушенный голос Абметова — так он объяснил Дидо внезапное появление Татьяны. Пока я устраивал ей выговор, Абметов познакомился с Бланцетти (я ее предупредил, что тот в курсе операции) и подвел ее к Дидо. Дидо пожал ей руку, но более никак не отреагировал. Кроме нашего флаера, возле воронки стояло с десяток похожих прогулочных судов. Еще два флаера сели сразу после нас, и толпы туристов заполонили всю посадочную площадку. Я боялся, как бы не потерять Дидо в этой суматохе. Наконец, толпа кое-как сорганизовалась и длинной вереницей двинулась к смотровой площадке.
Природа позаботилась о том, чтобы подойти к краю воронки и заглянуть в нее (а это — мечта любого, кто прилетает на Оркусе) было невозможно. До странности беззвучная, непролазная оркусовская сельва (по научному — orcuselvas) делала невидимыми крутые склоны и не давала подойти к манящей бездне ближе, чем на двести-триста метров. Для любителей острых ощущений соорудили специальную смотровую площадку, своего рода неширокий помост длиною с полкилометра. Он начинался сразу за посадочной площадкой, проходил над зарослями, а затем, двухсотметровой стрелой, нависал над самой пропастью.
Когда толпа схлынула, я заметил, что Дидо, Абметов и Бланцетти стоят все на том же месте — рядом с флаером. Абметов оживленно жестикулировал, показывая то в сторону смотровой площадки, то в сторону джунглей. Нахохлившийся Дидо мотал головой из стороны в сторону, видимо, от чего-то отказываясь. Мы с Татьяной подошли.
— Чего не поделили? — спросила Татьяна.
Абметов ответил, что, мол, вот — смотрите сами — Дидо наотрез отказывается идти вместе со всеми на смотровую площадку.
— Детские забавы, — сквозь зубы процедил Дидо.
— Он хочет отыскать проход прямо к воронке, — пояснил Абметов.
— Зачем вам туда понадобилось? — спросила Татьяна у Дидо. Ее непосредственность меня когда-нибудь доконает. Дидо вспылил:
— Я уже говорил господину Абметову, не заставляйте меня повторять. И вам меня не отговорить!
Видимо, Абметов порядком его достал, если он так резко отреагировал на вполне безобидный вопрос. Я посмотрел на Абметова. Тот развел руками и будто оправдываясь, забормотал:
— Я его отговаривал. Подумать только — голос вселенной из преисподней. Себастьян считает, что поле Оркуса претерпевает в воронках определенные физические изменения, концентрируется особым образом и воспоминания приобретают смысл — как сообщения или послания.
У Абметова был вид врача, который сделал все возможное для спасения пациента и теперь умывает руки.
— Так со смотровой площадки вам же будет удобнее, — сказал я Себастьяну.
— Там слишком много людей, а мне нужна тишина.
— Хорошо, делайте как знаете, но я буду следовать за вами (Дидо дернулся, желая возразить), успокойтесь — мешать вам я не буду.
Стоило мне сказать это, как и все остальные тут же вызвались нас с Дидо сопровождать.
— Черт с вами, — сказал Дидо, — но только больше не приставайте с глупыми расспросами, — он повернулся и зашагал к воронке. Сделав шагов десять он, словно передумав, притормозил и украдкой оглянулся на Бланцетти. Заметив, что мы смотрим на него во все глаза, он зашагал дальше. Я посмотрел на Бланцетти, та в ответ отрицательно покачала головой.
Так мы и двигались — Дидо шел впереди, следом — мы с Абметовым, затем — Татьяна и Бланцетти. Поначалу идти было легко. По обе стороны от посадочной площадки оркусельву расчистили, когда строили помост, а новый лес еще не успел вырасти. Абметов возмущался по поводу трансцендентного оркусознания, но я его не слушал. Постепенно, мы углублялись в джунгли.
9
Склон воронки становился все круче. Под ноги я смотрел чаще чем по сторонам, поэтому, то и дело, терял из виду и Дидо, и всех остальных. В какой-то момент мне все это надоело, и я сказал, что если Дидо желает свернуть себе шею, то пусть делает это самостоятельно и без нашего участия. Если он и вправду — убийца, то туда ему и дорога. Абметов и Бланцетти меня поддержали, Татьяна, как всегда, воспротивилась. В ответ, я применил грубую силу. Дидо, не вняв нашим предостережениям, стал спускаться дальше. Абметов с Бланцетти сказали, что пойдут прогуляются вдоль границы расчищенного участка. Татьяна сопроводила удалявшуюся парочку ехидным взглядом, затем уселась на лысом холмике в двадцати шагах выше меня — по ее словам, оттуда открывался изумительный вид на Большую Воронку.
По поводу Дидо меня начали одолевать сомнения. С Бланцетти мы договорились так: если она узнает в нем своего обидчика, то, предупредив об этом меня, она должна сказать Дидо, что она его узнала и что подозревает его в убийстве торговца. Если же она его не узнает, то сказать все это ему она должна только по моему знаку. Был уже час дня, Бланцетти Дидо не узнала, знака я не подавал. Я нашел местечко посуше, убедился, что за мною никто, кроме Татьяны, не наблюдает и включил комлог. В запасе было еще три наиболее вероятных кандидата на роль гомоида-убийцы и одиннадцать менее вероятных. Один из трех, по имени Юджин Шварц, прибыл в отель за день до нашего прибытия. Но дело не в имени или фамилии. И не во внешности — она была ни чуть не подозрительней, чем у Дидо, особенно, учитывая, что на снимке Шварц был виден только в профиль.
Я обозвал себя идиотом, — нет, я был дважды идиот, поскольку еще два дня назад у меня на руках были все необходимые факты. Когда Бланцетти расспрашивали о нападении, она проговорилась, сказав, что живет в отеле уже два дня. В день нашего с ней знакомства, я не видел у нее никакого багажа — лишь дамская сумочка и ничего больше. А ведь мелькнула же мысль, когда проницательный Бруц заметил, как мы неловко разыграли алиби с Абметовым.
Я спросил Татьяну, куда делись Абметов с Бланцетти.
— По-моему, они пошли вниз по склону, — и Татьяна махнула рукой в сторону зарослей, немного дальше того места, где спускался Дидо.
— Сиди здесь, — приказал я ей, а сам бросился вниз по склону.
Я ошибался, думая, что оружие я всегда успею достать, и что пока в нем нет необходимости — лучше иметь руки свободными. Оркус — это не холодный Фаон и громоздкий бластер под легкой одеждой не спрячешь, поэтому я носил его в небольшом рюкзачке за спиной. Хватаясь руками за ветви, я сначала бежал, точнее — спрыгивал с кочки на кочку, а потом просто ехал на заднице по скользкой глинистой почве, обнажившейся после схода селевого оползня. Когда я доехал таким образом до узкой топкой площадки у самого края воронки, оружие доставать было поздно. Действие антиаллергенов подходило к концу, глаза начинали слезиться и, даже будь оружие в моих руках, я бы не смог попасть в цель и с двух шагов. Я еле разглядел Абметова — он был смертельно бледен, брюки и рубашка вымазаны грязью. Он попытался предупредить меня, издав какой-то нечленораздельный, хриплый звук.
— Стойте смирно и не дергайтесь, — раздался справа знакомый и одновременно незнакомый голос.
На моих глазах с Бланцетти происходила странная метаморфоза: сначала полетел в сторону парик, затем, быстрым движением она сорвала с лица полупрозрачную маску. Темно-синие глаза вдруг стали бесцветными и холодными. В руке она (или теперь уже — он) сжимала бластер, наподобие того, что лежал у меня в рюкзаке. Еще секунда, и Бланцетти окончательно превратилась в Шварца — гомоида, которого я назвал Блондином. От тяжелых испарений резь в глазах стала невыносимой, я тер их без устали и, наверное, походил на человека, который, завидев впервые гомоида, не верит свои глазам.
— Черт, я должен был сообразить… — вырвалось у меня.
— Вы правы, еще немного и эта дура выдала бы меня с головой, — усмехнулся гомоид.
— Кто вы, наконец, и что вам нужно? — взвизгнул фальцетом Абметов.
— Кто я — вы знаете. Поэтому вы оба сейчас умрете. Вопрос ровно один — с кого из вас начать! — небрежно бросил ему гомоид.
— Послушайте, Шварц…
— Не называйте меня так. Мое настоящее имя — Антрес, — прервал меня гомоид.
Странно, но я не чувствовал ни ненависти, ни страха — только безграничное удивление, будто оружие держало в руках не мыслящее существо, а компьютер, у которого внезапно отрасли конечности.
— Хорошо, Антрес так Антрес. Убить нас вы всегда успеете, но скажите, черт побери, зачем, зачем вы это делаете?! — мой голос сорвался на крик, — зачем вы уничтожаете всех направо и налево? В чем провинился ваш создатель, профессор Франкенберг? А Перк и его жена — чем они-то вам не угодили? А безобидный торговец?
— Ну, ну, — ухмыльнулся Шварц-Антрес, — не надо все валить в одну кучу. Торговца я не убивал, да и убийство Перка — не моя работа, хотя, если бы жена не выкинула его из окна, то мне самому пришлось бы сделать что-нибудь подобное. Кстати, а с чего вы взяли, что она попросту не покончила с собой?
Вопрос гомоида подарил мне еще одну минуту жизни. Я ответил:
— На экране ее компьютера остался текст «Я никого не убивала». Его написала Бланцетти, которой вы стали сразу после убийства Эммы Перк. Ей не хотелось отвечать за ваши преступления, она как бы отводила обвинения от себя и одновременно намекала на вас — свою вторую половину, свое второе "Я". Она помешала вам убить и ребенка — вы бы разделались и с ним, как с возможным свидетелем. Потом, все сочли бы, что помешавшаяся Эмма Перк убила сначала мужа, затем сына, и после этого ей уж ничего не оставалось, как покончить с собой.
— Да, все так и было, — согласился он, — Бланцетти все время норовила помешать мне исполнить мой замысел. Но я ее одолел, так же как и всех остальных и в первую очередь — Франкенберга!
— Не обольщайтесь, — перебил я его, — Франкенберг сам позволил вам себя убить — и я тому свидетель. Он сказал мне: «Всякий творец мечтает о том, чтобы его творения его пережили.» До меня тогда не дошло, что слова его надо понимать буквально: Франкенберг дает себя убить своему же детищу. Он знал, что и вы недолго проживете.
— Это мы еще посмотрим, — осклабился гомоид, — но раз уж у нас зашла речь о творцах и творениях, то, говорите, откуда вы узнали о проекте «Гномы»? Ведь все материалы о нашем происхождении я уничтожил.
— Считайте, что я узнал о гномах от Перка.
— Ну да, на Перка теперь можно все свалить… После того, как я разделаюсь с вами, надо будет еще раз просмотреть накопители. Но это — потом. Живые свидетели гораздо опаснее всяких там накопителей. А через несколько секунд я останусь единственным живым свидетелем и, одновременно, единственным удачным творением гениального Франкенберга. Не бойтесь, это не будет больно… — с этими словами он нацелил бластер на Абметова.
Гомоид сам предоставил мне возможность действовать.
— Подожди, — сказал я уже спокойнее, — ты ошибаешься, кроме тебя остался еще один гомоид.
— Вранье! — ответил он, но бластер опустил, — четвертый гомоид?! Не может быть!
— Может! Франкенберг создал четырех гомоидов — он сам мне так сказал.
— Он прав? — спросил гомоид у Абметова.
А ему-то откуда знать, подумал я. Абметов сообразил, что ему стоит подтвердить мои слова.
— Да, вас четверо, — дрожащим голосом ответил он. Гомоид не поверил:
— А доказательства у вас есть?
— Есть, — ответил я, стараясь из всех сил сохранить твердость в голосе, — доказательства у меня есть, но сначала ответьте, ради чего вы убиваете?!
— Вы либо глупы, либо делаете вид, что не понимаете: пока живы те, кто знает, кто я такой, покоя мне не будет. На что я могу надеяться, если даже наш создатель нас предал.
— Предал?! — поразился я, — но кому?
Теперь настал черед удивиться гомоиду:
— Так вы не знаете? Ах, ну да, вы ведь думаете, что это я убил торговца…
Выстрела я не слышал — просто правая нога гомоида вдруг разделилась на две части — все, что ниже колена осталось на земле, а гомоид продолжал стоять с изумлением наблюдая, как кровь хлещет из обрубка. Словно вспомнив о нас, он снова поднял бластер, но второй выстрел, более точный, чем первый, рассек ему грудь. Гомоид покачнулся и посмотрел мне в глаза. Внутри все оборвалось — с неимоверной тоской на меня смотрела Бланцетти — это был ее взгляд, и бледно-зеленый цвет глаз не смог бы меня обмануть. Шварц заставил ее страдать вместо себя. Силясь обрести равновесие, она оперлась на рассеченное колено; я замер в оцепенении, а когда бросился, чтобы поддержать ее, то место, где она стояла, уже опустело. Мы не видели, как она падала, и не слышали крика. Всполошенные падением тела, пять или шесть птероркусов кружили какое-то время над жерлом воронки, но вскоре успокоились и они.
— Бруц, кто вас учил так стрелять? — спросил я, когда начальник службы безопасности Оркус-Отеля сумел-таки выбраться из кустов.
— Честно говоря, я ожидал что-нибудь вроде «спасибо» или «какое счастье, что вы появились так вовремя», — спокойно ответил Бруц. Мою неблагодарность с лихвой восполнил Абметов. Говорить он был не в силах и, поэтому просто повис на шее у Бруца.
— Ладно, ладно, — успокаивал он Абметова, — все позади. Вы не ранены?
Абметов был цел и невредим, но, зато, в глубоком шоке.
— Кого это я ухлопал? — спросил Бруц у меня.
— Бланцетти, — коротко ответил я. Бруц поднял брови; я пояснил: — Некое лицо выдавало себя то за Бланцетти, то за Шварца — он, кстати, есть в списке пятнадцати подозреваемых. Но торговца сувенирами убил не он. И не она, если угодно.
Бруц выслушал, но ничего не понял. На принятие решения у него ушло не более полминуты:
— Надо отсюда уходить, — сказал он и вызвал флаер.
Через минуту подлетел флаер, мы кое-как загрузились и полетели к тому лысому холмику, где я оставил Татьяну.
— Дидо взяли? — спросил ее Бруц.
— Полиция все еще гоняется за ним по джунглям, — деловито ответила Татьяна. По всей вероятности, о том, что происходит, она была осведомлена гораздо лучше меня.
— Ну и черт с ними, Дидо — не наша забота, — ответил Бруц, — возвращаемся в отель.
— Стойте, — спохватилась Татьяна, — а Бланцетти? Куда вы ее дели?
Мы переглянулись — нужного ответа у нас не было.
— С ней все в порядке, — заверил ее Бруц.
10
Оказавшись у себя в номере, я почувствовал некоторое облегчение. Татьяна хлопотала над Абметовым, который, по-прежнему, был несколько не в себе от пережитого.
— Где вы так его укатали? — показывая на бледного Абметова, спросила Татьяна.
— Чуть было не сорвался в пропасть, — объяснил я ей.
Татьяна редко когда верит мне на слово.
— Это правда, господин Бруц? —спросила она.
Бруца осенило:
— А ведь и в самом деле, какая незадача вышла! Господин Абметов и госпожа Бланцетти, позабыв о всякой осторожности, спускались к Большой Воронке. Внезапно, Бланцетти потеряла равновесие, упала и стала сползать к самом обрыву. Господин Абметов бросился ей на помощь, но не только не помог — он сам едва избежал смерти. Господин Ильинский прибыл на место слишком поздно. Не говоря уже обо мне — меня там и вовсе, можно сказать, не было. Я все правильно излагаю?
— Нет, — возразил я, — все было не так. Бланцетти мы в глаза не видели с тех пор, как Дидо полез вниз по склону. Потом, мы с доктором прогулялись к краю воронки, он, и в самом деле, чуть не свалился в пропасть, но я его спас. Где была в то время Бланцетти, и где она сейчас — мы не имеем ни малейшего понятия.
— Не забывайте, там осталась ее нога, — простонал Абметов.
Теперь нехорошо стало Татьяне.
— Перестаньте меня пугать! Какая еще нога? Бланцетти оторвало ногу? А если она сорвалась в воронку, то почему вы не вызвали спасателей? Что тут происходит, в конце-то концов?!
Я стал ее успокаивать в том духе, что, мол, только злые дяди и тети пострадали, а за них и переживать нечего. А если она успокоится и даст нам время обмозговать все, как следует, то я непременно обо всем ей расскажу. Но — чуть позже.
— Ты уже в третий раз говоришь «позже», — сосчитала Татьяна.
— Ногу я скинул в воронку, — спокойно сказал Бруц, дождавшись пока я закончу увещевать Татьяну, — а следы крови смоет первый же тропический ливень. Но в любом случае — я ничего не видел и даже близко к тому месту не подходил. Хватит с вас того, что я вас спас.
— Кстати, как вы-то там очутились? — спросил я его.
— По чистой случайности. Знаете, сегодня утром я случайно зашел в номер Дидо вместе с горничной и обнаружил там несколько вещиц из той самой сувенирной лавки. Естественно, я вызвал полицию. Мы устроили облаву у Большой Воронки. Я нашел вас, а полиция, я надеюсь, нашла Дидо…
Было не совсем ясно, что из рассказа Бруца правда, а что — ложь.
— Теперь ваша очередь рассказывать, господа. Кем был тот тип, которого я подстрелил? Начните вы, господин Ильинский, — попросил он меня. Я изумился:
— Помилуйте, вы — подстрелили?! Да вас там и рядом-то не было. О чем, собственно, вы говорите?
— Да ладно вам… я же серьезно спрашиваю, — скривил физиономию Бруц.
— А я серьезно отвечаю. Один из постояльцев отеля выдавал себя то за мужчину по фамилии Шварц, то за женщину по фамилии Бланцетти. Очевидно, он решил, что мы его разоблачили и поэтому попытался нас с господином Абметовым убить. Вы нас спасли. За это можете просить у меня что угодно, кроме информации. Большего я вам сказать не могу, вы уж извините великодушно…
Бруц нехотя извинил.
— Хорошо, на сегодня с вас, пожалуй, хватит. Не покидайте отель не предупредив меня. А я пойду заявлю об исчезновении Бланцетти, — сказал он и ушел.
— Я все еще не верю, что это были они… — тихо прошептал Абметов.
— Что вам еще нужно, чтоб вы поверили? Хотите вы этого или нет, но Бланцетти была гомоидом.
— Когда вы догадались? — спросил он.
— Когда вы с Бланцетти пропали из виду — хотя, сказать по правде, уже давно располагал всем необходимым…
— Чем именно?
— Помните, я рассказывал вам про историю с ключом — как я помог Бланцетти открыть ее номер. Это произошло в день нашего с Татьяной приезда. Я еще тогда подумал, почему ее ключ сначала не подошел, но потом вдруг отпер замок без труда. Дело в том, что Бланцетти сперва дала мне ключ от другого номера, а я даже не взглянул на брелок! Ключ она перепутала случайно — я помню, как она тогда смутилась. Но она быстро нашлась и сумела незаметно для меня подменить ключи. Спрашивается, откуда у нее два ключа? После того, как вы рассказали мне о раздвоении личности у гомоидов, я просто обязан был догадаться…
— Вы слишком буквально понимаете синдром раздвоения личности, — перебил меня Абметов, — из него вовсе не следует, что человек с раздвоением личности обязан снимать два гостиничных номера.
— Мы имеем дело не с человеком, — возразил я, — вы сами сто раз мне об этом говорили. С другой стороны, мне нужно на чем-то основывать свои доводы, и я беру в качестве основы то, что нам известно о человеческой психике. На следующий день, то есть восьмого сентября, на Бланцетти нападают. Казалось бы, все выглядит вполне правдоподобно. Преступник слышал Татьянины россказни про сумму наших с вами номеров, и, зная, что вы остановились в четыреста тринадцатом, путем несложных вычислений пришел к выводу, что мы с Татьяной остановились в двести пятьдесят третьем — там где, в действительности, поселилась Бланцетти. Пока мы с вами завтракаем в ресторане, преступник решает обыскать наш номер. Перепутав номера, он вламывается к Бланцетти. Против нее он вынужден применить цефалошокер. Все сходится. Но вот, что мне тогда показалось странным. Когда Бланцетти беседовала с Бруцем, она все время прикрывала рукой то место на шее, куда был нанесен удар. На шее, чуть ниже правого уха, у нее было заметно небольшое покраснение. Опять-таки, нет ничего удивительного в том, что женщина хочет скрыть не очень приятные на вид следы. Я сейчас уже не могу точно вспомнить, что ж я тогда подумал, но вот эта согнутая в локте правая рука… понимаете… если нанести удар шокером самому себе, то след останется именно там…
— Это почему же? — Абметов потребовал уточнений.
— Да просто потому, что если ударить выше, то можно и не очнуться, а если ниже — то там одежда и следов не будет видно, а Бланцетти хотела, чтобы мы видели эти следы. Иначе бы ей прошлось, для правдоподобия, идти к врачу на осмотр, снимать платье и так далее… Неизвестно, чем бы это кончилось для нее. Врач мог бы что-нибудь заподозрить. А так, все видят, что удар действительно был, и что он не слишком опасен, следовательно, нет нужды вызывать врача. Если бы преступник, как это рассказывала сама Бланцетти, ткнул шокером не глядя, то он попал бы куда-нибудь в лицо, но никак не под ухо.
— Но зачем ей понадобилась эта инсценировка? — спросил Абметов.
— Теперь трудно сказать вполне определенно… Возможно, она хотела тем самым привлечь внимание, намекнуть нам, что ее двойник действительно существует, что он опасен и нужно принимать какие-то меры. И на меня она указала, я думаю, не случайно — она хотела привлечь именно мое внимание, заставить меня вмешаться. Не зря же она сняла номер, соседний с нашим! Есть и другой вариант: она хотела покончить с собой — другого способа остановить двойника она не видела. Вспомните, что вы мне говорили о поведении людей, страдающих синдромом раздвоения личности. Когда сознание распадается на две отдельные личности, то одна из них, как правило более сильная и агрессивная, другая — более мягкая и податливая. То есть, в точности, как если бы у уравнения, определяющего сублимационное число, было два решения — одно ближе к нулю, другое — ближе к единице. Меньшее решение — показатель агрессивности, оно соответствует Шварцу. Большее решение соответствует альтруистическому складу натуры — такой натуры, как у Бланцетти. Еще вы говорили, что более мягкая, «добрая» личность может и не знать о существовании второй, агрессивной. Я думаю, до прибытия на Оркус, Бланцетти не имела точного представления о своем «втором Я» — о Шварце, хотя некоторые подозрения у нее должны были возникнуть и раньше. До этого момента она лишь стремилась отделить, отдалить от себя свою вторую, «злую» натуру. Для этого она сняла два номера, для этого изменила до неузнаваемости внешность, но Оркус есть Оркус. Поле планеты заставило ее вспомнить все, что натворил двойник, более того, она стала предвидеть его дальнейшие шаги настолько, насколько сам Шварц их мог предвидеть. И ей, во что бы то ни стало, нужно было его остановить. Давая нам намек на существование двойника, она хотела, чтобы мы ему помешали. Но убивать его она не хотела, поскольку смерть двойника — это и ее смерть тоже. Поэтому я не верю, что инсценировка нападения была попыткой самоубийства. И еще, ей, как и ее двойнику, нужно сохранить в тайне свою истинную, нечеловеческую природу. Следовательно, даже если бы она решилась на самоубийство, то совершила бы его так, чтобы тело не нашли. Не для того ли она повела вас к воронке?
Абметов задумался.
— То, что вы говорите похоже на правду. Теперь я понимаю, почему она сказала, что ей нужно побыть одной. Я не хотел оставлять ее одну и последовал за ней, вниз к воронке.
— О чем еще вы говорили?
— Да мы и не говорили практически… Дорога была ужасной, и нам было не до разговоров. К тому же, она очень спешила. У самого обрыва она начала превращаться в Шварца.
— Понятно, она боялась, как бы двойник ее не опередил, но он ее все-таки опередил.
— Да, вероятно, так оно и было.
Абметов вынуждал меня оправдываться. Я сказал:
— Понимаете, я никак не мог заподозрить Бланцетти из-за ее возраста. Ведь по нашим расчетам, гомоидам не больше двадцати, в крайнем случае, двадцати пяти лет. Да и кто заподозрит, интеллигентную, спокойную, немолодую женщину… Ее вообще ни в чем нельзя заподозрить, не говоря уж о том, что она — гомоид. А тут еще Татьянина нумерология вынудила меня заняться дедуктивными выкладками, и я не стал присматриваться к самой Бланцетти.
— А Шварца вы раньше когда-нибудь видели? — спросил Абметов как бы невзначай.
Ответить мне было сложно. Я не хотел говорить Абметову о снимках в кабинете Франкенберга. Когда Бланцетти превратилась в Шварца-Антреса, я был уверен, что передо мной — Блондин. Но в этом деле, доверять глазам стоило лишь в последнюю очередь. Гомоиды с маниакальным упорством предпочитали умереть, нежели дать себя хотя бы разглядеть. Антрес был одним из трех — это точно (Пятнистого или Джона Брауна следует навсегда исключить). Лицо в зеркальных дверях сувенирной лавки могло принадлежать Антресу, а могло и не принадлежать…
Я сказал:
— Живьем — нет, не видел.
Сейчас спросит, где я его видел «не живьем», подумал я. Но он спросил:
— Как вы объясняете то, что разделение личности у гомоида произошло на мужчину и женщину?
— Они андрогины, — коротко ответил я и тут же об этом пожалел, ведь о том, что гомоиды — андрогины, я знал от Франкенберга.
— Вот как! Почему вы так решили? — заинтересовался Абметов.
— Потому что разделение произошло на мужчину и женщину, — не побоявшись тавтологии, выкрутился я.
— Не убедительно, — возразил Абметов, — у людей разнополое раздвоение тоже встречается.
— Ну раз даже у людей такое бывает, то почему вы вообще об этом спросили?
Абметов замялся и неуверенно ответил:
— Так, из чистого из любопытства.
— А мне любопытна другая вещь: гомоид перед смертью сказал, что не убивал торговца. Мне показалось — он даже хотел назвать имя убийцы, но Бруц ему помешал.
— Бруц считает, что убийца — Дидо, — напомнил Абметов.
— Да, но откуда гомоид мог знать, что Дидо убил торговца?
— Следовательно, их всех что-то связывает, — предположил мой собеседник.
— Не исключено, — нехотя согласился я, — но, черт побери, почему до меня раньше-то все это не дошло! Разгадка была на поверхности, но пришла в голову, когда уже ничего нельзя было изменить…
В тот момент, укоряя себя, я ждал, что кто-нибудь меня утешит. И дождался-таки:
— Не ной, ты вовремя догадался, — подала голос Татьяна, сидевшая до сих пор молчком — боялась, что ее, как это уже бывало раньше, отправят в спальню, — Бруц разыскивал не вас, доктор, и не Бланцетти, а тебя. Если бы ты не оказался рядом с ними, то там бы не оказалось и Бруца. И на дне Большой Воронки лежали бы вы, доктор, а не…, как вы его там назвали, …гомоид, — заключила она.
— Что верно, то верно, — согласился Абметов, — я жив благодаря вам… И Бруцу. Но вы не находите, что ваше объяснение чересчур механистичны, математичны, если угодно. По вашему выходит, что гомоиды как будто запрограммированы и ведут себя в точности согласно модели.
— Творения профессора Франкенберга не совершенны. Согласитесь, что чем несовершеннее человек, тем больше его поведение напоминает программу — оно более предсказуемо, что ли… Должно быть, с гомоидами тоже самое… — я ответил лишь для того, чтобы показать, что у меня на все готов ответ. Сам же я, честно говоря, ни в чем таком не был уверен.
— Кстати, вы мне не сказали, что Франкенберг погиб, и о своей беседе с ним вы тоже умолчали, — Абметов вплотную подошел к тому, что знать ему не полагалось. Спасая нам жизни, я был вынужден сказать гомоиду, а, заодно, и Абметову о своей встрече с Франкенбергом. И я дал понять, что большего он от меня не дождется:
— Ну раз я тогда умолчал, то вы, наверное, понимаете…
— Да, да, конечно, — Абметов настаивать не стал. Он поднялся, собираясь уходить:
— Я, пожалуй, пойду к себе… Что-то голова разболелась от всех этих приключений… Спасибо вам еще раз… — и он откланялся.
— О чем задумался? — спросила Татьяна.
Шел двенадцатый час ночи. Я, только что, закончил составлять отчет для Шефа. И я ответил ей так, словно теперь Татьяна мне не только подруга, но и коллега:
— У меня не выходит из головы то, как Шварц, удивился, когда я спросил его, кому Франкенберг его предал. И почему он солгал?
— Кто солгал?
— Абметов. Он сказал, что Бланцетти сама направилась к Большой Воронке.
— А что в этом такого? — удивилась Татьяна.
— Абметов подхватил мою мысль о том, что Бланцетти собиралась совершить самоубийство бросившись в Воронку. Но если гомоиды убивают себя так, как рассказывал Абметов, то концы с концами не сходятся. Абметов говорил, что нестабильное сознание совершает не самоубийство, а убийство — убийство своей второй половины. Следовательно, убивает та часть сознания, которая более агрессивна, чье число сублимации ближе к нулю. То есть убивать, неважно — себя или совсем другое существо, должен был Шварц, а не Бланцетти.
Думаю было так: Бланцетти превратилась в Шварца раньше, чем говорит Абметов. Шварц потащил его к краю Воронки, отсюда грязь на одежде Абметова. Что же между ними произошло… Позвони Абметову в номер, узнай там ли он, — выдавил я из себя.
Татьяна бросилась звонить. Я же связался с Бруцем:
— Если Абметов попытается покинуть отель, ни в коем случае на дайте ему это сделать! — закричал я ему.
— Ха, — из комлога раздался идиотский смешок Бруца, — позднова-то вы спохватились — уехал ваш Абметов. А зачем он вам?
— Хочу уточнить у него, с кем он был в вечер убийства.
— А разве не с вами? — с издевкой ответил Бруц.
— Какого черта, вам же не хуже моего известно, что в момент убийства Абметова со мной не было!
— Да, извините, забыл. А вот теперь вспомнил: некий господин Шлаффер сказал, что с восьми до девяти вечера они с Абметовым обсуждали всевозможные научные темы, и он даже готов эти темы перечислить. Полиция допрашивает тех, кто хочет покинуть отель. Она допросила Абметова, тот сослался на Шлаффера, а Шлаффера — на него. Поэтому полиция разрешила Абметову уехать. Так что, все чисто.
— А где сейчас Шлаффер? — спросил я. На его издевательский тон мне было плевать.
— Он уехал сегодня утром, — обрадовал меня Бруц.
— Почему я узнаю обо всем об этом только сейчас! — возмутился я.
— Об алиби Абметова я узнал от полиции лишь два часа назад, а следить за Шлаффером вы меня не просили, — сказал Бруц и холодно добавил: — Вы, господин Ильинский, все время даете указания, но информацией делиться не хотите, а это очень не по-товарищески…
Я выключил связь. Татьяна слушала мой диалог с Бруцем от начала до конца.
— Этот твой Абметов сущий дьявол, — сказал я ей.
— Я с самого начала это говорила, — ответила она. Думаю, в душе она прекрасно понимала, насколько ее замечание неуместно.
— Собирайся, мы возвращаемся, — скомандовал я.
Глава пятая: Берх.
1
Берх вылетел на задание в тот самый день, когда я впервые посетил Институт Антропоморфологии. Плером, куда он отправился, находится на самом краю Канала, у его Устья. Плером — это одновременно и название планеты и название системы двойной звезды, куда эта планета входит. Два карлика — белый и красный стремительно вращаются вокруг общего для них центра тяжести, и по своим размерам они не превосходят иную планету. Но собственно планета в системе только одна, именно она и носит название Плером. Карликов же, так и называют — Белый Карлик и Красный Карлик — и всем понятно о чем идет речь.
Плером чем-то напоминает Фаон, если его отодвинуть от своего солнца на полмиллиарда километров, лишить воздуха и воды — растения и животные, надо полагать, исчезнут сами. После того, как человечество получило возможность выбирать на какой планете ему жить, планеты мало пригодные для жизни перестали интересовать кого бы то ни было, за исключением ученых. Плером относится именно к таким планетам. От своих звезд Плером отстоит достаточно далеко, поэтому он и существует до сих пор — остальные планеты, если и существовали когда-либо, то из-за сложного гравитационного поля двойной звезды долго не протянули. Скорее всего, планета не принадлежала к системе изначально, а была захвачена Карликам несколько десятков миллионов лет назад.
Рано или поздно незавидная участь постигнет и Плером, но не из-за гравитационной аномалии, а совсем по другой причине. Дело в том, что буквально с тысячелетие на тысячелетие Белый Карлик должен взорваться в сверхновую. Что последует за этим — ученые спорят до сих пор. Многие считают, что система Плерома оказалась препятствием для дальнейшего продвижения Канала — наподобие того, как отверстие, просверленное в конце трещины, не дает трещине расползаться. Поэтому, заключают астрофизики, после взрыва сверхновой Канал продвинется еще дальше, но насколько дальше — сказать пока трудно. Пессимистично настроенные ученые предупреждают, что взрыв приведет к разрушению Канала и, более того, к гибели даже тех планетных систем, которые, с точки зрения классической пространственной геометрии, расположены на вполне безопасном расстоянии от Плерома.
Перелететь на Плером с Фаона конечно проще, чем, скажем с Земли, но труднее, точнее, дольше, чем с того же Фаона на Оркус. Первая же плохая новость за пятнадцатого августа (день начала расследования), непосредственно коснулась Берха. Из-за нарушение процесса дерелятивизации в Канале Берх достиг Плерома, когда я уже распаковал чемоданы в Оркус-Отеле. Я все это объясняю для того, чтобы стало понятно, почему я решил рассказать о Берхе только теперь.
Любая связь между агентами, находящимися на задании, должна осуществляться исключительно через Отдел — так гласит инструкция. Само собой, это правило не относится к тем случаям, когда агенты выполняют одно общее задание. У нас Берхом задания были разные, и присылая мне свои сообщения, он тем самым нарушал инструкцию. Но кто и когда видел ту инструкцию, которую бы никогда не нарушали? За редким исключением, я не буду цитировать его сообщения буквально — во-первых, в сообщениях содержится служебная, и потому, секретная информация, а во-вторых, некоторые фрагменты его писем носят сугубо личный характер и, я думаю, Берх был бы против, если бы я предал их всеобщей огласке. Поэтому я буду излагать произошедшие с Берхом события так, будто я видел все собственными глазами, тем более, что он уже не в состоянии меня опровергнуть.
Напомню вкратце, в чем состояло задание Берха.
Единственная обитаемая станция на Плероме, Плером-11, существует очень давно — практически с момента открытия этого участка Канала. До середины прошлого года станция принадлежала Всемирному Агентству по освоению и использованию Космического Пространства (сокращенно ВАКоП). Из названия следует, что ВАКоП создали еще в те далекие времена, когда мир был достаточно мал, и организации то и дело называли всемирными. Затем у станции сменился владелец, и она перешла в руки частного Агентства по Контролю Наблюдению за Космическими Объектами (АККО). АККО, в основном, занимается вопросами безопасности. В частности, в его обязанности входит контроль за звездной и гравитационной активностью, метеоритный контроль и радиационный контроль.
За полгода до смены владельца на станции произошел несчастный случай — погиб один из членов экипажа. К тому времени, из-за недостатка финансирования экипаж Плерома-11 сократили с двадцати человек до трех. Сокращение экипажа выглядело достаточно резонно, поскольку для наблюдения за состоянием Белого Карлика вполне хватало автоматических станций, которых на орбите целых восемь. С причиной гибели астронавта разобрались достаточно быстро — во время одной из вылазок на поверхность Плерома он повредил скафандр и умер от асфиксии. Пришедшие на помощь коллеги добрались до места трагедии, когда астронавт был уже мертв. Переговоры о передаче станции АККО уже велись, и поэтому ВАКоП не торопилось искать замену погибшему члену экипажа. Тогда, командир станции, Аэртон Вэндж, в обход ВАКоП, быстро подыскал себе третьего астронавта. Астронавта звали Грег Сторм. Я употребил прошедшее время, потому что Сторм и был тем исчезнувшем астронавтом, которого, живым или мертвым, следовало найти Берху. Таким образом, к моменту прибытия Берха на Плером, ни станции находились только два члена экипажа — командир Аэртон Вэндж и инженер Павел Зимин.
По пути на Плером Берху предстояло миновать несколько терминалов Канала. Первым был Терминал Фаона — через него проходят все, кто покидает Фаон. Затем Берх прошел Терминалы Оркуса и Хармаса. Хармас расположен на границе обитаемой части Сектора Фаона, поэтому остальные три терминала между Хармасом и Плеромом имеют только кодовые номера. «ТКЛ3504» — так именовался первый из трех терминалов. Я подозреваю, что "Т" означает «Терминал», "К" — Канал, но что означает "Л", я до сих пор не знаю. Отсюда можно сделать вывод, что знать это вовсе не обязательно. До момента прибытия на ТКЛ3504 с Берхом не случилось ничего особенного, если не считать многодневных заминок на каждом из предшествующих терминалов.
На терминале ТКЛ3504 произошел очередной сбой в работе Канала и Берху предстояло прождать несколько часов в зале ожидания.
2
Берх сидел в кресле и уже битый час пытался разгадать, что же все-таки означает буква "Л" в аббревиатуре «ТКЛ» — большими красными буквами она была выведена на стене прямо перед ним. Он настолько ушел в свои мысли, что не заметил, как в соседнее кресло опустился мужчина в гражданском и, потому, необычном для здешних мест костюме. Он уселся рядом с Берхом, хотя свободных мест в зале ожидания было предостаточно.
— Тоже ждете транспортировки? — спросил незнакомец.
Берх от неожиданности вздрогнул. Надо сказать, что туристы, которых так много и на Оркусе и на Фаоне и даже на Хармасе, редко заглядывают на ТКЛ3504. Основную часть пассажиров на 3504-ом составляют астронавты-исследователи, ученые, инженеры, техники и прочие сотрудники дальних космических станций. Незнакомец, казалось, не подходил ни под одну из перечисленных категорий. На вид ему было лет пятьдесят с небольшим. У него были длинные аккуратно постриженные волосы, небольшая бородка, лицо загорелое, но загорал незнакомец, сразу видно, не под кварцевой лампой. В довершении всего, одет он был в новый, но подчеркнуто старомодный шерстяной костюм, тогда как все остальные, кто сидел в зале ожидания, носили унылые форменные комбинезоны. Сам Берх выбрал для себя светло-оранжевый комбинезон спасательных служб, поскольку счел, что его миссия в чем-то сродни спасательной.
— Извините… вы что-то спросили? — Берх отозвался не сразу.
— Простите, что отвлек вас от ваших мыслей… — с этими словами незнакомец выразительно посмотрел на надпись на стене — туда, куда только что смотрел Берх, — Я спросил, вы ждете транспортировки?
Он мог бы и не спрашивать — все, кто сидел в зале ожидания, ждали именно этого.
— Да вот, жду пока устранят технические следствия…— пробормотал Берх.
— Простите, какие следствия? — не понял незнакомец.
В этом не было ничего удивительного — к берховской манере изъясняться надо еще привыкнуть.
— Было сказано, что по техническим причинам транспортировка отложена. Следовательно, транспортировка начнется, когда будут устранены следствия технических причин. Короче говоря — технические следствия, — объяснил Берх.
Мужчина с бородкой возразил:
— У технических причин бывают не только технические следствия. И насколько я слышал, обычно говорят «устранить причины того-то и того-то…»
— Устранить причины нельзя, — отрезал Берх, — они уже случились, как их в таком случае можно устранить? Устраняют последствия, а не причины. А о «нетехнических» следствиях мне вообще ничего неизвестно.
Незнакомец рассмеялся — собеседник ему явно импонировал.
— Хорошо, следствия так следствия… Вам в какую сторону?
— Плером, — равнодушно ответил Берх. Сказав так, он выдал не слишком большой секрет, поскольку направления на загрузочном блоке назывались по имени ближайшего Терминала, имеющего именно имя, а не номер.
— Правильно говорить «Плерома», а не «Плером», — поправил его собеседник.
— Я говорю, как все говорят…
— Ну прям так и все! — засомневался незнакомец, — хотя в наше время можно говорить с кем угодно и о чем угодно, но вот раньше…
— Что раньше? — заинтересовался Берх.
— Раньше люди спрашивали Господа Бога: «Господь, мы хотим знать о кеноме и Плероме, что нас держит здесь, как мы оказались в этом мире, и каким образом мы покинем его».
— И что Господь Бог им ответил?
— О Господе не судят с чужих слов, — нравоучительно заметил незнакомец.
Берх счел такой ответ по меньшей мере невежливым; он пожал плечами и отодвинулся (но не дальше, чем это позволили подлокотники кресла). Мужчине в гражданском костюме не хотелось терять собеседника. Он сказал:
— Вы меня не так поняли… Люди слушают, что им говорят, но слышат лишь то, что хотят услышать. Что же касается Плеромы… Вы знаете как был создан Мир? — безо всякого перехода, спросил он.
Берху снова отвлекся от созерцания красной надписи на стене.
— Очень смутно, — небрежно бросил он. Уж кто-кто, а он-то точно знает, как создавали Мир, но из вежливости всегда готов выслушать любую альтернативную версию. Незнакомец, ничуть ни смутившись, продолжил:
— Вначале был Абсолют…
— Я слышал, что вначале было Слово, — перебил его Берх.
Реплика Берха, казалось, только обрадовала его собеседника:
— Вот именно, все так и думают, — сказал он, — но спрашивается, как и из чего Слово создало Мир.
— А это имеет отношение к Плерому? — насторожился Берх.
— К Плероме, — опять поправил его собеседник, — да, к Плероме это имеет самое непосредственное отношение. Итак, мы говорим Слово создало Мир из Абсолюта. А Абсолют, это то, что мы называем абсолютным пространством событий, то есть все события, какие не только были или будут, но и те, что могли бы быть или могут быть, в общем — все что угодно — иначе не скажешь.
— А что же тогда создавать, если все уже есть? — удивился Берх.
— Смысл, создавать можно лишь смысл, — уверенно ответил незнакомец, — я скажу даже так: смысл божественного творения в создании смысла. Человек же творит и постигая смысл божественного творения, и заново — как божество — смысл создавая. В этом дуализме заключается его человеческая трагедия — он, одновременно и создатель и создаваемое. Но, извините, я немного забежал вперед. Пока у нас есть только Абсолют, в котором есть все, кроме смысла. В нем нет ни пространства ни времени, ведь чтобы появилось время, тоже нужен определенный смысл.
— Ну и какой же? — быстро спросил Берх, предчувствуя, что за последним заявлением незнакомца должна последовать долгая и многозначительная пауза.
— Время упорядочивает события — а это уже какой-никакой, а все же смысл. Время появляется, только тогда, когда можно различать причины и следствия — тут ваше давешнее замечание про сбой гравиструнной дерелятивизации как нельзя более кстати. Божественный Нус, или Ум, из хаоса заполняющих Абсолют событий, создал цепочки — причины и следствия — так возникло Время, а следом, дополняя Время, возникло Пространство. Процесс божественного осмысления очень похож на то, как человек осмысливает или познает мир. Мы с вами смотрим на окружающий нас хаос и вдруг видим, что уж не такой он и хаос — в нем есть порядок, надо только уметь его разглядеть. Любой порядок плох тем, что он еще и ограничитель — человек, в отличие от существ более высших, попал в тиски причин и следствий, его богоподобное умение творить смысл ограничено законами, именуемыми нами законами физики. Человек вынужден жить и творить как бы в срезе между «вчера» и «завтра». Я даже готов выдвинуть смелую гипотезу, что человек — это не что иное, как тот самый Создатель волею более могущественного Бога, расслоенный и развеянный во Времени и Пространстве.
— У вас уже получается как минимум два бога, — осторожно заметил Берх.
— Возможно их и больше, — не растерялся незнакомец, — а тот, кого мы зовем Создателем своим творением охватил, если так можно выразиться, еще не весь Абсолют. Нам достался один упорядоченный кусочек Абсолюта, но ведь есть и другие — получше. Вот это-то «Все остальное» — то, где нас нет — и есть Плерома — место, где сохранилась полнота событий, нет расщепленности и ограниченности, во всяком случае, в том виде, в котором мы их привыкли видеть, — веско заключил незнакомец.
Берх вспомнил Татьянины рассуждения про названия и пространственно-временную инверсию относительно орбиты Луны. «Все правильно, Мир начался с Плеромы и обитаемая часть Вселенной кончается ею же. Дальше идти некуда — названия кончились,» — подумал он. Но все же уточнил:
— Но название системы, все-таки, Плером, а не Плерома. Из сказанного вами следует, что тот, кто дал название системе разноцветных карликов, поступил несколько опрометчиво. Да он и сам понимал свою ошибку, поэтому названия немного различаются.
— Сходство может оказаться глубже, чем вы думаете, — возразил незнакомец.
Берх стоял на своем:
— Из вашей теории этого не следует. И вообще, она довольно умозрительна, не говоря уж о явных противоречиях с современной космологией.
— Ах так! Говорите, противоречие с космологией, то бишь с теми самыми, пресловутыми законами физики! — воскликнул незнакомец и всплеснул руками. —Нет, вы знаете, последнее время, подобное пренебрежительное отношение к древнему знанию меня просто умиляет. Поначалу меня это раздражало, а теперь умиляет. Вы говорите так, будто сами, своим умом дошли до этой вашей космологии. Очень просто, подчитав школьный учебник по физике, критиковать древних мудрецов, у которых телескопа-то не было. Поверьте, те люди были не глупее нас с вами, и поэтому важно понять, почему они рассуждали именно так, а не иначе. Важно найти смысл в их построениях, будь они хоть трижды противоречивыми! Кстати, а позвольте спросить, что дает вам основание верить в законы физики?
— При чем тут вера?! — вскипел Берх, — наука есть наука… Не стану объяснять вам, что это такое, но согласитесь, есть вещи, отрицать которые абсурдно!
Незнакомец перефразировал вопрос, авторство которого всем хорошо известно:
— Что есть абсурд?
Пока Берх собирался с мыслями, его собеседник продолжил:
— Вся наука сводится к тому, чтo мы считаем абсурдным, а что — нет. Противоречие с законами логики мы считаем абсурдом, поэтому мы руководствуемся логикой. Но скажите мне честно, считаете ли вы, например, человеческую смерть — абсурдом. Только не говорите мне про науку — мы уже решили, что она сводится к нашему представлению об абсурде. Поэтому ответьте искренне, по человечески.
Берху надоело спорить, и он согласился:
— Ну хорошо. Да, действительно, в смерти есть что-то абсурдное…
— Вот видите! — воскликнул незнакомец, — смерть — абсурдна, но в бессмертие вы, небось, не верите!
Такого подвоха Берх не ожидал:
— Не верю, тут вы правы. Все живое умирало, умирает и будет умирать — от этого никуда не денешься. Погодите, не хотите ли вы сказать, что сами вы верите в бессмертие? — забеспокоился Берх. Он почувствовал легкое волнение ибо незнакомец подступил к той области, где столь уважаемая Берхом логика уже утрачивала свою безоговорочную власть.
— Верю, — спокойно и твердо ответил собеседник, — вы говорите «все живое умирало и умирает». Я сознательно опускаю ваше несколько ненаучное предсказание «и будет умирать», потому что не хочу ловить вас на слове — в пылу спора и не такое можно сказать. Остановимся на тезисе «все живое умирает». Безусловно, вы подразумевали, что собственными глазами неоднократно видели смерть — не свою, разумеется, а чью-то еще. Не стану спорить — вероятно, так оно и было. Но одно дело видеть чужую смерть, другое — умирать самому. Прибегну к простому примеру из вашей, так называемой, науки. Возьмем коллапс черной дыры. Для нас, зрителей, ее смерть длиться бесконечно, для самой дыры — мгновение. Почему — думаю, объяснять не стоит — это известно любому школьнику. Смерть человека подобна коллапсу черной дыры, но только наизнанку. Мы видим свершившимся, то, что для умирающего — бесконечно. Его внутренняя стрела времени как бы начинает загибаться, отклоняться от стрелы времени живых людей, и поэтому мы, живые зрители, отсчитываем время не так, как отсчитывается время в царстве мертвых или, вернее, тех, кого мы считаем мертвыми. Выходит, что никакой смерти нет, а есть лишь переход, чистилище, как говорили древние. Время, чтоб вы знали, это не прямая, а плоскость, по которой прочерчены наши с вами личные временнЫе маршруты…
Он был готов говорить и дальше, но по Терминалу прошло объявление на посадку. Голос диктора оборвал незнакомца на полуслове. Берх поднялся с кресла.
— Очень жаль расставаться с вами на таком интересном месте, но мне нужно идти, — сказал он с искренним сожалением.
— Да, да, конечно, я слышал объявление, — пробормотал незнакомец, раздосадованный не меньше Берха, — счастливого пути вам!
— Спасибо, — ответил Берх, — и вам — счастливого!
Пассажиров на этот рейс было немного, и служащие Терминала подходили к каждому персонально, извинялись за задержку, после чего вежливо провожали до самого посадочного блока. Миловидная девушка в серебристом комбинезоне с нашивкой «ТКЛ3504» у левого плеча взяла Берха под руку и, что-то нашептывая на ухо, повела его на посадку.
3
Если проблемы не приходят сами (как, например, сбой в работе Канала), то Берх их создает собственноручно. Он начал с того, что промахнулся и сел не рядом со станцией, как планировал, а тысячью километрами западнее. Чтобы все не оказалось так просто, одна из опор корабля наполовину ушла в пористый грунт; корабль накренился и едва не лег на брюхо. Взлететь из такого положения он уже не мог. Берх вызвал Плером-11 и попросил Вэнджа прислать за ним планетолет с погрузчиком, поскольку требовалось перегрузить контейнер с оборудованием с корабля на планетолет. Больше всего Берх боялся, что не сможет выдвинуть лифт. Если бы опора опустилась еще на полметра, то так бы оно и произошло. Но, к счастью, опора больше не опускалась, и лифт удалось выдвинуть, если и не полностью, то, по крайней мере, достаточно для того, чтобы вытащить контейнер. Через полчаса после посадки прибыл планетолет. Из опасения последовать примеру Берха, Вэндж посадил планетолет метрах в ста от корабля, на более твердом участке. Берх подождал, пока астронавты (они оба прилетели помогать Берху) выйдут из планетолета, и только после этого сам покинул корабль. Когда он выбрался, два белых скафандра были уже на полпути к нему.
— Добро пожаловать на Плером, — сказал один из скафандров. Какой именно, Берх не понял, поскольку оба они одновременно помахали ему руками. Голос принадлежал не Вэнджу, и Берх заключил, что поздоровался с ним Зимин.
— Как добрались? — теперь это был Вэндж.
Берх развел руками и показал на перекосившийся корабль — мол, сами видите. Один из скафандров показал рукой вниз и голосом Зимина произнес:
— Здесь реголит, надо быть осторожнее.
— Кто ж знал, — снова развел руками Берх.
Посовещавшись, Вэндж с Зиминым решили, что легкий планетолет грунт не продавит, затем вернулись к своему аппарату. Они стартовали и сели уже непосредственно рядом с кораблем Берха.
С перегрузкой контейнера они провозились не меньше часа. Пока шла погрузка, Берх несколько раз успел запомнить и снова забыть кто есть кто — скафандры на Вэндже и Зимине были абсолютно одинаковыми. По возвращении на станцию, Вэндж оказался выше Зимина на полголовы и в два раза толще, причем — во всех местах. Берху пришло в голову, что спокойный, волевой Вэндж мог бы украсить своим портретом плакат «Все — в астронавты!», если бы в таком плакате вдруг возникла необходимость. У худощавого Зимина, напротив, лицо было настолько живым и подвижным, а глаза — выразительными, что, подчас, озвучивая ту или иную мысль, он ничего существенного к ней не добавлял.
Избавившись от скафандра сразу после шлюзования, Берх заново познакомился с астронавтами и пожал им руки.
— Ну вот мы и дома, — сказал Вэндж, которому станция Плером-11 служила домом в течение последних полутора лет.
— Ужинать будете? — спросил Зимин.
Берх не знал, чего ему больше хочется — есть или спать. Решил, что все-таки спать и попросил проводить его в каюту. Вэндж предложил любую из двадцати трех пустующих кают. Всего их было двадцать пять — двадцать для экипажа и пять — для гостей.
— Покажите мне ту, что занимал Сторм, — неожиданно попросил его Берх.
Вэндж с Зиминым удивленно переглянулись. С того момента, как им пришлось отправиться на помощь Берху, они ни разу не вспомнили с какой миссией он к ним пожаловал.
— Как вам будет угодно, — сухо ответил Вэндж, — пойдемте, я провожу вас…
Станция Плером-11 была большой, даже слишком большой для трех человек. При желании, в ней могло разместиться человек сто. Дело в том, что по мере истощения ресурса станции, ее не модернизировали, а достраивали. В результате, Плером-11 представляла собой полдюжины пристыкованных друг к другу модулей, один больше и новее другого. Строили их так. Рядом со старым модулем вырывали котлован. В котлован помещали новый модуль, затем, его засыпали породой, извлеченной из котлована. После этого, часть скалистой гряды, что находится позади станции, взрывали и образовавшаяся от взрыва каменная лавина засыпала новый модуль еще больше. Поэтому метеориты не представляли для станции никакой угрозы. Первые четыре модуля были блокированы и законсервированы, системы жизнеобеспечения работали только в пятом и шестом модулях. Те двадцать три каюты, о которых говорил Вэндж, как и те две, что занимали они с Зиминым, находились в последнем, шестом модуле. В этот день осмотреть верхний уровень шестого модуля Берху так и не удалось — выйдя из отсека, отделявшего шлюзовую камеру от остальных помещений верхнего уровня, они свернули, затем, по ажурному, пружинящему трапу сошли на средний уровень (всего уровней было три). Жилые отсеки станции — каюты экипажа, столовая, санитарные и медицинские боксы — занимали весь средний уровень. Чтобы выиграть пространство для индивидуальных кают, коридор пришлось сузить так, что два Вэнджа едва ли смогли бы в нем разойтись.
— Там остались его вещи, — сказал Вэндж указывая на дверь с номером четыре.
— Ничего страшного, — ответил Берх, — потом, если нужно, я переберусь в другую каюту.
— Как знаете, — пожал плечами Вэндж, — завтрак у нас в восемь.
Он показал Берху, как пользоваться местной душевой камерой и, пожелав на прощание спокойной ночи, оставил его одного.
Берх стоял в дверях и решал, что ему теперь делать — сон, еще десять минут назад буквально валивший его с ног, куда-то вдруг исчез. Стоило ли так сразу напоминать им о Сторме, размышлял Берх. Услышав имя исчезнувшего астронавта, они тотчас замкнулись и, теперь налаживать контакт станет труднее. С другой стороны, ему было интересно проследить за их реакцией — вряд ли они ожидали, что он займет каюту погибшего астронавта. Беря пример с Ларсона, Берх всегда считал себя тонким психологом.
По местному времени было далеко за полночь. Берх взглянул на часы и понял, что не спал двадцать семь часов. Потому и промахнулся при посадке. Напрасно он не доверил управление автоматике, теперь выглядит в глазах астронавтов полным кретином, да в придачу, чуть не угробил корабль, — продолжал он размышлять, осматривая каюту. Спать ему расхотелось, зато захотелось есть. Ничего, до утра доживу как-нибудь, решил Берх и достал комлог, чтобы еще раз пробежать глазами имевшиеся в его распоряжении сведения о Греге Сторме. Они занимали всего три страницы крупным шрифтом: краткая биография, характеристика, написанная самим Вэнджем непосредственно перед зачислением Сторма в экипаж Плером-11, медицинская карта, результаты тестирования. Никаких сведений о родственниках или близких. Берха этот пробел нисколько не удивил — сам он прожил всю жизнь один — кроме детства, разумеется. На вопрос, почему так случилось, Берх неизменно отвечал, что близкие отношения всегда кончаются для него либо чувством досады, либо угрызениями совести, а и то и другое ему одинаково противно. И добавлял, что ему вообще непонятны подобные расспросы, ведь гораздо удивительней, как близкие люди умудряются долгое время друг с другом уживаться.
Биография Сторма была изложена коротко и ясно — как у всякого человека, которому нет и двадцати четырех. Двадцать четыре ему должно было исполниться через неделю после исчезновения. Возможно — и исполнилось, мелькнуло в голове у Берха. Родился Сторм на Земле, получил хорошее техническое образование в одном из престижных учебных заведений североамериканского континента; сразу после окончания института, он завербовался в отряд астронавтов-исследователей. Работал, в основном, на частные компании. Их названия Берху мало о чем говорили, как и названия тех дальних космических станций, где Сторм провел в общей сложности около двух лет. Вэндж знал Сторма по своей предыдущей работе, поэтому и рекомендовал взять его на Плером-11 в качестве третьего астронавта. Других рекомендаций у Сторма не было, но, во-первых, других рекомендаций и не требовалось, раз его рекомендовал сам командир станции. Во-вторых, ВАКоПу в то время было не до подбора кадров. Они даже не удосужились побеседовать со Стормом. Скорее всего, Вэндж переоценил уровень подготовки своего молодого коллеги. Других объяснений загадочной гибели астронавта не было ни у Берха, ни у тех, кто занимался делом Сторма до него. А в том, что астронавт именно погиб, никто не сомневался. Но пока тело не найдено, или пока не найдено вразумительных объяснений, почему его тело найти нельзя, дело оставалось открытым. По этой же причине, никто вслух не говорил, что Сторм погиб, а говорили «исчез» или «пропал без вести». И, наконец, по той же причине, дело Сторма не было предано огласке, и, за исключением вышеназванных, знали об исчезновении астронавта только несколько сотрудников АККО. Возможно, Берху и не пришлось бы заниматься поисками Сторма, если бы не гибель его предшественника. «Гибель одного астронавта можно считать несчастным случаем, но когда гибнут двое — это уже похоже на небрежность», — сказал тогда Шеф, практически процитировав Оскара Уальда.
Решение послать Берха на поиски Сторма походило на плохую шутку. Берх жутко оскорбился, ведь он считал себя крупным специалистом по расследованию преступлений в сфере высоких технологий или, на худой конец, — в сфере финансов, если последние тем или иным образом связаны с высокими технологиями. Но случай со Стормом не имел отношения ни к высоким технологиям, ни, тем более, к финансам. В крайнем случае, он мог иметь отношение к очень низкими, некачественными технологиями — я имею в виду неисправность скафандра или какого-другого оборудования. Даже если смерть астронавта напрямую не связана с неполадками в работе оборудования, то в том, что его вовремя не хватились и не поспешили на помощь, виновата, без сомнения, система контроля за жизнеобеспечением. С помощью висевших над Плеромом спутников, система контроля передавала на станцию местоположение каждого из астронавтов, информацию о состоянии здоровья, а так же данные о работе скафандра, систем дыхания и энергоснабжения. Когда погиб предшественник Сторма, система контроля сработала четко: получив сигнал бедствия, Вэндж и Зимин незамедлительно вышли на помощь, но успеть они, даже теоретически, никак не могли. В случае со Стормом все было несколько иначе. Система контроля просто «потеряла» его в какой-то момент. Подобное может произойти, если астронавт находится на некоторой глубине под поверхностью планеты и не использует, при этом, нейтринные маячки. Помехи от космического излучения тоже могут сыграть свою роль, но, в таком случае, связь не исчезла бы мгновенно и навсегда.
Система контроля потеряла Сторма, когда тот находился в трех километрах к северо-востоку от станции. Никаких пещер или гротов в этом месте нет, зато здесь проходит глубокий тектонический разлом. С севера на юг он рассекает Море Явaо — так называется вытянутый, низменный участок планеты, где расположена станция Плером-11. Сама станция «закопана» в основании горной гряды у юго-восточного берега Моря Явао,. По одной из версий, Сторм заблудился и упал в разлом. Но эта версия не давала ответа на вопрос, почему система контроля прервала связь со Стормом на краю разлома, а не на его дне, которого, кстати никто никогда не видел, так же как никто никогда не видел дна оркусовских воронок. Опять-таки непонятно, зачем Сторма вообще туда понесло — исследование тектонических разломов в его задачу не входило. На завтра Берх планировал съездить к разлому и проверить версию с падением в разлом на месте.
4
Во сколько бы вы не проснулись на Плероме, вы никогда не увидите рассвет, но не только потому, что в каюте окна не предусмотрены. На Плероме рассвет — явление скорее формально-астрономическое, нежели визуальное, а тем, более, поэтическое, как например на Земле или на Фаоне. Красного Карлика вообще никогда не видно, где бы он не находился, а выглядывающего время от времени из-за него Белого Карлика не хватает ни то что на рассвет — даже чтобы организовать какую-нибудь мало-мальски приличную тень его не хватает. Но, формально говоря, Берх проснулся с рассветом, то есть в половине восьмого. До завтрака оставалось еще полчаса, и он потратил их на душ, бритье и прочие, подобные тому, утренние хлопоты. Свои вещи он растолкал таким образом, чтобы не перепутать их с вещами Сторма.
Когда он открыл дверь в коридор и уже собрался сделать шаг, с ним произошло два небольших казуса. Во-первых, он чуть не наступил на хвост непонятно откуда взявшейся кошки. Она будто бы караулила Берха с той стороны двери и с возмущенным «мяу» рванула прочь, едва тот высунулся из каюты. Берх немного удивился — про кошку его никто не предупредил, а он их терпеть не может. С этого момента он решил впредь, перед тем как сделать какой-нибудь необдуманный шаг, смотреть себе под ноги.
Во-вторых, Берх обнаружил, что надел не те ботинки. Я подозреваю, что он заметил ошибку именно тогда, когда решил смотреть себе под ноги. И посмотрел. По станции полагалось ходить в специальной обуви, напоминавшей легкие спортивные ботинки. Были такие и у Берха — накануне Вэндж выдал их ему вместе с комплектом местной «станционной» одежды. Но те, что надел Берх были несколько поношенными и, к тому же, не его размера. Пока Берх переобувался, он размышлял над тем, не является ли его ошибка дурным предзнаменованием — ведь он надел обувь человека, которого все считают покойником. Когда он закончил с переобуванием, подобные мысли сами собой улетучились.
Кухня, она же столовая, расположена в самом конце коридора, если его началом считать то место, где они с Вэнджом очутились, когда спустились с первого уровня. Оба астронавта были уже там. Берха мучило предчувствие, что напряжение, возникшее между ними вчера, должно каким-то образом проявит себя и сегодня. Не в том смысле, что его могут лишить завтрака или, хуже того, подсунуть что-нибудь несъедобное — нет, такого Берх не боялся. Он, как и многие на его месте, предпочел бы открытую враждебность притворной вежливости. Последнюю Берх на дух не переносил, и именно с нею он меньше всего хотел столкнуться. Но все обошлось. Вэндж, как ни в чем ни бывало, пожелал ему доброго утра и спросил, что Берх будет на завтрак. В ответ Берх напомнил, что кроме всего прочего, он привез с собой целый контейнер свежих продуктов.
— Так мы их уже того — распаковали, — весело сказал Зимин.
Враги, ни тайные ни явные так не отвечают, и у Берха отлегло. Для себя он выбрал сэндвичи с сыром и зеленью.
— Чай, кофе, — предложил Вэндж.
— Кофе с какао и молоком, — ответил Берх.
— Достойная смесь, — оценил Зимин.
Они сидели за длинным узким столом, рассчитанным, по меньшей мере, человек на десять.
— Какие на сегодня планы? — как бы между делом (или между едой) спросил Вэндж.
— Съезжу к разлому — туда, где Сторма видели в последний раз, — коротко ответил Берх.
Он умышленно сделал эту оговорку — сказал «видели», хотя система контроля не умела «видеть» в полном смысле этого слова. Но астронавты не обратили на его оговорку никакого внимания, поскольку на космическом жаргоне слово «видеть» может означать все, что угодно. Чего стоит такое выражение как, например: «да я эту черную дыру видел как вот сейчас — тебя».
— Вы имеете в виду Ухмылку Явао? — уточнил Зимин.
— Чью, простите, ухмылку? — Берх не понял.
— Тектонический разлом называли «Улыбка Явао», — пояснил Вэндж, — но Зимин настойчиво называет его «Ухмылкой».
— А ты когда-нибудь видел, чтобы так улыбались? — возразил ему Зимин.
— Никто никогда не видел как улыбается Явао, — ответил ему Вэндж, но замечая, что Берх их по-прежнему не понимает, объяснил:
— С высоты, та низменность, на которой расположен Плером-11, напоминает голову дракона или змея, поэтому ее назвали Морем Явао. Правильнее, конечно, называть ее Морем Ялдаваофа — дракон был такой когда-то, но, согласитесь «Явао» гораздо благозвучнее, да и короче … Ну а каньон, или, как вы говорите, разлом, назвали, соответственно, «Улыбкой Явао».
— Я хотел переименовать станцию в «Ухо Явао», но меня никто не поддержал, — вставил Зимин.
— А чем знаменит этот ваш Явао? — спросил Берх.
— Жил он давно, еще до рождения человека, и, поэтому, сведения о нем крайне противоречивы, — серьезным голосом ответил Зимин, — Одни считают, что именно он вылепил первого человека, другие — что он охраняет вход в Устье Канала. А сыночек у Явао — тот еще змей!
— Змей? — переспросил Берх, — какой змей?
— Я же сказал — тот самый. Змей-искуситель, что искушал Еву в райском саду. Историю с яблоком, помните? — Берх помнил. — Сам Явао любил говорить о себе с чужих слов. Однажды он сказал: «Среди рожденных после меня, найдутся люди, которые подумают, будто я умел предвидеть будущее…».
— Странно, раз он так сказал, то значит и вправду предвидел будущее, тогда почему «будто», а если, на самом деле, он не умел предвидеть будущее, то почему сказал так, будто умел?… — Берх немного запутался в формулировке.
Но Зимин его прекрасно понял:
— Вы лучше спросите у самого Явао.
— А я и спрашиваю, — не растерялся Берх, — вы ведь называете станцию «Ухо Явао», следовательно, он должен меня слышать.
— В таком случае, за ответом вам следует сходить к его «Улыбке».
Собственно, это Берх и собирался сделать.
— И как туда лучше добраться? — спросил он.
— Возьмите транспортер — за полчаса доставит, — предложил Вэндж.
— Нет, зачем транспортер? Малый планетолет намного удобнее, — посоветовал Зимин.
— Это тот, на котором мы вчера прилетели на станцию?
— Нет, другой. Он немного меньше, но поисковое оборудование дотащить сможет, — разъяснил Зимин.
— В самом деле, — поддержал его Вэндж, — берите планетолет, — три километра по Плерому, это не тоже самое, что три километра по Фаону. Вы ведь с Фаона?
Берх подтвердил. Вэндж и Зимин считали, что он является экспертом фаонского отделения АККО.
— Я плохо знаю местность, боюсь снова неудачно сесть, — признался Берх.
— Ерунда, — успокоил его Вэндж, — малый планетолет может сесть, где угодно, кроме, разумеется, дна Улыбки…
— На планетолете я туда не полезу.
— Значит, все-таки, решили искать в разломе? — спросил Вэндж.
— Пока других вариантов я не вижу.
Спускаться в разлом или нет, Берх еще окончательно не решил. Спасатели, работавшие на Плероме сразу после исчезновения Сторма, уже пытались что-то подобное предпринять. Но, то ли у них ничего не вышло, то ли они все-таки спустились, но тела не нашли, — этого Берху никто так и не смог толком объяснить.
— А сами-то вы что думаете? — спросил он.
Поскольку вопрос не был адресован кому-то персонально, то и ответа ему пришлось ждать довольно долго.
— Вариант, при котором Сторм упал в разлом, выглядит наиболее убедительным, — нехотя ответил Вэндж. Зимин в знак согласия кивнул.
— Но вы, все же, не уверены, — уточнил Берх.
— Не смотря на то, что это я взял Сторма на Плером, он остался для меня в некотором роде загадкой. Мы до сих пор не можем понять, зачем он пошел к разлому. Если бы мы смогли это понять, то и в падение в разлом тоже можно поверить.
Насчет того, зачем Сторм пошел к разлому, у Берха не было ни какой собственной идеи. Но он не верил в то, что ни Зимин, ни Вэндж, не знают причин, побудивших Сторма в одиночку, пешком отправиться за три километра от станции. Без сомнения, они все знают и теперь просто хотят снять с себя вину за его гибель. Ведь если Сторм действовал по приказу Вэнджа, то именно на него падает вся ответственность за смерть астронавта.
Когда они уже заканчивали завтракать, Берх вспомнил про кошку.
— А я и не знал, что у вас живет кошка. Честно говоря, я их недолюбливаю…
— Нет у нас никакой кошки, — уверенно ответил Зимин и с недоумением посмотрел сначала на Берха, потом на Вэнджа. Затем, как бы смутившись, быстро встал и вышел из столовой. Проходя за спиной у Берха он пробормотал:
— А вы слыхали, что Нансэн убил кошку Шредингера?
Даже предыдущей фразы Зимина было достаточно, чтобы Берх почувствовал себя полным идиотом. В голове у него царило некоторое смятение — ну не приснилась же ему эта чертова кошка. Или он, как с ботинками, что-то напутал. «Разыгрывают!» — подумал он. Наверное, он слишком громко это подумал, потому что Вэндж сказал:
— Зимин вас не разыгрывает. Просто у нас не кошка, а кот. Вы уж его извините.
«Один-один», — подумал Берх, но ни кота, ни Зимина не извинил.
— Как его зовут?
— Кого, кота?
— Ну не Зимина же…
— Варвар.
— Как? Варвар?
— Ну да, так и зовут — Варвар. Вы только прислушайтесь, как он мурлычет, и сами поймете, что по-другому его никак не назвать.
— Мурлычет не по-нашему?
— Что вы! Даже не по-кошачьи! — воскликнул Вэндж.
— А при чем тут Нансэн? — Берх решил выяснить все до конца, — еще одна шутка?
— И да и нет. Жил когда-то такой японский мудрец — Нансэн — известный кошкофоб. Он прославился тем, что однажды собственноручно зарезал котенка. В оправдание Нансэну, нужно сказать, что ситуация и впрямь была не однозначная. Монахи нашли котенка — белого, пушистого, очень симпатичного. Его красота и грация так пленили бедных монахов, что они позабыли о своем возвышенном предназначении и принялись спорить, кому должен достаться котенок. Нансэн был у них вроде как за старшего и, дабы вернуть монахов на путь истины, убил котенка. Потом, много позже, Нансэн пришел в гости к Шредингеру. А у того была кошка — ну та, которая ни жива ни мертва. Кошка сидела в ящике, а Шредингер загадывал публике одну и туже загадку — жива ли кошка в данный момент или нет? Спросил он об этом и Нансэна. Нансэн поступил, по сути, здраво. Своим самурайским мечем, он устроил коллапс волновой функции, то есть, попросту, рассек ящик, где сидела кошка. Пострадал не только ящик, но и кошка. Однако, ценою ее жизни, философский пафос был достигнут и здесь.
— И какой же?
— Весьма глубокий. Нансэн хотел этим сказать, что малым большого не проверить.
— Если вы говорите о том Нансэне, о котором знаю я, то он никак не мог прийти в гости к Шредингеру. Нансэн жил лет этак за тысячу до Шредингера, если не больше.
— Вы серьезно? Значит, это Шредингер пришел в гости к Нансэну… Если вы уже закончили, — продолжил Вэндж, имея в виду завтрак, — то, пойдемте в ангар — малый планетолет сейчас там. Надеюсь, с управлением вы справитесь. Вы уже летали на таких?
Вопрос был странный, поскольку Берх пока еще не видел самого планетолета, но, тем не менее, он ответил:
— Думаю, что да, — хотя в тот момент он думал совсем о другом. Басню про Нансэна он на свой счет не принял.
Тектонический разлом Улыбка Явао ничем не выделяется среди десятков других разломов, избороздивших поверхность Плерома. Это просто большая трещина в земле. От нее идут многочисленные трещины помельче, а от них, в свою очередь, — еще более мелкие трещины. Берх ввел в автопилот координаты того места, где система контроля потеряла Сторма. Если целью Сторма был разлом, то шел он к нему не по кратчайшему пути. Напрямик от станции до разлома было примерно два с половиной километра. Но, с другой стороны, кратчайший путь не слишком удобен для передвижения пешком — дорогу то и дело преграждали те самые мелкие трещины. Автопилот отказался сажать планетолет туда, куда указывали введенные Берхом координаты, и ему пришлось самостоятельно искать для посадки более безопасное место. Берх старался сесть как можно ближе к месту исчезновения Сторма, поскольку у него не было другого способа осветить этот участок, кроме как воспользовавшись бортовыми прожекторами. Белый карлик стоял в зените, но света давал меньше, чем половинка Луны в ненастную ночь. После нескольких попыток, планетолет благополучно сел метрах в пятидесяти от обрыва.
Конечно, если он решится-таки спускаться в разлом, то одними бортовыми прожекторами не обойтись. Но на сегодня Берх запланировал только разведку местности. После того, как он убедился, что планетолет стоит достаточно устойчиво, а прожекторы светят туда, куда надо, Берх выбрался наружу и осторожно, шаг за шагом, преодолел оставшиеся пятьдесят метров. Взглянув на топометр, он выяснил, что до точного места исчезновения Сторма требуется пройти еще десять метров. Но Берх уже стоял на самом краю. Он глянул вниз, но никакой зияющей бездны не обнаружил. Ручной фонарь без труда высветил относительно пологий, градусов сорок пять, склон. Склон тянулся метров на пятнадцать и только потом круто обрывался. Иначе говоря, то место, где стоял Берх не было непосредственно краем разлома, или, еще точнее, это место было краем, но не разлома, а своего рода выбоины, образовавшейся от какого-то сильного удара, направленного непосредственно в край разлома. Следовательно, если придерживаться основной версии, события могли развиваться так. Сторм, по неизвестной пока причине, шел прямиком к разлому. По всей вероятности, дорога была ему хорошо знакома, и он не предпринял никаких дополнительных мер безопасности — ведь он считал, что до обрыва есть еще метров пятнадцать. И опять-таки, по непонятной причине, незадолго до этого, часть края разлома обвалилась и, отчего возник пологий спуск, достаточно безобидный, если знать о нем заранее. Но Сторм о нем не знал и продолжал беспечно идти вперед. Когда он спохватился, было уже поздно — Сторм сполз по пологому спуску и сорвался в пропасть. Система контроля потеряла его, когда он находился примерно на середине пологого участка. Почему система потеряла его именно в этот момент — абсолютно непонятно. Сканеры показывали, что глубина разлома в предполагаемом месте падения Сторма не превышает восьмисот метров. Даже после падения с такой высоты, приборы не должны были выйти из строя, что уж говорить о каких-то пяти —десяти метрах, тем более, что Сторм не упал, а всего лишь скатился или сполз, или сделал что-то в этом роде. Но, по версии спасателей, все именно так и произошло: сначала неожиданный спуск по пологому пятнадцатиметровому склону, потом выход из строя системы контроля, и лишь затем — падение с восьмисотметровой высоты. Отчет спасателей Берх прочитал заранее, но только оказавшись непосредственно на месте трагедии, он понял о чем, собственно, в том отчете говорилось. И теперь этот отчет казался ему еще менее убедительным, чем тогда, когда он читал его в первый раз.
Установив страховочные тросы, Берх предпринял попытку повторить путь Сторма — не весь, разумеется, а только те пятнадцать метров по пологому участку. Берха больше всего интересовало, отчего мог произойти обвал породы. Нельзя было исключать ни землетрясения, ни падения крупного метеорита. Он поднял несколько оплавленных камешков — стало быть землетрясение отпадает. Захватив несколько похожих, но не оплавленных обломков породы (для проведения сравнительного анализа), Берх вернулся на планетолет. На сегодня с него было достаточно. Сила тяжести на Плероме —четыре пятых от фаонской, но работать в громоздком скафандре и, вдобавок, в полутьме, было тяжело, если не сказать — опасно.
— Что это могло бы быть, как вы думаете? — Берх протянул Вэнджу оплавленный камешек.
— Оплавленный базальт, — ответил Вэндж, внимательно рассматривая находку, — где вы его взяли?
— У разлома — в том самом месте, где исчез Сторм.
— Почему он вдруг заинтересовал вас?
Берху не хотелось отвечать на этот вопрос, и его выручил Зимин. Он выхватил камешек у Вэнджа и сам принялся его разглядывать.
— Что скажете? — теперь Берх адресовал свой вопрос Зимину.
— Говорите, нашли у разлома…а вы на планетолете к нему подлетали?
— Подлетал…
— Ну вот и оплавили струей, — с довольным видом заключил Зимин.
— Не думаю, что я подлетал так близко — автопилот бы не позволил, — возразил Берх, — какая, по-вашему, нужна температура, чтоб так его оплавить?
— Тысячи по Цельсию хватит, — предположил Вэндж.
Берх нашел еще одно возражение:
— Камень оплавлен давно и уж точно — не сегодня.
Но Зимин и тут не растерялся:
— Спасатели, что искали Сторма до вас, тоже пользовались планетолетом, причем — большим, а не малым. Где они садились, я не знаю, но вполне возможно, что достаточно близко к краю разлома — вот и оплавили базальт.
— Может быть и так, — признал Берх. Довод Зимина звучал правдоподобно.
— А к чему все это? — снова спросил Вэндж.
— Хочу понять, отчего произошел тот небольшой обвал, который изменил рельеф местности и привел к…, — и Берх пересказал астронавтам официальную версию гибели Сторма.
— Да-да, — закивал головой Зимин, — мы это уже слышали. Вполне правдоподобно.
— Вот я и подумал, — продолжал Берх, — а что если Сторм пошел к разлому чтобы взглянуть, что там произошло. Взглянуть на место падения метеорита, например.
— Он бы нам сказал, — возразил Вэндж, — хотя, кто его знает…
— А как Сторм догадался, что там что-то произошло? — спросил Зимин.
— По показаниям сейсмографа, — не совсем уверенно предположил Берх, — у вас есть сейсмограф?
— Разумеется есть, — в голосе Вэнджа послышались нотки раздражения.
Берх решил дожимать:
— Его показания проверяли?
— Нет, не проверяли. Да и что он мог показать? Если сейсмический удар был настолько слабым, что от него произошел лишь небольшой обвал, то на сейсмографе он выглядел бы, как удар от посадки корабля. Если, конечно, посадить его рядом со станцией, а не…, — Зимин не стал продолжать. Намек на берховский непрофессионализм был настолько очевиден, что Берх не мог попросту пропустить его слова мимо ушей:
— И кто же вас, в таком случае, посещал? Судя по вашим же записям, последним, кто садился на Плером до того как исчез Сторм, был сам Сторм!
Зимин смутился.
— Да я это так, к примеру сказал. Никого здесь не было. Если хотите, я покажу вам записи сейсмографа…
— Вот и отлично, — Берх получил что хотел, — ведите меня к вашему сейсмографу.
Зимин не ошибся — от показаний сейсмографа толку было мало, поскольку самих показаний было слишком много — всплески различной амплитуды следовали один за другим. Сейсмограф оказался на редкость чувствительным.
Если бы Берх был специалистом по взрывам, а не по высоким технологиям, то он сумел бы определить, хотя бы приблизительно, какой мощности должен последовать удар, чтобы вызвать небольшой обвал у края разлома. Но во взрывах Берх понимал еще меньше, чем я — в гомоидах. Все, что он мог сделать — так это сопоставить всплески на записи сейсмографа с хронологией событий, предшествующих исчезновению Сторма. Связь со Стормом оборвалась десятого июля по синхронизированному времени, в 3:15, то есть глубокой ночью. Это была ночь и для Плерома, и для работавших на нем людей, которые жили по стандартным двадцатичетырехчасовым часам. В ту ночь Сторм дежурил, а Вэндж и Зимин спали. Со станции Сторм вышел в 2:05 и за час небольшим дошел до разлома. Система контроля за жизнеобеспечением записала весь его маршрут. Шел он уверенно — так, будто точно знал, зачем и куда идет. За полчаса до выхода, точнее, в 1:31 сейсмограф зафиксировал небольшой сейсмический удар в районе разлома, но именно ли он привлек внимание Сторма, по-прежнему, оставалось непонятным. Берх попробовал смоделировать сейсмические удары на нейросимуляторе. Для начала он устроил парочку небольших землетрясений с эпицентром в районе разлома, затем стал бомбить край разлома метеоритами. Сейсмические всплески получались самыми разнообразными, но ни один не совпал с тем, что был зафиксирован в 1:31. Тогда Берх поручил компьютеру самостоятельно симулировать сейсмические удары, стараясь сделать их похожими на реальные, записанные сейсмографом удары. Через час Берх с грустью убедился, что ничего из его затеи не вышло. Компьютер показал, во-первых, что эпицентр удара, произошедшего в 1:31, находился вдалеке от места исчезновения Сторма, а, во-вторых, — что край разлома мог обвалиться от чего угодно — хоть бы и сам по себе.
Остаток дня Берх провел за изучением того, что осталось после Сторма. В каюте он нашел только личные вещи астронавта: одежду, туалетные принадлежности, несколько безделушек-талисманов, коим вменялось в обязанность приносить удачу, и это, пожалуй, все. Комлога Сторма Берх не нашел.
— Он всегда таскал его с собой, — сказал Вэндж после того, как Берх спросил его, куда мог пропасть комлог Сторма.
Берх удивился:
— Но зачем? Зачем брать с собой комлог, если сверху надешь скафандр и комлогом все равно нельзя воспользоваться?
— Ну это зависит от того, как вы собираетесь им воспользоваться. Сторм, по сути, был новичком в космосе — ему все здесь было интересно. И он записывал свои впечатления на комлог.
— Записывать впечатления можно и через канал связи. Комлог, при этом, мог спокойно лежать в каюте — впечатления от этого не пострадают, — возразил ему Берх.
— Что ж сделаешь — у каждого из нас свои привычки, — глубокомысленно заметил Вэндж.
Берха такой ответ не удовлетворил. Не совершает ли он ошибку, оставляя свой комлог в каюте, засомневался он. Несмотря на защиту от взлома, Вэндж и Зимин могут вскрыть его, пока сам Берх находится на поверхности Плерома. Сторм мог опасаться того же самого и поэтому всегда держал комлог при себе. С трудом подавив волнение, Берх спросил:
— Какие еще у него были привычки? Что он повсюду таскал с собой комлог, я уже понял.
— Честно говоря, я с трудом могу сказать что-либо определенное. Астронавт как астронавт…
— Но вы же работали с ним еще до Плерома. И раз вы его взяли к себе в команду, вы должны были хорошо его знать. Вы не могли принять в экипаж кого угодно, следовательно, чем-то он вам понравился. Чем именно?
— Вы задаете мне те же вопросы, что и комиссия из АККО. Сторм был молод, энергичен и главное — его мало привлекал ваш маленький мир. Помните, как раньше говорили… впрочем этого уже ни кто не помнит. Давным-давно, на Земле участники полярных экспедиций называли обитаемую часть суши «большой землей». По аналогии, следовало бы назвать обитаемую часть Вселенной «большим миром», но как-то язык не поворачивается. Потому что настоящая история творится здесь…, — и Вэндж ткнул пальцем в экран. Сквозь слабую атмосферу Плерома тускло просвечивал Белый Карлик.
— А сами вы верите в то, что она скоро может взорваться? — спросил Берх.
— Кто, сверхновая? Верю, иначе меня бы здесь не было, — с хладнокровием фаталиста ответил Вэндж. Берх поежился.
— И вам не страшно?
— Говоря формальным языком, вероятность того, что она рванет при нашей жизни — одна сотая процента, — Вэндж ушел от прямого ответа.
— По космическим меркам — это почти наверняка. Русская рулетка, кажется так это называется, — с усмешкой произнес Берх, но усмешка у него вышла вялой и неубедительной. Ему стало еще больше не по себе. Как допрашивать человека, который и без того живет между молотом и наковальней?
— Вы сказали «при нашей жизни»… А сколько вам? — спросил Берх.
— Сорок пять, а вам?
— Сорок один…
— Следовательно, слова «при нашей» жизни я употребил более-менее корректно, — успокоил Вэндж Берха.
Пока Берх искал способ совладать с охватившим его волнением, Вэндж сменил тему:
— Даже если бы ваше моделирование дало сейсмическую картинку схожую с той, что зафиксировал сейсмограф в 1:31, что тогда? В сущности, это ведь ничего не доказывает.
— Посмотрим, — неопределенно ответил Берх. Он и сам толком не знал, что будет делать дальше.
— Полезете вниз? — снисходительно, как взрослый — ребенка, спросил Вэндж Берха.
— Надо будет — полезу, — упрямо ответил тот.
Вэндж счел нужным предупредить:
— Спасатели спускали вниз биороботов — из двух достали только одного.
— Вы меня пугаете? — Берху показалось, что фраза прозвучала как угроза.
— Нет, нисколько. Но вам следует об этом знать. Вас же наверняка не предупредили.
Это была правда — о потере биоробота Берху ничего не сказали. Он привез с собой одного биоробота и еще — новый сверхчувствительный сканер, но от сканера, видимо, придется отказаться — неизвестно где валяющийся биоробот спасателей неизбежно испортит сигнал.
5
Свой третий день пребывания на Плероме Берх начал с анализа найденных им накануне оплавленных кусочков породы. Спектрометр-анализатор находился там же, где и сейсмограф — в физико-химической лаборатории на третьем, нижнем уровне станции. Как проводить спектральный анализ Берх знал лишь приблизительно и, поэтому, полностью доверился компьютеру — в нем была заложена стандартная программа проведения сравнительного спектрального анализа. Компьютер справился с задачей за полчаса, но выданный им результат оказался для Берха полной тарабарщиной. Несомненным было одно: оплавленный образец содержал некоторые примеси, не содержавшиеся в контрольном образце. Но откуда могли возникнуть примеси, компьютер сказать не мог. Да это и не входило в его обязанности, поскольку программа анализатора была рассчитана на специалиста. Берх мог послать результаты анализа в Отдел, но ответ пришел бы не раньше, чем через три дня. Он мог бы посоветоваться с астронавтами, но этого ему хотелось меньше всего, ведь они были для него прежде всего подозреваемыми, хотя и непонятно — в чем. Кто ж советуется с подозреваемыми? У нас в Отделе подозрительность Берха уже давно стала притчей во языцех, хотя сам он никогда бы не назвал себя подозрительным по отношению к другим. Осмотрительным или, вернее, предусмотрительным — это другое дело. А что Вэндж с Зиминым знают больше, чем говорят, Берх ни сколько не сомневался. Можно сказать, что подозревать астронавтов он стал еще до того, как высадился на Плероме. Иначе зачем бы его сюда прислали?
Вопрос, советоваться ли с астронавтами или нет снялся сам собою — Вэндж застукал Берха, когда тот уже заканчивал работу со спектрометром.
— Проверяете свои камешки? — спросил он, неслышно войдя в лабораторию. Берх от неожиданности вздрогнул. Отпираться было бесполезно.
— Проверяю…
— Можно взглянуть? — и не дожидаясь разрешения, Вэндж стал изучать отчет анализатора, — и на что это по-вашему похоже?
Берх пожал плечами.
— Пока не ясно… Видимо, примеси образовались после взрыва метеорита.
— И что это вам даст?
Огромный Вэндж нависал над Берхом, как скала. Берх невольно отступил назад.
— Я уже вам говорил — для меня важно выяснить, зачем Сторм среди ночи, никому не сказав ни слова, вдруг отправился к разлому. У вас есть какие-то другие предложения? — спросил он, из всех сил стараясь голосом не выдать то, что творится у него внутри.
Вэндж приостановил наступление.
— Ну хорошо, предположим, вы установите, что обвал края разлома был вызван, скажем, падением метеорита. И, предположим, вы найдете частички того самого метеорита, что вызвал обвал. Но можно ли отсюда сделать какие-либо выводы?
— Выводы… самые разные, — у Берха внезапно появилась идея, — а что если его убило этим метеоритом? Я имею в виду, что обвал произошел не до выхода Сторма на поверхность, а тогда, когда он уже был там, у разлома.
На Вэнджа новая версия смерти Сторма не произвела никакого впечатления — он попросту отмахнулся.
— У вас версии рождаются одна другой фантастичнее. То вы утверждаете, что Сторм пошел посмотреть на упавший метеорит, то готовы поверить, будто метеорит свалился ему на голову. Может он туда для этого и пошел? Или, если хотите, вот вам версия ничем не хуже вашей: сейсмограф предупредил Сторма о приближающимся землетрясении, и он отправился к разлому посмотреть, как это землетрясение будет выглядеть вблизи — и провалился в тартарары… И тогда понятно, почему он нас не предупредил — мы бы ему обязательно помешали. Кроме того, вы знаете какова вероятность попасть под метеорит, да еще под такой крупный? Значительно меньше, чем вероятность того, что взрыв сверхновой произойдет прямо завтра. И уж конечно меньше вероятности внезапного выхода из строя системы контроля.
Наверное Вэндж считал свои доводы вполне резонными, но его ждала суровая отповедь:
— Вэндж, поверьте, я не собираюсь вас ни в чем убеждать. Но я намерен проверить любую, пусть самую фантастичную версию.
— Ну хорошо, делайте как знаете, — Вэндж устал спорить. Он махнул рукой и вышел из лаборатории.
Вторым на сегодня, Берх запланировал пешую прогулку до разлома и обратно. Он собирался пройти тем же маршрутом, что и Сторм. Никакого поискового оборудования он с собой не взял — ему было важно проверить сам маршрут и сверить свой хронометраж с хронометражем Сторма. Зато он не забыл прихватить комлог. Зимин уговорил его взять транспортер — если Берху так приспичило идти пешком, то транспортер мог бы двигаться впереди, освещая дорогу, а обратный путь можно проделать и сидя в транспортере.
Напялив тяжелый скафандр, Берх миновал шлюзовую камеру, вышел на поверхность и побрел к ангару, где стоял шагающий транспортер. Ангар находился в ста метрах от шестого модуля, к нему вела ровная, хорошо освещенная дорожка. Примерно на полпути к ангару Берху вдруг пришло в голову, что хорошо бы влезть на самый верх искусственной насыпи — той, что защищала станцию от метеоритов, и оттуда осмотреть окрестности станции. Если бы он не согласился взять транспортер, то вряд ли бы стал так попусту расходовать и силы, и кислород. Берх упорно карабкался вверх, держа направление на осветительную вышку — она стояла на вершине насыпи, непосредственно возле скалистой гряды, защищавшей станцию с тыла. Когда он миновал границу света и тени, Берху показалось, что на голову ему надели непроницаемый мешок. Берх щелкнул выключателем фонаря, но тот уже давно включился автоматически. Он подождал, пока глаза привыкнут к темноте.
«Если дорога к разлому такая же, как эта насыпь, то мне до него никогда не добраться», — с тоскою подумал Берх. И решил, что дальше вверх он не пойдет. Он повернулся спиною к осветительной вышке и стал осматривать окрестности станции. К его великому разочарованию, с насыпи отчетливо просматривался только небольшой, освещенный участок перед входом в шестой модуль и еще — дорога к стартовой площадке, которая тоже подсвечивалась прожекторами. Слева был виден ангар, куда поначалу направлялся Берх. Прямо перед Берхом, сразу за освещенным участком, зияла черная пустота — там начиналась бескрайняя каменистая равнина — Море Яаво. Оно тянулось вплоть до горизонта, который угадывался лишь как граница между звездной и беззвездной чернотою. Глядя с высоты, Берх подумал, что если отсюда как следует разбежаться, то можно ускакать вплоть до того места, куда уже ни один прожектор не добивает, и даже дальше — если он устоит на ногах, конечно. Дабы не вводить себя во искушение, Берх отступил еще глубже в тень.
Из шестого модуля вышел белый скафандр. Берх поднял камешек, чтобы швырнуть им в астронавта (как потом оказалось, это был Зимин). Зачем я это делаю, придумаю, если попаду, подумал Берх. «Что за чертовщина!» — выругался он вслух, — «Откуда, черт побери, он взялся…» Испугавшись, что через систему контроля его услышат на станции, он машинально попытался прикрыть себе рот ладонью, но помешал шлем скафандра. Удивление Берха было вызвано не появлением на поверхности Плерома неизвестного астронавта, а тем самым камешком, который Берх собирался бросить. Камешек был оплавлен точно так же, как образцы, найденные у разлома. Резкая, внезапная боль между средним и указательным пальцами руки, сжимавшей камешек, заставила его выронить находку. На мгновение, ему показалось, что камень обжег его сквозь скафандр. Ну и нервы стали, подумал Берх и, как мог, почесал ладонь. То, что он принял за ожог, было всего лишь уколом упругой синтетической ворсинки, случайно попавшей под тонкую нижнюю перчатку.
Берх поднял камень (тот же или очень похожий), присел на ближайший валун и постарался сосредоточиться. Происхождение только что найденного камня не вызывало никаких сомнений — он был осколком раздробленной взрывом скалы. А скалу взрывали, когда строили шестой модуль, поскольку Берх находился прямо над ним. «Если примеси окажутся точно такими же, а они обязаны оказаться такими же — простого совпадения тут быть не может — то получается, что Сторм взорвался или… или его взорвали…» — вихрем проносилось в его голове. Ему захотелось немедленно вернуться на станцию и все проверить. Но как объяснить астронавтам столь скорое возвращение? Они могут подумать, что он струсил, а могут и заподозрить чего… На ватных ногах Берх спустился вниз и повернул к ангару. В ангаре его встретил Зимин.
— А я уж думал, что вы заблудились, — сказал он, — смотрю, транспортер здесь, а вас нет…
— Немного побродил по округе, — объяснил Берх.
— Следовало бы экономить силы — дорога к разлому не из легких, —предостерег его Зимин.
— Да я уже понял, — буркнул Берх.
Зимин еще раз рассказал Берху, как управлять транспортером. Берх поблагодарил его за такое участие, но зачем Зимин явился в ангар, спрашивать не стал. Ему хотелось как можно быстрее остаться наедине со своими мыслями.
В те инструкции, что давал ему Зимин, Берх особенно не вникал, поэтому лишь выйдя из освещенной зоны, он понял, что транспортер не умеет ходить впереди хозяина, а только следом — как лошадь. Я допускаю, что Берх в тот момент подумал не про лошадь, а про кого-нибудь другого, поскольку — почти уверен — лошадей он никогда не видел. Прожектор транспортера светил в спину, и Берх отбрасывал тень прямо себе под ноги — было еще хуже, чем если бы прожектор не светил совсем. Дорога была ужасной — приходилось искать опору не только ногам, но, порою, и рукам. Первый километр Берх преодолел за тридцать пять минут. Затем дело пошло быстрее: отметка два с половиной километра была пройдена через час пятнадцать после выхода из ангара. На отметке два с половиной километра Берх решил, что свою задачу он выполнил и залез в транспортер. Но и там ему не удалось поразмышлять о неожиданной перемене, произошедшей в ходе расследования — транспортер болтало и раскачивало так, что даже выбравшись из него у края разлома, Берх продолжал еще какое-то время трястись. С неимоверным трудом он спустился на пологий скат и собрал несколько оплавленных кусочков породы.
Обратный путь занял у него не более получаса.
Берх зашел к себе в каюту, чтобы передохнуть и собраться с мыслями. А от них у него уже начинала пухнуть голова. Войдя в каюту, он плюхнулся на кровать.
Обвал края разлома был вызван искусственно, с помощь направленного взрыва — это Берх считал установленным, хотя, для очистки совести, следовало бы провести сравнительный анализ образцов, взятых с насыпи, и тех, что подобраны у разлома. Затем, не мешало бы смоделировать взрыв на нейросимуляторе и сравнить полученную картинку с показаниями сейсмографа. И нечего гадать, каков будет результат. Но Вэндж с Зиминым не походили на убийц, а по работе Берху доводилось встречать и убийц. Пускай Вэндж чересчур надменен, а Зимин никогда не упустит шанса съязвить… Берх вспомнил про кошку. Кошки и коты на станциях — не редкость, но он не мог припомнить ни одного случая, чтобы на космической станции произошло убийство. Астронавты порою гибнут — из-за неисправности техники, из-за беспечности или халатности. Часто удается найти виновных, но чтоб умышленно… В это Берх не мог поверить. И потом, если бы Вэндж с Зиминым задумали убийство, они бы организовали такой несчастный случай, что не подкопаешься, а тут — сущее дилетантство. Ошибка на ошибке. Или они настолько уверены в своей безнаказанности, что плевать хотели и на Берха, и на комиссию из АККО и, вообще, на любого, кто затеял бы проводить расследование. Ему стало жутковато. Берх никогда не страдал клаустрофобией, но в замкнутом пространстве станции ему явственно чувствовалось, что любой его шаг, любое неосторожное слово, даже любая мысль могла легко стать достоянием всех. В данном случае — Вэнджа и Зимина. Может быть вон та черная точка на потолке — это глаз телекамеры, и в этот самый момент они наблюдают за ним, пытаясь по выражению его лица догадаться, о чем он думает, что чувствует. «Черта с два вам», — буркнул Берх, перевернулся на живот и уткнулся в подушку. Что могло послужить причиной убийства? Вариантов всего два — либо проводимые на станции исследования, либо личность самого Сторма. Правда, нельзя забывать о том, что Сторм исчез или, теперь уже наверняка — погиб, всего за неделю до прибытия комиссии АККО. И про смерть его предшественника тоже нельзя забывать, хотя с ней, вроде, все чисто…
Подошло время обеда. Берх с трудом заставил себя встать, сполоснул лицо холодной водой и пошел в столовую, соображая по дороге — отравят ли его прямо сегодня или прежде выяснят, что ему известно об убийстве Сторма.
Во время обеда Вэндж и Зимин не обратили никакого внимания на то, что Берх не стал есть приготовленное ими картофельное пюре с натуральным копченым мясом, а вместо этого открыл себе новую банку консервированных овощей, хотя старая, открытая накануне, была пуста лишь на две трети. После нескольких формальных вопросов касательно похода к разлому, они и вовсе перестали его замечать и весь обед проспорили о каком-то спутнике, который они вот-вот должны запустить по направлению к Карликам.
Берх безо всякого аппетита глотал холодные, острые овощи, время от времени прислушиваясь то к разговору астронавтов, то к своим собственным мыслям. Видел ли его Зимин на насыпи? Нет, вряд ли — Берх находился в тени, луч прожектора шел над его головой. Черт, он опять забыл про систему контроля — она сообщает на станцию о каждом его шаге. Надо понять, можно ли ее у себя отключить. Передавший ему дело Сторма сотрудник АККО убеждал его, что астронавт, находящийся на поверхности планеты, не в состоянии самостоятельно отключить у себя систему контроля — так специально задумано на случай, если из-за внезапного помрачения рассудка, например — из-за мании преследования, астронавт решит прервать связь со станцией. Такие случаи бывали, но не на Плероме.
От овощей уже начинало подташнивать. Берху пришлось громко пожелать астронавтам приятного аппетита, чтобы они обернулись. Обернулись, сказали дружно «спасибо» и снова отвернулись — как ни в чем ни бывало.
Берх спустился в лабораторию. Со вчерашнего вечера здесь ничего не изменилось. Предыдущие образцы породы лежали рядом со спектрометром — так, как он их и оставил. Берх не стал их трогать — не случайно он подобрал у разлома новую партию оплавленных осколков. Осколки с насыпи сложил отдельно — дабы не перепутать. И включил спектрометр-анализатор. Результат оказался ожидаемым, но не категоричным: сходство в примесях составило шестьдесят пять процентов. Для версии Берха такое совпадение годилось.
Теперь настал черед нейросимулятора. Его вердикт Берха несколько обескуражил. Компьютер считал, что в 3:15 , то есть в момент «исчезновения» Сторма, никакого взрыва рядом с астронавтом не было. Получалось так, что Сторм погиб не из-за взрыва и версия Берха рассыпалась по кусочкам. Он никогда не был склонен искать положительные стороны в собственных ошибках, но данный случай оказался исключением. В глубине души, его устраивало, что Вэндж с Зиминым не оказались убийцами. Но может, взрыв просто привлек внимание Сторма? Берх проверил все сейсмические всплески, зафиксированные в ту ночь, но всякий раз компьютер давал отрицательный ответ. Он расширил временной интервал до одних суток. И каково же было его удивление, когда электронный мозг со всей ответственностью заявил, что, если взрыв и был, то только в 4:25, то есть более чем через час после потери связи со Стормом. Еще один пример абсурда, подумал Берх. Он решил, что все здесь над ним просто издеваются — и Вэндж, и Зимин, и даже нейросимулятор. Возможно — и Сторм, хотя откуда тот мог знать, что его дело приедет расследовать именно Берх.
В голову опять полезли нехорошие мысли. А что если Вэндж с Зиминым каким-то образом все-таки отключили систему контроля; затем расправились со Стормом, а взрыв устроили чтобы замести следы? Нет — слишком сложно. Куда проще было бы просто столкнуть Сторма с обрыва — раз — и никаких хлопот. И никакого расследования. Тело Сторма подняли бы со дна Улыбки Явао и похоронили со всеми полагающимися почестями. А Берх, вместо расследования, нежился бы сейчас где-нибудь под теплым солнышком — на Оркусе или на Земле…
Берх, в который уже раз, решил обратить внимание на личность самого Сторма. Перед уходом из лаборатории он скопировал все результаты в комлог, а оставшиеся в лабораторном компьютере данные предусмотрительно стер. Вернувшись в каюту, Берх достал все вещи Сторма, аккуратно разложил их на полу. Сначала он хотел разложить их на кровати, но тогда, ему самому пришлось бы стоять (из-за малых размеров каюты, кресла здесь не предусмотрены). Да и стормовские ботинки на кровать класть не хотелось. В отдельную стопку он сложил одежду, предварительно проверив все карманы. Карманы были пусты. Рядом с одеждой он поставил ботинки. Кстати, какого черта они оказались в каюте — ведь их снимают прежде чем надеть скафандр, следовательно они должны были остаться в отсеке перед шлюзовой камерой. Надо будет спросить у астронавтов, зачем они перенесли их в каюту. Туалетные принадлежности, как и вся одежда, были местные — на каждом предмете стояло клеймо станции Плером-11. Тоже — странно.
Последняя кучка оказалась самой маленькой. Несколько талисманов, что астронавты, по суеверной традиции, таскают с собой со станции на станцию: три разноцветных камешка в оправе, статуэтка непонятного, то ли божка, то ли зверя, которого Сторм, вероятно, считал своим покровителем, а может, просто, — чей-то подарок. Никаких книг или снимков среди вещей Сторма не было. Скорее всего, размышлял Берх, и снимки и книги он хранил в комлоге, но последний теперь находится там же где и Сторм. Боясь, что он что-то упустил, Берх обшарил каждый сантиметр, каждый угол каюты. Заглянул под кровать — все в пустую.
Он все больше и больше не понимал, как ему вести себя с Вэнджем и Зиминым. Сделать вид, будто ничего не происходит? Я сомневаюсь, что Берх вообще умел делать такой вид — бесстрастный, я имею в виду. Сам Берх считал, что на какое-то время, он и впрямь способен скрыть свои чувства. Но в любом случае, ему нужна была передышка, возможность побыть наедине с самим собой, сосредоточиться и подготовить себя к дальнейшей игре. Но в том то и дело, что, находясь на станции, он не мог найти себе безопасного места. Он был убежден, что за ним постоянно наблюдают, и та игра, в которую он намеревался сыграть с астронавтами, уже давно ведется, и незаметно, мало-помалу, его прижимают к его же воротам. Шеф совершил большую ошибку, послав Берха расследовать дело Сторма, если, конечно, у него не было каких-то особых, неизвестных мне соображений.
За ужином Берх долго молчал, но, под конец, родил-таки вопрос:
— В каюте Стома я нашел его ботинки, какие мы носим на станции, а перед выходом на поверхность — снимаем. Как они там оказались?
Вэндж с Зиминым недоуменно посмотрели друг на друга.
— Я отнес их из предбанника в каюту — чего им там болтаться, — подумав, ответил Вэндж.
— А к чему, собственно, вопрос-то? — вкрадчиво спросил Зимин.
Если б Берх сам знал — к чему!
— Просто, мне это показалось странным…
— И только это? Больше ничего? — продолжал Зимин.
— Нет, не только это. Человек исчез, не оставив после себя практически ничего из того, что могло бы рассказать о его характере, о его прошлой жизни.
— Следовательно, он жил не прошлым, а будущим, — демагогично заметил Зимин.
— Не в том дело, — на Берха демагогия не действует, — чем, кроме научных исследований, он занимался? Может читал что-нибудь, фильмы смотрел…
— О, этого добра у нас навалом, — перебил его Зимин, — в накопителе накопилось масса всего интересного и поучительного: книги, фильмы, ну прочая ерунда. Взгляните, если хотите.
— Но кто что смотрел, разобрать, разумеется, нельзя?
— Угу, — кивнул Зимин.
— Хорошо… Скажите, записи системы контроля за жизнеобеспечением — вы их храните, или, как и с книгами, теперь уже невозможно восстановить — кто, когда и куда выходил?
Вэндж ответил:
— Если вы говорите о записи выходов Сторма, то тут, снова вынужден вас огорчить — записывается только последний выход. И запись хранится, пока астронавт вновь не покинет станцию. Тогда система контроля стирает прежнюю запись и записывает новую.
— А свои личные записи вы храните?
— Нет, со мной система контроля поступает точно так же.
— И со мной, — поддакнул Зимин.
— Но, в принципе, порядок хранения изменить можно, — предположил Берх.
— В принципе — да. Мы тут ни за кем не шпионим, и каждый имеет право выбирать — хранить записи или стирать. Конечно, если в данный момент астронавт находится вне станции, то запись ведется обязательно — для этого она и придумана.
— Ясно, — ответил Берх.
— Что-то вы ничего не едите, — заметил Вэндж, — наша стряпня не устраивает?
Берх отвлекся от банки с кефиром.
— Худею, — ответил он, — а на ночь много есть вредно.
— Много есть, вообще, вредно, — ухмыльнулся Зимин и пошел за добавкой, — я догадываюсь, — продолжил он стоя спиной к Берху, — почему наш гость вдруг сел на диету, хотя консервированные овощи диетой назвать трудно — они жутко жирные.
— Ну и почему? — поинтересовался Вэндж.
— О, я оставлю свою догадку при себе, — театрально воскликнул Зимин.
«Специально стоит к нам спиной, чтобы не было видно лица», — подумал Берх.
— Выпендривается, — вполголоса, доверительно пояснил Вэндж Берху.
— Точно! — громко ответил Берх.
Зимин повернулся к сотрапезникам и весело произнес:
— А я все слышал!
— Не сомневаюсь, — прошипел Берх.
Кефир он уже допил. Оставаться в одном помещении с Зиминым ему было невыносимо.
Каждая каюта на станции оборудована выходом на местный, «станционный», накопитель. Берх подключил комлог и открыл библиотеку. Как и сказал Зимин, кто и когда брал книгу — компьютер не сообщал. Однако, установить, в какой день и в какое время брали ту или иную книгу в последний раз, Берху не составило никакого труда. В ту ночь, когда исчез Сторм, читали всего одну — некий «Сборник космических историй», довольно старый. Его взяли в 0:30 — за полтора часа до выхода Сторма на поверхность Плерома. Если Вэндж и Зимин, как они уверяют, в то время уже спали, то читать книгу мог только Сторм. Берх стал пролистывать рассказы. Они были короткими и ничем таким особенным не выделялись — обычные космические байки, какие пишут все кому ни лень. На третьем рассказе Берха начало клонить в сон, он еле-еле добрался до четвертого.
Четвертый рассказ начинался с описания марсианской исследовательской станции. По нынешним меркам — Марс — это практически на Земле. Экипаж станции состоял из трех астронавтов. В последний день пребывания экипажа на станции один из астронавтов решает задержаться еще на какое-то время. Причем, он хочет остаться на ней в полном одиночестве, что, разумеется, строго запрещено. Причины такого странного решения — сугубо личные. Во исполнение своего замысла, астронавт, незадолго до старта, устраивает неподалеку от станции взрыв и устраивает его таким образом, чтобы другие два астронавта подумали, будто он погиб и улетели бы на Землю вдвоем. План удался блестяще — главного героя с пару часов искали; потом, решив, что дальнейшие поиски бесполезны, два астронавта улетают. Оставшись в гордом одиночестве, астронавт готовится к долгому пребыванию на марсианской станции. В первую очередь, ему необходимо запустить реактор, снабжавший станцию энергией, поскольку перед самым отлетом его коллеги этот реактор остановили. После нескольких неудачных попыток, реактор удается запустить. Именно в тот момент, когда герой рассказа запустил-таки с реактором, действие переносится на улетевший космический корабль. Два астронавта беседуют о том, что случилось с их коллегой, которого они считают погибшим. И один из собеседников, как бы невзначай, говорит, что мол, хорошо, он успел заглушить реактор — в противном случае, поврежденный взрывом реактор попросту взорвался бы вместе со всей станцией. На этой оптимистичной ноте автор прерывает повествование.
Берх перечитал рассказ, — благо тот был совсем коротким. Подумал, не перечитать ли его еще раз. Аналогия была более чем очевидной… или он бредит наяву. Он стал судорожно искать разгадку, но никак не мог сосредоточиться. Опять совпадение… какое, к черту, совпадение, если рассказ читали непосредственно перед исчезновением Сторма. Но кто его читал? Не пойти ли и не спросить ли их вот так прямо в лоб… Они же рассмеются ему в лицо… Скажут, совсем спятил… А Зимин предложит погадать по руке или как-нибудь еще… Да и они спят уже давно — оставшись вдвоем астронавты перестали устраивать ночные дежурства. Мистификация? Что ж — очень может быть. Но кто и кого мистифицирует? Из тех, кого мистифицируют Берх мог сходу назвать только себя. А из тех, кто мистифицирует — Сторма. Но если исчезновение Сторма и впрямь — мистификация, то, скорее всего, все три астронавта — заодно. Или его просто хотят запутать? Вэндж и Зимин убили Сторма и подсунули ему этот рассказ. Как подсунули — не важно — так или иначе, но он рассказ прочитал. И в конец запутался — чего они и добивались.
Берх попробовал сопоставить то, что написано в рассказе и то, что ему известно по делу Сторма. Первое — мотивы. У героя рассказа мотивы были личными и, по мнению Берха, абсолютно неубедительными. Просидеть еще бог знает сколько времени в запертой банке, чтобы написать об этом историю и прославиться — бред да и только. Но в те времена люди могли рассуждать иначе… А Сторм — какие у него могли быть мотивы, чтобы исчезнуть таким вот странным способом, а не просто улететь отсюда, как поступил бы на его месте любой нормальный человек? Стараясь найти параллели между вымыслом и реальностью Берх дошел до того, что стал называть астронавтов Плерома именами героев рассказа и наоборот. Собственное сознание отказывалось подчиняться. Он посмотрел на часы — было полшестого утра. Если он сейчас уснет, то проснется позже, чем Вэндж и Зимин — то есть он будет спать в то время, как его превосходящий численностью противник — бодрствовать. Допустить такого он не мог.
Берх поднялся с кровати, зашел в крохотную ванную и подставил голову под струю ледяной воды. Стало немного легче. Он решил пойти в столовую и сварить себе кофе. В коридоре свет горел ярко — также, как и днем. Рядом со столовой находилась вторая лестница — как и первая, она вела на третий и первый уровни. Проходя мимо нее, Берх услышал тихий металлический скрежет — он донесся снизу, с третьего уровня. С таким звуком здесь на станции раздвигались межсекционные перегородки. Несколько секунд он простоял в нерешительности, размышляя, был ли этот звук на самом деле, или ему только показалось. Затем вернулся в каюту, взял комлог, фонарь (не исключено, что третий уровень освещен хуже, чем второй) и, стыдясь собственной трусости, прихватил еще и бластер. Спустился вниз. Прошел из конца в конец коридора, затем — обратно, к лестничной площадке. На нее выходила еще одна дверь, вернее, это была не дверь, а та самая межсекционная перегородка, скрежет которой услышал Берх. За нею начинался пятый модуль станции — в него Берх пока еще ни разу не заглядывал. Он нажал зеленую клавишу слева от перегородки прежде, чем успел сообразить, что звук открывающегося стального заслона вспугнет того, кого он преследует — точно так же, как пять минут назад тот же звук заставил насторожиться самого Берха. Но кнопку он уже нажал. Перегородка шурша и поскрипывая поползла в сторону. Едва проем увеличился на ширину ладони, как оттуда с грозным шипеньем выскочил Варвар и, проскочив у Берха между ног, убежал вверх по лестнице. Берх утер со лба холодный пот. Прошел в пятый модуль. На него пахнуло затхлым, спертым воздухом. Освещение работало еще хуже, чем вентиляция, и Берх мысленно похвалил себя за то, что не забыл прихватить фонарь. Он стоял на втором уровне пятого модуля. Как и в шестом, тут тоже было три уровня, но сам пятый модуль был расположен ниже, чем шестой. Берх извлек из комлога план станции. Пятый был чуть меньше, чем более современный шестой модуль, но компоновкой отсеков они не отличались. Из нижнего, третьего уровня, по крайней мере, теоретически, можно было попасть в законсервированный четвертый модуль. У Берха мелькнула мысль, что, возможно, четвертый модуль вовсе не законсервирован, а как раз наоборот… Как знать, вдруг именно там скрыта разгадка исчезновения Сторма. Кроме того, что в пятом модуле было темно и душно, в нем, еще вдобавок, царил жуткий холод. Берх убрал комлог и достал бластер. Оружие его всегда согревало, но, насколько я знаю, он ни разу не воспользовался им по назначению.
Берх сошел на третий уровень пятого модуля — та же полутьма, та же вонь давно не проветривавшегося помещения. Держать в руках одновременно фонарь, бластер и комлог с планом не хватало рук, и он с трудом отыскал переборку между пятым и четвертым модулем. Серый потускневший металл был холодным и скользким на ощупь. Подсвечивая себе фонарем, Берх стал внимательно осматривать поверхность двери, в надежде отыскать следы рук или вообще какие-нибудь следы, которые могли бы указать на то, что переборку недавно отодвигали.
Вэндж уже целых три минуты наблюдал, как Берх исследует переборку. Он стоял метрах в трех от него, спрятавшись за тем дверным проемом, что вел во внутренние помещения третьего уровня. Его так и подмывало сказать что-нибудь эдакое, чтобы как следует напугать Берха, но мысль о снятом с предохранителя бластере не давала ему покоя — с перепугу Берх мог выстрелить не разобравшись. А искаженное страхом лицо незадачливого следователя — это не то, что желал бы увидеть Вэндж перед смертью. И он выжидал. Наконец, в тот момент, когда Берх потянулся к ярко зеленой кнопке слева от переборки и на несколько мгновений опустил свое оружие, Вэндж вышел из проема и спокойным голосом произнес:
— Бесполезно — она заблокирована.
Я думаю, Берх не выстрелил по той простой причине, что забыл, как это делается. Только это и спасло Вэнджа, потому что Берх здорово перепугался.
— Тихо, тихо, это я — Вэндж, я без оружия, — и в знак своих добрых намерений Вэндж показал Берху пустые ладони.
— Ну и шуточки у вас… Я же мог выстрелить!
— Вы и сейчас можете это сделать. Вы ведь не на сапиенсов вышли охотиться, и ни на призрака Грега Сторма. Кроме вас, меня и Зимина на станции никого нет, следовательно вы собирались стрелять в кого-то из нас двоих. Или я ошибаюсь?
— Я ни в кого не собирался стрелять. Во всяком случае — первым. А что вы тут делаете?
— Я обязан отвечать? Ах, простите, я забыл, что вы вооружены, а по правилам игры, тот кто вооружен — задает вопросы, ну а тот кто безоружен — отвечает. Я пришел сюда проверить кое-какое оборудование. Какое именно?… — он усмехнулся, — я мог бы наврать вам с три короба — вы в нашей технике все равно ничего не смыслите, но врать я не люблю, поэтому лучше промолчу.
— Если вы не любите врать, то почему все время твердите мне, что не знаете, что случилось со Стормом?
Вэндж почесал затылок.
— Не помню, чтоб я вам так говорил, но если хотите — извольте. Да, я знаю, что именно произошло со Стормом. Вам от этого легче? Вы все равно ничего не найдете и ничего не сумеете доказать.
— Хорошо, пусть так — ничего не найду, ничего не сумею… Но скажите, раз вы такой честный, а я — такой тупой, вы… вы или Зимин… вы убили Сторма?
— Ах вон оно что! Видно вы далеко прошли в своем расследовании, — по лицу Вэнджа скользнула улыбка, — нет, мы его не убивали, но в каком-то смысле приложили руку…, — не договорив он шагнул к лестнице.
— Постойте, я еще не закончил, — Берх закричал ему вслед, — этой ночью я прочитал один рассказ… кто-то из вас троих его тоже читал, а может, и все трое… Такой небольшой рассказик про то, как один астронавт решил сделать вид, что погиб, но и в самом деле — погиб. Это, случайно, не ваш случай?
Вэндж обернулся.
— Вы все понимаете слишком буквально, — произнес он медленно, с расстановкой, — используйте свое воображение, если, конечно оно у вас есть. На худой конец поставьте рядом с экраном зеркало… иначе, все у вас выходит слишком, слишком буквально, — повторил он и стал быстро подниматься по лестнице. Берх собирался сказать что-то в ответ, вероятно, спросить про то загадочное зеркало, что упомянул Вэндж, но его собеседник уже исчез в темноте лестничных пролетов. Берху поспешил следом. Он не на шутку испугался, что его могут заживо замуровать в пятом модуле. Но все кончилось благополучно. Вэндж даже не стал закрывать за собою переборку между пятым и шестым модулем. Берх зашел в столовую, сварил себе крепкий кофе и запил им три таблетки психостимулятора.
Последний свой отчет Отделу он посылал более двух суток назад — тогда он только сообщил, что благополучно добрался да Плерома. Он думал, что следующий отчет будет рапортом о благополучном завершении расследования. Но события развивались совсем не так, как он предполагал, о чем, хоть это и неприятно, следовало доложить Шефу. Диктовка сообщения заняла около часа. Оно оканчивалось так:
…на лицо два варианта событий, приведших к исчезновению Сторма.
Первый вариант: Вэндж и Зимин по неустановленной пока причине убивают Сторма, инсценируя несчастный случай. Преступление может быть как-то связано с тем, что находится в старых, законсервированных модулях станции.
Второй вариант: в результате сговора между всеми тремя астронавтами, инсценируется несчастный случай, цель которого — дать Грегу Сторму возможность исчезнуть, пропасть, считаться погибшим и т.д. и т.п. Есть вероятность, что в процессе инсценировки Сторм действительно погибает.
Мне хотелось бы еще раз проверить запись его последнего похода к Улыбке Явао — принимая во внимание версию с инсценировкой, запись может оказаться подделкой.
Именно второй вариант мне кажется наиболее перспективным, но в процессе дальнейшего расследования мною будут учитываться оба сценария. На мой взгляд, имеет смысл тем или иным образом дать понять Вэнджу и Зимину, что мне известны подробности преступления или несчастного случая и вызвать, тем самым, их ответную реакцию. Иначе говоря, я собираюсь спровоцировать их на ответные действия.
Покончив с докладом, Берх составил небольшое сообщение для меня лично. Он закончил с ним в восемь утра — в это самое время мы с Татьяной были уже на пути к Фаону.
Глава шестая: История о побеге.
1
Шеф слушал мой доклад, не перебивая. Я все ждал его зловещего «ну-ну», но, слава богу, не дождался. После того, как я закончил, они с Ларсоном обменялись многозначительными взглядами. Шеф вплотную подключил Ларсона к делу Института Антропоморфологии, поскольку расследование зашло не просто в тупик, а в тупик научный, откуда, по его мнению, без Ларсона нам не выбраться. Ларсон тоже меня не перебивал, но регулярно хмыкал и время от времени с безразличным видом посматривал в окно, как бы показывая, что, будь он на моем месте, раскусил бы и Абметова и Бланцетти-Шварца в два счета. Он давно уже лелеял мечту хотя бы на время вылезти из своей лаборатории и поработать, что называется, на свежем воздухе. Иначе говоря — побегать за преступниками самолично. До Ларсоновских хмыканий мне не было никакого дела, а о его неостроумном розыгрыше я больше не вспоминал.
Полученные от Стаса, первоначальные сведения о моделях рефлексирующего разума я представил так, будто впитал их с молоком матери и, как ни странно, Шеф с Ларсоном проглотили это на раз. Чего Шеф не проглотил, так это трехкрылую пирамидку.
— Почему ты выбрал именно ее? Тебе она что-то напомнила?
Я не знал как выкручиваться — ведь о крылатом треугольнике на груди у Номуры я до сих пор никому не сказал.
— Тот торговец сам сунул пирамидку мне в руки. Мы с Татьяной тогда обменялись несколькими репликами. Возможно, одна из них и натолкнула торговца на мысль, что трехкрылая пирамидка может нас заинтересовать.
— Какие реплики? Что именно вы сказали?
Тянуть с ответом не стоило, и я принялся импровизировать:
— Я уже рассказывал, что в во время своего первого посещения Института Антропоморфологии, я наткнулся на странное животное, которое они называли «бикадал трипода», то есть трехногий двухвост. С другой стороны, сувенирные лавки на Оркусе торгуют всевозможными подделками, причем, из-за недостатка воображения торговцы берут в качестве образца вполне земные артефакты, лишь слегка изменяя их, внося или, наоборот, убирая некоторые детали. И мы с Татьяной в шутку предположили, что нам непременно должны предложить что-нибудь трехногое или трехкрылое… Услышав нас, продавец сказал, что у него есть то, что нам надо, и показал трехкрылую пирамидку. Я вспомнил о «бикадале триподе» и купил ее.
Шефа мое объяснение устроило.
— Хорошо, с этим все понятно. Но ты утверждаешь, что Абметов пирамидку не узнал.
— Или очень хорошо это скрыл — мы с Татьяной ничего не заметили.
— Хм, с Татьяной…, то же мне, нашел кого с собой на задание брать! (Я не стал ему напоминать, что он сам разрешил взять Татьяну на Оркус). Глупость какая-то: тебя, гомоида Бланцетти-Шварца и убитого торговца связывает только это нелепая пирамидка.
— Не забудьте про Шлаффера, — напомнил я (о Йохане я в докладе не упоминал).
— Да, — согласился Шеф, — еще и Шлаффер. Он решил, что ты его шантажируешь, но чем? Гомоидами?
— Если бы не его связь с Абметовым, я решил бы что дело в чем-то другом. Во время встречи со Шлаффером в Институте Антропоморфологии, я не успел сказать ему о гномах — помешал Перк.
— Если Шлаффер был с Перком заодно, то он мог правильно истолковать твой намек — ты ведь к этому и стремился. С Абметовым Шлаффера могут связывать только гомоиды. Где сейчас Шлаффер?
Этого я не знал.
— Тогда, получается, что и Симонян в курсе дела — ведь именно он послал Шлаффера в командировку. Побеседовать с ним? — спросил я.
— Съезди к нему завтра, поговори, но так, чтобы ты от него получил информацию, а не он от тебя, — как обычно, принятое решение Шеф озвучил в виде весьма ценного совета, — Тут есть еще один непонятный момент. Как Абметов мог так быстро узнать, у кого из торговцев ты купил пирамидку? Выходит, он или его сообщник за тобой следили.
— Не исключено, — нехотя признал я, — за мною мог следить все тот же Шлаффер.
Шеф обратился к Ларсону:
— Ну а ты что скажешь?
— Что скажу… А скажу, что надо было с самого начала поставить меня в известность. Многих ошибок удалось бы избежать. В конце концов, я мог бы поехать на Оркус вместе с ним, — он кивнул в мою сторону. Не очень-то вежливо говорить о присутствующем коллеге «с ним». Он продолжал:
— Существование гомоидов как таковых я не считаю вполне доказанным…
Чем, интересно, отличается просто «существование» от «существования как такового». Не забыть бы потом у него спросить, размышлял я.
— … возможно твои так называемые гомоиды или гномы — это просто люди, но с измененным генетическим аппаратом. И те отклонения, о которых ты говорил, не более чем обыкновенные психические расстройства, вызванные изменением генома.
Я возразил:
— Но заметь, у гомоидов именно те психические расстройства, что предсказываются теорией.
— Не знаю, не знаю… С теорией я знаком пока только с твоих слов. А ты, в свою очередь, со слов Абметова. Так должен ли я ему верить?
Возражение Ларсона звучало на редкость здраво.
— Хорошо, пусть так… Но не думаю, что дело только в простом дефекте генома — как у больных синдромом Дауна, например. Изменения в психике — это лишь одно из следствий, побочный эффект, так сказать. Я не вижу смысла спорить сейчас о том, чем именно гомоиды отличаются от людей. Для выяснения наших с ними отличий, нам нужно поймать — живым или мертвым —хотя бы одного. Но гомоиды идут на все, лишь бы их тела не были обнаружены. Вспомните, как выкрали тело Джека Брауна. На тех вещах, что я вам передал, вы обнаружили какие-нибудь следы?
Пока Татьяна собирала вещи, я успел обыскать и номер Бланцетти, и номер Шварца. Ничего интересного я не нашел — в номерах были только те обычные предметы, которыми люди пользуются в дороге и еще немного одежды.
— Нет, не обнаружил. Все предметы, незадолго до того, как ты мне их передал, были обработаны дезополимерадом, так что все высшие кислоты разложились, — удрученно объяснил Ларсон.
— Вот видите! — воскликнул я, — Бланцетти нарочно это сделала, будто знала, что назад в отель ей уже не вернуться. Если бы она не была гомоидом, то зачем ей уничтожать свои следы таким способом?
Ларсон возразил:
— Ерунда. Ты сам сказал, что Бланцетти не собиралась совершать самоубийство. Следы уничтожил Абметов — больше некому.
О таком варианте я не подумал.
— Но как он так быстро успел, — недоумевал я, — у меня на каждый замок по полчаса ушло. Это при том, что я использовал специальный сканер!
— Выходит, твой Абметов еще и взломщик первоклассный, — поддержал Ларсона Шеф, — но в целом ты, Федор, прав — гомоиды за собой на редкость тщательно убирают. После Джека Брауна ведь тоже ничего стоящего не нашли. Но ты же общался с Бланцетти! Что она из себе представляла? Ну хоть что-то ты должен был заметить. Может гомоиды едят не так, ходят не так, спят, в конце концов, не так как люди?
— Как она спит, я не видел — случай не представился. Ест, как все нормальные люди. Ходит… Ее походка мне показалась немного неуклюжей, но это понятно — ведь она была мужчиной, вернее, у нее было тело мужчины.
— Не надо понимать меня так буквально, — прервал меня Шеф, — как она ходит, в конце концов, не так уж и важно. Я говорю о существенных отличиях, таких, например, как… не знаю… любые…, — он развел руками.
— Я думаю, внутренне строение тела у них вполне человеческое, за исключением мозга, разумеется. Про их мозг ничего сказать не могу, может, Франкенберг какие-то синапсы попереставлял — не знаю. Но, я почему-то верю в то, что гомоиды не мутанты и не биороботы, они…, в общем, они другие. По другой модели скроены. А модели эти всем давно известны, надо только их тщательно проанализировать.
— Конкретные предложения у тебя есть? — снова обратился Шеф к Ларсону.
— Разумеется, я все, как выразился Федор, проанализирую. Но нельзя исключать и то, что мы имеем дело с какой-то мистификацией. Непонятно только, зачем Франкенбергу нас мистифицировать. Если для того, чтобы привлечь к себе внимание, как к ученому, то почему тогда все окутано такой тайной? Наоборот, ему следовало бы раструбить на весь мир о своем открытии. Но он и его помощники, как и сами гомоиды, предпочитают унести свою тайну в могилу, нежели рассказать о ней кому бы то ни было.
Шеф сделал единственно правильный вывод:
— Нам необходимо найти четвертого гомоида, если он конечно существует. Или доказать, что его нет. Вдруг наш Джон Смит прав и гомоиды действительно представляют опасность для людей? Чтоб больше никаких проколов!
Я подумал, что, если Джон Смит прав, то все у нас идет по плану: из четырех созданных Франкенбергом гомоидов двоих-троих уже нет в живых и, таким образом, человечество — в среднем на пять восьмых — вне опасности. Но вслух я произнес нечто иное:
— У меня нет сомнений, что мы разыщем четвертого гомоида. Но должны ли мы противодействовать, если кто-то — не важно кто — попытается его уничтожить, убить, одним словом?
— А почему кто-то должен его убить? — удивился Ларсон.
Спросить бы у Номуры, подумал я.
— Чтобы он не попал к нам в руки, — за меня ответил Шеф, — безусловно, мы должны препятствовать убийству гомоидов. Если потребуется — мы сами можем это сделать. Но, надеюсь, до такой крайности мы не дойдем. Итак, первое, что предстоит нам с вами сделать, это проследить цепочку Абметов — Шлаффер — Институт Антропоморфологии. В этом нам поможет господин Виттенгер, который некоторым уже знаком, — и Шеф покосился на меня.
— А он что, в курсе наших проблем?
Шеф поморщился — мой вопрос прозвучал и в самом деле глупо, и Шеф его проигнорировал. Он продолжил инструктаж:
— Ты, Хью, просмотри все публикации по всем темам, так или иначе касающимся моделей рефлексирующего разума, искусственного интеллекта и тому подобным вещам. Обратите внимание на авторов — вдруг среди них окажется Абметов, но под другим именем. И вот еще что, Хью, займи по возможности нейтральную позицию — мне не нужны доказательства, что гомоидов вообще не может быть в природе, скорее наоборот — любые доказательства их существования «как таковых».
Здорово он его поддел. Ларсон клятвенно пообещал засунуть свою научную гордость куда подальше и поверить в гомоидов, как в своих детей (которых у него трое).
После такой демонстрации служебного рвения, мне ничего не оставалось, как пообещать найти четвертого гомоида к завтрашнему утру. Шеф ответил, мол, незачем так торопиться и велел Ларсону доложить, что у него нового по Берху. Ларсон скосил глаза в мою сторону.
— Говори при нем, — приказал Шеф, правильно истолковав его взгляд.
— Хорошо. Я тут между делом раскопал кое-что интересное…
— Стоп, — прервал его Шеф, — давайте поступим по-другому. Предлагаю еще раз прослушать последнее сообщение Берха, чтобы ввести Федора в курс дела. Ты ведь не в курсе? — спросил он меня. Я замялся.
— Так, в общих чертах…
— Хм… в общих чертах… ладно, потом объяснишь, что ты подразумеваешь под «общими чертами», а пока послушаем Берха.
И он поставил то самое сообщение, что Берх передал в Отдел на четвертый день своего пребывания на Плероме.
— Ну так что ты там нашел? — спросил Шеф Ларсона, когда мы дослушали доклад Берха до конца.
— Поразительная вещь, доложу я вам, наблюдается… Я проанализировал запись системы контроля за жизнеобеспечением. По официальной версии, эта запись свидетельствует о том, что десятого июля, в 2:05, Сторм вышел со станции Плером-11 и направился к Улыбке Явао. Кроме всего прочего, система контроля записывает гомеостатические показатели астронавта, состояние метаболических процессов…
— Не тяни — выкладывай, — поторопил его Шеф.
— А я что делаю?.. Так вот, по расчетам компьютера возраст того человека, с кого писалась биометрия, находится между сорока и пятьюдесятью годами. И уж в любом случае, ему никак не могло быть всего двадцать четыре года — столько, сколько, по нашим данным, было Грегу Сторму.
Открытию Ларсона был обещан большой успех. Шеф так и выпрыгнул из кресла.
— Ты уверен?.. Ты абсолютно уверен в том, что запись вели не с Грега Сторма?
Ларсон потупился.
— Извините, но вопрос поставлен некорректно. Во-первых, мы не знаем какого возраста был Сторм. Мы знаем лишь то, что написано в его деле, и не более того. Во-вторых, если вы настаиваете на точных цифрах, то вероятность того, что биометрия делалась с человека, чей возраст не превышает двадцать пять лет, равна полутора процентам. Я ответил на ваш вопрос?
— Вполне, — Шеф снова занял свое место, — Берх прав — это чертовщина какая-то!
В докладе Берха чертовщина не упоминалась. Не читал ли Шеф его письма ко мне, там чертовщины — хоть отбавляй.
Ларсон резюмировал:
— Напрашивается вывод, точнее — два. Либо запись системы контроля велась не со Сторма, либо Сторм — не тот человек, чью биографию нам подсунули. Это, в свою очередь, объясняет, почему Яна до сих пор не может найти никаких данных на астронавта Грега Сторма, двадцати-четырех-без малого-лет отроду, урожденного планеты Земля.
— Логично, — согласился Шеф, — хотя с Земли ответ на наш запрос пока еще не пришел.
Я осторожно взял слово.
— Давайте, я сегодня же вылечу на Плером и на месте во всем разберусь.
Шефу мое предложение не понравилось.
— Ты будешь добираться до Плерома недели две — на ТКЛ3504 снова какие-то проблемы. Сейчас гораздо важнее понять, как Берху вести себя дальше и дать ему соответствующие указания.
— Но мы все равно опаздываем почти на неделю. Пока сообщение Берха дошло до нас, пока мы подготовим и отошлем ответ, и пока наш ответ дойдет до Берха, он черти что успеет наворотить.
— Хорошо, скажу по-другому: нам важно понять, что успеет сделает Берх за это время, будет ли он предпринимать какие-либо существенные шаги не дождавшись нашего ответа.
— Непременно будет, — отозвался Ларсон. Шеф кивнул:
— Вот и я этого боюсь.
— Давайте, по крайней мере, сообщим ему о расхождении в возрасте, — предложил я.
— Отпадает, — возразил Шеф, — вы слышали, что Берх сказал. Он собирается спровоцировать ответные действия со стороны Вэнджа и Зимина. Если мы скажем Берху о том, что запись велась не со Сторма или, что Сторм выдавал себя за другого, то он тут же выложит это перед астронавтами. И неизвестно, какова может быть их реакция.
На меня, откуда ни возьмись, снизошло озарение. Я сказал:
— Вам это покажется безумием, но что если Сторм — не человек…
Ларсон хмыкнул. Шеф спокойно потребовал:
— Поясни.
— Предположим, что Сторм не человек, а гомоид…
— А я все сижу и жду, когда же ты вспомнишь про своих любимых гомоидов! — воскликнул довольный Ларсон.
— Хью, твоя проницательность всем давно известна, незачем каждый раз напоминать нам о ней. Пусть он выскажется до конца, — поддержал меня Шеф.
Я выразительно посмотрел на Ларсона — мол, что, съел? Ларсон и ухом не повел. Я же продолжил:
— Систему контроля настраивали на людей. Гомоиды — не люди — это факт. Предположим, что система контроля отреагировала на Сторма таким сложным образом, что нам теперь кажется, будто Сторму не двадцать четыре года, а, скажем, сорок или того больше…
Ларсон снова меня перебил:
— Я понимаю, к чему ты клонишь. Ты думаешь, что раз ты обманулся с возрастом Бланцетти, то и система контроля могла аналогичным образом обмануться с возрастом Сторма.
— На этот раз твоя проницательность тебя подвела. Система контроля не обманулась — она не человек, она воспринимает все как есть. Мозг гомоида работает не так как человеческий. Тело гомоида, по крайней мере, с виду — вполне человеческое. Но тело человека развивалось вместе с его мозгом, они приспособлены друг к другу. А у гомоидов — нет. Эта разница или, лучше сказать, несоответствие компенсируется за счет потребления дополнительной энергии, то есть за счет более активного метаболизма. Следовательно, организм у гомоида стареет быстрее человеческого, хотя внешне это не всегда заметно. Прибавьте сюда психические перегрузки — дереализация, раздвоение — и вместо молодого человека вы получаете…
— …немолодого гомоида, — закончил за меня Ларсон.
— Рациональное зерно в твоих рассуждениях, бесспорно, есть, — растягивая слова, как бы размышляя по ходу дела, изрек Шеф, — но скажи на милость, с какой стати ты вообще вдруг вспомнил о гомоидах? Какое отношение имеют гомоиды к делу Сторма? Что-то мне подсказывает, что ты неспроста о них вспомнил. Уж не те ли это «общие черты», о которых ты сказал раньше, навели тебя на мысль об участии гомоидов в деле Сторма?
Удивление Шефа было понятно, ведь в официальном докладе Берх не рассказал о своей встрече с пожилым незнакомцем на ТКЛ3504. Я не думаю, что он скрыл встречу с Абметовым умышленно, скорее, он просто не придал ей значения. Мне пришлось восстановить этот пробел.
— Дааа, —протянул Шеф, — с дисциплиной у нас плоховато… — он имел в виду запрет на любой несанкционированный обмен служебной информацией между сотрудниками, — но об этом — в другой раз. Так ты считаешь, что тем собеседником был Абметов?
— Описание внешности Берх дал не слишком определенное, но сама манера… Да, я думаю, Берх встретил Абметова. Теперь ясно, почему мы сколько ни искали, не нашли ничего на Сторма — гомоиды следов не оставляют!
— Итак, на лицо связь: Плером — ТКЛ3504 — Абметов — гомоиды. Кстати, внешность Сторма тебе никого не напомила? Может тогда, у Франкенберга, ты видел его снимок среди прочих?
— Нет, думаю, я бы вспомнил. В кабинете Франкенберга снимка Сторма не было.
Шеф был немного разочарован — он ожидал другого ответа.
— Жаль… А ты, Хью, что думаешь?
— Сыщики у нас — вы, вам и прослеживать связи. Мое дело — научная или, как вы говорите, техническая сторона вопроса. Я не берусь утверждать вот так голословно, без предварительной подготовки (намек на меня, очевидно), но система контроля за жизнеобеспечением… черт, какое длинное название, пусть будет для краткости СКЖ, так вот… СКЖ снимает показания и с головного мозга в том числе. У меня нет под рукой гомоида, чтобы все проверить точно, но на мой взгляд, запись работы мозга вполне человеческая. Никаких видимых отклонений нет, но, в свете новой версии Ильинского, я постараюсь проверить все еще раз. В данный момент, меня вот что смущает… Смотрите, на Оркусе есть воронки, на Плероме — каньон Улыбка Явао, гомоид по имени Бланцетти-Шварц…
— Давайте называть его, как он сам себя назвал — Антрес, а то мы запутаемся, — прервав Ларсона, предложил Шеф.
— Хорошо, — согласился Ларсон, — итак, Блан… тьфу, Антрес свалился в Большую Воронку, Сторм — в каньон Улыбка Явао. Фед, ты только не обижайся, но не это ли совпадение натолкнуло тебя на мысль о том, что Сторм — гомоид. Ты, не отдавая себе отчета, сопоставил случай с Антресом и случай со Стормом. Отсюда и все твои выводы.
Я возразил:
— Во-первых, если бы я после каждой подобной реплики на тебя обижался, то ты бы сейчас здесь не сидел (я сам не понял, что хотел сказать, но прозвучало это весьма угрожающе), а во-вторых, те совпадения, что ты обнаружил можно трактовать и в мою пользу. Предположим, что Вэндж с Зиминым узнали в Сторме гомоида, то бишь, не человека, и тогда гомоид по имени Сторм поступил так же, как поступил бы любой гомоид на его месте — исчез, одним словом. Ведь у нас нет его тела, стало быть, его следует считать исчезнувшими, а не погибшими.
Шеф слушал нас со все нарастающим беспокойством — ему не нравилось, что мы перешли на личности.
— Можно мне сказать? — прорычал он так, что не позволить ему этого было бы чистым самоубийством. Мы посмотрели на Шефа с той предельной преданностью, на которую способны, как мне казалось раньше, только государственные чиновники.
— Ларсон, мы тут обсуждаем не Ильинского, а Сторма, посему держи свой психоанализ у себя в подсознании — там ему самое место. Гомоид Сторм — или нет, не зависит от того, что ты думаешь о своем коллеге. А ты, — сказал он мне, — запомни раз и на всегда: в моем кабинете будет сидеть тот, кому я прикажу, а тот, кому НЕ прикажу, будет сидеть совсем в другом месте…
— На Плероме, например… — вырвалось у меня против воли. Мне захотелось провалиться сквозь землю. Но Шеф, почему-то, не убил меня на месте, а, наоборот, согласно кивнул:
— Да, в том числе и там…— и, повысив голос, приказал: — Всё! Забыли на время о гомоидах, давайте решать, что делать с Берхом.
Я робко предложил:
— Давайте сперва попробуем понять, как могли развиваться события с того момента, как он отослал нам последнее сообщение. У Берха было две версии. По первой версии, Вэнд и Зимин умышленно убивают Сторма. Но сам Берх больше склонялся ко второй версии — версии инсценировки. Чтобы ее проверить, он проанализирует запись СКЖ так, как это сделал Хью. Берх, кстати, упомянул в конце своего доклада, что запись может быть подделана. И поэтому нам надо исходить из того, что Берх обнаружит или, уже обнаружил, нестыковку с возрастом Сторма. Если так, то он сообщит об этом астронавтам. И они…честно говоря, пока не знаю, что они предпримут в ответ…
— Ясно, — сказал Шеф, — теперь ты, Ларсон…
Биолог прокашлялся и глядя куда-то в сторону изрек:
— Рискуя навлечь на себя гнев моего молодого коллеги, я в очередной раз позволю себе с ним не согласиться, — последнее слово он произнес полушепотом.
— Валяй, — ответил я равнодушно, — не соглашайся.
Ларсон продолжил:
— Я знаю Берха уже много лет (намек на то, что я работаю в Отделе всего три года) и за то время, что мы работаем вместе, я успел его хорошо изучить… Мне запретили высказываться по поводу того, как строит свои умозаключения…. — тут он осторожно поднял глаза на меня.
— Про Берха можно, — Шеф понял, что именно пытается сказать Ларсон, — давай покороче.
— Так вот. На основе моих многолетних наблюдений, я прихожу к выводу, что Берх начнет с проверки первой версии — той, что, по его мнению, менее вероятна…
— Что ты подразумеваешь под многолетними наблюдениями? — перебил Ларсона Шеф.
— А то, что Берх по натуре человек очень осторожный. Даже, я бы сказал, нерешительный…
— Тоже мне — новость, — буркнул я.
Шеф попробовал ответить за Ларсона сам:
— Ты хочешь сказать, что Берх попытается обвинить астронавтов в убийстве. Те испугаются, поскольку обвинение в убийстве — вещь не шуточная, и сами выложат ему всю правду. Но Вэндж и Зимин на слабонервных не похожи. И потом, причем здесь нерешительность Берха?
— Сейчас объясню. Во-первых, когда я говорил, что Берх изберет первый вариант, я имел в виду вовсе не те рассуждения, что вы только что привели… Во-вторых, вы знаете, что все сотрудники Отдела, время от времени обязаны проходить психологические тесты. В том, как Берх отвечал на вопросы теста, я заметил одну закономерность. Нет, лучше я объясню на примере. Можно я возьму для примера Феда, — он спросил у Шефа, а не у меня, — здесь нет ничего личного, все сугубо в интересах дела.
Шеф благосклонно позволил. Окрыленный Ларсон повернулся ко мне. Его тон совершенно изменился — оседлав своего любимого конька, Ларсон почувствовал прилив вдохновения.
— Представь, — говорит он, — что у тебя есть альтернатива, иначе говоря, выбор из двух возможностей. Для пущей наглядности, возьмем пример из жизни. Ты разгадываешь кроссворд. Нужно найти слово из пяти букв и это слово является ответом на вопрос «Кто убил Сторма?». Какие у тебя варианты?
— Ты имеешь в виду «Вэндж» и «Зимин»? — догадался я.
— Вот именно! — обрадовался Ларсон, — в обоих именах пять букв, следовательно, по числу букв, подходят оба слова. Но верный ответ — только один. При этом, может случиться так, что оба варианта — и «Вэндж» и «Зимин» неверны. Тогда ты вообще не будешь знать, как поступить. Но к счастью, вероятность того, что ни Вэндж, ни Зимин Сторма не убивали, очень мала.
— Вот с этим я не согласен, — возразил я. Ларсон поморщился:
— Ты не понял — мой пример — условный. Лучше, слушай дальше. Ответ «Вэндж», на твой взгляд, более вероятен и внутренне ты к нему склоняешься. Причины тому могут быть самые разные. Ну, скажем, не по душе тебе Вэндж и все тут! Ответ «Зимин» тебе кажется существенно менее удачным, чем «Вэндж». Вписав в кроссворд какое-то одно из этих имен, ты должен проверить остальные слова из кроссворда. Если все сойдется, то слово найдено верно, если нет — то придется слово стереть и вписать вместо него другое. Ошибиться один раз для тебя не критично. Итак, какое слово ты выберешь?
— Думаю, что «Вэндж», раз уж я к нему склоняюсь.
— Отлично! А вот Берх, при тех же условиях, выберет сначала слово"Зимин".
— Странно… А объяснение этому имеется?
— Конечно. Начнем сначала. Пусть существует один шанс из десяти что оба слова — «Вэндж» и «Зимин» — не подходят. Далее, пусть два шанса из десяти, за то, что выбор «Зимин» верен и, соответственно, семь из десяти, что верным будет выбор «Вэндж». Запомнил?
— Запомнил.
— Хорошо. Ты сказал, что сначала попробуешь слово «Вэндж». При этом, если ты окажешься не прав, у тебя остается выбор «Зимин» или вообще никакого. И шансы распределятся, как два к одному. Согласись, ситуация возникает достаточно неопределенная.
— Два к одному? Почему же, играть можно…
— Это не игра. В том смысле, что ситуация с Вэнджем и Зиминым уникальна. У тебя больше не будет возможности сыграть еще раз в такой же кроссворд, а потом еще раз и так далее…
Дабы не затягивать объяснение, я согласился:
— Хорошо, твоя взяла, два к одному — это не очень приятно.
— Вот-вот, и я о том же. Но как ведет себя Берх? Сначала он выбирает слово «Зимин». Если угадал — отлично, а если нет, то в запасе есть еще вариант «Вэндж», который, теперь уже семь к одному, что верен. Надеюсь, ты не станешь спорить, что семь к одному — это лучше, чем два к одному. Если слово «Зимин» неверно, то можно смело ставить на Вэнджа — вот в чем суть. От состояния неопределенности Берха отделяет два шага, а тебя — один. Берх как бы оттягивает, откладывает на потом неудобную для себя ситуацию…
— Иными словами, сила воли у него никудышная, — вынес я Берху приговор.
— Можно и так… но я этого не говорил, — поспешил откреститься Ларсон.
— Хорошо, но в реальном расследовании, с коим мы и Берх имеем дело, даже один раз ошибиться очень нежелательно.
— Привычка есть привычка. Берх поступит так, как обычно поступает — и ничего тут не попишешь, — вздохнул Ларсон.
— Стой, что за бред ты несешь! — вдруг опомнившись, всполошился я, — тебе Берх что, гомоид что ли? С чего это он должен по формулам действовать?
— Не должен, но будет! — завопил в ответ Ларсон.
— Все, на сегодня хватит, — остановил нас Шеф и посмотрел на часы, — мы уже три часа совещаемся, но так ни к чему и не пришли. Поэтому мое решение будет таким… Яна, пошли сообщение Берху, — сказал Шеф в экран, — передай ему следующее: немедленно после получения данного сообщения покинуть Плером и ждать дальнейших указаний на терминале ТКЛ3504. О прибытии на терминал немедленно нас информировать. Это все… Вас это тоже касается, — сказал он нам с Ларсоном. Он хотел сказать, что совещание закончено.
В целом, с его решением я был согласен. Если Шефа не подвели часы, и мы действительно совещались три часа подряд, то они пролетели как три минуты. Два раза Яна приносила нам по чашке кофе. Ей очень хотелось остаться и послушать, о чем мы так долго болтаем, но замечая, как при ее появлении мы сразу замолкаем или начинаем говорить о вещах абсолютно ничего незначащих, ей становилось ясно, что содержание беседы для ее ушей не предназначено. Я заметил, что в шефский кабинет она входила с неизменной улыбкой, а выходила… ну разве что с пустыми грязными стаканами, и мне было немного обидно за нее. Впрочем, я ни разу не видел, чтобы женщина несла пустые грязные стаканы с улыбкой. Вот мужчины — другое дело. При некоторых обстоятельствах, — когда, например, мыть стаканы лень, а душа — горит, можно и из грязных…
2
Шел третий час ночи, глаза слипались, как будто за ужином я ИМИ ел тянучки, но, даже если бы я позволил глазам делать все, что им заблагорассудится, то, все равно, уснуть этой ночью я бы не смог. Поэтому я продолжал сидеть перед экраном компьютера в комнате, которую, когда я в ней один, я называю своим кабинетом. В этой комнате находится все то, что на кухне — не нужно, а в спальне — излишне. Например, к чему кухне окно с видом на озеро, а спальне — письменный стол с компьютером? Интересно, как эту комнату называет Татьяна, когда бывает здесь одна? Сейчас Татьяна как раз в спальне и, то ли спит, то ли смотрит сны, но скорее всего — и то и другое — как и должно быть у всех нормальных людей. А я из последних сил пялюсь в экран с материалами по делу Сторма и пытаюсь хоть в чем-нибудь разобраться. Берховские размышления по поводу рассказа из «Сборника космических историй» можно было бы отнести к его всегдашней привычке все усложнять, если бы не Вэндж… Он сказал Берху, что тот понимает рассказ слишком буквально и не прочитать ли ему этот рассказ глядя в зеркало. Я не знаю, как у Вэнджа с чувством юмора, но если с юмором у него дела обстоят также, как и у Татьяны, то его слова — несомненный намек на то, что рассказ следует понимать наоборот. Но как именно — наоборот? Итак, два астронавта думают, что третий погиб. Пусть два астронавта НЕ думают, что третий погиб. Нет, пожалуй, формальный подход тут не подходит. Пусть, лучше, один астронавт думает, что двое погибли. Звучит нормально, но к делу Сторма не относится… Начнем с другого конца. Один астронавт инсценирует собственную смерть — два астронавта инсценируют… Не подходит. С чего начинается история из «Сборника»? Некий астронавт хочет остаться один. Предположим, что в нашем случае — два астронавта хотят остаться одни, точнее, вдвоем. И убивают третьего. Выходит то же, что и у Берха… То есть ничего нового.
Дверь в спальню открылась, и на пороге возникла Татьяна — заспанная, растрепанная, одетая, как вы понимаете, не слишком тепло. Она жмурилась на один глаз и я сказал ей, что теперь она похожа на новорожденного детеныша вапролока — они вылупляются растрепанными и зажмурившимися, но не на правый глаз, как Татьяна, а на средний. Татьяна ответила, что, мол, шел бы я лучше спать и, сшибая все углы, прошлепала в ванную. Интересно, что бы сказал Абметов, увидев ее в таком виде?
«Бог мой… хорошо, что меня никто не видит,» — послышалось из ванной — это Татьяна взглянула на себя в зеркало. Зашумела вода. Через три минуты она вышла — слегка посвежевшая, и бодрым шагом направилась в спальню — досыпать. Не дойдя двух шагов до двери, она вдруг остановилась.
— Кто это? — спросила она указывая на снимок Сторма.
— Сначала скажи, что ты о нем думаешь, — попросил я безо всякой задней мысли. Татьяна подошла к голограмме поближе и зевнула.
— Ты ему чуть нос не откусила!
— Новый вырастет… Всю жизнь, как только увижу голограмму человека, так сразу хочется ее за что-нибудь ущипнуть… Мужик, вроде… — ее вывод был, как всегда, безошибочен — именно что «вроде мужик», а не просто «мужик».
— А поточнее можно?
Татьяна протерла глаза.
— Я бы ему прическу сменила.
— В смысле?
— Так уже никто не носит.
— А когда носили?
— Давно. Наверное, лет двадцать назад. Помню, у папы такая же была.
— Как ты можешь помнить? Ты же тогда шнырьков могла кормить с руки не нагибаясь.
— А снимки на что? Шел бы ты спать… — снова посоветовала она и удалилась.
Я смотрел на снимок Сторма и никак не мог взять в толк, что именно ее не устроило в его прическе. Что если и вправду, снимок был сделан двадцать лет назад? Тогда ясно, почему запись СКЖ соответствовала сорокалетнему, а не двадцатичетырехлетнему мужчине. И моя «гомоидная» версия летит к черту. Вэндж подсунул нам старый снимок Сторма, чтобы в два раза уменьшить его возраст, но за каким чертом это ему понадобилось? И как связать это с рассказом из «Сборника»? Симметрия между вымыслом и реальностью проступила, но очень смутно. Астронавт, желая остаться один, инсценирует смерть. Два других астронавта, по той же причине, инсценируют… жизнь! С этим почти абсурдным вариантом я и отправился спать.
3
На проходной Института Антропоморфологии мне сказали, что Симонян меня не ждет. Я сказал, что, мол, ничего удивительного, я и в самом деле без приглашения, но мне бы только на минутку заскочить — передать весточку от Джона Смита. Мне велели обождать. Через три минуты подешел охранник и проводил меня до кабинета — дабы я не заблудился, как в прошлый раз. Со дня смерти Перка, мой рейтинг в Институте Антропоморфологии скатился до нуля. Перед тем как войти в прозрачный переход, я позволил себе небольшое самовольство. «Только после вас», — сказал я охраннику и посторонился. «Боитесь? Хорошо, только не отставайте», — усмехнулся он и пошел вперед, как ни в чем ни бывало. Пока мы шли до соседнего корпуса он раза три оглянулся, а в конце перехода снова пропустил меня вперед. И так — до самого отдела прикладной генетики. Охранник лично закрыл за мной дверь в лабораторию.
Симонян ссутулившись сидел за лабораторным столом и что-то переливал из склянки в склянку. Не встал, не поздоровался, не предложил сесть.
— За десятью тысячами пришли? — прошипел он.
— Нет, теперь ставки выше, — сказал я и уселся поближе к нему.
— Зря устраиваетесь, — злобно процедил он, — выкладывайте, что вам нужно и убирайтесь.
Я-то думал, что шантажистов принято задабривать. Но задабривать пришлось мне.
— По-моему, между нами царит какое-то недопонимание. Пока вы не выставили меня за дверь, поспешу вас обрадовать — я не собирался и не собираюсь вас шантажировать. Но раз Шлаффер и вы вслед за ним считаете, что у меня есть повод для шантажа, то мне бы очень хотелось узнать, чего вы, собственно, натворили. Если вы ответите мне на этот простой вопрос, то, клянусь, все, что вы скажете, останется строго между нами. Если угодно, могу объяснить, почему вам куда выгоднее принять мое предложение, чем раскошеливаться на десять тысяч.
Симонян молчал — мутная жидкость в стеклянной пробирке интересовала его больше чем я. Меня это не остановило.
— Если я уйду от вас ни с чем, то завтра здесь будет начальник группы по расследованию убийств Виттенгер, — по неведению, я понизил Виттенгера в должности, но об этом речь позже, — Шлаффер сказал вам, что он влип в дело об убийстве? Я знаю, вы ответите, что, мол, убийство было совершено на Оркусе и Виттенгер тут не при чем. Тогда, я скажу, что у оркусовской полиции очень хорошие отношения с полицией Фаона, и стоит только Шлафферу ступить одной ногою на Фаон, как его тут же загребут. Но пока он в бегах, полиция примется за вас. И, между делом, выяснит, чего вы там со Шлаффером натворили в своей прошлой жизни. Виттенгер — мой хороший знакомый, и мне он поверит больше, чем вам. Как вам такая перспектива? Напротив, вам достаточно шепнуть мне только пару слов, и я навсегда исчезну из вашей жизни. И никакой Виттенгер ни вас ни Шлаффера не тронет.
Симонян перестал глазеть на пробирку. С трудом выдавил из себя:
— Это Шлаффер решил, что вы шантажист.
— Бог с ним, с Шлаффером. Нашли кому верить. А что если я скажу вам, что Джон Смит — всего лишь выдумка — такого человека не существует. И зря вы за счет института отправили Шлаффера отдыхать на Оркус. Он ничего не нашел и не найдет. Зато найдут другие, если займутся вами всерьез. Итак, ваше решение?
— Биороботы, — сказал он еле слышно.
— Что? — на всякий случай переспросил я.
— Вы просили пару слов, поэтому я повторяю — биороботы. Но больше вы от меня ничего не услышите, — он умудрялся говорить не раскрывая рта, только черная борода шевелилась в такт словам.
— Ну что ж, вы и так сказали достаточно, — ответил я и громко добавил: — Биороботы меня не интересуют!
Симонян вздрогнул всем телом. Выходит — не врал.
— Нельзя потише? — попросил он, — помните, что обещали?
— Помню — все строго между нами, — ответил я и сказал «до-свидания». «Прощайте», — сказал Симонян.
Обратно меня проводил все тот же охранник.
Поверить Симоняну было легко, гораздо труднее — выполнить данное ему обещание. Я решил, что, если найду хоть одно, пускай косвенное, подтверждение его словам, то, так и быть, не сдам его ни Шефу, ни Виттенгеру. Тем более, что «дело биороботов» давно закрыто. В списке лиц, проходивших по этому делу, не было ни Шлаффера, ни Симоняна. Я велел компьютеру вывести «дерево контактов», то есть, вывести список тех людей, кто когда-либо упоминался вместе с теми, кто проходил по делу о контрабанде биороботами. Затем, — всех, кто упоминался вместе с теми, кто упоминался вместе с теми, кто… ну и так далее. Имена Шлаффера и Симоняна всплыли где-то в третьем колене. Этого было достаточно, чтобы на время забыть о Симоняне.
Только я о нем забыл, как позвонил Шеф.
— Что с Симоняном? — спросил он.
— По-моему, с ним все чисто, — пролепетал я.
— Биороботы? — уточнил не в меру догадливый Шеф.
— Угу. Но я дал слово никому не говорить…
— А ты и не говорил, — справедливо заметил он.
— И не трогать его…
— Не тронем, — пообещал он, — ладно, завтра поговорим, — добавил Шеф сурово и исчез.
4
Шеф на утро не перезвонил и в Отдел меня не вызвал. Его комлог вежливо отвечал, что по независящим от него причинам, он не может предоставить мне интерактивную связь с абонентом. Настаивать на немедленном соединении или, хуже того, использовать экстренную связь я не стал, поскольку ничего нового, по сравнению с тем, о чем Шефу было доложено в полвторого ночи, я не придумал. Ларсон сказал, что Шеф на совещании, а сам он по второму разу проверяет запись СКЖ. О своей новой версии я решил ему пока не говорить.
Яна подтвердила слова Ларсона в отношении совещания, но когда я, скорее в шутку, чем в серьез, спросил ее, чем она занята, ее ответ, точнее, ее реакция показалась мне необычной. До сегодняшнего дня, услышав подобный вопрос, она либо отвечала все как есть, либо отшучивалась, говоря, что порученное ей дело страшно секретное, и Шеф с нее голову снимет, если она станет болтать о нем даже сама с собой. А я тогда переспрашивал, мол, уверена ли она, что Шеф имел в виду именно голову, а не что-нибудь из одежды. После этого ей полагалось покраснеть, назвать меня пошляком и послать куда подальше. Сегодня она готова была послать меня прямо сразу, но не сделала этого, а начала бубнить что-то крайне невнятное про какое-то срочное поручение. При этом, она старательно прятала от меня свои очаровательные серые глазки. Я не стал ее больше смущать, попросил только, как появится Шеф, дать мне знать. Просьба была пустой формальностью — просто способ вежливо завершить разговор.
Велев сотрудничать с Виттенгером, Шеф не уточнил насколько тот посвящен в наши дела. С тех пор как мы виделись последний раз, инспектор резко продвинулся по службе. Не знаю, как насчет репутации, но связи у Шефа остались на прежнем уровне. Продвижение по службе, вероятно, и было своеобразной платой за молчание. И за лояльность. Теперь Виттенгера надлежало именовать не иначе как «господин полковник». Когда я связался с ним для того, чтобы назначить встречу, он уже обживал свой новый кабинет и пока мы разговаривали, я пару раз слышал, как с другого терминала к нему обращались голосом секретарши: «Господин полковник, вас вызывает майор такой-то» или «Господин полковник, начальник такого-то управления просит назначить ему время для доклада». А Виттенгер в ответ небрежно бросал: «Пусть подождет» или «Назначьте сами, но только не в понедельник, не во вторник и не…» — и перечислял все дни недели. Мой босс секретарш не держит принципиально, поскольку считает, что в Отделе должны работать только профессионалы. И еще, Шеф убежден, что ни одной секретарше нельзя доверять. Поэтому бедной Яне приходится работать за двоих.
Ко мне Виттенгер отнесся более благосклонно, чем к тому начальнику управления и предложил увидеться завтра утром. О месте встречи мы должны будем договориться отдельно — Виттенгер пообещал перезвонить. Я так понял, ему не хотелось говорить об этом из кабинета.
Таким образом, день у меня выдался свободный, хотя и немного подпорченный — Янина скрытность никак не вязалась с тем, что накануне Шеф неожиданно посвятил меня в детали дела Сторма. Ее странное смущение наводило на мысль, что Шеф дал ей поручение, непосредственно связанное со мной. Мне хотелось немного отвлечься, и я почитал остальные рассказы из «Сборника космических историй». Но отвлечься мне не удалось. Причиной тому послужил последний рассказ из «Сборника…» — «Чужие крылья» — так он был озаглавлен. Рассказ написал некий Антон Свешников — до того момента мне неизвестный. По понятным соображениям, я не стану приводить текст полностью.
В это время года западный ветер высушивает слезу от попавшей в глаз песчинки раньше, чем слеза успевает докатиться до ямочки на щеке, поэтому отъезжающих не одолевает ностальгия, а, наоборот, их охватывает желание уехать из этого гиблого места как можно скорее. Но среди отъезжающих есть и такие, кто находит романтичным заход солнца за Джамаль Марру, когда отбрасываемая горою тень, внезапно ускорившись, накрывает собою тридцатиметровый пилон Космопорта и устремляется на восток, к океану. Впрочем, ни для кого не секрет, что из-за кривизны поверхности Земли, дальше Эн-Нахуда она никогда не забиралась.
Старая часть Ньялы по самые крыши занесена песком, и тем большим анахронизмом выглядит воздвигнутый на окраине города, гигантский серый параллелепипед здания Центра по Подготовке к Полетам. По ночам протянувшиеся на несколько километров коридоры Центра заполняет синий дежурный свет — ночью по зданию никому кроме уборщиц ходить не положено. Напротив четырнадцатого бокса пол отливал изумрудной зеленью — верный признак того, что свет в комнате включен. Пробившись из-под двери, свет смешался с синевой дежурного освещения. Уборщица, по всему видать, человек здесь новый, долго терла изумрудный налет средством против солнечных зайчиков. Видя, что у нее ничего не выходит, уборщица взяла швабру и, боязливо оглядываясь по сторонам (не дай бог начальство заметит), стала загонять струящийся из-под двери свет обратно в комнату.
Марк сидел спиною к дверям и о манипуляциях уборщицы не догадывался. Ему было не до уборщиц — он терпеливо уговаривал портативный Вычислитель поделиться очень важной для него информацией. Вычислитель сетовал на то, что запрашиваемая информация чересчур секретна и не может быть предоставлена кому попало. Но Марк не был кем попало, — он был одним из тех счастливчиков, кому не далее, как завтра (а точнее — уже сегодня) предстояло пустится в первое в истории человечества межзвездное путешествие к далекой Альфе Кентавра. В конце концов, Вычислитель сделал вид, что принимает поддельный пароль за чистую монету и допустил Марка к базе данных Обсерватории. По экрану поползли колонки цифр, для наглядности сопровождаемые змеевидными графиками.
Марк удовлетворенно потер руки — цифры и графики были что надо. Все его расчеты оказались верны, в чем, тем не менее, стоило лишний раз убедиться. Единственным, кто мог бы уличить Марка в незаконном вторжении, был его друг Энтони. Энтони работает в Обсерватории, но сейчас он в отпуске — Марк истратил половину аванса за предстоящий полет, дабы отправить своего друга в кругосветное путешествие — подальше от Обсерватории. Энтони не подозревал, что кругосветное путешествие организовано Марком — он думал, что выиграл его во всемирной лотерее.
Столь необходимые Марку данные шли от огромного радиотелескопа, висевшего высоко над Землей и нацеленного на чрезвычайно далекий космический объект, настолько далекий, что выглядел он на несколько веков моложе своих истинных лет (т.е. имел свойство, которое обычно приписывают женщинам). Однако, одним только умением приуменьшать свой возраст на расстоянии, свойства объекта не исчерпывались. В толковом астрономическом словаре об этом объекте не было и полслова — таким незначительным он казался составителям словаря.
Будь уборщица полюбопытнее, она не преминула бы заглянуть в замочную скважину и тогда б ей открылось странное зрелище: полуголый молодой человек торопливо вышагивает взад и вперед по комнате, бормочет какие-то непонятные слова, время от времени нагибается к клавиатуре Вычислителя, тыкает в нее пальцем, затем, смотрит в экран и с заговорщическим видом удовлетворенно ухмыляется. Следующая сцена привела бы старушку в священный трепет: цифры на экране сменились нотным станом, и молодой человек, поглядывая в ноты, замурлыкал себе под нос неизвестный на Земле мотивчик.
И тогда бы она, конечно, донесла своему начальству о странном поведении обитателя четырнадцатого бокса, а начальство, в свою очередь — руководству экспедиции, и план Марка провалился бы с самого начала.
Но старушка была не любопытна, и Марку все сошло с рук. В начале четвертого утра он выключил Вычислитель, выпил стакан молока из холодильника и отправился спать. Ему и вправду нужно было отдохнуть, ведь путь предстоял неблизкий — на двадцать лет корабль со странным названием «Свирепень» покидал Землю, чтобы со скоростью в девять десятых от скорости света сгонять до Альфы Кентавра и обратно.
По поводу названия корабля шутники рассказывают вот какую историю. Проект экспедиции назывался просто: «Миссия Альфа Кентавра». Имя же кораблю, ввиду важности и уникальности предприятия, следовало выбрать путем добровольной лотереи, проводимой среди выдающихся ученых и путешественников. С другой стороны, традиционно, название корабля, вместе с изображением талисмана, наносят специальной, сверхустойчивой переводной картинкой чуть ниже командного отсека и чуть выше кормы. Панцирь для корабля ковали в Туле — почему, никто не знает. Тамошние умельцы, не долго думая, нанесли понравившееся им название на свежеискованный корпус будущего звездолета и, тем самым, закрыли проблему. Сперва их хотели наказать, а панцирь — перековать, но потом оставили все как есть — пока искали виновных к названию успели привыкнуть. Следует только заметить, что люди серьезные в эту историю нисколько не верят.
— Ну как? Готов? — спросил его за завтраком Вилли Вулшитер — командор «Свирепеня». Вопрос не подразумевал иного ответа, чем «Да, командор» или «Чтоб я сдох, если не так, сэр» или чего-нибудь в таком духе. Физиономия самого Вулшитера излучала готовность нести возложенную на него миссию куда угодно и зачем угодно. Если бы он не полетел на Альфу Кентавра, то непременно бы снялся в каком-нибудь фантастического боевике: «Командор, Земля в опасности. Вы готовы пробить головою несущийся на нее метеорит и, тем самым, остановить его». «— Да, но дайте прежде проститься с моим отцом — ему я обязан своим умением работать головой». Тут, конечно, аплодисменты, слезы умиления и все такое прочее. Справедливости ради, следует сказать, что один подвиг Вилли Вулшитер уже совершил: он добровольно согласился переночевать в тринадцатом боксе.
«Может ли быть человек готов, если не знает, что ему уготовано…» — размышлял Марк, пережевывая сухой кренделек с маком. Этой мысли не суждено было остаться в истории, но, зато всем хорошо запомнился его ответ своему командиру:
— Нет, сэр, я еще не допил мой кофе.
Заслышав такое, все вокруг заулыбались. Слова Марка были тут же записаны представителями прессы, присутствовавшими на прощальном завтраке. Члены экипажа попросили еще по чашке черного кофе, но им, разумеется, было отказано — лишний кофеин вреден при стартовых перегрузках. Официальные проводы состоялись позавчера, сегодня же экипаж сопровождали лишь сотрудники космических служб, ближайшие родственники и немногочисленные журналисты — все было почти по семейному.
Приятный женский голос объявил по Космопорту кучу всевозможной полезной информации: где производится посадка экипажей, куда девать багаж (его надлежало брать с собой, в конце концов, это же не обычный гражданский космодром), где получить медицинскую консультацию тем, кто плохо переносит стартовые перегрузки, и где могут купить страховку те, кто плохо переносит полеты вообще. Сегодня космодром был закрыт для плановых рейсов и объявление звучало несколько некстати. Особенно, что касается страховки.
Момент расставания приближался. Бортинженер, слывший сердцеедом, черкнул несколько строк в альбом одной из своих многочисленных поклонниц. Каким образом поклонница смогла пробраться сквозь полицейское оцепление, так никто и не понял. Она отдала себя в руки охраны только после того, как в ее альбоме появилось следующее четверостишие:
Бредя по тропинкам запутанных дней Одного я только боюсь: Тебя не застану, когда вернусь, Если, конечно, вернусь…— незатейливая аллюзия на «парадокс двух близнецов». Днем позже, находчивая поклонница продала стишок одному крупному изданию. В течение месяца экспромт бортинженера обошел все центральные газеты. Желтая пресса прав на перепечатку не получила, поэтому обзывала стих не иначе как «усь-усь-усь» — цинично и неостроумно.
Вера — по единодушному мнению, самый симпатичный член экипажа — приняла на память небольшой подарок — плюшевого Космического Зайца, но Главный Санитарный Инспектор тут же отнял его у девушки, а затем, отправил ее мыть руки с мылом. Зайца инспектор оставил себе, и пятеро его детишек играли с ним, пока у зайца не оторвались его Космические Уши.
— Помнишь, ты спрашивал про надпись на пилоне Космопорта? — шепотом спросила Вера и тайком вытерла об себя руки — стерильные полотенца были давно упакованы.
— Ну спрашивал… — тоже шепотом подтвердил Марк.
— Надпись означает: «Приходи в мире, чтобы ты мог соединиться с твоим домом — твоим горизонтом на Земле». Это из древнего рамессидского текста.
— Что ж, отсюда можно заключить, что пассажиры Космопорта либо сплошь фаталисты, либо не знают древнеегипетского…
— Нет, ты не понял. Для древних египтян, храм был границей между небом и землей — также, как для нас — Космопорт.
— Это тебе в туалетной комнате нашептали? — усмехнулся Марк.
— Да ну тебя… — сказала Вера и повернулась к фотографам. Защелкали камеры.
С Верой он познакомился пять лет назад и на нынешние события их встреча повлияла так, как порою настоящее влияет на прошлое. В то время оба они проходили стажировку в Цойтане, в филиале Объединенного Института Всего Сущего. Марк — в лаборатории Сущего Высоких Энергий, Вера — на отделении Биосущего. Верины каштановые волосы тогда еще не были коротко острижены, а мудрые морщины возникали на лбу у Марка, лишь когда он специально для этого хмурил брови.
Однажды вечером, выходя после работы из Института, они оба сошлись на мнении, что новые корпуса института как-то быстро состарились рядом с постройками вековой давности, будто последние заразили их неизлечимой болезнью старения. Марк высказал предположение, что во всем виноват осенний дождь (а дело, как раз, было осенью) — он смывает пыль и ржавчину со старых корпусов и тут же переносит их на новые постройки.
По выходным они ездили в Берлин, ходили в кино, потом, в одной и той же кондитерской на Кантштрассе, съедали ужин, вкусный настолько, насколько могла позволить стипендия. Но вернуться всегда старались засветло, чтобы без опаски заблудиться пройти до институтской гостиницы прямиком через лес мимо озера. Они шли дружно держась за руки. Как истинный джентльмен, Марк позволял Вере идти по середине узкой тропинки, а сам постоянно запинался о корни деревьев. Белки — защитницы окружающей среды — кидали в них вышелушенными шишками и жутко сквернословили. Вера отвечала им на их же беличьем языке, Марк ничего не понимал и только пожимал плечами, мол, одному богу известно, чем они там на отделении Биосущего занимаются.
Так прошел год — пока Марку не предложили контракт в Хьюстоне. Вера еще два года должна была провести в Цойтане. Марк уже сидел на чемоданах, когда со одним из стажеров произошел несчастный случай. Передозировка снотворного или что-то в этом роде. Ни Марк, ни Вера его почти не знали. Их только один раз вызвали в полицию; там им показали предсмертную записку самоубийцы. Марк запомнил ее на всю жизнь: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился». Следователь интересовался, что бы это могло значить, но Вера лишь вспомнила, что строка взята из псалмов Давида.
То, что на следующий день они посмотрели именно этот старый фильм можно считать совпадением. «Крылья желания», кажется, он назывался, или «Небо над Берлином». Или и то и другое.
— Когда ангел сходит на землю, на небе его должен кто-то заменить, — сказала Вера, когда они вышли из «Дельфи».
— Тот стажер, например. И в результате, человечество глупеет, — думая о чем-то своем, ответил Марк, — но, по крайней мере, теперь ясно зачем он это сделал. Он хотел освободить себя от всего того, к чему эти ангелы из фильма так стремились. И чего им там на небесах не хватало…
— Ощущения собственного веса, границ…
— Угу, вранья им не хватало.
— Удовольствия от еды… В кондитерскую пойдем?
— Ну ее к черту!
— Нет — к ангелам — пусть они теперь туда ходят…
— …и снимают ботинки под столом.
— Марк, а ты часто врешь?
— Да все время!
— То же мне, критянин нашелся.
— От критянки и слышу…
Так переговариваясь они дошли до зоопарка (благо, тут совсем недалеко), затем, на ближайшей станции сели на пригородную электричку и через час оказались в Цойтане.
От станции до институтской гостиницы они шли пешком. Вера сорвала с клена пожелтевший лист, что-то написала на нем стойкими к дождю чернилами и бросила лист по ветру.
— Кому послание? — спросил Марк.
— Тому, кто подберет.
— И что в нем сказано?
— Там сказано, что лист этот был сорван с восьмого, если считать с севера, клена Фонатан-Аллеи двадцать пятого сентября сего года и, что всяк, кто его найдет должен сообщить о находке в лабораторию биосущего.
— Врядли дождешься, — сказал Марк.
У дверей гостиницы они на минуту задержались; решили зайти в ресторан на первом этаже, хотя есть ни тому ни другому не хотелось, зато хотелось, чтобы вечер перед расставанием тянулся как можно дольше. Они заняли свободный столик у окна. Надменный официант не отстал, пока Марк не заказал бутылку красного «Троллингера».
— С вами можно? — вежливый мужской голос раздался за спиной у Марка. Вера кивнула, прежде чем Марк успел обернуться. Во время первого допроса она подумала, что следователь Конт больше походит на врача из заштатной поликлиники, чем на полицейского. Он был невысок, сухощав, лицо бледное в мелкую рыжую крапинку. Пышные усы неопределенного цвета служили главным украшением лица. Вера спросила:
— Господин Конт, а правда, что вы носите усы, чтобы прятать в них свою ухмылку, когда подозреваемый отвечает невпопад?
— На нас всегда наговаривают, — с хитрой улыбкой ответил Конт.
Он вернулся к своему столику, сгрудил остатки еды на поднос, прихватил зачем-то солонку и перенес поднос к Марку и Вере. Марк предложил ему вина, но тот отказался. Счел нужным объяснить:
— Язва, знаете ли… — и он показал почему-то на печень. Молодые люди синхронно покивали и потупились к себе в тарелки.
— Вот, целый день беседую с людьми по поводу нашего с вами дела… — доверительным тоном произнес Конт и подмигнул Марку. Считалось, что и Марк, и Вера с полуслова должны были понять, о каком деле идет речь.
— С каких это пор оно стало «нашим»? — возмутился Марк.
— Ну… — следователь потер переносицу, — тот стажер, который…, Рибовски, он же из ваших был… — и Конт снова подмигнул.
— Что-то в глаз попало? — сочувственно спросила Вера.
— Рябовский, — поправил Конта Марк, — ну и что с того? Здесь многие, как вы выразились, из наших.
— Да ничего, собственно. Странно, что вы его не знали. А чем он занимался?
— Искал следы космического разума, — коротко ответил Марк.
— Космический искал, а свой — потерял! — воскликнул Конт.
Марк подумал, что Конт безусловно знал, чем занимался Рябовский, и что последнюю фразу следователь уже давно держал под языком.
— Так вы в самом деле считаете, что он того… помешался?
— Ну вы же сами знаете — все эти истории про инопланетян, похищения людей, НЛО и все такое прочее. Долго ли свихнуться? — развязно сказал Конт, и, похоже, сам испугался своей развязности.
— Что вы такое несете?! — возмутилась Вера, — при чем тут инопланетяне? По-вашему, нет другого повода наложить на себя руки?
— Мне не нужен другой, мне нужен тот, что был у Рибовски, — сухо возразил Конт.
— А он точно сам это сделал? — спросил Марк.
— Сам, сам, не беспокойтесь, — Конт посмотрел на Веру, — да не пугайте вы девушку, вон она как побледнела.
На самом деле, Вера была не бледнее обычного.
— А как он искал этот космический разум?
Марк постарался растолковать попроще.
— Существует такая теория Лефевра-Ефремова, слыхали может? (Конт помотал головой)… Нет? Так вот… Эта теория объясняет, как по характеру приходящего из космоса сигнала определить, имеет ли источник сигнала природное происхождение, или этот источник — дело рук разумного космического существа.
— А это существо — Бог, что ли?
— Да нет, просто некто обладающий разумом, как мы с вами, только во много раз более могущественным.
— Вот как?! Странно, странно… эта записка…
— А что с ней?
— Разве не вы мне сказали, что покойный процитировал Библию? Я грешным делом подумал — он был верующим.
— Верующие самоубийств не совершают, — уверенно сказал Марк.
— Ну это как сказать, — Конт вдруг оживился так, как следователи обычно оживляются, когда им удается поймать кого-нибудь на слове, — вот Сократ, например, верил…
— Сократа казнили, если мне не изменяет память…
— Не важно, — авторитетно заявил Конт, — для самого Сократа это было самоубийство — самое, что ни на есть, настоящее. Больше того скажу, он отравился именно потому, что верил, а если бы не верил, то уж как нибудь, да выкрутился бы. Сбежал бы, наконец, — ему ведь предлагали. С тех пор и различают — самоубийства из веры и самоубийства из неверия.
— Я вижу вы этот вопрос хорошо проработали.
— Да уж повидал я на своем веку.
— И к какому типу вы относите Рябовского?
— Странный случай, очень странный. Про инопланетян, это я так… покривил душой, как говорится, — краснея, признался Конт и театрально всплеснул руками: —Слушайте, а не открыл ли он какую научную тайну? Такую, что не вынес тяжести своего открытия, и вот такой печальный результат.
— Вряд ли, — усомнился Марк, — чаще бывает наоборот: от бессилия перед тайной люди гибнут.
— Подождите, дайте я скажу… — попросила Вера неуверенно, точно надеясь, что ей откажут, — я не понимаю… пусть нет веры, пусть как ты говоришь бессилие, но вдруг… представляете, на следующий день после вашей смерти кто-нибудь совершит такое важное открытие, докажет как дважды два, что умирать не стоило, и все поверят… И окажется, что вы умерли зря, опоздали всего на один день, а исправить уже ничего нельзя. Как тот случай, помните? Я в «Вельте» читала… В прошлом году это случилось. Какой-то чиновник из министерства внутренних дел застрелился. Он думал — ему так сказали — его сын замешан в каких-то махинациях… А чиновник был очень щепетильным и не смог вынести позора… Потом, меньше чем через месяц после смерти, его сына полностью оправдали. Конечно, вы скажете — это частный, даже весьма редкий случай. Но мы ведь живем и не знаем, что будет завтра — а вдруг завтра будет лучше чем сегодня… Как быть тогда?.. — от волнения Вера совсем сбилась.
— Тогда — никак, — ответил Марк и почувствовал себя ужасно глупо.
— Вы правы, — поддержал Веру Конт, — многие так и живут, надеясь, что следующий день будет лучше предыдущего. И вы тоже правы, — теперь он обращался к Марку, — по поводу бессилия или, лучше сказать, разочарования в собственных силах. В самом слове «следующий» уже есть какая-то обреченность, вы не находите? Новый день от нас постоянно ускользает, и только-только появляется надежда сделать его «сегодняшним», как он снова становиться «следующим». И хуже всего то, что порою мы знаем, каким он должен быть — новый день, знаем точно, но сделать ничего не можем. Нам приоткрыли его краешек — и снова спрятали… Вот вы сказали — космический разум. А нужен ли он нам? Человеку и без того хорошо там, где его нет, а тут — нате пожалуйста — целый космический разум! Пальчиком поманил, да куда нам… Сколько желаний сразу возникает, сколько надежд! Сразу улететь отсюда хочется, вот вам и записка : «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился». Улавливаете связь?
Марк и Вера кивнули.
— Он не заслужил света, он заслужил покой, — задумчиво произнесла Вера.
— Это что? Тоже из Псалмов? — полюбопытствовал Конт.
— Нет, из одной книги, русской…
— Ааа, — протянул следователь и со значением покивал головой. Затем нравоучительно добавил: — На Земле надо искать покой!
— Да где же взять этот покой? — с издевкой спросил Марк.
— Господин следователь, вероятно, из тех людей, кто и пижаму гладит с изнанки, — пробормотала Вера.
— Хм, я понимаю. Вы намекаете, что я вас как раз побеспокоил, — покивал Конт, — ну хорошо, но скажите честно, вы же наверняка думали о том, что произошло. Почему он это сделал?
— Хотите притчу? — спросил Марк.
— Извольте, если это нам поможет.
— Вот вы где живете?
— Это и есть ваша притча? — усмехнулся Конт, но ответил: —На Эльбештрассе, а зачем вам?
— Потерпите минутку. Мы же терпели, когда вы нас допрашивали. Итак, у вас там дом?
— Это был не допрос, а беседа, —возразил Конт, — и у меня квартира, а не дом.
— Сколько комнат?
— Четыре, но, позвольте, какое это имеет значение… — запротестовал Конт.
— Все, все, допрос окончен, — успокоил его Марк, — итак, у вас квартира с четырьмя комнатами. Вы живете там с семьей — жена дети и все такое. По утрам приходит горничная и прибирает в квартире…
— Нет, мы с женой сами справляемся, — осторожно возразил следователь.
— Прекрасно! Но вот вам улыбнулась удача, и вы в состоянии позволить себе дом в десять комнат. Как вы собираетесь поддерживать в нем порядок?
— Как-как, найму прислугу, — нехотя ответил Конт.
— Отлично. Так все и поступают — нанимают прислугу. Но предположим, что вам и дальше везет в жизни и вы покупаете новый дом — в два раза больше прежнего. Потом, следующий — еще в два раза больше. Ну и так далее — каждый следующий дом в два раза больше предыдущего. И вы по-прежнему нанимаете прислугу. В два раза больше дом — в восемь раз надо больше прислуги. Вы понимаете?
— Почему в восемь-то?
— Когда размер увеличивается в два раза, объем вырастает в восемь раз. Следовательно и прислуги нужно в восемь раз больше. И в конце концов она, то есть, прислуга, попросту перестает пролазить в дверь. С утра перед вашим парадным крыльцом скапливается очередь из горничных, кухарок, мусорщиков и разных там водопроводчиков. Они стоят и ждут своей очереди, чтобы попасть в дом. Что делать в таком случае?
— Наделаю достаточно дверей — только и всего, — нашелся следователь. Но Марк был готов к такому ответу:
— Не сможете! У вашего дома не хватит стен, что бы пробить в них достаточно, как вы говорите, дверей. Ведь площадь стен, включая крышу и фундамент, увеличивается в только четыре раза, если дом увеличивается в два. Сколько б не было дверей — все равно, рано или поздно перед каждой будет стоять очередь из ваших слуг. Что прикажите делать?
— Можно часть из них поселить внутри дома. Пусть там живут и там же работают.
— Не выйдет! Раз они там будут жить, то и мусорить будут там же. Ведь им, как и вам, нужно есть, пить, справлять естественные потребности. Они заведут себе семьи, наплодят детей… И тогда вам понадобится новая прислуга, чтобы убирать за старой. Уяснили?
— Хорошо, положим вы правы, — в растерянности согласился Конт, — но что отсюда следует?
— Что следует? А то, что рано или поздно вы уже не сможете следить за домом, и дом придет в упадок. Существует некий предельный размер для вашего жилища. А человек только тем и занят, что беспредельно отодвигает границы своего мира. Это путь саморазрушения, самоуничтожения — вот к чему стремится человек!
— Не согласен, — покачал головою Конт, — вы жонглируете словами, как клоун шариками. Доказываете, что черное — это белое, и наоборот!
— Кстати о цветах, — встрепенулся Марк, — как по вашему, белое, перекрашенное в черное — это черное или, все же, белое, но перекрашенное?
— Болтайте, болтайте, — процедил Конт и стал быстро собираться, — мне пора идти. Было приятно с вами побеседовать. Да, чуть не забыл… — он остановился, раздумывая, — после Рибовски остались какие-то записи. Он писал по-русски, и мне в них трудно разобраться, поэтому, если вас не затруднит, взгляните… — и он выложил на стол стопку тонких, мелко исписанных листов. Затем встал, застегнул пиджак на верхнюю пуговицу, одернул полы, внимательно осмотрел себя со всех сторон, и, видимо, остался доволен. —Я не прощаюсь, — сказал Конт и ушел.
— Почему он тебе все время подмигивал? — спросила Вера.
— Кто? Конт? — переспросил Марк. Он посмотрел на стул, на котором только что сидел их собеседник. Уходя, Конт придвинул его к столу и теперь стул стоял так же, как до появления следователя. — У тебя нет ощущения, что не было тут никакого Конта?
— Перестань… Это не Конт, это ты поставил все с ног на голову своими рассуждениями про дом, про то как он разрастается и нужно все время нанимать новую прислугу… В общем — про тягу к самоуничтожению. В какой-то момент ты меня убедил, но потом я поняла, что все сказанное тобою — что-то вроде той апории про Ахиллеса и черепаху. Признайся, ведь ты сейчас, на ходу все это выдумал. А в глубине души, ты думаешь так же как и он.
Казалось, Марк ее не слушает.
— По поводу?
— По поводу Рябовского. По-моему Конт правильно угадал.
— Возможно…
— Слушай, — спохватилась Вера, — ты ведь ему не сказал, что завтра уезжаешь.
— Не сказал, — согласился Марк, — и что с того? Возьму бумаги Рябовского и улечу… Нет, не туда, — он улыбнулся, заметив, как Вера вздрогнула, — всего лишь в Хьюстон.
Следователь Конт вытащил на балкон шезлонг, долго не мог с ним сладить — он хотел разложить шезлонг так, чтобы лежа можно было наблюдать и усыпанное звездами ночное африканское небо, и Голубой Нил, с тихим плеском несущий свои воды навстречу Нилу Белому. На соседнем балконе скрипнул такой же точно шезлонг.
— Не помешаю? — спросил Конт у соседа.
— Ничуть, — ответил сосед.
Конт привстал, заглянул за перегородку.
— Я ваш сосед, — сказал он.
— А я — ваш, — весело ответил ему сосед и тоже привстал, — Энтони Шанделье, с вашего позволения, — представился он.
— Генрих Конт, — назвал себя следователь.
Они пожали друг другу руки.
— Вы в отпуске здесь или по делам? — осведомился Конт. Жара, томившая его весь день, улетучилась вслед за солнцем, и взбодрившемуся Конту хотелось поболтать. А Энтони был не прочь составить ему компанию.
— Путешествую, — ответил он.
— Откуда куда, если не секрет?
— Из Хьюстона в Хьюстон, — коротко ответил Энтони.
Конт прикинул в уме, где Хьюстон, а где Хартум, произвел несложные вычисления и высказал догадку:
— Неужели вокруг света?
— Угадали, — подтвердил его сосед, — а вас каким ветром сюда занесло?
— На старт звездолета хотел взглянуть, потом задержался — решил устроить себе небольшой отпуск.
Энтони оживился.
— Вы знаете, я тоже хотел посмотреть на старт, но программу путешествия придумывал не я и вот, видите, опоздал. Кстати, кое-кого из астронавтов я даже знаю лично.
— В самом деле? Надо же, и я, представьте себе, тоже знаю, вернее, знал одного из них — некоего Марка.
Шезлонг на соседнем балконе громыхнул, мгновение спустя из-за перегородки выглянула изумленная физиономия Энтони Шанделье.
— С ума сойти! — воскликнул он, — ведь я имел в виду именно его!
— Вы серьезно? — спросил Конт так, словно у его собеседника был повод шутить, — а откуда вы его знаете?
— Какое-то время мы вместе работали, — пояснил Энтони.
— Ах, ну да… Хьюстон, — задумчиво пробормотал Конт, — вы тоже астроном?
— В некотором смысле, а вы?
Конт не стал скрывать род своих занятий.
— Да, я знаю, Марк работал в Цойтане, но я не слыхал, чтобы у него там были проблемы с законом.
— Проблем с законом не было, — поспешил успокоить его Конт, — но теперь это уже не имеет значения.
— Тогда, тем более, расскажите!
— Да нечего рассказывать. Четыре года назад я передал ему материалы одного исследования — по вашей части, кстати. Хотел проконсультироваться у него, да он уехал не сказав ни слова.
— Это на него похоже, — согласился Энтони, — а что дальше?
— Не было никакого «дальше». Дело, которое я тогда вел, оказалось простым, консультация не понадобилась. Вспомнил о нем, только когда увидел имя Марка в газетах. Подумал, дай-ка встречусь перед отлетом, поговорю, но к Космопорту посторонних и на километр не подпускали. Так и не увиделись. Скажите, а где эта Альфа Кентавра находится? — неожиданно спросил он.
Энтони показал на южную сторону горизонта.
— Вон та, яркая звезда над самым горизонтом, видите?
Конт кивнул. Затем, извинившись, прошел к себе в номер. Через минуту вернулся, держа в руках стопку бумаг.
— Вот, взгляните сюда, здесь какие-то буквы и цифры, это тоже звезда?
Он наклонил лист бумаги так, чтобы на лист падал свет от окна.
— Дайте взглянуть… Да, это звезда, причем, судя по обозначениям, двойная, но координат тут нет. Может в другом месте… — Энтони принялся перелистывать рукопись, — ну и почерк! На каком это языке?
— На русском.
— Так это те самые материалы, что вы отдали Марку! — сообразил Энтони.
— Да, оригиналы. У Марка остались копии.
— Оставьте мне, я попробую разобрать.
— Хорошо, я вам завтра сниму копию, — согласился Конт.
Энтони вернул ему рукопись. Тот, принимая бумаги, сказал:
— Подумать только, как, извините за банальность, тесен мир. Я говорю о нашей с вами встрече.
— Глядя на это… — Энтони сделал жест, как если бы он стирал пыль с небосвода, — …мир не кажется тесным, вы не находите?
Конт задумался.
— Вы знаете, порою, это… — он сделал похожий жест, — …мне представляется какой-то чудовищной мистификацией. Будто кто-то нарочно заставляет нас думать, что там лишь пустота, хотя, на самом деле, мы видим ширму — черный непрозрачный занавес, скрывающий от нас другой, светлый мир. А звезды — не более чем прорехи в этой ширме. Их проделали те, кто сейчас по ту сторону занавеса — сцены, если угодно. Помните: «и отделил Бог свет от тьмы». Вот и отделил он свет от тьмы этим занавесом, — и Конт печально вздохнул.
Шанделье собирался ответить, но у него в номере зазвонил телефон. Разговора Конт не слышал.
— Что-то случилось? — спросил следователь, увидев как переменилось лицо собеседника, когда он, закончив разговор, снова вышел на балкон.
— Случилось… Полчаса назад пропала связь со «Свирепенем», — взволнованно сказал астроном.
— Этого я и боялся, — последовал неожиданный ответ.
«Свирепень» благополучно проскочил между Ураном и Нептуном (не все верили, что это получиться с первого раза) и вырвался на космический простор. Плутон, находившийся в те дни по другую сторону Солнца, был кораблю не помеха. Скорость возрастала так же быстро, как если падать с Эмпайр Стэйт Билдинг без парашюта, поэтому по утрам Марку казалось, что он снова на Земле. Суровый окрик командора возвращал его на корабль.
«Пора за штурвал!» — донеслось из репродуктора. Марк побрел на центральный пост, чтобы сменить на вахте бортинженера-серцееда. Тот уже вовсю драил пуговицы, и едва Марка занял место за пультом управления, бортинженер рысью побежал подбивать клинья под дверь Вериной каюты. До сих пор у него ничего не получалось. Не получилось и на этот раз. Уставший и разочарованный, бортинженер отправился в свою каюту, где его ждала чашка с чаем и лошадиной дозой бутабарбитала, который Марк подсыпал вместо обычного брома. Похожий напиток ожидал и командора и бортмеханика. Со штурманом (они дежурили вместе) Марк решил обойтись одним эфиром. Что делать с Верой, он пока не решил.
Через час после начала вахты Марк ненадолго отлучился с центрального поста. На законный вопрос штурмана, где он был, Марк ответил, что готовил криогенные камеры. Штурман очень удивился и хотел спросить зачем Марку понадобились криогенные камеры, и почему он держит в левой руке револьвер. На второй вопрос ответ был бы прост — в правой руке Марк держал кусок ваты, хорошенько смоченный эфиром. Эфир, близко поднесенный к лицу, заставляет думать только о хорошем, может быть поэтому штурман не стал сопротивляться. Его тело обмякло, Марк подхватил штурмана под руки и оттащил к ближайшему креслу. Первая часть плана была выполнена.
Веру разбудил тихий звук, доносившийся со стороны двери. Сначала она подумала, что это одна из подопытных белых мышек вырвалась из клетки. Но почему мышь прибежала к ее каюте, а не к камбузу? За дверью засопели. Мыши так не сопят и Вера догадалась, что за дверью стоит бортинженер. Она закрыла глаза и притворилась спящей. Бортинженер не видел, закрыты у нее глаза или открыты, но, все равно, поверил, что Вера все еще спит и убрался к себе в каюту пить чай. Вера снова уснула и проснулась только через час. Было тихо. Подождав, для верности, несколько минут, Вера протерла глаза, встала с кровати и стала неспешно одеваться.
Марк думал, что успеет перенести в криогенную камеру всех четверых до того как Вера выйдет из каюты. Троих он уже перенес, остался только командор, и его каюта, как назло, находилась рядом с Вериной.
— Похоже, я проспала самое интересное, — сказала она, увидев Марка со спящим Вулшитером на плече. Она сама удивилась тому, что сказала именно так, а не воскликнула «Что случилось?!» или «Что с командором?!». Марк опустил командора на пол. Тот сладко всхрапнул. Пришлось перевернуть его на живот, чтобы не храпел.
— Ему так не удобно, — сказала Вера и только сейчас пришла в себя. —Марк, что происходит?.. — сдавленным голосом спросила она.
— Он спит, — ответил Марк и приложил палец к губам, — Тссс.
— Но куда ты его несешь… и где остальные?
— Забудь про остальных, про Вулшитера тоже забудь — остались только мы вдвоем.
Если бы Вера не заметила револьвера, торчащего у Марка из кармана, то, вероятно, не поверила бы ему так сразу.
— Что ты с ними сделал? — простонала Вера. Губы у нее дрожали.
— Ничего, — Марк заметил куда она смотрит, — нет, они просто спят — как командор.
Как бы в подтверждение его словам, командор снова захрапел.
— Но, скажи ради бога, зачем?… — взмолилась Вера. Она опустилась на пол. — Или мне это все только снится?
— То, что происходило с тобой до сих пор, тебе тоже снилось. Твой сон продлится еще двадцать лет, но поверь, пробуждение будет прекрасным. Ты не представляешь, каким прекрасным будет наше пробуждение! Я им завидую, — Марк кивнул в сторону спящего командора, — ожидание не будет для них столь тягостным, как для нас с тобой. Можно сказать, что они уже там…
— Где, там?
— Плером. Я назвал это место Плером, оно далеко, в сотню раз дальше чем Альфа Кентавра, но мы туда долетим, вот увидишь. И там исполнятся все наши мечты.
— Ты… ты сошел с ума! Какой Плером?… как ты сказал, в сто раз дальше?! Ты болен, Марк, ты болен. Давай сделаем все как было, ведь еще не поздно…
— Тише, успокойся, — Марк стал утирать ей слезы, — я не сумасшедший. Я все рассчитал. Если израсходовать топливо, запасенное на обратную дорогу, то мы сможем полететь так быстро, что время сожмется в десятки раз. На Земле пройдут века, поколение за поколением, а мы будем все лететь… Двадцать лет — это ведь совсем немного по сравнению с вечностью — совсем чуть-чуть, надо только подождать.
— Значит, мы не вернемся? — всхлипнула Вера.
— Глупенькая, кто же возвращается из Вечности. Билет туда только в один конец. Но нас там ждут — я не знаю кто, но они возьмут нас с собой. Я слышал их музыку, в ней звучало пожелание счастливого пути и обещание скорой встречи. Они обещали нас ждать. И нам надо подождать, это нелегко, я знаю. Ждать всегда нелегко. Но потом, потом мы с тобой отдохнем…
Он погладил ее по каштановому ежику. Вера не пошевелилась, она словно оцепенела, ее губы что-то шептали — было еле слышно. Марк наклонился к ней.
— Что, что ты говоришь, я не слышу?
— … мы отдохнем, мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим… — доносилось до него слабое причитание. Она разрыдалась.
— Да, Вера, да, все так и будет. Я тоже это помню, все так и будет — «и жизнь наша станет тихою, нежною, сладкою, как ласка…»
— … как ласка, — в прострации повторила она. Глядя куда-то в сторону невидящим взглядом, медленно, словно испорченная заводная кукла, Вера потянулась к рукоятке револьвера. Марк не шевелясь следил за движением ее руки; попытался перехватить оружие, когда она уже взвела курок. От грохота выстрела Вулшитер перестал храпеть.
Кровоточила легкая царапина с левой стороны живота, но Марк думал, что это кровоточит его сердце. Он поднял Веру на руки (она была в обмороке) и понес в медицинский отсек.
Здесь я ничего не сокращал, рассказ обрывался именно на этой сцене. Либо так и было задумано, либо часть текста была утеряна при пересылке. Энтони постарался изложить события так, чтобы никто ему не поверил. Не верил и я, но Плером… Снова Плером. Сейчас там Берх. Была ли его встреча с Абметовым случайной? Абметов тоже твердил про Плером, вернее, про Плерому, но разница невелика. Я еще не знал, насколько это может быть важным, но все же попросил нейросимулятор разыскать мне статьи о Плероме — не о звездной паре, а о настоящей, если так можно выразиться, Плероме. Статей о ней оказалась масса — исторических, философских, оккультных. Я начал с исторических, поскольку они понятнее. И сразу почувствовал, что нахожусь на правильном пути.
Я позвал Татьяну — она недавно вернулась из Университета, и чтобы не мешать мне сидела тихохонько в спальне.
— Ты звал? — спросила она.
— Звал, звал. Скажи, что ты знаешь про Плерому.
— Тебе про которую из них?
— Про…, — я заглянул в одну из статей, — гностическую.
— А зачем тебе?
Все как всегда — нет, чтобы просто ответить. Вообще-то, надо отдать ей должное — после возвращения с Оркуса Татьяна ни разу не напомнила мне об обещании «все рассказать, но попозже».
— Это имеет отношение к Абметову, — объяснил я, — ну так как, расскажешь ты мне «о кеноме и Плероме»?
— Ну смотри. Как ты уже наверное понял, понятие «Плерома», то есть «полнота», ввели гностики. Гностиками же называют адептов целого ряда религиозно-философских школ раннехристианской эпохи. Всех гностиков объединяло убеждение, что в нашем мире борются два начала — доброе и злое. Да и сам мир — тот который мы видим — плод некой коллизии между божествами, находящимися на разных ступенях божественной иерархии. Зло оказалось как бы зашитым в саму ткань мира. В первоначальном состоянии мир был един, потом раскололся и человечеству досталась худшая его часть — кенома. Про Плерому объяснить сложнее, поскольку ее никто никогда не видел. Условно говоря, Плерома — это место, где хоть мало-мальски сохранилось единство всего-всего, включая всякие божественные аспекты. Вот только слово «место» тут не очень-то уместно — в Плероме нет того, что мы называем пространством. И что самое приятное — там нет времени. В узком же смысле, Плерома объединяет в себе всю божественную иерархию, за исключением тех богов, кого выгнали за порчу Абсолюта — за создание кеномы, то есть. А во главе создания кеномы стоял злой бог по имени то ли Демиург, то ли Явал… Ялдал… в общем, не помню. У гностиков всяких богов и прочих архонтов — десятки, если не сотни. И один другого злее. Как из Единого Бога получилось несколько, да еще таких разных, мне, например, непонятно…
— Зато мне понятно! Единому было скучно наедине с самим собой, и у него произошло раздвоение личности — модель божественного сознания оказалась нестабильной. Две личности — два сублимационных числа. Божественная личность с сублимационным числом близким к единице стала Богом Добра. А у другой божественной личности сублимационное число — ноль или чуть больше, вот она и творит Зло почем зря. А где два бога — там и двадцать. Так они и размножались.
— Но тогда Единый бы перестал существовать, остались бы только две его половинки — Бог Добра и Бог Зла. При каждом делении исходный Бог должен исчезнуть, а у гностиков ничего подобного нет.
— В этом и заключалась их ошибка! И не мудрено — они же не читали трудов Абметова. Зато он их сочинения читал и еще как читал!… Извини, я тебя, кажется прервал…
— Не кажется, а точно. Путь спасения гностики видели в обретении знания — «гнозиса», но слово «знание» они употребляли не в современном его смысле, а в трансцендентном, то есть как откровение. Знание должно открыть путь из падшего мира — кеномы — в Плерому. Казус в том, что знание-гнозис доступно не всем и каждому, а только избранным — так называемым «пневматикам». Твой Абметов считает себя пневматиком. Из нас с тобой пневматики не получились. Обретя знание, пневматики попадут в Плерому, а там, в Плероме, уже не будет ни времени, ни пространства, одна сплошная райская жизнь, короче… Ты слушаешь? — недовольно спросила Татьяна, наблюдая, как я, вместо того, чтобы внимательно ее слушать, шарю в компьютере.
Так вот, думаю, откуда Абметов черпал вдохновение! Опять же, цепочка: гностики — гнозис — гномы. Снова гномы. «Гномы прочно вошли в нашу жизнь» — вспомнилось мне сообщение из мира моды. Похоже, от них никуда не деться. Расследование походило на игру, в которой надо получить из одного слова другое, заменяя по одной букве. Плюс ассоциации — Абметов — «знание», Берх — Плером — Плерома, и так далее. У меня захватило дух.
— Да, конечно, — машинально ответил я, — я понял. Плерома — это полнота. А всем известная теорема Геделя о не-плероме, тьфу, черт — о неполноте, конечно же… утверждает, что никакой полноты-Плеромы нет и быть не может.
— Если это каламбур, то — неудачный, — холодно сказала Татьяна, — из теоремы Геделя следует, не то, что Плеромы быть не может, а только то, что мы с тобой — не в Плероме, а это и так ясно. Ортодоксальному христианству тоже все было ясно, поэтому гностиков они не жаловали. Гностические учения признали еретическими, а труды философов-гностиков в большинстве своем были уничтожены. Гностических школ существовало множество, и рассматривать их следует по отдельности, поскольку различий между ними больше чем сходства.
— Прекрасно, давай остановимся на александрийской ветви.
— Но я не могу так сходу…
— …остановиться, — подсказал я, — ладно, давай только про бабочку Аурелия.
— Что? — изумилась Татьяна, — опять бабочки?
— Вот именно! — торжественно заявил я, — бабочка Аурелия — не что иное, как символ возрождения, символ бессмертной души, попираемой Ангелом Смерти. И придумали ее все те же гностики. Как ты правильно заметила, примерно в пятом веке от рождества Христова гностические секты были полностью разгромлены официальной ортодоксией. Немногочисленные оставшиеся в живых апологеты вынуждены были накапливать и передавать знание в глубокой тайне. Тогда-то и потеряла бабочка Аурелия одно крыло. Смысл тут двоякий — с одной стороны гностицизму был нанесен ощутимый удар, но с другой стороны — бессмертная душа все же вырвалась из-под пяты Ангела Смерти, она не утратила способность возрождаться вновь и вновь. Потому-то бабочка с оторванным крылом и стала символом находящегося в глубоком подполье гностического учения. Есть еще одно любопытное замечание. А именно, хорошо известно, что клеверный лист являлся одним из символов христианства. Он символизировал триединство Божественной Сущности. Внешне, этот символ очень походил на гностическую бабочку без одного крыла. Поэтому гностики, при необходимости, могли выдавать свой символ за христианский, не вызывая, при этом, никаких подозрений. Может быть, именно благодаря сходству с клеверным листом, символ «Бабочка с оторванным крылом» и дошел до наших дней, — процитировал я последнюю строчку из статьи, посвященной гностическим символам. — А теперь попробуй угадать, как называлась та александрийская гностическая секта, чьим символом была бабочка с оторванным крылом.
— Говори, не томи, — потребовала Татьяна.
— Да ты же сама это название придумала, ну, вспомни-ка — Оркус-Отель, Абметов, крылатая пирамидка…
— Не помню! — уперлась она из вредности.
— Трисптерос — именно так и никак иначе! Поэтому-то Абметов и побежал выяснять отношения с торговцем. Сама по себе пирамидка никакой тайны не содержит, но вот название абметовского тайного общества тщательно скрывалось. Абметов решил, что название «Трисптерос» нам выдал торговец!
Татьяна не выдержала и заглянула в экран.
— М-да, чудеса да и только! А кем подписано-то?
Я взглянул. Статья подписана: Дэвид М. Гиптфил. По крайней мере один раз Абметов на него уже ссылался.
— Не знаю такого, — сказала она.
— Зато, я знаю, — тихо ответил я.
— Может поделишься?
— Чем именно?
— Всем: Абметовым, гомоидами…
— Непременно, — пообещал я, но для начала дал ей прочитать последний рассказ из «Сборника космических историй». Пока мы обсуждали гностиков и бабочек, пришло очередное послание от Берха, честно говоря, несколько неожиданное.
Привет, ты наверное удивлен тем, что я обращаюсь к тебе, а не в Отдел. Я представляю, какой переполох там вызвал мой последний доклад. Не бери в голову — все не так плохо. Просто я немного перенервничал. Но теперь у меня есть план. И прежде чем я его тебе изложу… Хотя, не понимаю, зачем я вообще собираюсь тебя в него посвящать. Наверное, я все-таки немного боюсь… План должен сработать, но сам понимаешь — в жизни всякое бывает. Особенно — в нашей с тобой. Прежде чем я продолжу, ты должен пообещать мне, что ни при каких обстоятельствах не сообщишь ни Шефу, ни кому другому, о том, что я тебе расскажу. Мое послание устроено таким образом, что если в течение одной минуты после того как я скажу «время пошло», ты не ответишь «да», письмо полностью уничтожится. Но я надеюсь — этого не произойдет. Только пожалуйста, говори «да» четко и ясно, а то тебя даже твой кухонный комбайн не понимает. Итак, готов ли ты выполнить мою просьбу? Время пошло!
В углу экрана вспыхнул таймер — секунды потекли. Берх не оставил мне выбора и главным образом потому, что в данный момент он нужен был мне больше, чем я ему.
На сороковой секунде я неуверенно сказал «да». Мой голос дрогнул, но компьютер меня прекрасно понял. Таймер остановился, Берх бодрым голосом продолжил:
… рад, что ты выполнил мою просьбу. Вернее, обещал выполнить, — но это почти одно и тоже, если я и вправду тебя хорошо знаю. Я не займу у тебя много времени. В своем докладе Отделу я сказал, что собираюсь поработать с записью последнего выхода Сторма на поверхность Плерома. И я с ней поработал… Вскрыть защиту системы контроля за жизнеобеспечением оказалось не слишком сложно, хотя, скажу тебе прямо, защита эта не хуже чем у компьютера Шефа. Но ты ведь меня знаешь… Я не умею гоняться за преступниками, но, зато, проникать в их тайны — тут нет мне равных! И хотя внутри системы контроля я не нашел ничего особенного, я установил главное — запись можно подделать без труда! Точнее — ее можно копировать откуда угодно и куда угодно, обрезать на любом месте или, наоборот, стыковать две записи в одну…
Я не знаю, кто устанавливал коды доступа, но за определенное время Вэндж с Зиминым вполне могли сделать тоже, что и я, — ведь этого самого времени у них было навалом. Думаю, скорее всего, им и не требовалось вскрывать систему контроля так, как мне. Вэндж, будучи командиром станции, мог знать коды, и если не все, то некоторые — уж точно. Поэтому вывод напрашивается сам собой: записи путешествия Сторма к Улыбке Явао доверять нельзя. Но и это еще не все! Я так увлекся, что вскрыл не только систему контроля за жизнеобеспечением, но и всю систему управления станцией, а, заодно, и личные файлы Вэнджа и Зимина. Ты знаешь, в современной астрофизике я ничего не смыслю, но, поверь, я способен отличить запись астрофизических исследований от шифровки. Понимаешь, они шифруют свои исследования! Для чего спрашивается? Я не нашел описания того спутника, что они запустили вчера к нашим Карликам. Та ерунда, что уместилась всего на трех страницах, не может быть полным его описанием. К чему им такая секретность? Я это выясню, рано или поздно…
Вэндж с Зиминым принимают меня за дилетанта. Они правы — в физике я ни бум-бум, но они сами мне все расскажут. Я догадался, почему они не боятся моего оружия. Ха! Они думают, что я не стану палить внутри станции из опасения ее повредить и угробить, тем самым, не только их, но и себя в придачу. Плевать я хотел на их станцию… Но все же, ты часом не знаешь, как ослабить мощность импульса? — Ну так, чтобы их покалечить слегка, а станцию — нет. Если знаешь, лучше скажи, а то ведь, невзначай, всех тут угроблю. И зачем, скажи, тебе это? Я вот что придумал. Загоню-ка я Вэнджа с Зиминым в пятый модуль, запру там и отключу им все на свете — и связь, и воздух и энергию — я теперь знаю как это сделать. Оставлю только интерком. И пока они мне все не выложат — не выпущу.
Берх прервал диктовку, отвернулся от экрана и, хотя мне плохо было видно, но, уверен, — он выпил несколько таблеток, каких именно — я не разглядел. Он снова повернулся к экрану. Взгляд его блуждал, он начал говорить так, словно забыл, о чем прежде шла речь.
…эти психостимуляторы как-то странно действуют: я закрываю глаза и вижу себя смотрящего на себя… И все мои сны о том же… В них я будто бы прохожу сквозь анфиладу зеркал — они как ртуть, или, вернее, как вода под нефтяной пленкой. В каждом я вижу себя, но со спины — как на той картине… черт… забыл и название и имя художника — потом, при случае, надо будет спросить у Татьяны…
Так вот, этот "Я" передо мною — мое «после Я» — то есть я, но мгновение спустя, а перед ним — «после-после Я», а еще дальше — «после-после-после Я» и так далее… Мы выстроились в затылок другу и каждый хочет догнать, остановить того кто впереди… кажется, что для этого достаточно протянуть руку… я и в самом деле протягиваю ее, вытягиваю пальцы но, чтобы остановить свое будущее недостает какого-то дюйма… я тянусь все сильнее и сильнее — вот-вот моя рука коснется его плеча, но рука беспомощно зависает, потому что «после Я» успевает сделать шаг, а тот, и кто перед ним — тоже — шаг, и тот кто перед ним — тоже, и так далее…
Будешь смеяться, но прогресс налицо, ведь еще месяц назад я даже не мог разглядеть свое «после Я» — так оно было от меня далеко. Неделю назад между нами было два шага, а теперь, видишь, счет идет на сантиметры. Меня немного пугает, что с течением времени расстояние уменьшается все медленнее и медленнее. Еще, я опасаюсь, как бы «после Я» не вздумал играть со мной в кошки-мышки — увертываться, например, или дергать плечом, стараясь скинуть мою руку, делать очередной шаг раньше чем я успею закончить свой… ну и тому подобные вещи. Если «после Я» будет вести себя хорошо, то в конце концов я его достану, схвачу за плечо, а он схватит того, кто впереди него, тот, в свою очередь, — следующего и так далее…
Мы будем одним целым, будем шагать в унисон и время для нас остановиться, если, конечно, мы не станем наступать друг другу на пятки… шучу… Я смогу подсказать ему или хотя бы уберечь от неверного шага, подтолкнув в нужный момент под локоть…
Послание закончилось внезапно. Приказ немедленно покинуть Плером до Берха еще не дошел, но абсолютно ясно, что, получив его, Берх на него попросту наплюет — он теперь сам себе хозяин. А Ларсон-то, Ларсон — довычислялся… Немедля я стал диктовать ответ:
Берх, черт тебя подери, возьми себя в руки и престань жрать горстями психостимуляторы. Теперь слушай внимательно, а выслушав, сделай все в точности, как я скажу. Нравоучений я тебе читать не намерен — и не надейся. Отговаривать тебя, судя по всему, так же бесполезно. О твоем идиотском плане я Шефу не доложу, но взамен ты обязан сделать следующее. Сразу как получишь мое письмо, ты отправишь по указанному мною адресу другое — текст и адрес я продиктую. Письмо пошлешь именно текстом и только им. Более того, сделай так, чтобы все выглядело, будто текст послан Вэнджем и никем другим… Извини за повторения, но все что я говорю — очень важно. Раз уж ты смог взломать его локусы, то сможешь сделать и это. Я не знаю, как отсюда, с Фаона послать сообщение так, чтобы адресат подумал, будто корреспондент находится на Плероме. Даже малейшая ошибка может стать роковой…
Ты должен послать следующий текст:
"Уважаемый доктор А!
На Ваше счастье, обстоятельства сложились таким образом, что теперь мы в состоянии выполнить Вашу просьбу. Информация, только что полученная со спутника, без сомнения, должна Вас заинтересовать. Поэтому нам имеет смысл встретиться и лично обговорить условия, на которых мы смогли бы ее Вам передать. По независящей от нас причине, такая встреча не может состояться непосредственно на Плероме, поэтому двадцать восьмого сентября по синхронизированному времени я буду ждать Вас на терминале ТКЛ3504.
Всегда к Вашим услугам,
А.В. "
Конец текста.
После того, как пошлешь это письмо, постарайся проконтролировать все приходящие и исходящие сообщения. Если придет сообщение от Абметова сделай так, чтобы оно не попало ни к Вэнджу, ни к Зимину. Ответь на него сам, главное — убедить Абметова приехать на ТКЛ3504. О любых своих действиях сообщай мне немедленно. У меня — все. Удачи.
Ф.И.
Полной уверенности в том, что Абметов проглотит наживку у меня не было, но другого пути я не видел. Не Абметов, так кто-нибудь другой из его же компании, обязательно прибудет на терминал. Я счел, что на обмен посланиями и на дорогу до терминала одиннадцати стандартных дней мне хватит. Теперь я был готов к свиданию с Виттенгером.
Татьяна слышала мой ответ Берху. Рассказ она дочитала.
— Я кажется догадалась, — произнесла она сдавленным шепотом, — неужели история повторяется?
— Ну не так буквально, — повторил я слова Вэнджа.
— На самом деле, никакой истории не существует…
— В смысле?
— Есть только след прошлого в настоящем. След следа — я бы тaк сказала…
— Ты это по поводу «влияния настоящего на прошлое» вспомнила?
— Да. Прошлое восстанавливают по его следу в настоящем. А Шанделье восстанавливал события по их следу в Цойтане, или где там…— она заглянула в текст, — ну да, в Цойтане.
— Так ты думаешь, он это имел в виду?
— Думаю, да… Занимательная штука получается, — вслух размышляла Татьяна, — постоянно наступаем на одни и те же грабли. Вообразили себе, что разум это что-то вроде высшей рациональности — рациональности в квадрате, если учесть рефлексию. Нет, все совсем наоборот: разум — это когда шиворот навыворот, когда назло себе и этой идиотской рациональности.
Через две стандартные недели ее слова ужасным образом подтвердятся. Но сейчас я сказал:
— В среднем, мы ведем себя вполне рационально. До тошноты рационально. Особенно, если знаем что нам нужно, или куда…
— Эх, кабы знать заранее, куда нам нужно, — вздохнула Татьяна.
— Туда, где нас нет.
— Опять банальность, — отмахнулась она, — банальность как средство уйти от ответа. Помогает, однако…
Она подошла к окну, встала на цыпочки, потянулась.
— Смотри, не улети, — предостерег ее я. Она обернулась, сказала задумчиво:
— Улететь не трудно. Трудно оставить здесь то, что нельзя взять с собой… Я все равно не верю, что гомоиды — сапиенсы, — неожиданно добавила она.
— Правильно делаешь, что не веришь. Никакие они не сапиенсы. В смысле, они — рукотворные сапиенсы, а не инопланетные.
— Угу, ручные, я бы даже сказала, — поддакнула Татьяна, — а что ты с ними сделаешь, когда поймаешь? Как с Големом — вырвешь из зубов табличку с пентаграммой?
— Спроси чего-нибудь полегче…
— Пожалуйста, — не растерялась Татьяна, — кто их сотворил, Франкенберг?
— Он самый, но для тебя же безопаснее забыть его имя, как и все остальные имена, что ты слышала, — предостерег ее я.
— А Йохан, он с ними заодно? Только не говори, что его имя мне тоже нужно забыть.
Вот, оказывается, за кого она переживает!
— Забудь, но по другой причине.
— По какой другой? — настаивала она, — а, все шутишь…
— Шучу, — пошутил я.
Татьяне мой тон не понравился.
— Ладно, выкладывай, что ты имеешь против Йохана?
— А ты не догадываешься? Кто, по-твоему, был тем таинственным типом, что принес торговцу крылатую пирамидку?
— Издеваешься?!
— Ни капельки. Слишком много совпадений. Стоило мне рассказать Йохану про трехкрылый треугольник, как его объемное, если так можно выразиться, воплощение появляется в продаже на Оркусе. И Йохан бродит поблизости, хотя всем сказал, что летит на Землю.
— Но это действительно может быть просто совпадением.
— Ну да — если бы не одна деталь. Рассказывая Йохану о треугольнике я малость приврал — сказал, что внутри треугольника нарисован человеческий глаз. Теперь вспомни, как мы с тобой гадали, зачем на свободной грани пирамидки нарисовали темное пятно. Глаз на пирамидке изобразить нельзя — она же гоморкусовская, а не человеческая, поэтому Йохан ограничился темным пятном. Воображение у твоего шефа иссякло окончательно. Или ты считаешь, что пятно — это тоже совпадение?
Татьяна ничего не считала.
— А фраза, что передал торговец — «Милостью небес мы существуем» — она к чему?
— Должно быть, зашифровал что-нибудь личное. Автор без подписи обойтись не может. Давай спросим у Йохана — вот смеху-то будет!
— Будет вовсе не смешно, особенно, если ты ошибся, — покусывая губы проворчала она. — С другой стороны, если вспомнить, что имя «Йохан» означает «милость Иеговы» или «милость сущего», то может ты и прав.
Зерно сомнения я в ее душе посеял — теперь пускай растет само — меня йоханские дела не касаются.
Ближе к полуночи позвонил Виттенгер и назначил встречу на десять утра, у городского крематория.
5
Встречаться с Виттенгером у городского крематория становилось традицией (попойка в «Пунктеприемапищи» — не в счет). Не исключено, что и последняя наша встреча произойдет возле или внутри «старейшего здания в городе». Интересно, кто из нас двоих прибудет туда своим ходом?
Виттенгер опоздал на двадцать минут и, разумеется, не извинился.
— С повышением вас, господин полковник, — приветствовал я его. Дабы избежать хоть малейшего намека на иронию, фраза была отрепетирована заранее.
— Спасибо, дружище, — расцвел Виттенгер, — что нового скажешь?
— Смотря что считать старым…— вырвалось у меня само собою.
Ждать, пока он переспросит я не стал и начал пересказывать ему события, произошедшие со мной на Оркусе. Но, к моему удивлению, Виттенгер уже был наслышан обо всем от Шефа. Меня так и распирало от любопытства — почему Шеф вдруг решил привлечь его к делу гомоидов.
— Выходит, гомоиды — не выдумка… ну и дела… — Виттенгер поцокал языком.
— Выходит, что так.
— И тот гомоид…, как ты его назвал?..
— Антрес, — подсказал я, — таково его настоящее имя. Но документы у него были обычные, человеческие — на имя Юджина Шварца.
— Да, Антрес… Он убил и Франкенберга и жену Перка?
— Он сам так сказал.
— Но зачем?! — изумился Виттенгер. Ну ни дать — ни взять — невинный младенец, впервые услышавший об убийствах.
— Он сказал, что их, гомоидов, готовят для какого-то эксперимента. Франкенберг создал четверых — один погиб, один уже при смерти. Антрес был третьим и, как он считал, последним. Антрес решил сам устроить собственную судьбу. Для этого ему нужно было уничтожить всех, кто так или иначе знаком с проектом «Гномы».
— Но Перка убил не он, а жена…
— Я говорил об этом с самого начала. Видимо, Перк отказался от участия в эксперименте. Но это так — догадки…
— А какова роль Абметова? — спросил Виттенгер.
— Вот как раз это и предстоит нам узнать, и вы должны мне помочь.
— Чем именно я могу вам помочь?
Я изложил Виттенгеру свой план поимки Абметова. О том, что письмо Абметову будет идти от Берха, я не сказал. Инспектор засомневался:
— А он клюнет?
— Не знаю, — честно ответил я, — чистейшая авантюра. Абметову, во-первых, нужна информация с Плерома, во-вторых — четвертый гомоид. Только этими двумя вещами его можно заманить. Если гомоид уже в его руках, Абметов поймет, что кто-то готовит для него ловушку. А информация — вещь такая… — ее никогда много не бывает. Плюс ко всему, мы знаем от кого он ее ждет. А гомоида он ни от кого не ждет — это очевидно.
— Нет, не очевидно, — быстро возразил Виттенгер.
— Это еще почему?
— Мы только вчера закончили расшифровку фрагмента переписки Абметова и Эммы Перк…
— И вы мне только сейчас говорите о том, что у вас был текст их переписки?! Ничего себе — сотрудничество! — возмутился я.
— Не кипятись. Только вчера, после расшифровки, стало ясно, что текст является письмом Эммы Перк Абметову. Эмма Перк послала его за день до гибели. Зашифрованный текст нашли случайно на Накопителе Фаона. Даже не текст, а так — обрывки.
— И что в них?
— Она отказывается сообщить Абметову о неком «четвертом». Пишет, что если Абметов к нему подберется, то она тут же расскажет о «четвертом» некоему Ф. И. Сам понимаешь, кто это.
— То есть расскажет мне.
— Ну да… И еще любопытная приписка: мол она расскажет, но «вероятно, Ф.И. скоро сам догадается». Соображаешь?
Меня осенило:
— Четвертый гомоид находится среди тех, кого я знаю!
— Именно! — подтвердил Виттенгер.
— Тогда тем более нельзя заманивать его гомоидом! Предложение гомоида он свяжет со мной и, разумеется, не поверит, что я вдруг ни с того ни с сего решил оказать ему дружескую услугу. Предложение информации с Плерома — другое дело — тут я никаким боком не замешан.
Виттенгер возразил:
— Но он же разговаривал с Берхом на ТКЛ3504. Берх работает на Отдел, ты — тоже.
— Берх не сказал ему, что летит на Плером.
Я полагал, что Номуре не было никакого резона выдавать Берха — ведь он не знал, какое дело тому поручено.
— В конце концов, мы ничем не рискуем. Если Абметов знает про Берха, то подложное послание ничего ни прибавит, ни убавит. Если не знает, то приедет на терминал хотя бы из любопытства — или пошлет кого-нибудь. Так или иначе — билеты я зарезервировал. В новостях сказали, что неисправности на Канале уже устранены. Послезавтра вылетаем.
— А от меня-то что требуется? — с ленцой в голосе полюбопытствовал Виттенгер.
— Арестовать человека на территории терминала не так-то просто. Вы же можете запастись какой-нибудь подходящей бумажкой. К тому же, у меня нет разрешения носить оружие внутри терминалов — там с этим делом строго. И наконец, вы гораздо опытнее меня по части проведении подобных операций, — снова польстил я ему. Мне очень не хотелось, чтобы он отказался.
Виттенгер тяжело вздохнул:
— Черт меня дернул с вами связаться…
— Неужели раскаиваетесь? — и я демонстративно почесал плечо в том месте, где полицейские носят знаки отличия. Смысл моего жеста дошел до полковника мгновенно.
— Понял, понял, можете не продолжать, — сухо сказал он, — ладно, послезавтра, так послезавтра.
Глава седьмая: Лора.
1
На терминале ТКЛ3504 я не был ни разу, но я исходил из того, что все терминалы этой серии похожи друг на друга как две капли воды. Виттенгер был настроен более скептично. По своим каналам он раздобыл схему терминала. Ее переслали ему, когда мы уже готовились миновать терминал Фаона. Благополучно пройдя ТК-Фаон, мы взглянули на схему и обнаружили (причем, далеко не сразу), что по чистейшему недоразумению Виттенгеру прислали схему терминала ТКЛ3501, а не ТКЛ3504. Поэтому, ничего нового она нам не дала. Забегая вперед, скажу, что по-настоящему она и не понадобилась.
Пока мы добирались до цели, у нас было достаточно времени, чтобы в деталях разработать весь план операции, но сколько бы мы ни думали, план, все равно, сводился всего к двум простым вещам. Первое: Виттенгер, вооружившись визором, должен бродить по станции и следить за всеми, кто там находится. Я же буду сидеть в зала ожидания и через визор наблюдать за теми, за кем наблюдает Виттенгер. Второе: если Виттенгер, а, следовательно, и я, заметит Абметова или любого другого подозрительного типа (что именно считать подозрительным мы не оговаривали), то дальше действовать по обстановке. И последнее: несмотря на все возражения инспектора, вернее, теперь уже старшего инспектора Виттенгера, командовать всей операцией я поручил себе.
Мы прибыли на ТКЛ3504 за четыре часа до назначенного срока, то есть в восемь вечера двадцать седьмого сентября. Эти четыре часа мы планировали потратить на ознакомление с устройством терминала, но все вышло гораздо быстрее по той простой причине, что за исключением зала ожидания и двух прилегающих к нему тоннелей — загрузочному и разгрузочному — нас никуда не пустили. Вооружившись схемой, мы обошли пассажирские тоннели и вернулись в зал ожидания, теша себя надеждой, что тех, кого мы ждем, тоже далеко не пустят. Я по-прежнему был уверен в том, что Абметов должен явиться лично, ведь, опять-таки, по моему расчету, Вэндж мог знать в лицо только его.
Меня так и подмывало усесться в то самое кресло, в котором сидел Берх. Определить в каком именно кресле он сидел не составляло труда — лишь одно такое находилось прямо перед жирной красной надписью «ТКЛ3504». Поймать Абметова на том же месте, где он беседовал с Берхом, было бы очень символично, но вряд ли реально. Пришлось занять место в углу, противоположном выходу из разгрузочного тоннеля, и спиною к дверям — теперь моими глазами должен стать Виттенгер.
За час до наступления заветного двадцать восьмого сентября план операции оказался под угрозой срыва. Берх только сейчас сообщил мне, что Абметов предложил перенести встречу на ТК-Хармас. И что Берх был вынужден на это согласиться. Никаких подробностей Берх не сообщал — только ответ Абметова и текст, где он, от имени Вэнджа, согласился на перенос места встречи.
— Думаешь, он что-то заподозрил? — спросил Виттенгер.
— Вряд ли… Скорее, он просто решил подстраховаться и подготовил пути к отступлению. С 3504-ого ему бежать некуда, этот терминал как две заслонки в трубе: если оказался между, то — пиши пропало.
— Тебе с самого начала нужно было выманивать его на Хармас.
— Это выглядело бы неестественно. С какой стати Вэнджу назначать встречу на Хармасе? Там народу полным полно, а их дело свидетелей не терпит. 3504-ый и к Плерому поближе, да и вероятность наткнуться на кого-то из знакомых на ноль-четвертом поменьше, чем на терминале Хармаса.
— Кроме сегодняшнего дня, — уточнил Виттенгер.
— Это мы так думали…
— Мы успеваем?
— Только к вечеру. И положение у нас будет — глупей не придумаешь. Абметов скорее всего будет следить за выходом из разгрузочного тоннеля и увидит нас раньше, чем мы — его.
— Давай сделаем так, — предложил Виттенгер, —поскольку в лицо он меня не знает, то я пойду первым. На выходе из тоннеля я задержусь, будто забыл чего, а ты, идя следом, будешь наблюдать картинку через визор, и если заметишь его, дашь мне знать.
Я ответил, что так и сделаем.
2
Разгрузка на ТК-Хармас началась в 23:15 по местному времени. Раз Абметов сам предложил перенести встречу, то он мог предполагать, что Вэндж опоздает, поэтому я не боялся не застать Абметова на терминале. Виттенгер не спеша двигался шагах в десяти впереди меня. Как мы и договорились, перед самым выходом из тоннеля он остановился и стал шарить по карманам. ТК-Хармас раз в десять больше 3504-ого а народу было больше — раз в сто. Десяток тоннелей лучами расходились из огромного полусферического зала. Пассажиры двигались непрерывными потоками и разглядеть кого бы то ни было в этой толпе было невозможно. Я готов допустить, что Виттенгер честно старался высмотреть Абметова, но картинка визора почему-то задерживалась только на хорошеньких женщинах.
— По-моему, это Лесли Джонс, — успел произнести Виттенгер и рванул вперед. Я последовал за ним. Сначала быстрым шагом, потом — бегом, я еле успевал за Виттенгером. Пассажиры, которым уже досталось от инспектора и от Джонса, угрожающе выставляли вперед чемоданы, готовясь огреть меня, если только я посмею оттолкнуть их или хотя бы задеть. Я увертывался как мог. Мы быстро миновали заполненные людьми погрузочно-разгрузочные блоки и теперь бежали по узкому темному тоннелю, явно не предназначенному для обычных пассажиров. Я просил инспектора проговаривать в микрофон все, что он видит, но тот лишь пыхтел, да так громко, что я не слышал звука собственных шагов. Я на бегу избавился от наушника. Виттенгер неожиданно свернул направо. Мелькнувший указатель подсказал, что ответвление ведет к служебным стыковочным модулям. Я свернул вслед за ним.
— Ага, попался! — услышал я его довольный возглас. В плохо освещенном помещении, которое, уж не знаю почему, я мысленно назвал коллектором, я разглядел прижавшегося к стене, трясущегося Абметова. «Как вапролок в пещере», — мелькнуло у меня в голове. Виттенгер размахивал наручниками прямо перед его носом. Никакого Джонса поблизости не было. Лучше бы Виттенгер размахивал бластером — для чего тогда я взял его с собой?
— Где Джонс? — спросил я у Абметова. Он молча показал мне за спину.
— Господа, вы меня искали? — тихо спросил вышедший откуда-то из темноты Лесли Джонс. В руках он держал тяжелый импульсный излучатель. Не думаю, чтобы Джонс мог спокойно разгуливать по терминалу с таким оружием. Скорее всего, оно заранее было припрятано в коллекторе и пока Абметов отвлекал нас, Джонс успел вооружиться. Осмелевший Абметов, неловко путаясь в одежде, вытащил-таки цефалошокер. Странно, что он им до сих пор не воспользовался.
— Вы одни или с Вэнджем? — надменно спросил нас Абметов. Думаю, ему было неловко из-за того, что полминуты назад мы видели его совсем другим.
— А зачем он вам? — в ответ, небрежно спросил его я. В каком-то смысле я тоже пытался сохранить лицо.
— Вэнджа с ними не было, — сказал Абметову Джонс, — доктор, заберите-ка у них оружие, — скомандовал он.
Я — лицо, в сущности, гражданское и обыскивают меня чаще, чем я — кого-либо другого, но Виттенгер такого позора вынести не мог. Он оттолкнул Абметова и потянулся к своему бластеру; в то же мгновение Джонс выстрелил, но, к счастью, промахнулся. Сразу после выстрела все помещение затянуло зеленым тошнотворным дымом; я бросился на пол, прикрывая голову от брызг расплавленной пластмассы. Со змеиным шипением горела обшивка — пока все выстрелы доставались ей. Бластер инспектора, в отличие от излучателя Джонса, — оружие прицельного боя и, в таком дыму, мало на что годное. Не следовало нам с Виттенгером так часто встречаться у крематория. На мгновение мне показалось, что со стороны тоннеля стреляет кто-то еще, но тут внезапно все стихло. Я поднял голову.
Если бы я увидел до зубов вооруженную Яну или, скажем, Ларсона, то, наверное, удивился бы меньше.
— Ильинский, не расцените мой вопрос как плохую шутку, но я что, до конца жизни теперь должен буду вас выручать?
Левой рукой Бруц держал за шиворот трепыхавшегося Абметова, в правой руке он по-прежнему сжимал излучатель.
— Не знаю как вас и благодарить, — честно признался я.
Завыла сирена пожарной тревоги.
— Надо уходить, — сказал Бруц и что есть силы тряхнул Абметова, — с вами еще кто-нибудь был?
Абметов только застонал — он не был ранен, но здорово наглотался ядовитого дыма. Лицо его посерело, глаза закатились, из уголка рта потекла желтая слюна.
— Бросьте его, он сейчас вас испачкает, — сказал я Бруцу.
Бруц разжал руку, Абметов мешком рухнул на пол, больно ударившись локтями о металлическое покрытие. Его стошнило.
Показался Виттенгер. Выглядел он неважно — Джонс умудрился-таки задеть ему плечо лучом лазера и теперь. Здоровой рукою полковник зажимал кровоточащую рану.
— Виттенгер, знакомьтесь — это наш спаситель, господин Бруц.
— Сержант полиции Бруц, — поправил меня спаситель.
— Сержант? — переспросил я, — с каких это пор?
— Долгая история, потом расскажу…
Пошатываясь, Виттенгер приблизился к нам.
— Полковник Виттенгер, полиция Фаона. Премного благодарен, сержант… — и Виттенгер попытался протянуть руку, но чуть не упал. У него снова потекла кровь. Бруц взял полковника под руку и повел в тоннель — дышать в помещении становилось невозможно. Мне пришлось взять на себя Абметова. О Джонсе в тот момент никто не вспомнил. Виттенгер хотел было пнуть Абметова носком ботинка, но Бруц его удержал, сказав что бить полулежачего так же нехорошо как и лежачего.
— Я тебя все это жрать заставлю! — рыкнул на Абметова Виттенгер.
— Да будет вам, полковник. За ним уберут, — успокаивал его Бруц.
В тоннеле дышать было легче. С двух сторон к нам спешили люди — пожарные, охранники и прочие из тех, кто оказался поблизости. Пожарные сразу же побежали в коллектор, но система автоматического пожаротушения прекрасно справлялась и без них, и они вскоре вышли. Охранников прибежало человек шесть-семь — не так много, если учесть, что вооружены они были только цефалошокерами. Разыгралась презабавная сценка. Четверо из них, видимо — самых смелых, подошли сначала к Бруцу, но тот сунул им под нос полицейское удостоверение и для убедительности помахал излучателем. Затем, они подошли к Виттенгеру, тот показал им свое удостоверение. Арестовывать полковника полиции, после того, как у них ничего не вышло с сержантом, даже учитывая то, что Виттенгер уже убрал свой бластер обратно в кобуру, охранникам показалось нелогичными и им ничего не оставалось, как пообещать вызвать для инспектора врача. Затем, все те же четверо, подошли ко мне. Я развел руками, — мол, оружия у меня нет и не было, и вообще, я оказался здесь совершенно случайно. Тогда они обратили внимание на Абметова, но Абметова, хоть он и был сообщником устроившего пальбу Джонса, следовало не арестовывать, а лечить, и ему тоже пообещали врача. Как ни странно, но шокера у Абметова не нашли — вероятно, он успел избавиться от него еще в коллекторе.
— Там еще один, но врач ему не нужен, — Бруц махнул в ту сторону, откуда шел дым. Охранники стояли в растерянности. За долгие годы службы на терминале им доводилось несколько раз разнимать пассажиров, у которых вдруг оказывались билеты на одно и тоже место, но до стрельбы никогда не доходило.
Минут через десять появился начальник местной полиции, капитан Флокс. Он все переиграл заново. Решив, что Виттенгер у нас за старшего, он подошел к нему и потребовал сдать оружие и документы. Виттенгер его послал. Флокс оказался в сложном положении. По природе своей, он очень уважал чины и всячески старался привить подобное уважение своим подчиненным. Арестовать старшего по званию означало бы создать в глазах подчиненных очень неприятный прецедент и те, чего доброго, еще решат, что и они когда-нибудь смогут вот так просто арестовать его, Флокса (а грешки, впрочем, мелкие, за ним водились). С другой стороны, не арестовать Виттенгера выглядело бы, опять-таки, в глазах подчиненных, довольно унизительно. Пока Флокс размышлял над этой сложной дилеммой, мне сумел уговорить Виттенгера на время разоружиться. Флокс несказанно обрадовался, собрал оружие и документы и пообещал, что все вернет, как только ситуация прояснится. Сдавать комлоги мы наотрез отказались.
Прибывший врач заклеил заживляющим раствором плечо Виттенгеру, а Абметову сделал пару детоксицирующих инъекций. Я заметил как из коллектора вынесли упакованное в полиэтилен тело Джонса. Когда тело проносили мимо меня, я попросил санитаров притормозить, достал ультрафиолетовый фонарик и расстегнул мешок. Затем поспешно застегнул — грудь Джонса была сплошь иссечена лазерными лучами. Бруц с любопытством наблюдал за моими действиями, но ничего не сказал.
Пока Флокс вел нас к себе в кабинет для допроса, Бруц рассказал, что Себастьяна Дидо, первоначально обвинявшегося в убийстве торговца сувенирами, пришлось отпустить, поскольку, кроме несколько дешевых безделушек, вполне законно приобретенных в сувенирной лавке, никаких улик против него не нашли. После убийства торговца и исчезновения Шварца-Бланцетти, Бруца уволили с поста начальника службы безопасности Оркус-Отеля. Что ему делать дальше — вернуться на работу в полицию или заняться частным сыском — он еще не решил. Получить лицензию частного детектива на Оркусе сложнее, чем на Фаоне, поэтому он откопал свое старое удостоверение сержанта полиции и, для начала, решил самостоятельно разыскать убийцу торговца. Нам Бруц сказал, что убийцу он стал искать, чтобы не потерять квалификацию. А я подумал, что Бруцу просто нужно было на ком-то сорвать злость и отомстить за свои личные невзгоды. В общем, разыскивая убийцу, Бруц совмещал приятное с полезным.
Как только мы оказались в полицейском участке, Абметов принялся качать права:
— Капитан, — обратился он к Флоксу, — хочу официально заявить, что я подвергся вооруженному нападению со стороны этих лиц, — он показал на нас троих, — вы, как единственный законный представитель власти, должны защитить меня от посягательств…
— Вы все это изложите в письменном виде, — перебил его Флокс, — но, вероятно, вам будет интересно узнать, что неделю назад я получил предписание задержать некоего доктора Симеона Абметова, который является важным свидетелем по делу об убийстве Николаса Тодаракиса, антиквара. Вы же не станете отрицать, что вас зовут Симеон Абметов?
Абметов притих. Мы с Виттенгером удивленно переглянулись, посмотрели на Бруца. Тот сидел со скучающим видом, — мол, у него все под контролем.
— Проверка займет некоторое время, — продолжал Флокс, — но пока у меня нет оснований не доверять офицерам Виттенгеру и Бруцу. К сожалению, раз вам не удалось обойтись без стрельбы и без трупа, — это он сказал уже обращаясь к «офицерам», — то придется вам немного подождать. Кстати, а вы каким боком тут очутились? — спросил он меня.
За меня ответил Бруц:
— Будучи честным гражданином, он помог нам задержать опасных преступников.
— Точно-точно, — поддакнул я.
Флокс с сомнением поглядел на нас.
— Ладно, честные граждане, подождите-ка вы в соседней комнате, а господина Абметова мы надежно запрем вплоть до выяснения всех обстоятельств…
— Ну уж нет, — возмутился Бруц, — Абметова я вам не отдам.
— Тогда я буду вынужден запереть вас вместе с ним, — развел руками Флокс.
— И со мной, — заявил я. Мне не хотелось выпускать Абметова из виду ни на секунду.
— И со мной, — грозно прорычал Виттенгер.
— Ну, как знаете, — Флокс махнул рукой и вызвал своего помощника.
— Устройте этих господ в изоляторе, — сказал он ему, а нас успокоил: —Там совсем не плохо — есть шипучка, даже чай с кофием, и туалет, разумеется, тоже присутствует.
На Хармасе так и говорят — «с кофием».
— Но комлоги я у вас вынужден буду забрать, — неожиданно добавил он.
Нам пришлось смириться и с этим. Под усиленным конвоем нас отвели в изолятор.
Полицейский изолятор оказался вполне приличным местом. Из тесной прихожей одна дверь вела в комнату, другая — в ванную. В комнате вдоль стен стояли две мягкие кровати, между ними, у торцевой стены — низкий столик и кресло. В него мы усадили Абметова, сами же устроились на кроватях. Виттенгер, как пострадавший, занял одну целиком, на другой сели мы с Бруцем.
— Как вы так быстро нас нашли? — спросил я у него.
— Ну, не так уж и быстро… Дидо отпустили, и у полиции не осталось ни одного стоящего кандидата на роль убийцы, кроме, пожалуй, вас, — обрадовал он меня, — но разыскивать вас почему-то никто не спешил. Девятнадцатого сентября, то есть через десять дней, после того как вы покинули Оркус, в полицию заявляется господин Шлаффер. Он спешит признаться, что никакого алиби у господина Абметова нет и не было и, что он, исключительно по простоте душевной, согласился помочь господину Абметову избежать ненужных трений с местной полицией. (Я прикинул, что девятнадцатое сентября — это через два дня после моей беседы с Симоняном.) К тому времени, про Абметова полиция и думать забыла. Но признание Шлаффера заставило полицию всерьез взяться за господина Абметова, и его объявили в розыск. Шлаффера, на всякий случай, задержали. Мне же не терпелось переговорить с вами, господин Ильинский, поскольку я ни на секунду не сомневался, что вы знаете гораздо больше, чем сказали мне тогда, в отеле. Я решил, что на своей территории, то есть на Фаоне, вы будете со мной более откровенны. Но на терминале Оркуса мне сообщили, что вы только что проследовали в сторону Хармаса.
— Кто вам это сообщил? — поинтересовался я.
— У меня, как и у вас, тоже есть друзья, — загадочно улыбаясь ответил Бруц, — так или иначе, но я переправил билеты и отправился на терминал Хармаса. И какого же было мое удивление, когда я обнаружил там Лесли Джонса. Помните, вы просили меня навести о нем справки и оставили мне его снимок. Я увидел Джонса издали, он стоял возле разгрузочного тоннеля. Подходить к нему я не спешил — ждал, что будет дальше. Когда Джонс вдруг рванул через весь зал, я было подумал, что это он меня так испугался.
— Откуда он мог вас знать? — напрягся Виттенгер.
— Неоткуда, — признал Бруц, — вот и я удивился… Вас двоих я не заметил, поскольку все время следил за Джонсом. Дальнейшее, я думаю, вы себе более менее представляете. Привлекать внимание мне не хотелось, и я следовал за вами осторожно, поэтому — недостаточно быстро. Но в целом, успел вовремя…
— Это точно, — согласился Виттенгер, — теперь ваша очередь, Абметов.
Абметов вяло огрызнулся:
— Допросите сначала Джонса…
— Джонс нам еще понадобиться, — сказал я, — раз вы не хотите говорить, то я сделаю это за вас. Самой незначительной фигурой в деле убийства торговца является Фил Шлаффер, поэтому я начну с него. По причине, которая вряд ли вас заинтересует, Шлаффер решил, что он стал жертвой шантажа, а я, соответственно, его шантажировал. Есть еще одна персона, которой Шлаффер опасался. Имя этой персоны — Джон Смит. Смит живет на Оркусе и Шлаффер хотел во что бы то ни стало его разыскать. Кроме того, Шлаффер был уверен, что я и Смит — одна компания. Увидев меня вместе с Абметовым, Шлаффер приходит к выводу, что Абметов и есть Джон Смит. Я думаю, господин Абметов был очень удивлен, когда Шлаффер стал искать с ним встречи. Последний работает в Институте Антропоморфологии, а Институт Антропоморфологии, в свою очередь, очень интересует господина Абметова. Не знаю, о чем вы там беседовали, но вы, доктор, как человек умный, быстро смекнули, что Шлаффер почему-то боится и вас и меня. И вы решили это использовать. Чтобы отвлечь внимание полиции от своей персоны, вы просите Шлаффера подтвердить ваше алиби на время смерти Николаса Тодаракиса, торговца гоморкусовскими сувенирами. Шлаффер решает, что вы теперь в его руках и с радостью соглашается вам помочь в обмен на обещание прекратить шантаж. Я готов допустить, что все было немного иначе. Например, так: Шлаффер следил сначала за мной, потом за вами, доктор, и он видел вас возле сувенирной лавки в вечер убийства. И тогда он предложил вам сделку: вы прекращаете шантаж, а он устраивает вам алиби.
Абметов возразил:
— Описанная вами ситуация полностью симметрична. Точно так же можно сказать, что алиби нужно было не мне, а Шлафферу.
— Но у Шлаффера нет для убийства никакого мотива. А у вас он есть. И мы подходим ко второй части нашей истории. Кроме доктора Абметова и Шлаффера в деле убийства торговца фигурирует еще несколько персонажей, которых и людьми-то назвать нельзя. И, кроме того, есть еще некая таинственная организация, к которой вы, Абметов, имеете самое непосредственное отношение. Может, вы все-таки сами расскажите, а то, мне, право, как-то неловко. Ваши тайны — вам и рассказывать.
Меня смущало присутствие Бруца, и я тянул время, лихорадочно соображая, стоит ли при нем упоминать гомоидов и Трисптерос. С другой стороны, без гомоидов и без Трисптероса невозможно доказать, что у Абметова был мотив для убийства. Поэтому, Бруцу следовало бы о них знать.
— Говорите, что хотите, — равнодушно сказал Абметов.
— Как знаете… Сначала о вышеупомянутых нелюдях, точнее, искусственно созданных человекоподобных существах — гомоидах. Их создатель, профессор Франкенберг, называл свои творения более поэтическим словом — Гномы, желая подчеркнуть, что они обладают недоступным для людей Знанием. Франкенберг создал четверых гомоидов, используя четыре разные модели сознания. Поэтому и гомоиды получились разными и по-разному приспособленными к существованию среди людей. Вам, полковник, уже доводилось видеть одного из них, хотя вы об этом и не подозревали. В первую очередь потому, что гомоид по имени Джек Браун был найден мертвым, а его труп — выкраден. Браун покончил с собой, разрядив себе в голову шокер. Был ли виной тому синдром раздвоения, при котором гомоид думает, что убивает не себя; или — синдром дереализации, когда гомоид полагает, что убивает не он; или — что-то еще, чего мы не знаем… Предположений можно строить сколько угодно — это, Абметов, по вашей части.
Второй гомоид погиб в пещерах Южного Мыса — там, где располагалась лаборатория профессора. Как опытный, и, к тому же, неудачный образец он был брошен на произвол судьбы своими создателями. Возможно, Перк или Франкенберг собирались помочь ему, но к тому времени, как я оказался в пещерах, оба они уже были мертвы. Тело второго гомоида до сих пор не найдено; я видел его живым, но вид у него был, надо сказать, похуже, чем у трупа Джека Брауна. Поэтому-то, я и думаю, что второй гомоид уже мертв. Я не знаю, зачем Франкенберг создавал гомоидов, но я знаю, почему за ними охотился Абметов. Несмотря на все свое несовершенство, гомоиды обладают рядом качеств, которые очень интересовали господина Абметова и его организацию. Я рискну предположить, что Абметову подходили не все четверо, а лишь некоторые из них. Неподходящие гомоиды были обречены на уничтожение.
Третьего гомоида звали Антрес, но некоторым присутствующим он знаком под именем Шварц, или Бланцетти, если угодно. Антрес был и сильнее и совершеннее чем те двое, и — вдобавок — значительно агрессивнее. Он взбунтовался и против своих создателей и против тех, кому Франкенберг, Перк и его жена его предназначали — то есть против Абметова и компании. Но Антрес не знал в лицо Абметова, как и Абметов никогда не видел Антреса. Они искали друг друга, и каждый надеялся уничтожить другого. Впрочем, возможно, Абметов предпочел бы взять Антреса живым.
Я, по вызову Абметова, прибываю на Оркус. К тому времени, Абметову уже известно, что моя работа «Сектором Фаониссимо» не исчерпывается. Антрес опережает меня на один день. Он останавливается в том же отеле, что и доктор — сначала в качестве Шварца, затем Шварц превращается в Бланцетти. Стремясь отделить себя от Шварца, она снимает отдельный номер, при чем, рядом с моим. На следующий день после прибытия на Оркус я захожу в небольшую сувенирную лавочку, что располагается в примыкающей к Отелю галерее. Там я покупаю вот эту безделушку, подделку, не имеющую, по сути, ни исторической, ни художественной ценности, — и я выставил на всеобщее обозрение крылатую пирамидку — главным образом для Виттенгера, поскольку остальные ее уже видели, — мы с Татьяной назвали ее «трисптерос», что в переводе с древнегреческого означает «трехкрылый». Сами того не подозревая, мы раскрыли название той тайной организации, которую возглавляет доктор Абметов.
Я взглянул на Абметова — на его лице не дрогнул ни один мускул.
— Не буду называть имя человека, продавшего торговцу пирамидку — это лицо попало в нашу историю абсолютно случайно. Но вам, Абметов, не терпелось узнать откуда торговец взял пирамидку, и почему он назвал ее «трисптерос». Антрес также видел в моих руках пирамидку. Он мог решить, что я его специально провоцирую, показывая знак ненавистной ему организации. Поэтому, он тоже подходил на роль убийцы торговца. Но торговец, в отличие от Абметова, Антреса не слишком интересовал. Антрес вычислил Абметова первым и повел его к краю Воронки отнюдь не для того, чтобы совершить самоубийство на глазах у уважаемого доктора. У него с Абметовым старые счеты. К счастью, вы, Бруц, вовремя подоспели. Но вы, видимо, не знаете, что перед смертью Антрес сказал, что торговца он не убивал.
— Почему вы ему поверили? — спросил Бруц.
— Он назвал имена своих предыдущих жертв, какой тогда смысл скрывать, что и убийство торговца — его рук дело? Поэтому Антрес отпадает. Себастьяна Дидо, на которого пало подозрение, оправдали, и, по-моему, вполне заслуженно. Остаетесь только вы, доктор. Я готов допустить, что вы не хотели убивать торговца, а просто решили припугнуть его цефалошокером, но, как видно, немного не рассчитали.
— Вы ничего не сможете доказать! — уперся Абметов, — откуда, по-вашему, я мог узнать, у кого из торговцев вы купили пирамидку? Вы же показали мне ее чуть ли не в то же время, когда произошло убийство. И вы же сами говорили мне, что видели убийцу — Антреса.
— Я не говорил, что видел именно Антреса. Если это был он, то значит, Антрес следил за вами. Но в лавке мог быть и кто-то из ваших сообщников. Установить это — дело Бруца. Меня интересует только один вопрос — где четвертый гомоид?
— Откуда мне знать, — пожал он плечами.
— Вы забыли рассказать, зачем Абметову и его компании вообще понадобились гомоиды, — заметил мне Виттенгер.
— Ладно, философскую часть я позволю себе опустить — ее к делу не пришьешь. Буду излагать только факты. Первым из таких фактов, является то, что Абметов очень боится конца света…
— А кто его не боится? — съехидничал Абметов.
— Я имею в виду взрыв Белого Карлика в системе Плерома. Вспышка сверхновой, конечно, еще не совсем конец света, но ее тоже все боятся. Абметов считает, что цивилизации сапиенсов покинули нашу часть Вселенной именно опасаясь вспышки сверхновой. И покинули они ее через Канал.
— Логично, — согласился Виттенгер.
— Разумеется, логично! По мнению Абметова сапиенсы не могли исчезнуть не оставив никаких следов. Но проблема в том, что мы, люди, не в состоянии расшифровать эти следы. Более того, сапиенсы постоянно посылают через Канал сигналы, предупреждая нас о грозящей беде. Но, опять-таки, человечество не может разобрать, какие сигналы исходят от сапиенсов, а какие имеют обычное, природное происхождение. Вся Вселенная заполнена сигналами — как тут разберешься! Проблему можно было бы решить, если знать заранее как, по каком принципу, работает сознание сапиенсов. Что не как у людей — это понятно, ведь мы бы тогда давно уже расшифровали эти сигналы. На нашу беду, человеческая модель сознания — не единственная. Собственно, это и хотел доказать профессор Франкенберг. Я уже говорил, что он создавал своих гомоидов используя разные модели рефлексирующего разума. Логика у Абметова проста — те гомоиды, чей мозг окажется жизнеспособным, и являются прототипами неуловимых сапиенсов. И таких гомоидов можно будет использовать в качестве своеобразных «переводчиков» с языка сапиенсов на язык человеческий. Приведу самый грубый пример. Предположим, вы трансформируете получаемые из Вселенной сигналы в акустические. Если после трансформации вы услышали мольто виваче из Девятой симфонии, то десять против одного, что вы слышите Оркусовский симфонический оркестр, потому что кому еще в нашем секторе взбредет в голову исполнять Бетховена. Если звук неопределенный, но, все же, в некоторой степени, как говорится, ласкает слух, то можно предположить, что источник звука — искусственен и изготовлен он либо людьми, либо сапиенсами, мыслящими как люди. Но если вы услышали шум, то ничего определенного о его источнике сказать нельзя. Другое дело — гомоид — он может непроизвольно, подсознательно отреагировать на этот шум, как на нечто осмысленное. Так, например, как бывший моряк отреагирует на шум морского прибоя…
— Первым делом, я бы дал гомоиду послушать молодежные музыкальные каналы. Интересно, чтобы он сказал… — задумчиво произнес Виттенгер. Я снова продолжил:
— Итак, зачем нужны гомоиды нам более-менее ясно. Теперь — о сигналах. Они идут через Канал и самое подозрительное, в этом смысле, место — Устье Канала, Система Плером. Абметов стремился получить запись сигналов от тамошних астронавтов, Вэнджа и Зимина. Когда вы планировали получить от них записи сигналов, я не знаю. Но мое сообщение, судя по всему, вас обрадовало…
— Так это вы послали сообщение? — удивился Абметов, — хм, я подумал, они просто донесли на меня куда следует, хотя к чему им это…
— Может и донесли бы, если б их спросили, но у меня не было времени вести с ними переговоры. Я решил обойтись без их помощи. Но, думаю, они подтвердят все мною сказанное.
— Не сомневаюсь… — скрепя зубами, пробормотал Абметов.
— Мне кажется, мы совсем забыли о Лесли Джонсе, — напомнил Виттенгер.
— Вот именно, — поддакнул Абметов, — может, это он убил торговца.
Я долго выбирал момент, чтобы провозгласить главную новость дня, и этот момент наконец наступил.
— Готов поспорить, что я тут единственный, кому известно, кем на самом деле был Лесли Джонс, — аудитория замерла в оцепенении, — Лесли Джонс и есть четвертый гомоид — его снимок был в кабинете Франкенберга. Сегодня, рассматривая вблизи его лицо, я заметил следы пластических операций. Косорукого косметолога по имени Время тоже нельзя сбрасывать со счетов, ведь гомоиды стареют быстрее нас с вами. Абметов, гомоид Джонс был под самым ваши носом, а вы его проморгали… Или нет?
— Мне нужно немедленно осмотреть его тело, — заявил он.
— И мне, — сказал Бруц, — в конце концов, это я его ухлопал.
— Хватит с вас и Антреса. Поэтому будем считать, что гомоида убил Виттенегер. Итак: вам — Абметов, нам — тело Джонса. Тем более что Джонс был гражданином Фаона.
Бруц не сдавался:
— А вдруг это он убил Тодаракиса?
Я возразил:
— Вряд ли, скорее всего он прятался на Хармасе, пока Абметов путешествовал по Оркусу. Не к чему было Джонсу попадаться на глаза ни мне, ни Антресу.
— Справедливо, — снова поддержал меня Виттенгер.
Я ожидал, что новость о четвертом гомоиде доконает Абметова, но тот продолжал упорствовать:
— Никто не поверит ни единому вашему слову. Я готов признать, что пытался добыть на Плероме кое-какую информацию, но это еще не преступление. А вы тут нам изобразили целый заговор. Трисптерос какой-то выдумали. Чушь полная! С чего вы взяли, что принадлежу к этой, как вы ее назвали, Трисптерос?
Я обратился к сержанту:
— Бруц, мне нужна ваша помощь, подержите-ка покрепче господина Абметова, а я тем временем проведу небольшое анатомическое исследование. Не бойтесь, Абметов, — только поверхностное.
— Вы не имеете права! Это насилие! — завизжал Абметов.
Но насилие, тем не менее, свершилось. Крылатый треугольник был выведен на том же месте, что и у Номуры.
— Вы видели? — спросил я у Бруца, но тот в ответ расхохотался.
— Ну вы даете, — говорил он сквозь слезы, — хорошо, что вы это мне сейчас показали, а то, представляю себе, чтобы сделали с вами, представь вы свою главную улику в суде.
Вслед за ним расхохотался и Абметов. Я возмутился:
— Что вы ржете тут как лошади. Виттенгер, вы тоже смеетесь?
— Ни в коем случае, — ответил он серьезно.
Бруц, наконец, перестал смеяться.
— Абметов, объясните вы сами, — предложил он.
— Нет уж, давайте вы, а то господин Ильинский мне опять не поверит.
Бруц положил мне руку на плечо и ласково так сказал:
— Фед, вы только не принимайте то, что я вам сейчас скажу слишком близко к сердцу, но, понимаете… — Бруц еле сдерживал смех, — понимаете, знак, что вы видели называется вовсе не «Трисптерос». Этот знак носят астронавты-испытатели — «дрэггеры» — так они себя именуют. Есть у них и свое братство. Оно объединяет астронавтов, принимавших участие в испытаниях новых участков Канала в Секторе Улисса — новых терминалов, другими словами. Сам же знак — всего лишь условное изображение древнего устройства для углубления водных каналов — что-то вроде трех вращающихся ковшей, вычерпывавших грунт со дна канала. Не мудрено, что вы о дрэггерах ничего не слышали, ведь последнее испытание проводили пять лет назад и так далеко от Сектора Фаона. Вы, доктор, который из терминалов испытывали?
— Двадцать два — ноль шестой, — ответил Абметов и добавил: — Давно это было, еще в молодости.
— А я — двадцать девять — пятнадцать. Пожал бы вам руку — как бывшему коллеге, но боюсь, это будет неверно истолковано, да, Ильинский?
Я сказал, что мне начхать.
— И вы не хотите взглянуть на мой знак?
— Да ладно, будет вам… — я чувствовал себя вконец оплеванным, — но погодите, — хватался я за соломинку, — если Номура был всего лишь испытателем, то почему он хотел убить гомоида? Или же дрэггеры ненавидят гомоидов не меньше, чем гомоид Антрес — людей?
— Кто такой Номура? — строго спросил Абметов.
У Виттенгера был такой вид, будто он старается что-то припомнить.
— Стой, как ты сказал, Номура?
— Да, Номура — он работал со мной, вы его не могли знать. Номура погиб в пещере Южного Мыса, когда мы искали там лабораторию Франкенберга.
— Все, вспомнил! — воскликнул Виттенгер, — когда ты сказал про Южный Мыс, я сразу вспомнил. Так и есть: Номура погиб, но не в пещере, а во время пожара на биохимическом заводе! Нам в департамент прислали список погибших, и в нем был Номура. К сожалению, полного имени я не помню…
— Что вы несете, инспектор?! Мне, наверное, лучше знать где и как погиб Номура! — заорал я на него.
— Да не ори ты так! Я не говорю, что это один и тот же Номура. Может, этих Номур как гомоидов — куда не плюнь…
— Господа, господа, ведите себя прилично, — увещевал нас Бруц.
— Ну вот, теперь все стало на свои места, — провозгласил довольный Абметов, — на заводе погиб кто-то из родственников Номуры, вероятно, его брат. А ваш Номура думал, что вы идете охотиться на поджигателей и хотел отомстить за смерть своего сородича. Мотив стар как мир — и никаких тебе тайных обществ, гомоидов и прочих сапиенсов. Вы взялись искать существ, чей разум вам никогда не понять, хотя даже своего коллегу как следует не знали и не понимали. Разгадку надо искать на поверхности, мой друг, это вам хороший урок на будущее.
Мне захотелось забиться куда-нибудь подальше в угол, раствориться, исчезнуть, — все что угодно, только бы не слышать этого спокойного, нравоучительного тона. Абметов прав, я не сказал Номуре, кого мы ищем. Почему я решил, что Номура — предатель? Потому что сам думал только о гомоидах, и считал, что всем на свете нужны только они. Я чувствовал, как пылают мои щеки. Спасибо Бруцу, он утихомирил распоясавшегося Абметова:
— Вы, Абметов, бросьте хорохориться, обвинение в убийстве с вас еще никто не снимал.
— Все, молчу, молчу… хотя нет, постойте. Думаю, мы с господином Ильинским больше никогда не встретимся, поэтому я хочу сказать ему на прощание несколько слов. Отчасти, вы правы. Я был на Плероме и беседовал с Вэнджем. Вы правы, я действительно просил его поделиться со мной информацией, полученной со спутника. Он обещал подумать над моим предложением. Упрекнуть мне себя не в чем: собирая досье на людей, вы поступаете еще менее законно, я уж не говорю об элементарной порядочности. И насчет гомоидов вы тоже почти угадали. Гомоиды нужны были мне, чтобы расшифровать идущие из Канала сигналы, ведь человеку подобная расшифровка не под силу. Вселенная говорит с нами на другом языке. На метаязыке, если угодно. Человеческий язык для познания мира непригоден — это заметили еще в двадцатом веке. Потом доказали, что неполнота человеческого языка напрямую следует из предложенной Лефевром модели рефлексирующего разума и наоборот. Получился замкнутый круг — уже который! Пока нет угрозы самому существованию человеческой расы, на подобные, неутешительные умозаключения можно не обращать внимания. Но что делать, если опасность совсем рядом. Как и где искать выход? Искать теми способами, что предлагает современная позитивная наука или уповать на чудо, прислушиваясь к оркусовским воронкам, как это делают паломники вроде Себастьяна Дидо. Мы нашли третий путь. Архив Истории Науки помог Франкенбергу создать гомоидов и, поэтому, мы имели полное право использовать их по собственному усмотрению. Речь не идет о каком-то насилие над гомоидами. Исключением является то небольшое насилие, которое необходимо для сохранение тайны. Но те люди, на которых вы работаете, подвергают вас точно такому же насилию, и вы не видите в этом ничего предосудительного. Мы вынуждены действовать тайно, ибо настоящее знание не терпит толпы. «Ты знай всех, тебя же пусть не знает никто», — так сказал один мудрец. Быть и оставаться в неизвестности — это та цена, которую мы готовы заплатить за обретение знания — наш крест, если угодно. В нас не остается места для веры. Наша идеология, наша цель не совместимы с насилием, прошу, пожалуйста, запомнить. Ну, разве что, с насилием над собой… Ведь как считается: знание — это своеобразное наведение порядка в собственных головах. Для наведения порядка требуется энергия, ее мы черпаем из собственных запасов. Упорядочивая одну часть себя, мы разрушаем другую. Поэтому, порою мне кажется, что процесс познания, это растянутое во времени самоуничтожение, ибо познание убивает веру в чудо, разрушает иллюзии, одной из которых, является убежденность в безграничной мощи человеческого разума. Ильинский, вы симпатичны мне (я умилился), и если бы мы встретились при иных обстоятельствах, то я непременно предложил вам вступить в наши ряды. Возможно, когда-нибудь попозже, это так и произойдет…
Абметов замолчал, о чем-то задумавшись.
— Он хочет нас разжалобить, — заключил Виттенгер.
— Вы мечтает получить свою плату, когда окажетесь по ту сторону Канала? — защищая себя, я прикинулся циником.
— Можно сказать и так, — ответил Абметов мне, но не Виттенгеру, — но я рассказал вам все это по одной простой причине. Я предлагаю вам сделку.
— Какую же?
— Я признаюсь в убийстве Николаса Тодаракиса, хотя я его и не совершал. Вы же побещаете мне, что все сказанное в этой комнате останется между нами. Вы не станете публиковать в вашем убогом «Секторе Фаониссимо» никаких статей ни обо мне, ни о гомоидах, ни о Плероме. Согласны?
Бруц был готов пойти на сделку, но меня его проблемы не волновали. Найти убийцу торговца не входило в мою задачу, поэтому я отказался. Виттенгер меня поддержал.
— Ну, как знаете… — вздохнул Абметов. По-моему наш ответ его не удивил.
Тем временем, дверь в изолятор распахнулась, и в комнату вошел улыбающийся до ушей Флокс.
— Господа, я переговорил со свои руководством и спешу вас обрадовать — мне дали указание вас отпустить. Чтобы уладить небольшие формальности, я прошу моих коллег и вас, господин Ильинский, пройти на минутку в мой кабинет. Вы, Абметов, пока останьтесь здесь.
Втроем, мы зашли в кабинет к Флоксу. Те «небольшие формальности», о которых упомянул Флокс нас неприятно поразили: оказалось, что Флокс записал весь наш разговор в изоляторе. Он показал нам фрагмент записи, затем, выключив изображение, вкрадчиво спросил:
— Господа, вам не кажется, что вы могли бы рассказать мне чуть больше?
— Нет, не кажется, — отрезал я.
— Сотри запись, скотина, — прорычал Бруц, — а то я сотру тебя в порошок, — и полез с кулаками на капитана. Нам с Виттенгером пришлось их разнимать. Флокс отделался разорванной молнией на форменной куртке.
— Фу, господа, не ожидал я от вас такого… — он стоял держась за стол, красный как бортовые огни и судорожно одергивал полы куртки.
— Флокс, я уверен, вы свой законный отпуск любите проводить на Оркусе — он тут от вас недалеко. В следующий раз, когда приедете к нам, я вам устрою такой прием… — пригрозил ему Бруц. Флокс не растерялся:
— Зря вы так. Ваше сержантское удостоверение давно просрочено, и на вашем месте я бы вел себя поспокойнее.
— Ладно, чего вы хотите? — спросил у Флокса Виттенгер.
— Бруц, прав относительно того, где я люблю проводить отпуск. Но чтобы поехать на Оркус, нужны еще…эээ…как это сказать…
— Средства, — подсказал я.
— Это вы сказали, а не я, — спохватился Флокс.
— Я все понял, — Виттенгер был необыкновенно спокоен, — мы с господином капитаном обо всем договоримся. А вы (это он нам с Бруцем) — подождите пока за дверью.
Мы вышли. Виттенгер отсутствовал минут десять.
— Все в порядке, — сказал он, выйдя из кабинета.
— Много запросил? — полюбопытствовал Бруц, но Виттенгер отмахнулся — мол, так, ерунда. А я подумал, не вычтет ли Шеф эту ерунду из моей зарплаты. Абметова выпустили еще через полчаса. На тело Джонса, сколько он не просил, я взглянуть ему так и не разрешил.
— Знаете что, — сказал он мне на прощание, — а я вам не верю, — он имел в виду, что Джонс — не гомоид.
— А я — вам, — ответил я.
Бруц с Виттенгером долго раскланивались, пообещали друг другу впредь взаимно и плодотворно сотрудничать. Когда объявили посадку на рейс ТК-Хармас — ТК-Оркус, мы расстались. Абметов с Бруцем пошли к загрузочному туннелю, мы с Виттенгером — в зал ожидания.
Мы устроились в мягких креслах прямо под самым полюсом прозрачного купола — настолько прозрачного, что если закрыть глаза, запрокинуть голову, посидеть так какое-то время, стараясь забыть где находишься, а потом резко открыть глаза, то черно-звездный провал наваливается, поглощает тебя целиком, и когда секундное оцепенение проходит, ты в смятении оглядываешься по сторонам, ища глазами опору… Сколько раз я был на ТК-Хармас, столько раз проверял — все одно…
— Одного не могу понять, — прервал мои размышления Виттенгер, — я этого Джонса два раза допрашивал по делу Перка и ничего не заметил. Неужели эти гомоиды так похожи на нас?
— Абсолютно, — заверил его я, — но причем тут Джонс?
— Как причем?! Говорю же, я его допрашивал, но мне и в голову не могло прийти, что он — не человек.
— И правильно, ведь Джонс — самый обыкновенный человек… я так думаю, — добавил я, чтоб не зарекаться.
— Так ты специально соврал… — догадался Виттенгер, — а зачем?
— Абметов меня интересовал по двум причинам — две вещи мне необходимо было у него выяснить. Первое: знает ли он где четвертый гомоид. Про Джонса я ляпнул наобум и Абметов попался.
— Так он, вроде, тебе не слишком поверил.
— Не важно… Важен его первый порыв — немедленно взглянуть на тело Джонса. Следовательно, четвертого гомоида он и в глаза не видел.
— Понятно, а какую вторую вещь ты хотел выяснить?
— Номура…
— Да, с Номурой ты малость ошибся.
— Согласен, неловко вышло. Абметов опять выкрутился. Но я рад, что Номура не был предателем. А с Абметовым пусть теперь Бруц разбирается.
— Угу, он пожалуй разберется, — то ли со злорадством, то ли с иронией промолвил Виттенгер.
— Вы о чем?
— Взгляни-ка вон туда, — и Виттенгер указал на выход из того тоннеля, куда мы с мы с ним забежали, преследуя Джонса. К моему великому изумлению, из тоннеля вышли Абметов и Бруц. Они были прокованы наручниками друг к другу и еще к двум охранникам. Следом шествовал довольный Флокс. Он сделал Виттенгеру ручкой, тот приветливо помахал в ответ. Процессия проследовала к полицейскому участку. Виттенгер взглянул на меня, пытаясь определить, готов ли я разделить его радость. Но я сидел словно в ступоре.
— Да ладно тебе, — он ласково потрепал меня по плечу, — с кем не бывает…
— Чего не бывает? — спросил я автоматически. Я даже не уверен, что это я спросил, по-моему я был где-то далеко в тот момент.
— Все что угодно бывает…
— Кому угодно?
— Да что с тобой, очнись ты наконец! — Виттенгера всерьез обеспокоился моим здоровьем. Я сказал, что я в порядке.
— Я тебя прекрасно понимаю, — сказал он с сочувствием, — Бруц спас тебе жизнь и, ты не мог не доверять ему. Но меня на такие сантименты не купишь. Я быстро сообразил что к чему.
— Когда вы начали его подозревать?
— После его оговорки по поводу Джонса. Бруц сказал, будто он подумал, что Джонс его узнал. Конечно, это могла быть просто оговорка, если бы не все остальное… Абметов был по-своему прав, говоря, что он не знал, в какой из сувенирных лавок ты купил пирамидку. Бруц видел у тебя пирамидку и знал, где ты ее купил. Абметову ты показал пирамидку много позже, но зато ты произнес название абметовской тайной организации, что не могло не насторожить его. Складывая вместе Абметова и Бруца мы получаем и мотив и возможность для убийства. А заодно — и того неизвестного типа, которого ты видел в лавке сразу после убийства. Уничтожить следы Антреса в обоих гостиничных номерах для Бруца не составило никакого труда — у него и ключи есть, и подозрений никаких ни у кого не возникло бы, если бы его застали в одном из номеров. Абметов позволил тебе при Бруце выложить все, что ты знаешь о его делах. Предположим, ему вдруг стало наплевать на секретность. Но он предложил нам сделку: признание вины в обмен на молчание. Следовательно, от Бруца Абметову скрывать нечего. Я не был уверен а своих выводах на все сто процентов, поэтому предложил Флоксу проследить, куда пойдут Абметов и Бруц после того, как мы расстанемся. Как я и ожидал, они направились не к посадочному блоку, а к стыковочным узлам. Там у Абметова и Джонса был заранее приготовлен корабль, чтобы, в случае чего, быстро смыться на Хармас. Я полагаю, что после того как Абметов был объявлен в розыск Бруц сразу бросился ему на помощь. Но, возможно, Бруц и не лгал, говоря, что первоначально его целью был Фаон, но потом, обнаружив наши следы на терминале Оркуса, он передумал и последовал за нами. На терминал Хармаса он прибыл, когда ситуация уже вышла из-под контроля. Джонс устроил перестрелку, и у Бруца не было другого выхода как убить его. Бруц, в порядке самообороны, устранил ненужного свидетеля — лучшего шанса он не мог и пожелать.
Виттенгер был чрезвычайно горд своею находчивостью, я же по-прежнему чувствовал себя одураченным. Стал оправдываться:
— Все-таки, я был прав насчет Трисптероса и насчет Номуры.
— Думаю, да. Астронавтов-испытателей мы, конечно, проверим, но и так ясно, что Бруц сочинял на ходу. С другими доказательствами у тебя туговато.
— Есть одно слабое утешение. Абметов согласился на встречу с Вэнджем, следовательно, в Отделе больше никого из Трисптероса нет, иначе Абметову было бы известно о миссии Берха, и он не купился бы на письмо от Вэнджа. Номура о задании Берха ничего не знал, или — знал, но предупредить не успел. Поэтому можно смело докладывать Шефу о Трисптеросе, а дальше — пускай он сам разбирается — проверяет других сотрудников Организации, я имею в виду. За последнее время меня столько раз оставляли в дураках, что всё, хватит, я умываю руки!
«Ты не знаешь, кто идет рядом с тобой», — примерно так сказал мне умирающий гомоид. «Своего собственного коллегу вы как следует не знали», — упрекнул меня Абметов — будто он присутствовал при разговоре с гомоидом.
— В нашем мире все друг друга дурачат, и все остаются в дураках, — успокоил меня Виттенгер. Непохоже, чтоб он сожалел о том, что наш мир так неважно устроен. —Так какие у нас теперь планы? Домой? — с надеждой в голосе спросил он.
— Нет. Отправим тело Джонса на Фаон, а сами — на Плером, вытаскивать Берха. Впрочем, как ваше плечо поживает? В принципе, я могу и сам справиться, а вы займетесь доставкой тела Джонса на Фаон.
— Нет уж, куда ты без меня, — сказал мой новоявленный покровитель, — плечо в порядке, и мы полетим вместе, пойду, только, распоряжусь насчет отправки тела.
Проводив его взглядом, я закрыл глаза и запрокинул голову.
3
Последним сообщением от Берха было то, где он предупреждал меня об изменении места встречи с Абметовым. В конце сообщения, безо всяких комментариев, содержалась инструкция, как попасть внутрь станции Плером-11 с поверхности планеты. То есть как бы подразумевалось, что изнутри входной люк нам никто не откроет. Теперь, когда ситуация с Абметовым более-менее прояснилась, я корил себя за то, что увлекшись погоней за доктором, я не подумал, чем могла быть вызвана эта приписка.
Станция Плером-11 на наш запрос не отвечала. Комлог Берха также хранил полное молчание. Мы сели впритирку ко входу в шестой модуль. Присланную Берхом инструкцию я изучил еще в полете, и на открытие люка у нас ушло не более двадцати минут. Станция встретила нас зловещей тишиной, если не считать привычного гудения вентиляторов.
— Погоди, — Виттенгер коснулся моего плеча, — слышишь?
Мы стояли на первом уровне станции рядом с дверным проемом, за которым находилась лестница, ведущая к нижним уровням. Я прислушался.
— Должно быть, откуда-то снизу, — шепотом ответил я, услышав тихий заунывный звук похожий на плач грудного ребенка. Мы спустились на второй уровень — снова никого. Плач доносился из противоположного конца коридора.
— Похоже, это из столовой, — я сверился с планом станции, а Виттенгер вытащил бластер.
Крадучись, мы двинулись по коридору. Виттенгер шел впереди, я же, достав свой бластер, пятился задом — после перестрелки на ТК-Хармас ожидать можно было чего угодно. Я заметил несколько черных, обугленных отметин на стенах; они походили на следы от выстрелов.
Плачь становился все громче.
— Фу ты черт! — выругался Виттенгер, заглянув в столовую.
У холодильника сидел отощавший Варвар и жалобно выл, точнее — ныл. Завидев нас, он заныл еще громче, затем, вдруг замолчал, — видимо раздумывал, за чем мы пожаловали — накормить его или украсть холодильник.
— Надо дать ему пожрать, а то из-за его воя ни черта не слышно, — сказал Виттенгер.
Я открыл холодильник. Дальнейшая помощь Варвару не понадобилась. Он стремглав запрыгнул внутрь, схватил первую попавшуюся упаковку и удрал с нею под стол. Там он в две секунды разодрал тонкую упаковочную фольгу и стал жадно поедать неаппетитную серо-коричневую массу.
— Где хозяева? — спросил его Виттенгер.
Варвар ответил неразборчивым урчанием на своем варварском наречии.
— Ты понял, что он сказал? — спросил меня Виттенгер со всей серьезностью.
— Он сказал, чтобы ты ему дал спокойно поесть, — ответил я.
— Тьфу, тварь неблагодарная… — обиделся инспектор.
На втором уровне никого, кроме Варвара, не было и мы спустились на третий.
Берх лежал у входа в пятый модуль станции. Он будто спал, выражение лица было спокойным и умиротворенным, даже каким-то мечтательным. Это было лицо человека, который видит прекрасный сон. Рядом с Берхом валялся комлог, бластер и пустой пузырек из-под психостимуляторов. С большим трудом мне удалось убедиться, что Берх еще жив, но находится в глубокой коме.
— Где же остальные? — недоумевал Виттенгер.
Я указал на межмодульную дверь.
— Очевидно, там…
— Ты думаешь? — Виттенгер постучал стволом бластера по двери. И тут же оттуда раздался ответный стук, сильно приглушенный толстой дверью. Я нажал зеленую кнопку. Дверь не спеша отползла в строну.
— Фу ты черт! — вырвалось у Виттенгера. Похоже, это было его традиционное приветствие для всех, кого он спасал. На пороге показался Вэндж. Осунувшийся, с землистым лицом, он еле держался на ногах, однако умудрялся, при этом, тащить на себе Зимина. Того лихорадило, но он был в сознании. Едва переступив порог, Вэндж рухнул прямо в объятия Виттенгера. Увидев Вэнджа, в первое мгновение мне почудилось, что я вижу того полуживого гомоида из пещеры Южного Мыса. Готов поспорить, что всего месяц назад этих седых волос у него не было.
— Помогите Вэнджу, а я займусь Берхом, — скомандовал я.
Вэндж знаком показал, что он может идти самостоятельно. Виттенгер взвалил себе на спину Зимина, и они втроем стали подниматься по лестнице на второй уровень.
Если бы Берх мог ответить мне, как он себя чувствует, то он сказал бы, что близок к точке возврата. Медицинский компьютер-консультант советовал одно спасительное средство за другим, но ничего из требуемых медикаментов у меня под рукой не было. Вернулся Виттенгер.
— Отнесем его в лазарет, там видно будет, — предложил он.
Вдвоем мы дотащили Берха до лазарета. Медконсультант определил у него кому в три балла, кое-как отрегулировал гемодинамику и, проанализировав все имеющиеся в лазарете средства, предложил срочно вызвать скорую. На соседней койке лежал Зимин — над ним колдовал Вэндж.
— Что с ним? — спросил я его.
— Я думаю, просто истощение — и нервное и физическое. Я ввел ему питательный раствор и восстанавливающие препараты. Пусть теперь поспит…
— А вы как?
— Держусь более-менее. Пожрать бы…, — усмехнулся он.
— Не стоит, лучше сначала питательную смесь…
— Да знаю я, — отмахнулся он, — но, все равно, спасибо. Вы — спасатели?
— Вроде того, — ответил я и поспешил назвать ему свое имя и имя Виттенгера.
— Полковник Виттенгер, полиция Сектора Фаона, — представился тот, для верности, расширив свои полномочия на весь наш сектор. Ну что ж, думаю, значит, мы с ним оба — из полиции.
— Вот как! — удивился Вэндж, — в таком случае, я обещаю изменить свое мнение о полиции. Спасибо, полковник, — и он пожал Виттенгеру руку. При этом он попытался встать, но, едва поднявшись, тут же упал в кресло.
— Извините, голова что-то кружиться… — пробормотал он.
— Ложитесь, здесь есть еще одна свободная койка, — посоветовал ему Виттенгер, — все расспросы и рассказы оставим до завтра.
Остаток вечера и всю ночь мы с Виттенгером по-очереди дежурили в лазарете. Для короткого сна (часа три на каждого) была выбрана одна из пустующих кают. Чтобы отвезти Берха на ТК-Плером, мы вызвали спасательный корабль.
Последние десять дней Берх никаких регулярных записей не вел. Я просматривал его комлог страница за страницей. Их заполняли расшифровки результатов научных исследований Вэнджа и Зимина. Как я понял, исследовательская программа астронавтов состояла из двух частей. Первая часть целиком была посвящена изучению обоих Карликов, в особенности же, — Белого, грозящего вот-вот вспыхнуть сверхновой звездой. Вторая часть исследований относилась к изучению Устья Канала. Именно эта часть программы больше всего заинтересовала Берха, и он успел на три четверти ее расшифровать. Расшифрованные абзацы Берх сопровождал собственными комментариями. Вне контекста исследовательской программы, комментарии казались бессмысленными, почти безумными. Вкупе же с результатами изучения Устья, план Берха уже не казался столь бессмысленным, но оттого, он становился еще более безумным.
Перед тем как Берх загнал астронавтов в пятый модуль, они готовили к запуску корабль, которому надлежало войти в Устье Канала, чтобы, передав на Плером-11 какое-то количество научных данных, навсегда там исчезнуть. В своих комментариях Берх пробовал произвести расчеты, которые, как он полагал, помогут ему войти в Канал сразу вслед за беспилотным кораблем, либо состыковавшись с ним. Я всеми силами старался извлечь из своей памяти те астрофизические знания, что когда-то почерпнул из собственных научно-популярных статей в «Секторе Фаониссимо». Сколь не были скудны мои научные познания, я понял, что ни у Берха ни у корабля не было никаких шансов на возвращение. Впрочем, из дальнейшего чтения берховских заметок, становилось ясно — ни на какое возвращение он и не рассчитывал. Берха влекло туда же, куда влекло героя последнего рассказа из «Сборника космических историй» — в Вечность. Я заглянул в библиотеку и обнаружил, что книгу последний раз читали четыре дня назад — в тот же день, когда Берх сделал последнюю запись в комлоге.
Виттенгер сменил меня в три утра и записи Берха я дочитывал в каюте — мне не хотелось, чтобы полковник их увидел. Когда через три часа я возвратился в лазарет, по моему виду он понял, что я так и не уснул.
— Ты не спал? — спросил он у меня.
— Нет, частая смена климата вызывает у меня бессонницу. Как они? — я указал на пациентов.
— Берх без изменений, но стабилен. Эти двое — дрыхнут как убитые.
— Ну и пусть дрыхнут, — сказал я и устроился в соседнем кресле.
4
Проснулся в половине одиннадцатого. Вэндж был уже на ногах — кормил Зимина с ложечки. Виттенгер с умилением наблюдал за процессом кормления.
— С добрым утром, — поприветствовал меня Вэндж.
— С добрым, — ответил ему я, — как Зимин?
— Раз ест, значит жить будет, — весело ответил астронавт.
— Ну и отлично. Берх все так же?
— Угу, — кивнул Виттенгер.
— Когда будут спасатели?
— Вечером — часов в шесть.
— Скверно, Берх не дотянет.
Виттенгер мрачно возразил:
— Дотянет, ему теперь уже все равно — что день, что год…
— Вэндж, вы уже рассказали полковнику, что здесь произошло? — спросил я у командира станции.
— Рассказал, — ответил за него Виттенгер, — но я могу и еще раз послушать.
— Так что же случилось?
Вэндж отошел от Зимина, подошел к Берху, с минуту разглядывал его лицо, бросил взгляд на показания медицинских приборов, затем повернулся к нам.
— Случилось, то, на что мы с Зиминым никак не могли рассчитывать. Вы, очевидно, знаете, что астронавты, которым предстоит провести долгое время в изоляции от остального мира, проходят специальную психологическую подготовку. Тоже самое касается всех тех, кто по роду своей работы вынужден постоянно подвергать свою жизнь опасности. Мы с Зиминым всю жизнь имели дело только с такими людьми. Получается как… Сначала ты веришь в собственную исключительность — до тех пор, пока твое окружение не начинает состоять из таких же как ты. Затем, постепенно, забываешь, что есть на свете и нормальные, обычные люди, такие как он, например, — Вэндж махнул в сторону Берха, — Карлики — это вам не Оркус. Их сюрпризы могут обойтись гораздо дороже, чем бифуркации пси-поля поля, или что там у вас на Оркусе происходит…
— Мы не с Оркуса, — уточнил Виттенгер.
— Не важно, это я так, для примера. Одним словом, Берх начал сходить с ума — депрессивный психоз, я думаю. Поначалу — вялотекущий, незаметный, но когда все вылилось наружу, мы были застигнуты врасплох. Как я уже сказал, астронавты привыкли думать, что люди из большого мира — такие же как они. Восемь дней назад Берх ворвался в кают-компанию, где мы с Зиминым тогда находились, и, размахивая бластером, заставил нас перейти в пятый модуль. Я бы никогда не подумал, что он станет стрелять. Да и какой нормальный человек откроет стрельбу внутри станции! Любое повреждение, не говоря уже о пожаре, может стать смертельным для экипажа. Инженеры предусмотрели любые катаклизмы, кроме откровенной стрельбы высокоэнергетическими импульсами. Так рассуждали мы с Зиминым. Поэтому, естественно, отказались ему подчиниться. Тогда он стал стрелять. Нет, не в нас, а мимо — он хотел показать, что намерения у него самые серьезные. В тот момент мы испугались больше не за себя, а за станцию. И нам пришлось подчиниться. Берх сам не ведал, что творит — разве к такому можно быть готовым? К тому же, я надеялся, что смогу управлять станцией из пятого блока. Но Берх смог взломать все уровни управления — даже те, к которым я сам не имел доступа. Взлом системы управления стал для нас еще большей неожиданностью, чем само его безумие. Безумный гений — это уже не просто опасно, это — страшно. Кстати, все забываю спросить, как сами-то вы проникли на станцию?
Вопрос был действительно хорошим и главное — очень точным. Не мог же я сказать, что получил необходимые инструкции от самого Берха.
Виттенгер нашелся первым:
— Полиция располагает всеми необходимыми для этого средствами.
Вот умница, думаю я, — чем тупее объяснение, тем оно убедительней. Виттенгер произнес свою сакраментальную фразу так основательно, что Вэндж даже не стал уточнять, что полковник имеет в виду под «всеми необходимыми средствами».
— Хм, странно… Но я рад, что наша полиция так хорошо подготовлена. Итак, мы с Зиминым оказались запертыми в пятом модуле, без каких либо шансов выбраться оттуда самостоятельно. Пищи у нас не было вовсе. Воды — абсолютный минимум — Берх контролировал ее подачу. Воздух — только тот, что уже был в модуле. Плюс — холод. Долго бы мы так не протянули.
— Берх как-нибудь объяснял, зачем он все это устроил? — поинтересовался я, — как вы общались, через интерком?
— Да, через интерком. То, как он мотивировал свои действия, вряд ли можно считать объяснением… — последовал ответ слишком формальный, чтобы быть правдивым. Я решил ему помочь:
— Я попробую сам угадать. Берх разгадал ваш фокус со Стормом, ведь в действительности, никакого астронавта Сторма на станции не было! Но Берху необходимо было ваше признание, и он решил выбить его из вас любой ценой. Я прав?
Зимин приподнял голову с подушки, издал какое-то неопределенное мычание и снова лег. Вэндж посмотрел на него с сожалением, затем ответил:
— Вы полагаете, что мы Сторма выдумали?
— Да, вы его именно выдумали. Такого человека просто нет в природе. Вы сочинили биографию, взяли первый попавшийся снимок не проверив, когда он был сделан. Сама идея была прекрасной, но исполнение — никуда негодное. Ботинки — и те оставили не там, где надо. Думаю, все начиналось так. После гибели предшественника Сторма вы с Зиминым остались вдвоем. И решили, что третий вам не нужен…
— Ты на что намекаешь? — покосился Виттенгер.
— Совсем не то, что вы подумали… Итак, чтобы и впредь оставаться на станции только вдвоем, вы с Зиминым придумываете некого астронавта по имени Грег Сторм и берете его к себе на станцию третьим членом экипажа. ВАКоП в то время вел переговоры с АККО по поводу передачи станции, и им было не до экипажа. Нужно участь, что Плером-11 — далеко не единственная станция, готовившаяся к передаче в частные руки, поэтому в ВАКоПе царила жуткая неразбериха, и вам удалось без труда протащить кандидатуру человека, которого никто никогда не видел. Прибытие комиссии из АККО было для вас почти как вспышка сверхновой. Сторма нужно срочно куда-то девать. Вам, Вэндж, сорок пять лет и я уверен, СКЖ записывала именно вас, а вы, в свою очередь, выдали эту запись за запись путешествия Сторма к Улыбке Явао. Мол, тот пошел и свалился. Но для полного правдоподобия вам следовало бы самому свалится в каньон. Чтобы не идти на такую жертву, вы доходите лишь до края Улыбки, а потом его взрываете. Тем самым, выходит так, будто СКЖ потеряла Сторма не у каньона а НАД ним. Взрыв получился не слишком удачным. Вы рассчитывали немного расширить каньон, но в реальности лишь обвалили небольшой кусок его края. Подделка записи прошла удачнее — вам удалось ее стереть начиная с того момента, когда вы оказались у самого обрыва.
Я притормозил, чтобы перевести дыхание. Вэндж сразу же этим воспользовался:
— Скажите, как, по-вашему, мы собирались объяснить тот факт, что на дне Улыбки не найдут тела Сторма? И что нам мешало повторить взрыв и получить более правдоподобную картину?
— По поводу тела… Спасатели использовали двух биороботов, но не только не достали тела Сторма — они и одного из биороботов не смогли извлечь со дна разлома. Поэтому, по большому счету, никто и не удивился тому, что спасатели сработали впустую. Что же касается взрыва, я могу лишь предполагать, почему вы не взорвали Улыбку еще раз. Как вам такая версия: для того, чтобы обвал выглядел как естественный, взрывать следовало вдоль какой-либо трещины, уже существующей. После первого неудачного взрыва, другой, запасной трещины поблизости не оказалось. И вы оставили все как есть. Спасатели не нашли ничего подозрительного, и если бы не настырность АККО и сообразительность Берха, то Сторма до скончания века считали бы пропавшим без вести — у астронавтов такое происходит сплошь и рядом.
— Так они что, стромовскую зарплату собирались поделить, что ли! — воскликнул изумленный Виттенгер.
— Не думаю. Причины должны быть более глубокие. И господин Вэндж нам сейчас о них расскажет.
Взгляд у Вэнджа потускнел. Зимин привстал с постели и смотрел на меня как на приведение.
— Что я могу сказать… да, примерно так все и было, — в голосе командира станции звучала какая-то обреченность. Я спросил:
— В таком случае, объясните, зачем вам понадобилось выдумывать себе третьего астронавта?
— Дурацкая шутка, розыгрыш, если угодно… После смерти Ральфа (так звали «предшественника» Сторма), нас осталось двое. Мы не хотели ничего менять… Старый хозяин от станции отказался, а новый… — кто знает, кого бы он прислал. Времени на то, чтобы найти Ральфу достойную замену, у нас не было. И мы выдумали Сторма. Кто ж знал, что все так обернется…
Вэндж изо всех сил изображал раскаяние.
— Мне, видимо, снова придется вам помочь, — возразил я, — а лирику свою вы приберегите для комиссии из АККО — она будет решать, что делать с вами дальше. Вэндж, вы действительно отвыкли от общения с людьми, как вы говорите, из «большого мира». А они не так глупы, как вы думаете. Берх расшифровал ваши записи. Вижу, вы побледнели…Вам нехорошо?
Вэндж вдруг стал похож на того Вэнджа, которого мы с Виттенгером увидели сразу после того, как открыли дверь в пятый модуль. Я продолжал:
— Вы изучали Устье Канала. Сдается мне, что никто вам этого не поручал, но суть в другом — в конце концов, «левые» научные исследования — вещь не столь уж криминальная. Необходимое оборудование вы разместили в законсервированных модулях. Вопрос — для кого предназначались исследования? Ответ мне известен — для некоего доктора Абметова. Я не знаю, как погиб Ральф, но он, без сомнения, знал о несанкционированных исследованиях Устья Канала. После его смерти вам должны были прислать третьего астронавта, но это бы означало, что вам придется делится тайной и с ним. Поэтому вы поспешили изобрести третьего астронавта прежде, чем ВАКоП сделает это за вас. Не изобретет, то есть, а пришлет настоящего. Поначалу все шло отлично. С Абметовым вы поддерживали связь; информация для него вот-вот должна была поступить с нового спутника. Но тут у станции меняется владелец, и прилетает комиссия из АККО. Заметьте, вы узнали о смене владельца уже после того, как выдумали Сторма, а не до этого, как вы пытаетесь меня убедить. Теперь Сторм должен был исчезнуть. Одно не понятно, почему вы организовали его исчезновение так безыскусно, что мы вмиг обнаружили инсценировку?
Мы обнаружили обман отнюдь не «вмиг», но на Вэнджа мои слова произвели впечатление.
— Так и было задумано, — спокойно сказал Вэндж, — Сторму надлежало исчезнуть таким образом, чтобы его в любой момент можно было вернуть или воскресить…
— Что?! — я не поверил своим ушам.
— Как вы сказали, исследования мы держали в тайне. О них знали лишь я, Зимин и Абметов. Пока у нас был виртуальный Сторм, была страховка, что Абметов нас не тронет. Ведь если есть неуловимый третий — какой смысл расправляться с нами двумя? Поэтому мы и убрали Сторма так, чтобы его исчезновение и походило и, одновременно, не походило на смерть.
— У вас были основания опасаться Абметова? — спросил я.
— Безусловно.
— Черт, зря мы отдали их Флоксу! — воскликнул Виттенгер с досадой.
— Так вы его поймали? — удивился Вэндж.
— А как вы думаете, от кого мы узнали о ваших с ним делах? — задал я встречный вопрос.
— Кто б мог подумать… — еле слышно простонал Зимин.
— Так что, все-таки, требовал от вас Берх? — я напомнил Вэнджу, что он так и не ответил на мой первый вопрос.
— Во-первых, он спрашивал насчет Сторма. Хотите верьте, хотите нет, но он не догадался, что мы Сторма выдумали. Но он вплотную подошел к разгадке. Во-вторых, Берх требовал, чтобы мы расшифровали наши исследовательские записи. Мы ему уступили. Без нас он бы никогда не нашел ключа.
— Он объяснил, зачем ему понадобились ваши исследования?
— Хотите верьте, хотите…
— Вы это уже говорили, — перебил я его.
— Да… но сами посудите… Этот, извините, псих собрался войти вместе с беспилотным кораблем в Устье Канала. Мы отговаривали его, как могли. А четыре дня назад он перестал отвечать по интеркому. Мы решили, что он все-таки улетел и теперь нас ждет смерть — долгая и мучительная. Не знаю, знакомо ли вам это ощущение. Отчаяние могло убить нас раньше, чем нехватка воды или воздуха…
— Я вас понимаю, — ответил я, вспомнив свои блуждания в лабиринте пещер Южного Мыса. На этот раз я Вэнджу поверил — его слова соответствовали записям самого Берха. Оставалось проверить еще только одну вещь. Пожалуй, это скоро войдет у меня в привычку. Я сказал:
— Небольшой тест — сугубо для истории. Расстегните, пожалуйста куртку, а вы, Зимин, опустите одеяло, — и достал ультрафиолетовый фонарик.
— Вы что задумали?! А если я не соглашусь? — возмутился Вэндж.
— Отказываться не советую — мы ведь установили, что стрелять внутри станции вполне безопасно, — предупредил Виттенгер. Они подчинились.
Ни у того, ни у другого никакого крылатого треугольника не оказалось. «Надо бы, на всякий случай, и у себя проверить», — подумал я.
Больше делать на Плероме нам было нечего. Дождавшись спасательного корабля, мы загрузили в него Берха и покинули планету.
5
Доклад Шефу успеха не имел. Никакого — даже наоборот.
— Господи, за что ты наказал меня такими сотрудниками! — причитал Шеф, стоя у окна. Можно подумать, если б он взывал к Господу сидя в кресле, то Господь его бы не услышал. Я взял с стола медную проволочку и скрутил ее в трехкрылый треугольник. Виттенгер сидел молчаливый и слегка бледный. Ларсон раздумывал, относится ли замечание Шефа и к нему тоже или только к нам с полковником.
— Нет, вы подумайте, — продолжал стенать Шеф, обращаясь все к той же инстанции, — один оказался предателем (я рассказал ему о Номуре), другой — психом ненормальным, а третий все время лезет куда не просят! Такое дело загубили, такое дело! Виттенгер, вы тоже хороши, пошли на поводу у Ильинского. Да вы же ему в отцы годитесь!
Это уже что-то новенькое. О каком деле говорил Шеф, я искренне не понимал. Ларсона Шеф не упомянул, и у того отлегло от сердца. Теперь Шеф обращался ко мне лично:
— Со Стормом ты их ловко вычислил — не спорю. Твой метод следует взять на вооружение: всякий раз, когда мы не в состоянии найти какого-нибудь человека, мы будем говорить, что такого человека попросту нет на свете. Нет — и точка. Но, скажи, какого черта ты без спросу полез на станцию?! Тебя просили? Абметов, дескать, замышлял вселенский заговор. Тоже мне, нашел злого гения. Да на Оркусе таких полоумных — через два на третьего!
— Абметов — с Земли… — вставил я.
— А на Земле и подавно — через одного. Ну хорошо, поймал ты его — ну и молодец. Раскрыл убийство какого-то там торговца — прекрасно! Если ты взялся выполнять за оркусовскую полицию их работу — ради бога, переходи тогда работать к ним. Тебе кто зарплату платит? — это уже удар ниже пояса, зарплата — это святое, — Молчишь? Зачем на Плером полетел?
— Вы же видели, что стало с Берхом… — оправдывался я.
— Только не говори мне, что ты не знал о его планах. Ведь тебе известен порядок… Сообщил бы мне, вместе бы что-нибудь придумали. Поэтому не надо прикрываться Берхом — он из-за тебя пострадал!
В чем-то Шеф был прав. Гоняясь за Абметовым, я оставил Берха наедине с его безумными фантазиями, но мог ли я его остановить…
Шеф продолжил разбор полетов:
— Идем дальше. Ладно, прилетел ты на Плером — полбеды, но дать этим двум полуживым пройдохам так обвести себя вокруг пальца — это как назвать, спрашивается?
— Я… я не понимаю… — пролепетал я в полной растерянности. Ларсон, должно быть, торжествовал.
— Не понимаю, — передразнил Шеф, но совсем не похоже, — они уцепились за твою версию как астронавт за кислородный шланг. Ха, Абметова они, дескать, испугались. Подумать только, какой страшный этот господин доктор Абметов!
— Но я же…
— Все, никаких «но». Убирайтесь все с глаз долой. Ларсон, что вы там ухмыляетесь, вас это тоже касается. А вы, инспектор, наоборот, останьтесь.
Пристыженный Ларсон поплелся к дверям. Я не был уверен, что не ослышался, и не сразу двинулся с места. Виттенгер, понимавший все происходящее не лучше меня, не смел и шелохнуться. Выходя из кабинета, я столкнулся с Яной, она прошмыгнула мимо меня не поднимая глаз. В руках она держала поднос с одним единственным стаканом. Судя по запаху — там был не кофе. Выйдя в коридор, мы с Ларсоном пошли в разные стороны.
— Ты что-нибудь понял? — спросил я его вдогонку.
Его ответа я не расслышал.
По пути домой я заехал в госпиталь, навестить Берха. Никаких изменений — ни в лучшую, ни в худшую сторону — не произошло. С тех пор как мы погрузили его на корабль спасателей, у него, разве что, чуть порозовели щеки. Или все дело в освещении. Врач сказал, что особых надежд возлагать не стоит.
Стеклянный колпак, паутина проводов и трубок, яркий, чересчур яркий свет ламп. «Зачем такой яркий свет?» — спросил я у врача. «Здесь всегда так», — ответил он. «Он что-нибудь чувствует?» — снова спросил я. «Странно, но все задают этот вопрос… нет, не чувствует». «Но ему, должно быть, что-то снится?». «— Не думаю.» Я вспомнил ларсоновскую шутку с рекодером снов. «Можно ли считать мыслящим того, кто только спит и видит сны?». Мне кажется, он меня не понял.
Если врачи смогут вернуть Берха обратно в кеному, не подумает ли он, что над ним опять жестоко подшутили, — с такой мыслью я вышел из палаты. Закрывая дверь, посмотрел на номер. Берх лежал в той же палате, что и я, когда вернулся из пещер Южного Мыса. Я освободил ее для него — получается так…
Дома Татьяна спросила, как дела у Берха.
— У него больше нет никаких дел, — ответил я.
— А будут?
— Вряд ли…
— Как так получилось?
— Как у гностиков — «он пригубил чашу забвения, приняв ее из рук Архонта». Плерома не пускает в себя раньше времени… Вот и Берха — остановили.
— Кто остановил?
— Карлики…
— Ты сам-то понимаешь, что говоришь?
— Кто это «сам»?
До Татьяны дошло, что сейчас ко мне лучше не приставать с расспросами.
Поздно вечером я позвонил Виттенгеру. Ничего нового он мне не сообщил, велел только не расстраиваться и сказал, что, на самом деле, все не так плохо. Он имел в виду, чтобы я не расстраивался из-за того, что Шеф на меня наорал. Но немилость Шефа волновала меня меньше всего. Я переживал совсем не из-за этого. Если понимать Шефа буквально, то все, чем занимался я, Берх, Виттенгер — это так, детские забавы. А у Шефа есть дела поважней. Последнее утверждение Виттенгер наотрез отказался комментировать.
6
Эмма Перк была уверена, что я в состоянии догадаться, кто является четвертым гомоидом. Очевидно, она переоценила мою догадливость, потому что у меня не было ни малейшей идеи на этот счет. С другой стороны, Лора Дейч была единственным человеком, оказавшимся в стороне от «дела гомоидов». За время расследования (а с его начала прошло без трех дней два стандартных месяца) я несколько раз вспоминал о ней. Но со дня похорон Альма Перка побеседовать с ней так и не удосужился. Хью Ларсона нашел бы этому объяснение. Он сказал бы, что я уподобился Берху — оставил самого важного свидетеля на потом, искусственно отдаляя тот момент, когда не останется ни свидетелей, ни правдоподобных версий. И он, отчасти, был бы прав — лишь отчасти, поскольку и без Лоры Дейч мне хватало работы. Вчера, слушая Шефа, я подумал, что в скором времени я могу остаться вообще без работы. Сегодня утром мне позвонила Яна и предложила, разумеется, не от своего имени, взять отпуск на недельку — другую. Я сказал, что подумаю, а сам позвонил Симоняну и спросил, где сейчас Лора. Ни один из ее номеров не отвечал, а в лаборатории Тонких Нейроструктур мне сказали, что она у них больше не работает. Симонян спросил, зачем она мне понадобилась. Я ответил, что его это не касается — в хорошем для него смысле, после чего он сообщил мне ее новый адрес.
Лора уволилась из Института Антропоморфологии больше месяца назад. После увольнения она уехала из города и теперь жила в полузабытом-полузаброшенном поселке первых переселенцев. Предварительно, я навел справки в медицинском центре, куда Лора не раз обращалась за помощью, и я узнал, что там хранится и запись ее генома. Следовательно, она — не гомоид — те свои геномы кому попало не раздают. Такой вывод меня не обескуражил, поскольку с самого начала я был уверен, что она — обычный человек. То есть не обычный, а довольно-таки симпатичный человек. И поговорить с ней мне нужно было обязательно. Потребовалось полчаса, чтобы уговорить ее принять меня хотя бы минут на десять. В конце концов она согласилась, я ввел координаты поселка в автопилот флаера, и тот понес меня на восток.
В пятистах километрах к востоку от Фаон-Полиса начинается плоскогорье, предваряющее Горный Фаон — страну ледяных пятнадцатикилометровых пиков, действующих вулканов и гейзеров. Из-за доносимого ветром вулканического пепла, снег на плоскогорье имеет сероватый оттенок и однообразные, в цвет снегу, купола домиков переселенцев с высоты кажутся мыльными пузырями, вздувшимися на мутной белесой воде. Флаер сам нашел, где приземлиться. Два абсолютно одинаковых купола стояли поодаль и если бы Лора не вышла на порог, я бы не знал к которому из куполов идти. Не считая нас, на улице не было ни души, и ни единого звука — кроме шелеста поземки. После коротких взаимных приветствий мы прошли в дом.
Когда я снимал куртку в прихожей, я обратил внимание как Лора несколько раз тревожно взглянула на дверь, ведущую из гостиной в соседнюю комнату. Проходя мимо этой двери я нарочно остановился, как бы в раздумье; Лора сразу же указала мне на диван у окна — подальше от двери. Предложила чаю. Я, естественно, не отказался.
— Чем вы теперь занимаетесь? — спросил я.
— Пока ничем. Наверное, совсем уеду с Фаона.
— Даже так… А из-за чего вы ушли из института?
Она молчала. Я зажал чашку с горячим чаем между ладонями, ощутил ее тепло, и уют одинокого жилища стал проникать в меня через кончики пальцев.
— Замерзли?
Она прекрасно знала, что я не замерз — от флаера до дома не больше пятидесяти шагов. Но мне было приятно, что она так спросила.
— Нет, — ответил я, но сразу же поправился, — только ладони — чуть-чуть… Я спросил вас про институт, — добавил я.
— Мне тяжело об этом говорить. После смерти Альма я не могла там больше оставаться.
— Но как же лаборатория, исследования? Не жалко бросать?
— Не все от нас зависит… — сказала она одними губами.
Я понимал, что чем дольше я буду находиться в этом доме, тем меньше у меня будет желания задавать бестактные вопросы.
— Простите, но мне нужно знать… — мямлил я, — я прошу вас ненадолго вернуться к событиям двухмесячной давности — я имею в виду убийство Альма Перка.
— Разве дело не закрыто?
— Закрыто, безусловно закрыто. Теперь уже точно известно, что Перка убила его жена, но мне по-прежнему непонятен мотив.
— Вы вновь собираетесь говорить о моих взаимоотношениях с Альмом.
— Насколько я понял, ревность не могла быть мотивом…
— Конечно не могла, ведь я не давала никакого повода.
— Я вам верю. То есть я вам верю, когда вы говорите, что не давали жене Перка повода для ревности. Но есть еще одна вещь… Проект «Гномы», что вы знаете о нем?
— Впервые слышу, — сказал она так, как обычно говорят те, кому все равно — верят им или нет.
— И вы никогда не пытались узнать из-за чего погибли супруги Перк, Лесли Джонс и еще — некий профессор Франкенберг, который сотрудничал с Альмом Перком? Столько смертей — и вам нет до них никакого дела? Ваше «впервые слышу» можно понимать двояко — либо вас и вправду не волнует, что стало с близкими вам людьми, либо… либо вы на чужой стороне! — выпалил я.
— …на чужой стороне, — пробормотала она, глядя куда-то мимо меня, — как, как вы сказали, и Лесли тоже? — спохватилась Лора.
— Простите, я забыл, что вы больше не связаны с Институтом и, следовательно, не обязаны знать, что Лесли Джонс убит. А почему имя Франкенберга вас нисколько не удивило?
— Не важно… Кто убил Лесли? — жестко спросила она.
— Вы не хотите говорить мне о «Гномах», так какой резон мне с вами откровенничать? Один за одним погибают сотрудники института, знавшие о проекте «Гномы». Если вы о проекте ничего не знаете, то вам ничего и не угрожает. В противном случае вам требуется защита.
— От кого? — спросила Лора с любопытством, но не со страхом.
Глупейшее положение. Пока оставался хоть один шанс из ста, что она и ведать не ведает ни про каких гномов-гомоидов, то говорить ей о четвертом, последнем, гомоиде было бы неосторожно.
— Я отвечу вам, но не раньше, чем вы расскажете мне о проекте «Гномы».
— Поверьте, мне нечего рассказывать… Вот если бы я и вправду, как все считают, была любовницей Перка, то тогда бы наверняка знала, а так…— сказала она с усмешкой, — еще чаю хотите?
Это было уже слишком. Я понял, что первый раунд проигран вчистую. Из соседней комнаты донесся приглушенный звук. Лора нарочито громко звякнула чашками.
— Так вам налить?
— Пожалуй… Кроме нас в доме есть еще кто нибудь?
— Вас это не касается! — отрезала она. Впервые она позволила себе резкость. Я сделал движение в сторону двери. Лора встала, преградив мне дорогу.
— Не надо — разбудите ребенка.
— Ребенка? Какого ребенка? — изумился я.
— Альма — сына Перка… И не надо на меня так смотреть, все абсолютно законно. Со дня на день я ожидаю официального разрешения оставить Альма у себя, — ответ более чем исчерпывающий. Бормоча извинения, я опустился на диван. Неловко переменил тему:
— Откуда у вас этот дом?
— Когда-то давно он принадлежал моей семье. Потом родители умерли, к тому времени я уже обзавелась своим жильем, и дом много лет пустовал. Пока не понастроили термитников здесь было людно — целый поселок переселенцев — ведь мои родители родились и выросли на Земле.
— Чем занимались ваши родители?
— Они были биологами. Прилетели на Фаон изучать местную фауну.
— Они рано умерли…
— Да, рано… Они погибли — разбились в горах. Извините, я не хочу об этом говорить.
— Это вы извините, я не должен был спрашивать.
— Вы все время спрашиваете то, что не должны…
— И вы все время мне отказываете, — вздохнул я, — вы родились уже здесь, на Фаоне?
— Да, через два года после того, как родители покинули Землю и переселились сюда.
— Вы решили следовать их путем — изучать внеземную биологию.
— Нет, не совсем так. Скорее благодаря Перку я увлеклась антропогенной структуролистикой, если вы знаете, что это такое…
— Вы хотите сказать, что знали Перка до прихода в Институт Антропоморфологии? Но раньше вы ничего об этом не говорили.
— Меня никто не спрашивал. Перк дружил с моим отцом. Жил он в те времена здесь, неподалеку.
— Они только дружили или и работали над одним и тем же?
— Вы опять за свое… Нет, мой отец занимался планетарной биологией, Перк — антропоморфологией. Надеюсь, разницу вы понимаете…
Я решил не обращать внимание на ее сарказм.
— Мне опять приходится верить вам на слово.
— Ну почему же на слово? Остались видеозаписи, материалы исследований, хотите покажу?
— Давайте, — ответил я машинально.
— Откуда начнем? — спросила она.
— Мне все равно, — пожал я плечами, — хоть с середины.
Лора не вставая включила изображение. Я увидел панораму поселка переселенцев. Снимали летом, с высоты метров пятьсот. Белые полусферические домики ярко выделялись на фоне красно-коричневой песчаной равнины. Зелень проглядывала пятнами, в основном, возле домов, — японские сады на фаонский манер с обычным для нашей природы преобладанием камней. Смена кадра. Теперь снимали внутри дома. Молодые люди — мужчины, женщины — собирались отмечать какое-то торжество.
— Это на моем дне рождения, тот высокий мужчина в светлой куртке — мой отец, — пояснила Лора.
— Такой молодой… — удивился я.
— Конечно, это ведь бог знает когда снималось. Мне в тот день исполнилось три года, мы позвали соседей… Смотрите, вон я прячусь за диваном. В детстве я была очень стеснительной и всегда пряталась, когда приходили гости…
У меня чуть не выпрыгнуло сердце.
— Стойте, — закричал я, — остановите кадр, вот сейчас, рядом с вашим отцом, кто это?
Она посмотрела на меня с недоумением.
— А сами не узнаете… ах, ну да, тридцать лет прошло… Это ведь Альм Перк собственной персоной. Он немного моложе моего отца…
— Увеличьте изображение, — перебил я ее.
Я не мог поверить своим глазам. Человек, которого Лора назвала Альмом Перком, был похож на четвертого гомоида, как я — на собственное отражение. Разгадка оказалась до очевидности простой. Я вскочил с дивана и направился к двери, что вела в соседнюю комнату. Лора была проворней, за два шага до двери она обогнала меня и широко расставив руки преградила мне путь.
— Не надо, прошу вас, не входите, — взмолилась она.
— Не бойтесь, я не причиню ему никакого вреда, — пообещал я ей и, как можно деликатней отстранив ее, прошел в комнату.
Пятилетний мальчик сидел на ковре и учил бикадала триподу играть в настольный бильярд. Ребенок не был похож ни на Перка, ни на гомоидов, вообще, ни на кого, кроме себя. То есть был обычным, нормальным ребенком. Бикадал трипода смотрелся куда экзотичнее. Мальчик обернулся, посмотрел внимательно на меня, сказал «здравствуйте» и снова занялся бикадалом. Тихо ступая, я вышел из комнаты и закрыл за собою дверь.
— Что теперь с нами будет? — дрожащим голосом спросила Лора, на глазах у нее появились слезы. Выдержка, которой позавидовал бы Вэндж, улетучилась в тот самый миг, когда она поняла, что тайна четвертого гомоида раскрыта.
— Ничего, ровным счетом ничего, — ответил я, — Абметов о мальчике ничего не знает, и, надеюсь, никогда не узнает, а бояться меня вам и вовсе не стоит.
— Как вы догадались?
— Я видел голограмму гомоида, когда навещал Франкенберга. На вид гомоиду было лет пятнадцать-двадцать — во всяком случае, так мне тогда показалось. Франкенберг изобразил свое создание таким, каким оно будет, когда вырастет. То есть таким, каким Перк выглядел тридцать лет назад. Франкенберг использовал генетический материал Перка, ведь так?
— Да, вы правы.
— И эксперимент начался шесть лет назад?
— Да, конечно, ведь мальчику пять лет. А почему вы спросили?
— Старшие гомоиды ничего не знали о нем. Тот из них, с кем я разговаривал в пещере Южного Мыса, сказал, что последние шесть лет он не покидал пещеру. Я мог бы сообразить и раньше…
— Кто еще знал о том, что Альм-младший … ну… не совсем человек, скажем так?
— Только те, кто не мог не знать: Перк, его жена и Франкенберг.
— Но не вы…
— Нет. Перк доверил мне свою тайну уже после смерти.
— Признаться, я не совсем вас понял.
— Через неделю после его смерти я получила от него письмо.
— Письмо «до отмены»?
— Да, такое письмо, которое посылается автоматически, если адресат в течение определенного времени не отменит отправку сообщения.
— Понятно. Вы покажете мне письмо?
— Нет, я его сразу же стерла. Сами понимаете, почему…
— Что было в письме?
— Перка обложили с двух… нет, с трех сторон, если считать и вас. Но про вас он тогда не знал. Он боялся, что Абметов вот-вот пронюхает про Альма-младшего. Перк не хотел его отдавать. Третий гомоид, Антрес, подбирался с другой стороны… Потом в дело вмешались вы.
— Да, мы подключились несколько позже. А на чье стороне была Эмма Перк?
— Ни на чьей. Конечно, особой привязанности к мальчику она не должна была испытывать — ведь Альм-младший не был ее сыном. Но Эмма Перк не могла иметь собственных детей. Она вообразила себе, что имеет на ребенка больше прав, чем все остальные. Она боялась потерять его, боялась, что Перк сбежит от нее вместе с ребенком или, хуже того, отдаст мальчика Абметову для его опытов. Мне кажется, все дело в этом…
— Хорошо, — вздохнул я, — все равно, теперь это уже не имеет значения. Скажите, а о Лесли Джонсе Перк упоминал? Или о Сэме Бруце?
— Нет. А кто такой Сэм Бруц?
— Один из сообщников Абметова. А имена Номура, Зимин, Вэндж — не встречались?
Снова мимо. По словам Лоры, в письме Перка фигурировали только Абметов, Франкенберг и Эмма Перк — никаких новых имен в нем не было. Лора, собравшись с духом, спросила:
— Вы так и не ответили мне, что вы собираетесь делать с ребенком. Прошу вас, оставьте его мне. Мы улетим с Фаона — куда скажете, хоть — на Землю. Я сделаю все что угодно, лишь бы никто никогда не заметил, что он не человек.
— Вы не всесильны, вы не знаете, что от него можно ожидать. Какое у него сублимационное число?
— Так спрашивают про породу собаки! — с негодованием воскликнула она.
— И все же…
— Чуть меньше единицы и, в отличие от Антреса, Альм абсолютно безопасен для людей… Даже наоборот…
— Откуда вам известно про сублимацию? Из письма Перка?
— Да, из него.
— Следовательно, он описал и ту модель, что использовалась при создании Альма-младшего.
— Нет, он упомянул только сублимационное число. И то, лишь для того, чтобы я не боялась мальчика так же, как Перк боялся Антреса.
— И больше ничего? Неужели он никак не описал, что из себя представляют гомоиды, как они устроены, что у них творится внутри, в голове, наконец. Я, к сожалению, абсолютно не владею вашей биологической терминологией, поэтому, наверное, несколько по-дилетантски формулирую вопрос, но вы же меня понимаете?
Она кивнула:
— Конечно понимаю. И Перк прекрасно понимал, что найдется кто-то, кто будет задавать подобные вопросы, поэтому не оставил ни мне, ни вам, ни единого намека.
— А может, все-таки, оставил? Но вы, не желая, чтобы тайна происхождения Альма-младшего вышла наружу, уничтожили материалы исследований.
— Думайте, что хотите…
— Но сами-то вы представляете себе, кем он станет, когда вырастет. Чем-то же он будет отличаться от всех остальных людей.
— Он будет добрее…
— Это я уже понял, а еще?
— Еще… Мы не заметим ничего такого, чего не замечаем в других людях — люди ведь тоже разные… Если ребенок вырастает в обезьяньей стае, могут ли обезьяны понять, чем он отличается от них? И может ли человек, выросший среди обезьян, догадаться, что он не такой как они, что он способен на что-то, что обезьянам недоступно.
— Но мы не обезьяны.
— Это только пример. Сколь бы не был ребенок гениален от природы, никто об этом никогда не узнает, если его не учить хотя бы азам того, в чем он мог бы стать гениальным. Поэтому мы учим детей всему подряд — ведь заранее никогда не известно, что ему пригодится в жизни. А чему мы можем научить Альма? Только тому, что знаем сами. Следовательно, и его отличия от нас будут укладываться в наши, человеческие рамки. Поэтому, будь что будет. Пусть растет среди людей, и пусть эти люди никогда не узнают, кто он и откуда… Вы согласны?
— Согласен. Но кроме того, что он — гомоид, он еще и андрогин. Вы вряд ли сумеете это скрыть. Если Альму потребуется медицинская помощь, то любой врач без труда определит в нем гермафродита.
— Не забывайте, что я тоже врач, — напомнила она. У меня мелькнула догадка:
— Вы хотите сказать, что собираетесь, как бы это помягче выразиться, внести необходимые исправления…
— Уже внесла. Оставшиеся отклонения встречаются и у людей. Теперь он мальчик, а когда вырастет — станет мужчиной не хуже вас, — и она с улыбкой оглядела меня с головы до ног.
— Ну это мы еще посмотрим, — сказал я и расправил плечи. И тут же спохватился: — Но детей у него быть не может — от обычной женщины, я хочу сказать.
— У гомоидов не могло быть детей ни от кого. В том числе, и от самих себя. Франкенберг был, конечно, гениальным ученым, но не настолько… — на любой мой довод у нее находился ответ. —Я не думаю, что его идея соединить в мыслящем существе все, на что это существо могло бы опереться в жизни, слишком удачна. Излишняя полнота провоцирует распад — как превышение критической массы. Я исправила его ошибку. В конце концов, точки опоры должны быть разнесены в пространстве, чтобы придать устойчивость… постойте… — она схватила меня за руку, думая что я собираюсь снова войти в ту комнату.
Но я встал вовсе не для этого.
— Я уже сказал вам, о ребенке никто не узнает — он останется с вами. Улетать с Фаона я вам не советую — здесь вам есть к кому обратиться за помощью.
Лора обещала подумать над моим предложением. Я улетал из поселка переселенцев с двойственным чувством. Я нашел четвертого гомоида и мог считать свое задание выполненным. С другой стороны, финал оказался не таким, как я ожидал. И я мысленно согласился с Лорой: «будь что будет».
7
С самого утра, на синхронизированном календаре стоит восемнадцатое октября. За минувшую неделю произошло несколько событий — и хороших, и не очень — в зависимости от того, с какой стороны посмотреть. Берх пошел на поправку — это хорошо с любой стороны. Позавчера врачам удалось вывести его из комы. Но слишком обнадеживаться не стоит — память вряд ли когда-нибудь к нему вернется. Он начнет жизнь с чистого листа, и там уже не будет ни меня, ни Татьяны, ни Шефа, ни Плерома. От одних я слышал, что Бог наказывает людей отнимая у них разум. Плером отнял у Берха память — прижизненная реинкарнация, — так называют это другие. Le petit mort — сказала Татьяна, но не думаю, что она права.
Шеф всерьез занялся поисками членов Трисптероса среди сотрудников Редакции; это дело он ведет сугубо лично и о результатах мне ничего не известно. Ларсон исследовал останки Лесли Джонса, но, как и следовало ожидать, ничего «нечеловеческого» не обнаружил.
Виттенгер куда-то исчез, но не в том смысле, в каком исчез Сторм, а обычном, то есть не отвечает на мои сообщения, интерактивной связи с ним нет и, похоже, он улетел с Фаона. Вероятно, по поручению Шефа.
Лора Дейч с Альмом-младшим также покинули Фаон, но, в отличие от Виттенгера, навсегда. Я так и не смог убедить ее остаться. Она даже не разрешила проводить ее до космопорта.
Пришло два неожиданных письма. Первое — от Абметова — из камеры предварительного заключения. Наверное, он хотел, чтобы последнее слово осталось за ним. Но оно в любом случае будет за ним — перед вынесением приговора, я имею в виду. Абметову не дает покоя мысль, что и он и его тайное общество явили себя перед людьми, совершив преступление, а не благодеяние. Заочно, он старался убедить меня, что смерть торговца — не более чем случайное стечение обстоятельств. Они с Бруцем хотели только обыскать лавку и заглянуть в компьютер хозяина, когда тот неожиданно вернулся. Тодаракис первый бросился на них с шокером. Справиться с двоими ему оказалось не под силу, но убивать его никто не собирался — только оглушить. Дальше в письме Абметов пускался в свою обычную риторику по поводу «настоящего знания», о несовместимости такого знания с насилием, ну и о прочих, подобных вещах. В принципе, я готов ему поверить, но вот поверит ли суд. «Неумышленные убийства тоже вредят туризму», — так сказал один из судей корреспонденту теленовостей. Еще, Абметов просит меня не раскрывать на страницах «Сектора Фаониссимо» Трипстерос («известное вам название» — так он написал). Но это не от меня зависит, а от Редактора. Учитывая, что в Трисптеросе состоял один из сотрудников Отдела, вряд ли Шеф захочет раскрывать Трисптерос. Абметов клялся, что кроме Номуры, никаких «кротов» он к нам не подсылал. Да и про Номуру Абметов сказал что, мол, он уже давно никакого активного участия в деятельности Трисптероса не принимал, а с гомоидами согласился помочь, только после того, как Антрес, взорвав завод, убил его брата. Не знаю, верить ли ему или нет… То сообщение на флаер прислал Абметов — для поддержания духа, так сказать.
Прежде чем приступить ко второму письму, закончу с Абметовым и его компанией. Суд над доктором состоится через две недели. Фил Шлаффер остается главным свидетелем обвинения — он видел Абметова выходящим из задней двери сувенирной лавки в то самое время, когда, предположительно, произошло убийство. Сэм Бруц проходит по делу как сообщник. О Трисптеросе в оркусовских криминальных новостях — ни полслова. Братство дрэггеров — астронавтов-испытателей из Сектора Улисса — мы проверили. Есть у них и свой символ, с виду, весьма похожий на трехкрылый треугольник, только на нем ковши вместо крыльев. И носят его не на груди. Как гностики — во времена гонений, Бруц хотел выдать свой тайный знак за чужую эмблему. Бруц, как ни странно, и в самом деле, служил когда-то астронавтом-испытателем и был знаком с Номурой. Про Абметова ничего подобного установить не удалось.
Теперь — о втором письме. Его автором был Себастьян Дидо. Собственно, писал он не мне лично, а в редакцию «Сектора Фаониссимо». Дидо рассказывал о необычной встрече, произошедшей с ним на Оркусе — о встрече с женщиной, по имени Бланцетти. Он сразу заподозрил, что с этой дамой — Бланцетти — что-то не то. Исходящие от нее психоны (так паломники называют частицы-переносчики духовной энергии) не походили на человеческие. Дидо утверждал, что он обладает способностью к гиперсенсорному общению и отличить человеческие психоны от нечеловеческих — для него пара пустяков. Теряясь в догадках, он спросил совета у Большой Воронке, и ее ответ поразил его: Воронка сказала, что Бланцетти — инопланетянка-гоморкус. Но, должно быть, Бланцетти подслушала его разговор с Воронкой, поскольку в тот же день исчезла. Несколькими днями позже Дидо прочитал в «Секторе Фаониссимо» старую публикацию о Джоне Смите. «Это не может быть совпадением!» — заключает Себастьян Дидо и требует от редакции, во-первых, точный адрес Джона Смита, а, во-вторых, содействия в розысках пропавшей Бланцетти. Я представляю себе, как теперь Редактор ломает голову, решая, что делать с Дидо и его письмом. Дал бы он Ларсону написать ответ. А Ларсон напишет, что, мол, на Окусе пропадают не только Бланцетти и порекомендует в следующий раз принять двойную дозу антиоркусовских пилюль. Я бы на месте Редактора, попросту проигнорировал бы Дидо — мало ли, кому что нашептали оркусовские воронки. Да и женщины на нашем пути, всякие попадаются…
8
На предыдущем дне, вероятно, и следовало бы закончить эту историю, если бы за ним не наступил день сегодняшний. Как всегда, когда я не в отпуске и не на задании, я начал новый день с просмотра поступивших за ночь плохих новостей.
Последнее время, во время просмотра новостей меня стали одолевать одни и те же мысли… Но можно ведь и по-другому сказать: мол, если ты не в отпуске, когда вообще не нужно ни о чем думать, и когда ты не на задании, то есть от работы мозги не плавятся, то не относящиеся к делу мысли сами лезут в голову, а новости тут не при чем. На самом деле, это Татьяна любит так порассуждать. Она говорит, что существует некий принцип взаимности, и формулирует его так: «Мы знаем о мире ровно столько, сколько мир знает о нас.» Мол, познавать мир мы можем лишь изменяя его, а по этим-то изменениям Мир и узнает о нас. Иначе говоря — никак нам не спрятаться, в щелку или замочную скважину не подглядеть. Вот я и думаю: когда я просматриваю заботливо отсортированные и упорядоченные моим компьютером последние известия, то нет ли кого-то, кто точно так же просматривает меня, или, по крайней мере, мог бы просмотреть, если б только захотел. Наверное, люди так стали думать с тех пор, как у них появилась возможность не выходя из дома наблюдать за событиями, происходящими в других местах и с другими людьми. Или это манией преследования называется, а на моей работе манию преследования заработать легче чем простуду. Но возвращаясь к вопросу о том, знает ли мир о нас столько же, сколько и мы о нем, утешает одно: если и впрямь существует такая симметрия, то нет риска однажды оказаться у кого-то сапиенса на приборном стеклышке раньше, чем он окажется на моем. Смешная картина получается: лежу я под микроскопом, а в то же время наблюдатель или его друзья сами находятся под вооруженным оптическим прибором, всевидящем оком Хью Ларсона.
«„Вапролоки Фаона“ — „Гоморкусы“ — ноль — три», — сходу огорчил меня нейросимулятор. Можно подумать, наши когда-нибудь у них выигрывали. «Конец света отменяется» — гласило следующее сообщение. Нейросимулятор буквально воспринял мое указание не считать известие о грядущем конце света плохой новостью и теперь спешил огорчить меня тем, что, паче чаяния, конец света в ближайшее время не наступит. Я уже собирался пролистнуть «отмену конца света», как неожиданно на новостийном канале появилась сияющая физиономия полковника Виттенгера — он с удовольствием давал интервью фаонское службе новостей:
"Я имею честь сообщить нашим гражданам, что Службе Общественной Безопасности удалось разоблачить коварный замысел небезызвестного «Глобальной Страхового Общества».
Не для кого не секрет, что страховщики зарабатывают немыслимые деньги на продаже страховых полисов гражданам, смертельно напуганным угрозой взрыва сверхновой звезды в Системе Плерома. В действительности же, работавшие на Плероме астронавты Вэндж и Зимин уже давно располагали доказательством того, что никакого взрыва сверхновой не будет. Но они не спешили поделиться с общественностью этим радостным для всех известием. Напротив, они вступили в преступный сговор с руководством «Глобального Страхового Общества» и, за соответствующую плату, согласились скрыть от всех нас добытые ими научные данные. Однако, их дьявольский план с треском провалился, благодаря, еще раз подчеркиваю, своевременному вмешательству нашей полиции. Все участники аферы арестованы и в ближайшее время будут преданы справедливому суду."
— Ну и дела творятся… — протянула Татьяна. Она стояла у меня за спиной и вместе со мной слушала интервью Виттенгера.
Сказать бы Шефу, все что я о нем думаю… В тайне от всех он вел собственное расследование, — то, которое, по его словам, мы с Берхом чуть не завалили. А Берх, он же предчувствовал, что его послали на Плером вовсе не за Стормом. Но и его Шеф не счел нужным поставить в известность. Зато теперь наверняка воспользовался его расшифровками. Если до сего дня у меня и возникала мысль намекнуть Шефу об Альме-младшем, то теперь уж нет, дудки! Пусть только попробует напомнить мне об обещании разыскать четвертого гомоида — скажу, что нет никакого гомоида и не было никогда — как Сторма. Или скажу: неразрешимая загадка, головоломка, энигма научная, и пусть передает дело Ларсону. А тот будет рыть до посинения, но все равно ничего не найдет — об этом я позабочусь.
На кого Шеф работал, остается только догадываться. Но догадаться не сложно тому, кто помнит рекламный лозунг «Глобального Страхового Общества»: «Если вы застраховались у нашего конкурента, то мы застрахуем вас от его банкротства».
Татьяна взволнованно причитала:
— В каком мире мы живем! Все что-то выдумывают: Абметов и компания — гомоидов, Йохан — артефакты, страховые общества — концы света…
— Давай и мы что-нибудь выдумаем! — подхватил я.
— Что например?
— Ты все еще не выяснила, почему у Фаона нет первооткрывателей?
— Нет, а что?
— Ну и отлично! Считай задачку решенной! Слушай, я диктую…, — и я велел нейросимулятору записывать. — Вот уже в течение многих десятков, если не сотен лет лучшие умы цивилизованного мира бьются над одной и той же неразрешимой проблемой: кем и когда была открыта планета Фаон. Ни одна из известных нам космических экспедиций не взяла на себя столь почетной ответственности — быть первооткрывателем нашей замечательной планеты. Лучшие умы охватило отчаяние, но… но мы спешим их успокоить — разгадка есть, и она всегда была у нас под самым носом (не в обиду лучшим умам будет сказано). Достаточно лишь прочитать последний рассказ из всем известного «Сборника космических историй». Астронавт по имени Марк, угнав космический корабль…
Татьяна оборвала меня на полуслове:
— Ну да — и Фаон он открыл, и наше озеро, и дорожки в парке, и бесконечные тени осенью и весной — когда перед закатом, солнце ненадолго появляется в конце аллеи (нейросимулятор терпеливо записывал). Все это чушь ненаучная! У себя в «Секторе Фаониссимо» можешь публиковать все, что угодно, но мои загадки-разгадки не трогай. Чушь, чушь! — закричала она нейросимулятору. Тот недовольно прогундосил:
— Вы сначала меж собой разберитесь, а потом диктуйте…
— Вот болван, — сказала Татьяна, понизив голос. Я надеюсь, она имела в виду не меня.

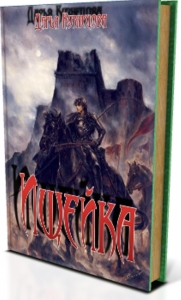

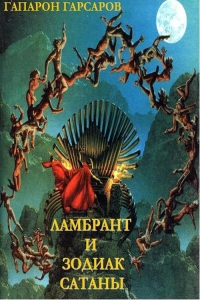





Комментарии к книге «Карлики», Максим Дегтярев
Всего 0 комментариев