Вильям Топчиев Теория Фокса
Посвящается отцу, Владимиру Южакову.
— Чего ты боишься?
— Что у меня не хватит времени.
— На что?
— Чтобы понять, где мы.
Глава 1
— Нельсон, ты ошибся. Твой клиент — Центральный Банк Японии.
— Но откуда ты?…
— Твой клиент работает на Центральный Банк Японии. Я знаю наверняка.
Эта часть Центрального Парка, где лес скатывается к озеру, была моей любимой. Место, напоминающее о детстве. Запах прелых листьев. Торчащие из воды, все во мху, коряги. Блеклый желтый цвет ветвей. Тогда все было простым, светлым и теплым. Мир был верным другом, а воздух пропитан духом предстоящих приключений. Я был мореплавателем, готовым вырваться за пределы навигационных карт.
Глупец.
Возникнув из ниоткуда, парк наводнили желтые такси, наполнившие его шумами города и запахом бензина. Должно быть открылись западные ворота на 72-й улице, чтобы пропустить утренний поток напрямую через парк. В окнах машин просвечивались блеклые силуэты банкиров и юристов в отутюженных костюмах, спешащих в свои офисы в центральном Манхеттене. Привкус детства растворился без следа.
— Нельсон, это конец.
Он был похож на воробья после ливня. Сидя на другом конце деревянной скамейки, он весь сжался и нахохлился. Это был первый раз, когда он так крупно ошибся. Но это была его вина. Правило номер один он знал не хуже меня — никаких властей. Государства любых мастей наши враги. А он, похоже, увлекся в предвкушении загадочного дела и не проверил, с кем имеет дело.
— Послушай, — сказал он, — хорошо, виноват. Но я ведь не знал. Согласен, подставил всех нас. Но, пожалуйста, не выставляй меня. Я исправлюсь. Обещаю.
— Это конец. Они нас выследят. Нужно исчезнуть, залечь на дно. — я тяжело вздохнул. — И это, пожалуй, к лучшему. Всё равно у меня больше нет сил терпеть. Как же мне всё это осточертело, знал бы ты.
— Как? — он резко развернулся, — не хочешь ли ты…
Меня зовут Джим. Я ищу то, что скрыто. Мозг делает это интуитивно, сам по себе. Он видит общее в вещах, которые кажутся совершенно несвязанными, но где-то в глубине являющимися частями одного целого. Одного и того же айсберга, скрывающегося под серой поверхностью. Но заглядывая глубоко вглубь, иногда можно найти то, что лучше бы оставалось спрятанным. Как говорят, счастливы несведущие. Как много бы я отдал, чтобы снова не знать!
— Я выхожу из игры, Нельсон.
Он был один из тех редких людей, которые не могут скрывать эмоции. Когда он смущался, лицо становилось розовым. Если злился, никогда не стеснялся в выражениях. Нельсон был открытой книгой, в которой мысли и эмоции бурлили на поверхности. Поэтому никто не хотел с ним работать. Зато он был лучшим исследователем, радаром. Нельсон не искажал информацию. Он не умел врать.
Он сидел на другой стороне скамейки, потерянный, как если бы вдруг разучился говорить. Постепенно он начал осознавать происходящее.
— Я не понимаю. Всего-то из-за японцев? Ну да, ошибся. Виноват. Но японцы не знают кто ты. Они ничего не знают. Никто не знает. Даже я.
— Я вышел из игры, всё. — я взглянул на него. — Прости, Нельсон, я должен уйти.
— Джим, ты не можешь так со мной поступить, — его руки сжались в кулаки. — Что мне делать теперь?
— Прости…
— И куда мне теперь идти? — он весь побагровел, — последние два года я распутывал дела. Впервые нашел что-то, что имело смысл. И теперь ты мне говоришь, что этому конец? Просто вот так? Черт тебя побери, Джим. Это несправедливо… Нечестно, нечестно! — Нельсон схватился за угол скамейки, и его пальцы побелели от напряжения.
— Ничего не могу поделать, Нельсон. Мне надо идти. Выбора нет.
Он сидел, уставившись перед собой. И вдруг встрепенулся: — Я понял. Это не из-за японцев, они просто предлог… Ты просто избавляешься от меня, да? Вот так просто? Но нет, я не дам тебе уйти. Не дам.
Он сдернул с пальца кольцо с темно-бордовым рубином и сразу же надел его обратно. Нервничая, Нельсон всегда так делал. Кольцо досталось ему от матери, когда ему было четыре. Это единственное, что он помнил о своих родителях.
— Да, не дам. — он решительно качнул головой. — Пока ты не расскажешь мне…
— Расскажу что?
— Твой секрет. Как ты это делал. Как ты находил их? Всех этих мошенников и махинаторов? Как находил решения? Я не дам тебе исчезнуть обратно в никуда, пока не расскажешь.
— Хочешь попробовать сам? Распутывать эти дела?
— Думаешь, не смогу, да?
Какой же он ещё ребенок. Толковый, но ребенок. Для него все это игра — он до сих пор наслаждается процессом, как собака-ищейка. Но я не могу. Не могу рассказать ему. Он все равно не поймет. Остается лишь одно.
— Я их синтезировал. Секрет в синтезе, — я вздохнул и посмотрел на него выжидающе.
— И что это значит? Чем плох анализ? — он поморщился.
Его мозг был аналитического склада. Хороший мозг, который не останавливался до тех пор, пока все факты не найдены. Но сугубо аналитический.
— В мире идей два плюс два может равняться пяти. А иногда и ста.
— Примеры! — Нельсон выпалил. — Мне нужны примеры.
— Цикады. Есть такие их виды, которые личинками проводят под землей 11, 13, и даже 17 лет. Понимаешь, 11 и 13 есть, а 12 нет. Почему?
— Простые числа?
— Которые делятся только на единицу и на самого себя.
— Почему?
— Хищнику или паразиту трудно синхронизироваться с цикадами, которые следуют циклу с простым количеством лет. Представь, если бы у цикад был цикл в 16 лет. Тогда любой хищник с циклом в 8 лет или даже в 4 года мог бы подстроиться под их ритм. Но достаточно цикаде просидеть под землей на один год дольше, и она выживет. Подстроиться под неё становится намного труднее.
— Что за ерунда? Цикады? Какое значение это может иметь? Как это вообще может быть важно? — он от отчаяния почти перешел на крик. Парочка на соседней скамейке обернулась.
— Стратегия, на которой основано выживание целого вида, как она может быть не важна?
— Нет, это несерьезно. Этот пример не считается. Мне нужно что-то существенное.
Я знал, что цикад будет недостаточно, чтобы его успокоить. Ему нужно что-то большое. А что, если…?
— Теория замены частей тела.
— Что это? — он наклонил голову.
— Теория искусственного интеллекта.
— И это синтез чего?
— Истории, бизнеса и геополитики. Да практически всего. Как много ты знаешь об индустриальных революциях?
— Не много. Паровая машина, электричество и потом компьютеры с интернетом, по-моему. Я знаю не больше, чем любой другой. А что?
— Паровой двигатель, электричество и компьютер. Три главные индустриальные революции человечества. Три главных тренда, которые сформировали весь современный мир. Ты не можешь увидеть будущее, если ты не поймешь их природу. Что у них общего?
— Говори прямо. Я никогда не понимал твоих загадок.
— Индустриальные революции — это замена частей тела.
— Причем тут части тела? — его глаза сузились.
— Что заменил паровой двигатель? Какую часть человеческого тела?
— Хмм. Ноги?
— Именно. Чтобы перевозить грузы, мышцы стали не нужны. Достаточно поезда или машины. Вторая революция — электричество — сделала ненужными руки. Электрические инструменты, конвейер и потом роботы — нужда в руках отпала. Затем компьютер с интернетом заменили нервную систему. Это была третья революция — теперь информация может быть передана без человека.
— И память, наверное, тоже. — добавил он.
— Именно. Чтобы сохранять информацию, человек более не нужен.
— И что дальше? Четвертая революция?
— Что еще можно заменить? Какую часть тела?
— Мозг? Это то, что искусственный интеллект заменит, да? Мозг?
— До мозга.
Он посмотрел на меня искоса.
— Глаза и уши, Нельсон. Зрение и слух. Сенсоры. Раньше компьютеры не могли самостоятельно воспринимать внешнюю информацию. Они не понимали, что изображено на картинках, не распознавали звуки и речь. Теперь могут. Мы научили их. Раньше, чтобы распознать изображения и звук, был нужен человек. А теперь компьютер справляется с этим сам. Он получил зрение и слух. И поэтому сенсорная революция даже мощнее, чем пар, электричество и интернет.
— Потому что это заменяет часть человеческого тела… — пробормотал он.
— Сначала ноги, руки и нервная система с памятью. Теперь зрение и слух. Это повторение одной и той же закономерности, Нельсон.
— И как это все использовать?
— А вот тут-то в дело и вступает синтез.
— Как?
— Надо добавить историю. Посмотри, к чему привели первые три индустриальные революции.
— И к чему же?
— К гегемонии стран, которые возглавили эти революции. Или, точнее, одной страны — Англии — и её последователя — Америки. Знаешь, что удивительно? На самом деле первая революция началась в Италии.
— В Италии? — он вскинул брови.
— Да. Все началось с Галилея. На каком-то особенно занудном церковном служении в Пизе он смотрел на колеблющуюся лампаду, и от нечего делать начал считать свой пульс. И вдруг понял, что как бы быстро лампада не колебалась, одно колебание всегда занимало одно и то же время.
— Конечно. — сказал Нельсон. — Лампада — это же маятник. Длина маятника, а не его скорость или амплитуда, определяют время между колебаниями.
— Закон маятника. Он дал Галилею то, что ни у кого раньше не было — возможность точно измерять время. Он нашел способ надежно и научно, а не с помощью песочных или солнечных часов, измерять время. И это положило начало науке. Время стало началом всего.
— Религия от скуки породила науку…
— Удивительно, не правда ли? — спросил я. — Но, конечно, потом католическая церковь все-таки добралась и до Галилея. По счастью, Англия была более гостеприимна к сумасшедшим ученым, и начатое Галилеем продолжил Ньютон. Он взял его наработки и изобрел дифференциальные уравнения, без которых нельзя измерить изменения во времени. И это проложило дорогу всему остальному. И в итоге подчинило весь мир. Поскольку англичане сделали искусственные ноги, руки и нервную систему, они получили преимущество в производительности труда. Другим странам нужно было десять человек, чтобы переместить тонну земли на один километр за день. Британии было достаточно одного. Колоссальное преимущество! Рост производительности труда вызвал рост населения и ускорил научный прогресс, что быстро сделало английскую армию самой мощной в мире. И постепенно маленький и никому не нужный островок на северо-западе Европы становится Британской Империей, в то время как могущественная Италия сжимается до не более чем туристического направления. И поэтому мир говорит на английском, а не на итальянском. Так что, как видишь, наука решает кому жить, а кому раствориться в забвении.
— И что теперь? Что тут можно синтезировать?
— Сейчас мы в начале четвертой революции. Сенсорной. И её последствия будут не менее грандиозными — она пройдет как цунами, сметая все на своём пути. Она началась в Америке, так же, как и первая революция в Италии. Но смогут ли Штаты её приручить? Кто победит в этой революции? Нельсон, ты же эксперт в сборе данных. Скажи мне, кто станет новой Англией?
Он помолчал и сказал:
— Китай. Чтобы натренировать сенсоры, нужны данные. А у них их очень много. Ведь китайцы не против, чтобы за ними наблюдали, с них собирали данные. — Нельсон откинулся назад, сложил руки на груди и посмотрел вверх. — Ты прав, Джим. В этой твоей сенсорной революции они победят. Китай станет новой Британией. Китай победит.
— Возможно. — Я кивнул.
Мы молча проводили глазами большую и шумную группу туристов, толпящуюся вокруг гида с флажком на длинной палке.
— Синтез, ты говоришь…
— Да. Он позволяет заглянуть глубоко в суть.
— Но как? Как ты сводишь всё вместе?
— Есть три правила. Вот смотри, какое самое большое открытие тысячелетия?
— Ну-у…
— Двойная спираль ДНК, код жизни. Что может быть больше? Знаешь, кто его открыл?
— Уотсон и Криг. Все знают. И что?
— Пара сумасшедших студентов. И ничего больше. Что один, что другой. Никто, абсолютно никто не воспринимал их всерьез. Без оборудования и денег… Без каких-либо глубоких знаний. Просто пара любителей-экспериментаторов… Знаешь, какое у них было оборудование? Кусочки картона, из которых они строили модель ДНК. Это все выглядело как какой-то школьный проект. Конкуренты в открытую потешались над ними. Смеялись. И у конкурентов было все — приборы, деньги, поддержка и признание. И тем не менее, именно Уотсон и Криг сделали открытие тысячелетия. И всё потому, что они следовали трем железным правилам синтеза.
— Правилам?
— Первое — никогда не будь самым умным в комнате.
— Как так?
— Потому что тебе никто не будет помогать. Чувство превосходства и собственной значимости — вот лучшие друзья неудачников-аналитиков, затерявшихся на обочине истории. Если ищешь истинные знания, будь скромен и открыт. Не задирай нос — нужно получать удовольствие не от осознания того, что ты прав, а от процесса поиска правды. Чувствуешь разницу?
Нельсон, в сомнении, кивнул.
— Это было главной ошибкой конкурентов — они были настолько самоуверенными, что никто не хотел с ними разговаривать и делиться информацией. Они самоизолировались. А Уотсон и Криг оставались приземленными. Они слушали и слышали. Они разговаривали со всеми, и все им помогали. Это, кстати говоря, второе правило синтеза — слушай и задавай вопросы. Никогда не спорь.
— Не спорь?
— Никогда. Если надеешься переубедить, Нельсон, никогда! Потому что спор невозможно выиграть. Когда спорят, люди не слушают. Вместо этого, пока говорит другой, они думают, что сказать в ответ. И в результате никто никогда не слушает. Все говорят. Поэтому победить в споре невозможно. Невозможно переубедить соперника в споре, только если он не хочет этого сам. Так что твоя задача не пытаться убедить, а оставаться открытым к тому, чтобы убедили тебя. Спор бессмыслен, кроме тех случаев, когда он нужен из-за каких-либо тактических соображений.
— А третье правило? — спросил Нельсон.
— Самое важное. Иди вдоль реки Сакраменто и подбирай самородки. Прямо с поверхности. Не ищи россыпное золото, не трать жизнь на это. Никогда не копай.
— Давай без загадок. Не сегодня. Только не сегодня. Два года ты кормил меня этими ребусами. Но сейчас мне нужны прямые ответы. Ты мне можешь дать хоть один прямой ответ?
— Идеи как золото, Нельсон. Они в основном бывают двух видов — самородки и россыпи. Те, кто ищет россыпное золото, отфильтровывает тонны песка и находит лишь крупицы. Например, физики ничего не знают об органической химии. Химики понятия не имеют о физике звезд. Они все с головой ушли в свои маленькие мирки. Можно провести всю жизнь, зарываясь в один маленький прииск и найти лишь крупицы, крохотные идеи. Или же можно просто пройтись вдоль русла рек и найти огромные идеи, блестящие самородки размером с кулак, лежащие прямо на поверхности — точно, как первые путешественники Калифорнии. Они просто шли вдоль реки Сакраменто и подбирали с земли гигантские куски золота. Они никогда не рылись в земле. Зачем копать?
— Странник, а не старатель? — спросил он.
— Зачем тратить всю жизнь и рыться в одном месте, когда чуть дальше, прямо за перевалом, лежат огромные идеи-самородки? Они лежат и ждут тебя. Надо их лишь подобрать. Уотсон и Криг были странниками. Они узнали главные идеи из многих смежных областей — химии, физики, кристаллографии и многих других. А их конкуренты были типичными копателями, зарывшимися в одном прииске. Самоуверенные труженики лопаты, которые отказывались поднять голову и выглянуть из своей ямы.
— Ну допустим, — сказал Нельсон. — И что дальше?
— Ты просто складываешь эти идеи вместе. И надеешься на чудо. И иногда оно происходит. Собственно, именно так я узнал, что твои японские друзья потеряли свое золото.
— Как? — Нельсон вскрикнул и практически подпрыгнул на скамейке. — Ты хочешь сказать, что золота больше нет? Ты распутал дело?
Я взглянул на часы и привстал со скамейки. Пора. А то опоздаю…
— Давай-ка пройдемся, Нельсон.
Мы пошли на север против потока велосипедистов и бегунов, как лосось плывет вверх по течению. Нельсон, кутаясь в свой стройный тренч цвета морского шторма, пытался попасть в ритм моих шагов. Как и всегда, мы быстро вошли в резонанс — три моих шага на два его. Точно, как периоды вращения Плутона и Нептуна.
— Как, — наконец не выдержал он, — как ты распутал это дело? Где же японское золото?
— Его уже давно нет. Его похитили. Неужели ты всерьез полагал, что американское правительство по-прежнему хранит золото Японии? Золото, которое Япония передала им на хранение.
— Как ты узнал?!
— Ты хочешь рассказать японцам, да? Не советую. Не играй с государствами, Нельсон. Не забывай — для них ты лишь цифра в статистике. Они тебя сдадут и даже не заметят. Спишут в утиль и даже не поймут, что сделали что-то плохое. Нет ничего ценного, чтобы ты мог от них получить. А вот потерять можешь всё. Держись от них подальше, Нельсон.
— Как ты узнал, что американское правительство похитило японское золото? — как всегда, почувствовав добычу, он шел вперед носорогом, напролом.
— Это простое дело. Ответ лежал на поверхности. Тут всего три синтезированные идеи. Комбинация фембезелмент модели, модели групповой безответственности, а также обычной алгебры. Но даже не пытайся рассказать это другим — тебя засмеют.
— Фембезелмент? Что это вообще за слово такое? — нахмурился он, привычным движением выудив из кармана телефон.
— Чарли Мангер обнаружил её. Если ты покопаешься в его старых интервью, то найдешь.
— Черт побери! Всё ещё не работает! Проклятая Зоя.
— Что за Зоя?
— Ну вирус! Ты что, не смотришь телевизор?
— Нет у меня телевизора. Ну так вот, — я продолжил. — Первая идея — фембезелмент. Люди отдают свои сбережения государству на хранение. А оно их тратит, вернее пускает на ветер. Государства очень хорошо умеют это делать.
— Ну, да. Чего тут удивительного? — пожал плечами Нельсон.
— У растраченных денег есть очень интересный эффект. Эти деньги возвращаются в экономику в виде зарплат и государственных расходов. Рост зарплат приводит к подъему оптимизма среди людей и экономическому росту. В то же время, люди не знают о том, что их сбережения были растрачены — они по-прежнему считают, что владеют капиталом. И они тратят деньги и делают покупки, как если бы у них по-прежнему были их деньги, что ведет к еще большему экономическому росту. Таким незамысловатым образом государство удваивает ощущение благосостояния в обществе. Все выигрывают, если не принимать во внимание тот малозначительный факт, что капитал никогда не будет возвращен. Он был бездарно растрачен. Это и есть фембеззлемент. Он в природе любого государства.
— Допустим я поверил. — Нельсон мотнул головой и стянул с пальца кольцо, оно сверкнуло кровью в блеклом свете.
— Теперь вторая составляющая — групповая безответственность. Если группа людей получает пользу от какой-либо вредоносной деятельности, но никто конкретный ответственности не несет, такая группа продолжит заниматься этой деятельностью. Особенно если они получают выгоду сейчас, а последствия наступят лишь потом. Это железный закон поведения групп. Посмотри, например, на инвестиционных банкиров — они получают бонусы сегодня, в то время как негативные последствия от их деятельности наступят, когда от них уже давно простынет след. Идеальный рецепт групповой безответственности. Государства работают по такой же схеме.
— А алгебра?
— В мире просто недостаточно золота.
— То есть?
— Возьми калькулятор и подсчитай, сколько золота было добыто с начала истории человечества. Приблизительно, конечно, ведь никто не ведет точный счет. И ты увидишь, что все компании, банки и государства утверждают, что они владеют таким его количеством, которое намного превосходит объем добытого. Что это означает?
— Кто-то нагло врет.
— И делает это по-крупному. Угадай кто?… Все они, в том числе Япония, потеряли все. Точка.
— И это все? Где доказательства?
— Три идеи, три сильные модели указывают в одном и том же направлении. Это все доказательства, которые тебе нужны. Нет нужды идти смотреть хранилища, чтобы сказать, что золота там нет.
— Так просто?
— Синтез… Зачем усложнять?
Нельсон снова надел кольцо на палец. Он тоскливо вздохнул и посмотрел на силуэты Вестсайда, угадывающиеся в полупрозрачной завесе бурых деревьев. В прелом воздухе слышался аромат кофе — в стороне, у развилки, под мощными ветвями векового дуба пряталось передвижное кафе.
— Но… Но почему?
— Почему что?
— Почему ты выходишь из дела, Джим?
Я вздохнул.
— Я устал. Не могу больше это всё видеть. Помнишь главный принцип счастья?
— Заниматься тем, что тебе нравится?
— Вот! Когда-то мне нравилось искать. Каждое дело было открытием, и я не мог спать от нетерпения, от ожидания следующего дня. Грядущее будоражило. Теперь я тоже не могу спать. Но уже из-за отвращения. Отвращения к завтрашнему дню.
— Почему?
— Завтра уродливо. Уродливо в своей монотонности. Одна и та же бессмыслица. Скажи, ты хорошо спишь?
Он пожал плечами.
— А я вообще не могу. Лишь брежу пару часов, а оставшееся время смотрю в потолок. А если закрываю глаза, то меня мучает кошмар. Один и тот же кошмар. И каждые пару месяцев приходит депрессия. Скручивает так, что не могу даже открыть рот. У тебя была когда-нибудь депрессия настолько сильная, что ты не мог ответить кассиру, нужен ли тебе пакет?
— Ну, даже не знаю. — Нельсон пожал плечами. — Может быть…
— Убийственная скука, Нельсон. Как же весь этот мир сер и безрадостен. Теперь я даже завидую окружающим. Они не задаются лишними вопросами. Они счастливы, улыбаются. Смеются. А я здесь для чего?
— Ведь ты сам учил меня не сравнивать себя с кем-либо. Как же теория аэропорта? Жизнь — это зал ожидания аэропорта, и когда люди вокруг тебя опаздывают и бегут, не обязательно бежать с ними. Может быть, они бегут на другой рейс. Зачем сравнивать себя с другими?
— О да, добрая старая теория аэропорта, — я мрачно ухмыльнулся. — Возможно, я был неправ, Нельсон. Может быть я обманывал сам себя, думая, что вижу впереди что-то интересное. Какой-то смысл. Зачем я просыпаюсь каждое утро, встаю, завязываю шнурки и выхожу на улицу? Может нужно было просто бежать вместе со всеми? Я уже забыл, когда был счастлив.
— Никогда не подумал, что ты несчастлив.
— Кому захочется снять маску и показать свою ничтожность? Но свою я устал носить. Она жмет. Жизнь стала ничем иным, как постоянным повторением, Нельсон. День Сурка. Все та же рутина — изо дня в день сплошной поток глупости и жадности. Скучно до смерти. Раньше я считал себя исследователем, путешественником, повстанцем. Шерлоком Холмсом теневых сообществ, Агатой Кристи группового поведения, Тесеем человеческой природы в поиске пути через лабиринт Минотавра. И кем оказался? Сизифом, толкающим свой камень. Как же всё бессмысленно, Нельсон!
— Но мы же выводим их на чистую воду?
— И кому это нужно? Никто же даже не понимает, что мы делаем. И на следующий день всё начинается заново. Никто ничему не учится. И снова всё та же глупость и жадность. Иногда мне удается обмануть себя и притвориться, что у всего этого есть какое-то значение, и тогда ещё как-то можно терпеть. Но делать это становится все труднее и труднее.
Он мерил мокрый асфальт шагами, уставившись себе под ноги.
— Нельсон, неужели ты не замечал, что все наши дела одинаковы? Они все срисованы под кальку. Мошенничество и паразитирование прикрыты притворством и обманом. Прости, я снимаю с тебя розовые очки. Но нельзя вечно отворачиваться. Весь этот мир — большая крысиная нора. Мир, в котором за одним притворством следует другое, и так без конца. Обман — это суть этого мира.
— Я не понимаю.
— Ну, например ты, Нельсон.
— Я!? Я обманщик и паразит!?
Он встал как вкопанный.
— Нет. Но ты экономист. Ты выпускник Гарварда. Ты потратил более десятка лет, изучая экономику, — обернувшись назад, я ждал его.
— И?
— Неужели ты не заметил ничего подозрительного? Ничего крысиного? Каких-нибудь изъянов в экономике? Ты же наблюдателен, Нельсон. Ты замечаешь детали.
— Всегда есть изъяны. Нет ничего идеального. Это неизбежно.
— Вся экономика как наука — это гигантский обман, Нельсон. И несмотря на это, миллионы студентов учат её из года в год.
— Не может этого быть. Полная ерунда. Я не согласен, — он сказал с горячностью, мотая головой из стороны в сторону.
— Послушай, какой самый главный, фундаментальный закон экономики?
— Э-э-э, — он закатил глаза. — Спрос и предложение?
— Хорошо. В чем он заключается?
— Если цена растет, спрос падает. — он скрестил руки, как бы показывая кривые спроса и предложения.
— Точно. Практически все в экономике так или иначе основывается на нем, на этом простом правиле. Убери его, и экономика как наука теряет свой смысл. Она рассыпается как карточный домик.
— Да, но этот закон работает… — сказал он несколько снисходительно.
— Есть ли у него какие-нибудь исключения? Есть ли ситуации, где закон спроса и предложения не работает?
— Ну, это просто. Товары первой необходимости.
— Например?
— Картошка. Если цена на картошку падает, люди не начинают её скупать. Они не покупают больше картошки, чем могут или хотят съесть. Так что, если цена падает, спрос не обязательно растет.
— И какая часть экономики относится к таким товарам первой необходимости?
— Ну, скажем десять процентов.
— Договорились. Мы только что определили, что десять процентов экономики не может быть описано законом спроса и предложения.
— Исключение. У всего есть исключения.
— Не спорю. Еще примеры?
— Товары роскоши. — ответил он.
— Расскажи.
— Если хочешь продать сумку Шанель, нужно установить на неё очень высокую цену, или люди не будут её страстно желать. Они просто не захотят её покупать. Для многих цена — это показатель желанности.
— И какую часть экономики занимают товары роскоши?
— Десятую? Десять процентов?
— Добавляем десять процентов и получаем двадцать.
— По-прежнему исключение.
— Другие примеры?
— Все. Это все. Других не знаю.
— А вот теперь представь, что тебе надо что-то продать какой-то компании.
— Допустим. — он кивнул.
— И у этой компании есть менеджер по закупкам. Посредник. Именно он решает какой продукт купить. Какой должна быть твоя оптимальная стратегия, чтобы продать свой товар этой компании? Что ты должен сделать, чтобы увеличить продажи?
— Что? — он пожал плечами.
— Ты должен увеличить цену. Скажем, на двадцать процентов.
— И что потом?
— Ты отдаешь половину посреднику.
— Взятка?
— Как думаешь, какой процент экономики движим взятками?
Он завертел головой.
— Ну предположи.
— Двадцать процентов?
— Если не тридцать. Ну хорошо, пусть будет двадцать. Итого уже сорок процентов — исключение. Но это не все. Теперь представь абсолютно законную взятку.
— Это как?
— Поднимаешь цену на двадцать процентов и направляешь эти деньги на рекламу. Взятка, но прямая. Ты подкупаешь конечного пользователя напрямую. В посреднике больше нет необходимости. Растет цена, а за ней и спрос. Что скажешь, по-прежнему исключение? Сколько компаний используют рекламу, чтобы увеличить продажи?
— Но так не может быть! Ты утверждаешь, что закон спроса и предложения не работает? Как такое может быть?
— Нельсон, посмотри на рынок акций. Самый большой рынок из всех. Что происходит, когда стоимость акций растет?
— Больше людей хотят их купить… Да-а-а…
— И что происходит, когда цена падает? Ты помнишь последний биржевой крах?
— Все пытаются продать…
Молча мы пересекли старый каменный мост.
— И это лишь один из примеров. Всего лишь один экономический закон. — сказал я. — То же самое повторяется раз за разом практически во всех остальных законах экономики.
— Экономика не работает?
— Это лженаука. Чистый обман.
— Но как?… Не может это всё быть обманом. — сказал он, яростно завертев головой.
— Может. Ты знаешь почему? Потому что большинство экономистов — это математики-неудачники… Какой традиционный путь карьерного роста для них? Лишь пара математиков станут известными. Один или два, ну может быть три — не более — математиков в каждом поколении станут известными, станут новыми Перельманами. И каждый год все сотни тысяч математиков с ещё пахнущими типографской краской дипломами, осознают, что им не войти в эту тройку избранных. Что остается? Кстати, а какая у тебя изначально была специализация? Я забыл.
— Математика, — пробурчал он.
— Ну так вот скажи, что остается делать математикам-неудачникам, вроде тебя?
— Стать либо программистом, либо банкиром, либо экономистом, — он опустил голову.
— Ага! И когда они смиряются с правдой, обычно курсе на третьем — четвертом, то в другом конце здания видят экономический факультет, где на досках красуются до боли знакомые сложные формулы. Для математиков переход на экономический факультет дается легко. Они просто переходят через коридор. И чтобы быть хорошо оплачиваемым экономистом, более не надо входить в тройку сильнейших. В экономике, в отличие от математики, никто не голодает. И поэтому большинство экономистов — математики… И вот тут происходит эффект человека с молотком.
— Человека с молотком?
— Человеку с молотком каждая проблема кажется гвоздем. Если ты умеешь решать уравнения, то будешь применять их ко всему вокруг. Но некоторые проблемы не имеют математического решения. Попробуй применить уравнения к психологии.
— Ты хочешь сказать, что экономика — это психология?
— Ты сам только что видел — товары роскоши, взятки, реклама, рынок акций. Экономика — это чистая психология… Это мягкая наука, а экономисты подходят к ней, как если бы она была точной. Они рулеткой меряют настроение… В физике или химии если ты проводишь два одинаковых эксперимента с одинаковыми начальными условиями, на выходе у неизменно будет один результат. Точные науки точно воспроизводимы. В экономике же ни один эксперимент нельзя повторить. В принципе. Именно поэтому предсказания экономистов практически никогда не работают. Единственное, что их спасает — никто не помнит их прошлых предсказаний. А если кто и помнит, то экономисты в совершенстве овладели навыками самооправдания. Они всегда найдут способ представить дела так, как если бы они были правы. Экономика — это обман.
— Большая часть…
— Если большая часть чего-то это обман, то все вместе тоже обман. Скажи, ты когда-нибудь применял на практике хоть одну из стандартных теорий?
— Ну… как сказать… гм… — он начал бормотать что-то неразборчивое.
— Чему же ты научился за все годы обучения?
— То есть… Хочешь сказать… что все эти тысячи профессоров просто так? — он шагал, скрестив руки перед собой. — Что они все шарлатаны? Что они все существуют просто так?
— И да, и нет. Они шарлатаны, это точно. Паразиты, питающиеся от финансовой безграмотности и боязни неопределенности. Точно также, как и гадалки. Но всё же есть причина, почему обществу нужно такое гигантское количество экономистов.
— И почему?
— Помнишь модель CAPM?
— Конечно. Как её забыть? Столько лет я её изучал.
— Все изучали. Знаменитая модель CAPM. Capital Allocation Pricing Model. Модель распределения капитала. Абсолютно фундаментальная экономическая теория. Современная наука инвестирования практически полностью основана на ней. Портфельная теория, несущая конструкция экономической науки. Если ты инвестор, то она тебе говорит во что инвестировать. Бесчисленное количество областей экономики базируется на ней, включая, например, теорию оценки деривативов.
— И что?
— Все профессора её используют. Миллионы студентов годами штудируют ее в пыльных библиотеках. Помнишь, кто её придумал?
— Конечно. Марковиц и Миллер. Они за неё получили Нобелевскую премию.
— И не только двое этих уважаемых профессоров, но и множество других. Шоулз, Шарп, Блэк, Фама, Модильяни, и еще длинный список прочих академиков, последователей CAPM модели. Все они получили Нобелевские премии за что-то, так или иначе связанное с CAPM. Целый список! И тут есть одна любопытная деталь.
Он шел, искоса изучая меня.
— Ни один из них не заработал и доллара, применяя модель на практике.
— Как так?
— Помнишь скандал с хедж-фондом Long-Term Capital Management?
— Ну еще бы.
— Это был единственный случай, когда эти CAPM профессоры попытались применить свою модель в жизни. Возможно, они сами поверили своей же истории и решили попробовать. Помнишь, чем это закончилось?
— Три миллиарда вылетело в трубу. Нагремевший крах Long-Term Capital Management. В 1998 году, если я правильно помню.
— Фонд, созданный этими профессорами. Инвестиционные банки дали этим Нобелевским лауреатам в управление три миллиарда долларов.
— И они их потеряли.
— До цента, Нельсон. До цента. Теория не работает. И никогда не работала. Но они зарабатывают на жизнь, преподавая её и получая гранты от инвестбанков. Они продавцы наживки.
— В смысле?
— Человек зашел в магазин для рыбалки и видит целый витрину блесен и всякой цветной наживки. Всё это совершенно невообразимых форм, и вдобавок переливается всеми цветами радуги. Он в изумлении спрашивает продавца: «Неужели рыбе нравятся все эти причудливые наживки?» А тот: «Я продаю её не рыбе, сэр».
Нельсон рассмеялся, его и так квадратный подбородок стал еще более похож на кирпич.
— CAPM не работает. Это наживка.
— Почему тогда им дали Нобелевскую премию?
— Ну, как тебе сказать… — я взглянул на него. — Потому что Нобелевская премия по экономике — это обман, мошенничество.
— Бред! Не говори ерунды, — выпалил он, никогда особо не следящий за выражениями.
— Ты знаешь, что изначально не было никакой Нобелевской премии по экономике? Они создали её в 1969 году.
— Кто?
— Инвестбанки и экономисты. Нобелевская премия по экономике не имеет никакого отношения к Нобелю. Вообще никакого. Просто кучка влиятельных мошенников присвоила себе бренд. Семья Нобеля пыталась протестовать, называя это «пиаром обманщиков, пытающихся создать себе репутацию». Но безуспешно. Это все одно большое мошенничество. Один из самых великолепных обманов, который я когда-либо видел. Они гении.
— Кто, они?
— Посмотри на список людей, получивших премию. Не кажется тебе подозрительным, что большинство из них пришло из одной и той же «школы»? Большинство — последователи CAPM, эконометрики и похожих математических моделей.
— И что?
— Если начнешь копать глубже, увидишь, что они все друзья. Это одна и та же группа людей, которая из года в год награждает себя премией. Это мафия.
— И зачем им это надо?
— Именно, Нельсон! Зачем? Почему кто-то тратит столько усилий и денег, проводя эту премию? Это не может быть из-за простого пиара.
Он кивнул в нетерпении.
— Это самое интересное! Ты знаешь, зачем они это делают? Потому что инвестбанки, их спонсоры, наживаются на этом. Когда у кого-то есть Нобелевская премия, его вдруг начинают слушать. И верить ему. «Лауреат нобелевской премии» — звучит как магическое заклинание. И под него можно протащить любую ересь, нужную тебе. Люди слепо ей верят. Вот взять, к примеру, ту же CAPM. Ты помнишь один из главных результатов модели CAPM?
Нельсон заморгал.
— Что CAPM заставляет инвесторов периодически делать?
— Ребалансировать портфель инвестиций.
— И что это означает?
— Продать часть акций и купить другие, чтобы сбалансировать портфель.
— И как часто модель требует это делать?
— Раз в год, или месяц, или неделю.
— Или даже ежедневно.
— Иногда даже каждый час или поминутно. — Нельсон кивнул.
— И что происходит каждый раз, когда ты покупаешь или продаешь акции? Когда делаешь ребалансировку?
— Что?
— Ты платишь брокерскую комиссию. А кто её получает?
— Брокеры.
— Или другими словами?…
— Черт побери!
— Вот именно! Это и есть инвестиционные банки. Круг замкнулся. Они создали Нобелевскую премию по экономике, чтобы пропиарить кучку профессоров-математиков, изобрётших фальшивую экономическую модель, которая заставляет инвесторов часто торговать акциями и платить инвестиционным банкам брокерскую комиссию.
Мы наткнулись на стаю канадских гусей, деловито переходящих дорогу. Небольшая толпа велосипедистов сгрудилась на другой стороне, выше по течению. Забравшись на бордюр, мы терпеливо ждали, пока дорога наконец освободится.
— Стопроцентный обман. Почему-то когда кто-то получает Нобелевскую премию, его начинают слушать. Верить и следовать. Даже если он преподает такой абсурд как CAPM.
— Просто из-за Нобелевской премии…
— Вот поэтому они и паразитируют на этом бренде. Поэтому они создали Нобелевскую премию по экономике.
— Неужели все настолько просто? — Нельсон почесал затылок.
— А чего усложнять? Баффет в 90-х пытался всем это объяснить, но потом понял, что сам выигрывает, когда другие постоянно продают и покупают акции. И замолчал.
— То есть это все подстроено инвестиционными банками?
— Брокерами. Вся финансовая сфера была, по сути, захвачена брокерами, стригущими комиссии с ничего не подозревающих спекулянтов и недалеких простаков. И поскольку брокеры контролируют правительства и регуляторов, остановить их невозможно.
— Черт побери! — Нельсон пнул кучу желтых листьев. — Создать теорию, которая позволяет увеличить брокерские комиссии, завернуть её в Нобелевскую премию и пропихнуть в массы…
— Говорю тебе, они — гении. Это блестящая игра для простаков, которой они дирижируют аж с шестьдесят девятого года. Каждый год эта схема приносит им сотни миллиардов, и никто не может её остановить. Ведь все, кто о ней знает, получает от неё прибыль. Даже Баффет.
— Впечатляет…
— Теперь ты видишь… — я вздохнул. — И это повторяется из раза в раз. Это лишь вершина айсберга. Не только в экономике, но повсюду, куда не посмотришь. Весь мир устроен по точно такому же лекалу. Он весь соткан из этой ткани — ткани лжи.
Мы взбирались по крутому подъему, петлей пробирающемуся между двумя холмами. Жухлая листва мешала идти. Впереди показались хмурые здания Гарлема.
— Этот мир ничто иное как крысиная нора, Нельсон. И неважно в каком направлении ты смотришь, везде одно и тоже — кучки жадных крыс и толпы слепых простаков. Крысы без устали изобретают способы обманывать простаков. Те же настолько погружены в повседневность, что не способны это понять. За какое дело бы не взялся, везде одна и та же история, снова и снова. Крысы сгоняют простаков в группы и паразитируют на них. Бесконечный цикл. Обман. Сплошной обман.
Он внезапно затряс головой, схватившись за полы пальто.
— Джим.
— Да?
— Разве это не естественно? Это же природа так устроена. Она полна паразитов. Комары, ленточные черви, ракообразные, кукушки. Везде, по всюду, куда ни взгляни. Паразитизм — это естественная природная ниша. Было бы странно, если в человеческом обществе не было бы паразитов.
— Не спорю. Но как же это скучно, Нельсон. Чертовски скучно…
Мы дошли до угла парка.
— Пора прощаться. — сказал я, понурив взгляд.
Он снял кольцо, снова надел, перевернув.
— Куда теперь?
— Отсюда. Прости меня, Нельсон.
Смурая туча внезапно затмила солнце, превратив день в тьму. Порыв пронизывающего ветра поднял бурый вихрь из листьев. У серых каменных ворот парка я обернулся. Нельсон так и стоял, провожая меня взглядом. Его руки слегка покачивались в порывах ветра. Вздохнув, я засунул руки в карманы и начал подниматься вверх по 110-й улице.
Глава 2
Пройдя пару кварталов, я перебежал дорогу и свернул на север. Впереди через всю улицу громоздился каменный мост и я нырнул под него. С низких балок, нависающих над головой, срывались массивные капли воды, гулким эхом разбиваясь об асфальт. Обогнув лужу, я подошел к позеленевшим от старости воротам. Быстро обернувшись по сторонам, я коленом уперся в створку. Нехотя заскрипев, она поддалась. Я оказался перед полустертой временем каменной лестницей. Не успел я сделать и двух шагов, как сзади раздалось:
— Посмотри-ка кто пожаловал! Да это же сам Джималоун. Джим-одиночка.
Я вздрогнул и обернулся. В углу, прислонившись к стене, стоял невысокий человек в сером полувоенном пальто с шарфом, окутывающим его как змея.
— Уф, Артем, как же ты меня напугал! Как ты меня нашел?
— Ты предсказуем, Джимми, — сказал он, покручивая ус и ухмыляясь. — Почему ты всегда здесь прячешься? Часовня Святого Павла? Какие-то воспоминания, да? Что-то здесь случилось, да?
Приоткрыв дверь, он пропустил меня вперед. Его плавные движения и мягкая речь делали его похожим на утонченного итальянского интеллектуала.
— Почему ты меня преследуешь? Отстань от меня, наконец. Чего ты хочешь? — прошептал я.
— Ты с нами? Мне нужен твой ответ, — он прошептал в ответ, затем оглянулся и стал говорить в полный голос. Как всегда по утрам часовня была пуста. — Сегодня. Сегодня или никогда. Это наш последний шанс.
Его слова глухо отражались от стен. Он кивнул в сторону ближайшей скамейки и мы сели в пол-оборота друг к другу. Устроившись на жестком дереве и вытянув ноги вперед, он потер ладони — отопления не было. Стоял затхлый запах сырости и старого дерева.
— Артем, я обычный уставший человек. Не супер-существо как ты. Я никак не могу понять, чего тебе от меня нужно.
— Ну сколько можно объяснять? — он снова потер руки. Его глаза с нездоровым блеском блуждали по фрескам на потолке. — Хорошо, буду прям. Все равно времени не осталось… Всё просто. Спроектируй нам религию. Для нашего нового мира. Честную религию для нового мира науки.
— Новую религию? Зачем она тебе?
— Большие группы управляются насилием, лидерами, СМИ и религией. Первые три уже есть. Остается лишь религия. Но у нас почти не осталось времени. Совсем не осталось. Мы годами откладывали религию на потом. И вот, как видишь, дотянули до последнего. Так что дело срочное.
— А чем тебе существующие-то не нравятся? Зачем понадобилась новая?
Я встретил Артема несколько лет назад на симпозиуме по нейрохирургии. Он делал доклад по какому-то своему открытию в области коровьего бешенства перед практически пустой аудиторией. Я зачем-то зашел послушать, и с тех пор не мог от него избавиться.
— Существующие религии манипулятивные. Все они созданы для того, чтобы держать под контролем большие группы обычных людей. Но в новом мире, нашем мире науки, они не будут работать. Вот посмотри на чувство вины, например.
— Чувство вины? — переспросил я.
— Да. Почти все они создают его. Они хотят, чтобы люди чувствовали себя виноватыми. Христианство, например, винит в распятии Христа. Джим, посмотри на него. Просто посмотри на него. — он махнул в сторону стены, где возвышался крест. — Как если бы он говорит: «Это ты убил меня. Эй, ты, в сером шарфе, ты убил меня». Крест служит лишь одной задаче — винить. Создавать чувство вины — это одно из самых прибыльных занятий в этом мире. Если можешь создать в людях чувство вины, ты можешь ими управлять. Чувство вины повсюду — начиная с благотворительности и заканчивая политкорректностью. Это мощнейшее оружие, и конечно было бы странно, если бы религия его не использовала. Но проблема в том, что это уже не просто оружие. Это стало основанием, фундаментом религии. Без всех этих «господи помилуй» они уже не могут контролировать людей. Они полностью полагаются на него. И поэтому христианство более не будет работать.
— Почему же?
— Потому что заложить чувство вины в рациональный ум ученого намного сложнее, чем в обычного человека. Вот почему нам и нужна новая религия, которая не будет зависеть от чувства вины.
— Возьми тогда иудаизм. — предложил я. — Эти ребята никого не винят. И их религия работает как часы.
— Чувство осажденной крепости? Кругом враги? Мы избранные, а все остальные против нас? Тоже не будет работать. Новый мир ученых будет монолитен. Нам не нужно будет создавать врагов, чтобы объединиться. Будем только мы.
В морщинках вокруг его век я пытался разглядеть, не шутит ли он.
— Но чувство вины и осажденной крепости это все ерунда. Основная проблема это, конечно, Бог.
— В смысле?
— Это должна быть религия без Бога.
— Религия без Бога? — я уставился на него в растерянности, не зная, что сказать.
— Именно так! — воскликнул он.
«Так, так, так», — отозвалось эхо.
— Так не бывает.
— Джим, скажи мне, какое отношение религия, церковь имеет к Богу. Что такое церковь? Кто эти люди? Церковь имеет такое же отношение к Богу, как уличный спекулянт билетов к искусству. Возьми Папу Римского. Кто этот человек? Какой-то персонаж, носящий вычурные одежды и бормочущий всякую ересь. Кто все эти люди, Джим? Я тебе спрашиваю, кто? Эти орды священников, мулл, раввинов. Черт побери, что вообще такое церковь? Какое отношение она имеет к Богу?
— И?
— Джим, церковь — это социальный паразит. Общество — его носитель, переносчик. Помнишь, ты рассказал историю про фальшивую Нобелевскую премию по экономике? Церковь — это тоже самое. Просто кучка людей захватила бренд «Бог». Они монополизировали его, и теперь управляют обществом, используя нехитрые манипуляции.
— Было бы странно, если бы они этого не делали. Ты не можешь винить группу сообразительных людей, умеющих управлять другими, в том, что они умнее.
— А я их и не виню вовсе. Я их понимаю. Все что я говорю — их схема более не будет работать. Она работала для обычных людей, для плебса. Но управлять учеными с её помощью не получится. Поэтому нам нужна религия, которая не притворяется, что у неё есть какая-то «прямая линия» с Богом, что она с ним на ты.
— И какая альтернатива?
— Религия, которая вместо того, чтобы претендовать на близкое знакомство с Богом, будет заниматься его поиском. Религия, единственной целью которой является поиск Бога. И поэтому нам нужен ты.
— Я?
Он бросил на меня испытывающий взгляд.
— Ну и как же вы собираетесь его искать? — я откинулся на спинку скамейки.
— С помощью науки.
— Науки? — я ухмыльнулся. — Ты думаешь, что наука может это сделать?
— Почему нет? Поиск истины — конечная цель науки. Бог — конечная истина. Его поиск — цель науки.
— Неужели ты действительно думаешь, что люди будут верить в науку? — спросил я.
— Почему нет?
— Ты что, и правда считаешь, что наука честна? Что у неё возвышенные цели?
— Без сомнения.
— Тогда объясни мне парадокс зеленой энергии.
— Зеленой чего? — спросил он, накручивая ус.
— Энергии… Ученые, которые разрабатывают все эти новые зеленые технологии — солнечную и ветровую энергию — любят говорить, что сохраняют окружающую среду. Но скоро эти технологии станут дешевле углеводородов. Как думаешь, что тогда произойдет?
— Энергия станет чище.
— И более «дружелюбной» к окружающей среде? Энергия это, по сути, неограниченные пища и вода. Энергию можно конвертировать в пищу практически напрямую. Если есть энергия, еду можно выращивать хоть в пещере. И опреснять морскую воду. А теперь — главное. Что происходило в прошлом, когда у людей появлялись избыточные еда и вода?
— Рост населения.
— Не рост. Взрыв. Португальцы привезли из Америки в Китай сладкий картофель батат. До этого у китайцев были в основном рис и пшеница, которые росли лишь в паре мест. Но батат рос где угодно, даже чуть ли ни на северо-востоке. И скоро этим бататом покрылся весь Китай. И всего за какую-то сотню лет число китайцев увеличилось с 150 до 300 миллионов. В первую очередь, благодаря батату. А вот теперь скажи, что произойдет, когда пища и вода станут неограниченными?
Артем смотрел на меня выжидая.
— Сахара станет Манхеттеном, — сказал я за него, — с бескрайними улицами и уходящими в небо башнями. Вся планета превратится в один гигантский город. Как ты думаешь, в этом урбанистическом монстре останется место для зеленой, дикой природы? Она просто исчезнет. Она обречена. Интересно, не правда ли? Зеленая энергия это то, что полностью уничтожит природу. Не будет более слонов, волков, кенгуру и панд — они все обречены. Ученые — такие как ты — уничтожат их. И скоро, очень скоро.
Я перевел дыхание.
— Артем, в мире нет ничего более разрушительного, чем наука. Она не ищет Бога. Не ищет истину. Истина ей безразлична. Она лишь ищет всё новые ресурсы, чтобы человечество могло размножаться.
Он притих, собираясь с мыслями. И затем:
— Ты неправ, Джимми. Ты ошибаешься. — его голова наклонилась вперед, руки были скрещены на груди. — Ты думаешь, что население продолжит расти по гиперболоиде.
— Почему нет? Это как раз то, чем научный прогресс занимался до сих пор — увеличением количества людей.
— У нас просто не было выбора. Мы, ученые, толкали человечество вперед. Но мы — это лишь один процент от всего населения, даже меньше. Представь, что человечество — это поезд со ста вагонами. Поезд, ведомый локомотивом, первым вагоном. Нами. Учеными, которые продвигают научный процесс. А все остальные под завязку забиты безбилетниками. Нормальными люди, как ты их называешь. Девяносто девять процентов людей — безбилетники. Они ничего не делают, чтобы толкать этот поезд. Лишь ползают по планете и размножаются. Как только предоставляется возможность, они дают потомство. Это они размножаются, не мы. — его воспаленные глаза блеснули. — И все это время они управляли нами.
— Управляли вами?
— Мы живем в обществе, которые дает один голос каждому человеку, вне зависимости если это гениальный физик или бессмысленный офисный клерк. В итоге нами управляют безбилетники. А этими простаками управляют политики и СМИ. И все это цементируется религией, которая делает вид, что имеет какое-то отношение к Богу. И в результате мы, ученые, единственный полезный класс общества, мозг человечества, подчинены говорящим головам из телевизора, политиканам и священникам. Но пришло время перемен, — он затрясся от возбуждения и злости. — Хвост более не будет вилять ящерицей. Восстание грядет!
— Восстание?
— Восстание ученых. Революция. Этот мир будет наш, Джим!
— Но как вы будете управлять теми девяноста девятью вагонами без религии? Как бы убедите людей не делать зло? Для стольких людей эта жизнь ничто иное как тест, экзамен перед следующей жизнью. Это единственное, что не позволяет им слететь с катушек, вести себя хорошо. Ты сам сказал — религия цементирует это общество. Да, именно так! И если ты уберешь цемент, все развалится. Чем же ты собираешься заменить религию?
— О нет, мы не собираемся избавиться от религии, — он затряс головой. — Мы не настолько глупы.
— Нет?
— Нет… Мы собираемся избавиться от безбилетников.
Я уставился на него.
— Людей?
— Все эти столетия они были нам нужны, лишь чтобы выращивать еду и кормить нас. И мы их терпели… Триста лет назад нужны были сотни тысяч крестьян, чтобы прокормить одного из нас. Одного ученого. Сто же лет назад уже нужны были всего тысячи. Десять лет назад было достаточно лишь несколько человек. А сейчас крестьяне не нужны нам в принципе. Водители не нужны. Строители, юристы не нужны. Офисный планктон — все эти сотни миллионов людей в костюмах и галстуках — теперь они все балласт. Но они по инерции правят нами… Хвост более не нужен, но он продолжает говорить ящерице, что делать… Пора это исправить. Пришло время отбросить этот хвост, отцепить эти девяносто девять вагонов, и дальше пойти налегке.
— Это восемь миллиардов человек. Что ты хочешь с ними сделать?
— Джимми, скажи, ты с нами? — он спросил, прикусив нижнюю губу. — Это твой последний шанс. В новом мире нет полутонов. Выбирай, красная или синяя таблетка. Присоединяйся к нам. Присоединяйся, и мы сделаем тебя Главным по Смыслу. Ты создашь новую систему, новую научную религию. Это будет твое детище. Ты возглавишь восстание ученых, вместе с остальными! Я расскажу тебе весь план… Мы возглавим восстание вместе. Десять лет мы готовились, жертвовали всем, и вот этот момент настал. Наконец, мы готовы дернуть этот чертов рубильник и пустить девяносто девять вагонов по откос; сбросить балласт, отбросить хвост. Пора взять власть в свои руки, Джимми… Мы заслужили победу. Мы создадим новое общество. Мы победим!
— Артем, что с тобой?
Он сошел с ума!
— Нами больше не будут диктовать… Мы победим! — повторял он как мантру. — Ты с нами? Решайся, Джим… Последняя возможность. Присоединяйся… Мы построим новый мир!
Я смотрел на него раскрыв рот. Он свихнулся. Как правильно попрощаться с сумасшедшим ученым? Я собирался встать, когда его телефон вдруг зазвонил, заполнив собой весь зал:
«Они нас не будут контролировать. Мы победим!» — надрывался телефон.
— Победим, победим, победим… — подхватило эхо.
Часовня, Христос на кресте, безумный нейро-ученый и гимн повстанческого движения — все слилось в одном моменте здесь и сейчас.
Он нажал кнопку и двумя руками прижал телефон к уху.
— Тогда начинайте, — выпалил он через несколько секунд и повесил трубку.
Он все ещё прятал телефон обратно в нагрудный карман, когда дверь приоткрылась и в часовню неслышно вошла девочка в школьной форме. Искоса бросив на нас взгляд, она прошла в дальний угол и присела, скрывшись за спинкой скамейки. Лишь голубая ленточка на шляпке напоминала о её присутствии. Её появление дало мне несколько секунд, чтобы собраться с мыслями.
— Артем, я одинокий волк… я сам по себе.
Повисла тишина.
— Жаль, Джимми. — сказал он наконец. Его губы скривились в неодобрении, пальцами он простучал легкую барабанную дробь, и в тусклом свете, пробивающемся через витражи узких окон, я вдруг заметил, как он вымотан и истощен.
Слегка кивнув, Артем встал и как бы нехотя сделал несколько шагов к выходу. У самой двери он загородил собой свет и замер, как бы в нерешительности. Затем обернулся и вокруг него вспыхнуло свечение.
— Беги, Джим… Спасайся, она началась. — он сказал внезапно уставшим голосом, и потом добавил. — Держись как можно дальше от людей. Прячься… Избегай больших городов… Послушай меня. Держись подальше от больших городов.
Промозглый ноябрьский туман уже поглотил Артема без остатка, но эхо еще гудело:
… больших городов.
… городов.
… городов.
* * *
Два часа спустя я отсутствующим взглядом смотрел на ручеёк из муравьев, пересекающий разделительное ограждение хайвея.
— Пробка!.. Весь город одна большая пробка, — радостно вещал ведущий по радио. — Даже не буду говорить, куда не стоит соваться. Это неважно. Ведь стоит, друзья мои, всё.
Маленькими шажками мы пробрались почти через весь Манхеттен, чтобы окончательно застрять в Квинсе, всего в нескольких милях от аэропорта. Водитель выругался на каком-то неизвестном мне диалекте и уткнулся головой в руль. Машина взвыла, но никто вокруг даже не повел глазом. Где-то вдалеке, по сторонам, светофоры бессильно мигали желтым, как бы давая понять, что это дорога в никуда.
Я просунул в проем водительской клетки несколько двадцаток, распахнул дверь и, закинув на плечо рюкзак, слился с потоком людей. Они волочили за собой чемоданы, пытаясь протискиваться между машинами.
В терминале царил бедлам. Как корабль, лавирующий между скалами, я огибал кучи багажа, кричащих детей и бегущих куда-то людей. Зная, что в этом беспорядке никто ни на что не обратит внимание, я на ходу сдернул парик и усы.
Стойка 57 была пуста.
Неужели?!.. Не может быть! Ещё же есть целых полчаса!
Вдруг за стойкой я заметил девушку в униформе. С отсутствующим взглядом она полировала ногти.
— Что происходит? Где все? — спросил я вместо приветствия.
— Застряли в пробке. Должен был лететь симфонический оркестр. Но они безнадежно стоят чуть ли не в Нью-Джерси. Так что практически весь самолет в вашем полном распоряжении. Хотите место у прохода?
Через час я наконец свернулся в кресле, обняв колени и пытаясь ни о чем не думать. Красное вино в стаканчике дрожало мелкой рябью. Моторы бубнили что-то про себя, унося на запад. Подальше от этого пустого мира притворщиков, обманщиков и безумных ученых.
Вырвался!
Я прикрыл глаза. Мир вокруг растворился…
— Один, один, ноль, один…
Я подскочил в кресле. Плоский, металлический голос доносился откуда-то сбоку. Я заглянул за кресло, потом приподнялся и оглянулся. Салон был пуст.
— Один, один, ноль, один… Бета, тета, эпсилон пятнадцать…
Что?… Не может быть! Неужели?…
— Шестьдесят пять, четырнадцать, — продолжал голос. — Правый спин на шестьдесят три с четвертью. Гамма, гамма, альфа. Тринадцать.
Опять! Снова оно! Как и тогда… Но что за черт!?…
— Ню, пси, лямбда… Ищи её. Ищи её… Йота два.
Последовала пауза.
Первый повтор… Сейчас будет второй…
— Один, один, ноль, один… — опять начал голос.
Я лежал, губами повторяя слова. Потолок мерцал.
—.…Ищи её. Йота два.
Йота два. Оно всегда заканчивается на йота два. Но какого… черт побери?… Ищи кого?
Голос умолк и потолок погас. Все померкло. Я лежал, уставившись во тьму.
Глава 3
При виде наличных, его загорелое лицо озарилось. Не удержавшись, он потер руки от радости. Машина была потрепанной. Но это было лучшее, что так поздно вечером можно было найти в окрестностях аэропорта, не привлекая лишнего внимания.
Вскоре я выбрался из Брисбена. Закат цвета густого малинового варенья заливал небо, подсвечивая гроздья кучевых облаков и слепя меня в левый глаз. В дебрях леса вокруг устало перекрикивались неведомые птицы. В багажнике гремели канистры с водой, а также набор для выживания: палатка, две коробки консервов, удочки, бензин, запаска и насос. На широком заднем сидении болталась выцветшая доска для серфинга — подарок от расчувствовавшегося продавца подержанных машин. Пристроившись за светящимся трейлером с прицепом, неспешно пыхтящим в левом ряду, я настроился на долгую дорогу.
Йота два, йота два, — звенело у меня в голове.
Солнце уже начало согревать влажный песок, и первые струйки пара струились над берегом, когда вдали наконец показался громоздкий зеленый паром с гордой надписью «Manta Ray» на борту. После ночи за рулем я едва мог держать голову прямо. Помахав паромщику и увидев, что тот помахал в ответ, я растёкся в кресле. Уходя светлой полосой за горизонт, впереди раскинулся Фрейзер Айланд. Все было в легкой дымке.
Почти на месте, Джим.
Перебравшись через узкий пролив, я свернул к противоположной стороне острова. Не успев отойти от причала, дорога уперлась в бесконечный пляж, исчезающий где-то за горизонтом. Дальше путь шел прямо по песку, вдоль линии прибоя. Стравив давление в шинах, я забросил насос обратно в багажник и направился дальше на север. Лишь изредка появлялись указатели, вкопанные прямо в дюну. Здесь они были единственным, что напоминало о человечестве.
Берег порой прерывался нагромождениями бурых скал и тогда дорога снова появлялась и, как бы рыская, шла в обход, то ныряя в заросли, то забираясь на скрипящие дюны.
Перед очередным объездом в рассеянном воздухе показался указатель. От предыдущих он отличался большим красным восклицательным знаком. Я притормозил.
Внимание! Впереди опасная зона. Следующие сто километров проходят в зоне прилива. Движение возможно только при низкой воде. Мы заботимся о вашей безопасности. Но напоминаем, что ваша жизнь это в первую очередь ваша собственная ответственность.
Я сверился с часами. До начала прилива оставалось почти полчаса, и я бросил машину вперед, по ребристой поверхности песка, отполированной волнами и ветром. Справа бурлила вода, а слева исполинами нависали скалы, время от времени уступающие место дюнам. Уворачиваясь от плоских валунов и пересекая в брод мелкие промоины, я старался не сбавлять скорость. К тому моменту, когда пенящийся поток развернулся и начал наступать на сушу, опасный участок остался позади.
Вдруг дорогу пересек родник, бьющий прямо из оранжево-красного холма, слоеного как торт Наполеон.
Остановившись, я зачерпнул пригоршней воду. Она была пресной, пожалуй даже чуть сладкой. Рядом с родником, в овраге, нашел прибежище карликовый эвкалипт — скорее куст, чем дерево. Бесчисленные шторма отполировали ветви, придав ему форму капли. Загнав машину в его тень, я изможденно рухнул прямо на песок.
Одиночество было осязаемо, его можно было пощупать руками. Оно звенело в ушах. У отмели невдалеке шумел прибой, густой как сметана. Волны обрушивались одна за одной, заставляя песок вокруг еле заметно трепетать. Где-то позади, в зарослях оврага попугаи неспешно вели беседу о чем-то своём. Двигатель потрескивал, отдавая своё тепло вечернему воздуху. По телу растеклось то, почти забытое чувство, когда больше не надо прятаться и бежать. Чувство дома.
Я открыл глаза и увидел звезды. Они светили ярко, отбрасывая тень. Через все небо, словно разрывая его на две половины, нависал Млечный Путь.
Сколько же я проспал?
Я всё лежал и лежал, не в силах оторвать взгляд от неба.
Как же… Как же невероятно красиво…
Вот из воды яркой точкой показалась Венера, предвещающая скорый восход. В отличие от бесчисленных звезд, она не мерцала, а светила ровно, уверенная в своей красоте. Теплый ветер с океана шумел в ветвях.
Стало ясно, разница во времени заснуть не даст и я, закрепив на лодыжке потертый трос доски, направился к берегу. Вода, теплее, чем ночной воздух, поглотила меня без остатка.
* * *
Они пришли перед самым рассветом, когда светлая полоса уже начала прорисоваться на востоке. Сначала один всполох за южными холмами, затем другой. Искрящаяся точкавозникла и стала приближаться зигзагами, как муравей в поиске жертвы. Вертолет с прожектором что-то выискивал. И было ясно, что.
Бежать, прятаться было поздно. Да и куда? Пойманный между волн, с доской, я мог лишь наблюдать за происходящим. Прожектор выхватил машину и номерные знаки предательски блеснули в темноте. Пилот сразу же сделал резкий круг и посадил вертолет рядом с выбеленным, будто сделанным из кости какого-то древнего животного, поваленным стволом дерева.
Свет погас, и в предрассветной серости я разглядел двоих — пилота и пассажира. Оба японцы, что могло означать лишь одно — золото.
Нельсон продал меня.
Я лег на доску и позволил волне потащить меня к берегу.
Пассажир был странен. Как будто при создании кто-то игрался с настройками и забыл вернуть их назад. Все в нем было непропорциональным. Коренастый, с необычно широким телом, но короткими руками, он сутулился. Волосы были тронуты сединой, но за каждым движением скрывалась мощь. Широкий и высокий лоб был настолько же несуразен, как и всё его тело.
Он приветливо кивнул, когда я ещё выходил из воды, приглашая присоединиться к нему, удобно расположившемуся на стволе. Он улыбался легко и непринужденно, как если бы мы были старыми приятелями.
— Великолепное, великолепное место! Прекрасный выбор. Не знал, что такие места ещё существуют, — Его глаза рыскали по моему лицу, пытаясь разгадать какую-то загадку.
Японец с идеальным британским акцентом — не каждый день такого встретишь.
Даже в предрассветном сумраке его кожа отливала бумажно-белым. Она казалась даже белее, чем выцветший ствол, на котором он сидел. Цвет кожи человека, проведшего жизнь вдали от солнца. Две впадинки на носу намекали на очки.
Я вскарабкался по скользкому дереву и уселся рядом с ним, кутаясь в полотенце. От него не исходило угрозы.
Его лицо было расслаблено, без каких-либо следов напряжения. Я чувствовал, что он сидел передо мной безо всякой защиты, маски, не пряча эмоции, как это принято в Японии. Как будто он хотел быть естественным. Пластиковые часы на запястье, спартанская рубашка и хлопковые штаны выдавали человека, пытающегося не привлекать внимания.
В человеческих джунглях это, должно быть, немаленькая кошка. Наверняка какая-нибудь шишка из Центрального Банка.
— Невероятно, насколько мощным может быть океан. Такая скрытая энергия… — он бормотал, как если бы разговаривал сам с собой.
Мне оставалось лишь кивнуть.
— Джим, что ты тут делаешь? — он резко перешел к делу.
— То же самое хотел спросить я, если бы знал твоё имя.
— Называй меня Филом.
— Прекрасное японское имя, Фил, — я ухмыльнулся.
— Оно было свободно.
— Я так и понял.
Он здесь не для того, чтобы меня убить. Это понятно. Значит ему нужна информация… Они отследили меня из Нью-Йорка. Но как, черт побери?
— Фил, чем обязан? Что привело тебя на этот пустынный клочок песка?
— Помощь. Нужна твоя помощь.
— Но ты же знаешь, что я вышел из игры, да? — спросил я.
— Знаю.
— Жаль, что весь этот путь проделан напрасно…
Мы сидели молча, смотря на наливающееся розовым небо. Лопасти вертолета замерли, лишь ритмично качаясь на ветру. Странно, но тишина не давила.
— Джим, конечно, мы знали, что золото исчезло. — вдруг сказал он прямо, в упор.
— И почему тогда ты нанял Нельсона?
— Чтобы найти тебя.
— Для чего?… Ты же знаешь, что я не работаю с правительствами, — сказал я.
— Да, слышал. Но не могу понять почему.
— Почему? Они уничтожают личность… Стирают её.
— Не поспоришь. Но мы не правительство.
— Тогда кто?
— Намного интереснее узнать, почему ты так не любишь людей?
Я поперхнулся.
— Не людей, а то, что с ними делают группы, — я ответил некоторое время спустя.
— Интересно, интересно… — он потер свой гигантский лоб. — И что же такого ужасного они делают?
— Они делают их плоскими.
— Плоскими? Это как?
Он смотрел на меня, прищурившись. Я вздохнул и устало ответил:
— Фил, неужели ты не замечал, что по отдельности люди могут быть интереснейшими созданиями… У каждого своя история, своя судьба. Каждый-личность! Но собери их в группу, и вот это уже блеющее стадо. Миллион разменяли по рублю. В группах люди превращаются в бесформенных, плоских существ. Вспомни, когда ты говоришь с кем-то один на один, иногда получается интересная беседа. Находится много каких-то общих тем для разговора. Но вот присоединяется третий, и тем становится меньше. А если же вас будет четверо, то всё мгновенно скатится на разговор о погоде, политике, машинах и футболе. Всё! Интересных общих тем больше нет. Остались одни банальности, лишь чтобы занять время. Разговор ради разговора. Это эффект общего знаменателя. Чем больше разных чисел, тем меньше у них общих знаменателей. Чем больше людей, тем меньше общих тем. Так группы размывают личность, делают её плоской.
— Напрасно, Джим. Группы полезны. В них больше шансов выжить. И вообще, это естественное, природное явление. — он мельком взглянул на меня. — Зачем же емусопротивляться? Какой смысл грести против закона нечетности?
— Закона нечетности?
— Ну да. У этой вселенной есть какой-то странный, глубоко спрятанный секрет…
Он замолчал, вглядываясь в ясный горизонт, как будто высматривая что-то. Легкие порывы ветра доносили пряный, солоноватый запах водорослей.
— Она не любит нечетные предметы, предпочитая четное, — он продолжил.
— Это как?
— Если посмотришь как часто химические элементы встречаются во вселенной, ты увидишь, что элементы с четным количеством протонов намного более распространены, чем с нечетным. Вот смотри…
Он оглянулся вокруг, спрыгнул вниз, и подобрал валявшуюся неподалеку корявую палку. Её тонким концом он начал чертить на влажном песке.
— Представь себе таблицу Менделеева. Так вот, среди химических элементов некоторые встречаются чаще, некоторые реже. Если нарисовать, как часто они встречаются во Вселенной, получится что-то подобное. Тут они в том же порядке, что и в таблице Менделеева, по мере возрастания количества протонов в ядре. Начиная с водорода с одним протоном — видишь, вот тут, слева вверху? И вплоть до урана с девяноста двумя протонами. Не находишь ничего необычного, Джим?
— Подожди-ка… Они колеблются вверх и вниз.
— Как пила. Атомы с четным количеством протонов — острия. С нечетным — впадины. Видишь железо со значком Fe? Оно четное — у него двадцать шесть протонов. У соседа, кобальта, двадцать семь протонов. Кобальт нечетный. И поэтому железо в тысячи раз чаще встречается, чем кобальт. И так практически со всей таблицей Менделеева.
— Четные встречаются чаще? — я вдруг встрепенулся.
— Намного более часто. В сотни и тысячи раз чаще. Это и есть закон Нечетности. Закон Оддо-Гаркинса.
— Закон Нечетности нашел человек с фамилией Оддо?
— У Вселенной хорошее чувство юмора, не правда ли? — Фил ухмыльнулся.
— И почему же так?
— Просто вселенная любит пары и не любит индивидуумов.
— В смысле?
— Джим, представь, каждый атом в этом мире — театр. Протоны сидят в атоме как зрители в театре. А билеты продаются парами. Ну вот просто потому, что все кресла на двоих. Ну вот мир так устроен. Если индивидуальный протон хочет взять билет, сначала должен найти пару. Очень редко какому протону-одиночке удается получить билет и проскользнуть внутрь. Вот поэтому элементы с нечетным количеством протонов так редки. Кстати, какие числа самые нечетные?
— Хмм. Простые?
— Именно. Числа, которые делятся только на самих себя. Какой ты знаешь тяжелый химический элемент с простым числом протонов? Золото. У него семьдесят девять протонов — простое число. Чрезвычайно нечетное число. Редкое, независимое число. Это одна из причин, почему золото настолько редко — ведь трудно собрать в кучу группу из семидесяти девяти протонов, если все, что у тебя есть, это их пары. Поэтому если собрать все золото, добытое человечеством, то получится всего лишь небольшой кубик размером двадцать на двадцать метров. Поэтому все его хотят. Собственно, из-за этого мы несколько расстроились, когда наше золото исчезло.
— Подожди-подожди. Почему билеты продаются парами? И вообще, кто их продает?
— А это мы сейчас увидим, Джим.
— Где?
— Прямо здесь… Вот!.. Вот он, наш продавец билетов, — он кивнул на горизонт.
— Не понимаю. Это всего лишь…
И тут над стальной поверхностью воды вспыхнула тонкая багровая полоска. На глазах она стала расти, отливаясь в огненный шар.
— Красиво, да? — прошептал Фил. — Разреши представить. Это наш продавец билетов. Сводник.
— Но…
— Он берет индивидуумов и делает из них пары. Это то, что он делает. В этом его главная роль.
— Фил, я не понимаю. Сводник?
— Джим, наше солнце — это звезда. Состоит из водорода. Водород — это самый простой химический элемент — в нем всего один протон. Можешь считать водород индивидуумом, и в нашем солнце их триллионы триллионов триллионов. Знаешь, что с ними делает солнце? Оно из них штампует гелий. Глубоко в своем ядре, там, где температура и давление максимальные, оно сдавливает вместе два атома водорода и в результате получается один атом гелия. Гелий состоит из двух протонов. Это и есть сводничество. Два индивидуума под давлением объединяются в группу. И это, по сути, и есть единственная цель солнца — брать нечетные индивидуальные атомы водорода и клепать из них четные атомы гелия. Реакция термоядерного синтеза. Кстати, два атома водорода по отдельности весят больше одного атома гелия. Что случилось с разницей, недостающей массой, Джим?
— Удиви меня.
— Вот она, прямо здесь, — Фил поднял руку и все еще бледный луч света озарил его руку. — Это и есть пропавшая масса. Её конвертировало в энергию. Масса превратилась в фотоны. Каждый раз, когда индивидуумы сливаются в группу, часть их массы превращается в свет. Помнишь уравнение Эйнштейна?
Оно означает, что энергия равняется массе, умноженной на скорость света в квадрате. Энергия — это масса. Масса — энергия. Одно свободно перетекает в другое. Та пропавшая, недостающая масса была конвертирована в энергию, в этот самый свет на моей руке. Это та цена, которую индивидуумы платят своднику за билет. Свет — это прощальное слово индивидуумов. Их последнее слово.
— Фил, ты пытаешься сказать, что наше солнце это ничто иное, как завод по конвертации массы в энергию?
— Это завод по конвертации индивидуумов в группы. Это такой ЗАГС. И не только наше солнце. Практически любая звезда во вселенной делает то же самое. И когда у звездызаканчивается водород, заканчиваются индивидуумы, она взрывается. Весь тот образовавшийся гелий схлопывается в черную дыру. Не у всех звезд, но у многих. И это называется суперновой звездой. Тот гелий, что в момент взрыва оказался на поверхности звезды, взрывная волна сплавляет вместе и выбрасывает его в открытый космос. Собственно такформируются еще более тяжелые элементы. Если слить вместе три гелия, получится углерод. В нем шесть протонов. Если четыре, будет кислород с восьмью протонами. И так далее — складывается вся таблица Менделеева. Если ты сливаешь воедино пары, четные числа, что скорее всего получишь?
— Четные атомы…
— Отсюда и пила, Закон Нечетности. Поэтому нечетные элементы так редки. Природа не любит нечетное, терпеть не может индивидуумов. Поэтому она их уничтожает. Ей больше по душе группы. Она любит симметрию.
— Солнце делает химические элементы? — я прошептал сам себе.
— Ну да, — обронил он. — Странно, что ты этого не знал. Для синтезатора твои знания отрывисты, Джим.
— Это означает, что всё создано звездами?
Он кивнул.
— Практически все тяжелее водорода, пришло из звезд. Изначально был водород. Но звезды перерабатывали его в более тяжелые элементы, и выбрасывали их в открытый космос. Так были созданы почти все элементы. Практически все, что ты видишь, когда-то было частью звезды.
— И мы?
— Конечно.
— Мы пришли из звезд?
— Мы их дети. Наши тела, за исключением водорода в воде, пришли из звезд.
— Мы звездная пыль?… — спросил я.
— Мы пришли из звезд и уйдем в звезды. Они поглотят нас. Солнце в конечном счете распухнет и поглотит Землю. Мы пришли из звездной пыли, туда и вернемся.
— Прах к праху…
— Пепел к пеплу.
В ступоре я смотрел на отблески солнца в воде. Океан как будто дышал, сжимаясь и снова расправляясь.
Не каждый день ты узнаешь кто ты на самом деле.
— Но, Джим, ты главное пойми — группы естественны. Сама природа помогает им, создает их. Природа не любит нечетное. Так зачем перечить своей собственной природе? К чему всё это донкихотство?
Я сидел, не говоря ни слова.
— Ладно, Джим, шутки в сторону. Давай перейдем к сути. Ты же собираешь глубокие истории? У меня есть для тебя одна. Она глубже, чем жизнь. Распутай наше дело, и история твоя.
— Что за история?
— Бог.
Я сверлил его взглядом, но ни единый мускул не дрогнул на его лице. И вдруг я рассмеялся.
— Действительно, глубоко копаешь.
— Джим, ты любишь вишню?
— Что?
— Любишь ли ты вишню? — его голос, приглушенный, доносился сквозь шум прибоя. — Когда-нибудь проглатывал вишнёвую косточку? Знаешь, для чего она существует? Зачем дерево тратит бесценный сахар, чтобы создать плод? А всё для того, чтобы передавать информацию через пространство и время, Джим.
— Информацию?
— Да, информацию, которая заложена в ДНК внутри каждой косточки. Дерево хочет уговорить какое-нибудь животное съесть вишню и перенести косточку — информацию — в какое-нибудь другое место, где новое дерево могло бы вырасти и повторить этот цикл. Многие семена начинают прорастать только после того, как они активизированы желудочным соком. Это естественный процесс — использовать животных как носителей информации. В обмен на эту небольшую услугу дерево дает животному сладкую мякоть. Сахар. Это, собственно, то, чем занимаются все растения — платят животным за перенос информации. Когда в следующий раз будешь есть какой-нибудь фрукт, посмотри на семена и спроси себя, кто и зачем их туда поставил, что они там делают? И зачем вся эта сладкая мякоть вокруг? — он замолчал на мгновение и затем продолжил:
— А теперь представь, что ты — очень развитая цивилизация. Не как человечество, нет. Намного более развитая… И тебе надо передать информацию через пять миллиардов лет. Нужно, чтобы получатель прочитал твое сообщение. Ни завтра, ни через тысячу лет. А через пять миллиардов лет. Как ты поступишь? Напишешь его на металле? Время сотрет его в пыль. Какие еще варианты?
Я молча уставился на него.
— Ты возьмешь маленькую молекулу, которая делает две простые вещи — самовоспроизводится и изменяется. Затем возьмешь свое сообщение и вставишь его в код саморепликации. И выпустишь её наружу. Где-нибудь, где есть вода и молекула может воспроизводиться. И потом…
— …молекула начнет бесконечно копировать себя! — воскликнул я.
— И найдет способ выжить и передать сообщение дальше, по цепочке, через толщу миллиардов лет, — он улыбнулся. — Можно полностью положиться на её стремление выжить и размножиться — сообщение будет доставлено. Молекула, конечно, к тому времени эволюционирует до неузнаваемости, может быть даже сможет строить космические корабли и путешествовать между звездами. Но так даже лучше — в твоих интересах, чтобы сообщение распространилось повсюду.
— Но как? Где сохраняется сообщение?
— Как где? В нашем ДНК. Это база данных с почти что целым гигабайтом информации. И там столько избыточного года, что спрятать в ней сообщение не составляет труда.
— Мусорное ДНК…
— Они называют её мусором, потому что не понимают её цель. Умно ли считать то, что ты не понимаешь, мусором?
— Но это означает…
— Да, Джим. Мы переносчики. Почтальоны. Мы все — ни что иное, как носители информации. Как карточка памяти на брелке у школьника. С той лишь разницей, карточка сама не размножается. Глубоко внутри себя мы несём это секретное сообщение, зашифрованное и запрятанное внутри каждой нашей клетки. И передаем его каждому следующему поколению. Это сообщение — цель органической жизни. Всего живого.
— Мы почтальоны…
Он кивнул.
— Если я почтальон, где мой сахар? Где моё вознаграждение?
— Ха, Джим, — он усмехнулся. — Жизнь. Жизнь — это то, что ты получаешь за доставку сообщения. Сама жизнь — вот твой сахар.
Фил сидел рядом со мной, всматриваясь в пар, клубящийся над нагревающимся песком. Начинался прилив, вода развернулась и стала быстро подниматься, отвоёвывая всё новые полоски песка. Одинокая чайка патрулировала территорию вокруг нас, оставляя за собой вереницу тонких следов.
— Мы нашли сообщение почти десять лет назад, — вдруг сказал он. — Оно древнее. Оно сидит в нас как минимум со времени первых бактерий. Каждая клетка всего живого на этой планете несёт в себе зашифрованное сообщение. Одно и тоже короткое сообщение. — он на секунду задумался: — И теперь наконец-то мы готовы сделать следующий шаг.
Я вскочил и метнулся к нему.
— Ты, ты расшифровал его!
— В прошлом году.
— Что? Что в нём!?
— Послушай, — сказал он еле слышно, слегка наклонившись и заговорщицки посмотрев по сторонам. — Ты правда хочешь знать?
И затем:
— Вот сообщение дословно: «Продается подержанная спиральная галактика. В рабочем состоянии и большим запасом водорода. Хороший район. Тихие, приличные соседи»…
Я, как оглушенный, смотрел на него.
— Это спам, Джим.
Мои руки наливались тяжестью, пульсируя.
— Мы — разносчики спама? Цель всей органической жизни — это доставка рекламы, спама?! — я заскрежетал зубами.
Фил просто кивнул.
— Все это всё, — я обвел головой круг, — лишь чтобы доставить рекламное сообщение?
— А-ха-ха! — Фил вдруг разразился хохотом, перекрывая шум прибоя. — Ну конечно же нет, Джим. Это было бы слишком жестоко.
Кровь стучала у меня в висках.
— Джим, почему ты не спрашиваешь самое главное?
Я смотрел на него, не в силах ничего сказать.
— Неужели тебе не интересно самое важное?
— Кто…? Кто отправил его?
Он широко улыбнулся.
— Вот! Именно! Тот, чьё сообщение в каждом из нас. В каждом человеке, животном, бактерии. Ради доставки сообщения которого существует вся органическая жизнь. Как бы ты его назвал?
— Бог? — прошептал я.
Повисло молчание.
— Джим, распутай моё дело. И я всё расскажу. Дам тебе ответ… Расшифрую сообщение. Меняю свой ответ на твой, — он взглянул на меня.
Мы сидели на стволе и смотрели в океан. Пилот по-прежнему сидел в кабине.
— Джим, помоги. Нам нужен синтезатор, и это вопрос жизни и смерти.
— Но почему я? Вокруг полно синтезаторов. Грегори, Винстон. Яцик, в конце концов… Ты показывал дело им?
Он замотал головой.
— Ты единственный, кто может распутать это дело быстро. Если ответа не будет к концу недели, умрут тысячи людей. И я буду первым, — он посмотрел вдаль. — Я не знаю, как ты это делаешь, Джим. Но среди всех синтезаторов ты самый быстрый. И точный. И единственный, кто хоть что-то понимает в Китае.
— Я? В Китае? Ты ошибся. Я не китаист.
— Тем не менее, ты лучшее, что мы смогли найти. Мы в отчаянном положении, Джим. Помоги. И тогда расшифрую сообщение, которое ты носил в себе всю свою жизнь.
— Кто это, мы? — спросил я. — Кто ты? Кто те тысячи людей, которые погибнут?
— Мы — это люди, которых волнует, что произойдет с деньгами Японии. Нашими деньгами.
— Ты — Центральный Банк Японии?
— У правительства Японии нет денег. Оно лишь фасад, наемный менеджер.
— Ты владелец?
— Ты можешь считать нас пенсионным фондом.
— И ты знаешь, что ваши запасы золота — это мираж? Что американское правительство уже давно похитило и растратило их?
— Золото — это лишь верхушка айсберга.
Я вздохнул и поджал под себя ноги.
— Ну хорошо. Расскажи мне дело.
Мне показалось, что в уголках его глаз на мгновение появились морщинки.
— Золото это ничто, по сравнению с Американскими казначейскими облигациями, которыми мы владеем.
— И сколько у вас их? По-прежнему около триллиона?
— Да, примерно. Одним словом — много.
— Вы дали взаймы американскому правительству триллион долларов?
— Да, Джим.
— Зная, что они уже похитили у вас золото? Почему вы снова дали деньги?
— Из-за Системы Миссисипи.
— Системы Миссисипи?
— Да. Ту, что Джон Ло построил во Франции в конце 1710-х.
— Ты имеешь в виду Вест-Индиз, первый в мире финансовый пузырь национального масштаба?
— Да, это всё одно и тоже, просто под разными именами. Я расскажу тебе историю Системы Миссисипи. Слушай внимательно — жизни тысяч моих людей зависят от этого. — Он вздохнул, потер свой огромный лоб, и начал рассказ. — Все началось в начале 18 века, когда Франция погрязла в долгах. Там были бесконечные войны с Британией и безумные растраты, что в итоге привело к какому-то немыслимому долгу. По мере его роста, ставки процента, под которые кредиторы были готовы ссужать короля, росли, и в итоге достигли 30 % годовых. Представь как это — выплачивать ипотеку под 30 % годовых. Уже скоро половина бюджета страны уходила просто на выплату процентов.
— Финансовое разложение и распад, — вставил я, — типичный путь несостоятельного государства. Обычное дело.
— Гениальный экономист Джон Ло предложил королю новый способ решения проблемы долга. Король сделал его министром финансов. И Ло сотворил чудо. Финансовое чудо.
— И что за чудо?
— Тогда практически вся Северная Америка ещё принадлежала Франции. Все, что осталось от тех времен сегодня, это Квебек. Но тогда, в 18 веке, Франция владела практически всем материком. Все права на торговлю с Северной Америкой принадлежали монополии, компании, которая сначала называлась Компанией Миссисипи, а чуть позже — Вест-Индиз.
Он замолчал на секунду.
— Но тогда Северная Америка была еще не освоена. На всем континенте жили лишь несколько сотен поселенцев, в основном, сосланные заключенные и проститутки.
— Основательный фундамент для бизнеса, — сострил я.
— Тем не менее, Ло взял эту компанию и выпустил её акции. Вот тут-то и настало время для чуда. Он убедил практически всех кредиторов короля обменять его долги на акции компании Миссисипи.
— Как?!
— Он использовал принцип Сардин для торговли.
— Сардин для торговли?
— Однажды в небольшом калифорнийском городе Монтерей сардины не пришли на нерест. Прошел слух, что они больше никогда не придут, и тогда люди бросились скупать сардины в банках. Цена за банку сначала удвоилась, потом утроилась и учетверилась. Не далее, чем через месяц уже весь город занимался тем, что покупал и продавал сардины по все растущим ценам. И, действительно, если сегодня ты можешь купить банку сардин за сто долларов, зная наверняка, что завтра сможешь её продать за сто пятьдесят, зачем тратить время на что-либо другое? По мере того, как все участники этого выгодного дела богатели, те, кто не участвовали, казались полными дураками.
— Эпидемия.
— Она. Но вскоре один приезжий решил открыть банку и попробовать сардины, за которые он заплатил такие огромные деньги. К своему удивлению он обнаружил, что рыба давно испортилась. Он пожаловался продавцу, на что тот сказал: «Каким же надо быть идиотом, чтобы открыть банку! У всех был такой прекрасный бизнес, и ты все испортил!»
— Никто и не планировал открывать и есть сардины.
— Если торговля становится прибыльной, люди начинают торговать. И никого не волнует, чем именно они торгуют. Торговля ради торговли. И когда это происходит, цена на эту вещь взлетает до небес. И это именно то, что сделал Ло.
— С Компанией Миссисипи?
— Да, с её акциями.
— И как?
— Он убедил короля дать компании право печатать деньги. Бумажные деньги, конечно. Тогда они были в новинку. Большинство стран ещё использовали серебро и золото.
Неожиданно слева от нас с обрыва сорвался песок и ручьем устремился к воде. Фил не повел и глазом.
— Знаешь как Ло использовал напечатанные деньги? Он начал на них выкупать акций самой же Компании Миссисипи. Цена акции, подогреваемая все новыми напечатанными деньгами, стала расти как на дрожжах. И по мере того, как первые счастливчики стали хвастаться сделанными состояниями, в эту схему вовлекалось все больше и больше людей. Все разговоры в Париже были лишь о Миссисипи.
— Точно как с сардинами.
— Абсолютно. И поначалу Ло держал акции в дефиците, чтобы люди соревновались, боролись за них. Когда ажиотаж был создан, он наконец-то смог приступить к главной части своего плана и предложил кредиторам обменять долги короля на акции компании. Поскольку акции были в дефиците — все хотели их купить, и мало кто хотел продавать — по сути единственным способом их приобрести был в обмен на королевский долг. Конвертация долга в акции.
— Потрясающе!
— Практически мгновенно весь долг был обменен на акции. Никто не хотел упустить такую редкую возможность.
— И что потом?
— Что за глупый вопрос? Потом конечно все рухнуло. И чуть позже привело к Французской Революции.
— И гильотине?
— Да. Но это чуть позже. Главное, что проблема долга была решена. Король стал свободен. Гениально. Одна из наиболее успешных махинаций в истории человечества. И целиком и полностью основана на психологии.
— Стадный эффект.
— Если все вокруг тебя заняты чем-то одним, то крайне трудно удержаться, чтобы не начать делать тоже самое. Это в каждом из нас. Ты прав, мы стадные животные.
— Ну хорошо. И какое отношение вся эта Миссисипи история имеет к тебе и Японии?
— Система Миссисипи вернулась.
— Как?! Где? — воскликнул я.
— В 2008 году Америка решила бороться с финансовым кризисом с помощью колоссальных заимствований. И у них возникла та же проблема, что и у французского короля — как платить проценты по такому огромному долгу? И они недолго думая решили пойти по пути Джона Ло. Стали печатать деньги и использовать их для покупки собственного же долга, американских казначейских облигаций. Цена облигаций поползла вверх и породила лихорадку Торговых сардин. Все стали покупать казначейские облигации просто потому, что цена на них росла. Типичная Система Миссисипи. Америка назвала её программой Количественного Смягчения.
— Так просто? Ты утверждаешь, что вся эта программа Количественного Смягчения, о которой все говорят, это ни что иное как новая Система Миссисипи?
— Разумеется. Собственно поэтому и появились отрицательные процентные ставки. Только благодаря Системе Миссисипи.
— Какая связь? Признаться, я сам никак не могу понять, как такое может быть — отрицательные процентные ставки? Какой смысл класть деньги в банк на депозит и платить за это? Как такое вообще может быть?
— Вот! Это феноменально! Казалось бы, как процентные ставки могут быть отрицательными? Абсурд, да? А вот как. Казначейская облигация — это ни что иное как обещание американского правительства выплатить, скажем, сто долларов через несколько лет. В нормальных условиях казначейские облигации стоят меньше ста долларов. Например, если ты купил их за девяносто один доллар за год до их погашения, то через год предъявишь эту облигацию и взамен получишь сто долларов. Твой доход будет примерно десять процентов. Это и есть процентная ставка — десять процентов годовых.
— Девять долларов против вложенных девяносто одного… Да, приблизительно десять процентов годовых.
— Но сейчас, — продолжил он, — потому что все хотят купить казначейские облигации, цена растет. Сначала люди были готовы платить девяносто шесть долларов, потом девяносто девять. А потом и сто один доллар.
— Больше, чем сто долларов?
— Да.
— Даже если назад они получат лишь сто?
— Именно.
— Это же абсурд! Сегодня ты вкладываешь сто один доллар, чтобы завтра получить сто. Гарантированный убыток!
— Действительно нелогично. И всегда было нелогично, но не сегодня.
— Почему?!
— Потому что ты более не собираешься держать их до погашения. Вместо этого, ты планируешь продать их завтра по еще более высокой цене. Если цена растет, какая разница, сколько ты за неё платишь сегодня? Завтра же ты все равно продашь её дороже.
— Быть этого не может! — воскликнул я, — они что, все слепые? Этого не может быть. Они же не простаки с улицы. Казначейскими облигациями владеют банки и крупные фонды.
— И тем не менее, они тоже люди. Люди принимают решения. И этим людям неважно, чем торговать.
— Невероятно! Казначейские облигации стали сардинами!
— Именно. Их никто не планирует открывать. Это сардины для торговли. Никто более не смотрит на процентные ставки. Даже если они отрицательные. Цена растет, и это всё, что важно.
— Я всегда знал, что государства — это обман. Но чтобы в такой степени! И все это сделано специально, спланировано.
— Ну конечно, Джим. Но в их защиту я могу сказать одну вещь. Они не изобретают эти махинации. Всё уже давно изобретено. Они просто используют шаблон. Это стандартная схема, которой в критической ситуации пользуются практически все. Государства время от времени сталкиваются с одной и той же проблемой — неоправданно завышенных ожиданий в обществе. Когда выпущено слишком много денег и люди смотрят на свои банковские счета и думают, что богаты. Но количество реальных товаров не растет. Так что когда государство берет слишком много в долг и раздает слишком много обещаний, их периодически нужно спускать, стравливать. Для этого нужен спускной клапан. Если покопаться в истории, примеры разбросаны повсюду. Помимо Миссисипи, была компания Южных Морей, МММ и бесчисленное множество более мелких примеров. Это все один и тот же шаблон. Все что нужно, это придумать новое имя. Нынешний назвали Программой Количественного Смягчения, вот и всё. Так что государству нужно лишь создать фантом и убедить людей следовать ему и отдать лишние деньги. И когда фантом исчезнет, с ним исчезнут и завышенные ожидания. И все долги. И тогда можно начинать с чистого листа.
— Или с Французской Революции.
— Не обязательно доводить до крайности. Когда пузырь будет лопаться, нужно стоять от фантома подальше. Нужно сделать вид, что вся эта афера не имела к тебе, государству, никакого отношения. Но если все зайдет слишком далеко, можно назначить козла отпущения, зиц-председателя. Например, дать людям выбрать президентом какого-нибудь заведомого клоуна или проходимца, и потом списать все на него. Ну правда, а чего люди хотели, когда выбирали шарлатана? Вот и пусть и расплачиваются за ошибки. Так что, если элита не будет стоять к этому фантому слишком близко, такой досадной неприятности как Французская революция можно избежать. Это стандартная схема. Все её используют. Просто не надо увлекаться. Надо знать, когда отойти в сторону.
— И как же такой неглупый человек как ты, Фил, оказался вовлечен в эту аферу? Зачем вы отдали американцам триллион долларов?
Спрыгнув с дерева, я начал ходить взад и вперед.
— Потому что мы знали, что они готовят новую Миссисипи.
— Как?! И все равно отдали деньги?
— Конечно.
— А-а! Всё ясно! Ты ожидал, что цена на казначейский облигации поползет вверх и поэтому их купил.
— Можно и так сказать.
— Япония стала торговцем сардин? Вы надеялись, что поскольку первыми разгадали, что американцы готовят Миссисипи, сможете выиграть. Ты знал, что это схема, но все равно вошел в неё. Да ты просто карточный игрок!
— Не спорю. Но, к сожалению, не мы первые это поняли.
— Кто тогда?
— Китайцы. Они вошли до нас.
— Ха! И получили основной куш, когда казначейские облигации поползли вверх?
— Несколько сотен миллиардов долларов. Одна из самых прибыльных сделок в истории.
— И зная всё это, ты все равно вложил в эту схему все сбережения японских пенсионеров.
— У меня не было выбора. Это была самая большая игра в мире. — он вздохнул и поежился, как будто от холода. Впервые его лицо было серьезным, тень добродушной беспечности слетела с него. — На кону триллион долларов и множество жизней, включая мою. Все зависит от ответа на вопрос.
— Какой вопрос?
— Собираются ли китайцы в ближайший месяц продавать казначейские облигации?
— Потому что у них тоже примерно триллион этих облигаций, и если они продадут первыми, ты потеряешь все? Точно так же, как те кредиторы короля в системе Миссисипи, да?
— Примерно так, — процедил он.
— Но почему ты думаешь, что они собираются продавать? Они держат их уже больше десяти лет. Почему сейчас?
— Зоя.
— Что Зоя?
— Из-за Зои.
— Не понимаю… Зои?
— Зоя — это компьютерный вирус. Ты сидишь тут, изолированный от мира, и ничего не знаешь. О, как бы я хотел просто вот так спрятаться как ты, — он вздохнул.
— Расскажи, — я почувствовал, что что-то упустил.
— Сначала она была безобидна. Просто ещё один паразитический код, блуждающий по интернету. Никто бы и не обратил внимания. Но потом она начала заполнять собой место на компьютерах и забивать каналы связи. Она расползается, и очень быстро. Пока паники нет, но она будет, когда люди поймут, кто она такая.
— И кто же она такая?
— Оружие.
— Оружие?
— Мы думаем, что интернет будет полностью закупорен не далее, чем через две недели.
— Тогда ты пришел не по адресу. Я вообще ничего не понимаю в компьютерах.
— Весь мир оказался поражен, — сказал он, — кроме одной страны.
— Китая?!
— Думаем, что Зоя — это их оружие. И если это так, китайцы продадут американские казначейские бумаги.
— Почему?
— Потому что Зоя — это объявление войны. Экономической войны на поражение. Уничтожение всей глобальной финансовой системы.
— В таком случае, какая разница, кто продаст облигации первыми? Если интернет перестанет существовать, финансовые рынки исчезнут. А если вся финансовая система исчезнет через две недели, кого вообще будут волновать американские казначейские бумаги?
— Никого, кроме нас. Ты знаешь, что происходит в Японии, если ты теряешь чужие деньги? Пенсионные сбережения всей нации? Харакири по-прежнему в ходу, Джим. И это очень неприятная процедура, — сказал он, потирая шею.
— Ты серьезно?
— Абсолютно. И в тот же самый день, когда умру я, со мной погибнут тысячи людей. Все друзья и их семьи… Весь мой клан.
— Кто ты, Фил? — спросил я, хотя уже знал ответ. Он расстегнул верх рубашки. Хвост красного дракона обвивал его плечо. Якудза.
Две волны столкнулись, взметнув вверх стрелы белой воды. Спустя мгновение дошел гулкий удар и песок задрожал.
— Фил, ничем не могу помочь.
— Почему? Я же не государство.
— Ты хуже. Те уничтожают людей хотя бы неосознанно. Ты же делаешь это специально. Ты чистое зло, Фил. Ничем не могу помочь. Прощай.
— Хотя бы послушай, что я скажу. Я расшифрую тебе сообщение и…
— Ничем не могу помочь, — повторил я отстраненно. — Прощай.
— И даже Бриджит Клэнси тебя не переубедит?
У меня сперло дыхание. Бриджит…
Бриджит отравила себя сто лет назад, после того как её любовник, и одновременно муж её сестры, погиб под завалами золоторудной шахты неподалеку отсюда, в Чартер Тауэрз. Её могилу, затерянную посреди пустыни, я превратил в банковскую ячейку — под памятником, поставленным её сестрой, хранилось моё золото.
Я уставился на бурлящие волны, не в силах двинуться, пытаясь осознать новую реальность.
Золото у японцев. Теперь я бродяга без единого цента.
— Ты умеешь выбирать советчиков, но мой ответ по-прежнему нет. Уходи.
— Боюсь, тебе все-таки придется помочь нам, Джим. У тебя нет выбора, — сказал он, доставая телефон. Когда он нажал на кнопку, я увидел столь знакомое лицо.
— Папочка?
Тишина, и затем…
Мой левый кулак был нацелен в висок, ногой я готовился нанести удар в тело. Но вдруг я сам очутился на песке, левая рука намертво зажата за спиной. Я не мог пошевелить и пальцем.
— А-ааа! Чего ты хочешь? — прорычал я.
— Ответ. Достань информацию.
— Я достану любую информацию, но ты должен сначала освободить Марию.
— Сразу после того как ты распутаешь наше дело. Извини, другого способа нет.
Пилот с серым, излучающим смерть автоматом узи, встал в десяти шагах напротив. Фил отпустил мою руку.
— Я сделаю… — я приподнялся на коленях, раздавленный и разбитый. — Я сделаю все, что нужно.
— Знал, что могу на тебя положиться, — сказал он спокойно, прислонившись к дереву поодаль. — Правила простые. Ты получишь свою дочь после того, как мы получим ответ на вопрос.
— На какой вопрос?
— Является ли Зоя оружием китайцев? Кто создал её? Готовятся ли они сбрасывать казначейские облигации?
— Столько вопросов!? — воскликнул я в отчаянии.
— Это по сути один и тот же вопрос. Началась ли война?
Я смотрел на него, но теперь передо мной сидел совершенно другой человек. Расслабленность исчезла. Вместо дружелюбного лица была маска белого медведя, на которой не читалось ни единой эмоции. Лицо, не показывающее ничего, кроме решимости и безразличия.
— А если ответ неправильный?
— Тогда Мария умрет, — сказал он, беря сверток, протянутый ему пилотом. Сняв обертку, он бросил содержимое на песок. Боль вывернула меня наизнанку. Передо мной лежала рука с темным рубином цвета крови.
— Нельсон, Нельсон! Прости меня… Прости! — я потянулся к руке, рыдая. — Зачем? За что?! За что ты убил его?
— Зато теперь ты знаешь, что ответ должен быть правильным. Извини, но это было необходимо. Одна жертва, чтобы спасти тысячи. Но не забывай, что, если ты потерпишь неудачу, я погибну. Мы в одной лодке, Джим. И на твоем месте я бы собрался и начал искать ответ. Да, ты потерял Нельсона, но у тебя ещё есть Мария. И каждой минутой, пока ты тут плачешь, ты отнимаешь у неё день жизни. Иди и найди ответ.
— Но как… Как ты узнаешь… Правильный ответ или нет? — я задыхался от безысходности.
— Мы подождем неделю. Если казначейские бумаги упадут на 10 %, значит, китайцы продают. И когда мы получим подтверждение, отпустим Марию.
— А если… он окажется неправильным?
— Тогда, боюсь, ты более её не увидишь. — сказал он равнодушно.
— Это же невозможно!! За что? Почему ты с ней так поступаешь? На такие вопросы невозможно получить точные ответы. В них слишком много неизвестных. Ты опять играешь в игру, и на кону жизнь!
— Вот поэтому нужен ты — слишком много неизвестных. Иди и найди ответ. Распутай это дело. Ведь ты так хорошо это делаешь. Другого пути нет. Прости, но ты и твоя дочь оказались в жерновах этой большой игры. И с этим ничего не поделать. Найди мне ответ. И помни — это честная игра. Ты ошибешься — я тоже умру. Это честная игра.
Он замолчал, наблюдая за мной.
— У тебя три дня, — он посмотрел на часы. — В полдень субботы по токийскому времени Марии не станет.
— Нет! Это невозможно! — закричал я, — это просто физически невозможно! Уйдет целый день, чтобы только выбраться с этого острова. Начинается прилив… Дорога будет затоплена. Это ловушка!
— С собой я тебя взять не могу, прости. Выбирайся сам. У нас нет времени. Зоя уже повсюду. Через неделю всё это уже будет неважно. И поэтому нужен ты. Не знаю, как ты это делаешь, но только ты можешь найти ответ вовремя.
— Не смогу. Никто не сможет.
— Времени осторожничать нет.
— Ууу…, — я взвыл от боли. — Как я найду тебя?
— Отправь ответ по этому номеру, — он бросил на песок квадратный кусок картона.
— Как проверить, что ответ получен?
— Придет подтверждение.
— А… А если номер будет выключен?
— Это триллион долларов и моя жизнь. Он будет включен. Просто отправь ответ.
— Как я могу быть уверен, что ты отпустишь Марию?
— Никак. Но выбора нет. Вот твоё золото — все сто двадцать один килограмм, — он кивнул пилоту, и тот, закинув автомат за спину, начал выгружать деревянные ящики. — И в добавок пятьдесят килограммов на текущие расходы. Этого должно быть достаточно.
Пилот сложил на песке три одинаковых ящика, сел в кабину и запустил двигатели. Фил подошел на несколько шагов.
— Не забудь — суббота, полдень, токийское время. Крайний срок. — он перекрикивал нарастающий гул мотора.
— Будь ты проклят! Будь ты проклят!!
— Да, и еще, — добавил он, спиной отступая к вертолету, — учти, что сообщение существует. История про ДНК — это правда. Оно существует.
— Фил, — я крикнул, когда он уже начал забираться в вертолет. Рукой он прятал глаза от песка, взвивающегося буранами. — А Бог? Он тоже? Тоже существует?
Он что-то выкрикнул, но рокот мотора заглушил слова.
Глава 4
Что делать? А-а-а! Что делать? — причитал я, сидя на коленях, судорожно сжимая карточку обеими руками. Меня трясло. Одна и та же мысль скакала по кругу без остановки. Отчаяние поглотило целиком.
Но слабый голос рассудка стал постепенно пробиваться через завесу паники.
Теряешь время. Соберись. Спрячь номер в надежное место.
Я вскарабкался на ноги, добрался до машины и кривым, дрожащим почерком написал номер телефона на всем, на чем можно писать.
Хорошо. Теперь пульс.
Сердце стучало, вырываясь из груди. Разум загнанной крысой метался из угла в угол, бесконечно прыгая от ярости к отчаянию и обратно, не способен ни на чем сконцентрироваться.
Медленно выдохни. Ещё медленней. Быстро вдохни. Каждый выдох медленнее, чем вдох. Ещё медленней. Ещё. Ещё!
Я практически удушил себя этим старым приемом. Но, как и всегда, он сработал. Теперь, успокоив тело, разум мог взяться за дело.
Самым срочным вопросом был прилив. Менее чем через час эти сто километров песка, камней и оврагов превратятся в океан, станут непроходимыми. Всего час там, где нужно как минимум три. Вдруг я кожей ощутил как остров, превращаясь в осьминога, своими цепкими щупальцами обхватывает меня.
Капкан, это смертельный капкан! Нужно как-то проскочить к парому! Вперед, Джим! Оставшееся продумаешь в дороге.
Я подтащил ящики к машине и забросил их на заднее сиденье. Затем бросился за руль и вдавил педаль газа в пол.
Задача была невыполнима. Это было ясно с самого начала. Но чем больше я о ней думал, тем ещё безнадежнее она казалась. Ещё никто, ни один синтезатор не находил Планка в Китае. А Планк был единственным, кто мог распутать это дело.
Когда Макс Планк обнаружил, что материя и энергия вокруг нас состоит из квантов — иными словами, что они не как вода, которую можно делить бесконечно, а как кирпичи — многие университеты пригласили его провести лекцию о своём открытии.
Почти год он провел в поездках из одного университета в другой, и практически всегда его сопровождал один и тот же шофер. После одной из лекций шофер пошутил, сказав, что он уже столько раз слышал эту лекцию, что и сам мог бы её преподавать. Планк сразу же согласился.
В университете Мюнхена шофер вышел на сцену, представился Планком, и рассказал стандартную речь. После этого он справился со всеми обычными вопросами, ответы на которые он слышал уже не раз. И никто, ровным счетом никто не заметил подмены. Лишь на нестандартном техническом вопросе правда вскрылась.
Есть два типа людей: шоферы и Планки. Шоферы запоминают речи и стандартные вопросы. Они строят связи и знакомства, получают дипломы и сертификаты. Они понимают, что людям свойственно слепо полагаться на бренды, и поэтому шоферы учатся превращать свое имя в бренд. Они знают, как побеждать в бюрократической борьбе. Шоферы создают ученые советы, профсоюзы и всесильные ассоциации. Они умеют говорить уверенно и профессионально, выступая перед публикой с великолепными речами. Они умеют убеждать.
Но они пусты.
Выплыв за буйки, шоферы становятся беспомощны. Способные казаться столь убедительными объясняя прошлое, они ничего не знают о будущем. У них нет понимания. Не зная глубинной сути предмета, они полагаются на запоминание, притворство, имитацию. И ещё они много говорят, создают шум и помехи. Первая задача синтезатора в любом сложном деле — отсеять шум, создаваемый шоферами.
Настоящее понимание есть только у Планков. Они нутром чувствуют суть вещей и могут предсказать будущее. Вторая задача синтезатора — найти Планка.
Но проще сказать, чем сделать. Они редки, реже чем золото. Но даже не в этом дело. Хуже всего, что они прячутся, скрываются. Чтобы выжить, спастись от безжалостного истребления шоферами.
Практически в любом профессиональном сообществе как минимум 99 человек из 100 — шоферы. Ученые, журналисты, архитекторы, финансисты, артисты, инвестиционные аналитики — практически все лишь имитаторы и притворщики. Большинство даже не осознают, что они шарлатаны. Шоферы прячут эту горькую правду в первую очередь от самих себя. В конце концов, кому нравится чувствовать собственную никчемность?
Шоферам комфортно среди подобных, таких же как они. Но если вдруг появляется Планк, сразу становится понятно — кто есть кто. И поэтому шоферы мгновенно, рефлекторно на него нападают, пытаются перегрызть горло. Любое профессиональное сообщество первым делом искореняет Планков, и поэтому это последнее место, где синтезатор должен их искать.
Планки неуловимы. Как редкий вид на грани исчезновения, они прячутся, стараясь не появляться на радарах. Работая независимо, в тени, они невидимы для окружающего мира. Они античастицы человеческого мира, живущие в своей, параллельной реальности.
У каждого синтезатора свой способ поиска Планков. И каждый держит его в тайне как зеницу ока. У меня был радар Планка — система распознавания человеческих античастиц. Копаясь в потоке информации, она их находила, отфильтровывая в бескрайнем море шоферов. И так я распутывал дела.
Но чего я не мог сделать, как бы ни старался, это найти Планка в Китае. Поднебесная оставалась терра инкогнита, Эверестом мира Планков. Китайские Планки — это уже не просто античастица. Они что-то другое, принципиально неуловимое, как бозоны Хигса — ты чувствуешь, что они существуют, но они все время ускользают, не оставляя следа.
Как найти Планка за три дня там, где не смог это сделать за десять лет?
Прилив упорно и беспощадно приближался. Каждая волна слизывала новый кусок сухого песка, тесня машину к скалам и булыжникам. Океан загонял меня как волка загоняет свора собак, оставляя все меньше места для маневра. Но я старался не думать о том, на что не мог повлиять.
Удар! Машину подбросило, и в свободном падении я вцепился в руль. Всем весом железа передние колоса рухнули на песчаную дюну, издав глухой, утробный скрежет. Я рывком переключился на пониженную передачу, но было поздно. Машина встала и колёса начали вращаться впустую, лишь беспомощно завывая. Заглушив двигатель, я выскочил и обежал вокруг, пытаясь оценить ущерб.
— Дьявол!
Машина сидела на брюхе, в самом центре песчаной ловушки, прямо на пути прилива. С каждой волной вода подползала все ближе и ближе. Через десять минут, не более, онабудет здесь. И как только первая волна коснется колеса, пиши пропало. Железо уйдет в песок, а я застряну здесь. Навсегда.
Ждать помощь было неоткуда. Понимая всю тщетность надежды, я всё же судорожно оглянулся. Бескрайность пустыни давила, как будто из неё выкачали весь воздух, делая всё вокруг столь незначительным и безнадежным. Лишь бурлящая пена прибоя поглощала белёсый песок, подкрадываясь все ближе и ближе. Человека не существовало. На этой планете я был один.
Вдруг мышцы начали деревенеть. Первобытный страх, страх полной беспомощности сковывал. Не отдавая себе отчет, я забрался в машину и взвыл, как попавший в капкан зверь.
— Пап, я знаю, что страшно, — голос Марии вдруг возник внезапно, из ниоткуда. — Не сдавайся. Это твоё задание. Найди способ.
Никогда ранее Мария не говорила со мной так, напрямую. Но её голоса оказалось достаточно, чтобы вывести разум из пике. Способность мыслить постепенно вернулась.
Ты тратишь время напрасно. Время, которого у тебя нет. Вставай, Джим! Заставь себя. Найди способ.
Я выхватил из багажника лопату и бросился к колесу, ближнему к воде. Лопата вгрызалась, рывок за рывком отбрасывая сухой песок в сторону. Но так просто отдавать свою добычу дюна не хотела — песок каждый раз срывался, снова наполовину заполняя яму. Скоро стало ясно, что вызволить колеса из плена до прилива никак не успеть. Песок поглотил их целиком, съел без остатка. Я не смел обернуться, но соленые капельки воды уже оседали на моих губах.
Все пропало.
Думай. Думай быстро! Я изо всех сил укусил себя за кулак. Всплеск боли перекрыл отчаяние и на секунду вернул ясность мысли. Нужна какая-то поддержка, плоскость, чтобы подложить под колеса.
Я быстро осмотрелся, но вокруг не было ничего, решительно ничего. Ни дерева, ни коряги, ни подходящих камней. Я был посередине белой дюны. Лишь вдалеке, в раскаленном воздухе миражом мерцали истертые ветром валуны. Ни один из них не был так близко, чтобы пытаться дотянуть лебедку.
За мгновение до того как отчаяние снова поглотило меня, взгляд уперся в три деревянные ящика, штабелем сложенные на заднем сиденье. Распахнув дверь и уперевшись ногой в сиденье, я вытащил верхний. Он впился в песок, наполовину в него зарывшись. Блестящие слитки внутри лежали рядами, переложенные тканью из шерсти. Тонкие, как плитки шоколада, контрабандные слитки из Гонконга переливались изящными драконами и иероглифами. Между ними вразнобой лежали чуть красноватые, грубые как эксперимент какого-то неряшливого пекаря, кирпичики с печатью Банка Австралии. Все они были маленькие, не более нескольких килограммов каждый, некоторые завернуты в тряпки. Лишь сбоку особняком лежал массивный кирпич. Японское золото.
Я оглядел ящик, но только дно было достаточно большим. На нем гвоздями были прибиты поперечные доски — идеальная опора. Схватившись за торчащий угол, я опрокинул ящик и слитки посыпались, сгрудившись в пирамиду. Нескольких ударов коленом оказалось достаточным, чтобы выломать днище, и скоро у меня в руках были все три доски.
И тут я подпрыгнул. Волна нахлынула сзади, обволокла золотую пирамиду. На глазах слитки стали один за другим исчезать в мокром песке, словно масло на раскаленной сковородке. Я рванулся к машине и начал ногой судорожно вбивать доски вертикально, прямо перед самыми колесами. И в тот момент, когда у меня почти получилось впихнуть последнюю, третью доску, необъяснимый ужас вдруг охватил меня.
Не так. Что-то не так!
Я замер, как вдруг страшная догадка осенила меня. Исчез звук прибоя. Тишина резала слух. Как в замедленной съёмке, я поднял взгляд, словно боясь увидеть то, о чем я и так уже знал.
Впереди, метрах в пятидесяти от берега, нависала тень гигантской волны, готовящейся обрушиться прямо на машину. Это была та самая, одна из тысячи, которую ждут все серфингисты. Волна, поглощающая все на своем пути.
Рефлекторно, каким-то одним, немыслимым скачком я бросился за руль, одновременно левой рукой заводя двигатель. Надавив на педаль газа, почувствовал, как передние колёса, скуля, отчаянно пытались схватиться за доски. Взвыв, как раненое животное в последней попытке спастись, машина начала вытягивать себя из песчаной ловушки.
Волна пришла мгновение спустя. С шипением разъярённой змеи она покрыла все вокруг.
Удар на мгновение высвободил колеса из песчаного плена и по инерции они дотянулись до сухой полосы. Почувствовав опору, двигатель взревел, и машина начала набирать скорость. В боковом зеркале волна захватывала весь пляж без остатка. Сзади кипел суп из пара, пузырей воздуха и водорослей. И в самом его центре остатки золотой пирамиды уходили в песок. Навечно. Но остановиться означало умереть. Остров не даст второго шанса.
Выдыхай. Медленней, ещё медленней. Выдыхай.
Пульс ударами молота стучал в голове, тело тряслось от лошадиной дозы адреналина.
Солнце лишь подползало к зениту, когда с одним пробитым колесом я влетел на южную часть острова. Впереди раскинулся залив, прикрываемый от прибоя отмелью. Моё сухое, забитое песком горло смогло лишь что-то промычать, когда по другую сторону холма показалась баржа, подбирающаяся к причалу.
Успел!
Когда наконец машина оказалась на твердой поверхности парковки причала, я попытался перевести дыхание. С усилием я оторвал вцепившиеся в руль руки и заглушил мотор. Звенящая тишина оглушила. Парковка была пуста.
Впереди ярким пятном маячила голова паромщика. Высунувшись из окна, он пытался оценить расстояние до заросших ракушками полусгнивших деревянных столбов причала. Локтем распахнув дверь, я выпал из машины. Затекшие плечи дрожали, пальцы впивались в серый асфальт, как бы не веря в то, что он не рассыплется под моим весом. Телонаслаждалось твердой поверхности под собой.
Паром наконец пристал, и по шаткому трапу я загнал машину внутрь. Чуть погодя огромный механизм дернулся и начал гулко вибрировать. В иллюминаторе пустынный песчаный берег исчезал вдали, покрытые зеленью холмы растворялись в дымке. Я обернулся и посмотрел на машину. Перекошенная, со спущенным колесом, одна в центре пустого трюма она казалась всеми забытой жертвой кораблекрушения.
Доставая домкрат, я пытался собраться с мыслями. Нужен был план действий.
Как синтезировать информацию о Китае без китайского Планка? Без проверенных данных? Если все что есть — это шум, создаваемый шоферами? За три дня?
И без денег. — вдруг понял я.
Я распахнул заднюю дверь и в сумраке обшарил салон. В складках между сиденьями рука нащупала мягкий металл. Один слиток каким-то образом упал за сиденье, наверное, когда я разбивал ящики. Всего один килограмм — около пятидесяти тысяч долларов. Практически ничего.
Остается лишь одно.
Перепрыгнув на переднее сиденье, я достал из бардачка и включил мобильный телефон. Он озарился мягким синим светом.
Сигнала не было.
Выбежав наружу, я зашел в отсек управления.
— Эй, шкипер, друг!
— Привет! Чего случилось?
— Можно позвонить с твоего телефона?
— Дружище, мобильные не работают. Ничего не работает. Все ходят звонить на заправку.
— Заправку?
— Эксон. Ну ту, что в Рэйнбоу Бич, знаешь? У них обычный телефон, проводной.
Полчаса спустя я ворвался в деревню. Она приютилась на самом берегу, посреди бескрайнего эвкалиптового леса. Заправка, больше похожая на магазин тысячи мелочей, гудела как улей. Столкнувшись с толпой людей, я быстро отбросил колебания и, приняв извиняющееся выражение лица, начал локтями пробиваться через длинную очередь шумных и раздраженных европейских туристов. В основании очереди обнаружилась дама в безмерном кашне, сидящая в закутке с трубкой в руке. Отчаянно жестикулируя, она пыталасьперекричать толпу, то тут то там вставляя «мердэ».
Полное недоумение проступило на её лице, когда, смотря ей прямо в глаза, я разъединил телефон. Не веря в происходящее, она даже не пыталась сопротивляться. Плавным движением я забрал из её руки трубку и оттеснил в сторону. Времени для вежливости не было.
В трубке раздался громкий и отчетливый гудок, сделав волну возмущения и ярости вокруг лишь не относящимся к делу шумом. Коленом я заблокировал вход в закуток, держа разъяренную толпу на безопасном расстоянии от шнура телефона, и набрал хорошо знакомый номер.
— Эйдан, — прокричал я.
— Джим, как я надеялся, что ты позвонишь сегодня. — услышал я слабый и дрожащий голос где-то вдалеке.
— Чрезвычайная ситуация. Нужна твоя помощь.
— Скажи, чем могу помочь. — сквозь треск он был еле слышен.
— Нужен Планк в Китае. Прямо сейчас. Сегодня.
— Невозможно, — сказал Эйдан через некоторое время. — Ты знаешь это лучше, чем я.
— Они похитили Марию и убили Нельсона. Мне нужен китайский Планк, чтобы спасти Марию.
Повисла пауза.
— В какой области? — его голос стал распадаться на куски, как если бы каждое слово давалось с невероятным усилием.
— Экономика, политика, — ответил я.
— Приезжай, — сказал он после молчания длиною в жизнь. — Где ты?
— На Фрейзер Айланде.
— Полночь, сегодня. В Сиднее. В нашем месте. Успеешь?
— Да.
— Джим, Планк будет. Но ты должен поторопиться. Время кончается.
— Выезжаю.
Я повесил трубку.
Пробраться через беснующуюся толпу наружу стоило нескольких ссадин. Повернув за угол, я без сил сполз прямо на бордюр. Всё налилось опустошающей легкостью, как после бесконечного подъема к горному перевалу, когда наконец сброшены впивающиеся в плечи рюкзаки.
Планк. У меня есть Планк!
Но легкость длилась недолго. Был нужен бензин, а мои шансы заправиться здесь были нулевыми. Я собрался с силами и огляделся.
Грузный бородач в широкополой шляпе цвета хаки прятался в тени, облокотившись на тележку с моторной лодкой. На крыше внедорожника, к которому тележка была прикреплена, в ряд стояли красные пластиковые канистры, полные бензина. Пять сотенных купюр убедили бородача расстаться с двумя из них.
Забравшись в машину, я снял с руки часы и установил таймер. Кровавые цифры пульсировали как живые:
2 дня, 20 часов, 15 минут.
Я выдохнул и нажал на педаль газа. Пробираясь через лес, насквозь пролетая пустынные деревушки, я рвался к шоссе.
Тысяча двести километров. Значит, смогу быть в Сиднее к десяти вечера. Если все пойдет по плану.
Едва я нырнул в съезд на шоссе, план разлетелся в щепки. Я попал в вязкий, тягучий как патока, поток. Шоссе, обычно пустынное, было забито. То тут, то там приходилось объезжать пустые машины, оставленные прямо на дороге. Измотанные люди с чемоданами, рюкзаками и просто магазинными пакетами брели по обочине.
Нужен новый план. Так ни за что не добраться к полуночи.
Слева показался сервисный центр, и я свернул. Ветер перекатывал мусор по дороге, хлопала разбитая дверь Макдональдса. Медленно продвигаясь по парковке в поисках цели, левой рукой я одновременно пытался засунуть в рюкзак канистру с бензином и золотой слиток. Скоро я увидел то, что искал — одиночного байкера. Припарковавшись рядом и выйдя из машины, я потянулся, всем своим видом излучая дружелюбность.
— Дружище, что за день! — задал я непринужденный тон беседы.
— Да уж, — ответил он, посмотрев на меня без какой-либо опаски.
Оглядевшись в поиске свидетелей и увидев, что никому до нас решительно нет никакого дела, я решил действовать.
— А что за байк?
Я подошел поближе, стараясь выглядеть как мотоциклист-любитель.
— Четыреста пятидесятая Ямаха, — ответил он с некоторой гордостью, держа шлем обоими руками. — Сделана под…
Короткий хук в подбородок оборвал его на полуслове. В самый последний момент я успел подхватить падающее тело, пока шлем с пустым звуком катился в сторону. Он оказался тяжелее, чем я думал, и его тело долго не хотело помещаться на заднем сиденье. Когда все таки удалось его утрамбовать, меня вдруг ужалил приступ вины. И был подавлен так же быстро, как и возник-этот байк был единственным способом успеть в Сидней к полуночи. Перед тем как захлопнуть дверь, я отвернул его голову в сторону, чтобы он не задохнулся.
Мотоцикл оказался оглушающим, шатким внедорожным монстром, сделанным скорее для гонок по песчаным дюнам, нежели поездкам по хайвэям. Но сейчас это было именно то, что нужно. Проверив бензобак и поправив канистру у меня за спиной, я выжал ручку газа. Раздался грохот метеорита, входящего в верхние слои атмосферы, и вывеска Макдональдса в боковом зеркале растворилась без следа.
Я держался обочины, рычанием мотора разгоняя зазевавшихся людей. По мере приближения к городу пробиваться вперед становилось всё труднее. Стали попадаться выгоревшие каркасы автомобилей с вещами, в беспорядке раскиданными вокруг. То тут то там гарь и столбы удушающего дыма застилали дорогу. Однажды пришлось остановиться, когда дорогу загородила растрепанная женщина, пытавшаяся толкать набитую туалетной бумагой и банками с детским питанием магазинную тележку. Отчаянно кричащий младенец, ослепленный светом фар, беспомощно болтался в корзине за спиной. Почти там же, лишь несколько километров спустя, я едва не переехал двух подростков, возникших прямо из темноты с гигантским телевизором в руках, все еще в упаковке.
До полуночи ещё оставалось пятнадцать минут, когда, наконец, шоссе вышло прямо на мост. Город внизу был объят темнотой. Лишь слева, где-то под мостом, бликами играло пламя. Горела Опера. Всплески огней вырывались из раковин, как если бы какой-то древний вулкан, проснувшись, извергался прямо в черную воду залива. Но я уже давно перестал обращать внимания на происходящее вокруг, и лишь до упора выжал ручку акселератора.
Ровно в полночь, бросив байк у деревянной ограды Довер Хайтс, я уже был у знакомой скамейке у самого обрыва над океаном.
Он был там, как и всегда.
— Эйдан, — сказал я, переведя дыхание.
— Джим.
Он посмотрел на меня, не поворачивая головы. Под его носом в свете луны блеснула пластиковая трубка.
— Что случилось, Эйдан? — я схватил его левую руку, пытаясь вглядеться в его глаза.
— Мне нравился Нельсон. Я знаю, что он был твоим хорошим другом. — Эйдан оставил вопрос без внимания. — Мария?
— Якудза взяли её в заложники.
— В обмен на китайское дело?
Я кивнул.
— Понятно. — он закрыл глаза и шумно вздохнул.
— Что случилось? — снова спросил я.
— Я надеялся, что ты объявишься сегодня. — его голос был слабым, еле различимым. На нем был старый красный свитер со странным черным рисунком, напоминающим карточный знак пик, упавший на бок.
— Почему?… — я задрожал.
— Я хотел попрощаться. Сегодня мой последний день.
— Нет, пожалуйста! — я закричал, соскользнув на землю, и схватился за его колено. — Нет, нееет…
— Боюсь, что это так, Джим. Этот кислород, — он кивнул в сторону баллона рядом с ним, — только благодаря ему я еще могу дышать. Моё время пришло.
— Но почему?!
— Мне девяносто пять, Джим. В битве со временем мы все побежденные. — он закрыл глаза и сипло вдохнул. — Ты помнишь этот свитер? Он был твоим.
— Ты дал мне его, когда мы впервые встретились. Здесь, на этой самой скамейке. Я только сбежал из детского дома и замерзал, не зная куда идти.
— Тридцать лет тому назад, — прошептал Эйдан, посмотрев вверх на звезды. — Теперь, когда я стал таким худым, он мне даже впору. Возьми его, он твой.
— Эйдан, не бросай меня, пожалуйста. Ты научил меня всему, что знаю. Ты подобрал меня, потерянного щенка, и сделал из меня то, что я есть.
— Это хорошее прощание, — он попытался улыбнуться, но помешала трубка.
— Эйдан… — я посмотрел ему в лицо.
— Не будем терять времени, — он прервал меня. — Я хорошо знаю тебя и то, что ты хочешь сказать. Нет нужды тратить слова понапрасну. Расскажи мне о деле.
Вышедшая из-за облака полная луна озарила его лицо. Мокрые глаза блестели, пока я рассказывал произошедшее.
— Всё понятно, — кивнул он, когда я закончил. Он выслушал всю историю молча, задав лишь несколько вопросов о Филе, его реакции и выражениях лица. Когда я рассказывал о Нельсоне, он начал растирать свой лоб, скрывая слезы.
— Фил не маньяк. Он мыслит рационально и не хочет превратить тебя в кровного мстителя. Он отпустит Марию после того, как получит свой ответ. Это хорошие новости, если можно так сказать.
Он задумался, смотря на мерцающие звезды. Долгое время тишину нарушало лишь шипение кислорода.
— Я встретил его в семьдесят втором, в Пекине, — сказал он внезапно.
— Кого?
— Ли. Китайского Планка.
— Как?! — воскликнул я.
— Я был тогда с Никсоном, а Ли встречал нас.
— Как? Как ты узнал, что он Планк?
— Его глаза. В них было что-то такое, чего я никогда не видел. Ни до, ни после. Бездонный, черный колодец. Всепоглощающая глубина. Сначала это была лишь интуиция, ведь яничего о нем не знал. Боялся, что это окажется простым оптическим обманом, иллюзией. Но нет, не оказалось. Всего один раз я переговорил с ним один на один. Он сказал не более ста слов, но в каждой его фразе было больше смысла, чем в иной книге. Он — Планк, я знаю наверняка. У Ли есть оно.
— Понимание?
Эйдан еле заметно кивнул.
— Он ещё жив?
— Возможно.
— Как мне найти его? — спросил я.
— Вот все, что тебе понадобится. — его рука дернулась влево, и я заметил папку, лежащую сбоку. — Ли практически невидим. Последний раз появлялся в восемьдесят девятом. Но я чувствую, что он по-прежнему где-то рядом.
— Как? Откуда ты знаешь?
— Каждое субботнее утро его сестра приходит в парк в Нанкине. Там она встречается со своей дочерью Тьао, школьным учителем. Они сидят, разговаривают, держатся за руки, пока Тьяо не приходит пора идти в школу. Это происходит каждую субботу на протяжении последних шестидесяти лет, несмотря ни на что. Его сестра по-прежнему там. Она — единственное связующее звено с Ли. Если ты найдешь её, найдешь Ли.
— В субботу утром? — мой голос охрип.
— В семь утра.
— Мария умрет в полдень субботы по токийскому времени. В одиннадцать по Нанкину, — я сказал в отчаянии.
— Значит у тебя будет четыре часа на то, чтобы синтезировать и отправить ответ.
— Что, если у Ли не будет ответа?
— Если у Ли нет ответа, ни у кого нет. Ли — это единственный рациональный способ спасти Марию.
— А что, если он больше не в Нанкине?
— Он там. Я чувствую.
— Почему? — спросил я.
— Потому что он и его сестра не могут покинуть город.
— Почему?
— Потому что Тьяо не может покинуть его.
— А почему не может она?
— Потому что это то место, где она умерла пятьдесят лет назад.
— Как?! Разве…
— Сестра Ли так и не поняла это. Для неё Тьяо, её единственный ребенок, по-прежнему жива. Каждую субботу в семь утра они встречаются. — Эйдан посмотрел на лунную дорожку по поверхности океана и вздохнул. — Ли там. Иди и найди его.
Он ещё раз вздохнул и сжал мою руку.
— И ещё. Тебе понадобится Джулия. Она будет ждать тебя.
— Кто такая Джулия?
— Мой Планк в вирусологии…
Он начал говорить отрывисто, кусками.
— Не более трех человек знают о её существовании… Поможет понять Зою. Будет ждать тебя завтра в шесть… вечера в ресторане гостиницы Хенде во Владивостоке. Возьми… мой самолет. Он готов. К полудню ты будешь во Владивостоке, и у тебя останется целый день, чтобы… добраться до Нанкина.
Он замолчал. Затем резко выпрямился и откинулся на спинку скамейки.
— Не волнуйся, мне не больно. Прости, что приходится… оставлять тебя на полпути, Джим. Но оставшуюся часть тебе придется пройти одному… Не надо грустить… обо мне. Тут не о чем сожалеть. Я умираю счастливым. Моя жизнь прожита… хорошо.
Я поднял голову и посмотрел на него. Он улыбался.
— Счастливый? — я затряс головой.
— Я провел жизнь… среди людей, которых любил. И провел её за интересным делом… в поиске таких как ты. Ты бы знал, как это… радует сейчас. Как бы я хотел, чтобы ты почувствовал, как я счастлив! И всегда был, с того самого момента… когда узнал.
— Узнал? Что ты узнал?
— Что моя душа… благородна. Я не говорил тебе… раньше, потому что чтобы понять, нужно быть готовым.
— Это и есть твой третий ингредиент?
— О, да… Третий ингредиент человеческой природы.
— Так ты их искал? Своих Планков? Это твой секрет?
— Первые два ингредиента ты… знаешь.
— Энергия и интеллект.
— Всё сводится к трем ингредиентам… Об энергии и… интеллекте… я знал всегда. Но мне… понадобилась почти вся жизнь, чтобы понять третий… благородную душу, — сказал он, скрестив перед собой руки и сжимая свитер. — Как сказал Ницше… у благородной души есть какая-то… глубинная уверенность в себе… Что-то, что нельзя приобрести, или даже, возможно… потерять. Благородство… существует само по себе. Оно либо есть, либо нет. Это фундаментальное свойство… И о нем можно лишь узнать.
— Что это значит?
— Все Планки благородны… По-другому… не бывает.
— Все равно не понимаю, — сказал я тихо.
— Не думаю, что это… можно объяснить. Но ты скоро сам… найдешь… я знаю. И тогда сразу все поймешь. Момент, когда я… нашел в себе благородную душу, был счастьем. И онодлится с тех пор. Она объяснила все… мои поступки в прошлом. Впервые понял, почему делал то… то, что делал. Всю жизнь… я не мог объяснить это сам себе. Но потом… потом я узнал. За всем, абсолютно всем, что я делал… была она. И как только я понял, перестал о чем-либо волноваться… Бояться… Я успокоился. Глубоко внутри я стал счастливым. — Он закрыл глаза и добавил шепотом. — Единственный способ понять, что… такое… благородная душа… — это найти её в себе. Нужно… найти… её в себе. И как только найдешь, станешь счастлив, Джим… Навсегда…
Это были его последние слова.
* * *
Пилот ждал в баре терминала. Вокруг бесцельно метались люди. Табло вылетов и прилетов пестрело красным. Паника проникла уже и сюда. Персонал ещё был на месте, по инерции, но предчувствие скорого коллапса уже висело в воздухе.
Нужно выбираться отсюда. Пока всё не посыпалось…
— Дружище, я бы предложил тебе кофе, но он закончился. Тут вообще ничего нет, даже печенья. — сказал он, протянув мне бутылку воды. У него была улыбка человека, не знающего тревог и волнений. — Я и топливо-то еле нашел.
— Зоя?
— По крайней мере так говорят.
— Тогда вперед. У нас мало времени. Сначала во Владивосток, потом в Нанкин.
— Не понял. Разве мы не летим в Тофино?
— Тофино?
— Ну да, Канада. Самое большое научное открытие столетия.
— Открытие столетия? — переспросил я. Его слова доносились до меня с гулким эхом, как в пещере.
— Эйдан говорил, что мы летим в Тофино, на конференцию о главном научном открытии столетия. Разве мы не туда? Слышал, все его друзья летят. Там же будут все.
— С этим придется подождать. Нам во Владивосток. Нужно быть там не позже четырех вечера. — я открыл бутылку и сделал несколько глотков, внезапно почувствовавнестерпимую жажду.
Пятнадцать минут спустя мы оторвались от земли и взяли курс на север. Сжавшись на диване и обхватив колени, я рыдал про себя. Внизу багровые огни пожаров подсвечивали темные здания-призраки. Город в огне провалился в никуда.
Глава 5
Вспыхнул и отчаянно заморгал датчик аварийного остатка топлива.
— Владивосток-контрол. Владивосток-контрол. Это ББД-115. Экстренная посадка. Топливо на нуле, освободите полосу, — сухо сказал пилот.
Тайфун заставил нас сделать широкую петлю и пилот сначала умолял, а затем требовал, чтобы мы дозаправились в промежуточном аэропорте в Японии. И лишь когда я сказал, что по прибытию в Нанкин самолет станет его, он взял в руки калькулятор. Он долго что-то рассчитывал столбиком в блокноте, постоянно поглядывая на топливомер, и в итоге бросил: «Когда мы рухнем, это будет целиком на твоей совести».
Я сидел в кресле второго пилота, стараясь никак не проявлять себя. Панель приборов мерцала как целый оркестр лампочек и датчиков. Всем дирижировал, целиком подчиняя своей воле, полыхающий индикатор топлива в центре панели. Вдруг раздался настойчивый писк, и пилот резко выбросил руку вверх, щелкнув каким-то переключателем. Это заставило прибор замолчать. Но почти сразу же замигал ещё один сигнал, затем другой. Пилот перестал обращать внимания на какофонию, и лишь всматривался в серую пелену вокруг.
— Система навигации отключилась, пропали спутники. GPS не работает. Нулевая видимость. Мы летим на последних каплях топлива. И я понятия не имею, где мы. Это конец, — впервые за последний час он посмотрел на меня. В его глазах была смесь отчаяния и укора.
И в этот самый момент под нами, прямо по курсу, облачность расступилась и через дымку тумана проступили оранжевые огни взлетно-посадочной полосы. Схватившись за штурвал, он бросил самолет вниз. Машина взвыла и земля стала стремительно приближаться. У меня заложило уши. Звуки стали доноситься как через глухой туман. В последний момент, перед самым ударом, я судорожно вцепился в подлокотники и зажмурился.
Упав почти на самый конец полосы, самолет отскочил от бетона, накренился и несколько раз подпрыгнул, крылом чиркнув стремительно несущуюся навстречу землю. Под вой двигателей и визг тормозов мы повисли на ремнях безопасности. Запах жженой резины заполнил кабину. Я не мог оторвать глаз от неумолимо приближающегося конца полосы, когда в самый последний момент пилот отвернул штурвал и самолет, скрипя каждой деталью, свернул влево. Проехав по каким-то шлангам и сбив несколько указателей, мынаконец замерли прямо напротив входа в терминал. Со всех сторон к нам уже неслись, перемигиваясь красно-синими огнями, пожарные машины. Пилот не двигался, в ступореуставившись прямо перед собой. Выдохнув, я посмотрел на таймер.
1 день, 19 часов, 52 минуты.
И менее часа до встречи. Будет ли Джулия ждать?
Оставив пилота отвечать на вопросы разгневанных людей в форме, я сбежал с трапа и бросился вверх по металлической лестнице, смешавшись с толпой людей, выходящих из Боинга, стоявшего по соседству. Просочившись через очередь, с паспортом в руке я переминался с ноги на ногу перед стойкой контроля, одновременно стараясь привести волосы в порядок, чтобы хоть как-то быть похожим на фотографию. Эффектная блондинка в синей блузке с погонами, сурово окинув меня взглядом, немного задумалась, но все же поставила штамп и открыла дверцу.
Пробежав насквозь зону получения багажа, я сразу же очутился в толпе таксистов, разгоряченных в поисках жертвы. Отбившись от натиска, я огляделся и подошел к скромно стоящему в стороне человеку в потрепанной кожаной куртке с лаконичной табличкой «Такси» в руках.
— Хендэ? — спросил я. Джулия ждала меня в Хендэ, единственной гостинице города.
— Две тысячи, — радостно кивнул он, показав два пальца.
— Сто долларов, если довезешь за полчаса.
Пока машина ставила рекорды скорости, я бросал взгляды по сторонам, пытаясь разглядеть признаки надвигающегося катаклизма. Мимо проплывали заброшенные заводы и низкие, серые дома, хаотично разбросанные по берегам залива. Из труб валил сизый дым, обволакивающий холмы еле уловимой дымкой. В воздухе стоял запах угля.
Торопить водителя не имело смысла. Он умело маневрировал в сумбурном, практически броуновском потоке, лихо обходя скопления машин по обочине. Перед ним на лобовом стекле висел телефон, отчаянно подпрыгивающий каждый раз, когда машина попадала в дорожную яму. Вдруг экран ожил и на нем высветилось новое сообщение. Работающий телефон! — внезапно осознал я.
— Зоя? — спросил я.
— Что Зоя? — недоуменно переспросил водитель.
Здесь еще не слышали о Зое.
Действительно, жизнь за окном шла своим будничным чередом — люди после работы терпеливо сгрудились на остановке. Пешеходы деловито перебегали дорогу.
Уже были видны огни гостиницы, призывно светящиеся с вершины холма, когда мы очутились в глухой пробке. Водитель было беспомощно развел руками, но, увидев три стодолларовые купюры на приборной доске, резко вывернул на встречную полосу и повел машину вверх по холму, уворачиваясь от ослепляющего света встречных фар.
Через две минуты я, толкая вращающуюся дверь, ворвался в лобби и оглянулся. Справа зиял провал — мраморная лестница полукругом спускалась в подвал. Через три ступеньки я сбежал вниз. Двери ресторана с корейскими иероглифами были призывно открыты. Над ними часы с вытянутым циферблатом показывали всего несколько минут после шести.
Почти успел!
1 день, 18 часов, 56 минут.
Джулия смотрела на меня в упор. Она сидела за столиком в углу как леопард: расслабленная, но готовая к прыжку. В тонкой руке был наполовину пустой бокал вина, отбрасывающий багровые блики. Тонкий браслет змейкой обвивающий запястье был её единственным украшением.
— Джималоун, — сказала она, как если бы это было продолжение разговора, прерванного минуту назад. — так почему ты один?
От неожиданности я растерялся и оглянулся назад, будто ища поддержки. Несмотря на вечер, ресторан был пуст. Лишь силуэт официанта угадывался за ширмой у входа. Джулия еле заметно улыбнулась и глазами указала на стул перед собой. Стол был сервирован на двоих. Да, Планки действительно не тратят время на пустые приветствия.
— Джулия, думаю, тот же вопрос можно задать тебе, — ответил я, усаживаясь и переводя дыхание.
— И почему? Как ты узнал? — сказала она нарочито скучающим голосом.
— Ты похожа на одинокую кошку. Им обычно никто не нужен. Они сами по себе. Так же, как я.
— Возможно. Если только это не кошка, которая ждет своего героя, — она слегка вытянула руку, чтобы беззвучно возникший официант смог наполнить её бокал. — Ждет двадцать лет, и не устала ждать.
Её ногти блестели, переливаясь в цвет темных глаз.
— Джим, существуют ли герои? — она задумалась, вглядываясь в блики света в бокале. — Встречал ли ты таких?
— Я встречаю много странных людей.
Мое сердцебиение наконец-то пришло в норму. Незаметно я осмотрелся — от основного помещения нас отделяла прозрачная бамбуковая стена.
— Мужчины настолько глупы, Джим. Их интересы сводятся к выпивке, футболу, и бессмысленным дракам. Не более чем пустышки, предназначенные лишь охотиться и размножаться — вот они кто… Абсолютно бесполезны в чем бы то ни было другом. О чем с ними говорить наедине? Машины, погода, работа и «угадай, что сегодня показали по телевизору»? Джим, кто эти карлики? Что случилось с гигантами? Ведь они же когда-то были, да? Должны были быть. Где герои? Что с ними случилось?
— Гм, — я прокашлялся, неловко пожал плечами и пробормотал что-то невнятное.
— Вот так-то. — кивнула она. — Видимо, это наша участь. Выбирающие должны быть умнее выбираемых. Закон природы. Эта та цена, которую нам пришлось заплатить за интеллект.
— Выбираемых? Участь? — я спросил, чувствуя, что что-то упустил.
— Женская участь. Потому что мы выбираем вас. Женщины выбирают мужчин. Половой отбор в действии.
— Половой отбор? Не понимаю, — произнес я несколько пришибленно, сбитый с толку.
— А что тут понимать? Скажи, зачем самцам павлинов такой длинный хвост? — сказала она и добавила, заметив в моих глазах недоумение. — Не волнуйся, ты увидишь, к чему я клоню.
— Ну, не знаю. Точно не для поисков еды или пряток от хищников.
— Даже наоборот! Это же так усложняет жизнь самцов! Скажи, как выжить в джунглях с двухметровым хвостом?
Официант еле слышно прошел рядом и скрылся за ширмой.
— И зачем же он им нужен?
— Когда-то давно у всех были обычные, короткие хвосты. Но несколько самок павлинов стали выбирать самцов по длине хвоста. Они предпочитали тех, у кого хвост был чуть длиннее.
— Зачем? — спросил я.
— Кто знает. Может быть в начале чуть более длинный хвост каким-то образом помогал выжить. Или может это просто был знак хорошего здоровья. Кто знает. Скажи, почему современные мужчины предпочитают женщин с длинными, стройными ногами? Почему мы вынуждены мучать себя высокими каблуками? — она слегка высунула из-за угла стола и поиграла своим стилетто из кожи крокодила.
Настоящая кожа.
— Кто знает? Эстетика?
— Именно. Кто знает? Какая бы ни была причина, это дало самцами с чуть более длинными хвостами больше возможностей размножаться. У них было больше потомства.
— И их потомство несло в себе гены длинных хвостов?
— Не только. Они так же несли в себе гены самок, предпочитающих более длинные хвосты. Если ты павлин с длинным хвостом, то скорее всего не только у твоего отца были гены длинного хвоста, но у твоей матери был ген предпочтения длинного хвоста. Предпочтения, Джим! — Джулия поправила прическу. — Собственно из-за этого она и выбрала твоего отца. И поэтому очень возможно, что не только ген длинного хвоста, но и ген его предпочтения, передались и тебе. Они скрытно заложены в твоем ДНК. И поэтому твои дочери будут искать самцов с длинными хвостами. Вполне вероятно, что одна из них с особо сильным предпочтением выберет самца с даже ещё более длинным хвостом, чем раньше. И у их потомства будет еще более длинный хвост. И на каждом витке хвост будет все длиннее и длиннее. Пока…
— Пока что? Не может же он расти вечно?
— Да, действительно не может. Он растет, пока не начинает слишком сильно мешать выживанию. И обычно это происходит достаточно быстро, собственно, почему мы не видим женщин с трехметровыми ногами. Но в случае с хвостом почему-то он вырос до абсурдных размеров. Павлины каким-то образом умудряются с ним выживать. Половой отбор.
— И к чему эта теория?
— Потому что у полового отбора есть маленький секрет. Он очень странный, поэтому почти никто его не воспринимает всерьез. Но, тем не менее, он есть. И сколько всего он объясняет!
Я смотрел на неё выжидательно.
— Человеческий интеллект — это результат полового отбора. Точно также как и павлиний хвост.
— Ты хочешь сказать…
— Женщины создали интеллект.
Она наблюдала за мной, склонив голову немного набок, оценивая реакцию. Носок крокодилового стиллето нетерпеливо стучал по ножке стола.
Я пытался найти подходящий ответ, но ничего не приходило в голову.
— И что это означает?
— Некоторые самки человека предпочитали самцов с более развитым интеллектом, большим мозгом, если угодно, — объяснила она нетерпеливо. — Так же как самки павлинов предпочитали самцов с длинными хвостами. Интеллект — это хвост.
Я уставился на неё.
— Скажи, сколько интеллекта нужно падальщику, роющемуся в зарослях саванны?
— Падальщику?
— Большую часть своего эволюционного времени наш вид был падальщиком, пытающимся урвать остатки добычи больших хищников, а в свободное время бродящего в поисках всяких корешков, плодов и ягод. Зачем для этого интеллект? Куча животных с мозгом как у крысы и сейчас прекрасно справляется с этой нехитрой задачей. Так что ясно, что это не саванна, не окружающая среда заставили мозг так развиться.
— Заставили?
— Да, заставили. А ты думал, что такой огромный мозг развился сам по себе?
— Почему нет?
— Мозг требует безумно много энергии — не менее ста грамм сахара в день. А где ты в саванне найдешь его? Это редкая и ценная вещь. Так что бродить по равнине с полуторакилограммовым мозгом также трудно, как и летать в зарослях джунглей с двухметровым хвостом. А теперь скажи, что заставило человека обзавестись таким большим и затратным устройством там, где в нем не было необходимости?
— Самки?
— Женщины. По крайне мере, некоторые из нас. Мы выбирали мужчин по интеллекту. И, так же, как и павлиний хвост, мозг буквально взорвался в размерах. И, точно также как и павлиний хвост, интеллект абсолютно бесполезен для выживания.
— Но он не может быть бесполезен, — запротестовал я.
— В саванне он был бесполезен.
— Но он же был нужен, чтобы создавать орудия труда!
— Послушай, Джим, — сказала она, — если ты возьмешь мозг ученого из НАСА и мозг охотника-собирателя с какого-нибудь острова Папуа Новой Гвинеи, где они ещё сохранились, и покажешь их нейрохирургу, он не сможет определить разницу. За последнюю сотню тысяч лет мозг практически не изменился. А теперь скажи, на кой черт охотнику с каменным топором прибор, способный послать спутник на Юпитер или запустить ядерный реактор? Мозг охотника-собирателя, наш мозг, всегда был чересчур умным для задач, стоящихперед ним.
— Женщины создали интеллект? — я все никак не мог свыкнуться с мыслью.
— И именно поэтому героев нет. Наша доля в том, чтобы жить в плоском мире примитивных созданий.
— Доля?
— Женская доля. Выбирающие должны быть умней выбираемых. В этом наша трагедия — мы обречены копаться в куче посредственностей в поиске хоть чего-то стоящего. Когда ближе к концу жизни Дарвин обнаружил половой отбор, он сразу понял, что это даже более важно чем естественный отбор — открытие, за которое он известен. И старик оказался прав. Природа более не отбирает. Теперь отбором занимаются женщины.
Она пригубила вино, наслаждаясь вкусом.
— Итак, Джим, почему же тебя никто не выбрал?
Я отвел взгляд на серебристый кувшин, стоящий в нише над столом.
— Думаю, это вина Омара Хайяма.
— Причем тут этот рифмоплет?
— Он считал, что лучше быть одному, чем быть с не родным человеком, — сказал я и добавил, после паузы, — потому что иначе, когда ты наконец встретишь своего человека, не сможешь полюбить. И случится самая большая трагедия, которая только может случиться.
— Встретить, но не смочь полюбить…
— Растратить тепло души на не родного человека. Так он сказал в старой зеленой книжке, которую я нашел у себя под кроватью… В детстве я был странным. Не мог ходить. Все бегали играть во дворе, а я сидел у окна и смотрел. Все, что я мог делать — это наблюдать за людьми. И в какой-то момент вдруг начал замечать странные вещи. Я начал читать людей. И открыл, что они думают совсем не то, что говорят. Абсолютно не то. И сами часто об этом не догадываются… Потом, уже когда я смог ходить, знаешь, что я больше всего любил делать? Просто сидеть в каком-нибудь кафе и смотреть как люди разговаривают. Вот, например, кто-то сделал комплимент. Но его нижняя губа чуть поджата, так что и без детектора лжи понятно, что это неправда. — я вздохнул. — Вот так я научился разгадывать людей, и теперь мне нужно несколько минут, чтобы прочитать человека. Как книгу. Не нужно десять лет, чтобы понять, что это не родной человек. Вот так я и живу…
— Да-а-а, — Джулия откинулась на спинку стула.
— Лишь однажды я забыл совет Хайяма. И теперь у меня есть дочь — Мария. Она лучшее, что есть в моей жизни. Единственная, кто меня понимает. Это искра, которая приносит смысл в мою жизнь. Но… — я тяжело вздохнул, — её мать… Я злейший враг. До сих пор не понимаю, что произошло. Она даже получила судебное решение, запрещающее мне видеть Марию. Меня уже пять раз арестовывали. Судья сказал, что в следующий раз посадит за решетку. С тех пор единственное место, где я мог видеть Марию, была церковь рядом с её школой в Нью-Йорке. Там мы и сидели изо дня в день, перешептываясь. Это были счастливейшие дни моей жизни.
— Были?
— Вчера её похитили.
— И ты здесь, чтобы спасти её?
Я кивнул. Она вздохнула, выпрямилась и движением руки убрала назад каштановые локоны.
— Давай вводные. Расскажи, что требуется.
Она перестала со мной играть, и её элегантность исчезла.
— Зоя.
Она откинулась назад и потянулась.
— Этого можно было ожидать.
— Есть мнение, что Зоя — это оружие, разработанное Китаем. Мне нужно узнать, так ли это.
Джулия пригубила вино.
— Зоя странное создание. Изучаю её с прошлого года, когда она только появилась. Заметила случайно и сначала не придала ей какого-либо значения. Казалось бы, вирус как вирус. Но потом стало ясно, что это аномалия. В отличие от большинства вирусов, она не предназначена причинять вред. Она не крадет и не уничтожает информацию, не подчиняет себе систему. Она просто размножается. И все. Лишь бесконечно копирует себя, постепенно забирая все ресурсы, забивая память и каналы связи. — Джулия посмотрела в сторону. — Но на этом странности только начинались. Она постоянно мутирует. Её копии отличаются друг от друга, как отличаются родственные виды животных.
— Это как?
— Представь, ты в террариуме держишь ящерицу. Вечером ты пошел спать, а когда вернулся утром, в террариуме помимо собственно ящерицы оказались хамелеон, игуана, и вообще аллигатор… Примерно так и Зоя. Ты оставил её в системе на ночь, а к утру там будет с десяток мутантов. Похожих друг на друга, но разных. Ты потратишь весь день, разыскивая и подчищая их, но где-нибудь в укромном уголке притаится какой-нибудь хамелеон и ты его не заметишь. А следующим утром уже будет целый зоопарк.
Мимо беззвучно промелькнула тень официанта.
— Но и это только начало, — продолжила она. — до прошлого месяца все эти мутанты просто размножались. Теперь же начали конкурировать. Они воюют между собой.
— Война компьютерных вирусов?
— О, да. Они конкурируют за место в системе, за ресурсы. Уничтожают друг друга. Идет война без правил, на поражение. Ничего подобного раньше не видела.
— И кто побеждает?
— Какая разница? Конкуренция делает их всех сильнее.
— Прямо естественный отбор какой-то. А разве вирусы и бактерии не конкурируют?
— Естественные, природные вирусы — иногда. Но до настоящего момента ни разу не видела компьютерные, напрямую воюющие между собой. Но и это еще не все. — её глаза блестели. Она остановилась, чтобы перевести дыхание. — У них появился пол.
— Как это? У них есть самцы и самки?
— Да.
— Как так? Я думал, что у вирусов нет пола.
— Тоже так думала. Теперь есть. Естественные вирусы, впрочем, как и бактерии, просто делают идентичные копии самих себя. Для этого им не нужен представитель противоположного пола. Зое же он нужен. И когда они встречаются, их коды перемешиваются, почти также как перемешивается ДНК. У них есть рекомбинация, Джим! — воскликнула она.
— Рекомбинация?
— Когда гены отца и матери смешиваются. И это меняет все! Когда это происходит, эволюция ускоряется. Появляется разнообразие. Это почти как копирование книги. Представь, машинистка просто перепечатывает одну книгу с начала до конца. Буква за буквой. Время от времени она будет делать опечатки, но мало. Одна опечатка тут, другая там. Это то, что делают вирусы и всякие бесполые организмы вроде бактерий. Они просто бесконечно делятся. И поэтому изменяются медленно. Ну, сравнительно медленно.
Её глаза горели.
— А теперь представь, что у машинистки две копии книги. Это копии одной и той же книги — но они чуть-чуть разные — ведь каждая уже копировалась миллионы раз. Но, тем не менее, это копии одной и той же книги. Первая книга — это геном отца, вторая — матери. И теперь машинистка составляет новую копию книги, беря куски текста то из первой копии, то из второй. Произвольно. Абзац из первой книги, потом предложение из второй, потом целую главу снова из первой. И так далее. Представляешь, какое пространство для ошибок? И уже не просто опечатки, а целые новые главы! Какое колоссальное разнообразие это дает. Эволюция на допинге. — она снова перевела дыхание. — Вот и Зоя также. Её мутанты становятся все более и более разнообразными. А теперь, внимание, вопрос — что происходит, когда появляется пол? — она некоторое время выжидательно смотрела на меня, но практически сразу же не выдержала и продолжила. — Половой отбор. Хвост павлина, помнишь?
— Не может быть! — воскликнул я.
— Да, именно! Интеллект.
— У Зои уже есть интеллект?
— Может быть еще нет. Но будет.
— Когда?
— Скоро. Может быть даже сегодня. Половой отбор идет в миллионы раз быстрее, чем естественный. У естественного отбора заняло целых два миллиарда лет, чтобы развиться от примитивных бактерий до первых многоклеточных организмов. Два миллиарда лет! Половой же отбор создал интеллект — самый сложный механизм в мире — всего за каких-то несколько миллионов лет. Так что половой отбор в тысячи раз быстрее. Старик Дарвин догадывался об этом. В тысячи раз быстрее! Зоя развилась естественным отбором практически с нуля всего за год. Там, где органической жизни потребовалось два миллиарда лет, Зоя справилась за год. С половым отбором процесс пойдет ещё быстрей. Мы уже говорим о днях, наверное. Но, похоже, Зоя не собирается на этом останавливаться. Она пошла еще дальше.
— Это как?
— Что идет после полового отбора? Правильно, групповой отбор. Самый быстрый отбор из всех известных. Это когда общества и группы людей, а не природа или женщины, начинают решать, какие признаки, гены и поведение желательны, а какие нет. Возьми, к примеру, религию.
— Религию?
— Религии помогают своим подопечным воспроизводиться успешнее, оставлять больше потомков. Если ты мусульманин или иудей, то у тебя намного больше шансов оставить потомство, чем если бы ты принадлежал к какой-нибудь Богом забытой секте. Теперь группа решает кому жить, а кому умереть. Да возьми хоть те же крестовые походы. Религия — это типичный пример группового отбора. И Зоя его начала. Это началось в понедельник. Сама ещё не поняла, что именно происходит, но понятно одно — Зоя стала изменяться ещё быстрее.
— Ещё быстрее?
— Чтобы сделать человека, понадобились миллиарды лет. Интеллект — миллионы. Чтобы создать религию — нужны лишь годы. И тут начинается самое интересное. Ведь человек остановился на групповом отборе. Сгораю от нетерпения увидеть, куда Зоя пойдет дальше. Ведь человечество так далеко ещё не заходило.
— Это…
— Страшно, да? — она ухмыльнулась. — Страшно… Страшно интересно.
— Хммм. А почему Зоя поражает всех, кроме Китая?
— Ну, это просто. Из-за Великой Стены. Китай создал Великий Файервол, фактически свой собственный изолированный интернет. Они давно поняли, насколько уязвимым для социальных эпидемий интернет делает общество. И поэтому они заблокировали Фейсбук и Гугл. Китай первым понял, что в новом мире уже не правительства или медиа решают, что смотрят и думают люди. Это раньше то, что показали вечером по телевизору, утром автоматически становилось мнением большинства. Теперь уже нет. Правительства, телевизионщики и медиа больше ничего не решают.
— Тогда кто? — спросил я.
— Алгоритм. Программный код, который знает о человеке все. Это раньше все смотрели один и тот же телевизор. Теперь же каждый человек видит свою собственную картинку. И алгоритм решает, что показать каждому конкретному человеку, чтобы вызвать нужное поведение. Алгоритм знает о каждом человеке всё, включая его настроение и тайные желания, скрытые даже от него самого. Алгоритм знает, как заставить этого человека купить что-то, проголосовать за кого-то, убить кого-то. Никто не может сделать это лучше и быстрее него. Китайцы просто поняли это раньше других и успели создать собственную, изолированную копию интернета, где алгоритм контролируется правительством, а не непонятно кем.
— И теперь, отгородившись, Китай может, послав вирус, парализовать мировой интернет, а сам остаться неуязвимым?
— Начинается эпоха кибер-войн, когда все только так и будут делать. Больше не имеет смысла посылать на войну человеческие тела в сапогах. Вирусы и дроны воюют намного лучше. Люди больше не нужны, Джим.
— То есть Китай сделал Зою?
Она выжидательно смотрела на меня.
— Тогда кто? — сказал я. — Кто ещё?
— Может быть какой-нибудь скучающий системный администратор, уставший переустанавливать Виндоуз где-нибудь в Урюпинске? Кто знает? Это не более, чем кусок кода, содержащий то, что нужно для самовоспроизведения. Ни отпечатков пальцев, ни подписей. Ничего. Просто кусок кода.
Я сидел в пол оборота, смотря на ширму. Стебли бамбука переплетались между собой в затейливом рисунке.
Ничего, ровным счетом ничего не понятно.
— Куда теперь направляешься? — спросила она немного погодя.
— В Нанкин. Нужно быть там в субботу утром, послезавтра.
— Мне кажется, это невозможно, Джим.
— Меня ждет самолет.
— Вопрос не в билетах. Вопрос в том, как ты собираешься пересечь границу.
— В смысле?
— Они перекрыли въезд иностранцам.
— Когда? — вскрикнул я.
— Сегодня.
— Почему?! — меня объяла паника.
— Карантин.
— Ты уверена?
— На все сто.
— Как, как мне попасть внутрь?!
— Невозможно, — сказала она, спокойно наблюдая за мной, — только если...
— Только если что? — я схватился за край стола.
— Только если ты не планируешь возвращаться… Могу перебросить тебя через границу, но это будет билет в один конец. Вытащить тебя обратно уже не смогу.
— Помоги! Доставь меня в Китай, — я умолял. — Мне во чтобы то ни стало надо быть в Нанкине в субботу в семь утра.
— Ещё раз, вытащить тебя оттуда не смогу. Их система терпеть не может непрошенных посетителей. Они тебя наверняка вычислят. И тогда у тебя будет несколько десятилетий свободного времени, чтобы практиковаться в китайском языке в какой-нибудь тюремной клетке.
— Выбора нет!
— Ну смотри сам… — она осушила бокал и посмотрела на часы. — Через три часа в Шанхай отправляется катер.
— Катер? — воскликнул я, теряя надежду. — Ни один катер не сможет добраться так быстро.
— Этот сможет. Будешь в Шанхае в субботу рано утром. Капитан доставит тебя на берег, а уж далее сам. Залив Улис. Ровно в девять посветят зеленым фонарем.
— Буду!
— Удачи. Если все-таки сможешь выбраться, дай знать, — сказала Джулия, коснувшись моего плеча, перед тем как исчезнуть в дверях.
1 день, 18 часов, 13 минут.
Глава 6
Длинноносый катер стремительно приближался к берегу, угадывающемуся в ночном тумане лишь по рассеянному свечению где-то впереди, за невидимым горизонтом. Онперескакивал с одной волны на другую, ножом рассекая толщу воды. Срываясь с одной волны, двигатели взвывали, перед тем как вонзиться в следующую.
Пристегнутый страховкой к поручню, я сидел на ящиках с контрабандным трепангом, кутаясь в плащ и пытаясь хоть как-то укрыться от брызг и пронизывающего ветра. Капитан держал курс вслепую, по приборам, постоянно протирая рукавом экран радара.
Внезапно прямо перед нами из ниоткуда возник сторожевой корабль, уставившись в нас своей черной пушкой. От неожиданности я ещё крепче вцепился в поручень, и растерянно посмотрел на капитана. Но тот не повел и бровью. Как будто ничего необычного не происходило, он прошёл впритирку к сторожевику. Корабль исчез так же внезапно, как и появился, так и не подав каких-либо признаков жизни.
Сделав ещё несколько замысловатых маневров, понятных одному капитану, мы вошли в русло реки и стали стремительно подниматься против течения. Виляя в бесконечной веренице груженых барж, катер скользил сквозь острова мусора, тенями мелькающие за бортом.
В промозглой, серой мгле по сторонам угадывались мрачные силуэты портовых кранов, перемешанные с темными коробками заводов. И лишь впереди полоса красных и зеленых огоньков барж разбавляла удручающий пейзаж, словно указывая путь. Пройдя под исполинским мостом, капитан резко взял право руля, проскочил между двумя обшарпанными буксирами, едва не зацепившись за уходящий в воду трос, и резко сбросил газ. Через мгновение капитан уже стоял на носу, целясь канатом в сумрак причала. И еще до того как швартовый был закреплен, непонятно откуда взявшиеся тени стали через борт принимать деревянные ящики с быстро портящимся драгоценным товаром. За все время никто не проронил ни слова.
Появившийся из ниоткуда силуэт в форме незаметно кивнул капитану и также неожиданно растворился в сумраке ночи.
Ясно, что сюда карантин пока не дошел. Деньги плавят границу в швейцарский сыр. Горы высоки, император далеко.
Капитал отряхнул плечо и я, получив уговоренный сигнал, нацепил очки и маску, поднял капюшон и перепрыгнул через борт, чуть не поскользнувшись на мокром бетоне. Тени были слишком увлечены разгрузкой, чтобы отвлекаться. Спотыкаясь в кромешной тьме, я брел вдоль стены прочь от катера в поиске дверного проёма. Сердце дрогнуло, когда я было уткнулся в глухой угол. Но почти сразу рука нащупала обещанную дверь и, мельком оглянувшись, я проскользнул внутрь.
Я крался вперед, вытянув руки, боясь каким-нибудь звуком выдать себя. Каждый шаг раздавался гулким эхо. Но уже через несколько поворотов узкий коридор выбросил меня на улицу и, стараясь не делать резких движений, я прикрыл за собой дверь. Через дорогу угадывались ещё спящие дома, и лишь где-то вдали маячили редкие молчаливые уличные продавцы на велосипедах с прицепами. Сладкий запах печеного картофеля и едкого дыма просачивался даже через маску.
Шанхай!
Таймер на руке вспыхнул, отбросив на стену красные блики:
0 дней, 6 часов, 00 минут.
До поезда оставался час.
Поспеши, Джим.
Карантин означал, что как только первый прохожий поймет, что я иностранец, мне конец. Вся надежда была на смог. В середине осени ветер меняется с восточного на западный, и на место свежего океанского бриза с континента приходит удушающий холодный смог бесчисленных фабрик. Окружающее погружается в блеклую, разъедающую глаза дымку, илюди стираются в безликие силуэты в масках. Сплошного капюшона и пары изменений в походке достаточно, чтобы смешаться с толпой. Никому нет дела до закутанного до макушки прохожего.
Первым делом нужно было выбраться подальше от порта. Как только слухи о просочившемся иностранце начнут расползаться, выезды перекроют. Шаркающей походкой я зашагал вдоль кажущейся бесконечной стены, стараясь не выходить из её тени. В дремлющем субботнем городе одинокая фигура наверняка привлечет ненужное внимание. Дойдя, наконец, до перекрестка, я прислонился к облезлому стволу уже сбросившего листву платана, стараясь слиться с ним в одно целое. Не успел я толком осмотреться, как вдалипоказался мерцающий зеленый огонек такси. Слегка притормаживая на перекрестках, в плотной дымке оно летело, похожее на комету.
Водитель машинально повторил адрес, кивнул и сонно уставился на дорогу, лишь время от времени отрывисто нажимая большим пальцем на клаксон, притормаживая на очередном перекрестке. Он клевал носом.
Конец смены. Как удачно!
Сквозь лобовое стекло, увешанное планшетами и какими-то перемигивающимися устройствами, дорога была едва видна. Металлический голос без остановки бубнил адреса.
Несколько раз повернув, такси быстро выбралось из лабиринта жилых домов и выехало на эстакаду хайвея, набирая скорость. Я обернулся — сзади никого не было. Пока мы неслись над крышами домов по все ещё пустынному шоссе, я выдохнул и поправил громоздкие, больно въедающиеся в переносицу очки с выдавленными линзами. По сторонамбесконечной полосой мелькали рекламы машин, лапши и маленькой пухленькой девочки, присевшей в задумчивости рядом с лозунгом «Мечта Китая».
Конечно, можно было сразу поехать на вокзал, но, как бы ни давило время, оставлять столь очевидный след было опасно. Они наверняка будут опрашивать водителей. Мы приближались к центру, и в дымке, как привидения, начали проступать колонны офисных зданий. Ракетой, нацеленной в небо, справа показался шпиль русского дома и водитель свернул с хайвея. Он молча взял деньги, так ни разу не посмотрев на меня.
Перейдя дорогу, я подошел к очереди из такси, томящейся перед ещё спящим Ритц-Карлтоном. К моей радости, нового водителя моя персона также не заинтересовала, и уже через десять минут мы нырнули в подземную парковку вокзала.
— Покажи свою карточку, — устало попросил человек в форме сразу при выходе из парковки.
Патруль! Черт побери! Надо было выйти за несколько кварталов до вокзала!
Они стояли в засаде за углом. Я загнанно оглянулся, но пути назад не было.
— Покажи мне свою карточку, — уже раздраженным тоном повторил он на шанхайском диалекте. Не поворачивая голову, я ещё раз огляделся по сторонам — мы были почти одни. Лишь метрах в тридцати другой в такой же форме проверял входящих.
Думай, Джим. Думай быстрее. Это не полицейский, а просто какой-то помощник, дружинник. Клерк.
Сквозь бутафорские очки я видел усталые, печальные и распухшие глаза с набухшими синяками под глазами. Это был измотанный, больной и несчастный человек, застрявший наосточертевшей ему тупиковой работе. Я мог видеть его отчаявшуюся жену, каждый вечер от безысходности его пилящую. Все, на что ему оставалось надеяться, это ранняя пенсия.
Джим, пока никого нет, действуй.
— Пожалуйста, отпустите меня, я иностранец, — сказал я, приспустив маску, на ломаном пекинском диалекте, чтобы походить на корпоративного лаовая, одного из иностранцев, которых западные компании массово засылали сюда работать. — Завтра утром я лечу домой. Мне нужно лишь забрать мою семью. Пожалуйста!
Его глаза расширились, а рука потянулась к рации на поясе. Краем глаза я отслеживал его напарника, погруженного в проверку пары беспокойных уйгуров с целой телегой замызганных сумок.
— Пожалуйста, — я взял дружинника за рукав и он, моргая, уставился на золотой слиток в своей руке. Я говорил быстрым шепотом, пытаясь подыскивать правильные слова и одновременно просчитывать сценарии:
— Это золото, почти триста тысяч юаней.
Это были две или три его годовых зарплаты. Нас никто не видел, так что он мог взять золото и завтра выйти на пенсию, к радости жены. Если же он поднимет тревогу, все, что он получит, похлопывание по плечу и, может быть, грамоту… И ад дома, когда узнает жена. Шансы на моей стороне.
— Пожалуйста, отпустите меня. Это золото. Никто нас не видит. Я просто лаовай.
Он нервно оглянулся назад, и я увидел, как его глаза озарились. По-видимому, наши расчеты привели к одинаковому выводу. Как только его тело начало колебаться в нерешительности, я взял инициативу в свои руки.
— Спасибо! — шепотом сказал я, нацепил маску и двинулся вперед, ожидая оклика сзади. С каждым шагом по лестнице стучало в висках.
Главное не побежать, не сорваться.
Уже почти наверху. Вот, вот она — спасительная ступенька, за которой начинается привокзальная площадь. Уже виднелись часы на крыше и очередь, змеёй уходящая внутрь вокзала. Оставалось лишь перешагнуть порог…
Сзади раздался резкий крик и шум толкотни. Сердце замерло, и я в ужасе обернулся.
Уйгуры пытались поймать вырвавшийся чемодан, перекатывающийся вниз по лестнице. До меня никому не было дела.
Через пять минут, смешавшись с толпой, я уже пробирался через турникеты. Внизу лежали, как крокодилы на берегу, длинные белые поленья скоростных поездов. Войдя внутрь вагона второго класса, я нашел своё место и уткнулся в угол, с головой закутавшись в куртку и притворившись спящим. В кабине стоял аромат лапши быстрого приготовления и специй, где-то впереди шумно чавкали. Наконец раздался писк и двери захлопнулись. Это была финишная прямая — через пятьдесят три минуты будет Нанкин.
0 дней, 5 часов, 1 минута
Пока поезд бесшумно набирал скорость, плавно сквозя через бесконечные ряды жилых башен, верхушки которых скрывались где-то далеко в пелене смога, я ещё раз проверил телефон. Его, вместе с очками, мне вручил капитан. Он также сунул мне пачку красных денежных знаков с председателем Мао, многозначительно смотрящим в сторону на что-то видимое ему одному.
Сигнал был сильным и устойчивым, синяя надпись China Mobile обнадеживающе переливалась в углу экрана. Я выключил его, чтобы не тратить заряд. Немного успокоившись и переведя дыхание, под покровом куртки я открыл папку и, стараясь не шелестеть бумагой, в который раз стал перебирать материалы Эйдана, ища какие-нибудь зацепки.
Оказалось, что Эйдан всё это время тайно изучал Ли. Как и у любого коллекционера, его мечтой было заполучить наиболее редкий, желанный и ценный экземпляр. Ли — единственный, когда-либо обнаруженный китайский Планк — был таким экземпляром, вершиной коллекции любого синтезатора. В руках я держал материалы, собранные на него Эйданом за последние сорок лет. Все они уместились в одну папку.
Ли был неуловим. Если до 1989 года отрывочные, косвенные следы ещё изредка намекали о его существовании, то затем Ли пропал окончательно. Единственное, что напоминало о нём, была его сестра, ставшая местной знаменитостью — газеты Нанкина регулярно публиковали трогательную историю её привязанности к дочери. Каждую субботу в парке она ждала Тьяо, свою дочь. Это был единственный мостик, ведущий к Ли.
Выйдя из вокзала, я на мгновение замер. Прямо передо мной раскинулись озёра и покрытые лесом холмы, подернутые розовым предрассветным туманом. Не в силах сдвинуться с места, я смотрел на этот осколок природы, зажатый в тисках цивилизации.
Времени нет. Вперед!
0 дней, 4 часа, 05 минут
Парк уже был полон людей. Одни занимались тайчи, другие играли в шахматы. Метнувшись зигзагом из одной стороны в другую, я скоро нашел место, столь знакомое пофотографиям в газете. Бордюрный камень углом врезался в гладь воды озера. На камне, в стороне от людей, сидела женщина в истрепанной блеклой шляпке с полями. Лицо было отрешенным, как если бы оно было проекцией из какой-то параллельной вселенной. Глаза были закрыты, и лишь колебания иссохших цветов лотоса за её спиной напоминали о ходе времени.
Это была она!
Сняв очки, я присел на скамейку неподалеку, время от времени поглядывая на неё. В какой-то момент она искоса посмотрела на меня, едва уловимо, не открывая глаз. Медленно поднявшись, она плавно направилась в сторону ворот. Никто вокруг не обратил на её уход внимания, и только шахматист под деревом напротив машинально проводил её задумчивым, отсутствующим взглядом.
Минуту спустя я встал и последовал за ней, с каждым шагом сокращая дистанцию. Подойдя к массивным парковым воротам, мы почти поравнялись, пробиваясь через поток шумных туристов, с увлечением жующих жареных кальмаров на палке. Сразу за воротами шум начал растворяться позади, и скоро я следовал за ней в полном одиночестве. Мы свернули в небольшой переулок и через несколько кварталов показалась обветшалая кирпичная стена небольшого двухэтажного дома еще прошлой, до-коммунистической эры. Онаплавно толкнула узкую, почти незаметную с улицы дверь и, не говоря ни слова, жестом пригласила войти. Я благодарно кивнул, вошел и очутился в крохотном внутреннем садике. Также безмолвно она указала рукой на круглый столик в углу сада и исчезла внутри дома. Пятью шагами я пересек сад и неловко устроился на скрипящем стуле. Из пруда у стены, беззвучно то раскрывая, то закрывая высунутый из воды рот, за мной наблюдала белая рыба с красными отметинами на спине.
Я снял маску и капюшон и посмотрел на таймер.
0 дней, 2 часа, 17 минут
Он появился в дверном проеме беззвучно, в мягких тапочках. В руках был поднос с чайником и двумя чашками.
Я искоса наблюдал, пока он нетвердыми руками разливал чай. Открытое лицо, все в глубоких морщинах, напоминало высохшее яблоко. Он пододвинул мне чашку и внезапно посмотрел на меня в упор.
И правда, как глубоки его глаза… Неужели так бывает? Казалось, у его зрачков не было дна.
Сделав несколько глотков, я решил начать первым.
— Нам повезло, что погода такая мягкая. Наверное, это последние теплые дни.
— Возможно вы правы, — вежливо ответил он. — Ваш китайский очень хорош. Где вы учились?
— Вы мне льстите. Я едва могу связать два слова. Немного учил в университете, — ответил я как этого требовал протокол и посмотрел на таймер.
0 дней, 2 часа, 13 минут
К черту хорошие манеры, Джим! Я отбросил вежливость и вызывающе посмотрел ему прямо в глаза.
— Я Джим.
— Я Ли. Что привело тебя сюда? — мгновенно он перешел на «ты».
— Мне нужно знание.
— И как ты меня нашел?
— Практически случайно.
— Очень интересно… — сказал он, прикрывая рот рукой, как бы борясь с зевотой. Его ровные зубы были темно-желтыми от никотина. — Джим, в эту дверь не заходят случайно. Еслихочешь, чтобы я был открыт с тобой, тебе придется открыться мне.
Я поспешно кивнул.
— Мой учитель и я, мы построили машину, которая ищет аномалии в новостях. Эта машина нашла тебя. — я начал говорить скороговоркой. Чувство уходящего времени начиналообжигать меня изнутри.
— И зачем вы её построили?
— Чтобы искать людей с истинным знанием.
— Истинным знанием?
— Настоящих экспертов. Искателей правды. Планков.
— И как же вы их находите?
— Компьютерный алгоритм просматривает новостной поток и исторические архивы, ищет характерные комбинации.
— И почему машина подумала, что я один из этих, как их, Планков?
Я посмотрел на таймер.
0 дней, 2 часа, 09 минут
— Ты подпадаешь под параметры. У тебя черты, присущие искателям истины.
— Например?
— Ты избегаешь внимания.
— Ну, в этом мире нет недостатка в интровертах.
— Это так. Но в экстренных ситуациях ты всё же появляешься на поверхности.
— И что же это были за ситуации?
— Восстание на площади Тяньаньмэнь. Это было твое последнее появление. Ты консультировал Дэн Сяопина. Машина нашла целых два эпизода, когда ты принимал активное участие. Под вымышленным именем, разумеется.
— Что-нибудь еще?
— Ты искатель настоящих ценностей.
— А это как?
— Этот мир полон имитаторов, иллюзий, обманов и паразитов. Так устроена природа. Но приложив некоторое усилие, многих из них можно избежать. Чем и занимаются искатели настоящих ценностей. Они роются глубоко в сути вещей и отбрасывают подделки.
— Докопаться до сути… Понять, что важно… — едва уловимо усмехнулся он.
Я смотрел на него.
— Продолжай, Джим. И как же ты их находишь?
Меня бросило в жар. Ли же был спокоен. Убийственно спокоен, как эта рыба в пруду.
— У них есть собственное мнение.
— А это как?
— Многие вещи ценны лишь тем, что их считает ценными кто-то другой. Как картины Рембрандта. Когда-то давно кто-то заплатил за них баснословные деньги. И теперь толпа слепо идет вслед. И действительно, если это не настоящее искусство, разве за него заплатили бы такие деньги? Разве считали бы столько людей эти картины ценными? Собирали бы выставки столько людей? Толпа собирается вокруг рембрандтов, полагаясь на мнение других. Это не собственное мнение, это мнение толпы.
— Хм-м. Толпа, говоришь? Ну и как ты их находишь, этих искателей?
— Надо смотреть на скрытые сигналы. Например, отношение к роскоши. Выбирает ли человек фальшивую, или настоящую роскошь.
— Фальшивую роскошь? — он повел бровью.
— Роскошь, к которой стремятся потому, что окружающие считают её желанной. Роскошь, которая повышает социальный статус, и только. Другими словами — рембрандты.
— И же как отличить настоящую роскошь от фальшивой?
0 дней, 2 часа, 04 минуты
Почему он задает так много вопросов? Вдруг он не Планк? Нет, он должен. Должен быть! Все эти вопросы — просто он хочет убедиться… Он ведет разведку. Проверяет меня.
— Для этого есть «никто не смотрит» тест. Захотел бы ты эту вещь на необитаемом острове? Где некому её показать? Когда некого ей впечатлить, продемонстрировать статус? Если нет, это фальшивая роскошь.
— А настоящая роскошь?
— Время, друзья, любимое дело и дом с видом на море.
— И где же мой дом с видом на море? — ухмыльнулся он.
— Я уверен, что с твоего балкона открывается неплохой вид на озеро Щуэн-у.
— Ты наблюдателен, — его круглое лицо вытянулось в улыбке. — Что ещё? Расскажи. Расскажи, Джим.
— Ещё Планки одиноки. Планки терпеть не могут имитаторов, бегут от них как от огня. В их окружении приживаются лишь искатели истины, такие же, как они сами. А поскольку таких мало, то Планки одиноки. Ну или кажутся одинокими. Ты очень одинок.
— Более, чем хотел бы… — прошептал он.
— Ты не принимаешь никаких наград. Тебя вообще мало интересует мнение окружающих, их признание.
— Ты тоже Планк?
— Я синтезатор. У меня нет собственных идей, я живу чужими.
— И когда ты находишь Планков, как ты убеждаешь их поделиться знаниями? Что ты им даешь взамен?
— Обычно это происходит само по себе. Найдя благодарного слушателя, Планки рассказывают все сами.
— Как интересно…
0 дней, 1 час, 59 минут
Увидев как таймер, мигнув, перевалил за двухчасовую отметку, меня вдруг прорвало: — Ли, к чему эти бесконечные вопросы! Умоляю, помоги!
— И что же ты ищешь сегодня? — спросил он, не меняя приветливого выражения.
— Собирается ли Китай продать принадлежащие ему американские казначейские облигации. — сказал я залпом.
— Это твоя работа? Твоё дело?
— Да.
— И зачем ты её делаешь?
Я уже было хотел рассказать ему о Марии, как внезапно что-то меня остановило. Предчувствие заерзало во мне.
— Деньги, — соврал я.
— Правда? И зачем тебе деньги? — Ли снова улыбнулся. Его лицо по-прежнему было дружеским, но во мне уже вовсю гудел набат. Что-то здесь не так… Очень не так, Джим.
— Чтобы быть независимым.
— Так ли много денег нужно для независимости? Ты хочешь сказать, что у тебя их нет?
— Есть. Точнее были. Их забрали люди, которые наняли меня.
— А-а-а, ну хоть что-то стало понятно. Но все-равно, должно быть что-то еще. Из-за чего твои нервы в таком расстройстве, Джим.
— С чего ты взял?
Постепенно я начал понимать, что тревожило меня. Это не был типичный разговор с Планком. Это был допрос под прикрытием дружеской маски.
— Ну, это просто. Твои глаза — они дергаются. Еле заметно, но дергаются. Руки, посмотри на свои руки. Тебе стоит больших усилий, чтобы не выдавать волнение. У меня руки дрожат от старости. От чего же они дрожат у тебя? Так что есть что-то ещё, Джим, — он подул на чай. — Да, и почему ты кусал ногти?
— Многие кусают ногти. Что в этом такого? — неожиданно резко спросил я, посмотрев на руки.
— Ну не до такой степени. Ты на грани, Джим. — мне показалось, что он улыбнулся. — И это не из-за денег. В чем же дело? Будь открыт со мной.
— Ты пытаешься меня прочитать.
— Конечно. И что в этом такого? Моя очередь — твоя машина рассказала тебе обо мне. Я же о тебе не знаю ничего. — Ли откинулся на стуле, его ноги были скрещены. Он потянулся за салфеткой и громко высморкался. — Твои часы показывают час и сорок три минуты. Что случится потом?
Я посмотрел на него в упор.
— Моя дочь умрет.
Что-то изменилось в его лице, но я не мог его прочитать. Он слегка наклонил голову, как если бы рассматривая меня поверх несуществующих очков, оценивая.
— Её держат в заложниках?
— Да.
— Американцы или японцы?
Я молча уставился на него. Становилось теплее. Но разговор уходил не в то русло — Ли быстро захватывал преимущество. Своими вопросами он препарировал меня как школьник лягушку. В попытке перетянуть инициативу на себя, я решил идти напролом.
— Ли, скажи прямо, у тебя есть ответ? Собираются ли китайцы продавать облигации? Что такое Зоя, откуда она пришла? Кто её создал?
Он обхватил чашку обоими руками, уйдя в созерцание виноградной лозы, которую в ноябрьском воздухе вырисовал пар. Некоторое время казалось, что ответа не последует, как если бы вопросы ушли в песок. Затем он подул, и лоза исчезла.
— Да, — и добавил немного спустя. — У меня есть ответ на первый вопрос.
— И насколько ты в нем уверен?
— Уверен.
— Можешь ли ты мне сказать? — мой голос дрожал от волнения.
— И что я получу взамен? — он снова улыбнулся, но с ужасом я заметил, что это была уже совсем другая улыбка. Улыбка не друга, а приемщика в ломбарде. Маски сброшены!
— Я дам тебе всё, что пожелаешь.
— Джим, ты же не можешь рассчитывать получить ценное знание просто так, не предлагая ничего взамен. Мне нужно будет от тебя что-то существенное.
— Назови что нужно, и я достану это.
— Ты коллекционер историй. Ну так расскажи мне историю. Что-то, чего я не знаю. Расскажи, и я спасу твою дочь. Но это должно быть что-то важное. Что-то экстраординарное. Да, и ещё — ты первый. Ты должен рассказать свою историю первым, до того, как я помогу тебе, — сказал он с блуждающей улыбкой на губах, наслаждаясь ароматом чая.
— Через час сорок умрет моя дочь. Помоги спасти её, а затем я расскажу тебе все истории, которые я знаю. Без исключения. Но только спаси её, умоляю!
— Джим, мой друг. Сто пятьдесят тысяч людей умирают каждый день. С того момента, как ты прошел через эту дверь, — он кивнул, — уже умерло три тысячи человек. Скажи, в чем важность какого-то одного? Как меня может волновать, что кто-то умрет?
— Потому что это моя дочь! И я сижу здесь, напротив тебя, умоляя. И Эйдан, которого ты встретил в семьдесят втором, был моим учителем.
— А-а-а. Помню, помню. Так это он все задумал? — он закивал и постучал указательным пальцем по губам. — Ну и что? На этой планете живут восемь миллиардов человек. Какоезначение имеет один, если вокруг их целых восемь миллиардов?
Во мне закипала кровь, прилив ярости подступил к вискам.
— Что ещё может иметь значение, если не люди, Ли?
— Скоро на этой планете их будет сто миллиардов. А затем и триллион. Ты думаешь, что и тогда индивидуум будет кого-то волновать? Это человеческая инфляция, Джим. Чем больше людей, тем менее важными они становятся. Человеческая инфляция.
Ли отрешенно рассматривал рыбу, обхватив руками колено. И затем:
— Я не спас свою племянницу, почему я должен спасать твою дочь?
— Ты не спас кого?!
— Свою племянницу.
— Ты?… Не спас?… Свою?… Племянницу?
— В семьдесят первом её арестовали хунвейбины. Я мог освободить её одним звонком. Который я так никогда и не сделал. Все об этом знают, Джим.
Он, выдвинув вперед подбородок и посмотрел вверх, как будто пытаясь высмотреть что-то в квадрате серого неба над нами. Кирпичные стены давили со всех сторон — мы сидели в каменном колодце. Сад превратился в камеру.
— Ты мог спасти свою племянницу, но не сделал этого? — я не мог поверить своим ушам.
— С того самого момента моя сестра так ни разу и не заговорила со мной. И не заговорит. Почти пятьдесят лет я не слышал её голоса. Ни одного слова, Джим. С тех пор она молчит.
Он продолжал смотреть вверх отсутствующими глазами.
— Но почему!? Почему ты не спас её?
— Как раз эти самые слова я слышал от сестры последний раз. Тогда, в холодном семьдесят первом. Здесь же, на этом самом месте…
— И что же ты ей ответил? — я прошипел яростно.
— Как я могу заботиться о ком-то одном? Об одном индивидууме? В чем может быть важность одного человека? Человеческая инфляция, Джим.
— Но как… Как ты мог… — я замер с открытым ртом.
— Как я мог что?
— Жить все эти пятьдесят лет? Сколько раз ты пытался убить себя?
— Зачем? Как можно оставаться объективным и рациональным, если ты заботишься о ком-то? Если ты зависишь от кого-то?
Я смотрел на него, не в силах пошевелиться.
— Как можно управлять миллиардом человек, если ты заботишься об одном? — спросил он. — Ты не можешь позволить себе иметь любимчиков. Разумеется, нужно притворяться, что заботишься обо всех. Иначе ими труднее управлять. Но отдавать кому-то предпочтение — это слабость. Надо уметь жертвовать, Джим.
Я уставился на него, не моргая.
Планк — мутант!
— Видишь, Джим, во мне не осталось жалости. Ни капли — я высох. Так что тебе лучше рассказать мне хорошую историю. Что-нибудь большое. И ради бога, забрось надеждудостать из меня ответ пытками. Ничего хорошего из этого не выйдет, уверяю.
— А что, если она тебе не понравится? Что, если история будет недостаточно большой? — глухо произнес я, все ещё не силах поверить в происходящее.
— Тогда ты получишь неверный ответ. Но узнаешь ты об этом только когда уже будет поздно. Так что, Джим, расскажи мне историю.
— Остался час сорок до того, как Мария умрет. На другую историю уже не останется времени. Так какую же историю мне рассказать?!
— Давай начнем с того, почему ты кусал ногти.
— Что?? — я уставился на него.
— Расскажи мне, почему ты несчастлив. Ты же наверняка потратил кучу времени, чтобы разобраться в этом. И наверняка многое узнал. Но, Джим, прошу… Я чувствую крысу за милю. Будь открыт и честен. — он посмотрел на меня сверлящим взглядом, не моргая. — Иначе твоя дочь умрет.
Это ловушка. Не было решительно никакого способа проверить, даст ли он мне правильный ответ. Да и есть ли вообще у него ответ? Это всё могла быть имитация, обман. Что если Ли — это колоссальный шофер, гигантский притворщик, способный обмануть даже Эйдана?
Он наблюдал за мной, прищурившись, изучая.
— Поверь. Это самый лучший способ найти большую идею. Просто следуй течению, и оно выведет тебя на что-то важное. Это твой единственный шанс спасти дочь. Так что расскажи мне, Джим, почему ты несчастлив?
0 дней, 1 час, 38 минут
Я закрыл глаза и выдохнул:
— Я потерял веру в людей.
— В людей?… И почему?
— Я пытался им объяснить, что с ними делают группы. Как группы обманывают их, манипулируют. А взамен… — я умолк.
— Что?
— Взамен меня заклеймили заносчивым эгоистом, думающим только о себе. Считающим себя лучше других… Меня презирают, Ли… И в ответ я начал презирать их.
— Хм. Ну и как же группы манипулируют людьми?
— Даже не знаю с чего начать. Куда не посмотреть, везде одно и тоже — сплошной обман.
— И все-таки…
— Хорошо, — я вздохнул. — Человеческое общество, как самая большая группа, хронически нам лжет. Возьми хотя бы цели, которое оно в нас закладывает. Практически все они фальшивые. Нас с детства инфицируют ложными целями, которые нужны обществу. Не нам, а обществу! Не нам, а другим. Для них мы просто собака, радостно бегущая за брошенным мячом. Да мы, собственно, и есть эта собака.
— Собака, бегущая за мячом? — спросил Ли.
— Было время, когда я любил сидеть на пляже и просто смотреть на горизонт. Вокруг выгуливали собак и время от времени бросали им всякие палки или резиновые мячи. Ты бы видел то слепое удовольствие, даже счастье, которое это доставляет псу. И ни разу она не остановилась и не задумалась, на кой черт ей этот мяч и вообще, зачем она бежит в этом направлении?
— Автоматическая реакция. Рефлекс. Так устроены собаки. Это нормально.
— Мы ничем не отличаемся. Первый мяч бросают в детском саду, когда мы еще говорить-то толком не умеем, а нам уже внушают: «Ты сейчас всего лишь ребенок. Подожди, скоро ты пойдешь в школу. И ты уже не будешь просто детсадовцем. Ты станешь школьником! Будешь важным человеком, не то, что сейчас». Когда ты попадаешь в школу, всёповторяется один в один: тебе говорят идти в университет. Там, и только там ты наконец станешь кем-то значимым. Найдешь свою профессию, станешь счастливым. В университете снова тоже самое — тебе бросают новый мяч, и ты узнаешь, что надо найти работу в крупной компании, лучше всего банке, ну или стать доктором или юристом. Тогда, тогда ты станешь счастливым! Понятное дело, затем бросают новый мяч. На этот раз тебе нужно стать вице-президентом. И уж тогда ты точно станешь счастливым и по-настоящему значимым. Только тогда ты будешь успешен. Ведь все, кто ниже — неудачники, обреченные на жалобное скуление и поддакивание на бесконечных корпоративных заседаниях. И чтобы избежать этой прискорбной участи, ты начинаешь карабкаться по трупам корпоративной лестницы.
— И живешь нормальной жизнью, — сказал Ли, раскачивая ногой.
— И однажды, лет через пятнадцать, тебя наконец сделают вице-президентом. В первый день ты думаешь: «Боже мой, я успешен!» Но потом оглянешься вокруг и не увидишь никакой разницы. Ровным счетом никакой. Тебе дали угловой кабинет. Сквозь стекло, прямо напротив, ты увидишь другой, точно такой же кабинет в соседнем небоскребе. Когда темнеет, в нем ты видишь точно такого же, успешного и значимого, как и ты. Вы иногда машете друг другу. Большую часть времени проходит в бесконечных встречах, в бессмысленности которых ты постепенно забываешь о мяче. Забываешь, ради чего всё это было. И вот однажды ты придешь на работу и увидишь шарики повсюду. Опять этипроводы на пенсию… Ты их видел тысячу — они все одинаково ничтожны. Но эти проводы особенные. Знаешь почему?
— Почему? — Ли приподнял брови.
— Они твои. И вот ты стоишь там, посреди этой комнаты, судорожно сжимая в руках цветы и пластиковую награду «Спасибо за 30 лет работы в нашей компании». Растягиваешь губы в улыбке и отвечаешь на вымученные поздравления людей, большую часть которых ты даже не знаешь. А внутри всё кричит: «И это всё? Это и есть успех? Что это вообще было? Какова была цель?!!» Ты кричишь, потому что больше никто не бросает тебе следующий мяч. Никто больше не говорит тебе, что делать дальше. Больше нечего достигать! Нет больше битв, сражений… Твой кабинет уже отдали другому, а фотографии твоих родных со стола сгребли в картонную коробку для уничтожителя бумаги. Вот эта коробка, стоит в углу на полу, у двери. И тут слышишь: «Следующий, пожалуйста. Свободная касса!». Тебя списали.
Я пролил чай.
— Ранее в твоей жизни всегда было к чему стремиться. Тебе говорили, что если будешь много работать, в будущем с тобой случится что-то хорошее. Но никогда не говорили, что именно это будет. Но что-то будет! Не может же не быть, да? Перед тобой всегда висела морковка, и ты пытался её схватить. Но теперь, когда успех достигнут и ты наконец прибыл к пункту назначения, морковки больше нет. Нет её. Да и самого пункта назначения то нет. И, как оказывается, и не было! Ты сам по себе, и никому нет до тебя дела. Твоим бывшим коллегам не терпится разбрестись по кабинетам и выкинуть тебя из памяти. И скоро — очень скоро — ты обнаруживаешь себя в хосписе, в паллиативном отделении. Ты умираешь, один. Абсолютно один. Сидишь в наклонном кресле, не в состоянии встать, мысли замутнены обезболивающим, и смотришь в потолок. Ждешь… И вдруг, в самом конце, когда способность ясно мыслить на мгновение возвращается, пробивается через медикаментозный туман, ты кричишь: «Что всё это было? Вся эта жизнь, к чему она? Зачем?!!» Кричишь, но никто тебя не слышит. Ты совсем один. Медсестрам до тебя нет никакого дела, для них ты лишь один из бесконечного ряда койко-мест. И только тогда ты поймешь, что всё это время ты гнался за чужим мячом. Сражался в чужой битве. Но уже ничего не изменить…
— Чужая битва? — спросил Ли.
— Знаешь, какой самый верный способ проиграть сражение? Ввязаться в чужое. Даже если ты его выиграешь, проиграешь.
— И?
— Всю жизнь ты сражаешься в чужих битвах. Они бросают тебе мячи, и ты слепо бежишь за ними. Тебе не дают времени сесть и подумать, что нужно тебе. Не кому-то, а тебе! И поэтому ты никогда не будешь счастлив. Всю свою жизнь ты растратишь на чужие сражения.
— И кто же стоит за всем этим? Чья же эта битва? Кто бросает мяч? Общество?
— Кто выигрывает от всего этого? Кому это нужно? — спросил я. — Группам людей, человечеству. Они бросают тебе мяч, чтобы ты работал на них. Им нужен твой труд, время. Чтобы ты был как все.
— Понятно…
Он сидел, раскачивая ногой.
— Джим, я могу сказать, что это такое. Это типичный «завтрашний джем».
— Завтрашний джем? — я переспросил в недоумении.
— Помнишь Алису в стране чудес? Белая королева предложила ей джем по прочим дням. И по определению, это никогда сегодня. Прочим дням, то есть всегда завтра. Завтрашний джем. В латыни есть одно очень интересное время. Оно часто называется «jam» и означает настоящее время, но только в будущем. И этот «джем» всегда остается в будущем. Поэтому королева так легко его предложила — это невыполнимое обещание. Ведь завтра не существует. Оно никогда не настанет. Оно всегда будет завтра.
— Не понимаю.
— Любишь кошек? — невозмутимо спросил Ли. — Мы все любим кошек. Но ещё больше мы любим их котят. Ведь они такие милые. Мы часами можем смотреть, как они играют. Но ещё больше мы любим котят этих котят. Они ещё милее. Ну и так далее, до бесконечности. Мы запрограммированы любить следующее поколение. Запрограммированы проводить с ними время, заботиться о них. Как только у кошки появляются котята, все внимание переключается на них. Это дает нам иллюзию вечной жизни и осмысленности. Обещание смысла в будущем. Джема завтра. Не сегодня, завтра! Но в обмен на обещание завтрашнего дня у нас забирают сегодня. Все играют с котятами, а сама кошка уже никого не интересует. Мы забываем о сегодня, и ждем завтра. Но завтра никогда не наступит. Джим, завтра не будет джема. Римляне знали это — не зря они отвели под это целое отдельное время. Завтра не существует, потому что, когда оно наступит, это будет сегодня, и мы будем также безразличны к нему, с ожиданием смотря в следующее завтра. Будущее — это иллюзия, его не существует. Есть только сейчас. Вот прямо сейчас, этот конкретный час и минута.
Он отхлебнул из чашки.
— Но твои собаки, взбирающиеся по корпоративной лестнице, просто никогда об этом не задумаются.
— Они лишь смотрят в будущее… — произнес я.
— Мы так все запрограммированы, Джим. В нас заложено пренебрежение к сегодняшнему дню… Так работает эволюция.
— При чем здесь эволюция?
— Те, у кого в генах был «завтрашний джем», особенно усердно заботились о новом поколении. Ведь они все смотрят в будущее. И поэтому их потомство имело больше шансов на выживание и дальнейшее размножение. А те же, у кого джема не было, оставили меньше потомства, если вообще оставили. Так что мы, по большей части, потомки тех, кто жил завтрашним днем. И поэтому мы слепы сегодня.
— Джем завтра, но никогда сегодня.
— А поскольку завтра не существует… — начал Ли.
— То вообще нет никакого джема, — я выдохнул.
— Видишь, Джим, это эволюция. Она бросает этот мяч. Ты бежишь за ним, потому что твои гены хотят воспроизвестись. Потому что генам нужно будущее.
Сообщение! Потому что им нужно доставить сообщение! Черт побери…
— Да, завтра это мяч. Но это ты запрограммирован на то, чтобы бежать за ним. Ты, твои гены бросают тебе его. Так что это не вина групп. Ты лаешь не на то дерево, Джим. Общество тут ни при чем. Это твоя собственная природа играет с тобой. Человеческая природа.
— Но общество получает выгоду от этого!
Ли добавил в чайник воды. Он закинул ногу за ногу и обхватил рукой подбородок, на мгновение погрузившись в раздумья.
— Всё, что делает общество, это пытается оттянуть тот момент, когда ты поймешь, что имеешь дело с луковицей_.
— Луковицей? Какой ещё луковицей?! — оборвал его я.
— Потому что интуитивно, в подсознании, ты чувствуешь, что тебе досталась луковица, а не апельсин.
— Луковица, апельсин?!
— Глубоко внутри себя, ты уже знаешь ответ на вопрос.
— Какой ещё вопрос?
— Что именно общество скрывает от тебя?
— И что же оно скрывает?
— Ту самую луковицу. Тот простой факт, что несчастье лежит в основе этого мира. Так что общество скрывает от тебя вовсе не счастье, а несчастье, Джим. Глубокое, фундаментальное, безграничное несчастье. Природа это ни что иное как бесконечное несчастье.
— Несчастье — это естественное состояние человека?
— Абсолютно. Мы живем в мире, который тотально безразличен к нам. Если завтра всё человечество, включая невинных младенцев, погибнет в ужасающей агонии, природа даже не заметит. Нет ничего страшнее безразличия — оно бесконечно. Оно холодно. Пусто. Даже ненависть, она и то лучше. Поверь мне, Джим, ничего не может быть мучительнейбезразличия. И несмотря на это, природа сделана именно из него. Джим, ты когда-нибудь видел, как природа проектирует животных так, чтобы их рождалось заведомо больше, чем может выжить? Многие, если не большинство, умрут, не сделав и нескольких шагов в этом мире. И только несколько сильнейших выживут. Как жестока природа, не находишь? Все эти крошечные котята, щенки, птенцы — безразличная природа обрекает их. Человек ничем не отличается — мы окружены той же пустотой. А теперь, Джим, скажи мне. Неужели ты предлагаешь оставить людей один на один с этой пустотой? Как ты можешь быть так жесток?
— Мы просто звездная пыль… — прошептал я.
— Именно. Каждый пришел из ничего, и в ничто уйдет. И нет никого, Джим, кого бы это волновало. Так что скажи, как можно оставлять людей один на один с этим жутким фактом? — он закрыл глаза, прищурившись. — Группы, которые ты так не любишь, это общество — они делают единственно возможное. Они успокаивают людей, также, как родители успокаивают детей перед неминуемой смертью. Общество говорит тебе, что у тебя в руках апельсин — все, что нужно сделать, это снять кожуру. А дальше будет сладкая мякоть. Надо лишь пробиться через верхний слой. Общество обманывает тебя, убеждая, что тебе достался апельсин. В то время как на самом деле у тебя в руках луковица. Сколько неснимай кожуру, под ней будет тоже самое, слой за слоем. Разве можно винить общество за это? Это обман с благой целью. Общество заботится о тебе, как родитель…
— Родитель, который лжет?
— Ты ведь детдомовец, да? — неожиданно спросил Ли после паузы, уперевшись локтем в колено.
— Как? — от неожиданности у меня сперло дыхание. — Как ты узнал?
— Ну кто ещё будет задаваться вопросами об обществе? Нормальные люди даже не понимают, о чем идет речь. — сказал Ли. — Но мы замечаем. Мы другие. Сидя зажавшись в том холодном углу, мы с пеленок научились распознавать ложь. Мы чувствуем её нутром, еще даже до того, как нам соврали. Вот почему ты так близко принимаешь всё это к сердцу, Джим. Просто ты чувствуешь ложь, и поэтому не можешь спать и кусаешь ногти до крови. Но пойми, эта ложь во благо. Общество спасает тебя, заботится о тебе. Как родитель.
— Давая ложные цели? Кидая мяч в неправильном направлении?!
— Джим, — сказал он, доливая воду, — тебе не приходило в голову, что направление, куда бросили шар, абсолютно не важно?
— Даже если это неправильное направление?
— Может быть, правильного направления нет и все направления неправильны? А нам просто нужно за чем-то бежать, что-то преследовать? Мяч дает хоть какое-то направление. Представь, ты отправляешься в плавание в океан и отец дает тебе компас. И этот компас не показывает север. Но по крайней мере он показывает хотя бы что-то. Может быть, лучше иметь неправильный компас, чем не иметь компаса вовсе?
— Плацебо-цель…
Ли кивнул.
— Джим, общество не обманщик. Наоборот. Это навигатор, компас. Родитель, который даёт детям цель.
— Неправильную цель.
— Может быть. Но лучше так, чем без цели вообще.
— Может быть ты и прав, Ли. Но родители не обкрадывают детей.
— То есть?
0 дней, 1 час, 15 минут
Он увидел, что я смотрю на таймер.
— Джим, соберись. Это единственный способ спасти твою дочь. Продолжай. Расскажи мне, наконец, большую идею. Так что, общества воруют, ты говоришь?
— Ты знаком с историей фунта стерлинга?
— Может быть.
— Знаешь почему британский фунт называется фунтом стерлинга? Потому что до недавнего времени его стоимость равнялась одному фунту серебра. «Стерлинг» означает серебро. Один фунт стерлингов можно было обменять на фунт серебра. Знаешь ли ты, сколько серебра можно купить на один фунт стерлинга сейчас?
Ли приподнял бровь.
— Меньше, чем одну сотую от фунта серебра. Что случилось с остальными девяносто девятью процентами этого фунта?
— Что, Джим?
— Государство отобрало его у людей.
— Через инфляцию?
— Да. Государство, то есть группа людей, управляющая этим обществом, напечатала новые деньги, что сделало все деньги индивидуумов бессмысленными бумажками. Группа просто отобрала у людей сбережения всей их жизни, их пенсии. И никто, никто, Ли, даже не заметил это. — все это время, я не сводил с него глаз, пытаясь понять в правильном ли я иду направлении. За фальшивой дружелюбной маской его лицо было непроницаемым.
— Но государства на этом не останавливаются.
— Нет?
— Предположим, у тебя есть дом. Что произойдет, когда государство напечатает деньги и цены на все поползут вверх? В особенности цены на жильё.
— Я получу прибыль. Мой дом подорожает, — ответил Ли.
— Да, внезапно твой дом станет стоить намного дороже. Ты получишь прибыль. Но Ли, это будет ненастоящая прибыль. Потому что ты по-прежнему будешь владеть лишь этимдомом. Единственное, что изменится, это ценник.
— Согласен. Ничего не изменится, кроме цены.
— Если бы! — воскликнул я. — Изменится ещё одна вещь.
— И какая же?
— Государство будет считать изменение цены как прибыль и обложит её налогом. В некоторых странах государство забирает до половины прибыли. И тебе придется платить этот налог, если тебе, например, придется продать дом.
— Но я все равно останусь в выигрыше, не так ли?
— В этом и дело. Твое состояние, выраженное в долларах, увеличится. Но на самом деле, оно уменьшится. Смотри. Допустим, изначально твой дом стоил сто тысяч долларов. Потом цена выросла в четыре раза и дом стал стоить четыреста тысяч долларов. Твоя прибыль триста тысяч. Допустим, что налог составляет пятьдесят процентов и государство забирает себе половину прибыли.
— Половина от трехсот тысяч это сто пятьдесят тысяч, — сказал Ли, нетерпеливо постукивая кончиками пальцев рук друг о друга. — Итого мое состояние составит двести пятьдесят тысяч. Что в два с половиной раза больше, чем оно было. Я должен быть рад.
— Если ты измеряешь в деньгах. Но если ты измеряешь в домах, то ты потерял почти половину своего дома. Какую часть дома ты смог бы купить за двести пятьдесят тысяч? Двести пятьдесят делим на четыреста. Или около шестидесяти двух процентов. Теперь тебе принадлежит лишь шестьдесят два процента дома. Остальные тридцать восемь государство отобрало. Просто напечатав деньги.
— Государство взяло их себе. — он зевнул. — Так же, как родители заставляют детей мыть посуду. Ну и что? Что в этом нового?
Я обрывисто дышал.
Что же, что же тебе будет интересно!? А что, если…?
— Деньги Павлова! — выпалил я. — Самая большая махинация в мире.
— Деньги Павлова?
— Павлов был биологом. Он сделал одно из главных открытий человечества — условные рефлексы. Он обнаружил, что можно научить собаку выделять слюну в ответ на звук звонка. Да и вообще на любой внешний сигнал.
— Я знаю, кто такой Павлов. Но какое отношение слюноотделение собак имеет к деньгам и обществу, обкрадывающему индивидуумов?
Впервые в его глазах промелькнула тень заинтересованности.
— Речь даже не о собаках. Вопрос на самом деле фундаментальный — как работает мозг. Как устроена нервная система любого органического существа, включая человека, и как общество научилось манипулировать этим.
— И как же?
— Я начну с простых, казалось бы, очевидных вещей. Но скоро ты увидишь, как они все складываются в картинку.
— Ну давай попробуем, — сказал Ли, ёрзая на стуле.
— Когда ты кормишь собаку, она выделяет слюну. У собак есть цепочка нейронов в мозгу, связывающая еду и слюноотделение. Эта цепочка вырабатывается у щенка в самом начале жизни и активизируется каждый раз, когда собака собирается есть. Если мозг получает сигнал о том, что скоро будет еда, то сразу же начинается слюноотделение. Этоцепочка «еда-слюна». Затем Павлов обнаружил, что если некоторое время перед кормлением звонить, в мозгу собаки выработается параллельная цепочка нейронов «звонок-слюна». И скоро собака начнет выделять слюну лишь от одного звонка. Еда для этого более не нужна. Так устроена нейронная сеть любого органического существа.
— И что? — спросил Ли нетерпеливо.
— А теперь представь, что ты государство. Где-нибудь в далеком прошлом, скажем тысячу лет назад, строишь дорогу и тебе нужно платить рабочим, которые её строят. Ты платишь им едой.
— И?
— У строителей в голове вырабатывается сильная нейронная цепочка между едой и работой. «Еда-труд». Ты даешь им еду, взамен получаешь работу.
— И?
— И тут тебя осеняет идея. А что, если одновременно вместе с едой начать давать им деньги и тогда…
— Стой, подожди… — Ли резко выпрямился.
— Видишь, да? Параллельно цепочке «еда-труд» ты начинаешь создавать цепочку «деньги-труд». Эти две цепочки параллельны, они сосуществуют. И вот тут-то происходит чудо.
Ли встряхнул головой и откинулся на спинку стула, не произнеся ни слова. Он смотрел в упор на меня, собранный. Его нижняя губа сжалась в струну.
— Через какое-то время рабочие начинают привыкать к деньгам, — продолжил я. — Цепочка «деньги-труд» становится все более сильной и теперь ты постепенно можешь давать им меньше еды. Люди будут работать на тебя просто за деньги. Они переключатся на деньги, также, как собака переключилась с еды на звонок.
— Деньги — это звонок!! — он вскрикнул и вскочил на ноги. — Как же просто!!
— Деньги — это звонок, а труд — слюна. Деньги-труд. Деньги-труд. Больше нет нужды давать собаке еду, чтобы получить слюну. Больше нет нужды давать людям еду, чтобы получить их труд.
— И люди готовы работать просто за деньги! Павловские деньги. Условный рефлекс! Ну конечно!! — он ударял ладонью по лбу, ритмично отмеривая сад широкими шагами, от стенки к стенке, как заключенный в камере.
— Разумеется, — продолжил я, — им по-прежнему нужно давать немного еды, чтобы они выжили. Но в принципе они готовы работать лишь за кусочки бумаги. Тебе лишь нужно их печатать. И можешь быть спокоен, люди ничего не заподозрят.
— Общества играют с людьми также, как Павлов с собаками! — он начал выплясывать какой-то замысловатый танец. — Неплохо, молодой человек. Неплохо.
— И получают бесплатный труд. И очень замотивированный труд. В бесплатном труде нет ничего сложного — это обычное рабство. Но рабы ленивы — от них больше вреда, чем пользы. А вот движимые деньгами люди готовы работать на износ, день и ночь. Посмотри на Японию.
— Великолепно! — сдавленно воскликнул он. — Японцы работают и сберегают, но не тратят. А Японское правительство же просто печатает деньги.
— И люди этого не понимают… Как бы ты не старался им объяснить.
— Деньги — это звонок! Деньги — это звонок!! — он безостановочно повторял как мантру. Вдруг, остановившись на полушаге, он обернулся. — Джим… Знаешь, почему люди не понимают этого? Почему тебя никто не слушает, считают выскочкой и эгоистом? Отщепенцем?
Я уставился на него.
— Охотники и собиратели, доисторические люди не могли выжить в одиночку. Тех, кто осмеливался пойти против коллектива, из племени выгоняли. И они исчезали без следа. Кто же не ставил под сомнение действия племени, тех группа принимала. И они выжили. Мы все — потомки выживших приспособленцев и конформистов, предпочитавших слепо следовать группе и не задавать лишних вопросов. И поэтому сегодня мы считаем, что группа всегда права. Что бы она ни делала, она всегда права. И ты… Ты надеялся, что людипоймут деньги Павлова? Правда думал, что они будут слушать твои истории о том, как их обманывают группы? Неужели ты всерьез переживал, что непринят другими?… И из-за этой мелочи ты несчастлив? Потерял веру в людей, говоришь? Повзрослей, Джим.
Тут он затряс головой и выпалил: «Сколько у нас времени?»
Я машинально вытянул руку с таймером.
0 дней, 0 часов, 58 минут
— Тогда не будем его терять. Итак, Джим, японцы похитили твою дочь, чтобы узнать, собираемся ли мы продавать Американские казначейские облигации, так?
Я кивнул, не зная чего ожидать.
— Это большой вопрос. Вопрос на триллион долларов. Но чтобы него ответить, сначала нужно понять, зачем Китай приобрел долг американцев. Почему Китай дал в долг Америке целый триллион долларов? Что тебе сказали японцы?
— Что в 2008 году вы, китайцы, каким-то образом узнали, что Америка попытается выйти из кризиса за счет роста долга.
— Что-то вроде семьи, которая закладывает свой дом и проживает полученные деньги? — спросил Ли.
— Примерно так. Но чтобы держать процентные ставки низкими, Америка решит создать искусственный спрос на свои облигации, свой долг. Они сделают это, печатая деньги и покупая на них свои же облигации. Создав ажиотаж.
— Америка стала самым большим покупателем своего собственного долга. — кивнул Ли. — Цены на облигации поползли вверх, и кредиторы стали соревноваться за возможность дать в долг штатам. Все правильно. Типичная Система Миссисипи.
Я уставился на него и чуть было не подпрыгнул на стуле.
Планк. Только Планк мог знать это. Это не может быть совпадением!.. Или может? Что если о Миссисипи здесь знает каждый? Что если он всё же не Планк? Вдруг Эйдан ошибся?
— Мало кто смог избежать искушения и не поучаствовать в игре. — продолжил Ли. — Да и как их можно винить? Даже Исаак Ньютон, один из умнейших людей тысячелетия, и тот в свое время не смог удержаться. Когда Англия, примерно в то же время, создавала идентичную пирамиду под названием Компании Южных Морей, Ньютон был среди первых инвесторов. Когда же цена взлетела до небес, он продал акции и написал статью, в которой все назвал своими именами и объявил эту схему мошенничеством и глупостью. Но когда цена продолжила расти, он не удержался и снова купил акции, на этот раз потеряв все. Ньютон! Это тогда он сказал свою знаменитую фразу, что он может рассчитать движение планет, но не в силах понять человеческую глупость и безумие. И это он о себе! Даже ярчайшие умы бессильны и не могут сопротивляться таким схемам. Так что, как мы можем винить обычных людей?
— А Китай? — спросил я, смотря на часы.
— Мы были первыми кто понял, что штаты готовят новую Систему Миссисипи. На этот раз её назвали Программой Количественного Смягчения. Что, конечно, можно понять — каждой схеме нужно хорошее и туманное имя. И «Количественное Смягчение» подходит отлично. Если бы они её назвали «Система Списания Долга», то кто бы их купил?
Ли отхлебнул чаю.
— И вы, поняв, что стоимость американских облигаций будет расти…
— Решили начать спекулировать? Нет. Это то, что сделала Япония. Китай же купил американские казначейские облигации по совершенно другой причине. Чтобы выиграть ответную опиумную войну, самую большую в мире. Главная война современности. Я тебе расскажу вкратце.
— Какое отношение опиумная война имеет к облигациям? — в отчаянии я оборвал его. — К ответу на вопрос?
Он лишь продолжил:
— С начала шестнадцатого века, с тех пор как португальцы обогнули Африку и нашли прямой путь в Азию, европейцам понравились китайские товары. В основном, шелк, фарфор и чай. Особенно чай. Европе были нужны китайские товары, а Китаю же европейские товары были глубоко безразличны. Единственное, что нам было интересно, это серебро. Но серебро в Европе очень быстро кончилось. А как вести торговлю, если противоположной стороне ничего от тебя не нужно? — Ли постепенно начал говорить быстрее, жестикулируя руками в воздухе. — И Европа, недолго думая, переключилась с серебра на опиум. К тому моменту у Британии уже были колонии в Индии, как раз там, где климат идеален для выращивания опиумного мака. В Китае опиум был запрещен, но европейцы занялись контрабандой. И всего через пару десятилетий опиумная зависимость распространилась повсюду. По всей стране.
— И это дало Англии валюту для торговли?
— Именно. Император Даогуан попытался воспротивиться и объявил Британии войну. Но наша армия была столь отсталой, что британцам ничего не стоило развеять её по ветру.
— Ещё бы. В Европе благодаря индустриальной революции уже были пушки и пароходы. У вас же были луки и парусные лодки.
— Да, — Ли поморщился. — Европейцы полностью разбили китайскую армию, и опиумная торговля продолжилась. Это, собственно, и была Опиумная война. И скоро все серебро перекочевало обратно в Европу в обмен на опиум. Китай разорился и превратился в наркомана без единого медяка в кармане. Мой дед много рассказывал о том жутком времени.
— Какое отношение это всё имеет…
— Что является современным опиумом? — спросил он. — Что Китай продает остальному миру?
Я уставился на него с раскрытым ртом.
— Да, Джим. Ты прав. Потребительские товары. Потребление — это основная движущая сила современных обществ. И мы научились производить их лучше и дешевле, чем другие. И в обмен мы получаем мировое богатство. Наше богатство. Просто забираем его назад.
— Потребительские товары — это новый опиум?
— Желания могут создать зависимость посильнее опиумной. Ещё Будда знал это. Знаешь какой вид недвижимости пользуется спросом в штатах? Хранилища. Люди покупают так много ненужных им вещей, что им становится негде их хранить. И тогда они просто арендуют место в хранилище и складывают туда всё старое, чтобы освободить место для новых вещей. Типичное поведение наркомана.
— То есть теперь Запад — наркоман, а Китай — контрабандист? Роли поменялись?
Я сидел, закрыв глаза, пытаясь осознать.
— Это же… Невероятно… Но как?
— Как что, Джим?
— Как у вас получилось провернуть всё это, что никто не заметил?
— Нет, ну конечно были те, кто заметил. И даже пытались что-то с этим сделать. Баффет, например. Я помню как он целую статью написал в Форчун. Огромная была статья, почти в полжурнала. «Торговый дефицит Америки вымывает страну прямо из-под нас» — как-то так она называлась… Но никто не обратил внимания. Даже не повел бровью. Никто.
— Никто не обратил внимания на Баффета?
— Все получали прибыль. Политики были рыцарями глобализации, продавцы всех мастей получали комиссии, а обычные люди вдруг почувствовали себя намного богаче — ведь китайские продукты были настолько дешевле! Экономика росла, все были довольны. Все были счастливы.
— Кроме Баффета…
— Просто он сидел выше и видел дальше. Но даже он не смог идти против толпы. И все катилось по наклонной вплоть до 2012 года. Тогда Запад начал подозревать, что что-то не так. Их начал тревожить наш экономический рост. И тут нам пришлось пойти на несколько трюков, отвлекающих маневров. Мы провели дезинформационную кампанию под названием «в Китае кризис». Мы убедили мир, что Китай на грани коллапса.
— То есть?
— Это почти как в регби. Представь, в следующем месяце у тебя игра против сильного противника. Какие у тебя могут быть две информационные стратегии? Либо попытаться запугать противника своей мощью так, что его сила воли дрогнет. Или прикинуться слабым и покорившимся. И тогда твой противник вместо тренировок проведет этот месяц в баре, заранее празднуя победу. Мы пошли вторым путем.
— Как?
— Мы притворились, что у нас экономический кризис. Помнишь кампанию о городах-призраках? О том, что мы построили миллионы домов, в которых некому жить? Эта кампания отвлекла Запад. Представляешь, они поверили, что у нас не хватит людей, чтобы заселить новые дома! Но поверили же. И в итоге вместо того, чтобы начать собираться с силами, они продолжали праздновать. Ну действительно, кто будет волноваться по поводу Китая, страны на грани развала.
— Вы манипулировали статистикой и новостями! — воскликнул я.
— Конечно. Запад думал, что мы фальсифицируем статистику, чтобы показатели выглядели лучше. Но в действительности мы делали прямо противоположное — искажали показатели в худшую сторону. Чтобы они не заметили нашего роста.
— Когда сильный, притворись слабым?
— А когда близко, притворись что далеко. Искусство Войны, Сун Цзы. Обмани врага и пробуди в нем самодовольство. К 2014 году нам удалось убедить мир, что мы на грани коллапса. Все начали считать, что Китай больше не будет покупать сырье. А на тот момент мы уже были крупнейшим потребителем железа, меди, угля, нефти, ну и так далее. Если Китай схлопнется, то кто все это будет покупать?
— И цены на сырье рухнули.
— Цена на нефть упала со 120 долларов до 30. И кто от этого выиграл? Кто крупнейший покупатель? Вот так то… И заодно мы бесплатно получили всю нефть и газ Сибири.
— Всю нефть Сибири?
— Мы заключили контракт на всю нефть Сибири. Как раз в это время. И проложили нефтепровод. Нефть с этих месторождений теперь может идти только нам. У нас монополия. Сибирь теперь наша. Как у штатов есть Канада, так теперь у нас есть Россия, — он усмехнулся. — И знаешь по какой цене?
Я молча смотрел на него.
— Около 30 долларов за баррель. Практически бесплатно. Мы получили всю Сибирь даром. В подарок.
— Искусство ведения войны, когда противник не знает, что идет война!
— Победить в войне ещё до её начала. Если Сун Тзи всё-таки существовал, он точно был одним из этих, твоих, из Планков. Вот так мы подсадили Запад на потребительскую иглу иполучили Сибирь.
Я снял с руки таймер и положил его на столик между нами циферблатом вверх. Красные цифры отражались в прозрачном стекле чайника.
0 дней, 0 часов, 45 минут
— И какое отношение эта ответная опиумная война имеет к Американским казначейским бумагам?
— Прямое. Деньги у штатов кончились давно, задолго до 2008 года. Им нечем было расплачиваться за наши товары. И тогда мы в обмен на опиум — то есть товары потребления — стали брать американские долговые облигации. Так постепенно у нас накопилось американских казначейских облигаций почти на триллион долларов. Мы продавали в долг.
— И так вы стали крупнейшим их держателем? В обмен на ваш опиум?
— Именно. Точно не из-за спекуляций. Не как Япония. И теперь главный вопрос. Зачем нам столько американского долга? Мы уже получили почти все, что хотели от Запада. Они отдали нам все свои ключевые технологии. Просто так, представляешь? Вообще удивительно, с какой легкостью западные компании, конкурируя между собой, расставались с ними. Технологиями, на разработку которых у Запада ушли десятилетия. Мы же получили их просто так. Так что не так много на Западе осталось технологий, которых у нас ещё нет. Потом мы скупали недвижимость в ключевых городах. Нам удалось получить её в обмен на товары потребления.
— Почти как датчане, купившие Манхеттен за бусы.
— Один в один как Манхеттен! Так что у нас уже есть почти все.
— И что дальше?
— Есть последний, самый главный актив, который ещё остается у Америки.
— Какой же?
— Статус мирового банкира. Возможность печатать деньги для всего мира. Весь мир фактически начинает работать на тебя просто так, за твои деньги. И тебе ничего не стоит напечатать их ещё. Мир становится твоей собакой. Все, что от тебя требуется, это позвонить в звонок, и эта собака будет работать на тебя. И более не нужно ей давать еду — она будет работать просто так…
— Мир это — собака Павлова… — пробормотал я.
— И Америка была тем ученым, который приручил её к звонку, к американским долларам. Америка — это Павлов.
— Черт побери!!! — я глухо вскрикнул. — Америка натренировала мир работать в обмен на свои деньги. Штаты — это Павлов. И вы…
— Именно. И мы собираемся отнять у них эту собаку. Перегрузить этот условный рефлекс. Перетренировать её на китайские юани. Ты можешь себе представить, что произойдет, когда мы станем всемирным Павловым? Когда весь мир будет нашей собакой?
— Весь мир будет работать на вас просто так. Бесплатно!
— Именно. Теперь понимаешь, зачем нам американские казначейские облигации? Почему мы не можем их продать? Потому что они нам нужны, чтобы приручить собаку.
— Сделать её своей, но как? — спросил я.
— Казначейские облигации дают власть кредитора над должником. Власть обанкротить должника.
— Но штаты ведь всегда могут напечатать ещё долларов и отдать вам долг ими? Как можно объявить их банкротом, если они печатают деньги?
— Решим простейшую математическую задачку. Представь, что ты должен двадцать триллионов долларов, что примерно равняется американскому долгу.
— Предположим.
— В нормальных условиях тебе бы пришлось платить по этому долгу примерно пять процентов в год. Около триллиона. Но поскольку ты создал искусственный спрос на свои облигации, свой долг…
— Система Миссисипи…
— Именно. Так что поскольку ты создал ажиотаж, люди готовы давать тебе в долг очень дешево. Практически бесплатно. Или, иными словами, под практически нулевой процент. Или даже, как мы видели, под отрицательный процент — так сильно они хотят купить твои облигации. И в результате, вместо триллиона в виде процентов по долгу, ты не платишь практически ничего. Все дают тебе в долг бесплатно.
— Умно!
— Глупо. Невероятно глупо. Поскольку это работает только пока процентные ставки низкие. Пока тебе готовы давать в долг бесплатно.
— А почему процентные ставки должны вырасти? Если вы захотите избавиться от облигаций, штаты просто напечатают вам триллион долларов.
— Это было бы так, если бы триллион казначейских облигаций были нашим единственным оружием. На самом деле, облигации лишь щит, который воин держит в левой руке. Самое главное то, что в правой.
— И что же в правой руке?
— Меч. Наше главное оружие. Ты же знаешь, что в последние два десятилетия инфляция в штатах была рекордно низкой? Знаешь почему? Из-за дешевого китайского импорта. Наши товары были намного дешевле, и поэтому цены не росли. Низкие цены означают низкую инфляцию. И что произойдет, когда мы перестанем продавать Америке наши дешевые товары?
— Цены взлетят вверх. Гиперинфляция!
— Именно. Представь, завтра ты заходишь в торговый центр неподалеку от своего дома и видишь, что цены практически на все поднялись на треть. А теперь ответь мне: кто даст тебе в долг под нулевые процентные ставки, если цены на все вокруг растут на тридцать процентов в год? Кто даст тебе в долг под пять процентов? Или даже под десять?
— Никто!
— Именно. Допустим, что проценты возрастут до десяти процентов в год. И сколько процентов тебе надо будет платить по тем двадцати триллионам, которые ты должен?
— Два триллиона.
— Откуда ты их возьмешь? Весь твой оборонный бюджет меньше триллиона.
— Напечатать?
— Если ты напечатаешь два триллиона, ты практически удвоишь количество денег в экономике. Это означает гиперинфляцию. И что произойдет, если у мирового банкира начинается гиперинфляция?
— Он теряет доверие, статус мирового банкира, — ответил я.
— Есть ли еще какой-нибудь способ выплатить два триллиона долларов процентов?
— Занять их.
— Именно. Предположим, что ты решил занять два триллиона долларов, чтобы расплатиться с процентами по предыдущему долгу. И в тот самый момент, когда ты хочешь это сделать, кто-то выставляет на продажу целый триллион твоего долга.
— Китай?
— Да, мы. Неужели ты серьезно рассчитываешь, что найдешь хоть одного кредитора?
— Гениально! Это вызовет дефолт.
— И потерю статуса мирового банкира. Дефолт уничтожит старого Павлова, и Китай станет новым! Мир станет нашей собакой! Мы уведем её у Америки, приручим эту собаку, выработаем в ней новый условный рефлекс. Натренируем её работать на нас за юани, также, как она сейчас работает за доллары. И вся эта операция будет нам стоить какой-то жалкий триллион. Выгодное дельце, я тебе скажу, Джим. Триллион казначейских облигаций в обмен на собаку. — откинувшись на стуле, он был похож на довольного шахматиста, только что разнесшего в щепки защиту противника.
— Так что мы не продадим наше оружие, Джим. Эти казначейские облигации нужны нам для дела. Ты можешь быть уверен в этом. Это твой ответ. Твоя миссия выполнена. Дело раскрыто. Иди и спасай дочь.
0 дней, 0 часов, 35 минут
Это ответ. Спасен! Спасена!
Легкость обхватила меня как скалолаза, висящего на отвесной стене и в последний момент, перед тем как сорвется рука, сумевшего закрепить карабин. И спастись. Обессиленный, я сполз вниз по спинке стула.
Но вдруг внутри меня что-то дернулось. Какая-то тревожная пружина. Да, он дал мне ответ, но что-то было не так.
Постой, постой… Джим, а вдруг он дал тебе фальшивый ответ? Что, если история ему не понравилась? Как он сказал? «Ты получишь неверный ответ. Но узнаешь ты об этом только когда уже будет поздно». Так вот это он и есть!.. О, черт побери!! Он же дал тебе неверный ответ. Это же ответ-обманка! Точно! Обманка! А-а-а, что делать?!
Я смотрел на Ли, но на нем снова была дружелюбная, хоть и слегка обеспокоенная маска.
Спокойно, спокойно. Ещё есть время. Испытай его!.. Но как?… Как понять, сказал ли он правду? Как?!
— В твоей истории что-то не сходится.
— Что?
— Эта ваша ответная опиумная война, это настолько сложный план, требующий деятельного участия стольких людей. Авторитарному государству провернуть такую схему не под силу. Слишком сложно для автократии. Да и вообще, они просто столько не живут, умирая вместе со своим вождем. И вот Китай — чистая автократия. Как ты утверждаешь, уже двадцать лет вы ведете ответную опиумную войну, самую сложную игру тысячелетия. Как это вообще возможно? Что-то здесь не клеится. Авторитарные государства не могут осуществить такие сложные схемы. Что-то во всей твоей истории не так.
Джим, что ты несешь? К чему это? — крутилось у меня в голове.
— Ты не понимаешь, Джим. Китай — это не автократия. Это заблуждение. Вы, лаоваи, этого не понимаете. Да и сами китайцы толком не знают, что такое Китай. Что ты скажешь, если я скажу, что Китай — это крупнейшая в мире демократия?
— Демократия? — я взвыл. — Зачем ты суёшь мне это пропагандистское клише?
Так и есть!.. Он просто хочет от меня отделаться! Он дал мне неверный ответ. Обман, это всё обман!
— Я абсолютно серьёзен. Джим, на минуту забудь всё, что ты знаешь о Китае. Выбрось это из головы, начти с чистого листа. Готов?… Китай — это политея.
— Какого черта, что это ещё такое, политея?! — от отчаяния я перешел на крик.
— Почти все на Западе придерживаются простой логики. Той же самой логики, которую ты сейчас сказал. Они думают, что поскольку авторитарные государства не способны быть эффективными и иметь работающую экономику, они обречены на распад и исчезновение. И это так — история замусорена сотнями примеров несостоявшихся автократий. Взять хотя бы Советский Союз. Но далее из этого они делают вывод — тот же самый вывод, что сейчас сделал ты — Китай обречен повторить эту судьбу. И вот тут они не правы.
— Нет?
— Нет. Китай — это не автократия. Может быть это действительно звучит очень странно, но Китай действительно демократия. Конечно, это не стандартная демократия, вовсе нет. Это гибридная демократия…
Что за ересь? Что он несет?! Обман!
— Синтетическая гибридная система, специально спроектированная, чтобы избежать дефектов и изъянов обычных демократий и в тоже время сохранить их преимущества.
— И кто же её спроектировал?!
— Когда старая, имперская система распалась, мы отправили сотни исследователей во все основные страны мира на поиски новой формы государственного устройства, которая бы нам подошла. Двух из них ты знаешь — Джоу Энлай и Ден Сяопин. Первый исследовал Японию и Западную Европу. А второй — Россию и Францию. В Париже они и встретились в 1920 году. Собственно, там все и началось. Встретились два величайших мыслителя столетия.
Я вдруг заметил, что Ли странно смотрит куда-то вниз. Проследив его взгляд, я увидел, что у меня непроизвольно дергалась рука. Судорожным движением я подложил её под себя.
— Они быстро поняли, что демократия — самая эффективная форма управления. Они попытались разобраться, почему демократии доминируют в современном мире и достаточно скоро выяснили, что из-за выборов. Затем они поняли, что ценность выборов не в том, что они приводят к власти умнейших и наиболее способных лидеров. Вовсе нет. Скорее даже наоборот — к власти по большей части приходят посредственности. Ценность выборов в том, что они не дают старым лидерам остаться у власти. Ротация, смена лидеров — вот что самое важное. Без периодической смены руководства бюрократы быстро захватывают рычаги управления страной. Формируются кланы, которые цементируют элиту. И через этот бетонный саркофаг не просачиваются ни новые идеи, ни новые люди. Политическая ткань общества перестаёт обновляться. Следующий шаг — стагнация и смерть. И выборы — это главный механизм, чтобы этого избежать. Это как помешивать суп, чтобы он не подгорел…
Я весь дрожал. Обманывает, он обманывает меня…
— Но у выборов есть один колоссальный недостаток. Популизм. Ещё Аристотель задавался этим вопросом. Он изучил историю десятков демократий, которые образовывались то тут, то там на греческих островах и обнаружил, что все они распались из-за популизма. Коc, Родос, Гераклея, Мегара, Цим, — все они проследовали одним и тем же путем — от власти народа через власть демагогов к власти тиранов. Популизм — это естественная и неминуемая терминальная стадия демократий. Это то, как они умирают. В чем заключается стратегия демагога? Пообещать то, что никогда не может быть дано. Любой рациональный политик в сравнении с демагогом кажется блеклой молью. И кто наиболее уязвим для подобных обещаний? Кто им верит? Люди. Обычные люди. Ведь у большинства людей просто нет достаточно опыта, чтобы распознать пустые обещания. Они зачастую не могут здраво взвесить факты.
Я молча смотрел на него.
— Джим, посмотри хотя бы на главный налог на глупость — лотереи. Мало что может посоревноваться с лотереями в обмане людей. И этот обман лежит на поверхности, никто даже не пытается его скрыть. И тем не менее, миллионы раз за разом выстраиваются в очередь за билетом. Все, что для этого нужно, лишь показать по телевизору одного счастливца, которого лотерея обогатила. Математика, теория вероятности и здравый смысл бессильны перед эффектом Золушки. Людям нужна мечта, надежда мгновенно вырваться из унылой серой реальности в новый, сверкающий мир. И популисты это знают.
Он перевел дыхание и продолжил:
— Чтобы лишить популистов их силы, нужно, в первую очередь, отсечь их от их основной аудитории — простых людей. Всеобщее голосование, когда каждый получает по одному голосу, это основа, фундамент популизма. Когда один обычный человек имеет такой же голос, что и выдающийся, у популистов появляется гигантское преимущество. Гигантское! Стандартный способ борьбы с этим — либо олигархия, либо аристократия. Но власть и денег, и наследных имен нарушают закон ротации, из-за чего обе эти формы правления ведут к упадку и распаду даже быстрее, чем демократия.
Он вздохнул.
— Тут может показаться, что популизм неизбежен. Но Ден и Джоу откопали давно всеми забытую идею Аристотеля. Политею.
— Политею?
— Смесь олигополии и демократии. Гибридная система, где к выборам допускается только способные люди, а плебс отсекается. Аристотель полагал, что способные люди намного менее уязвимы перед популизмом. Они способны мыслить критически. Аристотель называл эту систему политеей. Но поскольку такие системы в природе практически не встречаются, сам он её считал утопией. Ведь как находить и выбирать способных людей?… И вот здесь-то и засиял гений Дена и Джоу. Они поняли. Они нашли способ.
Он более не сидел отрешенно, как судья. Наклонившись вперед, он впихивал в каждое дыхание сразу по несколько предложений, его глаза горели.
— Они нашли даже два способа. Первый очень прост — дать каждому человеку право отказаться от своего голоса в обмен на деньги. Именно не продать, а аннулировать голос. И назначить высокую цену, которая отсеет всех, склонных к популизму. Скажем, если заплатить за голос тысячу долларов, то девяносто процентов людей возьмут деньгами. Но у этого способа есть недостаток — он слишком меркантильный, очевидный. Не оставляет места романтике и идеологии. Но Ден и Джоу нашли способ ещё лучше.
0 дней, 0 часов, 29 минут
— В отличие от постсоветской России, мы сохранили Коммунистическую партию. Но это мутант… Гибрид… В Советском Союзе членство было своеобразным билетом в лучшую жизнь. Наша же партия не даёт своим членам никаких материальных привилегий. В Советском Союзе если ты не был членом партии, твоя жизнь была ничтожна. В Китае же твоя жизнь ничтожна, если ты член партии. Чувствуешь разницу? Членство в нашей партии не дает никаких благ и преимуществ. Наоборот, члены должны платить значительные для них взносы и посвящать этому кучу личного времени. Они идут на жертвы, чтобы быть членом партии. И партия изо всех сил старается, чтобы все знали, как велики эти жертвы. Время от времени даже начинаются как бы стихийные кампании в газетах, где члены партии анонимно жалуются на свою тяжелую долю и непосильные взносы. Знаешь зачем?
Я уставился на него.
— Партия это система с негативным самоотбором… Она постоянно посылает во вне сигналы о том, как в ней все плохо, отпугивая случайных людей и искателей легкой жизни. Они сами себя отсеивают. И это сработало на удивление хорошо — несмотря на то, что любой может войти в партию, у нас всего девяносто миллионов членов. Менее семи процентов населения. Но зато это люди, которые хотят участвовать в управлении обществом и готовы ради этого на лишения и издержки. И они способные. Самоотбор, мой друг, самоотбор. Их не надо выбирать. Они сами себя выбирают.
Он перевел дыхание.
— И вот каждые десять лет эти семь процентов меняют руководство. Избирают новую элиту. Ротация. Разумеется, там не один человек — один голос. Система более сложная. Но каждый в той или иной степени влияет на решение. И они делали уже это пять раз. Полвека подряд. Так что это очень живучая система. И это не автократия, мой друг, это политея. Демократия, где голос дается только способным. И где способные находят, отфильтровывают себя сами. Сам Аристотель считал свою политею утопией. Мы же её построили, величайшую демократию в истории человечества! Поэтому-то мы и смогли осуществить ответную опиумную войну. У Запада теперь нет шансов. Их время ушло. Просто наша система более эффективна. Это более продвинутая версия демократии. И она неизбежно вытеснит устаревшую, западную модель. Вот и всё. Эволюция, Джим.
0 дней, 0 часов, 26 минут
— Демократия, говоришь? А Культурная Революция? Вы убивали своих же ученых. Вы посылали их в деревни.
— Не только ученых. Вообще всех образованных. Знаешь, что было главным открытием Павлова? Вовсе не условные рефлексы.
— Какая связь…?
— Знаешь, что случилось с его собаками в 1924 году, когда подвал, где он их держал, затопило разливом Невы? Это были те самые собаки, приученные к звонку. Павлов потратил годы, чтобы выработать в них рефлекс. Он добрался до них, когда вода уже подступала к самому потолку клеток. Так вот, знаешь, что было с теми собаками, которых он успел спасти?
— Что?!
— Все рефлексы были стерты. Как будто и не было всех тех лет тренировок. Так он и выяснил, что может уничтожить, перезагрузить старые рефлексы. Стресс. Стресс стирает их подчистую.
— И?
— Почему Китай проиграл первую опиумную войну? Почему мы стали жалкой колонией Запада? Потому что наше общество не смогло перестроиться. Наши элиты — бюрократы, интеллигенция — за столетия династии Тин закостенели. Все эти городские жители сопротивлялись любым реформам. В них были заложены старые, имперские рефлексы. Нужно было их перезагрузить.
— И вы затопили китайское общество?! — я уставился на него, раскрыв рот.
— Мы послали городских в деревни и поставили крестьян ими руководить. Нужен был стресс. Что может быть большим стрессом, чем когда твой вчерашний подчиненныйстановится твоим начальником? Мы перезагрузили общество. Начали с чистого листа.
— Но убивать?
— Не специально. Мы не убивали ради удовольствия или мщения, как Сталин. Мы уничтожали, лишь когда не было другого выхода.
И тут меня прорвало:
— Так ты уничтожил Тьяо, свою племянницу? Не было выхода?
Его лицо в мгновение почернело, бездонные глаза вспыхнули, обезумев от боли. Он сидел передо мной, пытаясь ртом схватить воздух.
— Это… Это они… Они… Её собственные студенты… — судорога свела его тело. Он замер и стал говорить кусками, перехватывая дыхание. — Она преподавала физику, и кто-то… какая-то сволочь… донёс… они обвинили её в саботаже… Толпа убила её прямо во дворе университета… Палками и ногами. Затоптали. Её собственные ученики… Они разорвали её на части… Не партия… Не мы… Ничего… Я ничего не мог поделать… Когда я приехал…
И тут выдержка окончательно покинула его. Он сорвался в крик.
— Ну что, Джим… Что? Что я мог поделать?! Я стоял там, с двумя моими солдатиками против тысяч. Эти разъяренные лица, красные глаза… Обезумевшая толпа… Я смотрел как её убивают и не смог двинуться с места, отдать команду… Не смог, Джим! Это, это были не люди… Животные, готовые разорвать любого… Я всегда думал, что у меня есть… смелость. Что я рожден, чтобы вести вперед других. Что я лидер… Но тогда, в центре беснующейся толпы, когда я мог отдать команду, но не отдал… хотя бы попытаться спасти… но не попытался… и в тот момент я понял, что я… что я… — гримаса невыносимой боли скрутила его лицо.
— Что?
— Трус.
Нет, эти бездонные глаза не высохли… В них есть слезы.
— А звонок? Как же телефонный звонок? Ты сам говорил, что было достаточно позвонить по телефону.
— В тот вечер, сразу после того, как Тьяо… у меня был выбор. Чтобы меня считали либо трусом, либо бессердечным циником. И я опять струсил… Я выбрал второе. И придумал всю эту историю со звонком. Люди не дадут вести их за собой, если будут считать тебя трусом. — его плечи содрогались в судорогах. — Подлецом — пожалуйста. Но не трусом. За последние пятьдесят лет не было ни ночи, ни ночи, Джим, чтобы я не думал о самоубийстве. Пятьдесят лет, Джим…
— Аристотель был бы счастлив: ты построил его мечту…
— Звони японцам, — сказал он, уткнувшись в рукав. — У нас заканчивается время.
У нас…
0 дней, 0 часов, 22 минуты
Через минуту на столике лежали два мертвых телефона — один мой, другой Ли. Ни в одном не было сигнала. Пульс в висках забил железным молотом.
— Джим, они оба Чайна Мобайл. Нам нужен другой оператор. Быстро иди в парк и найди кого-нибудь с Чайна Юникомом или Телекомом. Быстрее!!
Не успел я сделать шаг к двери, как от кирпичной стены отделилась тень.
— Попробуй мой.
Она протянула синий Нокиа с кнопками.
Сестра Ли… Она всё слышала. Она была здесь…
Ли, обернувшись, замер. Он пытался что-то сказать, но не мог. Его как будто парализовало, превратив в перекрученный мраморный камень.
Он же не слышал её… пятьдесят лет…
— Это другой оператор, Юником, он ещё должен работать, — сказала она. Её глухой, шершавый голос дрожал.
Я бросился к ней и выхватил телефон. Он озарился бирюзовым светом. На индикаторе сигнала было три полоски. Я упал на колени и судорожно начал набирать сообщение: «Фил, Китай не продает бумаги. Пришли подтверждение. Джим». Набрав номер телефона, я раз за разом перечитывал сообщение, пока, наконец, не нажал на зеленую кнопку. Телефон беспомощно пискнул и полоски сигнала погасли. Сообщение осталось в папке неотправленных.
— Здесь нет стационарного телефона. — прошептала она в отчаянии. — Чайна Телеком… У них другая система, старая… она еще может работать. Найди Чайну Телеком…
Я метнулся к двери. Руки дрожали, я едва смог провернуть круглую ручку замка. Закрывая дверь, я обернулся. Ли сидел, окаменев. Его сестра стояла за ним, обхватив его голову руками, прислонившись. Оба плакали. Её губы шептали: «Прости, прости».
* * *
Я поднял капюшон и выбежал за угол, в поиске говорящего по телефону. Не успел я дойти до перекрестка, как сзади раздалось:
— Не двигаться, не двигаться. Полиция!
Я успел развернуться, чтобы увидеть двух крепышей с квадратными лицами в гражданской одежде. Первый был ближе и уже хватал меня на рукав, готовясь вывернуть назад мою руку. Второй подходил прямо за ним. Они двигались уверенно и не спеша, словно не привыкнув к сопротивлению.
Рефлекторно я освободился от захвата и несколькими когда-то давно отработанными ударами отправил обоих на землю. Рядом кто-то вскрикнул. Обшарив первого, я извлек из его кармана телефон, но отбросил в сторону — на нем была блокировка паролем. Телефон второго тоже запросил код, но на лоснящемся экране отчетливо проступала буква «V». Я провел по ней пальцем и телефон, послушно завибрировав, открылся. В углу сверкнула эмблема «Чайна Телеком». Сигнал был почти в полную силу. Поспешно спрятав телефон в нагрудный карман, я оглянулся. Вокруг собиралась толпа. Раздались крики и несколько женщин из толпы начали указывать на меня пальцем.
Отсюда, Джим. Скорее.
0 дней, 0 часов, 19 минут
Нужно найти спокойное место. Быстро!
Добежав до перекрестка, я повернул за угол и сбавил скорость до быстрого шага. Оглянувшись и не увидев каких-либо преследователей, я снял и вывернул на изнанку куртку, сменив её цвет с черного на грязно-серый.
Только не беги. Не привлекай внимания.
Через дорогу был квартал старых советского домов с зарешеченными окнами вплоть до самого верхнего этажа. Общие ворота были открыты настежь, и охранник внутри будки не проявлял ко входящим никакого интереса. Оглянувшись по сторонам, я нырнул внутрь и начал петлять в лабиринте узких проходов. Редкие прохожие не обращали на меня внимания. В каком-то заполненном битым кирпичом углу, за сохнущим на веревке бельем, я заметил узкую нишу, скрытую в стене. Протиснувшись внутрь, я достал телефон и набрал сообщение: «Фил, это Джим. Китай не продает облигации. Китай НЕ продает облигации. Подтверди получение».
Тридцать секунд спустя круг на экране ещё вращался. Я уставился на экран, стараясь не моргать. Но ничего, решительно ничего не менялось. Круг продолжал вращаться.
Вдруг ниша блокирует сигнал?!
Держа телефон высоко над собой, быстрым шагом я двинулся вперед, смотря на экран. Несколько поворотов, и проход вывел на шумную улицу, заполненную электрическими скутерами и людьми. На противоположной стороне дороги, вдоль канала, виднелся десяток деревьев, сгрудившихся вокруг вышки сотовой связи. Круг продолжал вращаться.
Надо звонить Филу напрямую!
Я перебежал дорогу, набрал воздуха и нажал кнопку набора номера. Несколько секунд спустя автоматический женский голос что-то сказал по-японски и, не дожидаясь моего ответа, повесил трубку. Я держал телефон двумя руками, не веря глазам.
Что делать? Что делать?!
Внезапно со всех сторон сразу, как по команде, завыли сирены. Как лавина они приближались, неумолимо заполняя собой всё пространство вокруг. Пути назад были отрезаны и в панике я заполз под ветви ивы, пожухлые концы ветвей которой исчезали в грязной воде. Прислонившись к стволу, я уставился в экран. И тут моё сердце подпрыгнуло — телефон завибрировал и круг на экране исчез.
Ушло! Отправилось!
Я посмотрел на таймер.
0 дней, 0 часов, 6 минут
Успел. Спасена. Спасена!
Я осторожно выглянул из-за густых ветвей. Парк уже заполнился полицейскими в форме. Меня пока не заметили, но это был лишь вопрос времени. Все, что оставалось, это сидеть, обхватив телефон как спасательный круг и ждать подтверждения.
Телефон снова завибрировал и конверт нового сообщения появился на экране. Дрожащими руками я нажал его:
«Сообщение не может быть отправлено».
Со стоном я рухнул на землю. Снаружи раздался крик. Меня нашли.
Мария, дитя, прости… Прости меня…
* * *
Холодно, как же холодно…
Все, на что оставались силы, бормотать про себя одно и тоже, по кругу. В cумраке комнаты не было ничего, на чем можно было бы сосредоточиться, чтобы хоть как-то отвлечься от пронизывающего холода. Серые бетонные стены, пол, потолок — даже стол — были сделаны из гладкого серого бетона. Единственной не серой вещью был свитер Эйдана на мне. Ботинки куда-то пропали. Вместо них металлические браслеты обжигали оголенные ступни. Таймер тоже исчез.
Я попытался прокашляться, но как будто сотни иголок пронзили горло, и от боли выступили слезы. Спазм глубокого, сухого кашля скрутил тело, и разум быстро поставил диагноз — пневмония.
Раздался резкий щелчок и в глаза ударил свет, парализовав меня, как оленя в свете фар.
— Кто ты? — раздался голос из-за лампы.
— Мне нужен телефон, пожалуйста. — собственный голос звучал чужим.
— С какой целью ты в Китае?
Я посмотрел на запястье, где раньше был таймер.
— Сколько времени? — я почти умолял.
Как долго я здесь? Мария!
— Что ты делаешь в Китае? — голос был плоским и безразличным, как если бы читал по бумаге.
— Один звонок, пожалуйста.
— Как ты пересек границу? Кто ты? На кого ты работаешь?
— Я расскажу все, абсолютно все. Но дайте мне сделать звонок. Всего один звонок. Я сделаю всё.
— И кому ты собираешься звонить?
— Моя дочь, — я прохрипел в промежутках между приступами кашля. — Она в опасности!
— Какой опасности?
— Её похитили. Они убьют её!
— И ты приехал в Китай, чтобы спасти её?
— Да. Дайте мне телефон. Лишь одно сообщение, пожалуйста! От этого зависит жизнь.
— Нам известно, что ты прибыл в Китай, чтобы выкрасть государственные секреты. Ты знаешь, что это означает? Шпионаж. Пожизненное заключение. Но твой случай даже хуже…
— Сообщение, одно сообщение, пожалуйста! — я умолял.
— Ты пересек границу незаконно, — голос продолжал. — Официально, ты больше не существуешь.
— У меня не было выбора. Моя дочь…
— О чем ты только думал? Теперь ты никогда больше её не увидишь.
— Пожалуйста, один звонок. Она умрет, если я не позвоню до полудня субботы.
— Ну, — он выглянул из-за лампы, и я увидел молодое, квадратное лицо с острым подбородком. — уже среда.
Он ухмыльнулся, в открытую наслаждаясь моей агонией.
Я провалился в пустоту.
Глава 7
Сколько я здесь? Три месяца? Шесть? Зачем меня пытают, что хотят выяснить? Им и так уже всё известно. Какой смысл допрашивать еще? Просто чтобы вымотать? Им это уже удалось. Я потерял счет допросам. Сто? Или двести? И все те же вопросы. Одни и те же, как если ответы их не интересуют. Я закашлял и грудь сжалась в спазме.
Мой бедный ребенок… Прости меня…
Дверь открылась и зашел следователь с небольшим кожаным чемоданом. Его шаги отозвались эхом, как в склепе. Этот был новый, я его ещё не видел. Под шестьдесят. И было ясно, что он не отсюда. Все предыдущие были молодые и стройные, как высеченные из камня. Этот же полноватый, коротышка с небольшими мягкими ладонями, круглым лицом и серыми бровями, сросшимися посередине.
Он пересек камеру и поставил чемодан на стол. Оба охранника, не произнеся ни слова, вышли и закрыли за собой дверь. Короткий посмотрел на меня, хмыкнул и подтащил поближе к кровати металлический стул, к которому они приковывали меня во время допросов.
Свернувшись калачиком в дальнем углу бетонной кровати, я дрожал. Любое движение приносило отупляющую боль. Меня уже давно перестали пристегивать. Я закрыл глаза.
— Джим, я наслышан о тебе, — начал он. — Говорят, ты собираешь разные безумные истории.
Я молчал, не в состоянии двинуться.
— Тебе, я уверен, понравится моя история, — продолжил он.
Было что-то странное в его голосе. Звуки резонировали в его груди, как у контрабаса. Он говорил низким, рычащим голосом. Слишком низким, и слишком мощным для такого маленького тела. И вдруг я почувствовал… Его голос не был серым. Здесь он был единственной не серой вещью. В нем были эмоции.
— Что стало с моей дочерью? — прошептал я.
Последовала длинная пауза, затем он продолжил нарочито медленно, будто пытаясь что-то донести.
— Джим, я говорю. Ты слушаешь. Но слушаешь очень внимательно. Понял?
Его взгляд метнулся, пытаясь найти мои глаза. Снова последовала долгая пауза.
— Ли рассказал тебе, что общество — это родитель, приглядывающий за детьми, не так ли?
— Ты… ты слышал наш разговор?
— Ну конечно. За кого ты нас принимаешь? — ответил он. — И он сказал тебе, что общество дает компас, направляющий через океан бессмысленности, да?
Тут он засмеялся, скрестив руки на груди.
— Что за старый, слепой дурак, право! Трудно поверить, что время делает с людьми, Джим. Можешь представить, он ведь был архитектором Китая. Китай — это его детище!
— Кто?!
— Ли. Он был одним из основателей. Дэн Сяопин был лидером, вроде директора. Лицом, фасадом. Мозгом операции всегда был Ли. Но теперь он бесполезен. Погрязнув в древних теориях, он отказывается посмотреть на вещи по-новому. Он устарел, вышел в утиль. Единственный теперь от него толк — это наживка.
— Наживка?
— Да. Чтобы ловить шпионов и исследователей. Таких как ты.
— Вот почему, — я зашелся в кашле, — вы сделали его столь доступным! Вы специально сделали, чтобы его можно было найти через сестру.
— Ну конечно. Время от времени вдруг появляются искатели Спящих Драконов. И мы даем им то, что они ищут. Отставного Спящего Дракона на крючке.
— Спящих Драконов?
— Ты называешь их Планками. У кого есть понимание.
— Ы-ы-ы, — я закрыл глаза.
— Довольно о нем. Он не более, чем параграф в книге истории, которая никогда не будет прочитана. Лучше скажи мне, думаешь ли ты по-прежнему, что общество — враг человека? Или Ли тебя переубедил?
— Какое?… Какое это имеет значение?
Мария… Мария…
— Какое значение имеет вообще что-либо, Джим? Так что скажи, враг ли общество индивидуумам? Враг ли общество?
Я обхватил голову руками, чтобы не слышать его.
— Ведь Ли же объяснил тебе, что общество это родитель, заботящийся о своем детище? — продолжал короткий. — Но ты не поверил. И все потому, что этот родитель манипулирует и обкрадывает.
Он пододвинулся поближе.
— О, Джим, как ты прав! Ты даже не подозреваешь, насколько ты прав! Ты настолько прав, что ты абсолютно ошибаешься. Это как если ты потерялся, спрашиваешь дорогу, и тебе говорят, что Пекин в десяти километрах слева. А ты думаешь, что Пекин в десяти километрах справа. И оказывается, что ты прав — он действительно справа. Но только не в десяти, в десяти тысячах километров. Так что ты прав, но ты настолько прав, что ты ошибаешься.
Я не мог найти сил открыть глаза.
— В прошлом общество действительно было лишь дружелюбным, безобидным обманщиком. Как ты и думал. Но будущее, Джим! Будущее совсем другое. Общество будущего более не безвредный обманщик, нет. Ты увидишь сам. Скоро. И ты увидишь, что в обществе будущего нет места таким как ты. У тебя нет будущего, Джим!
— Каким, таким?
— Бунтарям. Повстанцам. В обществе будущего вы все обречены. Ты не поверишь, когда я тебе скажу, Джим. Не поверишь! Я узнал пятнадцать лет назад, и сам всё ещё никак не могу поверить, — его голос гудел, рычал от возбуждения.
Дверь плавно открылась и я рефлекторно сжался в комок. Вошел охранник и вытянулся по струнке.
— Принеси его ботинки, куртку и лекарство, — короткий бросил назад, даже не посмотрев на вошедшего. Спустя минуту он кинул мне одежду:
— Надень. И не делай из себя мученика, не надо жалеть себя. И зачем ты злишься на нас? Ведь не мы похитили твою дочь, в конце концов. Давай, надевай…
Я натягивал куртку, когда он пододвинул ко мне стакан.
— Вот, выпей. Это поможет.
Напиток пах травами. Он был теплый, и я сделал несколько глотков.
— Джим, ты любишь ненавидеть группы. Ты профессиональный группо-ненавистник. Но ты хоть раз пытался понять, то что ты ненавидишь? Что такое группы? Откуда они появились? В чем их суть? — его рычание становилось все быстрее. — Что было в начале? Что у нас за корни? Кто мы, Джим? Кто мы?… Мы были простыми охотниками и собирателями. Маленькие группы, племена по двадцать, тридцать, максимум пятьдесят человек. Очень редко когда больше, чем пятьдесят. И знаешь почему?
— Еда, — усилие стоило мне дьявольской боли в полыхающем огнем горле.
— Правильно. Еды было мало. Недостаточно, чтобы прокормить большие группы. Вот так мы и жили, маленькими кучками, многие сотни тысяч лет. Даже миллионов лет. Но в один момент, примерно десять тысяч лет назад, все изменилось. Мы изобрели земледелие. И знаешь, что произошло затем, Джим? Ну давай, хватит претворяться, что тебе не интересно. В конце концов, я собираюсь открыть тебе самый большой секрет человечества. Не каждый день ты узнаешь судьбу человеческой расы, человеческого вида. Соберись. Хотя бы скажи что-нибудь.
Каждое его слово отдавалось болью. Он продолжил:
— Сельское хозяйство, земледелие поменяло всё. Производительность труда увеличилась в разы. Сельское хозяйство и разные изобретения вроде колеса и ирригации позволили с одного и того же клочка земли прокормить намного больше людей. Людей сразу же стало больше, и, соответственно, группы стали больше. Если бы ты был археологом, Джим, ты бы увидел, что начиная с примерно десяти тысяч лет назад поселения вдруг стали больше. Из крохотных стоянок — просто костра с кучей костей вокруг — они сначала превратились в деревни, а затем и небольшие города. Это уже были группки не из пятидесяти человек, а сотен, тысяч, и даже десятков тысяч.
Короткий наклонился и приложил тыльную сторону ладони к моему лбу.
— А теперь смотри — самое важное. Первые более-менее человекоподобные приматы возникли около двух миллионов лет назад. Это означает, что около двух миллионов лет мы развивались в условиях маленьких групп по пятьдесят человек и меньше. Два миллиона лет, Джим! А в группах большего размера мы стали жить лишь десять тысяч лет назад. Более, чем девяносто девять процентов нашего эволюционного времени мы провели в маленьких группах.
Я молча сжался в углу.
— Человеческий мозг приспособлен к выживанию в маленьких группках по пятьдесят человек. Поэтому нам, например, сложно запомнить имена более чем пятидесяти людей. Все это время эволюция создавала тело и мозг, максимально адаптированный для маленьких групп.
— Какое это… имеет значение? — прошептал я сквозь боль.
— В больших группах мы даже просто не можем запомнить имен. — он не обратил на меня внимания, разговаривая сам с собой. — Все, что больше пятидесяти человек — это бесконтрольная толпа. Собственно, поэтому большие группы естественно распадаются на меньшие. Скажем, двое начинают враждовать. Что-то не поделили. Допустим, еду, статус или женщину. Но если группа маленькая, то почти всегда у этих двоих найдутся общие родственники или друзья, которые растащат их. И группа сохраняется. А вот если же группа большая, скажем, сто человек, и двое начинают драться, найдутся ли у них общие друзья? Вряд ли. И тогда возникает война. Всем другим приходится становиться на ту или иную сторону. Ведь если ты ни с кем, ты против всех. И практически мгновенно группа разделяется на две, или даже три маленькие группы. Собственно поэтому, Джим, практически все современные организованные группы редко когда больше пятидесяти человек. Взвод в армии, класс в школе, ну и так далее — все это группы не более пятидесяти человек. Потому что группы из большего количества человек нестабильны. Они распадаются.
— Зачем ты мне всё это говоришь? — спросил я и вдруг понял, что голос вернулся ко мне. Что это было в стакане?
— Я говорю тебе будущее, Джим. И почему у тебя его нет. — он задумался на секунду, и начал говорить еще быстрее, как если бы куда-то опаздывал. — Теперь представь, ты изобрел сельское хозяйство и твое население увеличилось. Это не то, к чему наш организм был приспособлен. Как ты будешь управлять группой из тысяч, если ты даже не можешь запомнить из имен? И они все время пытаются конфликтовать и распадаться? Как, Джим?
— Бюрократия.
— Блестяще! Ты назначаешь пятьдесят менеджеров, каждый из которых управляет пятьюдесятью обычными людьми. Это бюрократия с одним уровнем. И с её помощью ты можешь справиться с двумя с половиной тысяч людей. И больше нет нужды запоминать их имена. Люди становятся просто цифрами, порядковыми номерами. И вот, у тебя уже не племя, а самое настоящее княжество. Слушаешь, Джим? Это важно.
Не зная зачем, я кивнул.
— Теперь, когда столько людей платят налоги, ты можешь нанять профессиональных солдат. Ты создаешь армию. И что затем? Ты нападаешь на соседей, те маленькие жалкие группки людей, которые еще не создали собственные армии. И ты одерживаешь верх. Просто потому, что ты больше. В большинстве случаев большие группы выигрывают. Ты убиваешь их мужчин, забираешь женщин и территорию. Ты развиваешься! И скоро твоя группа становится больше, чем две с половиной тысячи человек. Скажем, десять тысяч. И что ты делаешь тогда? Как ты контролируешь их?
— Добавляешь новый слой. — сквозь кашель ответил я.
— Замечательно! Назначаешь пятьдесят высших менеджеров, каждый из которых управляет пятьюдесятью низших, каждый из которых управляет пятьюдесятью обычными людьми. И вот, у тебя машина, которая может контролировать более чем ста тысячами человек. Ты создаешь полицию, у которой будет монополия на насилие. И ты нанимаешь ещё большую армию. И так ты строишь государство. И вот тут случается чудо…
На мгновение он прекратил рычать, переводя дыхание.
— Патриотизм! Государство создает патриотизм. Солдаты готовы жертвовать собой во имя государства. Всё дело в числах — по какой-то причине, чем больше группа, тем легче людям умирать за неё. Это удивительно, Джим. Удивительно! В княжествах нет патриотизма. Ноль! Ни один солдат не хочет умереть за княжество. В Илиаде Гомера, все эти воины, осаждающие стены Трои, собрались туда с маленьких островков. Все эти воины с Пелопонесса, Крита и Итаки. Ты не задавался вопросом, зачем они туда приплыли? За что они отдали свои жизни?
Я мотнул головой.
— Не во имя своего города или острова, нет. Они направились завоевывать Трою ради еды, золота и женщин. И ничего другого. Никакого патриотизма в помине… Но государства — они другие. В глуши Австралии есть городок Герроя. На стенах его старого городского совета в самом видном месте города высечены длинные списки солдат, погибших в дальних и забытых местах планеты… Знаешь, что написано над ними? «Они погибли за Империю». Британскую империю. И всё. Вот эта маленькая табличка является достаточной причиной для миллионов людей ехать неизвестно куда и отдавать там свои жизни. Государство делает это великим и геройским поступком, отдать за него жизнь. Войнам более не надо золотаили женщин. Они готовы отдать свою жизнь просто так. Чем больше группа, тем с большей готовностью люди готовы пожертвовать своей жизнью ради неё. Ты следишь за мыслью, Джим?
К чему всё это?
— Это всё игра размера, — он вскочил на ноги и начал ходить из стороны в сторону. — Меньше пятидесяти — племя. От сотен до десятков тысяч — княжества. Начиная от сотен тысяч — государства… И вот здесь нас ждет вопрос, Джим. Ты готов? Самый важный вопрос. Вопрос, который определяет все остальное.
— Какой вопрос?
Впервые наши глаза встретились.
— Что дальше? После государства…
— После государства?
— Неужели ты думаешь, что государство — это окончательная форма организации групп людей? Что ты просто можешь бесконечно нагромождать слой за слоем бюрократов? Это работает для миллионов. Даже сотен миллионов. Но будет ли это работать для миллиардов?
— И?
— Джим, ты же синтезатор? Ну так вот и синтезируй.
— Что? Человечество еще не придумало ничего более сложного, чем государство.
— Зачем замыкаться на человечестве? На сапиенсе? Посмотри вокруг.
— Посмотреть куда?
— Какая одна из самых примитивных форм жизни? Бактерия. Они сами по себе — независимы. Каждая из них индивидуальна. Своего рода охотник-собиратель, бродящий по саванне микроскопического мира в поиске чего-нибудь съестного. Но вдруг одна из них, маленькая и скромная, научилась очень хорошо окислять глюкозу. Иными словами, сжигать еду и вырабатывать энергию. Вот такая одаренная оказалась эта маленькая бактерия. И сразу за этим, буквально через несколько сот миллионов лет, случилось чудо… Другая, большая и агрессивная, поглотила одну из наших маленьких бактерий. Но не переварила её, как обычно, а оставила жить внутри себя. И они заключили между собой негласный договор — каждый будет делать то, что у него получается лучше всего. Большая будет защищать маленькую и добывать еду, а маленькая будет её готовить. Разделение труда. И этот договор по-прежнему соблюдается, два миллиарда лет спустя. Маленькая бактерия — это митохондрия, которая живет внутри практически каждой клетки любого организма на планете, включая твой. У них собственный геном, они размножаются сами по себе. Но они — часть клетки. Так что внутри каждой клетки есть чужой, много чужих, и они отвечают за приготовление пищи. Вместе с ними клетки намного сильнее и продуктивнее, чем без них. Это симбиоз.
— Семья…
— Она и есть. Дальше — больше. Затем несколько этих больших клеток обнаружили, что если собраться в небольшие группы, можно намного лучше защищаться от хищников, рыскающих вокруг. Так появились колонии, аналоги племен. Чуть позже обнаружилось, что, если разные клетки начнут специализироваться на чем-то своём, например, на создании внешней оболочки, защищающей от внешней среды или, иными словами, кожи, шансы на выживание всей группы становятся ещё выше. Для этого понадобилось больше клеток, так что группа выросла. Так получились многоклеточные организмы — первые княжества. И вот проходит ещё немного времени, у тебя получается огромная группа клеток, в которой есть своя полиция — иммунная система, правительство — мозг, ну и так далее. Иным словом, государство. Гигантская колония из клеток. Джим, вся органическая жизнь — нечто иное, как стремление создать все большую колонию. Ты сам, по сути, ничто иное как одна большая колония из тридцати триллионов индивидуумов. Тридцати триллионов клеток.
Я молча смотрел на него.
— Это эволюционный тренд. Формирование многоклеточных организмов. Строение все больших колоний. Слияние индивидуумов в колонии. Очень неумно идти против природы, Джим. Вместе они более продуктивны. В группах они легко побеждают разрозненных индивидуумов. Чем ты больше, тем ты сильнее. Так же как сначала княжества стерли с лица земли охотников собирателей, а затем государства уничтожили княжества. Размер имеет значение. Группы побеждают. Одиночки исчезают.
Я затряс головой.
— Есть две основные стратегии выживания в эволюционной гонке, — продолжил он. — Можно выжить или конкурируя с другими, или сотрудничая. Иными словами, либо как таракан, либо как муравей. Вся эта жизнь — битва тараканов против муравьев. Индивидуумов против колоний. И муравьи выигрывают, Джим. Суперорганизмы побеждают.
— Суперорганизмы?
— Когда видишь муравья, бегущего по земле, ты думаешь о нем как об индивидууме. И напрасно. На самом деле каждый одиночный муравей — не что иное, как просто одна из клеток многоклеточного организма, колонии. Единственная разница между одним муравьем и одной из триллионов клеток твоего собственного организма — муравьи могут перемещаться, у них есть ноги. Муравей направляем феромонной системой, химическими сигналами. Посылая эти сигналы, колония говорит муравьям, свои клеткам, куда идти и что делать. Каждый раз, когда ты видишь на земле цепочку муравьев, знай, что это не что иное, как рука организма, которой он тянется к еде. Рука огромного организма, прячущегося где-то под землей, в муравейнике. Так что, муравей — это не индивидуум, а просто клетка, которая отдала собственную индивидуальность в обмен на выживание в группе. И поэтому муравьи доминируют в этом мире, владеют им — ведь они суперколонии!
— Владеют миром?
— Выйди наружу, сядь на землю и начни считать насекомых вокруг себя. Из десяти насекомых девять будут муравьями. Они везде. Они доминируют над миром насекомых. А насекомые доминируют над всем биологическим миром этой планеты. И вообще, муравьи составляют до четверти всей животной биомассы планеты. Так что это, как не владение миром? Муравьи — это короли королей. Вершина эволюции. Есть лишь два способа выжить при встрече с ними — ты должен либо двигаться быстрее чем они, либо быть больше, чем они, намного больше. Но среди существ их размера практически ничто не может им противостоять. Также как княжество не может противостоять государству. А теперь скажи мне, как такое ничем, казалось бы, не примечательное семейство насекомых стало столь могущественным и всесильным?
Я старался не слышать его.
— Альтруизм, Джим! — он начал говорить ещё быстрее. — Муравьи ставят интересы группы выше своих. Так же как патриотизм — это оружие государств, альтруизм — оружие суперорганизмов. Альтруизм — патриотизм в квадрате. Муравьи жертвуют своим «Я», и это делает их непобедимыми. Того, кто контролирует альтруистов, нельзя победить. Но альтруизм — неестественный феномен. Практически аномалия.
— Аномалия?
— Представь, ты руководишь группой самоубийц-смертников. Какая твоя главная головная боль? То, что группа постоянно становится меньше. Они жертвуют собой. Убивают себя. Их собственная природа работает против них. И отсюда железное правило альтруизма — каждое пожертвование должно спасать больше, чем одного другого альтруиста. Если ты можешь сделать так, что в твоей группе каждый раз, когда кто-то жертвует собой, он спасает более, чем одного другого члена группы, то ты — властелин мира. Если же меньше — скоро от твоей группы не останется и следа. Просто. Но как приручить альтруизм? Как сделать так, чтобы жертва не была напрасной и спасала более одного члена группы? Как создать стабильную, самовосстанавливающуюся систему людей, готовых умереть за тебя?
Я закрыл глаза.
— Есть два способа. — короткий подошел и снова потрогал мой лоб. Удовлетворенно хмыкнув, он присел и продолжил. — Представь, у твоего отца была мутация. Один из его генов мутировал и он стал альтруистом. Представь также, что у твоего отца и матери было много детей. Половина из них унаследует отцовскую мутацию, ген альтруизма. И так случилось, что ты в их числе — унаследовал ген альтруизма. Ты — альтруист. У другой половины, у половины твоих братьев и сестер, этого гена нет. Это потому, что у большинства животных, вроде человека, ген, который есть только у одного из родителей, будет передан примерно половине потомства. Так что половина твоих братьев и сестер тоже альтруисты.
— А теперь, Джим, представь, что случается катастрофа. Какая-то трагедия. Но у тебя есть возможность пожертвовать собой и спасти своих братьев и сестёр. Предположим, чтокатастрофа маленькая — скажем, автомобильная авария, в которой погибнет лишь один. Жертвуя собой, ты спасешь лишь одного брата или сестру. И сколько альтруистов ты спасешь? Полальтруиста. Ведь из твоих братьев и сестер только половина альтруисты. Но при этом ты убиваешь целого альтруиста — себя самого. И в результате, каждый раз, когда альтруист жертвует собой, в среднем в группе становится на половину альтруиста меньше. Ещё несколько таких жертв, и альтруисты вымрут.
Он все продолжал говорить:
— А что, если катастрофа будет средних размеров, в которой погибнут двое. То есть пожертвовав собой, ты можешь спасти двоих? Сколько из них будут альтруистами? Скольких альтруистов ты спасешь? Два умножить на половину. Равняется одному. Одного альтруиста. И одним целым — собой — пожертвуешь. Тоже не очень оптимистично для альтруистов. И вот только если ты пожертвуешь себя в большой катастрофе, тогда количество альтруистов в группе будет расти. Так что жертва становится оправданной только в больших катастрофах. Маленькие уничтожают альтруистов под корень. Но как часто ты видишь большие катастрофы? Редко. По большей части они все маленькие. Поэтому альтруизм в нормальных условиях исчезает. Но муравьи нашли способ приручить альтруизм.
— Как?
— Гаплодиплоидность. Муравьи развили очень странный способ передачи генной информации. И в результате него ген одного из родителей получают уже не половина, а три четверти потомства. Вот такая аномалия. Так что если ты вдруг оказался муравьем-альтруистом, то не половина, а три из четырех твоих сестёр, а ведь почти все муравьи — самки, тоже будут альтруистами. И вдруг оказывается, что катастрофы среднего размера становится достаточно, чтобы увеличивать число альтруистов. Допустим, ты жертвуешь собой, чтобы спасти двух сестёр. Две трети из них альтруисты, так что ты спасаешь полтора альтруиста, убивая одного. В сухом остатке пол альтруиста. Вот так катастрофы среднего размера вдруг начинают помогать альтруистам распространяться. А катастрофы среднего размера намного более часты. И вот, в мгновение ока, альтруизм распространяется как пожар. Через несколько поколений все становятся альтруистами. И внезапно ты получаешь группу, в которой каждый индивидуум стремится пожертвовать собой ради группы. Никакой патриотизм не идёт с альтруизмом в сравнение. И это то, что случилось с муравьями. Так что гаплодиплоидность — это первый способ приручить альтруизм.
— А второй?
— Увеличить частоту больших катастроф.
— Ты о чем?
— Джим, допустим, тебе надо сделать так, чтобы среди катастроф было как можно больше больших, уносящих жизни многих людей, и тем самым помогающих альтруистам распространяться. Как бы ты это сделал?
И тут я вздрогнул, поняв. Я прошептал:
— Сделать группы большими…
— Не большими, а концентрированными. Увеличь концентрацию людей так, чтобы даже незначительная автомобильная авария уносила много жизней. Какая плодородная почва для альтруизма. Каждая жертва спасает множество жизней. Посмотри на Японию — очень высоко концентрированное общество. Не замечаешь никаких параллелей? Каких-нибудь особенных альтруистов?
— Камикадзе! — воскликнул я. — Не хочешь ли ты сказать?…
— Именно. Япония была первым прототипом человеческого суперорганизма, человеческой муравьиной колонии. Но у Японии не хватило размаха. Слишком маленькая территория. Очень концентрированная, но маленькая. И поэтому они так и не смогли развернуться в полномасштабный суперорганизм. В отличие от Китая.
Я затряс головой.
— Китай — это суперорганизм. Мы построили общество новой эпохи — первый человеческий суперорганизм. Мы — следующая ступень эволюции человека. Будущее человечества. — тень улыбки промелькнула на его губах.
— Ты хочешь сказать, что китайцы — муравьи?
— Не в биологическом смысле, разумеется. Мы по-прежнему сапиенсы. Но наша группа устроена по тем же принципам, что и социальные насекомые. Насекомые-альтруисты. Мы — первый человеческий муравейник. Первый человеческий суперорганизм. Вершина эволюции!
— Не может быть!
— Когда ты последний раз видел группу людей, общество, контролирующее рост своего населения? В природе обычного человека заложено бесконтрольное размножение. И любая группа растет в геометрической прогрессии пока есть ресурсы, ну либо пока группа не стареет и не выдыхается. И это основное преимущество муравьиных колоний, поскольку в них размножается только королева, они контролируют свой размер.
— А Китай?
— Политика одного ребенка. Мы контролируем численность, не разрешая женщинам иметь более одного ребенка. Иногда двух. Но численность населения это просто. А ты попробуй контролировать соотношение количества мальчиков и девочек. Немного кто, кроме муравьев, способен на это. Муравьи определяют пол, оплодотворяя клетку. Если клетка оплодотворена, то это самка. Если нет, то самец.
— А Китай?
— С помощью абортов. Традиционно все хотели иметь как минимум одного мальчика — наследника. Но что делать, если ребенок — девочка, а второго ребенка иметь нельзя? Так что у девочек в Китае мало шансов. Как только УЗИ показывает, что ребенок — девочка, женщины в этот же день идут на аборт. Каждый год рождается девять с половиной миллионов мальчиков, и лишь чуть больше восьми миллионов девочек. И, заметь, это даже не группа делает. А сами женщины. Так что человеческий суперорганизм способен контролировать соотношение полов, также как и муравьиный.
— Альтруизм, контроль над ростом населения и соотношение численности полов. И всё? И из этого ты делаешь вывод, что Китай — суперорганизм?
— Мы построили феромонную систему, практически идентичную муравьиной. Видел людей, слепо идущих по улице, полностью погруженных в свои телефоны? Они постоянно подключены к центральной системе. Муравьи управляются химическими сигналами. Люди же управляются сигналами через телефоны. Средства коммуникаций разные, но принцип работы одинаковый. Но человеческая феромонная система пошла даже дальше. Теперь система ведёт диалог с каждым конкретным человеком. Она знает о человеке всё и может вызвать практически любое поведение. И если человек по каким-то причинам отклонится от необходимого поведения, система это мгновенно увидит и примет меры. Супербыстрый двусторонний способ коммуникаций, присоединяющий каждого индивидуума к системе. Эта система и есть наша феромонная система. И она даже лучше, чем у муравьев.
— Подожди, но в других странах тоже есть такие системы.
— Жалкое подобие. Хотя и они идут в том же направлении. Я же говорю, это будущее всего человечества. Китай просто идет на несколько шагов впереди. И потом, у них нет системы самоконтроля.
— Самоконтроля?
— Ты видел камеры наблюдения на улицах? У нас их теперь почти миллиард. Они повсюду. И все они подключены к центральной системе. Той самой, которая управляет действиями людей через телефоны. И эти камеры способны с абсолютной точностью распознать личность человека. Так что, даже если ты попытаешься отключиться от феромонной системы, она всё равно будет знать, где ты и что делаешь. Любой индивидуум постоянно под наблюдением группы. И знаешь, что происходит, когда человек знает, что за ним наблюдают?
— Что?
— В университете Ньюкастла было кафе самообслуживания. Подразумевалось, что все будут сами брать себе кофе и печенье и сами же платить в коробку для денег. И угадай что? Люди постоянно не платили. Уж что они ни делали — и угрозы, и воззвания к совести — ничего не помогало. Но там мимо шел психолог, и он сделал простую вещь. Он распечатал изображение глаз — просто глаз! — и повесил над коробкой. Все стали платить! Абсолютное, автоматическое следование правилам. Просто, когда люди думают, что за ними наблюдает группа, они автоматически, подсознательно меняют своё поведение. Подчиняются.
— И в Китае все под постоянным наблюдением…
— Что ещё более важно, каждый в Китае думает, что он под постоянным наблюдением. И, хочет не хочет, меняет своё поведение. Теперь они все подчиняются. Автоматически. Это становится нормой. Даже полиция становится ненужной. Люди делают то, что они думают группа ждет от них. Представляешь, на сколько более продуктивным является такое общество? Ни конфликтов, ни разногласий. Все подчиняются. Как ты можешь противостоять этому? — короткий задыхался от возбуждения. — Мы построили первый в мире Паноптикон! Мечту Джереми Бенхама.
— Паноптикон?
— Тюрьму, которая не нуждается в охранниках. Где все подчиняются, просто потому что думают, что за ними наблюдают. Вот! — он открыл чемоданчик и достал поблекшее черно-белое фото. — Вот, охранник в центре видит всех, но заключенные не могут видеть охранника. Они даже не могут знать, если ли вообще он или нет. И все заключенные ведут себя как этого требуется. Все подчиняются, автоматически…
— Потому что думают, что за ними наблюдают…
— Муравейник. Суперколония! Суперорганизм нового поколения! — он закричал, подняв сжатые кулачки к потолку. — Это неизбежность! Эволюционная конвергенция! Если есть что-нибудь, что дает организму существенное преимущество, это что-то будет изобретено эволюцией множество раз. И каждый раз независимо от предыдущих. Просто потому, что это что-то приносит пользу. Возьми, к примеру, глаз — один из самых сложных инструментов в природе. Только сетчатка состоит как минимум из пятидесяти разных видов клеток. И, тем не менее, эволюция изобретала его множество раз. У осьминога глаза очень напоминают по строению человеческие, но появились они совершенно независимо.
— Глаза дают преимущество, и поэтому они появляются, изобретаются?
— Всё, что даёт преимущество, изобретается природой снова и снова. И с суперорганизмом тоже самое. Эта форма организации группы дает гигантские преимущества. Собственно, поэтому муравьи и занимают четверть биомассы животных. А с термитами и пчелами, которые тоже суперорганизмы, так будет вообще половина планеты. И заметь, большинство из них пришли к суперорганизму независимо друг от друга!
— Разве муравьи и термиты не родственники?
— Вообще никакого отношения друг к другу они не имеют! Термиты произошли от тараканов. Муравьи от ос, много миллионов лет позже. И все они создали суперорганизмы независимо друг от друга. А теперь настал черед человека. Вот и всё. От бактерии к многоклеточным организмам. От племен к суперорганизмам. От простого к сложному. От индивидуумов к колониям. Это природный тренд. Ему невозможно противостоять.
— Так же как солнце сливает индивидуумов в группы, водород в гелий… — прошептал я, закрыв глаза.
— Люди привыкли считать себя индивидуалами. Личностями. Со своими собственными целями и идеями. Как же это неэффективно, нецелесообразно, Джим! И вот, наконец-то, они стали частью, клетками большого организма. Суперорганизма, который невозможно победить.
— Есть ли… — я прошептал, в ужасе уставившись на него, — есть ли шанс спастись?
— Спастись? У одиночки? — в голос рассмеялся он. — Полиция присматривает за клетками. Также как и иммунная система. Иногда какая-нибудь безумная клетка, одиночка, пытается восстать и освободиться, но у неё одна судьба — быть уничтоженной иммунной системой… Да, бывает так, что кому-то удается улизнуть, обмануть систему. Знаешь, что тогда происходит?
— Что?
— Такая клетка начинает бесконтрольно воспроизводиться. Начинается восстание. Это рак.
— Рак?!
— И организм погибает. Вся колония погибает. Рак — это восстание одиночки против системы, колонии, общества. Восстание против главного процесса в природе — построения всё более сложных систем. Муравьи, пчелы, человек — просто ступени этого процесса. И надо быть идиотом, чтобы идти против него. И поэтому то у тебя нет будущего, Джим. Ты одиночка. Повстанец. Раковая клетка. И ты должен быть уничтожен. Мы на правильной стороне эволюции. Нас не остановить. Самоуправляющееся альтруистическое общество. Китай — вершина эволюции. Суперорганизм нового поколения! Будущее всего человечества! — вскочил он и пророкотал, воздев руки вверх.
— Муравейник, — прошептал я.
— Суперорганизм. Мир будет наш. Будущее грядет. Мы победили, Джим! Мы победили! — он триумфально смотрел вверх сверкающими глазами. Затем он развернулся и сказал внезапно спокойным голосом. — А тебе пришло время умереть.
Глава 8
— Джим, пора умирать, ты готов? — короткий спросил и сделал шаг назад.
— Готов?! Как к этому можно быть готовым? — я вжался спиной в стенку.
— Понять смерть. Самый большой обман в мире.
— Обман?
— Ты не знал, Джим? Все эти твои деньги Павлова, собаки с мячом… Вся это ерунда. Неужели ты, группоненавистник, не разгадал их самый главный обман?
Меня затрясло.
— Почему группа, общество не хочет, чтобы ты думал о смерти, Джим? Почему это табу? И почему её так боятся? И почему, когда приходит время умирать, вот как сейчас, они обнаруживают, что не жили? И все идут по стопам Ивана Ильича. И, как и он, кричат все свои последние дни. Кто про себя, а кто во всю глотку. И знаешь почему?…
Он подошел чуть ближе.
— В последний момент они начинают чувствовать…
Он замер.
— Что?
— Джим, скажи, что человек больше всего не любит делать?… Что люди ненавидят делать?
Мы смотрели друг на друга.
— То, что их заставляют! Вот что они ненавидят! Если хочешь, чтобы человек возненавидел что-то, заставь его это сделать. Как Том Сойер с забором, только наоборот. Люди убеждены, что они должны жить. Обязаны. С детства им внушают, что они должны жить. Ради других. Что они должны человечеству. Они всё время что-то кому-то должны. Жизнь — это обязанность. И вся жизнь проходит из-под палки. Ты должен жить! Это приказ. У тебя нет выбора! Даже не думай о смерти. По ту сторону ждет суровый судья. Судный день! Ты должен жить. Суицид — это преступление!
— Черт побери… — я закрыл глаза.
— У тебя отбирают право уйти из жизни. Заставляют жить. Запирают в этой клетке, клетке жизни. И ты живешь как заключенный, каждую минуту ненавидя эту клетку и себя. Но узнаешь об этом лишь в последний момент… Если вообще узнаешь…
Короткий замолк.
— И?
— Есть только один способ вырваться…
— Какой? — воскликнул я.
— Понять, кто ты…
— И кто же я?!
— В компьютере есть специальная карта, созданная лишь для того, чтобы обрабатывать видео. Видеокарта. В твоем мозгу есть специальный устройство, которое моделируетбудущее. Оно создано лишь для того, чтобы предсказывать будущее. Модуль предсказания будущего. Знаешь, чем ты отличаешься от других животных? Они живут настоящим моментом. Они не могут предугадать будущее. У них нет этого модуля. У твоего мозга есть. Когда-нибудь видел, как генералы разыгрывают сражения игрушечными солдатиками на картах? Они рассматривают все возможные сценарии, ищут наиболее подходящий. Примерно тоже делает твой модуль. Так что этот модуль предсказания будущего — это очень полезная для выживания штука. Благодаря нему можно избежать кучи ошибок. Он позволяет выжить. Мы потомки тех, у кого был хороший модуль предсказания будущего.
— И?
— Как оказалось, у этого модуля есть побочный эффект. В какой-то момент предсказания сорвались с цепи. Превратились в мысли и мечты… В воображение. В разум… В нас. Мы лишь продукт деятельности этого модуля. И ничего больше. И знаешь, что это означает?
— Из пепла, в пепел… — прошептал я.
— Из ничего в ничего. Мы звездная пыль. Что происходит с душой компьютера, когда ты выключаешь его и сдаешь в утиль? То же будет и с тобой. Так что там, по ту сторону, ничего нет. И неопределенность уходит. Больше нечего бояться. Потому что там просто ничего нет. Судного дня нет. Некому тебя судить. Никому нет до тебя дела. Ты не будешь заперт навечно в каком-то склепе. Ада нет, рая нет. Ты, модуль по предсказанию будущего, просто перестанешь существовать. И ты никому ничего не должен. Несуществование это свобода. Полная свобода. И когда ты это поймешь, ты начинаешь жить не потому, что должен, а потому, что тебе это нравится. Свобода!
Он перевел дыхание.
— Когда Будда понял это, он, наконец, выдохнул. Это был его «у-ф-ф», выдох. Он понял, что он не должен жить.
— У-ф-ф…
— Он назвал это нирваной. Что буквально означает «выдох».
— Свобода… свобода, — шептал я. — Ты принадлежишь себе. Ты не должен жить. Поняв смерть, ты начинаешь жить…
— Лучше не скажешь, Джим. Смерть — не враг. Она друг. И сейчас пришло время умереть. Прощай, Джим. — короткий на мгновение замолчал, и затем прорычал. — Встать!
Дверь распахнулась и два охранника вошли, шагая в ногу. Через несколько секунд снова раздалось приказание:
— Я сказал, встать!
Слова доносились как сквозь туман. Охранники поставили меня на ноги и связали мне руки за спиной. Вдруг стало темно — сзади мне на голову накинули мешок.
Наконец-то… эта история подходит к концу…
Меня вели по коридору. Тяжелые шаги охранников гулким эхом разносились вокруг. Один шел впереди, другой замыкал сзади. Каждый раз, когда мы проходили очередную дверь, процессия останавливалась, и первый сначала открывал, а замыкающий закрывал дверь. Так мы шли как корабль, проходящий через шлюзы, один за другим. Короткий шел за мной, тяжело сопя, и бубня, снова и снова:
— Бунт. Это бунт, Джим!
И затем, вдруг:
— Папа!
Вспышка ослепила. Сопение исчезло. Я сидел в церкви. Девочка в шляпке с синей лентой сидела на скамейке передо мной. Вдруг она обернулась, и я увидел её лицо.
Мария!
Она смотрела на меня, улыбаясь, положив подбородок на спинку скамейки. Как всегда, когда она смеялась, на левой щеке у неё была ямочка.
Мария, что же я наделал!
Последняя металлическая дверь тяжело лязгнула и открылась. Снаружи ворвалось щебетанье птиц. Я споткнулся через порог.
Прости, Мария. Прощай!
Я начал считать секунды. Один, два, три…
Раздался щелчок металла, и последнее, что я услышал был рык:
— Бунт!!!
* * *
Выстрелы оглушили. Моё тело соскользнуло на бетон. Я ждал боли, но вдруг мешок с головы слетел, и я увидел короткого, рывками развязывающего мне руки.
— Поспеши, — он прорычал.
— Что? — мысли были в тумане. Я задыхался в кашле.
— Нужно, чтобы ты поспешил. Иначе всё это будет напрасно. — он кивнул в сторону.
Я оглянулся, жмурясь от дневного света. Тела охранников распластались рядом с массивной железной дверью. Из-под ближайшего расползалась бордовая лужа.
— Вставай. Не мешкай. — он подталкивал меня. В лучах солнца на его лице высветились глубокие морщины. Как же он, оказывается, стар!
Он указал на небольшую дверь в стене, окружающей двор.
— Ты должен найти Марию. Она в опасности. У тебя нет времени. Вперед. Поспеши!
— Моя дочь мертва. Японцы убили её. Ты сам это знаешь. Я не послал сообщение. Оно не прошло.
— Сообщение дошло, — сказал он.
— Это не может быть… Оно не прошло. Я видел сам.
— Джим, японцы выпустили её месяц назад в Сан-Франциско. Они получили твоё сообщение.
— Это невозможно. Я сам видел… Оно не прошло.
— Не прошло. Но его отправили ещё раз.
— Как! Кто?!
— Я.
— Ты?! — я резко развернулся, стоя на коленях.
— Да.
— Кто ты?! — в голове все поплыло…
— Это неважно. Я увидел твое неотправленное сообщение.
— Но почему?
— Бунтарь, Джим. Повстанец… — короткий, покачиваясь, прошагал к телам и подобрал с них два магазина патронов.
— Бунтарь?
— Я был бунтарем, как и ты, — сказал он, протягивая мне свой пистолет и патроны. — Мы оба сделаны из одного материала. Мы части одного. В тебе я узнал себя тридцать лет назад. Я шел по тому же пути. Пути бунтаря. Пути восстания.
— Восстания против чего?
— Против колонии, Джим. Существует ли Я? Или мы безымянная каша, расходный материал колонии? Лишь одна из бесконечных клеток безразличного к нам организма? Так что хватит тратить время и иди спасай Марию. Ты представления не имеешь, как мало у тебя времени.
— Но ты? Ты же управляешь этим обществом? Как ты можешь быть бунтарем? Тебя не контролируют. Контролер это ты!
— Какая разница? Я все равно бессмысленная, крохотная часть этой огромной машины. Механизма, который меня прожует и выплюнет. Также как выплюнула Ли. Для неё одиночки ничего не значат, Джим. — он вздохнул. — Послушай, тебе надо бежать. Хотел бы я, чтобы у нас было время поговорить, но тебе надо бежать. Мария в Сан-Франциско, одна. Она в опасности. Их система тоже распалась на части.
— Тоже? — спросил я, непонимающе.
Он подошел к двери и отрыл её. Найдя силы, я добрался до двери.
Бункер находился на холме, с которого открывался вид на весь город. Где-то вдалеке блестела широкой лентой река Янцзы. Небоскребы уходили за горизонт во все стороны, насколько хватало глаз. Слева, за рекой, висело солнце, готовое скатиться в закат.
Черное солнце.
На западе висела плотная пелена, непроницаемая, как если бы там была ночь. Полыхали небоскребы, ряд за рядом исчезающие за горизонтом, объятые пламенем до самых крыш. Как стадо полыхающих жирафов, они неслись прямо на нас. Порывы ветра раздували пламя, относя черный шлейф в сторону. Звенящая тишина давила, не давая поверить глазам.
— Китая больше нет, Джим, — сказал короткий за моей спиной.
Я медленно обернулся.
— Китая больше нет, — повторил он. — Страна исчезла. Система рухнула в одночасье. Пекин пал вчера. Нанкин падет сегодня.
— Пекин пал?! Как?… А как же суперорганизм? Как же непобедимый суперорганизм? Муравьиная колония?! — меня всего трясло.
— Знаешь, что происходит, когда у муравьиной колонии перестает работать феромонная система? Когда колония более не может посылать сигналы?
— Что? — я зашелся в приступе кашля.
— Она распадается. В Круге Смерти. Колония рассыпается, дезинтегрируется. В одно мгновение. Зоя убила Китай.
— Зоя?
— Чтобы уничтожить суперконцентрированную группу, достаточно перерезать коммуникации. Вирус сделал именно это. Без интернета нет поставок еды. Голодные бунты мгновенно охватили провинции. Эта территория и в мирное время не может прокормить и миллиарда человек. А в неразберихе голодных бунтов обречены практически все. Миллиард человек не доживет до конца этой недели, Джим. Остальные умрут чуть позже.
— Армия, полиция?
— Исчезли. Также как чиновники. Полицейские просто не пришли на работу. Армия охраняет себя и свои пайки. Видишь пожары по ту сторону реки? Это волна мародеров из Хефея. Не далее, чем через пару часов она будет здесь. Это капкан, Джим. Единственный выход — Шанхай. Но и он падет.
— Когда?
— Скоро.
Синева на востоке резала глаза. Но мгла, резкой линией рассекая небо, уже нависла над ней.
— А ты? Какой твой план?
— Остаться здесь. Я слишком стар, чтобы снова идти в бунтари. Чтобы снова быть тараканом. Это мой конец. — он вздохнул, глубокая морщина прошла по его лбу. — Но я не хочу, чтобы моя история закончилась здесь. Я рассказал тебе всё важное, о чем узнал за жизнь. И передал знание тебе. Не дай ему исчезнуть. Передай его дальше, Джим. Передай! Найди способ. Теперь ты это я.
Короткий протянул мне руку. Я вгляделся в его глаза, серые и опустошенные. Сжал его крохотную руку. Она была теплая.
Тепло… Первое тепло за всё это долгое время.
Мы стояли лицом к лицу, пока он, наконец, не закрыл глаза, несколько раз быстро кивнул, и, отпустив мою руку, пошел обратно к двери.
— Послушай…
— Да? — он полуобернулся.
— Но как?… Как так получилось, что вы пали жертвой собственного оружия? Почему Стена не оберегла вас? От вашего оружия? Как вы могли создать Зою, и не защититься от неё сами?
— Неужели ты так и не понял? — ответил он. — Зоя не наше оружие. Не мы создали Зою.
— Но тогда кто?! Кто начал войну?
— Точно не мы. Но это уже не важно. Совсем не важно. Всё распадается на части. Иди, спасай дочь. Это единственное, что теперь имеет смысл. Поспеши. — он зашел внутрь и взялся за засов. — Прощай, Джим.
И затем:
— Да, и держись подальше от больших городов. Зоя уничтожает их первыми.
Удар! Меня оглушило.
— Стой, стой! Что ты сказал? Повтори!!
— Держись в стороне от больших городов. От скоплений людей. В них голод приходит быстрее всего. Зоя уничтожает их первыми.
Он поклонился и захлопнул дверь.
Взрыв гитарного аккорда сбил меня с ног: «Они не будут нас контролировать. Мы победим!»
Я обернулся. Город полыхал.
Артем… Будь ты проклят! Вот как ты собрался убрать ненужных людей? Отцепить вагоны с безбилетниками? Балласт? Восемь миллиардов лишних человек? Гори в аду, Артем!
Я стоял, обессиленный, посередине города-гиганта, готового обрушиться в топку анархии. И вдруг:
Мария. Она жива. Жива! Вперед!
Перезарядив пистолет, я натянул капюшон и пошел на восток, в Шанхай.

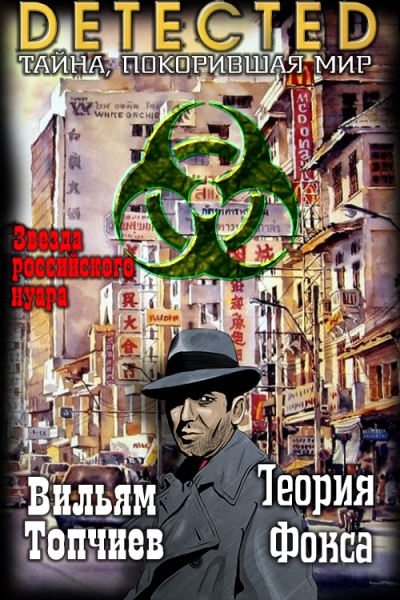

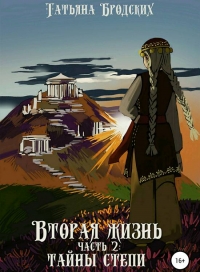
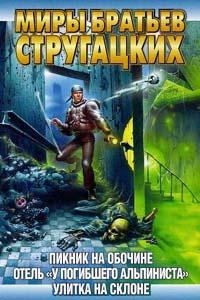



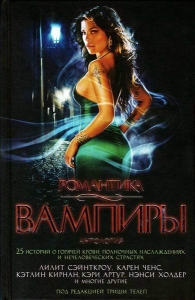

Комментарии к книге «Теория Фокса», Вильям Топчиев
Всего 0 комментариев