Царство Небесное подобно неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон.
(Матф.13:47,48)1. Порча
– Порча на тебе!
Старуха указала артритным пальцем на Павла.
– И на тебе, девка!
Палец качнулся стрелкой барометра и уперся в Нину. Та вздрогнула, нашарила под столом руку Павла, сжала. Пламя свечей затрепетало, сильнее пахнуло ладаном, густые тени зазмеились по стенам. Бабка Ефимия завела глаза и забормотала что-то неразборчивое, но Павел прочел по губам: «…порчу навели… свечи не зря трещат… болезни… ах ты!»
Он ободряюще стиснул руку Нины в ответ, другой придерживал у живота медный крест. Металл нагрелся и больше не холодил кожу, но все равно напоминал о прикосновении хирургических инструментов из прошлой, почти забытой жизни.
Бабка Ефимия закончила бормотать, перекрестила Нину, потом Павла:
– Вынимайте!
Оба креста – литой мужской и узорчатый женский – беззвучно упали на стол. Павел приподнял край рубашки: на коже расцветали зеленоватые пятна. Краем глаза заметил, как шевельнулись губы Нины, повторяя за бабкой:
– Порча…
Знахарка удовлетворенно кивнула:
– Снимать будем.
Поднялась, заковыляла в недра дома. Павел поглядел на Нину и вопросительно поднял брови. Девушка мотнула головой, слова сложились в узнаваемое:
– Все хорошо.
По комнате поплыл запах ладана, такой густой, хоть черпай горстями. В воздухе дрожала дымная взвесь, и лики с закопченных икон смотрели неласково и строго. Отчего-то накатило беспокойство. Павел сунул руку в карман и со вздохом облегчения нащупал прохладный пластиковый цилиндрик. Не выронил, не потерял.
Вернулась бабка Ефимия с подносом, на котором оказались молитвенник, стакан воды и куриное яйцо. Аккуратно поставила на стол, обтянутый липкой клеенкой. Отблеск свечей полыхнул на гранях стакана.
– Сюда! – знахарка указала рядом с собой. Павел послушно пересел. Темные глаза Спасителя смотрели, не мигая, будто спрашивали: «Веруешь?»
Знахарка встала за спиной. Шею Павла обожгло ее горячее дыхание, влажные руки коснулись лба. Краем глаза он увидел, как зашевелились губы Нины и понял, что она шептала молитвы. Он повторил за ней:
– Да воскрес-нет Бог… и рас-то-чатся враги его… да исчезнут… тает воск от огня… так по-гибнут бесы от лица лю-бя-щих Бога…
Бабка Ефимия несколько раз обвела куриным яйцом вокруг головы Павла, а тот уже не повторял за Ниной, а просто крутил в кармане Пулю и смотрел, как в полумраке мигают оранжевые огоньки, да к потолку тянутся зыбкие тени.
Закончив молитву, знахарка пошла к столу. Павел потянулся следом, но со стула не встал. С его места было хорошо видно, как Ефимия разбила яйцо над стаканом, и в воду потек зеленовато-бурый желток, в котором копошилось что-то белое и живое.
Нина подскочила и прижала ко рту ладони. Бабка повернулась к Павлу и выгнула черненые брови:
– Сколько зла! Черви клубятся… Вот порча… Отмаливать надо.
Она открыла изрядно потрепанный молитвенник, отслюнила несколько страниц и сунула Нине:
– Читай!
Нина склонилась над книгой. Темные локоны почти полностью скрыли ее лицо, и Павел не мог разобрать, читает она или только делает вид. Он покорно ждал, а знахарка важно кивала, крестила притихшую девушку и время от времени шлепала губами, приговаривая:
– Так, так… сохрани от неверия… и несчастий… так! – и укоризненно грозила Павлу. – А в тебе бес! Морщишься? Искушает тебя… неверием и гордыней. Оттого детей нет… Господь не дает…
Нина дочитала, откинула со лба налипшие пряди. Ее грудь взволнованно колыхалась, лицо блестело от пота. Она что-то спросила, но Павел не успел разобрать. Зато Ефимия протянула руку:
– Давай!
Девушка полезла в сумочку и вытащила фотографию. Павел вытянул шею, но и так знал, кто изображен на снимке – родители Нины.
Знахарка аккуратно положила фотокарточку на клеенку, бережно разгладила сухими ладонями, потом взяла резную свечу, привезенную из паломничества и пропитанную эфирными маслами. Сквозь плотность ладана донесся едва уловимый тонкий аромат елея.
– Мать суставами мается, верно? – сказала бабка, косясь на гостей и, дождавшись кивка, продолжила: – А у отца простатит… Пусть молится. Порча… Могу по снимку откатать… в следующий раз. Подходящего яичка нет…
– Мне по-га-дайте! – сказал Павел. Видимо, слишком громко, потому что девушка вскинула голову, а бабка Ефимия глянула удивленно. Павел улыбнулся извиняющейся полуулыбкой и достал черно-белый снимок.
– Вот. Пле-мянник, – он постарался, чтобы голос прозвучал как можно естественнее. Бабка Ефимия покачала головой, но снимок приняла бережно, заметила:
– На тебя похож.
Повела свечой слева направо. Восковая капля скользнула вниз, кляксой расплылась по краю снимка, и Павел подался вперед. Бабка ткнула его в грудь сухой ладонью.
– Ш-ш! Не волнуйся… На племяннике порчи нет. Здоровый… Ждет судьба светлая… легкая. Сто лет проживет!
Она вернула снимок. Темноволосый паренек с фотокарточки сверкнул белозубой улыбкой. Павел не улыбнулся в ответ, аккуратно сложил фото и сунул во внутренний карман. В вечную жизнь он не верил, и знал, что парень с фотографии не верит тоже.
– А напоследок погадаю, – сказала Ефимия, достала потертую карточную колоду и принялась умело тасовать, пришептывая:
– Тридцать шесть…сестры и братья… черные, красные… скажите правду! Что было? Будет? Не утаите!
Замелькали пестрые рубашки, в глазах зарябило, будто в калейдоскопе, и карие глаза Нины блеснули от любопытства. Павел подсел ближе, впился в шевелящийся рот знахарки, стараясь не пропустить ни слова.
– Вижу свадьбу, – бормотала бабка Ефимия, поддевая скрюченными пальцами карты и шлепая каждой о клеенку. – Будет у тебя, девка, двойня. В церковь ходи… Сорокоуст… молебен. Спасителю и Богородице… а еще целителю… всем святым. Ты, парень, молись Николаю… архангелу Рафаилу, целителю. Сила окрепнет… бесплодие отступит. Сскоро дорога, – указала на шестерку треф, – дальняя, сложная. Нехорошее… А что? Не разгляжу. Шестерка бубей с пиками – болезни. Обман. А тут, – ткнула в короля пик, – дурной человек. Рядом пиковая дама. Ох, неприятности… а пользой закончится или вредом, не пойму. Карты путают. Только здесь пиковый туз при семерке. А это значит…
Она замолчала, нахмурилась. Нина подняла на бабку испуганный взгляд, и Павел прочел по губам:
– Что же?
Знахарка не ответила. Что-то мягкое ткнулось в ноги, блеснуло зелеными плошками глаз.
– Что там? – повторила Нина.
– Кош-ка!
Павел нагнулся и с удовольствием погладил лоснящуюся спинку. Зверек широко зевнул, а, может, мяукнул и начал тереться о щиколотки, вздымая подрагивающий хвост. Ефимия разулыбалась:
– Дашка моя. Она болезни чует. Вишь, льнет? Ну, будет, будет!
Она похлопала по скамье рядом с собой, и кошка прыгнула к хозяйке, свернулась черным клубком. Бабка смахнула колоду на край стола, затушила витую свечку.
– Помните наказ, – прошамкала она, старательно выговаривая слова. – Читайте молитвы десять дней, а после ко мне возвращайтесь. Поняли?
Павел кивнул. Кивнула и Нина. Оба поднялись, попрощались. В благодарность оставили у порога крупу, молоко и масло – деньгами Ефимия не брала.
После задымленной избы воздух показался Павлу освежающим. Березы, черные и мокрые после дождя, клонили к плетню отяжелевшие ветки. У дороги притулилась белая «Нива», а кругом стояла тишина, да такая, что в ней вязли все звуки мира, и Павел видел только, как трепещет на ветру листва, как дворовый пес бесшумно разевает пасть, как гравий под подошвами откатывается в стороны. Павел тонул в тишине, как в омуте, и в этом было какое-то болезненное наслаждение.
Лишь по вибрации понял, что заработал мотор. Нина пихнула его локтем. Павел повернулся и встретился с ее вопрошающим взглядом. Нахмурившись, она намекая постучала себя по уху. Игра закончилась.
Павел вытащил Пулю. Пластиковый корпус был черным, а звуковод и регуляторы – серебристыми. Поэтому слуховой аппарат напоминал Павлу трассирующий снаряд. Он и был снарядом, однажды пущенным в голову и оставшимся там навсегда.
Завиток вкладыша нырнул в слуховой канал. Павел завел цилиндр за ухо, щелкнул регулятором и тишина взорвалась.
Это слегка дезориентировало его. Каждый раз, включая слуховой аппарат, он чувствовал себя выброшенной на берег рыбой. За треском помех Павел безошибочно узнал гул работающего двигателя и нетерпеливый голос Нины:
– Так что думаешь?
Павел пожал плечами.
– Ни-че-го инте-ресного, Нинель, – ответил он, и собственный голос показался ему неожиданно громким и резким. Он подкрутил регулятор громкости, и продолжил уже более спокойно и внятно: – Обычная бабка, таких в любой деревне навалом. Пользы от них нет. Но и вреда немного.
– Значит, помиловать? Или все же… – напарница выдержала паузу и повернула книзу большой палец. Павел хмыкнул:
– Сама-то как думаешь?
Нина, счастливая в браке за некрупным чиновником, рассмеялась.
– Моя Анька только на прошлой неделе ходить начала. К двойне я пока не готова. Но папеньке скажу, чтоб проверился. Чем черт не шутит?
– Поверила?
– Кто знает. Говорит, порча на всех. Еще и этот пиковый туз при семерке. Ты поищи по справочникам, что это может значить?
Павел подозревал, что ничего хорошего, но вслух этого не сказал, а Нина и не ждала ответа, спросила снова:
– Червей в яйце видел?
– Не в первый раз. У деревенских знахарок это популярный фокус. Можно птицу заразить, а можно скорлупу проколоть, посадить внутрь опарыша, потом воском запечатать. Слышала ведь, что она сказала? Мол, сейчас такого яйца нет, а к следующему ритуалу приготовит.
– А как же это? – Нина задрала блузку и продемонстрировала на животе зеленые отпечатки. – Говорят, если металл следы оставляет, это первый признак порчи.
– Это первый признак оксида, а не порчи. Ты, Нинель, в школе училась? Кресты у бабки медные. А медь от пота окисляется и темнеет.
Нина надула губы.
– А так хотелось поверить в настоящую деревенскую колдунью! Бабка Ефимия, порчу снимает, мужскую силу возвращает, бесплодие лечит, лад в семью приносит. А она даже не поняла, что мы не пара! – Нина, шутя, ткнула Павла в плечо. – А все ты, вредина!
– Работа такая, – Павел перекинул через плечо ремень. – Поехали, Нинель. Мне до обеда статью сдать.
Нина вздохнула, погладила оплетку руля.
– Одно радует, хоть на ком-то порчи нет. Ты передай племяннику.
Павел отвернулся к окну. Над избами лениво текла облачная река. Май в этом году выдался холодным и дождливым, и, верно, к вечеру снова зарядит ливень.
– Нет никакого племянника, – сказал Павел, не заботясь о том, слышит ли его Нина. – Брат это мой. Он умер десять лет назад.
2. Червоточина
Однажды фотокор Денис приволок аквариум на восемьдесят литров.
– Переезжаем, а жена против, – пояснил он. – Говорит, лучше кошку заведем. Ее хоть погладить можно.
Рыбки пугливо трепыхались в наполненном водой пакете. Мертвый меченосец лежал на дне, некогда ярко-алое тело обесцветилось, его плавники вяло пощипывал сом. На другой день после новоселья скончался гурами: повредили сачком. Зато остальные прижились и чувствовали себя неплохо в стеклянном мирке, приютившимся между кадкой с фикусом и затертым диванчиком. Старожилом аквариума был Адмирал – жемчужная скалярия. Поврежденный в драке глаз зарос бельмом, но рыба держалась королевой, величественно проплывая мимо пластиковых кораллов и вздымая плавник, будто потрепанный штормом парус.
Из всех сотрудников «Тарусского калейдоскопа» Адмирал особенно выделял Павла, и сразу подруливал к стеклу, стоило спецкору появиться в поле зрения.
– Чувствует родственную душу, – подшучивала Нина.
– Я просто не забываю их кормить, – отвечал Павел, но этим утром рыб кормила бухгалтерша Оля, и Адмирал недовольно прятался в искусственных водорослях, повернувшись к миру хвостом.
К обеду все-таки пошел дождь, и вскоре окна заволокло водяной пленкой, а здание редакции само превратилось в аквариум. Лампы изливались электрическим светом, теплым и тусклым, как в бане. Павел зажмурился, помассировал пальцами веки, а потом снова попытался прочесть фразу:
«Если туз пики находится острием вниз, это означает убытки, плохие известия. В сочетании с семеркой, девяткой, десяткой – крупные неприятности, болезни. Иногда смерть».
Буквы расплывались и таяли в желтизне страниц. Смертью пугали многие уличные гадалки. Дешевые фокусы.
Павел пролистал штук пять брошюрок, с обложек которых глядели лукавые цыганки. Страницы пестрели изображениями карт во всевозможных комбинациях, но толкования разнились.
В раздражении Павел отодвинул книжки на край стола. Рассеянно тронул в подстаканнике ручки, красную – к правому краю, синюю – к левому, между ними выстроил карандаши. Выровнял стопку нарезанных для записей бумажек – в редакции их называли «склеротничками», – и покосился на соседа. Артем иногда посмеивался над педантизмом коллеги, но сейчас не замечал ничего. Нацепив наушники, он выпал из реальности, поглощенный и материалом, и музыкой.
Окно осветилось молнией, в отдалении раздался приглушенный хлопок. Павел порадовался, что вовремя выключил Пулю – в грозу электроника барахлила.
– Глухота после травмы никогда не бывает полной, – повторяли врачи и обещали, что слух вскоре восстановится. Но если верить старой поговорке: обещанного ждут три года. Для Павла тишина длилась уже десять лет.
Едва подумалось, не сделать ли перерыв на кофе, замигала и погасла лампочка, и кабинет на мгновение провалился во тьму. Потянуло сквозняком, словно кто-то настежь распахнул окно. Потом в нос ударила вонь перегноя и гари – запах, характерный скорее для ноября, чем для середины мая. А когда свет загорелся снова – в комнате что-то изменилось.
Что именно – Павел понял не сразу. Все так же ровно, будто солдаты на построении, замерли в подстаканнике карандаши. Все той же аккуратной стопкой лежали книги по гаданию. И Артем размеренно тыкал в кнопки клавиатуры, согнувшись в три погибели. Павел потянулся к регулятору громкости.
«Ты видел, а? – хотел сказать он. – Когда только починят эту чертову проводку!»
Но так и не включил Пулю, потому что заметил: Артем печатал на неработающем компьютере.
Безжизненный квадрат экрана темнел, как и окно, по которому нескончаемым потоком лилась вода. Индикаторы системника не мигали. Но пальцы Артема по-прежнему бегали по клавиатуре, и если бы Павел передвинул рычажки аппарата, то вместо гула работающего компьютера услышал бы только сухое пощелкивание клавиш.
Шею снова обдало сквозняком. Павел хотел поправить воротник, но вместо этого зачем-то взял карандаш и вытянул из стопки «склеротничок».
Лицо Артема, повернутое вполоборота, приобрело желтушный оттенок. По впалой щеке побежали черные нити капилляров, на лбу вздулась и лопнула вена, но вместо крови на кожу выплеснулась черная муть. Его губы шевельнулись, и Павел ткнул острием грифеля в бумажку, проводя первую черту.
В мигающем оранжевом свете рот Артема казался черным провалом. До Павла донесся удушливый запах разложения, и он понял: Артем мертв. А может, кто-то лишь прикидывался Артемом, надев его кожу, как деловой костюм. И теперь этот кто-то двигал чужими пальцами, шептал чужими губами:
– …ер… в… ы…
Настало оцепенение, когда нельзя ни встать, ни отвести взгляд, а лишь механически выводить на бумаге каракули, повторяя за мертвецом: «Черв…»
Ощутимый тычок в плечо заставил Павла вздрогнуть. Он выронил карандаш, моргнул раз, другой. Предметы обрели четкость, и прямо перед глазами всплыло встревоженное лицо Нины.
– В порядке? – шевельнулись ее губы.
За соседним столом привстал Артем. Его брови озадаченно хмурились, наушники болтались на шее. Ни лопнувших вен, ни копошащихся червей под кожей. С экрана компьютера лился мягкий свет, и Павел различил развернутое окно пасьянса. Все карты показывали узорчатые спинки, кроме двух: туз пик в сочетании с семеркой.
– Все… хорошо, – сердито ответил Павел и включил Пулю. Голова тотчас наполнилась щелканьем и потрескиванием статических помех.
– Ну, слава Богу! – вздохнула Нина. – Я подумала, в обморок грохнешься.
– Давление упало. Кофе бы, Нинель… У тебя есть?
– Как раз собрались. Только сели – ни Пашки, ни Артема. Ну, думаем, совсем заработались мальчики! Прихожу, а ты бледный, как будто мертвеца увидал, – Нина сглотнула, покачала головой: – Это все бабка, да? Напугала нас, вот ты и…
– Ерунда! – перебил Артем. – Вспомни, как за Пашкой два года назад сатанисты охотились. Вся Таруса на ушах стояла! А тут – бабка.
Они засмеялись. Павел вежливо улыбнулся и украдкой взял со стола листок, исписанный небрежным подростковым почерком. С обеих сторон читалось: «черви», «червон», «не ходи».
Павел скомкал бумажку и швырнул в мусорную корзину.
Внизу пахло кофе. Фотокор Денис, шмыгая носом, шумно прихлебывал из кружки.
– Как некультурно! – кокетливо скривилась бухгалтерша Оля и завела за ушко крашеную прядь.
– Культура есть ошибка цивилизации! – тут же среагировал Денис. – Лишь в дикой природе человек чувствует себя свободным.
– То-то в последнем походе на Чертов перевал ты ныл, как девчонка! – заржал Артем и плюхнулся на свободный стул.
– Да, – грустно согласился Денис. – Горняшка не щадит ни хрупких красоток, ни мужчин в расцвете лет. Так что вы в следующий раз без меня. Я лучше на рыбалку.
– После такого дождя ох и черви попрут! – подал голос мечтательный верстальщик Юра, а Павел вздрогнул. – Может, махнем на выходных? Паш, ты с нами?
– Можно, – без энтузиазма согласился тот. – На Быструю или Рыбень?
– Быстрая ближе, – ответил Юра. – А карпы там – во!
Они заговорили о рыбалке, наперебой вспоминая былые победы и обсуждая, где дешевле докупить недостающую оснастку. Павел не был заядлым рыболовом, но его отец был. По крайней мере, на шестнадцатилетие ему с братом подарили по новенькому спиннингу. Подарили до того, как…
– Ребята! Там кто-то есть.
Оля вклинилась в разговор и подскочила к Денису, испуганно потянув его за рукав.
– Чего выдумываешь, дикая? – фотокор шутливо приобнял бухгалтершу за талию. Она не отстранилась, как прежде, а ухватилась за руку, ища поддержки.
– Я слышала, как хлопнула дверь, – прошептала она. – Кто-то вошел. И сейчас он стоит в холле.
Вообще посетители не были редкостью для «Тарусского калейдоскопа», но в обеденный перерыв редакция запиралась на ключ. Павел уставился на дверь кухни, приоткрытую на ладонь, и подкрутил регулятор громкости, но услышал только щелчки в микрофоне, поскуливание Оли и шумное дыхание коллег.
– Пошли, посмотрим! – первой решилась Нина.
Ее слова звоном отдались в голове, и Павел поспешно снизил громкость до привычного уровня. Пока он возился с Пулей, все уже выкатились в холл и остановились, заслоняя дверной проем. Павел невежливо пихнул Юрку локтем, тот посторонился, но не проронил ни слова.
В редакцию действительно вошел чужак. И он был мокрым с головы до ног.
«Босых ног», – отметил Павел.
Цепочка следов тянулась от самого порога, словно незнакомец долгое время брел по лужам, нарочно выбирая самые глубокие и грязные. Под темным дождевиком угадывался камуфляж, а вот лица не разглядеть: капюшон нависал так низко, что виднелся только кончик носа и спутанная, изрядно вымокшая борода.
К груди незнакомец прижимал штыковую лопату.
– Куда поставить? – глухо донеслось из-под капюшона
Журналисты переглянулись.
– Я говорю, лопату куда поставить? – повторил незнакомец.
– А вон туда! – не растерялся и махнул рукой Артем. – Ставьте в уголок, за фикус.
Мужик повернулся. Движения у него были заторможенные, от одежды исходил запах выпотрошенной рыбы, и Павел поежился. Вспомнился оранжевый свет, шепчущие губы мертвеца: «Черв…»
– Там у вас рыбы, что ль? – мужик указал на аквариум.
На этот раз никто не отозвался. В воздухе накапливалось напряжение, но чужак не спешил уходить, а стоял, раздумывая и покачиваясь с мыска на пятку.
– Рыба на червя хорошо идет, – наконец прогудел он. – В дождь надо добывать. Вот этим! – он потряс лопатой, и Оля с Ниной тотчас шмыгнули за спины мужчин. Денис ободряюще потрепал Олю по руке, а вслух сказал:
– Ты ставь. Мы как раз на рыбалку собрались, будет, чем накопать.
– А это правильно! – обрадовался мужик. – Червь сыроту любит. А как выползет на свет Божий, тут его и бери.
Он покрутил головой, будто принюхиваясь, но с места не сошел и лица по-прежнему не показал, только сбивчиво забормотал:
– Чую… чую его… жирный… красный… Прямо тут она, червоточина, – он постучал согнутым пальцем по лбу. – Да только в ком из вас? Не разберу.
И шумно засопел, втягивая воздух. Павел тронул за руку Нину, шепнул:
– Беги к Евген Иванычу. Пусть полицию вызывает.
Девушка испуганно кивнула и отступила на шаг.
– В тебе! – мокрый палец с обломанным ногтем вытянулся и уперся в Дениса. Парень заозирался, но быстро взял себя в руки и ответил:
– Нет во мне никаких червей. Могу справку предъявить.
– И верно, верно, – мужик засопел снова, а Нина продвинулась еще на пару шагов. – Тогда в тебе!
Он указал на Олю. Девушка пискнула и обмякла в руках Артема. Тот сдвинул брови, прошипел:
– Ну и урод!
Нина тем временем обогнула диванчик и поравнялась с аквариумом.
– Может, вам такси вызвать? – предложил Павел, с некоторой брезгливостью оглядывая незнакомца. – Я оплачу.
Он достал из кармана сложенные купюры. Но это произвело на незнакомца совершенно неожиданное впечатление. Он завопил и отшатнулся. Капюшон, наконец, слетел с головы, и Павел увидел его глаза – выцветшие до прозрачной голубизны, совершенно безумные.
– Бесовские бумажки! – мужик указал на Павла и зачастил: – Вижу теперь! В тебе червь сидит! В тебе червь! Вижу! В тебе!
Девушки завизжали. Павел заметил, как Нина наткнулась на кадку с фикусом и едва не опрокинула ее. Безумец повернулся на звук, зарычал по-звериному:
– А-а! Черви! Кормите рыб!
И швырнул лопату.
Раскат грома и звон разбитого стекла раздались почти одновременно. Артем первым бросился на мужика, пнул его в голень. Тот зашатался, размахнулся, чтобы ударить в ответ, но следом навалились Денис и Павел. Мужик плевался, пробовал отбиваться, но силы были не равны, а потому его быстро скрутили и обмотали принесенным из кухни удлинителем.
– Что ни день, то праздник, – тяжело дыша, резюмировал Денис, и повернулся к Павлу: – Машинка цела?
Павел поправил за ухом Пулю, пригладил всклокоченные волосы и нервно ответил:
– В порядке. Чертовы фанатики…
Денис кивнул и буркнул:
– А вот Адмиралу, кажется, хана.
Павел обернулся. На полу, среди осколков аквариума, стояла Оля и ревела в голос. Возле ее ног трепыхались рыбы.
– Чего разнюнилась? – грубовато прикрикнул на нее Артем. – Быстро банку тащи!
– Какую? – всхлипнула девушка.
– Любую!
Оля закусила губу и ринулась на кухню. Павел рванул следом, но как раз в эту минуту в холл спустился Евген Иваныч. Остановившись на нижней ступени, он хмуро окинул поле боя и сказал безапелляционно:
– Верницкий, ты идешь со мной.
– Евгений Иванович, надо рыб спасти! – откликнулся Павел.
– Спасут без тебя. Полицию вызвали?
– Едут уже! – по лестнице сбежала запыхавшаяся Нина и с опаской глянула на чужака. – Жив хоть?
Мужик замычал что-то невразумительное, показывая, что жив, и пустил в бороду слюну.
– Чтоб в последний раз! – пригрозил Евген Иваныч. – Оплачивать охрану будете из своего кармана.
Он развернулся и быстро поднялся по лестнице. Павел поплелся за ним, но остановился на полпути. Оглянувшись, увидел, как из кухни с литровой банкой прибежала Оля, и, причитая, принялась подбирать рыб. Юрка бросился ей помогать, и первым выпустил Адмирала в новое жилище. Скалярия заметалась от стенки к стенке, но вскоре успокоилась, замерла посреди банки, распушив ободранный хвост. Только тогда Павел вздохнул с облегчением и, перепрыгивая через ступеньки, взбежал на второй этаж.
Шеф терпеливо ждал в кабинете.
– Твой клиент? – осведомился он.
Павел пожал плечами. С тех пор, как он приобрел репутацию «охотника на ведьм» в качестве ведущего рубрики «Хрустальный шар», в редакцию нет-нет, да и заглядывали странные личности вроде сегодняшнего гостя. Иногда приходили письма с угрозами, иногда под дверью находили кости мелких животных или нанесенные мелом оккультные знаки. Евген Иваныч нанял охрану – бойкого старика, судя по лицу неровно дышащего к водке, но вскоре шумиха поутихла, тиражи упали, и старика отпустили на вольные хлеба.
– Ладно, забудь, – сказал главред. – Скоро психи с лопатами и бабки с медными крестами ерундой покажутся. Ты последнюю передачу «Тайного мира» смотрел?
Висок заломило, и Павел вспомнил пустой и далекий голос Ани:
– Нам надо отдохнуть друг от друга.
И гудки, разрывающие тишину квартиры.
Павел потер лоб, выровнял на чужом столе раскиданные листы, придвинул к краю карандашницу, параллельно друг другу положил ластик и авторучку, ответил:
– Простите, Евгений Иванович, некогда было.
– Вот и плохо! – редактор бросил на стол флешку. – Держи, сегодня же посмотришь. А к концу недели оформим командировку.
– Куда? – машинально спросил Павел.
– Узнаешь. Да чтоб не ударить в грязь лицом! Чтоб все на высшем уровне! – главред постучал пальцем по столу. – Сделаешь достойный репортаж, на всю страну прославимся! Золотая жила эти «червонi пояси»!
В отдалении громыхнуло: гроза уходила на запад, но электроника отозвалась в голове слабым потрескиванием, и сквозь помехи почудилось призрачное: «Черви… червон… не ходи!»
– Сделаем, Евгений Иванович, – сказал Павел, пряча флешку в карман. – Если вы рекомендуете, значит, это и вправду что-то стоящее.
3. Чудо старца Захария
Говорят, любовь проходит за три года. Ане хватило двух с половиной.
Павел познакомился с ней в центре сурдологии. Слуховой аппарат он сдал на сервисное обслуживание, а сам томился в ожидании диагностики и отирался возле кофейного автомата. Здесь его и облила шоколадом светловолосая незнакомка.
«Извините», – жестом показала она, поспешно выудила из сумочки влажную салфетку и протянула Павлу. Салфетку он принял, а злиться на очаровательную растяпу не стал, поднял большой палец: «Все в порядке!»
Девушку звали Аня. Она привезла на обследование маму, и хотя сама глухонемой не была, но освоила и дактильную азбуку, и язык жестов.
«Ты говоришь? Слышишь?» – спросила она у Павла.
Он ответил вслух:
– Гово-рю… Слышу… нем-ного. Читаю… по губам.
Аня заулыбалась.
Так начался их роман: яркий и закончившийся нелепо и быстро.
Павел стоял, сжимая и разжимая кулаки, пока Аня собирала вещи и кричала:
– Ты весь в работе, в работе, в работе! А я? А мы? А наше будущее?
– Это дело моей жизни, – зло твердил он, но Аня не понимала, только всплескивала руками:
– Желтая газетенка – это дело твой жизни? А если тебя убьют? Все эти экстрасенсы, маги, ясновидящие, сектанты… Что тебе вообще до них?
– Ненавижу, – отвечал Павел, стискивая зубы до хруста. – Всех ненавижу.
Аня, кажется, не слышала, или не хотела слушать.
– Тебя ведь звали в отдел новостей, чего не пошел? – и с горечью добавила: – Одержимый!
Отчаяние и злость копились внутри, но не находили выхода. Аня не понимала его, как не понимали и коллеги. Откуда им, нормальным, знать, с чем приходится жить ему? Жить с пониманием, что все можно было повернуть вспять, накопить денег на операцию, вернуть слух, если бы только…
Сейчас Павлу хотелось отключить Пулю и провалиться в тишину. Аня заметила его жест.
– Только попробуй, – с неожиданным спокойствием сказала она. – Только попробуй, и я возненавижу тебя.
Он опустил руку и процедил:
– Давай успокоимся. И подумаем. Оба.
Аня кивнула, подняла спортивную сумку с уложенными вещами.
– Ты прав. Нам нужно успокоиться и подумать. И отдохнуть друг от друга.
Хлопнула входная дверь, квартира опустела. Павел наблюдал из окна, как девушка стремительно пересекает двор. У проезжей части она остановилась и обернулась.
Павел прижал ладонь к губам: «Люблю тебя». Аня поднесла кулак с оттопыренным мизинцем к уху: «Я позвоню». И действительно перезвонила через неделю, предложив расстаться.
Сказкам свойственно заканчиваться.
Сначала он с головой ушел в работу. Потом набрал смс: «Ты хорошо подумала?» и «Давай встретимся», но стер, так и не отправив. По пути домой зашел в магазин, кинул в корзинку четыре банки пива, упаковку кофе и вафли. Но, пока шел к кассе, передумал, вернулся и выложил пиво: знакомиться с материалом предпочитал на трезвую голову.
Без Ани в квартире непривычно и пусто. Она привносила толику хаоса в разложенный по полочкам мирок, хотя Павел часто сердился на беспорядочно разбросанные баночки, тюбики и флаконы. Но пока Аня находилась рядом – демоны отступали. А теперь одиночество сочилось из каждого угла, стекало с каждой опустевшей полки, и тишина вновь стала постоянной подружкой Павла – зачем слуховой аппарат, если некого слушать и не с кем говорить?
Павел прошелся по дому и зажег во всех комнатах свет. Прежде, чем снять мокрую куртку, вытащил из шкафа фотоальбом. Красный бархат протерся и почернел на сгибах, поэтому Павел держал альбом в целлофановом пакете – не столько в целях сохранности, сколько для собственного спокойствия. Склеенные страницы переворачивались нехотя, под пальцами мелькали счастливые лица: круглое, обрамленное темными кудрями – матери, улыбчивое и курносое – отца. Свадьба. Рождение близнецов. Новогодние посиделки. Первый класс. Старшая школа.
На последнем фото за праздничным столом – двое подростков. Одинаковые курносые носы, одинаковые ямочки на щеках, толстовки с одинаковым принтом. И подписано старательно: «Андрюха и Пашка. Уже шестнадцать!»
Через две минуты они задуют свечи на праздничном торте. Через десять минут отец подарит близнецам по спиннингу. Еще через два часа семья закинет палатки в автомобиль и выедет на трассу по направлению к реке Рыбень. А через пятьдесят километров от города у летящего с горы большегруза откажут тормоза…
Как там обещала бабка Ефимия? «Здоровый парень. Сто лет проживет!»
Знахарка лгала. Они все лгали.
Павел вытащил из-за пазухи карточку и сунул в пустой кармашек альбома. Траурная полоска, нарисованная маркером, перечеркнула уголок по диагонали и закрыла пятно от воска. Ниже чернели буквы:
«Андрей Верницкий».
И даты: рождение, смерть.
Павел захлопнул альбом и убрал подальше в шкаф. Лучше провести этот вечер без воспоминаний.
Он наспех поужинал вчерашними макаронами, взял вафли, кофе и вернулся в комнату. Ноутбук подмигнул огоньком диода, на флешке оказалась только одна запись, озаглавленная: «Таежный мессия». Стоило нажать воспроизведение, как на экране появилась заставка: призраки, появляющиеся на лестнице и проходящие сквозь стены, огненные пентаграммы, молящиеся люди в белых одеждах, звездное небо, в котором спиралью раскручивалась галактика. Затем экран погас, и в центре вспыхнули огненные буквы «Тайный мир».
Настолько тайный, что никто его не видел.
Павел усмехнулся и отхлебнул кофе – крепкий, без сахара, как приучил отец.
– Удивительное рядом, – тем временем, заговорила с экрана ведущая. Внизу появилась отбивка: «Софья Керр». Павел знал, что настоящее имя девушки Ирина Глазова, но Софья Керр звучало эпатажно. Девушка и выглядела соответствующе: черное до пола платье, корсет, аккуратное каре красных волос, густо подведенные глаза. С Павлом у нее негласное состязание, сенсации рвали друг у друга из рук, кто первый успеет – тот и победил. Сейчас счет был явно не в пользу Павла.
– Призраки, ведьмы, потомственные ясновидящие, – продолжила Софья. – Они живут рядом с нами. Об этом рассказано в прошлых передачах. Но сегодня мы стали свидетелями настоящего чуда. Чуда, которое пришло в семью Краюхиных.
Кадр сменился. Крупный план выхватил бледное лицо ребенка лет десяти. Глаза распахнутые, на губах недоверчивая полуулыбка.
– У Леши ДЦП, – послышался закадровый голос Софьи. – Серьезные нарушения опорно-двигательного аппарата приковали малыша к инвалидному креслу. Мама Светлана долгие годы обивала пороги больниц. Она уже не надеялась на чудо. Но чудо все-таки случилось.
План изменился на общий. Мальчик уперся ладонями в подлокотники инвалидного кресла. Привстал. Сделал робкий шаг, потом еще один. Лицо покраснело от волнения, но испуганная улыбка превратилась в уверенную, ребенок протянул руки:
– Мама! Я хожу!
В кадр ворвалась плачущая женщина и сгребла сына в охапку. Заиграла волнующая мелодия, и Павел закатил глаза. Телевизионщики умело играли на эмоциях: в такие моменты домохозяйки плакали от умиления.
– Мы почти не надеялись, смирились, – заговорила Светлана Краюхина. Ее щеки блестели от слез, но женщина не утиралась: так зрелищнее. – Лешенька спрашивал: мама, а я навсегда инвалид? А что я ребенку отвечу? Он когда видел, как мальчишки в футбол гоняют, глаза загорались, от окна не оттащить, – женщина все-таки смахнула слезу, но в уголке глаза тут же набухла новая. – Я решила, что жизнь положу, а сына спасу. Как услышала про старца, думаю: вот она, последняя наша надежда!
В кадре снова появилась Софья. Она картинно прошлась по железнодорожной станции, остановилась под деревянной табличкой:
– Последняя надежда Леши Краюхина живет здесь. Доброгостово. Таежный тупик. От Тарусы до станции четверо суток пути. От станции до деревни – пару часов на «Уазике».
Павел недоверчиво хмыкнул: такие как Софья на поездах не ездят. Им покупают билет в бизнес-класс или даже выдают в личное пользование компактный вертолет. С утра вылетел – к обеду на месте. Вечером – материал.
– А ты не завидуй, Верницкий, – однажды сказала ему Софья. – В нашем деле не клювом щелкать надо, а впахивать, как негр на плантациях.
Тем временем по экрану поплыли таежные виды, снятые с высоты птичьего полета. Щетина тайги меняла оттенки с нежно-зеленого на черный. У горизонта вырастали обточенные зубы гор, их склоны белели снежными проплешинами. Река тянулась широким серым шрамом, а на правом берегу притулилась деревенька.
– Доброгостово. Не правда ли, говорящее название? – продолжила Софья. – Добрый гость. У славян Доброгостом звали посланника богов, покровителя добрых вестей.
Павел считал, что о славянах Софья Керр знает столько же, сколько корова о балете. Вряд ли она ночами просиживала за книгами по оккультизму, чтобы втереться в доверие к сатанистам. Вряд ли выписывала из закрытых столичных библиотек последние экземпляры «Хаоса непознанного». Да и в подлинности «чуда» Павел сомневался: половина сюжетов «Тайного мира» оказывалась на проверку спектаклем.
– Отшельника Захария знает и стар, и млад, – Софья широко улыбнулась, сунула микрофон под нос смущенной женщине неопределенного возраста, одетой по-деревенски неброско и бедно.
– Захария-то? А что ж, знаем! – заговорила та, с любопытством косясь на камеру. – Вон его дом, крайний к лесу. Отшельником живет. Болящие к нему частенько приезжают, а которые тут остаются и быт налаживают. Краснопоясники, значит.
– Старец Захарий – местный мессия, – снова заговорила ведущая. – В Доброгостове живет почти шестьдесят лет, сейчас разменял девятый десяток. Всю жизнь зарабатывал плотничеством, пока не случился инсульт. Захария парализовало, зато открылся дар целительства. Прозрение слепых, исцеление недужных, очищение от бесов – вот неполный список чудес старца. Правда, попасть к отшельнику непросто. Но мы все же попробуем.
Софья заговорщически подмигнула зрителям и постучалась в ветхую избу. Дверь распахнулась, и на порог вышла женщина в белой домотканой рубахе.
– Чего нужно? – недружелюбно осведомилась она и хмуро глянула в сторону оператора, но тут же опустила взгляд, затеребила красный, расшитый узорами кушак.
– Нам бы старца Захария увидеть, – елейным голосом попросила Софья. – С телевиденья мы.
– Мирское нам нельзя! – отрезала женщина.
– Мы отблагодарить за исцеление Леши Краюхина! О нем передачу снимаем!
– Нельзя! – упрямилась женщина и хотела захлопнуть дверь, как из глубины дома донесся надтреснутый голос:
– Маланья! Пусти…
Женщина поджала губы, прибрала под белую косынку выбившуюся прядь и посторонилась:
– Раз сам зовет, то входите.
В избе царил полумрак. Грязное окошко почти не пропускало свет. Электричества не было, в углах потрескивали лучины, и комната походила на ощетинившегося ежа. На скамье, застеленной шкурами, полулежал старик – совершенно седой, заросший от бровей до самого выреза расшитой, но давно не стираной сорочки.
Софья остановилась посреди комнаты, слегка нагнув голову – потолок в избе невысок. Павлу показалось, что на миг губы ведущей брезгливо опустились, но она тотчас справилась с эмоциями и вежливо заулыбалась, даже попробовала отвесить поясной поклон:
– Доброго здоровья, дедушка!
Старик поднял дрожащую левую руку, перекрестил Софью двуперстием и ответил:
– И вам, гостюшки дорогие. Зачем пожаловали?
– Мы с телевиденья. Передачу снимаем об исцелении Леши Краюхина.
– Помню мальца, – слабым голосом ответил старец. – Неходячий был. Ходит теперь?
– Ходит! – радостно отозвалась ведущая. – Вашими стараниями! Откуда дар у вас такой, дедушка?
Старец протяжно вздохнул.
– Да вот, одно Господь забрал, другое взамен дал, – он поднял левую руку: – В этих перстах Божий дар теплится. А вот эти, – дотронулся до согнутой правой руки, – и не чую вовсе. Да не ведает шуйца твоя, что творит десница твоя.
Захарий цитировал Священное Писание, только на старославянский манер. Павел вспомнил медные кресты и темные образа в доме знахарки Ефимии: вера – лучший друг и оружие любого шарлатана. Только не покидало ощущение, что в избе старца чего-то не хватало.
– Как вы живете здесь, дедушка? – спросила Софья.
– Так и живу. Хорошо, люди добрые помогают по хозяйству. Вот Маланья, например, – Захарий поманил женщину здоровой рукой. – Подойди, сестра. Подойди, не бойся. Сядь сюды.
Маланья присела, все так же теребя засаленные концы кушака. Захарий погладил ее по плечу, она не отстранилась, прижалась доверчиво. Куда подевалось прежнее недружелюбие?
– Бесом девка маялась, – пояснил старец. – Скажи, Маланья, сколько в тебе бесов сидело?
– Шесть… – блеклым голосом ответила женщина.
– Ше-есть, – протянул Захарий. – Дьявольское число. А скажи, Маланья, откуда они в тебе народились?
– Грешила я, батюшка, – залепетала женщина, уставившись в пол. – Телом торговала. От плода избавилась, а потом новый плод родился, сатанинский.
– А теперь-то как? Мучают бесы?
Маланья мотнула головой.
– Нет. Как ты мне на чрево ладонь наложил, так я тут же бесовским бременем разрешилась. Одному Господу я теперь служу, да еще тебе, батюшка.
Старец заулыбался, погладил женщину по спине.
– Так, моя хорошая. Так. Ну, ступай теперь.
Маланья встала со скамьи, по-прежнему не глядя в камеру, скользнула в тень.
– Так и живем, – вздохнул Захарий. – Ты-то, девка, тоже городская. Тоже в тебе, поди, черви клубятся. Во всех вас, мирских да пришлых, червоточина…
По спине Павла мазнуло холодком. Он понял, чего не хватало в избе старца – на стенах не было икон.
План снова поменялся. Теперь Софья стояла у покосившегося плетня, а ее крашеные волосы трепал ветер.
– Многие из тех, кого исцелил Захарий, остались в Доброгостове, – ведущая указала на одинаковые аккуратные срубы. – По примеру старца люди бежали от мира и зажили отшельниками. Что заставило их пожертвовать благами цивилизации? Ответа на этот вопрос нет. «Рыбари Господни», или как их называют местные, Краснопоясники, наотрез отказались разговаривать с журналистами. На собрание общины тоже попасть не удалось. Однако мы заполучили ценную запись: ее украдкой сделал один из родственников девушки, над которой проводился обряд экзорцизма. Просьба отойти от экранов впечатлительным людям, детям и беременным женщинам: следующие кадры повергнут вас в шок!
Экран погас и оставался темным несколько секунд. Затем по нему замельтешили разноцветные мушки, изображение запрыгало – видимо, действительно снималось из-под полы. Потом Павел увидел людей в белых балахонах: они стояли полукругом, воздев руки в молитве. Павел покрутил настройки слухового аппарата, но вскоре понял, что на записи не было звука изначально.
В центре круга билась девушка, простоволосая и босая. Ее тело выгибалось дугой, затылок колотился о доски. Каждый раз, когда девушка открывала рот, с губ срывалось темное облачко, похожее не то на рой насекомых, не то на клуб пыли. Потом в круг вошел старец Захарий. Вернее, его ввел высокий и плечистый мужик, лица которого Павел не разглядел. Старец наклонился над девушкой и зашептал что-то, осеняя ее двуперстием. Бесноватая замолотила ладонями в пол, выгнулась так, что касалась досок только затылком и пятками. Ее глаза завращались и уставились в камеру – совершенно белые, как отшлифованная галька. И, наверное, никто, кроме глухого Павла, умеющего хорошо читать по губам, не понял бы, что на выдохе протянула она:
«Чер-во-о…»
Изо рта вынырнул язык – тонкий и верткий, как гусеница. Чашка в руках Павла накренилась, и остывший кофе тонкой струйкой потек на колени.
Старец коснулся лба бесноватой. Белесые глаза заволокло мглой, от уголка глаза потекла темная капля.
Старец коснулся ее груди. Девушка мелко задрожала, и вдруг начала медленно отрываться от пола. Павел не верил своим глазам, но все же видел совершенно точно, что тело теперь висит в воздухе где-то сантиметрах в тридцати от пола.
Старец коснулся ее живота. Бесноватая разинула рот, да так широко, что в уголках губ треснула кожа. Ее горло напряглось, раздулось, будто зоб. А потом бесноватая изрыгнула поток клубящейся мглы.
Чашка выпала из расслабленных пальцев. Остатки кофе выплеснулись на ковер. И в этот же самый миг бесноватая грянулась оземь.
Экран зарябил, пошел полосами, и вскоре на нем снова показалась ведущая Софья.
– Сотворил ли чудо таежный мессия? Правда это или вымысел? Мы не беремся судить, – заговорила она. – Для Леши Краюхина и бесноватой девочки ответ очевиден. Мы же покидаем Доброгостово, но не прощаемся с мудрым отшельником и обязательно сюда вернемся. Кто знает? Может, в следующий раз мы сами станем свидетелем самого настоящего чуда.
Камера крупным планом выхватило лицо старца Захария – нависшие брови, слегка опущенный после инсульта уголок рта. До Павла донесся надтреснутый и тихий старческий голос:
– …Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит.
4. Ночные гости
Центральный вход городской библиотеки смотрел прямо на главную площадь Тарусы. Причудливая лепнина на фасаде и атланты, поддерживающие балкон, придавали бывшему купеческому особняку очарование ренессанса.
По городу ходили слухи, будто по ночам в бывшем танцевальном, а ныне читальном зале видят призрака купца Смородина. Мол, ходит мимо стеллажей черный, всклокоченный, ищет зашитые в матрасе червонцы. А где теперь те матрасы? Сгнили давно, но призраку о том не скажешь: вышагнет из угла, поведет горящими глазами и спросит: «Ты червонцы взял?» И откупиться можно, если монетку или пуговицу в угол кинуть со словами: «Что найдешь – все твое!» А иногда из пустого зала раздавались легкие шаги по паркету, смех и музыка – отзвуки прошлых балов.
Павел не раз пользовался услугами ночного абонемента, но никаких призраков, разумеется, не встречал, и никакой музыки не слышал, о чем однажды написал в рубрике «Хрустальный шар». Но слухи после этого не прекратились.
– Совсем позабыли о нас, молодой человек, – пожурила директриса, пожилая и ухоженная женщина с осанкой аристократки, подавая изящные сухие пальцы, унизанные перстнями. – Сейчас и без того в библиотеку не часто заходят, все в Интернете сидят.
Павел пожал руку, улыбнулся:
– Мы с вами вымирающий вид, Ирина Петровна. Мне бы поработать пару часов. Разрешаете?
– Составишь компанию даме? – в голосе директрисы послышалось лукавство. – Ваше счастье, молодой человек, что я с отчетами задержалась. И, похоже, надолго. Так что читальный зал и книгохранилище в вашем распоряжении. Сторожа предупрежу.
– Спасибо, Ирина Петровна. Я ваш должник.
– Ну-ну, пустое! – она снова заулыбалась. – Хотя роль мисс Марпл мне не светит, побыть информатором великого Шерлока я могу.
У директрисы библиотеки было две страсти: старинные украшения и детективы.
Пустой читальный зал выглядел неуютно. Ряды стеллажей уходили в густой сумрак: директриса попросила экономить электроэнергию, и Павел расположился поближе к выходу, включив минимальное количество ламп. Запустив компьютер, он вытащил блокнот, где на первом листе схематично зарисовал план деревни: домики на берегу реки, лес и горы. Вверху подписал «Доброгостово – добрый гость». Дальше шли заметки, которые Павел сделал дома, повторно пересмотрев телесюжет. Старец как старец, не злой и не добрый, взгляд простой, бесхитростный, правая рука висит плетью – паралитик. Зато Маланья, женщина в платке, настораживала. Павел записал в блокнот: «Враждебность, покорность, страх. Типичное поведение сектанта», перевернул страницу и добавил: «В избе старца нет икон. Почему?» Вопросительный знак жирно обвел и дважды подчеркнул.
Ритуал экзорцизма просмотрел с особой тщательностью. На стоп-кадрах изображение рябило, и сколько Павел ни присматривался к воспарившей над полом девушке, но так и не разглядел поддерживающих тросов. А ведь они должны быть, правда? Должны, иначе придется признать, что это действительно…
– Чепуха, – сказал вслух и записал в блокноте: «Левитация – иллюзия!!»
Павел решил, что к фокусам вернется позже: работать он привык планомерно, и сейчас его больше интересовали материалы по краеведению. Часть из них, благодаря всемирной паутине, разыскал еще дома.
Доброгостово – деревенька на реке Полонь, в таежной глуши между Новой Плиской и Сосновцами. Когда-то обладала статусом села, а теперь насчитывала не больше тридцати дворов и делилась на две части: в новой возвышалась Троицкая церковь, вокруг которой и текла размеренная деревенская жизнь, раз в неделю устраивалась торговля, а по выходным даже работал местный дворец культуры. А на отшибе, ближе к лесу располагалась старая часть – наверное, там и жили сектанты, но подтверждений догадке Павел не нашел, зато нашел кое-что другое.
Он тщательно скопировал найденный фотоснимок в блокнот: на фоне черного леса, возвышаясь деревянным куполом над крестами и надгробиями, стояла Всехсвятская кладбищенская церковь. И называлась тогда деревня – Погостово.
«…остов», – эхом отозвалось в Пуле.
Павел распрямил спину и огляделся: он находился в зале совершенно один. Лампы освещали ближайший стеллаж и десяток столов, а дальше все проглатывал полумрак. В окно бил желтый и теплый свет фонаря, от рамы на подоконник падала косая тень – крест-накрест. Ветки клена царапали стекло, и в слуховом аппарате неприятно потрескивало. Павел поморщился и отключил Пулю.
Тишина окутала, как периной. Подумалось, что хорошо бы чашечку кофе, но спускаться вниз и отвлекать Ирину Петровну не хотелось. Павел потянулся, разминая мышцы, зевнул и вернулся к сохраненной заметке:
«Погостово – бывшее ссыльное поселение. Сюда свозили каторжан и бродяг. Часть ссыльнопоселенцев задействовали в добыче угля и леса, осужденные батрачили в кулацких хозяйствах и промышленных заведениях купцов, однако экономическое положение оставалось крайне тяжелым. Местное население встречало ссыльных недоброжелательно и настороженно. Не было возможности освоить землю, обзавестись скотом и сельскохозяйственным инвентарем, а многие поселенцы некрестьянских сословий и вовсе не имели навыков к земельному труду. Жилища располагались по большей части на окраине деревни и строились из плохого леса, обмазывались глиной для тепла. Многие ссыльнопоселенцы уходили на заработки и редко возвращались назад: кто-то по-прежнему занимался кражей, кто-то погибал в тайге. В Погостове хоронили преступников, в народе – окаянников, со всего Новоплисского уезда, отчего Всехсвятская церковь получила второе название – Окаянная. Небольшой процент ссыльнопоселенцев все же сумел приспособиться к создавшимся условиям и влился в крестьянское сословие. Дети ссыльных либо наделялись земельными угодьями, либо жили работой по найму. Последующие поколения уже ничем не отличались от местных крестьян, в результате чего жители подали прошение о переименовании поселения в Доброгостово, чтобы прежняя лихая слава не нависала над деревней».
Переименование состоялось около сорока лет назад. А если верить материалу «Тайного мира», старцу Захарию исполнилось девяносто. Значит, целитель – старожил деревни, а если старожил, то…
На блокнот упала тень, словно кто-то встал за спиной и глянул через плечо. Шею обдало морозным дыханием. Павел быстро оглядел помещение. Стеллажи стояли незыблемые и ровные, как надгробия. Кошачьим глазом подмигивал за окном болтающийся фонарь, и крест – тень от рамы – покачивался туда-сюда, как маятник гипнотизера.
Павел поднялся, дошел до выключателя и щелкнул клавишами. Одна за другой вспыхнули лампы, разбрызгивая свет над мертвым залом. Павел заглянул за ближайший стеллаж: никого. Коридор, сложенный из пестрых книжных корешков, был прямой и пустынный, как ночная автомагистраль, и упирался в противоположную стену, выкрашенную в теплый персиковый цвет. Павел дошел до ближайшей развилки, глянул вправо-влево. Лампы слепили глаза, словно он попал не в библиотеку, а в операционную или того хуже – в мертвецкую. На миг показалось, что стол, за которым он только что сидел, блеснул хромированной поверхностью, и по краям выступили бурые пятна. Павел моргнул, и пятна исчезли. Он вернулся к столу, провел рукой – ни пятен, ни хромированного блеска, только дерево и лак.
– Бред! – произнес Павел и включил Пулю снова: именно теперь, в полной тишине и одиночестве, он чувствовал себя наиболее уязвимо.
Стараясь не обращать внимания на статические помехи и постукивание веток по стеклу, Павел вернулся к материалу, но замер в недоумении: это была совсем не та статья, что он просматривал несколько минут назад, и которая одной из первых выпадала на запрос «Деревня Доброгостово». Та называлась: «Новоплисский уезд. История края». Эта же – «Лешачья Плешь, Окаянная церковь и другие проклятые места».
Взгляд зацепился за фразу:
«…беглые каторжане рассказывали. Они по тайным тропам ходили, вот и вышли к Лешачьей Плеши».
Павел плюхнулся на стул, поджал одну ногу и принялся читать дальше:
«Испокон веков деды твердили: нечистое место, гиблое. Зверь ли наткнется, человек ли – все одно пропадают, и только кости находят. Если птица пролетит – так камнем падает. Ну да каторжане народ бойкий, голод глаза застилал, уж готовы друг другу глотки перегрызть, как вдруг, откуда ни возьмись под ноги заяц бросился. Каторжники его поймали, да и голову свернули. Стали судачить, как жарить-варить. А ни спичек нет, ни котелка. Вот судачат, а сами не видят, как ноги по тропке все дальше и дальше несут. Только один очнулся, когда ногу на сук напорол. «Глянь! – говорит. – Куда это мы с тобой, братуха, забрели?» Огляделись, и верно – место чудное. Посреди чащи круг, и не растет на нем ничего – ни травы, ни деревьев. Одна голая земля, и та черная-пречерная, зыбкая, как багно – торфяное болото. Вот и говорит первый: «Давай-ка отсюда выбираться. Место со всех концов просматривается, не разберешь, откуда пулю поймаешь». Вот и пошли обратно к лесу. Идти тяжело – ноги в земле вязнут, а лес все не приближается, будто на одном месте стоишь. Вот уже и шаг ускорили, вот и побежали – по щиколотку в землю уходить начали, семь потов сошло, а с места – ни на пядь. Тут и второй каторжник взмолился: «Не могу больше. Видать, в трясину попали. Еще и этот чертов заяц, почитай, целый пуд весит! Выкину его!» И только взялся за лапы, чтобы как следует размахнуться, а заяц повернул мертвую голову, глянул человечьими глазами да как захохочет…»
Павел подвинул блокнот, перелистнул страницы и нацарапал карандашом: «Лешачья Плешь. Окаянная церковь», а глаза уже бежали по строчкам дальше:
«А вот что про Окаянную церковь рассказывают. Известно, часто хоронили в Погостове народ лихой. Эти люди редко своей смертью умирали, потому и считалось в этих краях, что в Царство Небесное их Господь не пускал. Вот и хоронили в два круга: в первом, внутреннем, всех православных христиан. А уж во втором, за оградой, лиходеев. Одним из таких, недобрых да пришлых, был старик, которого в народе колдуном прозвали. Вот как пришла ему пора помирать, мучился он сильно, вокруг его избы пыль столбом ходила, в крышу молнии били – значит, черти его мучили, пока он силу другому не передаст. Но не было у колдуна ни детей, ни внуков. Так и помер, измучившись. А перед смертью сказал: «Как хоронить меня будете, обейте гроб железными обручами. А после пошлите в церковь мальчика черненького аль девочку рыженькую. Дайте свечку, которую освящали на Сретенье, и Псалтырь. А после отрок или отроковица пусть одну ночь проведет в церкви, жжет свечку и читает Псалтырь. Что бы ни случилось, только сидит и читает Псалтырь». Так и сделали. И вот понесли на кладбище. Когда несли, налетела откуда-то буря, и лопнул один обруч. Люди и говорят: «Ничего. Еще два есть». Как поднесли домовину к яме, лопнул и второй обруч. «Ничего – сказали люди. – Ведь один остался». Так и закопали колдуна. Только на погост никого не отправили – кто ж своего ребенка пустит? Вот закопали, и прошло семь дней, а потом этот колдун стал приходить и кровь у живых сосать…»
Павел протер глаза и посмотрел на часы: они показывали десять вечера. Мышцы затекли, Павел потянулся, хрустнул суставами и принялся читать дальше:
«…тогда объявился дьячок, который сказал, что так и будет колдун деревню мучить, пока его наказ не выполнят. Но он готов горю подсобить. Взял пастушонка, мальчишечку черненького, привел с собой в церковь и наказал читать Псалтырь и жечь свечку, освященную на Сретенье. А еще насыпал мальчику полный карман конопляных зерен, и говорит: «Ты не бойся ничего. Как колдун явится, ты знай себе читай, а между делом зерна щелкай, а на вопросы отвечай вот что…» И научил. Потом обвел мальчика кругом, а сам за клирос спрятался. И вот настала ночь. Раскаркались на погосте вороны, поднялся вихрь и услышал мальчик за стенами церкви лязг – это лопнул последний обруч с гроба колдуна. Но мальчик вспомнил, что сказал ему дьячок, принялся читать Псалтырь, а между делом конопляные семечки щелкать. И хоть страшно ему было, но наказ выполнял. Тогда заходили ходуном стены церкви, ворвался ветер и задул все свечи, кроме тех, которые в центре круга горели. А вместе с ветром в церковь ворвался колдун – синий, раздутый, волосы и борода до пят свисают, ногти на руках, будто волчьи когти. Ворвался и закричал: «Кто меня от дела оторвал, помешал у новорожденной и некрещенной кровь пить?» А ведь верно – не так давно у молодых ребенок родился, а покрестить не успели. Колдун хотел мальчика схватить, туда-сюда, но не пускает его круг. А мальчик знай себе читает, конопляные зерна ест, а они трещат. Остановился колдун на самой границе круга и спрашивает: «Что ты, отрок, делаешь?» А мальчик отвечает ему: «Псалтырь читаю да голову чешу». – «А что ешь?» – «Вшей». – «А разве можно вшей есть?» – удивился колдун. – «А разве можно, чтоб мертвые к живым ходили?» – ответил мальчик. Тут из-за клироса и выскочил дьячок. Облил колдуна святой водой, припечатал крестом. Мертвец завертелся волчком, закричал по-звериному, от савана повалил дым, а тело раздулось и лопнуло. И брызнули из него во все стороны кости да черви. Дьячок и принялся червей топтать, а кости в саван собирать. Да только не уследил – в одном месте круг стерся, и к ногам мальчика подкатилась косточка махонькая, самый мизинчик. Нашло на мальчика помутнение, он косточку подобрал и в карман спрятал. А саван потом похоронили во второй раз, и уж тогда забили в гроб осиновый кол, и колдун больше деревню не мучил. А кол тот пророс спустя годы деревцем…»
Хлопнула дверь, но не закрылась, а заходила туда-сюда на петлях. В проеме появилась и тут же спряталась чья-то тень.
– Ирина Петровна? – спросил Павел и подкрутил регулятор громкости.
За дверью хрипло, по-стариковски закашлялись. Конечно, это пришел сторож – нерасторопный пенсионер с вечно слезящимися глазами. Как его имя? Федор Яковлевич? Или Иванович? В прошлый раз, когда Павел задержался в библиотеке допоздна, сторож ходил под дверью читального зала, нарочито громко кашляя и ворча на «молодежь, которой заняться нечем, только ночами за книжками сидеть».
Павел выглянул в коридор. Прямоугольник света перечеркнул порог и протянулся к резным перилам. На этаже царил сумрак, но Павел все равно разглядел фигуру, застывшую у стены.
– Федор Иванович? – окликнул он сторожа. – Я почти закончил, скоро уйду.
А про себя решил, что обязательно вернется утром, чтобы найти материал о Краснопоясниках. Но сторож не отозвался. Повернувшись к углу лицом, он что-то увлеченно выцарапывал на окрашенной стене. Павел шагнул было за порог, но остановился: покидать границы желтого прямоугольника совершенно не хотелось. Он отчетливо понял, что там, в полумраке, небезопасно. Что кто-то, стоящий у стены, только притворяется сторожем, как несколько часов назад, в редакции кто-то притворялся Артемом.
Призрак купца Смородина?
Павел нащупал в кармане медяки. За годы общения с сектантами и колдунами он уяснил одно: начинать игру нужно всегда по их правилам, а заканчивать – по своим.
– Что найдешь – твое! – сказал Павел и швырнул в темноту монетку.
Ночной посетитель повернулся, и Павел понял, кто стоит перед ним: ни призрак купца, ни ночной сторож, а подросток. Щуплый и угловатый, в растянутой толстовке с принтом – в темноте надпись не разобрать, но Павел и так знал, что выведено большими желтыми буквами: «The Bullet», любимая рок-группа брата.
Подросток широко улыбнулся, отчего черная корка на правой щеке треснула, поднял сухую руку – послышался хруст, с которым ворошат в костре угли, – сунул в обгоревшее ухо провод наушника.
Висок пронзило острой болью, будто что-то острое и раскаленное пробило кость, и Павел ухватился за дверной наличник.
Призраков не бывает. Мертвые не встают из могил, не влезают в тело твоего коллеги, не поджидают в библиотеке. Это только усталость. Только игра воображения, подогретого репортажем и глупыми сказочками. Только галлюцинация…
И все же Павел вытолкнул крутившееся на языке имя:
– Андрей.
Мертвец вытянул указательный палец, его губы шевельнулись и сложились в неслышное, но узнаваемое: «Бах!»
Лампы на этаже вспыхнули.
Павел машинально вскинул руку, свет опалил роговицу.
– Эй! Парень! – донеслось со стороны.
Перед глазами еще мельтешили мушки, но, проморгавшись, Павел увидел, что стоит на этаже совершенно один, а снизу по лестнице поднимается ночной сторож – от него за версту несло пивом и копчеными крылышками.
– Ты до рассвета тут торчать будешь? Время два часа ночи!
– Как два? – машинально повторил Павел и глянул на часы: стрелки застыли на десяти.
– Да уж и третий пошел, – сторож недовольно сощурился и ворчливо переспросил: – Долго еще сидеть будешь, спрашиваю?
– Нет-нет, уже собираюсь, – заверил Павел.
Дед кивнул.
– Давай. Я двери запру. Надо мне очень, охранять тут всяких…
Павел проследил, как сторож, ворча и ругаясь, спускается обратно в холл. Потом шагнул к перилам, где несколько минут назад стоял его мертвый брат, но не увидел никаких следов и не почуял запаха гари. Павел вздохнул, провел ладонью по стене и замер.
По краске, будто гвоздем, кто-то нацарапал рисунок.
Рыбу.
5. Первое доказательство
На пыльном стекле старенькой отцовской «Лады» Андрей нарисовал здоровенную рыбеху и позвал брата:
– Гляди, вот такую я сегодня поймаю!
Павел глянул мельком, хмыкнул:
– Угу, как же!
И принялся укладывать в салон удочки, куль с шерстяными одеялами и подушки, завернутые в целлофан. Пока он возился, Андрей дорисовал рыбе внушительные буфера и подписал «Юлька».
– А вот такую поймаешь ты.
Павел оттопырил средний палец. Андрей довольно заржал и, заметив приближение отца, быстро вытер рисунок.
С Юлькой Павел дружил давно, с шестого класса, а в девятом из долговязой и тощей девчонки она превратилась в фигуристую модель, на которую оборачивалась вся сильная половина школы. Но только Павлу позволялось провожать ее до дома и целовать, запуская руки под трикотажную кофту и млея от возбуждения.
– Ну и когда ты ее наконец трахнешь? – однажды прямиком спросил Андрей.
В семье он считался за старшего, потому что родился на несколько минут раньше Павла, и в жизни тоже все успевал первым: первым научился считать, первым закурил, первым лишился девственности с веселой и разбитной Викой. Насчет последнего пункта возникали сомнения, но уж очень красочно описывал Андрей свой подвиг.
– Может, она мне после дня рождения даст? – отшутился Павел. – Классный подарок на шестнадцать лет!
– Ну-ну, ты главное до шестидесяти не досиди, – едко ответил Андрей.
Павел досадовал, что так и не сумел уговорить Юльку ехать на рыбалку с ночевкой. Может, им удалось бы уединиться в рощице и довести задуманное до конца, а теперь приходилось только мечтать о горячих поцелуях и смотреть, как в окне проносятся пятиэтажки спального района.
Андрей пихнул его локтем и указал на рекламный щит:
– Во, смотри! К нам в следующем месяце «Револьверы» приезжают! Пап, можно мы пойдем?
– Будет зависеть от вашего поведения, – отозвался из-за руля отец.
– Вот уж нет! – возмутилась мама.
– Почему нет? – завопил Андрей. – Вы слышали их последний кавер на «The Bullet»? Обещаем: никакого пива!
– Да пусть, – добродушно сказал отец, выруливая на окружную. – Я их довезу и привезу обратно.
Мама недовольно откинулась на сиденье и буркнула что-то вроде: «Посмотрим».
Братья издали ликующий клич.
– На, послушай! Вещь! – Андрей протянул брату вкладыш наушника. Голова тут же взорвалась от рева басов, и Павел показал брату «козу» в знак одобрения. Тот ухмыльнулся и сложил пальцы пистолетом: «Бах!» Павел, подыгрывая, схватился за сердце и повалился на сиденье. Краем глаза он заметил, как на боковое окно надвигается тень.
Потом последовал удар.
Говорят, перед смертью вся жизнь проносится перед глазами. Это неправда. Павел ничего не видел и ничего не запомнил, только ощутил, как затылок обожгло огнем, и навалилась тьма.
Потом Павел очнулся, но как – не помнил тоже. Только что его сознание блуждало во тьме, а в следующую секунду он уже стоял, пошатываясь, на обочине и повторял беспрестанно:
– Мама! Дай!
Слова соскальзывали в беззвучие. По лицу текло что-то горячее, неприятно липкое, и Павел сердился, потому что стоящая рядом женщина не была его матерью и не понимала, что Павел просит у нее салфетку. Женщина тормошила его за локоть и говорила что-то неразборчивое. В ушах все еще хрипели басы, и под аккомпанемент электрогитары к искореженным консервным банкам автомобилей бежали люди.
О последствиях аварии узнал гораздо позже, как и о том, что из лап смерти выкарабкался он один: брат и отец скончались на месте, мама умерла в реанимации, не приходя в сознание. Павел отделался черепно-мозговой травмой, переломом затылочной и височной костей и кровоизлиянием в барабанную полость.
Смерть близких и инвалидность – такие подарки Павел получил на шестнадцатилетие и больше дни рождения не праздновал.
Кто-то настойчиво похлопал его по плечу. Павел вздрогнул, стряхнул дремоту и воспоминания и встретился с недовольным взглядом таксиста.
– Эй, парень! Заснул что ли? Приехали мы! Старослободская, двадцать.
Павел поблагодарил, оставил водителю хрусткую купюру и выбрался из пропахшего табаком салона. Под ногой чавкнуло, и Павел чертыхнулся, выдирая начищенные утром ботинки из грязевой жижи. За городом дороги совершено развезло, но от разбитого асфальта до барака кто-то заботливо выложил тропинку из кирпичей. Перепрыгивая с одного обломка на другой, Павел радовался, что не взял с собой насмешливую Нину: уж она бы прокомментировала чудеса акробатики, а настроение после бессонной ночи ни к черту.
Злило, что информации о секте «Рыбари Господни» не нашлось никакой – сколько Павел ни просматривал страницы поисковых систем, – из чего вытекал вывод: община возникла недавно, и, судя по недружелюбному поведению Маланьи, отношения с большим миром не поддерживала.
Кое-как допрыгав до лестницы, Павел с облегчением оперся о перила и тщательно вытер ботинки о нижнюю ступень. С жестяного козырька прямо за шиворот скользнула капля. Павел передернул плечами и в два прыжка одолел ступени, дернул заржавленную ручку. Дверь оказалась не заперта и вела в полутемный коридор, где пахло кошками и прелым тряпьем. У дальней стены заворочалось что-то темное, живое, выгнулась горбом мохнатая спина. В груди тревожно бухнуло, и Павел инстинктивно отпрянул. Но серая полоска света, протянувшаяся от порога, выхватила из темноты очертания колес и спинки с накинутым на нее пледом – не призрак и не монстр, всего лишь старая инвалидная коляска. Из-под пледа вынырнула черная кошачья голова.
– Наглое животное, – буркнул Павел.
Кошка зевнула, соглашаясь, продемонстрировала красную тряпочку языка и юркнула обратно под плед. Павел пихнул с прохода эмалированную миску с остатками кошачьего обеда, вздохнул и постучался в дверь, обитую черным дерматином – на ней не было номера, но инвалидная коляска в коридоре явно показывала, что Павел не ошибся адресом. Ждать пришлось недолго: через пару минут послышались щелчки открывающегося замка, пахнуло лекарствами и жареным луком, и в коридор высунулась остроносая женщина. Павел сразу узнал ее – мать Леши Краюхина.
– Здравствуйте, Светлана… – начал Павел и запнулся, вопросительно поднял брови.
– Вячеславовна, – подсказала женщина. – Вы кто?
– Простите, что врываюсь и отвлекаю от дел, – улыбнулся Павел. – Мы не знакомы, но мне очень нужно с вами поговорить. Я видел передачу…
– Вы репортер?
В голосе женщины слышалось осторожность, взгляд оценивающе скользнул по чужаку: вверх-вниз. Павлу вспомнилось, что так же оценивающе и недоверчиво смотрела на репортеров Маланья, и поспешно ответил:
– Нет-нет! Что вы! Я просто увидел передачу про вас и вашего сына. Понимаете, мне нужна помощь. Видите ли, десять лет назад я попал в аварию, с тех пор оглох… – он указал на Пулю. – Вы не представляете, что значит жить с этим, надеяться и…
– Очень хорошо представляю, – сказала Светлана и шире распахнула дверь. – Я тоже живу с этим десять лет. Пройдете?
– Не задержу вас надолго, – пообещал Павел, протискиваясь в тесную прихожую. Макушкой задел лампочку, и она закачалась, поливая тусклым светом выцветшие обои, изъеденные грибком, и замотанные изолентой провода.
– Все проводку никак не починим, – словно извиняясь, сказала Светлана. – Мужских-то рук у нас нету. А теперь и без надобности.
– Это почему? – машинально спросил Павел, стараясь держаться подальше от стен. Тараканов он пока не видел, но подозревал, что, если не принять соответствующие меры, то унесет за собственным шиворотом парочку-другую.
– Да переедем скоро, – ответила женщина, подумала и добавила: – наверное. Вот только Леша немного окрепнет. Может, к следующему лету. Как, говорите, вы адрес узнали?
– Так весь город о вас судачит! – соврал Павел, хотя на самом деле узнал адрес у знакомого участкового. – В очереди женщины переговаривались. Может, соседки ваши?
– Может, – вздохнула Светлана. – Вы не первый уже, кто приходит.
– Потому и съехать хотите?
Светлана неопределенно повела плечом, ответила тихо:
– Да что нас тут держит? Мужа у меня нет. Работы хорошей тоже… Только ребенок и держал. А теперь вижу, не помогли ему тут, в городе. Решила: уедем в деревню. Земли много не надо, курочек заведем, огород посадим. На свежем воздухе Лешеньке лучше будет.
«Не в Доброгостово ли уехать?» – подумал Павел, а вслух сказал:
– Очень вас понимаю. Вот и меня ничего не держит: врачи давно крест поставили. Жены нет – кто ж на инвалида посмотрит?
Светлана улыбнулась, и взгляд ее потеплел, словно говорил: «А я бы посмотрела…»
– А можно мне самому с Лешей поговорить? – спросил Павел. – Не то, чтобы я не верил, но…
– Конечно, – сказала Светлана и толкнула дверь, ведущую в спальню. – Когда сказали ученики Христа: мы видели Господа! Один Фома, называемый Близнец, сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, не поверю, – и позвала в полумрак: – Лешенька? Выйди, сыночек, не бойся. С тобой дядя хочет поговорить, – обернулась к Павлу и спросила: – Как вас зовут, вы сказали?
– Не говорил, – ответно улыбнулся Павел и выдал первое, что пришло в голову: – Андрей.
В детской комнате запах лекарств ощущался острее. Через задернутые шторы плохо проникал свет, зато горел торшер: желтый кружок из-под абажура падал на разобранную постель, на которой полулежал ребенок и собирал из кусочков мозаики картинку. Увидев вошедших, мальчик свесил с кровати тощие голые ноги.
– Давай, Лешенька, смелее, – ласково подбодрила мать.
– С-сам знаю, – заикаясь, буркнул мальчик и, пыхтя, сполз с кровати, стукнул пятками о пол. Покачнувшись, ухватился за спинку, но выстоял. Шагнул раз, другой – видно, движения давались ему с трудом, непослушные ноги гнулись, но все же держали. Леша отпустил спинку кровати и победно улыбнулся: каково?
– Молодец! – похвалил Павел. – Помощник мамке вырастет! И что же, совсем не ходячий был?
– Посмотрите сами, – Светлана с готовностью метнулась к шкафу и вытащила лежащую на видном месте медицинскую карту. – Вот тут вся история. Вот диагноз.
Павел пролистал карту бегло, но внимательно изучил анамнез: спастическая диплегия, нарушена функция мышц, контрактура коленного сустава, повышенный тонус мышц, спастика в нижних конечностях выражена в наибольшей степени, сопутствующая болезни задержка психического и речевого развития. Могло ли наступить улучшение? Могло. Только почему так странно совпало с поездкой в Доброгостово?
Леша проковылял ближе и тоже заглянул в карту.
– Это ему еще расходиться надо, – сказала Светлана и потрепала сына по макушке. – Сначала тяжело, а потом привычно. Уже во двор бегает.
– Я с-скоро буду в мяч играть, к-как Мишка! – поддакнул мальчик. Видно, подобные представления были ему не в первой.
– А расскажи дяде Андрею, как тебя дедушка лечил? – попросила мать.
– Он м-мне руку с-сюда положил, – Леша нагнулся и тронул острую коленку. – Горячо было!
– Старец ему все ножки огладил, – сказала Светлана, с умилением глядя на сына. – Гладил и молился. Леша сказал, от прикосновений старца как огнем опалило. А потом, – она всхлипнула, – потом пошел мой сыночек…
– Мне дедушка с-сказал с коляски встать, – поддакнул мальчик. – Я и вс-стал.
Он покачнулся, шагнул снова, на этот раз увереннее, остановился возле Павла и, ощупав его цепким и слегка косящим взглядом, спросил:
– Дядя, а вы к-конфет принесли?
– И как только догадался? – натянуто улыбнулся Павел и выудил из кармана шоколадный батончик, хотя рука так и тянулась хорошенько встряхнуть попрошайку, но сдержался – даром, что инвалид.
– А вы все это время рядом находились? – спросил у Светланы Павел, возвращая ей карту.
Женщина смахнула слезу, кивнула.
– Да, рядом. И на колени встала, как старец велел. Поклоны земные била. Все молилась у Боженьки за исцеление.
– А жили где?
– У бабушки Матрены. Не за даром, конечно, но плата пустяковая. Что поделать, и людям надо как-то выживать, деревня заброшена, – Светлана вздохнула, погладила сына по плечу. – Ты бы, Лешенька, аппетит шоколадом не портил. Вот покушаешь, тогда…
– С-сам знаю, – насупился мальчик и поспешно завел руку с шоколадкой за спину. Растянутая футболка съехала с худого плеча, и на грудь скользнул медный крестик на засаленном шнурке.
– Что это у тебя? – Павел наклонился.
– Подарок от старца, – вместо сына ответила Светлана. – Вы только руками не троньте: заговоренный он!
Павел трогать не стал, но сразу понял, что это вовсе не нательный крестик, как он сначала подумал, а рыбка, скрученная из медной проволоки.
– Оберег это, – пояснила Светлана и встала рядом. – Велено сорок дней носить, не трогая и не снимая.
– Рыбари Господни, – пробормотал Павел и выпрямился. Женщина расцвела.
– Вы знаете! И сказал Господь своим апостолам: идите за Мною, Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.
– Вы их видели? – спросил Павел. – Краснопоясников?
Улыбка женщины потускнела.
– Не говорите так. Они не любят, когда их так называют, – нервно дернула плечами. – Будто какая-то секта.
– А они не секта?
– Нет же! – всплеснула руками Светлана. Леша покосился на мать испуганно, и она смягчилась, погладила сына по голове. – Иди, сыночек. Иди на кухню, я там котлеток нажарила. Покушай.
Мальчик шмыгнул носом и поковылял в коридор, время от времени хватаясь руками за стены.
– Они добрые люди на самом деле, – тихо заговорила Светлана. – Только от мира далекие. Да и что в этом миру? Я его полными ложками нахлебалась, и горя, и безденежья. Вот уедем, будет жизнь другая. Тихая, спокойная. Там знаете воздух какой? А виды какие? А река… – она мечтательно отвела взгляд к окну, будто за шторами видела другой, недоступный Павлу мир. – Нам и домик обещали построить.
– Кто же обещал?
– А игумен Степан, – женщина отвернулась от окна и глянула на Павла затуманенными глазами. – Святой человек и очень приличный мужчина. Моего Лешу на руках нес до самого дома старца. И во время ритуала помогал. Он всей общины староста. Когда прощались, так и сказал мне: «Приезжай, сестра, когда от мирского устанешь. Напускное это все, греховное. Деньги, телевиденье, Интернет, и все, что люди измыслили, не убоявшись Бога». Может, вместе поедем, а?
Павел не сразу осознал, что Светлана обращается к нему, вежливо улыбнулся:
– Мне бы сначала тут дела уладить и денег на первое время собрать. Да сами знаете, как тяжело решиться, когда уже нет надежды.
Светлана согласилась:
– Верно. Но вы не бойтесь. И не слушайте тех, кто говорит, будто там места гиблые и проклятые. Это все злые языки: мелют, что ни попадя.
Гиблые места… Погостово…
В памяти всплыла полутемная библиотека и надломленная фигура подростка у перил. Павел шумно прочистил горло, просипел:
– Извините. А вы сталкивались с чем-нибудь, – он неопределенно покрутил рукой, – этаким?
– Вы имеет в виду с чем-нибудь потусторонним? – проницательно спросила Светлана и оглянулась, зябко повела плечами. – Видела… однажды, – она понизила голос, – в ночь перед ритуалом, когда Лешеньку надо было к старцу нести, проснулась я от стука в окно. Тихо так стучали: тук-тук. Пауза. И снова: тук-тук. Будто прислушивались, проснулся ли в доме кто? Я подумала, может бабушка Матрена на двор вышла? Дверь заперла ненароком, а попасть не может. Или сосед пришел за чем-нибудь. В деревне все люди друг друга знают, все помогают, да мало ли, что понадобилось? Я уже и встать хотела, ноги с кровати свесила, чтоб Лешеньку не разбудить – он под боком сладко так сопел. Да тут и он проснулся и за руку меня схватил. «Не ходи, – говорит, – мама. Там кто-то плохой». А окна ставнями закрыты. И кто за окном – не видно. Только после этих слов стук еще настойчивее стал.
Она замолчала, затеребила край джемпера.
– Может, сон плохой приснился? – предположил Павел.
– Может, – Светлана вздохнула. – Я ему тоже сказала: «Ложись, Леша. Это, наверное, соседка за солью пришла. Я сейчас бабу Матрену разбужу, а ты постарайся заснуть». А про себя думаю: ну какая соль в три часа ночи? А Леша мне и говорит: «Нет, я вижу, мамочка. Стоит прямо за окном. Худой очень, косматый, а на руках ногти длинные, как у волка. Мамочка, не ходи. С места встанешь – он учует и стекло разобьет».
– И что же? – не выдержав, перебил Павел. Почему-то страстно захотелось уйти: в комнате пахнуло подвальной сыростью, шторы шевельнулись, будто кто-то невидимый укрылся за ними и теперь поджидал, дыша могильным холодом.
– А потом на крыше что-то загрохотало, – продолжила Светлана. – Будто камни покатились. А потом забегал, да гулко так! Леша едва не закричал, ко мне прижался, я его обняла. А сама отчего-то понимаю, что кричать нельзя, и двигаться нельзя. Ведь и правда, тогда случится что-то плохое. Молиться я начала, – Светлана оттянула край воротника и достала тоненькую цепочку, на которой медью блеснула та же плетеная подвеска-рыбка, что была и на мальчике. – Все молитвы, какие были, вспомнила. А этот кто-то грохотал по крыше долго, очень долго. То затихнет, то снова затопочет. Я так в беспамятстве и валилась, только сына крепче прижимала. Так мы до утра и просидели в обнимку. А когда рассвет забрезжил, все и стихло. До сих пор не знаю, что это было, – Светлана нервно усмехнулась и подняла на Павла болезненный взгляд. – Это ведь нечистый ходил, да? Игумен Степан говорил, что там, где святые живут, там и бесы ходят, с пути истинного сбивают. А, может, это из мальчика моего так болезнь выходила?
Павел только кивнул: стало неуютно и зябко. Шторы подергивались, будто кто-то снаружи настойчиво теребил их мертвой рукой. Он отступил к порогу, заговорил торопливо:
– Наверное. Так и есть. Но главное, что позади все. Главное, что ваш сын теперь здоров. Да и не буду вас больше задерживать. Вы только объясните, как до старца добраться?
– А это я вам сейчас скажу, – оживилась Светлана и продиктовала Павлу, каким поездом ехать, и на какой станции сходить, и как до деревни добираться. Он кивал и записывал в рабочий блокнот, и, уже распрощавшись, на пороге вспомнил последнее, о чем хотел спросить:
– Интересно, почему «Рыбари Господни» носят красные пояса?
Светлана вскинула брови, поморщилась, будто вопрос ей неприятен, но все-таки ответила:
– Опоясывание чресел – знак целомудрия, принадлежности Богу, готовность к борьбе и очищению. Как длинен этот пояс, так и путь до Царства Небесного долог. И поскольку он тернист и усыпан шипами грехов и соблазнов, пройти по нему нельзя, не изранившись. Потому и цвет его – красный. А когда грехи мирские смоются окончательно, то поменяют пояса на белые. Ибо сказано: если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну убелю…
– Что ж, теперь мне все понятно, – сказал Павел и пожал протянутую ладонь. – Спасибо вам.
– И вам, – хихикнула Светлана. – Вы заходите, если вдруг будет одиноко. Ладно?
– Обещаю, – соврал Павел и вышел в сырой и серый майский день.
6. Прибытие
Утро встретило моросью и туманом: весна запаздывала в эти края, и хотя деревья оперились листьями, по оврагам еще лежал снег. Платформа пустовала, только под жестяной табличкой с облупленной надписью «Доброгостово» смолил папиросу парень лет пятнадцати, одетый в резиновые сапоги и черную парку. Завидев Павла, он отлепился от перил и окликнул:
– Эй, дядя! Тебе в деревню надо?
– Мне в Доброгостово, – отозвался Павел. – Дорогу покажешь?
Пацан ухмыльнулся и ткнул пальцем за спину:
– Дорога-то вон. Спускаешься с платформы и вперед.
Павел хмуро оглядел молчащий лес: грунтовая дорога петляла между стволами и исчезала в туманной пелене. Неподалеку от края платформы под тенью развесистого кедра прятался «Уазик».
– А машина чья?
Подросток пустил сероватую дымную струйку и, явно рисуясь, похвалился:
– Моя, дядя. Я для того тут и околачиваюсь, чтобы приезжих вроде тебя в Доброгостово подвозить. Только удовольствие это не бесплатное.
– Само собой, – Павел с готовностью сунул руку в карман, нащупывая командировочные. – Полтинник пойдет?
– Обижаешь! – по-взрослому протянул парень. – Две сотни и по рукам!
– У, заломил! Да тут, наверное, и недалеко вовсе. Пешком дойду, – Павел взвалил на плечо спортивную сумку. Пацан неприятно ухмыльнулся:
– Ну, иди, иди! Дорога через тайгу проложена да через болота. По весне бывает совсем топко. А если с пути не собьешься и в болоте не увязнешь, то потихоньку-полегоньку, к ночи, может, и дойдешь. Если, конечно, волки не попадутся: они по весне голоднющие…
– Черт с тобой! – не вытерпел Павел и вытащил банкноты. – Сотня сейчас, сотня потом.
– Другой разговор, дядя! – парень щелчком отбросил окурок через ограждение и вальяжно приблизился к Павлу: ростом он доходил корреспонденту до плеча, но смотрел уверенно, с вызовом, чем жутко напоминал Андрея. От пацана разило табаком и соляркой.
– Курить тебе не рано? – не удержался от язвительного замечания Павел, хотя сам первый раз попробовал в четырнадцать.
– Да ты, никак, мой пропавший батя? – делано поразился парень и ловко выхватил бумажку. – Как однажды за папиросами вышел, так девятый год по всей области ищут. А тут ты и объявился, да сразу и прие…!
– Ладно, не паясничай, – оборвал Павел соскользнувшее с языка матерное ругательство. – Вторую часть, как договорились, на месте.
– Идет, – парень спрятал за пазуху купюру и шустро спрыгнул с платформы. Павел примеру следовать не стал и спустился, как все нормальные люди, по лесенке. Правда, едва не поскользнулся на мокрой ступени, сумка соскользнула с плеча и плюхнулась в снежную проплешину.
– Ты, дядя, аккуратнее! – запоздало прикрикнул парень. – Тут по зиме Авдотиха ногу поломала в двух местах! Аж до города везти пришлось!
– Спасибо за предупреждение, очень вовремя, – буркнул Павел, проверил, не соскочила ли Пуля, и тоже спрыгнул вниз. – А что ж ваш старец не помог… как его… Захарий, что ли?
– Гы-гы! – заржал пацан, демонстрируя кривоватые зубы. – А ты, дядя, думал, он и тебя так сразу примет? Вот прямо сегодня?
– А ты откуда знаешь, что я к нему?
– А мне и знать не надо. Сюда просто так городские не приезжают, – парень распахнул дверь кабины и прыгнул на водительское сиденье. – Залезай, дядя.
Павел подергал ручку второй двери, но та не поддалась. Сквозь маленькое и грязное окно он рассмотрел, что салон завален досками.
– Дядя, ты на переднее садись! – крикнул парень, высовывая кудлатую голову. – Сзади завал, стропила для бани везу!
Павел подчинился, пристроил под ногами сумку, и сразу же перекинул через плечо ремень безопасности, чем вызывал у пацана радостную усмешку.
– Да ты не бойся, офигенно довезу! – парень повернул ключ зажигания, и мотор зафырчал. – Я не первый год езжу, дорогу знаю вдоль и поперек.
– Права-то у тебя есть, гонщик? – буркнул Павел и прикрыл глаза. После аварии он решил для себя: никогда не садиться за руль и по возможности не ездить впереди. Второе удавалось не всегда, а пацан подтвердил худшие опасения, снова улыбнувшись во весь рот:
– Кому они нужны! Тут на километры тайга, из патруля только медведи. Эх, держись, дядя! – присвистнул и тронулся с места.
«Уазик» сразу затрясло. Павел одной рукой ухватился за ручку, второй – за кресло, и пожалел, что вовремя не отключил Пулю: пацан оказался словоохотливым. Звали его Кирюха, жил он с мамкой и младшей сестрой в новой части деревни, аккурат возле Троицкой церкви, год назад бросил школу, потому что до Гласова добираться нужно километров десять, а машина на самом деле соседская, да и мужских рук дома нету.
– Мамка у меня доярка, – делился он подробностями своей деревенской жизни. – Уходит, когда мы еще спим. Сеструхе шестой год. Как мать уйдет, мне надо встать, дров наколоть, скотине корма задать, завтрак разогреть, потом сеструху кормить. Потом мамка приходит и отдыхает до следующей дойки, а я с Танюхой занимаюсь. Мамка хочет, чтобы хоть она человеком стала, если мне не удалось.
– Зачем же тогда школу бросил? – Павел одним глазом косил на пацана, другой держал крепко зажмуренным. Проглоченный утром чай плескался в желудке и на каждой кочке норовил выскочить наружу.
– Да я двоечник! – радостно ответил Кирюха, словно бы гордился этим. – Мне и учителя говорили: ничего путного из тебя, Рудаков, не выйдет! Чтоб после девятого и духу твоего в школе не было.
– Вот и закончил бы девятилетку.
– Пох! – махнул рукой Кирюха, и машина подпрыгнула. Павел стиснул зубы, удерживая рвотный позыв. – В вечерку пойду. А летом подработаю на фермерстве. Может, и в механизаторы возьмут. Я с техникой лажу. Да и если я целыми днями в школе пропадать буду, – парень перешел на доверительный шепот, так что Павел едва его расслышал за гудением двигателя, стуком гравия о днище и тресками в слуховом аппарате, – кто за Танюхой присмотрит? Скрадут ведь!
– Кто скрадет? – машинально переспросил Павел.
Пацан глянул недоверчиво, проворчал:
– Ты, дядя, полудурком не прикидывайся! К Захару едешь, должен знать, кто возле него оттирается.
– Краснопоясники?
Кирюха не ответил, насупился. Какое-то время вел машину, молчал и сосредоточенно глядел прямо перед собой. Потом не выдержал.
– Ты, дядя, как у Захара побываешь, – пробубнил он, – сразу разворачивайся и у-е домой, понял?
– А что так? – подначил Павел. – Боишься, останусь?
Пацан стиснул пальцы не оплетке руля, на скулах заиграли желваки.
– Дядя, не шути так. Думаешь, ты первый, да? Думаешь, все просто? А вот сам посмотришь, как эти «рыбари» сетями оплетут, не выкарабкаешься, – и добавил зло: – Ненавижу их! А особенно этого муд…
Машина снова подпрыгнула, проглотив окончание фразы. Павел шумно задышал носом и уставился на драный рукав Кирюхиной парки, чтобы только не глядеть на дорогу и мельтешащие по бокам деревья.
– И многие остаются? – отдышавшись, наконец поинтересовался Павел.
– Не считал, – буркнул Кирюха. – Мне до них дела нет. Лишь бы подальше от нашего двора держались. Мы их не трогаем, пусть и они нас в покое оставят.
– А они не оставляют?
Кирюха неопределенно мотнул головой.
– Не… Ходят иногда. Вынюхивают. На рынок там. Или просящего осмотреть. Дозволено ли ему к Захару попасть.
– Это что же получается, инвалидов на профпригодность проверяют? – спросил Павел и едва не расхохотался, настолько абсурдной показалась мысль. Кирюха поглядел с неодобрением.
– Сам увидишь, как приедешь. Главное, первым к ним не суйся, а просто жди. Придет к тебе тогда… ну, если не Сам, то кто-нибудь из них точно.
– Сам – это старец? – уточнил Павел.
– Какой там старец! – поморщился Кирюха, явно досадуя на непонятливого пассажира. – Старец – мессия! Безвредный, потому что парализованный, только дома сидит и просящих принимает. А Сам – это Сам. Черный Игумен, то есть. Главный он над всей общиной, понял?
«Святой человек и очень приличный мужчина. Он всей общины староста», – пришли на ум слова Светланы Краюхиной. Павел нащупал во внутреннем кармане блокнот с заметками, вспомнил имя:
– Степан Черных?
Кирюха дернул рулем. «Уазик» вильнул, взметнулся из-под колес гравий, застучал дробно о днище. Туманом заволокло глаза, и Павел схватился за горло, чувствуя, что еще немного, и завтрак точно окажется на его новых шерстяных брюках.
– Осто… рожнее! – прохрипел он.
Машина выровняла ход. Кирюха зло стрельнул на пассажира карими глазами и резко сказал, будто пролаял:
– А ты, дядя, не спрашивай того, о чем сам знаешь!
И до самой деревни больше не проронил ни слова.
Лес поредел, в стороне, за стволами потянулась серая лента реки Полонь. Туман шапкой висел над водой, как пенка на молоке. Дорога пошла под уклон. И вскоре Павел различил сначала церковный шпиль, а потом и двускатные крыши, черными кляксами выступающими из туманной белизны.
– Приехали, дядя! – сказал Кирюха и затормозил у околицы. – Вторую половину гони, как договаривались.
Павел глянул в окно. Дома казались одинаковыми и недружелюбными. Не было на них ни номеров, ни названий улиц.
– А как же мне найти Центральную, пять? – спросил у парня.
Кирюха хмыкнул.
– Я разве в экскурсоводы нанимался? Уговор был – до деревни довезти.
Павел скрипнул зубами. Руки чесались отвесить пацану подзатыльник, как обычно поступал с Андреем отец, когда тот слишком уж кочевряжился, но после поездки еще мутило, да и ссориться с первым встреченным селянином не хотелось.
– Накину еще двадцатку, – пообещал Павел.
Кирюха покосился на деньги и сдался.
– Ладно. Только бабло вперед!
И с готовностью цапнул протянутые банкноты.
– Так где ты, дядя, остановиться решил?
– Улица Центральная, дом пять, – заученно повторил Павел.
Кирюха хохотнул по своему обыкновению:
– Хых! Это у вас, городских, номера да улицы. Без карты, поди, никого не сыщешь. А у нас все просто. Ты картам не верь, это при последней переписи дома нумеровали и названия раздавали. А было это, когда меня в планах у мамаши с папашей не было. Мы здесь все соседи, друг друга в лицо знаем. Ты имя скажи.
– У Матрены Синицыной.
– А, у бабки Матрены, – протянул Кирюха и снова завел мотор. – У нее все на постой остаются.
– А сейчас живет кто-нибудь?
– Не. Последние постояльцы неделю назад съехали. А дом у нее на краю деревни. До Захара рукой подать.
Кирюха вырулил на дорогу, но здесь уже трясло не так сильно, и Павел смог разглядеть деревню получше, а заодно сделать несколько кадров на выданную ему «мыльницу». Дома, одинаковые на первый взгляд, при ближайшем рассмотрении оказались совершенно разными: вот покосившийся, с облупившейся штукатуркой и просевшей крышей, вот совсем новенький, беленый, а на голубых ставнях нарисованы задорные петушки. В одном из дворов Павел заметил молотилку, а рядом с ней бесновался привязанный цепью пес размером едва ли не с теленка.
– Это дом Грошева, – бубнил Кирюха, степенно проезжая мимо. – Агронома. А тут администрация и почта. Только почта закрыта. Теперь главный филиал в Гласове, а до него десять километров. Там, – махнул рукой, – школа была, а теперь закрыли. Магазин сделали. Продукты раз в неделю привозят. Так что если тебе, дядя, нужно чего, ты заранее у бабки Матрены закажи, она Лешихе передаст, а Лешиха Тимохе закажет. Он у нас главный снабженец, сам из Гласова, а к Лешихе ездит за самогоном, а может еще за чем-нибудь, – Кирюха хохотнул и подмигнул Павлу, чтобы у того не осталось сомнений, зачем Тимоха приезжает к Лешихе. – А ты, дядя, никак турист? Зачем снимаешь?
– На память, – ответил Павел, щелкнул в последний раз старенькой «мыльницей» и спрятал в карман. Кирюха хмыкнул и добавил:
– В общем, ты дальше околицы нос не суй, дядя. Бабку Матрену слушай, и жди, когда тебя к Захарке позовут. Если позовут.
– А могут и не позвать?
Кирюха кивнул и затормозил у выкрашенного в зеленый заборчика.
– Могут. Это уж с какой просьбой приехал. Если пустячная, то Захар на тебя время тратить не будет. Ну вот, Матренин дом.
Павел поблагодарил и выбрался из кабины, чувствуя себя моряком, ступившим, наконец, на твердую землю.
– Как Матрену по отчеству? – напоследок окликнул парня.
– А зачем тебе отчество? – отозвался тот из кабины. – Баб Матрена да и все! Вся деревня ее так зовет, и ты, дядя, не выеживайся! Бывай!
Кирюха отсалютовал и включил заднюю передачу. Павел посторонился, шагнул к калитке, и принялся искать звонок, но звонка не было, зато из будки выскочил кудлатый пес и залился лаем на всю улицу.
– Умница, – похвалил Павел. – Зови хозяйку.
И нарочно затряс калитку, отчего кудлатый принялся еще больше рваться с цепи. А потом до Павла донесся визг тормозов, чей-то пронзительный крик, и на дорогу из-под колес «Уазика» выкатился серый клубок. Взметнулись тонкие руки, плетью хлестнула коса, и оказалось, что не клубок это, а девчонка, одетая в одну только грязную сорочку до пят. Девчонка закричала, пронзительно и тонко, и покатилась по гравию, сотрясаясь всем телом и заламывая руки.
Сумка соскользнула с плеча и упала возле калитки. Не обращая на нее внимания, Павел бросился к девочке.
– Ты в порядке? Больно?
Из кабины выпрыгнул Кирюха с глазами круглыми, как плошки. Он матерился и повторял на все лады:
– Мать твою… Да как же это…
– Скорую вызывай, – отрывисто бросил ему Павел и опустился на колени. На вид девчонке было не больше десяти-двенадцати. Она дышала хрипло, ловила потрескавшимися губами сырой воздух, волосы липли ко лбу. Павел подумал, что, наверное, он сам так же валялся на дороге, когда десять лет назад выполз из покореженного автомобиля. Ноздри защекотал запах гари, вернулась дурнота. Девчонка тем временем закатила глаза и застонала протяжно и долго, будто на одной ноте:
– О-оо…
Звук срезонировал где-то глубоко под ребрами: «Черво-о…» и Павел отдернул протянутую руку.
– Да я только… Да я ведь по зеркалам смотрел! – услышал он плаксивый голос. И другой, старческий и ворчливый:
– Балбес! Как есть балбес! Что теперь Самому-то скажешь? А ежели переломана она?
Рядом на колени бухнулся Кирюха, протянул к девчонке руки.
– Акулинка! Да я ведь не хотел…
– Не трогай! – поспешно сказал Павел. – Если перелом, можно навредить еще сильнее. Нужно звонить в скорую. Есть у вас вообще телефон?
Никто не ответил. Девочка вздрогнула и обмякла. Глаза завращались, уставились на Кирюху, и Павлу показалось, что он уже видел этот стеклянный и злобный взгляд – несколько дней назад, когда смотрел репортаж об исцелении бесноватой. Вот сейчас она округлит черный рот, вот вынырнет тонкий и красный язык, похожий на дождевого червя. Девчонка и правда приоткрыла рот, и уголки губ изогнулись, словно в усмешке.
– Кирюшка, – скрипуче произнесла она. – Кирюшка-хрюшка, по бучилу ходил, лягушек давил – хрусть-хрусть! Лягушачью кожу в костер, а себе приговор.
Она тихо рассмеялась. Кирюха побелел и откачнулся. Павел тоже замер, потому что взгляд девочки медленно переместился и уставился на него.
– Вижу огонь, – проскрипела она. – Вижу гниль. Правая половина живет, левая гниет. Правая половина горит, а в левой черт сидит!
Она запрокинула голову и захохотала, заскребла скрюченными пальцами по земле.
– Акулина, прекрати! – раздался старушечий голос. Павел растерянно оглянулся и увидел стоящую рядом раскрасневшуюся потную бабку в сбитом набок платке. Губы старухи дрожали.
– А, Матрена! – проскрипела девочка, приподнимаясь и опираясь на локти. Рубаха провисла на еще не сформировавшейся груди, подол задрался до бедер, обнажив исцарапанные колени. А крови не было, и Павел с облегчением выдохнул – значит, не сильно пострадала.
– Любишь гроши, Матреша? – продолжила девчонка. – Знаю, где ты кубышку хоронишь. Да как бы тебе самой не пришлось подле той кубышки лечь.
– Умолкни, бесовка! – старуха стукнула клюкой о землю. Брызнул гравий, оцарапал голую ногу девчонки, но она даже бровью не повела. Зато у Кирюхи глаза стали испуганными и мертвыми, губы приоткрылись, словно он хотел что-то сказать, но не смог выдавить ни слова, а так и застыл, глядя куда-то за спину корреспондента.
Павел оглянулся.
Сначала показалось, что выступившая из тумана долговязая фигура бежит к ним со всех ног. Но, присмотревшись, Павел понял – мужчина не бежал, а шел такими огромными шагами, что обычному человеку вряд ли удалось бы поспеть за ним. При этом он широко размахивал руками, и от каждого взмаха туман разлетался невесомой пеной, взметался за плечами, как дымные крылья.
– Помяни черта… – проворчала бабка Матрена и быстро перекрестилась.
– Акуль-ка-а! – взрезал тишину раскатистый бас.
Кирюха подскочил на ноги, беспомощно заозирался. Павел тоже поднялся, и лишь теперь понял, насколько высок приблизившийся незнакомец – роста в нем было не менее двух метров. Распахнутая спецовка болталась на широких плечах, будто тряпье на вороньем пугале. Он и сам походил на пугало – курчавый, жгуче черный, заросший неопрятной бородой. Мужик с размаху хлопнулся на колени, и девочка узнала его, протянула руки:
– Ба… тя…
Лицо ее покривилось, из глаз брызнули слезы – куда девалась прежняя нечеловеческая злоба? Обычный, насмерть перепуганный ребенок.
– Цела ли, Степушка? – елейно протянула бабка Матрена.
Мужик поднял голову. Из-под крупных надбровных дуг ненавистью сверкнули цыганские глаза.
– Кто Акульку обидел? – глухо выдохнул он.
Кирюха отступил, забормотал сбивчиво:
– Я… не нарочно! Не видел! Она сама…
– Я думала, конфеты приехали! – девочка разревелась.
– Кирюха-а! – с оттяжкой произнес мужик и, подхватив дочь на руки, выпрямился во весь рост. – Вот я… – он поднял громадный кулак, и парень совершенно съежился, посерел, пролепетал жалкое:
– Я нечаянно! – и оглянулся на Павла, словно ища у того поддержки.
Павел вдохнул и сказал как можно спокойнее и мягче:
– Мы и вправду не видели девочку. Может, она у забора играла? Вот тут, в смородине. Надо бы кусты подрезать.
– Ой, не говори, мил человек! – подхватила бабка. – Я бы с радостью, да силы уже не те! Мне бы помощника.
– Помогу, если нужно, – пообещал Павел. – А девочку надо в больницу. Вдруг у нее перелом? Или сотрясение?
– Не надо… никуда, – мужик прижал девчонку к груди, погладил по спутанным волосам, и та уткнулась ему в плечо, прохныкала:
– Б-больно…
– Идем домой, птенчик.
Мужик поцеловал дочь в макушку, и шагнул было на дорогу, но на полпути остановился, оглянулся, и Павел поежился – настолько неприятно и зло сверкнули черные глаза.
– А ты, Кирилл Рудаков, запомни! – прокатился тяжелый бас. – Будешь по-прежнему скакать да под ногами путаться, не ровен час, споткнешься. Вот тогда каждой своей косточкой за мою Акулину поплатишься.
Развернулся окончательно и пошагал прочь. И только когда в тумане растаяла долговязая фигура, Кирюха прижался спиной к забору и разрыдался.
7. Погостово
– Он меня проклял, проклял!
Бабка обняла мальчишку за плечи.
– Ну будет тебе, сыночек! Мало ли, что в сердцах сказано!
Кирюха оттолкнул ее руки, упрямо вздернул подбородок:
– А то я не знаю, что у Степки глаз черный! Слыхала, что Акулька накаркала?
– А ты Акулину не слушай, – бабка погладила парнишку по плечу. – Соврет – недорого возьмет.
– Как же! – шмыгнул носом Кирюха и утерся рукавом. – Она и про тебя сказала, и вот про дяденьку…
Мотнул головой в сторону Павла, и тот натянуто улыбнулся.
– Если бы я гнил, разве стоял бы тут? – Павел постарался говорить как можно спокойнее, но память подсунула картинку: обугленное лицо брата, рисунок рыбы на стене… Павел привычно поправил за ухом Пулю, стряхивая оцепенение.
– Ты бы и не стоял, если б помощь Захара не требовалась, – проворчал Кирюха, и, проглотив последние слезы, успокоился окончательно. – Поеду я, баб Матрен. Мне еще машину Михасю возвращать.
Он взлохматил чуб, ссутулился и побрел к «Уазику». Бабка Матрена дождалась, пока мальчик запрыгнет в кабину, прижала к груди кулак и вздохнула:
– Ох, лишенько… Как бы и правда чего не вышло.
Павел скептически поднял бровь, бабка пожевала губами и спросила:
– Ну а ты, милок, чьих будешь? Никак, на постой ко мне?
– Да, мне вас рекомендовали, – Павел заметил, как из кабины Кирюха махнул ему рукой, улыбнулся и помахал в ответ – в запыленном стекле лицо мальчика казалось пепельно-серым.
– Так идем, – бабка отворила калитку. Пес во дворе завертелся юлой, замахал хвостом, приветствуя хозяйку. Павел подождал, пока «Уазик» медленно протарахтит мимо, поднял с земли сумку и последовал за бабкой.
В сенях оказалось прохладно, пахло ношеной обувью – у входа стояла пара галош. На лавке валялся старый тулуп, с потолка свисали связки чеснока.
– Надеюсь, с девочкой все в порядке, – произнес Павел, чтобы сказать хоть что-то.
Хозяйка открыла вторую дверь, пропуская постояльца.
– Акулина-то? Что ей будет! К Захарию понесли, не куда-нибудь.
– Неужели старец на самом деле чудотворец? – поинтересовался Павел и шагнул в дом. Здесь было гораздо теплее, из кухни доносились приятные запахи хлеба, настоянного на травах чая.
Бабка загремела засовами, откликнулась:
– А ты, милок, верь! Чем вера крепче, тем хвори слабее! Только верь с умом, а то некоторые ум-то теряют.
– Вот и мне показалось, что девчонка немного, – Павел покрутил пальцами у виска, – не в себе. Почему ее старец не вылечит?
– Тело исцелить просто, душу сложнее, – бабка вздохнула, скинула платок – волосы у нее оказались на удивление темные, едва тронутые сединой. – Одно дело, когда кость сломана или глаза не видящие. Совсем другое – когда душа гниет.
Тут она покосилась на Павла, перекрестилась и продолжила торопливо:
– Ты на Акулину зла не держи. Бесноватая она. Кликуша, – и, поманив Павла, Матрена пошла вглубь дома. – Ты проходи, милок! Вот тут твоя комната, коли по нраву.
– Говорят, кликуши будущее видят, – заметил Павел, повесил куртку на рожки вешалки и, переложив блокнот из кармана куртки в задний карман брюк, прошел в комнату.
Спальня – небольшая и чистая. Кровать, видимо, перестилалась недавно, хозяйка убрала ее накрахмаленными наволочками и подзорами. На столике – подсиненная скатерть, обвязанная по краям цветочным узором. Покосившийся шкафчик и стул – вот и вся мебель.
– Очень уютно, – сказал Павел и только теперь понял, насколько устал. Ночь, проведенная в поезде, прошла почти без сна, и аккуратная пирамидка подушек – мал мала меньше – влекла свежестью и покоем. Хотелось уткнуться в прохладную наволочку и спать, спать…
– Вот и отдыхай, – бабка Матрена будто прочла его мысли. – А я обед сготовлю и баню истоплю. Умыться можно из рукомойника. Водопровода у нас нет, воду из колодца носим. За баньку, правда, доплатить надобно.
Павел покорно отдал задаток и, оставшись один, сделал пару кадров. После чего, скинув одежду, нырнул под одеяло и заснул почти сразу. Сны ему не снились, но незадолго до пробуждения почудилось, будто кто-то тронул за плечо мягкой лапкой, ткнулся влажными губами в щеку.
– А-ню-та, – сонно выдохнул Павел и повернулся на другой бок, но его руки встретили только пустоту. Павел зевнул и приоткрыл глаза: мимо прошмыгнуло что-то маленькое, темное. Колыхнулась занавеска, и худая черная кошка на миг замерла на подоконнике, уставив на человека внимательные зеленые глаза. Кошка была точной копией той, что мурчала на лавке у знахарки Ефимии. Или той, которая спала на старой инвалидной коляске Леши Краюхина. Впрочем, мало ли на свете худых черных кошек? У этой к тому же оказалось белое пятнышко на лапе, и Павел попытался вспомнить, были ли белые пятна у тех, оставшихся в Тарусе?
Между тем гостье надоело играть в гляделки, она махнула хвостом, словно прощаясь, и ловко нырнула в открытую форточку.
«Разве я открывал ее?» – подумал Павел и проснулся окончательно.
В комнате посвежело. За окном тянулся унылый серый день. Часы показывали половину третьего.
Ежась, Павел прошлепал босыми ногами к окну и закрыл форточку. Круговыми движениями потер лицо. Приснилась ему кошка или нет? А была ли сном Акулина, катающаяся в пыли и выкрикивающая пророчества нечеловеческим скрипучим голосом? В голове клубился туман, и отдохнувшим Павел себя не чувствовал.
Чтобы развеяться, он принялся разбирать вещи. Их было немного: сменные брюки, пара свитеров, белье, бритвенный набор и носки. Подумав, достал и открыл блокнот. Присев на край кровати, Павел отлистал последнюю страницу, расчерченную на две колонки. В шапке одной значилось «За», в другой – «Против».
В графе «За» написал: «Мальчик ходит». В графе «Против» – «Результат лечения».
Перед отбытием в Доброгостово Павел проконсультировался с неврологом. Наверняка мальчику назначались процедуры вроде массажа, лечебной гимнастики для профилактики атрофии мышц, назначали медикаментозное лечение, электрорефлексотерапию. Лечение, конечно, дорогостоящее, немудрено, что Светлана Краюхина, в конце концов, обратилась к народному целителю. Говоря проще – к шарлатану.
В том, что мессия Захарий шарлатан, Павел был уверен если не на сто процентов, то на девяносто девять точно. Один процент содержал зерно сомнения, ведь мальчик все-таки ходил.
Павел захлопнул блокнот.
Чудо произойти не могло просто потому, что его не существовало в природе. Верующая мама не отвела несчастье, подвесив в машине иконку. Когда бабушка взяла Павла под опеку, вместо того, чтобы отвезти внука на операцию, она пять лет таскала его по целителям, которые отмаливали, отчитывали, поили святой водой, кормили заговоренными яйцами, заказывали молебны. А он верил, верил и ждал… и ничего не происходило.
Слух не возвращался, как не возвращались из могил мертвые.
Павел верить перестал. Все чудеса и исцеления оказывались совпадением или эффектом плацебо, и он больше не ошибался, а лишь убеждался в своей правоте. Но где-то глубоко нет-нет, да и поднимала голову надежда, робко нашептывая: а может, все-таки…?
Решив, что, если не попробуешь – не узнаешь, Павел спрятал блокнот, оделся, закрепил за ухом Пулю и вышел из комнаты. В нос тут же ударили аппетитные запахи – жареной картошки и свежих котлет. Из кухни выглянула бабка Матрена, облаченная в фартук, проворчала:
– Проснулся? А я уж хотела тебя будить. Иди скорее, обед стынет! Руки вон там вымой.
– За обед я тоже должен? – шутливо спросил Павел и сунул ладони под носик рукомойника.
– А ты, милок, хочешь святым духом питаться? – все так же ворчливо отозвалась хозяйка. – С голоду, гляди, опухнешь! А ресторанов тут нету. Что я тебе сготовлю, то и покушай, не побрезгуй.
– Как же брезговать, когда так вкусно пахнет! – Павел тщательно обтер руки и сел за стол, привычно выровняв на столе тарелку и вилку.
Бабка Матрена поджала губы, но скрыть улыбку не смогла. В конце концов, заулыбалась открыто и подала гостю тарелку наваристого борща, на который Павел накинулся волком, изрядно соскучившись по домашней пище. Матрена наблюдала за ним, продолжая улыбаться, и когда Павел выскреб остатки со дна, подала второе, заметив как бы невзначай:
– Видать, жены-то у тебя нет? Вон какой голодный да худющий!
– Кто же за меня пойдет? – завел привычную пластинку Павел и указал на слуховой аппарат. – Инвалид я.
– А по виду не скажешь, – покачала головой бабка. – А что за машинка-то? Глухой что ли?
– Оглох, – подтвердил Павел. – Несчастный случай.
И вспомнил, как поначалу стыдился признаваться в своей глухоте. Ловил насмешливые или того хуже – жалостливые, – взгляды. Но годы шли, и он сросся с Пулей, словно она всегда была его частью, но можно ли было смириться с потерей близких?
– Теперь понятно, что тебя к старцу привело, – сказала бабка Матрена. – Только ты с этой машинкой к нему не ходи. Все равно снять потребует. Не любит он ничего мирского. А так, может, и вылечит.
– А долго мне ждать, пока позовут? – спросил Павел, прожевав последний кусок и потянувшись за чаем. – Кирилл сказал, чтобы я сам никуда не совался. Что сами придут и оценят, достоин ли я встречи.
– Так уже приходили, – отозвалась бабка и принялась шустро убирать со стола. – Степан тебя приметил, а он чужака сразу распознает. Да и то – мы все тут, как на ладони. Все друг друга в лицо знаем.
– А как он поймет, с какой бедой я приехал? – усомнился Павел и вспомнил тяжелый цыганский взгляд, от которого становилось неуютно и жарко, словно к раскаленным углям прикасаешься.
– Узнает, в этом не сомневайся, – убежденно ответила бабка. – Ну, поел? Отдыхай теперь с Богом.
– Спасибо, баб Матрен, – ответил Павел, поднимаясь из-за стола. – Я прогуляюсь, пожалуй. С деревней познакомлюсь. Дождя вроде нет?
– Иди, иди, – махнула бабка. – Только к лесу не ходи: в лесу темнеет рано. И от Червона кута подальше держись! – Павел вопросительно приподнял брови, и бабка пояснила: – Это община Краснопоясников. Не любят они, когда чужаки подле них рыскают и что-то вынюхивают.
– Не буду, – пообещал Павел, хотя именно это и собирался сделать, а на пороге помедлил и спросил:
– Баб Матрен, а правда, что старец парализованный?
Хозяйка прекратила сметать со стола крошки, покосилась хмуро.
– Рука у него высохшая, – буркнула она. – Ноги ходят, только держат плохо. А почему ты, милок, спрашиваешь?
– Так если старец такой чудотворец, то почему себя не исцелит?
Матрена вздохнула, протянула:
– Эх! Не ты первый спрашиваешь, ну да секрет невелик. Епитимья это, милок. Наказание за прегрешения наши. Одной рукой Господь дает, другой отнимает.
Она перекрестилась и вернулась к уборке, давая понять, что разговор окончен. Павел настаивать не стал, обулся, набросил куртку и вышел на улицу. Пес снова выскочил из будки и принялся отрабатывать хозяйский кусок, усердно облаивая Павла и роя задними лапами землю. Дождя действительно не было, хотя облака текли лениво и низко. Туман истончился, и улица просматривалась от края до края. Справа над избами возвышался шпиль Троицкой церкви. Слева дорога шла под уклон, ныряла в неглубокий овраг, выныривала снова и уходила к прилепленным друг к дружке срубам.
Червонный кут.
Красный угол, значит. Когда-то так называли почетное место в избе, где стоял иконостас и куда сажали особенно дорогих гостей. Павел сделал мысленную пометку: записать вечером в блокнот. Обычно его коллеги брали в командировку диктофон, но Павел не хотел остаться без информации на случай, если вдруг в Пуле сядут батарейки. А вот визуальную память имел цепкую, да и камера не подводила.
Узнал и покосившуюся избу, стоявшую чуть в стороне, едва ли не на склоне оврага – дом старца Захария. Он так и спросил у пробегающей мимо девчушки:
– Подскажи, это дом старца?
Девчонка замерла, поджав одну ногу, как цапля, глянула испуганными глазищами, но ответить не успела. Из соседнего дома выскочила растрепанная женщина, закричала:
– Верка! А ну быстро сюда!
Девчонка опустила поджатую ногу и, прошмыгнув мимо Павла, нырнула в приоткрытую калитку. Женщина замахнулась на нее, девчонка вжала голову в плечи и скрылась в сенях.
– Я только хотел спросить, – крикнул Павел, – не это ли…
Женщина зыркнула недобро и захлопнула за собой дверь.
– …дом старца, – закончил Павел и усмехнулся. В деревне явно недолюбливали чужаков.
Он спустился к оврагу, нарочито небрежно обойдя избу Захария, но успел сделать снимок, быстро окинув взглядом пустой и чистый двор с аккуратно прореженными грядками, сохнущие на бельевой веревке штаны, поленницу дров у вросшего в землю сарайчика. Старец явно не бедствовал.
Долго задерживаться на склоне Павел не стал, чтобы не вызывать лишних подозрений, а перешел мелкий ручеек по самодельным мосткам и очутился по другую сторону оврага – отсюда, с косогора, хорошо просматривалась старая часть деревни. Троицкая церковь стояла на самой возвышенности, от нее редкими извилистыми лучами расходились дороги. Самый длинный тянулся к лесу и исчезал за густым частоколом сосен и лиственниц, другой же конец «луча» проходил прямо под ногами Павла и упирался в Червонный кут. Избы тут и, правда, отличались от деревенских – построенные добротно, но совершенно одинаково. Они стояли на невысоких деревянных сваях, будто сказочные дома на птичьих ногах. По дворам неспешно прогуливались куры, где-то в хлевах возились свиньи, но ни один человек не встретился на пути. Прорубленные под самой крышей окна были темны, и хотя Павел не мог сказать достоверно, наблюдает ли кто-то за ним, всей кожей он ощущал настороженные и недружелюбные взгляды. Это чувство преследования не прошло, даже когда Павел миновал Червонный кут и приблизился к лесу – березы и осины соседствовали с елями и лиственницами, меж ними пролегала узкая тропинка, скользкая от влаги, увитая выступающими корнями. И кто-то прошел по ней совсем недавно: на грунте отпечатались свежие следы.
Павел шагнул в сырой полумрак. На щеку упала невесомая нить паутины, словно предупреждая: «…черво… не ходи…» Он брезгливо вытерся ладонью, но упрямо двинулся вперед, отодвигая нависшие над тропинкой ветки и ежась от пробирающего ветра.
Первый крест стоял прямо возле тропинки – это был голбец с прибитыми сверху дощечками в виде крыши. Прогнивший, обломанный, будто пустивший корни во влажную землю. Ни имени, ни дат уже не разглядеть.
Павел тронул крест – древесина набухла, крошилась от малейшего касания, из борозд деформированной резьбы выскочил и шлепнулся на землю жучок-шашель. Павел отдернул руку и вернулся на тропу – из-под подошв беззвучно покатились осклизлые комья глины.
Еще через несколько шагов на пути попалась поломанная оградка – тропинка огибала ее по дуге, и Павел послушно обошел, нырнул под заваленную сосну, едва не зацепившись воротом куртки за выступавший сучок, и наконец увидел настоящее лицо деревни.
Погостово.
Старообрядческое кладбище.
Здешние могилы давно просели, поросли можжевельником, волчьим лыком и папоротником. Восьмиконечные кресты и голбцы торчали вкривь и вкось, кое-где виднелись деревянные надгробия в виде домиков, сложенные из досок и замшелые настолько, что казались обычными колодами. И впереди, над крестами и могилами, прячась в тени осин, стояла деревянная Всехсвятская церковь, прозванная в народе Окаянной.
Она сама походила на надгробие: черная от смолы, покрытая резьбой, почти не тронутой временем, с чешуйчатой маковкой купола и заколоченными окнами. Церковь вросла в землю, будто старый валун, но не обветшала, не покосилась, а стояла прочно – созданная на века. И вокруг такая тишина – ни треска сучка под ногой, ни щебета птиц. Ветер дул в спину непрестанно и ровно, будто сзади работал гигантский вентилятор, и листва колыхалась на ветру, но не шелестела. Павел покрутил туда-сюда регулятор громкости – ничего не изменилось. Воздух сгустился и отяжелел, и какое-то неясное чувство снова заворочалось под ребрами – как тогда, в темной библиотеке.
Павел огляделся, почти ожидая увидеть нескладного подростка в обугленной толстовке, и вздрогнул, когда действительно заметил чью-то фигуру, склонившуюся возле рассохшегося голбца. Сердце ухнуло в пятки, и первой мыслью было: «Бежать!» Но Павел не побежал, только стиснул в кармане камеру и присмотрелся.
Это был ни призрак, и ни подросток, а девушка. Приникнув к кресту так близко, что почти касалась его лбом, она плакала, а, может, что-то говорила – ее плечи вздрагивали, а до Павла по-прежнему не доносилось ни звука. Он осторожно отступил вбок, прячась за кустом можжевельника, потом еще и еще, пока не увидел ее профиль, правильный и бледный, как полумесяц. Она действительно бормотала что-то под нос, а руки сновали вокруг креста быстро-быстро, будто пряли на невидимой прялке. Тишина обволакивала и густела, ветки лениво покачивались над головой, и тьма постепенно наползала на кладбище. Вот черное щупальце скользнуло между голбцами, вот тронуло длинную, до пят, юбку незнакомки. Девушка испуганно вздрогнула, выпрямилась и обернулась.
И тотчас увидела Павла.
Ветер сдул с ее лба тугие черные кольца волос, распахнул не застегнутую душегрею, под которой оказалась сорочка, подпоясанная длинным алым кушаком. Какое-то время девушка внимательно смотрела на Павла, но в ее взгляде не было страха, а только молчаливая сосредоточенность. Он тоже смотрел на нее, и в голове не возникало ни одной мысли, но наконец решился и окликнул:
– Эй!..
В ту же секунду лопнул мыльный пузырь тишины. Собственный голос показался Павлу невероятно громким, и он втянул воздух сквозь сжатые зубы, тронул регулятор громкости. А девушка подобрала юбку и скользнула в тень.
– Подожди! – крикнул Павел, доставая фотокамеру.
Он перепрыгнул через надгробие, едва не споткнулся о поваленный крест, да куда там! Девчонки и след простыл, только за деревьями протянулась и скрылась красная нить кушака, а вокруг того самого креста, где еще недавно стояла девушка, ровным кругом лежала рассыпанная соль.
8. Слово живое
Акулина впала в забытье. Между приоткрытыми веками влажно поблескивали белки, дыхание вырывалось со свистом. Обмякла на руках. Степан шёл тяжело и размашисто. При каждом шаге раздавался хруст, будто крошились раздавленные кости, но это только гравий летел из-под подошв.
– Мала-анья! – Степан толкнулся плечом в покосившуюся дверь. – Помоги!
Он согнулся в три погибели, перехватил обмякшую Акулину, и она испустила тихий и протяжный стон, отчего в животе заворочался страх, расправляя ледяные иголки.
– Маланья!
Женщина выскочила из темноты, запыхавшаяся и шальная, неуклюже толкнула Степана в плечо. Блюдо в руках Маланьи подпрыгнуло и накренилось. Белая крупа взвилась тяжелым облаком, просыпалась на порог. Степан откачнулся и стукнулся затылком о притолоку. Голову обдало жаром.
– Маланья, чертова девка!
Перед глазами заплясали белые искры. Маланья перехватила блюдо, зачастила, кланяясь:
– Простите, батюшка! Простите… рыбу я солить шла. Уж не чаяла, что вы придете…
Блюдо накренилось еще сильнее и на порог потек соляной ручеек. Степан зашипел и отдернул ногу:
– Да что ж ты делаешь, окаянная?
Маланья отшатнулась, затравленно озираясь.
– Что мешкаешь? – послышался из глубин дома надтреснутый голос Захария. – Веник неси!
Женщина по-сорочьи подпрыгнула и нырнула обратно в полумрак, но вскоре вернулась и принялась сметать рассыпанную соль. На всякий случай Степан отступил еще на шаг. Лоб покрылся испариной, но вытереться он не мог – Акулина оттягивала руки, будто весила вдвое больше, а от ее тела исходил такой жар, что рубаха вымокла насквозь.
– Шевелись! Видишь, дочке нехорошо? – рявкнул Степан и выругался.
– Все, батюшка, я уже и все, – ответила Маланья, тщательно вытерла порог тряпкой, и, отойдя в сторону, поклонилась в пояс: – Пожалуйте, батюшка! Проходите в дом!
Жар еще распирал грудь и голову, но белые мушки перед глазами исчезли. Степан поднырнул под низкую балку, но, выпрямляясь, все равно задел головою связку трав и снова выругался.
– Чего сквернословишь? – ворчливо отозвался из темного угла старик. – Благодари, что впустил!
Закряхтел, приподнимаясь с лавки. Серенький свет, едва пробивающийся сквозь стекло, выхватил недовольное лицо старца.
– Благодарствую… – выдохнул Степан и протянул обмякшее тело дочери. – Акулька!
– Положь сюды, – велел Захарий.
Степан осторожно опустил девочку на оленьи шкуры, а сам отошел, сгорбился, задевая макушкой низкий и закопченный потолок.
– Сученыш Рудаковский ее сбил, – хрипло произнес Степан и стиснул кулаки. – Поплатится за это. Сгорит в пламени. Переломанными ногами не двинется. Выколотым глазом не моргнет. Зашитым ртом не…
Захарий поднял ладонь:
– Будя!
Степан осекся на полуслове. Пот заливал глаза, отчего лицо старца подернулось рябью, будто отражение в воде.
– Ты, Степушка, не забывайся, – донесся дребезжащий голос Захария, – норов при себе держи, и худые речи в моем доме не заводи.
– Как утерпеть, когда дочь единственная…
– Тихо! – Захарий снова махнул рукой, приказывая молчать. Степан послушно замолк, утерся рукавом, глядя исподлобья, как старец поводит ладонью над вздрагивающим телом Акулины, ощупывает ее лицо, ключицу, руки, живот, ноги.
– В порядке твоя дочь, – проговорил Захарий, и ледяные иголочки, покалывающие изнутри, истаяли, как иней. Степан глубоко вздохнул и рухнул на колени.
– Помоги, Захар! – забормотал он, ловя руку старика. – Заклинаю!
Прижался к сухой ладони лбом, потом щекой, потянулся губами. Захарий выдернул руку, махнул куда-то за спину Степана:
– Ступай пока на двор, Маланья! Понадобится помощь – позову!
Стукнула дверь, но Степан не обернулся. Смахнул с густых бровей пот, глянул на старика:
– Прошу…
Захарий не ответил, только ласково погладил Акулину по голове. Перекрестил двуперстием, положил ладонь на лоб. Девочка вздохнула, выгнулась, дрожа всем телом. Под склеенными веками заворочались глазные яблоки.
– Ш-ш… – медленно выдохнул Захарий. И Акулина повторила за ним, протяжно, по-змеиному выдыхая: «С-ссс…»
Руки расслаблено упали на лавку. Девочка задышала спокойнее, ровнее. Затрепетали и поднялись ресницы.
– Вот хорошо, умница, – тихо сказал Захарий. – Цела, дуреха. Да только испужалась.
Он улыбнулся девочке, и Акулина робко улыбнулась в ответ, глядя на старика чистыми блекло-голубыми глазами. Степан сгорбился, коснулся лбом пола. В нос ударили запахи пота и прелых шкур.
– Навеки твой должник! – пробасил он и услышал, как тихо рассмеялся Захарий:
– И так уже, Степушка. Ну да ничего! Придите ко Мне, и Я успокою вас. Ибо Я кроток и смирен сердцем, и бремя Мое легко.
– Слава Тебе! – пробормотал Степан и размашисто перекрестился, поднял тяжелую голову и напоролся на льдистый взгляд Акулины.
– Что же ты, птичка? Пойдем домой.
Девочка качнула головой и опасливо отодвинулась, прижалась к старцу, глядя на отца настороженными круглыми глазами.
– Родных в страхе держишь, Степушка? – Захарий снова рассмеялся, и пальцы Степана помимо воли сжались в кулаки. – Кровное дитятко тебя боится!
– Я Акулину пальцем не трогал и не трону!
– Акулину не трогал, а Ульянка от тебя на всю деревню воет.
– Да убоится жена мужа своего, – огрызнулся Степан, поднимаясь с колен.
– Каждый да любит свою жену, как самого себя, – возразил Захарий. – Ты смотри, грех-то на душу не возьми.
Степан скрипнул зубами, ощущая, как в груди снова закручивается пульсирующим жаром клубок, произнес глухо:
– Грехи на нас обоих давят.
Захарий тотчас перестал улыбаться, ответил примирительно:
– Ну, полно тебе. Не серчай, Степушка. Иди с Богом домой. А дочка пусть у меня побудет, коли ей тут легче, – погладил Акулину по спутанным лохмам. – Легче со мной, касаточка?
– Легче, деда, – пролепетала она и положила голову на стариковские колени. Сердце Степана заныло, наполняясь ревностью, как ядом. Он закусил губу и, не глядя на дочь, буркнул:
– Ты девке голову морочь, да не заигрывайся. Ей не от тебя – от Слова живого легче!
– А пусть от Слова, – согласился Захарий. – Оно по жилам течет, как благословение Господне. Всяка тварь его чует и ему радуется. И птичка лесная, и гад ползучий. И даже ты, Степушка.
– И даже я, – эхом подхватил Степан и, помолчав, добавил: – Только одного не пойму, почему на тебя такая благодать сошла?
– Неисповедимы пути Господни! – закатил глаза Захарий, но в его голосе послышалась фальшь, и окатило омерзением, как волной. Степан уперся в стену ладонями, навис над стариком.
– А вот тут не лукавь! Ты об этих путях меньше моего слышал. А ходил по другим дорогам, все больше по кривым, и не с десницей исцеляющей, а с ножиком…
– Ну что ты, Степа? Что ты? – забормотал Захарий, и глаза его забегали, заюлили. – Я же для тебя и для Акулины твоей стараюсь! Господь-то меня уже наказал…
– До Господа далеко, – хрипло ответил Степан, – до солнца высоко. А я вот он. И слово мое, – он сжал кулак и потряс им перед посеревшим лицом Захария, – вот здесь! Не живое, не благодатное, но тоже сильное! И терять мне, Захар, сам знаешь – нечего!
Рядом тонко, по-девичьи пискнули. Степан опустил взгляд, и в груди защемило нежностью и обидой.
– Нечего, – повторил он и выпрямился. – Кроме Акулины…
Девочка обняла старика и разревелась.
– Злой ты, папка! – сквозь всхлипы забормотала она. – Уходи, уходи!
Степан обтер ладонью испарину, растерянно оглянулся, будто в поисках помощи. Но темные углы только щерились погасшими лучинами и молчали. Возились под полом мыши. Где-то взбрехивала собака. И Акулина плакала тихо, но горько, пряча лицо на груди старика.
– Ладно, – сказал наконец Степан, и Захарий вздохнул с облегчением, откинулся на бревенчатую стену. – Но прежде, чем уйду, еще одно скажу. Чужак в деревне объявился.
– Просящий?
– Кто разберет.
– Теряешь хватку, – качнул головой Захарий и обратился к девочке. – А ты, касаточка, что скажешь?
Акулина подняла заплаканное лицо, заговорила тоненько:
– Странный человек, деда! На вид здоров, а болезнью тянет. Вроде живой, а гнильем несет. Один – а в груди два сердца: одно красное, другое черное, одно огонь, другое уголь. Да и то, где огонь, с одного края уже прогорать начало.
– Умница ты у меня, касаточка, – Захарий наклонился, поцеловал девочку в рыжеватую макушку, после чего, сощурившись, глянул на Степана: – Так приводи, коли просящий. Слово-то без выхода не может, – старик поскреб ногтями по горлу и протянул плаксиво: – Жжется!
Степан мрачно ухмыльнулся:
– А ты Слово мне отдай!
– Спорый какой! – погрозил пальцем Захарий. – А это, Степушка, не мне решать. Только, – ткнул вверх, – Ему! Вот разве что тело мое бренное земной путь окончит, тогда…
– Тогда я сам возьму, – перебил Степан.
– Возьмешь, коли на то Божья воля будет. А пока не помышляй, Степушка. Не думай даже! Забудь! Понял?
– Понял…
– А коли понял, то иди себе с миром.
– Благодарю за исцеление, – Степан отвесил поясной поклон и вышел на улицу.
Ветер налетел, встрепал волосы, огладил бороду сырой ладонью. Степан оглядел двор и заметил хлопочущую под клеенчатым навесом Маланью.
– А ну, девка, подь сюды!
Женщина вздрогнула, обернулась, тут же бросила засолку и подбежала, комкая рушник.
– За Акулиной моей проследи, – велел Степан. – Как совсем поправится – веди домой. Нечего ей у Захара прохлаждаться.
– Сделаю, батюшка игумен! – она поклонилась, а Степан отступил на случай, если и теперь неуклюжая баба что-нибудь просыплет на его любимые сапоги. Он не попрощался, молча вышел за калитку, и гравий снова захрустел под ногами – шух-шух.
Будто по костям идешь.
Степану хотелось, чтобы это были кости Кирюхи Рудакова. А еще, пожалуй, рябого Лукича. И бабки Матрены, привечающей чужаков. Остальные молчали. Или делали вид, что молчали, и кланялись Степану при встрече, а он чуял страх – прозрачный и липкий, тянущийся от избы к избе, сетью раскинутый над деревней от Троицкой церкви до церкви Окаянной. И он, Степан, тянул за каждую из нитей, потому что знал человеческую природу – гнилую и лживую, которую не исцелить никаким Словом, а можно только задавить или умертвить.
Восток серел, по небу текла вечерняя мгла. Лес полнился призрачным шепотком. Степан поднялся по скрипучим порожкам к дому, рывком распахнул дверь:
– Ульянка!
Жена выбежала по первому зову – в темном сарафане, с прибранными под повойник волосами. Ее мышиное лицо, в полумраке похожее на вечно испуганное лицо Маланьи, сморщилось, будто Ульяна хотела чихнуть. Зато глаза – два бледно-голубых фарфоровых блюдца – стали еще больше и тревожнее.
– С возвращением, Степушка, – жена поклонилась, а он выставил вперед правую ногу и спросил:
– Готов обед?
– Готов, Степушка, – покладисто ответила Ульяна, стаскивая с мужа сначала правый сапог, потом левый, приняла от него спецовку. Степан сполоснул руки и прошел за стол, накрытый скатертью с красным круговым узором по краям. Ульяна поставила перед ним тушеную капусту и расстегаи. Степан склонил голову на скрещенные пальцы, делая вид, что молится, хотя голова полнилась жаром и звоном, слова на ум не шли, и он только беззвучно и фальшиво шевелил губами, искоса поглядывая в окно, откуда открывался вид на реку – широкую ленту, столь же безжизненную и серую, как ее близнец-небо.
Ульяна ждала.
Степан неспешно съел капусту, почти не чувствуя вкуса, потянулся за расстегаем. Она все стояла, потупив взгляд и переминаясь с ноги на ногу, будто хотела что-то спросить, но не смела. Степан делал вид, что не замечает жены. Дожевал один расстегай, взял второй.
– Киселя бы…
Ульяна поджала губы, не говоря ни слова, вернулась к столешнице, налила в стакан киселя, обтерла края и поднесла мужу. Кисель охладил разгоряченное нутро, и Степан выпил с удовольствием, причмокивая и утирая рушником бороду. Ульяна ждала.
– Ну? – он поднял на жену тяжелый взгляд.
Она вздохнула и спросила тихо:
– Где же Акулина, Степушка?
Он крякнул, неспешно скомкал и отложил рушник. Поднялся, огладив ладонями бока и одернув рубаху. Перекрестился двуперстием, а потом с размаху отвесил жене оплеуху.
Ульяна охнула, схватилась за щеку. Фарфоровые глаза увлажнились, задрожала нижняя губа.
– А ты сначала скажи мне, как дочь одну во двор выпустила? – ровным голосом спросил Степан.
– Не… доглядела, – Ульяна всхлипнула, но не заплакала, только лицо перекосило еще сильнее.
– Не доглядела-а! – передразнил Степан и снова замахнулся. Жена зажмурилась, отступила, уперлась спиной в беленый бок печи, но удара не последовало.
Степан так и замер с поднятой рукой, когда с улицы донеслись крики:
– Е… ей! У-у…
Кто-то завыл, как почуявший беду пес. И внутри у Степана тоже заныло, заскулило черное предчувствие. Забыв о жене, он кинулся в сени, натянул сапоги и выскочил на улицу как раз в тот момент, когда мимо избы пробегал Ануфрий.
– Что? – выпалил Степан.
Мужик приостановился, безумно завращал глазами, заозирался и выдохнул куда-то в вечерний полумрак:
– Евсейка утоп!
Воздух треснул, наполнился голосами. Вдали возник и принялся набирать силу протяжный и горестный бабий вой.
9. Второе доказательство
Павел понял, что заблудился, когда в третий раз наткнулся на сгнивший крест. И вроде тропинка одна, и перелесок негустой – вот-вот выйдешь к Червонному куту, – только самих домов не видно, лишь оседают на ветках клочья дыма из печных труб. Павел перешагнул корягу, поднырнул под сваленную сосну и снова оказался возле креста. Из-за осин подмигнула слепым глазом Окаянная церковь: не уйдешь, мол.
– Да что б тебя! – выругался Павел и, вытерев вспотевший лоб, добавил крепкое словечко.
Вечер замешивал акварельные сумерки. Сырость гладила по спине лягушачьей лапкой, и ноги начали ощутимо подмерзать.
Павел вернулся на кладбище и обошел обсыпанный солью крест-голбец, вспоминая, в каком направлении исчезла девушка. Повернулся к церкви так, что она оказалась за спиной, отсчитал шагов двадцать, двигаясь перпендикулярно тропе. Потом развернулся параллельно кладбищу и отсчитал еще пятьдесят, тщательно обходя муравьиные кучи, неглубокие овраги и поваленные ветки. Когда по его подсчетам кладбище осталось позади и справа, Павел повернулся к нему лицом и попытался вернуться на тропу, полагая, что небольшой крюк поможет ему выйти из «заколдованного круга». Но внутренний компас все-таки дал сбой, потому что ни через двадцать, ни через пятьдесят шагов никакой тропинки не оказалось, зато за деревьями плеснуло водной гладью, стволы поредели, расступились, и Павел вышел на косогор.
Река Полонь катила воды молчаливо и сонно. На другом берегу тянулись поросшие лесом холмы, в наступивших сумерках почти сливающиеся с небом. А ниже по косогору к причалу бежали люди: ветер доносил отрывистые крики и горестный плач.
Павел принялся спускаться к реке. Теперь он хорошо различал белые рубахи под распахнутыми телогрейками, красные пояса, развевающиеся, как узкие языки. В стороне двое мужиков поспешно отвязывали лодку, а у кромки воды билась в истерическом припадке простоволосая женщина.
– Уто… ул! Ев… мой! – звенело в слуховом аппарате.
И серая лента реки на миг превратилась в автомагистраль, лодка – в пробитый автомобиль, а люди в белых одеждах – конечно же, в фельдшеров скорой. И вой звенел, эхом отдавался в голове, вплетаясь в статические помехи и рев электрогитар.
Павел ускорил шаг, потом побежал. Подошвы скользили по глине и прошлогодней траве. Один из мужиков в лодке повернулся в его сторону, приставив козырьком ладонь над рябым лицом, потом решительно двинулся наперерез.
– Чего тебе?
Иллюзия рассыпалась мозаикой, захрустели под ногами мелкие камешки.
– Вам, наверное, помощь нужна! – выпалил Павел. – Я могу!
Мужик качнул головой, сложил на груди руки.
– Ступай своей дорогой! Разберемся!
Павел глянул через его плечо. Женщину держали подруги, но она вырывалась и снова валилась на берег. Соскользнувший платок подхватил ветер и, протащив по берегу, макнул в воду.
– Кто-то утонул?
Рябой мужик сощурился, процедил сквозь зубы:
– Ее сын.
Второй, оставшийся возле лодки, нетерпеливо махнул товарищу рукой, крикнул:
– Куда удрал? Помогай!
– Не вишь, с чужаком говорю? – огрызнулся рябой и добавил с ненавистью: – Скоро вся деревня сбежится.
– Возьмите меня с собой! – Павел на ходу принялся стаскивать куртку. – Я хорошо плаваю. Я…
Рябой шагнул навстречу – на Павла повеяло запахом пота и кислой капусты, – сощурил бесцветные глаза:
– Ты глухой, парень? Или не понимаешь? Вали отсюда! Пока…
Мужик не закончил, но недвусмысленно потряс кулаком.
Сердце болезненно толкнулось в грудь. Воздух уплотнился, словно между двумя мужчинами возникла преграда из тонкого стекла: тронь ее – разлетится осколками.
– Идут! Идут! – закричал кто-то.
Рябой мужик обернулся на голос. Павел проследил за его взглядом: у причала собралось человек тридцать, и все подходили новые. Безутешная мать обессилела, и ее оттащили от реки, где, будто кувшинка, покачивался на воде белый платок. Мужики стояли с окаменевшими лицами, и никто не пытался помочь – все смотрели, как по косогору спускается долговязый Черный Игумен. Но теперь он нес на руках не обморочную дочь, а старика, закутанного в тулуп.
– Да черт с ним! – тут же донеслось из лодки. – Не наша забота, пусть Сам разбирается!
Рябой мужик широко раздул ноздри и отступил.
– Уходи, – глухо проговорил он, и, сгорбившись, пошагал обратно.
Павел медленно разжал руки – пальцы свело от напряжения, – и, поправив за ухом Пулю, упрямо двинулся к причалу.
Люди отходили с дороги, отвешивая поясные поклоны, и старик медленно, будто нехотя, поднимал левую руку и крестил перед собой воздух, но не произносил ни слова. Молчали и люди. Только заходилась в рыданиях женщина:
– Батюшка, помоги-и…
Черный Игумен прошествовал мимо, загребая сапогами землю. Остекленевший взгляд скользил над головами, но ни на ком не задерживался. Зато старик, будто по наитию, повернул голову – глаза оказались холодными и водянистыми, как у речной рыбы, – и сразу выцепил из толпы чужака: Павлу показалось, словно в лицо ему бросили слипшийся ком водорослей, и мокрая петля обернулась вокруг шеи, затрудняя дыхание.
«Не любят они, когда чужаки подле рыскают…»
Павел осознал, что ему очень нужно остаться здесь, у причала, где от воды несет тиной, и сонно хлопают по воде весла. Остаться во что бы то ни стало, потому что сквозь щелчки и помехи слухового аппарата колотилась в висок мысль: что-то случится. Что-то важное, то, что много лет пряталось от Павла, проскальзывало сквозь пальцы, как юркая плотва, и уходило на глубину.
У причала Черный Игумен остановился и бережно опустил старика на землю. Тот покачнулся, сгорбился, опустив плечи и втянув голову в ворот тулупа, как в панцирь. Сам Игумен Степан встрепенулся, черные глаза недобро блеснули и уставились на Павла.
– Чужак! – глухо пробасил Степан.
Люди разом повернулись. Их взгляды опалили Павлу лицо, и за воротник скользнула горячая капля.
Что-то случится именно сейчас.
Старик выпростал руку – белую, как ветка, с которой ободрали кору, и дотронулся до своего уха:
– Машинку… сними. Коли хочешь остаться.
Голос у Захария тихий, как шорох сброшенной листвы. Так на старообрядческом кладбище шелестел в кустарнике ветер. Павел хмуро оглядел вставших полукругом людей – из-под картузов и платков настороженно поблескивали глаза, и надвигающиеся сумерки накладывали на лица густые тени, превращая их в одинаковые глиняные маски.
– Не бойся, – снова сказал старец. – Слово Мое сильно, но мирского не терпит. А вера вот здесь сидит, – он дотронулся до груди, – в сердце. Оно и узрит, и услышит.
Павел увидел: лодка выгребала к середине реки, и плеск весел становился все тише, а платка уже не видать – унесло течением. Сколько времени прошло с момента, когда утонул мальчик? Сумерки обесцветили пейзаж, придав небу и реке одинаковый свинцовый оттенок. Полоска тайги пролегла между ними. Теперь только водолазов вызывать, да помогут ли водолазы? Мертвые не поднимаются с илистого дна. Но Павел все же послушно щелкнул регулятором и аккуратно вывел из уха дужку звуковода.
Люди сразу потеряли к нему интерес. Даже Игумен отвел взгляд и тяжело ступил на сходни: доски беззвучно прогибались под его весом. Следом, цепляясь за поручни и припадая на одну ногу, заковылял старик.
Павел подумал, что сейчас самое время снова включить слуховой аппарат или сделать пару снимков, но не решился. Сквозь тишину, давящую на виски, проникал пульсирующий шепот: что-то случится…
Старик остановился у края причала и вцепился в поручни. Неподалеку черным пугалом застыл Черный Игумен – его долговязая фигура отчетливо выделялась на фоне серого полотна реки. Степан запрокинул лицо к небу, широко развел руки в стороны, постоял так, покачиваясь с носка на пятку, и быстро сомкнул ладони над головой.
Хлопка Павел не услышал. Зато увидел, как люди взялись за руки и замкнули круг.
Качнувшись, хоровод двинулся вправо. Павел неосознанно повернулся следом и понял: его взяли в кольцо. Между ним и причалом замелькали фигуры в одинаковых белых рубахах. Старец и его помощник все так же неподвижно стояли над водой, но Павлу показалось, что губы Захария шевелятся, произнося – молитву? заклинание?
Павел еще раз огляделся, просчитывая пути к отступлению. Два года назад ему довелось побывать на ритуале сатанистов. Он снимал на портативную камеру из засады, со стороны замороженной стройки, спрятавшись за арматурным каркасом. И убегать пришлось так же, через стройку, прыгая по шлакоблочным плитам и рискуя переломать ноги. В итоге отделался лишь синяками и выговором начальства. Впрочем, выговор получился формальным, больше для острастки: Евген Иваныч остался доволен материалом, и номер расхватывали, как свежую выпечку. Люди падки на чудеса и их разоблачение.
Здесь спрятаться негде: впереди – река, позади – продуваемый ветром косогор, а дальше тайга и кладбище. Может, не такое и заброшенное? Может, хоронили там незадачливых просящих?
«Прекрати панику», – сказал себе Павел. Но на всякий случай прикинул, успеет ли нырнуть под сцепленными руками, если дела окажутся совсем плохи.
Ответ пришел сразу: не успеет.
Круг сузился. Зазмеились на ветру красные пояса. Люди ускорили шаг, странно вскидывая колени и притоптывая. Их лица, обращенные к небу, блестели от пота. За мелькающими спинами Павел различил, как Черный Игумен ударил в ладоши во второй раз.
Почва под ногами качнулась, следом возникло и стало нарастать гудение – Павел не слышал, но ощущал всем телом электрическую вибрацию, идущую из-под земли. Танец сектантов стал быстрее, дерганее. Наращивая темп, хоровод двигался противосолонь – быстрее, еще быстрее. Взмахи мельничных лопастей. Эпицентр бури. Ветер набирал силу, рвал подолы сарафанов и вороты косовороток, швырял в лицо водяные брызги. Голова пульсировала и гудела, отзываясь на подземную вибрацию. Со стороны пахнуло озоном, как бывает перед грозой.
И тогда Черный Игумен хлопнул над головой в третий раз.
Толчок был такой силы, что Павел едва удержался на ногах. Кружащиеся сектанты повалились друг на друга, но рук по-прежнему не расцепили. Земля вздыбилась и просела, комья глины покатились по откосу, а деревянные доски причала заходили ходуном. Павел видел, как старец что есть силы вцепился в поручни: ветер яростно срывал с него тулуп, и длинные полы тяжело вздымались, будто крылья умирающей птицы. Вода в реке пошла рябью, забурлила, а мужики в лодке побросали весла. Один из них – наверное, тот, рябой, который велел Павлу убираться подальше – выпрямился во весь рост и некоторое время балансировал на носу, будто раздумывая. А затем принял решение и шагнул за борт.
Павел рванулся вперед, но выйти за пределы круга ему не далии грубо толкнули в грудь, отчего Павел оступился, поскользнулся на мокрой глине и сел прямо в траву. Люди возобновили движение – на этот раз медленно, по часовой стрелке. За их спинами река вздувалась пузырями, будто в воду опустили гигантский кипятильник. И выпрыгнувший из лодки мужчина почти по колено погружался в кипящий бульон, поэтому шел медленно, сонно, будто на ощупь.
Шел?!
Павел поднялся на дрожащие ноги. Голова плыла, в висках колотился пульс. Павел не слышал ухом, но ощутил, как вокруг него треснул и осыпался невидимыми осколками рациональный мир.
Мертвые не поднимаются со дна реки, живые не ходят по ее поверхности. В подобное верят отчаявшиеся домохозяйки и сумасшедшие фанатики. Только не он, только не Павел Верницкий, ведущий рубрики «Хрустальный шар». Не верил…
…и все же видел собственными глазами.
Мужчина отошел от лодки не более чем на пару метров. Вода по-прежнему бурлила вокруг его лодыжек, выбрасывала фонтанчики гейзеров, но это ничуть не мешало самозваному мессии. Нагнувшись, он погрузил руки в кипящую воду и поднял то, что не нашла бы в сумерках и бригада водолазов.
Тело утонувшего мальчика.
Прижав находку к груди, мужик медленно двинулся обратно к лодке, за ним потянулись темные жгуты водорослей. Кроме Павла, в сторону реки никто не смотрел – люди двигались медленно, по инерции. Слева тяжело вздохнула женщина и расцепила руки. Хоровод распался. В это время краснопоясник с мальчиком забрался в лодку, а второй мужик заработал веслами, разворачиваясь к берегу. Тогда Павел поднырнул под сцепленные руки и рванул по сходням – доски качались под ним, но никто не сделал попытки удержать его, вернуть в круг.
Добежав до неподвижно замершего старика, Павел дернул его за плечо.
– Это… как? – выкрикнул он прямо в лицо Захария, и, не услышав своего голоса, встряхнул старца за ворот. – Что вы… сдела-ли?
Захарий фальшиво улыбался. Морщины разбежались, как трещины на глиняной посуде. Губы шевельнулись, но из-за густой бороды Павел не смог разобрать слова, и тряхнул старика снова.
– Там брод? Тросы? Что?
Мощный рывок отбросил его к перилам, где он ощутимо приложился затылком и сквозь расплывающиеся круги видел, как Черный Игумен шипит что-то с высоты своего роста и потрясает внушительным кулаком.
«Он меня проклял, проклял!» – вспомнились отчаянные всхлипы Кирюхи.
Павел вытер рот дрожащей мокрой ладонью и ошалело глядел, как Степан почтительно подхватил старика под руку и повел по сходням на берег.
Мысли неслись вскачь.
Только что перед Павлом развернули весьма убедительное представление. Допустим, на середине реки мелководье. Допустим, люди точно знали, где остановить лодку, чтобы не сесть на мель. Но как объяснить, что именно здесь оказалось тело мальчика? Вынесло течением? А непонятная дрожь земли? А кипящая, словно на плите, вода? Не говоря о том, что для такого убедительного фокуса пожертвовали жизнью ребенка.
Павел поднялся, пошатываясь, и приладил за ухом Пулю. На автомате щелкнул переключателем, и только потом вспомнил о запрете. Но, видимо, это уже не имело никакого значения: круг разомкнулся, и сошедший с лодки мужик положил мальчика на землю. В наступивших сумерках лицо подростка казалось черным, словно вымаранным сажей – так должно быть выглядел Андрей, когда его вытаскивали из горящей машины. Павлу почудилось, что он слышит хруст обуглившейся кожи, но это только в слуховом аппарате привычно шелестели помехи, да под ботинками поскрипывали сырые доски пристани.
Степан помог старику опуститься на колени, и ряды людей сомкнулись, заслоняя от Павла происходящее, но он все же успел увидеть, как ладонь старика легла подростку на лоб. Павел остановился, переводя дух и ожидая чего угодно: землетрясения, молнии, волн в высоту человеческого роста, и жалел только об отсутствии видеокамеры. Но ничего не случилось. По крайней мере, ничего внушительного: тот самый рябой мужик, который велел Павлу убираться, а потом шел по воде, аки по суху, помог подростку подняться. Тот неуверенно стоял на ногах, покачиваясь и подергиваясь, как больной детским параличом Леша Краюхин. Вода текла с мальчика в три ручья, и он подрагивал худеньким телом, обхватив себя за плечи. В остальном выглядел вполне живым и здоровым, словно всего-то попал под ливень, а не пролежал на дне реки добрый час, если не больше. И коварный вопрос «…как?» жалил висок. Но ответа не находилось.
Павел прижал к груди кулак, успокаивая сердцебиение и стараясь дышать глубоко и ровно. Что бы ни происходило сейчас на его глазах, этому есть разумное объяснение. И Павел обязательно его найдет, как находил много раз до этого. Чудес не бывает, и мертвые не возвращаются – ни утонувшие в реке, ни сгоревшие в отцовской машине. Нужно только поговорить со старцем. Поговорить и хитростью выудить все шарлатанские приемы, в том числе чудесное хождение по воде. А в том, что старец Захарий захочет говорить с Павлом, не было никаких сомнений: иначе его не пригласили бы на это представление, не так ли?
Словно отзываясь на эти мысли, старик повернулся к Павлу и поманил его пальцем.
Сенсация сама шла в руки.
«Сделаешь достойный репортаж, на всю страну прославимся! Золотая жила эти «червонi пояси»!»
Когда Павел приблизился, старик уже поднялся на ноги и опирался на суковатую палку, которую ему подал Степан. Мальчика уводили обрадованные родители, но судя по хмурому лицу отца, дома малец отведает не только материнской ласки, но и отцовского ремня.
– Ты тоже иди домой, иди, Степушка, – донесся до Павла добродушный голос старика.
– Кто ж тебя доведет? – прогудел в ответ Игумен.
– А вот он и доведет, – Захарий кивнул на подошедшего Павла. – Поможешь старику, соколик?
– Помогу, – согласился Павел и отметил, как на заросших скулах Степана так и ходят желваки.
– Добро, – процедил Игумен, повернулся и зашагал к Червоному Куту.
Старик поглядел ему вслед, вздохнул, помассировал впалую грудь.
– Устал я, соколик, – жалобно протянул он. – Не найдешь ему выхода – огнем опалит. А найдешь – как пустыню иссушит.
– Что иссушит? – машинально спросил Павел.
– Слово, – старик пожевал губами, крепче ухватился за палку и поднял слезящиеся глаза. – Пойдем, что ли?
Павел подхватил старика под локоть: Захарий оказался на голову ниже его и был хрупким, как кузнечик. При каждом шаге его суставы похрустывали, и старик кряхтел и охал, обдавая Павла кисловатым запахом старости.
– А все же, – первым нарушил молчание Павел, – как вы провернули этот фокус с хождением по воде? В середине реки какая-то каменная гряда, я прав? Если так, это ведь можно проверить!
– Попробуй, – спокойно ответил Захарий. – Завтра поутру и сходи. Плавать-то умеешь? Течение в нашей Полони быстрое.
– Если со страховкой, то и ребенок справится.
Захарий тяжко вздохнул.
– Эх, соколик! Ты ведь не просто так сюда приехал. Ты ведь за ответами приехал. А коли я даю тебе ответ, почему не принимаешь его? «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?»
– А еще говорят: «Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим».
– Глаза да уши часто подводят, – прокряхтел Захарий, с трудом преодолевая подъем. Избы Червонного Кута остались по правую руку. – Мои глаза видят парня молодого, здорового. А вот сердце трепещет да волнуется. Червоточину чует.
– Так что же, – сказал Павел, – значит, вы словом божьим и лечите, и чудеса сотворяете?
– Истинно так, – безмятежно ответил старик. – Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его. Услышишь и ты, коли веру в свое сердце впустишь. Трава засыхает, цвет увядает, а Слово пребудет вечно.
– И мертвых к жизни можно вернуть? Вот как утонувшего мальчика?
– Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут? Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Сеется тело душевное, восстает тело духовное…
В слуховом аппарате щелкнуло, словно кто-то издал короткий смешок. Павел встревожено огляделся: вечер окончательно вступил в свои права, вымазав чернилами и лес, и Червонный Кут, и золотую луковицу Троицкого собора. У крайнего дома, избы старика, жалась фигурка в сарафане и белом платке.
– Ульянка уже встречает, – проговорил Захарий. – За дочерью пришла, видать. Ну, так дальше я сам дойду. Спасибо, соколик, что проводил. А ты, коли надумаешь, так приходи завтра в полдень. Как уверуешь – так и будет тебе.
Он выпростал руку у опешившего Павла и заковылял к дому.
10. Темна вода
Не спалось. Едва только накатывала дремота, как в голове звенело тревожное: чудо или нет?
Павел думал об этом весь вечер после возвращения домой, пролистал получившиеся снимки. В блокноте появились записи: «Хождение по воде», «Воскрешение», и рядом – несколько вопросительных знаков. В графе «Против» Павел написал: «Массовый гипноз» и дважды подчеркнул фразу.
Ритуалы работают по одной и той же схеме: определенная музыка, однообразные повторяющиеся движения, выкрики или монотонные молитвы, хоровод на берегу. Все это погружает участников в транс, а зрителей заставляет поверить в происходящее. Павел все больше утверждался в мысли, что перед ним развернули показательный сеанс групповой гипнотерапии.
«А теперь на счет «три» вы поверите, что человек идет по воде…»
И Черный Игумен трижды хлопает в ладоши.
Тогда понятен и феномен Леши Краюхина: мальчик прошел курс лечения, но для полного исцеления не хватало веры.
Как уверуешь – так и будет тебе. Эффект плацебо.
Павел промучился до часу ночи, но в итоге сдался. Ажурный ночник плеснул на подушку коньячной желтизной. В обволакивающей тишине было что-то непривычное, напряженное – затишье перед бурей. Помассировав лоб, Павел вздохнул и принялся одеваться: не мешало освежить гудящую голову.
За порогом разливалась ночная прохлада. Желтки фонарей висели над крышами, тускло подсвечивая изрезанную тенями дорогу. Хозяйский пес высунулся из будки и затявкал – неслышно, потому что слуховой аппарат остался дома, на столике. Павел прицыкнул на лохматого охранника и вышел за калитку. Дом бабки Матрены – последний, освещенный. Дальше царила темень, в которой избы старца Захария почти вовсе не было видно.
Темна вода во облацех…
Неплохое название для будущей статьи. Или лучше: «Лазарь, восстань!» Пафосно, как раз по вкусу Евген Иванычу. Оставалось только гадать, какие сюрпризы приготовит старец к завтрашней встрече. И хорошо бы они остались наедине: уж Павел постарается узнать и об истории села Погостово, и об Окаянной церкви, и о Слове.
Что-то живое коснулось голени. Павел опустил взгляд. Блеснули отраженным светом пуговки глаз
Кошка. Черная, как сажа.
– Кс-кс! – позвал Павел, не слыша собственного голоса. Кошка приоткрыла пасть, словно улыбнулась. Из будки выскочил пес и, натягивая цепь, забегал вдоль забора. Как бы не разбудил хозяйку!
– И-ди сюда! – снова попробовал Павел. Захотелось узнать, есть ли у этой кошки белое пятно на лапе? Но поймать не удалось: зверек метнулся в тень, вытянув подрагивающий хвост, и Павел шагнул следом, выходя из освещенного фонарем круга в пустую черноту.
Силуэты стали резче, контрастнее. Дом старца выглядывал из-за покосившегося плетня, как сказочный горбун. За черным шрамом оврага выступал косогор, утыканный избами Червоного Кута, словно бородавками.
Со стороны оврага показался силуэт. Павел отступил было назад, к оранжевым пятнам света, где заходился лаем сторожевой пес и над крышами висели клочья дыма. Но вовремя понял, что так его сразу увидят, поэтому прижался спиной к забору, надеясь, что ни шагами, ни дыханием не выдаст своего присутствия. Силуэт метнулся к избе старца и замер, словно ожидая чего-то. Потом сложился вдвое – человек присел на корточки и убрал со лба налипшие кудри.
Девушка. Та самая, с кладбища.
Из черноты выскользнула кошка и легко прыгнула в подставленные руки. Девушка поднялась, прижимая зверька к груди. Оглянулась по сторонам: не видит ли кто? И устремилась к оврагу, подметая юбкой дорожную пыль.
Что она делает ночью возле дома старца?
Подождав, пока силуэт растворится в залитой чернилами низине, Павел осторожно прокрался к забору. В доме Захария ни огонька, во дворе – ни души, только призрачно белеет постиранное белье, да от сарая к порогу тянется цепочка наколотых чурочек.
Тем временем плотную вату облаков разорвал ветер, и в прорехи глянула луна. Серебристый, будто неживой свет пролился на избы, дорогу и косогор по ту сторону оврага. Перебравшись через мостки, девушка на мгновенье замерла, потом подобрала юбку и припустила бегом по тропе. Вот только, понял Павел, бежала она не к домам.
В лунном свете лес казался отпечатком с негатива. Макушки деревьев сонно покачивались в вышине, но здесь, внизу, царило совершенное безветрие. Даже выбравшись из оврага на косогор, Павел не почувствовал ни единого дуновения на щеке. Осинки, высветленные луной, застыли в холодном и вязком воздухе, их листья поблескивали, как холодные чешуйки. А если сделать еще несколько шагов вверх по склону, можно различить вознесшийся над деревьями крест Окаянной церкви.
Павел остановился, тяжело дыша и ощущая глухие удары собственного сердца. Он осознал, что стоит возле однообразных изб Червонного кута. Дом старца остался позади, за оврагом, а впереди змеиным языком вилась тропа и ныряла за частокол деревьев, где всего несколько минут назад скрылась незнакомка.
Он обернулся: деревня спала крепким сном, утонув в искусственном оранжевом свете. В бабкиной избе осталась чистая постель и подушки, выложенные пирамидкой, как в детстве. Если кому-то и охота гулять по ночному кладбищу, то явно не ему, не Павлу, и без того пережившему суматошный день. Какая-то часть тянула его назад, шептала: «Не ходи!». А еще: «Вчера ты узнал достаточно. Так собери вещи, заплати пронырливому Кирюхе и езжай домой. Материала хватит для крепкого репортажа. Что не узнал – додумаешь. А что не додумал – подхватят люди. Темна вода во облацех…»
Другая же часть червячком подтачивала изнутри и шептала: «Но ты можешь узнать гораздо больше. Иди без страха, и по вере воздастся тебе…»
От дальней избы отделилась тень – длинная, угловатая. Павел тотчас нырнул в пролесок, и уже оттуда, присев за поваленным стволом березы, осторожно глянул.
Вороньим крылом мазнул по воздуху подол спецовки, и долговязый Степан замер на крыльце, напряженно вглядываясь во мрак.
Заметил?
Павел понял, что ни в коем случае не должен попасться Черному Игумену на глаза. Он не знал, откуда пришла эта иррациональная уверенность, как не знал, почему тем дождливым вечером написал на «склеротничке» бессвязные: «Червы… не ходи…» Что-то вело его руку тогда. И что-то пригибало к земле теперь, шепча в оглохшее ухо: «Не показывайся…»
Степан медленно повел головой вправо-влево. Глаза Игумена сверкнули оранжевыми прожекторами. Наклонившись вперед, он потянул носом воздух. И черная тень поползла по косогору, пересекая тропинку и извиваясь, как щупальце спрута.
Павел затаил дыхание и вжался плечом в березу. Легкие окаменели, словно два мокрых голыша, вложенных под ребра. Тень извивалась и дергалась, ощупывая подлесок и хрупкие кости молодых берез.
Вправо-влево… вправо-влево… Вот замерла.
Степан вздрогнул, уставил пылающий взгляд прямо на Павла, но в тот же миг на луну набежало облачко. Мир сразу выцвел и почернел. Степан откачнулся, взмахнул руками, будто ища опору. Павлу показалось, что между ними натянулась и лопнула нить с неслышимым, но ощутимым щелчком: тра-ак!
Или это разошлась молния на куртке?
Он машинально потянул собачку, но та оказалась на месте. Луна снова вынырнула из-за облака, показав белесое рыбье брюхо. Крыльцо избы пустовало.
Павел выдохнул и тяжело поднялся на ноги. Во рту чувствовался привкус железа – должно быть, прикусил губу. Воистину говорят: у страха глаза велики. Но довольно на сегодня и страхов, и чудес. Павел принялся сердито отряхивать брюки от налипшего сора и глины, как вдруг замер: на березовой коре алела свежая рана. Не рана – красный лоскут, зацепившийся за сучок.
Красный пояс. Девушка с кошкой.
На кладбище? Ночью? Что тянет ее туда?
«Колдовство», – ответил себе Павел. И огляделся, опасаясь, не произнес ли это вслух.
Какой-то магический ритуал, прерванный накануне. Колдовство, рядом с которым, возможно, хождение по воде покажется детскими играми.
Пульс зачастил снова, но теперь от волнения. Павел шагнул вглубь леса, жалея только о том, что оставил на столике и слуховой аппарат, и записную книжку. А еще больше – что не захватил камеру, которую оставил в походной сумке.
Прихваченная изморозью глина больше не скользила под подошвами, и Павел шел уверенно и быстро. Впереди отчетливо виднелась глыба Окаянной церкви – наверное, там и скрылась девушка. На кладбище ни души, только лунный свет серебрил рассохшиеся голбцы, которые напоминали теперь языческих идолов. Павел медленно прошел по кладбищу. Вот надгробие. Вот поваленный крест. А вот и могила, где колдовала девушка. Густые тени клубились у подножия креста, и Павел отодвинул заросли волчьего лыка. Соляной круг был тут – в лунном свете блеснули рассыпчатые кристаллики. Ровная дорожка почти полностью скрывала подножие креста, но в нескольких местах осыпалась, обнажив процарапанные в дереве буквы «…ерн…» и «…емь…». Имя усопшего?
Поколебавшись, Павел сорвал несколько листьев и аккуратно счистил соль. Сердце подпрыгнуло в груди и заколотилось часто-часто. На сбитых, рассохшихся от времени дощечках пляшущими старославянскими буквами было вырезано:
«Черных Демьян Афанасьевич».
И ничего больше.
Отец Игумена Степана? Или, может, дед?
Вспомнилось прочитанное в Тарусской библиотеке:
«Вот закопали, и прошло семь дней, а потом колдун стал приходить и кровь у живых сосать…»
Павел выпрямился и оттер со лба испарину. Сразу пожалел, что не взял с собой «мыльницу». Облака набегали, как волны. И луна качалась в них поплавком, то стыдливо укрываясь тенью, то подмигивая бельмастым глазом. Окаянная церковь щурилась заколоченными ставнями, сквозь которые пробивался тусклый свет.
Свет?
Павел моргнул. Встряхнулся, отгоняя морок. Свечение не погасло – холодное, мертвенное, глубоководное, оно сочилось из щелей, как сукровица из ран. Кто-то вошел в церковь, пока Павел разглядывал могилу Демьяна Черных. Кто-то… девушка с кошкой?
«Пусть отрок или отроковица одну ночь проведет в церкви, жжет свечи и читает Псалтырь. Что бы ни случилось, только сидит и читает Псалтырь…»
Ритуал закончится там. Павел мог поклясться, что будь у него слуховой аппарат, он услышал бы заунывные слова молитвы или заклинания, отгоняющие нечистого. Ведь ритуалы работают по одной схеме. Кому, как не Павлу, знать!
Он перешагнул могилу, как что-то дернуло его за рукав. Холодок сразу пробежал по позвоночнику, волоски на шее встали дыбом. А ну, как мертвец поднялся из гроба? В истлевшем саване, с горящими оранжевыми глазами, с бородою по самые пяты. Черных Демьян Афанасьевич, упокоившийся с миром, но потревоженный рукою Павла. Ведь смахнул он с могилы соль, нарушил волшебный круг, а значит…
Павел сжал зубы и осторожно скосил глаза. Сухая рука крепко держала его за ворот. Беззвучно вскрикнув, он рубанул ладонью наотмашь: под пальцами скользнула кора, и ветка обломилась, упала под ноги. Павел вытерся рукавом. Хотелось рассмеяться, настолько нелепым показался собственный страх. Он, Павел Верницкий, следивший за сатанистами на заброшенной стройке, испугался можжевельника. Хорошо же его обработали Краснопоясники! Поверил и в хождение по воде, и в воскрешение мертвых, и в колдовство на заброшенном кладбище.
Павел прижал кулак к груди, успокаивая колотящееся сердце. Свет в окнах не угасал, но и не становился ярче. В его мерцании было что-то гипнотическое, нереальное. Что-то, напрочь отключающее страх. Так морской удильщик мерно покачивает фонариком, заманивает добычу прямо в зубастую пасть. И Окаянная церковь, притаившаяся в центре старообрядческого кладбища, тоже подманивала Павла, словно тащила на невидимом аркане. Открой и по вере воздастся тебе.
Дверь поддалась легко, сразу. Фосфоресцирующий свет выплеснулся через порог, и в ноздри ударил запах прелости и гари. Если здесь случился пожар, почему об этом не написали в заметках? Павел прочел достаточно, чтобы знать историю деревни. Он сощурился, пытаясь разглядеть закопченные стены, потолок, уходящий в кромешную темноту. Попытался разглядеть свечи, расставленные для ритуала. Но взгляд напоролся на темную фигуру, замершую у алтаря.
Человек стоял к Павлу спиной, но он сразу понял, что это не девушка, которая бежала по высеребренной тропинке, прижимая к груди кошку с белым пятном на лапе. Не Краснопоясник и не любой из деревенских жителей. Уж слишком знакомой была желтая надпись на черной толстовке. И слишком резко щекотал ноздри запах горелого мяса. Мертвый брат, однажды явившийся Павлу в Тарусской библиотеке, а теперь стоящий здесь, внутри Окаянной церкви, где не было ни свечей, ни ламп, а мертвый свет изливался прямо от стен, поднял голову и вынул вкладыши наушников.
– Вот… и дождался… – проскрипел мертвец, и Павел услышал его, и поднял ладони к ушам. Кровь ударила в голову, как в барабаны. Визгливо запели электрогитары, и время развернулось и понеслось – прочь от Окаянной церкви, от кладбища, от Доброгостова. Назад, к родной Тарусе, на трассу, где ревели автомобили, сливаясь в пестрый поток.
– Это-го нет, – пробормотал Павел. – Те-бя нет. Ты мертв!
Андрей улыбнулся, отчего обугленная часть лица пошла трещинами. Покачнувшись, он лениво скользнул навстречу: ноги в перепачканных кроссовках не касались пола, совсем как у бесноватой на пленке.
– Зато… жив ты, – возразил скрипучий голос в голове. – Тебе не кажется… что это… несправедливо?
Призрак продолжал ухмыляться краем рта. Левый глаз подернут белесой пленкой, правый – выпучен и воспален. Павел хотел отступить, но тело отказывалось подчиняться.
– Непослушный… братик! – дразняще прошелестел призрак. – Предупреждали… не ходи… все равно пришел… теперь пеняй на себя…
«Почему? – хотел спросить Павел. А еще: – Как ты можешь стоять тут, когда ты умер?»
Но слова не выходили из высохшего горла. Словно это он, а не Андрей, десять лет назад сгорел в автомобиле. Словно это его, а не Андрея, отпевали в закрытом гробу. Пульс колотился в висках, рождая глухое эхо.
Все это сон. Все не по-настоящему.
Мертвец протянул руку, обугленными костяшками ткнул Павла в рот.
– Ш-ш! Теперь… говорить… буду я…
Второй рукой разжал Павлу зубы и надавил на нижнюю челюсть так, что хрустнули суставы. Павел задохнулся, чувствуя, как с уголка глаз выкатываются слезы. На языке появился мерзкий привкус золы и гнили.
– И жить за тебя… я буду тоже… – сипло шепнул Андрей и одним резким движением разодрал Павлу рот.
Боль затопила, скрутила в тугой клубок. Повалившись на колени, Павел замычал, захлебываясь слюной и кровью. Кожа натянулась не хуже резины, пока мертвец проталкивался в его горло – неспешно, настойчиво. Так оса-наездник откладывает яйца в еще живую гусеницу, парализованную ядом. Сознание затопила чернильная тьма. Почувствовав, что еще немного, и он задохнется окончательно, Павел дернулся из последних сил.
И стукнулся затылком о деревянную стену сарая.
Горло еще сводило спазмами, по лицу катился пот и слезы. Павел сплюнул розоватую слюну, ощущая во рту привкус металла и желчи. С отвращением отодвинулся от вонючей лужицы и вытер трясущейся ладонью рот. Только теперь он заметил, что сидит прямо на земле возле старенькой бани во дворе бабки Матрены. Не было ни кладбища, ни Окаянной церкви, ни мертвого брата. Ночь уходила, таща за собою страхи, и небо на востоке алело узкой полоской зари.
Пошатываясь, Павел поднялся на ноги. Высморкался, отплевался от остатков желчи. В висках еще колотились барабаны, саднило в груди. Был он ночью на кладбище или нет? Или вчера все-таки распробовал хваленый Матренин самогон, и все это привиделось ему? Все это игра воспаленного и слишком живого воображения? Групповой гипноз?
На всякий случай, Павел ощупал лицо – щеки и подбородок кололись щетиной, но кожа была цела. Никаких разрывов, никаких шрамов. Только к губе прилип кусочек пищи. Павел соскреб его, но, прежде чем отшвырнуть щелчком, глянул – и по спине пополз знакомый холодок. На пальце чернела чешуйка пепла.
Он брезгливо вытер руку о штаны, одернул куртку и увидел, как по улице бежит простоволосая худая женщина, подпоясанная красным кушаком. Грудью налетев на забор, она вцепилась в штакетник и выкатила безумные глаза.
– Убили! – прочел по губам Павел. – Старца Захария… убили!
Потом потеряла сознание.
11. Ложь
Стоило Степану переступить порог, как ходики в глубине дома отчетливо пробили третий час. Нечистое время, лживое. Сквозь плохо прикрытые ставни сочился лунный свет, полосами расчерчивая комнату. Кольца теней душили пустое изголовье кровати: Ульяна ушла за дочерью давно, да так и не вернулась.
Степан остановился посреди комнаты, сжимая и разжимая кулаки. Хотя в доме было натоплено, колотило ознобом. В висках пульсировала боль, зародившаяся после ритуала – не то отголосок Слова, не то эхо давнего недуга, мучавшего Степана с малолетства. Может, оттого и Акулина такой уродилась? Может, оттого и не дается Слово ему, Степану?
Он скрипнул зубами, покачнулся, задев макушкой лампочку на длинном шнуре. Загудела потревоженная муха, села на мокрую шею Степана, и он согнал ее ладонью. Есть люди как мухи – бесполезные, бестолково прожигающие жизнь. Все городские такие, и новый просящий не исключение. А ведь он с первого взгляда не понравился Степану. Акулина и вовсе гниль от него почуяла. Зато старцу ко двору пришелся, ну да свояк свояка издалека видит.
Степан оглянулся и вздрогнул: показалось, метнулась за спиной юркая тень, обдала морозным дыханием.
– Не боюсь, – глухо сказал он. – Ни ужасов в ночи, ни стрелы, летящей днем. Ни тебя, Захарка-душегуб. Ни даже…
Степан поперхнулся. Слово не родилось, скатилось вязкой слюной в бороду. Подумалось: «Вот оно! Сейчас!»
Мышцы лица напряглись, под косовороткой заколола стужа. Степан отступил к столу, уперся левой ладонью о крашеные доски, а правой попытался схватить графин с водой, но промахнулся. Пальцы стали чужими, несгибаемыми и дрожали на весу, будто наигрывали на домре. Он ждал, тяжело дыша и глядя, как по стеклянным граням ползут лунные блики. Тени перешептывались, шныряли по углам, часы отсчитывали секунды, а приступа не было.
Кажется, пронесло.
Степан глубоко вздохнул, подхватил графин и приложился к горлышку. Вода потекла в иссохшее горло, пролилась на бороду и грудь. Вернув графин на стол, Степан утерся рукавом. В подушечках пальцев покалывало – не сильно, но неприятно. Пустяки для деревенщины, но фатально для хирурга.
Взгляд сам собой упал на дальний угол. Луна высветила замки на крышке сундука, отчего показалось, что тот подмигнул серебряным глазом: помнишь? Здесь похоронены мечты, которым не суждено сбыться.
Иногда, оставшись наедине с собой, Степан открывал сундук, словно саркофаг, где вместе с бумажной пылью витали призраки прошлого. Они прятались в конспектах, исписанных мелким и аккуратным почерком, в учебниках по анатомии, в фармацевтических справочниках, в дипломе, кроваво-красном, выстраданном бессонными ночами и бесконечными часами практик, в трудовой книжке, где последней записью стояла: «Уволен по собственному желанию», хотя, конечно, желания никакого не было, а была только досадная необходимость. Степан Иванович Черных, подающий надежды хирург, исчез, едва добравшись до возраста Христа, а вместо него в Доброгостове появился Черный Игумен.
Бог дал, Бог и забрал.
Степан исподлобья глянул на часы: стрелки перевалили за половину четвертого, а жены с дочерью все не было.
Степан хищно оскалился, вспоминая давешний разговор с Захарием. С виду старец благочестивый, а изнутри гнилой и лживый. Избавить от такого мир – как вырезать злокачественную опухоль, ведь сказано в пятом псалме: «Ты погубишь говорящих ложь». Степан хорошо знал, как убирать метастазы, вот только Слово… Слово не давало покоя, горело и жгло, как маленькое солнце, возле которого только и возможна жизнь. Великая несправедливость этого мира: награждать недостойных и обделять одаренных.
– Крест это твой, Степанушка, – елейно говорил старец. – Господь наказал за дедовские грехи.
Степан отмалчивался. Зная о дурной славе деда, всуе его не поминал, а уж Господа и подавно – не верил Степан в бога, поэтому дар Захария был еще чудеснее, а собственная тьма еще страшнее.
По лестнице дробно простучали шаги. Скрипнула, поворачиваясь на петлях, тяжелая дверь. Степан повернулся и сощурился, оглядывая тени, застывшие на пороге.
– Ну, входите, гулящие, – пробасил Черный Игумен. – Чего встали?
Маленькая тень дрогнула, отлепилась от двери и превратилась в растрепанную Акулину. Вторая, высокая, нерешительно мялась в дверях.
– Почему не заперто, Степушка? – пролепетала голосом Ульяны. – Да и темно как… ух, напугал!
– Тебе надобно не мужа бояться, а тех, кто ночью по дворам бродит да нечистые помыслы имеет, – ответил Степан и протянул ладонь. – Поди сюда, Акулька. Сюда, кому говорят!
Девочка глянула из темноты глазами-плошками, мотнула головой и прыснула в свой закуток, только цветастая шторка за спиной взметнулась, и Акулина завозилась там, запыхтела, устраиваясь на постели, как в гнезде. Степан слушал, глядел на жену исподлобья, пригнув лобастую голову, в груди колотилось тревожно и глухо.
– Где были, спрашиваю? – процедил он и раздул ноздри. Пахло от жены сыростью, ночной прохладой, и еще чем-то возбуждающим, терпким, как от раненой птицы.
– К Захарию ходила, – едва слышно ответила Ульяна. – Дочь забирала, раз ты не сподобился.
Степан хлопнул ладонью по столу. Дерево загудело, в кожу вошла колкая бахрома облупившейся краски, и Степан поморщился, вытер саднящую ладонь о штаны.
– Не пустил меня Захарка, – с ненавистью сказал он. – С просящим ушел. А ослушаться я не могу, Словом связан.
Ульяна дрожала, теребила ткань сарафана, не решаясь выйти из спасительной тени.
– Знаю, – прошептала она. – Вот поэтому, Степушка, я…
– Не ври! – он снова хлопнул по столу. Графин подпрыгнул, вода омыла изнутри стеклянные стенки. За шторкой испуганно замычала Акулина, и Степан замолчал, стиснув зубы, чувствуя, как наливаются болью и вспухают желваки на скулах.
– На кухню иди, – медленно сказал он.
Ульяна всхлипнула, подобрала подол и скользнула по коридору мимо. Степан прошел к двери, закрыл ее на засов. Из кухни доносились тихие всхлипы, в комнате копошилась Акулина, бормоча под нос что-то неразборчивое, глухое, приходящее к ней с темной стороны, куда иногда падал и сам Степан. Он снова ощутил сверлящую боль, на этот раз в затылке, и взъерошил волосы.
Ульяна ждала на кухне. Не решаясь сесть, опиралась о стол спиной и загораживала окно, сквозь которое луна облизывала цветастые шторки.
– Проходил я мимо, – тихо заговорил Степан. – А тебя не видел. Маланья сказала, ушли давно. Где нелегкая носила?
Жена затрепетала, взгляд заметался по кухне, нижняя губа задрожала – вот-вот расплачется.
– Гу… гуляли, Степушка…
– Гуля-яли, – повторил он и шагнул вперед. Ульяна отшатнулась, стол громыхнул, звякнули вымытые чашки на подносе. Степан сжал кулак, поднес его к лицу женщины: – Вот у меня твои прогулки где! Забыла, какой я тебя тут подобрал, а? Или напомнить?
– Я помню, Степушка, – плаксиво взвыла Ульяна. – Грешна была…
– Может, потому Акулька такой и родилась? – продолжил он. – Бесы в нее перешли, теперь мучают, покоя не дают. И мне тоже. Как подумаешь, лучше бы не рождаться ей вовсе…
– Да что ты говоришь, Степушка!
Он навалился на нее и зажал рот ладонью, зашипел в ухо:
– Молчи! Молчи, Ульянка, ведь убью! Шалава ты, ведьма. Обворожила, к себе привязала, теперь расплачивайся…
Она билась в его руках, как пойманная в силок утка. Кровь кипела, ударяла в голову, где разрасталась пульсирующая боль. Степан повалил жену на стол, провел ладонью по бедрам, задирая юбку – кожа под ней была разгоряченной, гладкой, податливой. Ульяна замычала ему в ладонь, из-под зажмуренных ресниц брызнули слезы.
– Страшная грешница ты, Ульянка, – хрипло проговорил Степан, развязал пояс и расстегнул штаны. – Только я страшнее тебя.
Он раздвинул ее колени. Ульяна глухо вскрикнула, но покорилась напору. Стол под ними шатался, чашки подпрыгивали на подносе, и луна за окном качалась вверх-вниз, отбеливая лицо Ульяны до мертвенной синевы. Она совсем не походила на ту резвую хохотушку, которую впервые встретил Степан на берегу реки Полонь и взял ее, пахнущую травой и молоком, возле Окаянной церкви. Деревянные кресты глядели на них с упреком, на могилах плясали вихревые бесы, и было в этом что-то неправильное и притягательное, что-то темное, зарождающееся на старообрядческом кладбище, ради чего было не страшно оставить старую жизнь и похоронить ее в деревянном саркофаге, заперев на два замка. Что-то, обещающее силу и власть…
Степан захрипел, придавив Ульяну к столу. Жар истекал толчками, мышцы свело судорогой – они больше не подчинялись ему, зрачки закатились, и тогда вал тьмы настиг и ударил наотмашь, оглушив и утянув на глубину, где не хватало воздуха и время остановилось.
Сознание вернулось внезапно, стегнув по глазам искусственным светом. Степан судорожно вздохнул и взмахнул руками, словно пытаясь удержаться на этой стороне бытия.
– Все хорошо, Степушка. Хорошо…
Ульяна перехватила его руки, прижала к груди. Под ладонями трепыхалось сердце, во рту было солоно и горько.
– Снова, да? – прохрипел Степан и моргнул, пытаясь выхватить из тусклой желтизны бледное лицо жены. Та всхлипнула, поцеловала его ладони.
– К доктору бы, – пролепетала Ульяна. – В город. Уедем?
Он кашлянул, выпростал руки и утерся рукавом. Мутная пелена висела перед глазами, в ушах все еще грохотал пульс.
– Сама знаешь… не хуже меня… не помогут в городе.
– Так приступы все учащаются. И доченьке невмочь.
– Акульке… тут легче, – прохрипел Степан. – От Слова живого она светится. А что до меня, так потерплю. Наказание это за грехи. Убийца я, Ульяна. Колдун.
– Забудь, Степушка! – она ухватила его за руку, потянула на себя. – Сколько лет прошло, а ты все помнишь. Не твоя вина…
– А чья? – он вскинул голову. – Тех, кто эпилептика до скальпеля допустил? Или деда моего, которого здесь даже мертвого чураются? Терпи, Ульяна. Терпи, вот я Слово заполучу, тогда…
Она тоже распрямилась, выдохнула решительно и зло:
– Ты его не получишь! Он не отпустит тебя и не отдаст! Будешь вечно ему собачонкой прислуживать, пока…
Степан ударил ее по щеке. Женщина ахнула. На мгновенье в ее взгляде промелькнула злость. Мелькнула – и исчезла, словно рушником вытерли. Глаза потускнели, налились слезами, и Ульяна закусила губу.
– Сте-епушка, – выдавила и потянулась к нему. Он оттолкнул ее, затрясся сам.
– Молись! – захрипел он и стащил через голову рубашку. – Молись о прощении за нечистые помыслы и блуд. Подними дочь и проси о здравии, об отпущения грехов. Проси, и по вере воздастся тебе!
Степан схватил пояс, перекрутил его в жгут. Ульяна, взвизгнув, отпрянула. Описав в воздухе петлю, жгут просвистел мимо и хлестнул Степана по голым плечам. Черный Игумен вздрогнул и простонал сквозь зубы:
– Вот наказание! За все грехи…
Жгут раскрутился над головой снова, вспорол жестким узлом кожу.
– Леность и уныние…
Еще удар!
– Злословие и ложь…
Удар!
– Гнев и колдовство…
Свет резал глаза, пол качался, качалась за окном луна, и далеко за лесом у Окаянной церкви бесновалась нечисть. Они обещали силу и власть, но Слово получил старый паралитик, а он, Степан, остался во тьме с больной дочерью на руках и ненавистью в сердце.
– За убийство…
Он распростерся на полу, дрожа всем телом, ощущая запах пота и крови, и слушая, как эхом разносится на улице:
– Уби-ийство! Старца уби-и-и…
По лестнице загрохотали шаги, потом кто-то настойчиво замолотил в дверь.
12. Круговая порука
Павел лишь немного опередил Черного Игумена, но, приметив в конце улицы великанскую фигуру, благоразумно затерялся в толпе. Люди все подходили и подходили: и простые деревенские, боязливо жмущиеся за забором и передающие шепотком новость о смерти старца, и Краснопоясники – они угрюмо стояли в сторонке, с растерянностью и надеждой косились на Степана Черных. А тот, лишь мельком глянув в пустой зев избы, потемнел лицом, до желваков стиснул челюсти и послал за участковым, Михаилом Ивановичем. Пока ждали, Павел успел выловить в толпе вездесущего Кирюху и попросил его сгонять за слуховым аппаратом. Мальчишка вернулся одновременно с прибытием участкового – тот оказался пожилым и уставшим, одетым в поношенную полевку.
Сунув в угол рта папиросу, Михаил Иванович прокомментировал:
– Емцев с бригадой запаздывает, – и, крякнув, протянул Степану ладонь. – Здорово, Черных!
Степан вяло ответил на рукопожатие: угрюмый и молчаливый, он неподвижно стоял посреди двора. Рядом с сараем на скамье подвывала Маланья. Ее всхлипы, отчаянные и глухие, неприятными потрескиваниями отзывались в Пуле. У входа в избу валялся жестяной таз, и снятое с просушки белье, некогда уложенное аккуратной стопкой, комом лежало в грязи. А дальше, за дверью, плескалась тьма, и каким-то обострившимся чутьем Павел распознал запахи закисшей обуви, пыли, сырых бревен и еще чего-то тяжелого и страшного, напомнившего не то вчерашний сон, не то трагедию на Тарусской трассе. Запах смерти.
Наконец, в сопровождении судмедэксперта, приехал оперумолномоченный Емцев. Был он средних лет, сухощав и хмур и, зыркнув тусклыми, на выкате, глазами деловито осведомился:
– Кто обнаружил?
– Я-а! – завыла Маланья, прижав кулаки ко рту. – Оставил нас Господь, не уберег батюшку от когтей нечистого. Осироте-лии!
Судмедэксперт ненадолго скрылся в доме. Женщины, опоясанные красными кушаками, запричитали наперебой. Мужчины принялись что-то бормотать и целовали медные подвески. Павел хорошо разглядел их: скрученные из проволоки рыбешки. Такая подвеска была у Леши Краюхина. Павел икнул и почувствовал привкус гари, словно он лизнул сгоревшую спичку. Утерев ладонью рот, толкнул какого-то мужика плечом, отодвинул греющего уши Кирюху и подошел ближе.
Вышагнув из темени на двор, судмедэксперт поймал вопросительный взгляд опера и покачал головой.
– О-оо! – заревела Маланья и, подавшись вперед, ухватила Степана за руку, словно умоляя о помощи. Игумен аккуратно, но настойчиво выпростал ладонь и отступил на шаг.
– Все решим, – сказал Емцев и вынул потрепанные бланки из папки.
Вопросами опер стрелял бойко, разряжая обойму давно зазубренных правил. Убористо фиксировал ответы, пережидая истерику, уточнял: во сколько часов обнаружили тело? Почему решили, что старец мертв? Заметили что-нибудь особенное? Встретился ли кто-то подозрительный?
– Да что говорить, Илья Петрович, – лепетала Маланья. – Пошла белье снимать, увидела дверь распахнутую. Глянула, а та-ам… – ее плечи мелко затряслись, лицо перекосило и пошло пятнами. – Лежит, родненький, головушка а-алая. Кровь повсюду. Я таз и выронила. Помутилось все перед глазами, бегу – а куда не ведаю. Ноги сами несут, и надо бы к Игумену Степану, а я к дому Матрены Синицыной. Кому сказала первому? – Маланья шумно втянула воздух, выпрямилась и ткнула пальцем в Павла: – А вот ему!
Взгляды воткнулись с нескольких сторон, как ножи.
– Та-ак! – хрипло протянул Игумен, стряхивая оцепенение. – Допросить бы, Илюша.
Опер глянул исподлобья:
– Кому Илюша, а кому Илья Петрович! – и обратился к Павлу. – Приезжий?
– Просящий, – зло пробурчал Степан. – Третий день тут ошивается.
– Я не глухонемой, – перебил Павел, машинально дотронувшись до звуковода Пули. – Сам могу ответить.
И вынул заготовленные документы. Емцев бегло просмотрел бумаги и буркнул:
– Бардак тут у тебя, Иваныч. Развел дармоедов, что ни день, то новые лица появляются. Медом им намазано, что ли?
– Так живут себе тихо, Илья Петрович, – принялся оправдываться участковый. – Никому не мешают, никому зла не делают.
– Не делают, – повторил Емцев. – Откуда только трупы берутся?
Помолчал, записывая данные Павла в бланк. Потом вздохнул и начал выспрашивать, когда узнал о трупе, да в каких отношениях состоял с Захарием, что делал ночью между двумя и пятью утра.
– Узнал сегодня утром, – с готовностью отвечал Павел. – Вышел по нужде, тут и Маланья бежит. Кричала, что старца убили. А больше не знаю ничего. Ночью спал, это можете у моей хозяйки, Матрены Синицыной, спросить, – Павел оглянулся, ища в толпе бабу Матрену. Не нашел, зато снова ощутил тошнотворный привкус гари. Павел сглотнул и продолжил: – За лечением я приехал. Видел передачу, как старец Захарий немощных на ноги поднимает и от любой болезни исцеляет, – при этих словах опер и участковый переглянулись, а судмедэксперт поморщился.
– Иваныч, опроси-ка пока своих тихонь, – сказал Емцев. – Что время терять.
Он вернул Павлу документы и, смурно глянув на Степана, с досадой проговорил:
– Ты в понятых, что ли?
– Надо – пойду, – угрюмо ответил Игумен.
– И я пойду! – решительно подхватил Павел.
Под перекрестными взглядами снова окатило льдом. Молчание повисло тяжелым туманом, и можно было почувствовать, как оседают на коже холодные капли. Павел подавил желание обтереть взмокшую шею и осведомился:
– Меня ведь не подозревают, правда?
– Увидим, – уклончиво повторил Емцев и, развернувшись, побрел по влажной земле к избе.
Воздух в помещении был плотным и душным. Здесь давно не проветривалось, и оттого мешанина запахов ощущалась острее, до рези в глазах. Павел прикрылся рукавом и чуть не поперхнулся: от куртки тянуло гарью.
– Назвался груздем – полезай в кузов, – произнес судмедэксперт и перешагнул черную колоду, лежащую почти у самого порога. Павел моргнул, вытер проступившие слезы и понял, что это не колода, а труп.
Старец лежал головою в проход, подвернув руки, будто пытался встать. Борода и волосы представляли сплошной войлочный колтун: не понять, где у старца лицо, все покрыто кровяной коркой.
«Как уверуешь – так и будет тебе…»
Не уберегла Захария его вера и никакие чудеса не помогли. Вернув утонувшего мальчика к жизни, сам принял смерть, и не поднимается больше, некому воскресить.
– Черных, что встал столбом? – прикрикнул опер на мнущегося у порога Степана. – Заходи живей!
Черный Игумен дрогнул, будто очнулся ото сна, согнулся в три погибели и протиснулся в узкий проем. На миг Павла окутала совершенная тьма, в которой не было видно ни распростертого на полу старика, ни опера, ни медицинского эксперта, а только два пылающих уголька – ткни пальцем и обожжешься. Потом тень отодвинулась в сторону, из проема снова плеснуло серостью наступившего дня, и Степан запалил лучины: электричества в доме не было.
Опер приткнулся в угол и принялся заполнять бумаги убористым почерком, перекидываясь с экспертом рублеными фразами. Павел щурил глаза на скачущие тени, дышал ртом и старался запоминать. Пол, возраст, положение трупа. Осмотр головы, лица и рук. Выраженность трупного окоченения. Характер повреждений. Павел решил, что как только вернется – обязательно занесет это в блокнот, а еще зарисует план помещения и место, где обнаружили тело.
Ни ножевых ран, ни пулевых отверстий, зато в стороне валялась окровавленное полено, и край печи вымаран кровью. Орудие преступления или нет?
– Увидим, – повторял излюбленное словечко Емцев.
Степан молчал и не глядел на Павла, лишь стоял в стороне, как в воду опущенный, и едва шевелил губами: может, молился, а может, проклинал кого-то. Цыганские глаза потухли, только блестящий пот катился из-под черных кудрей и мелким бисером оседал в бороде.
На воздух вышли с явным наслаждением. Емцев утер взмокший лоб и обратился к медицинскому эксперту:
– Грузи труповозку. Результаты сразу мне…
Он не договорил. Степан вдруг вскинул голову и ухватил медэксперта за плечо.
– Ни за что! – прошипел он. – Не позволю!
Тот дернулся, затравлено оглянулся на опера.
– Ты что, Черных! – прикрикнул Емцев. – С ума спятил?
– Не позволю! – повторил Степан, впиваясь ногтями в плечо судмедэксперта. – Не разрешу Захарку резать!
Емцев покосился на Павла, прошел мимо него, обдав табачным духом, ухватился за рукав Игумена и заговорил низким тоном:
– Ты это, Черных, брось! Ты думай, на кого зубы скалишь. Без документов живете, дома не на балансе. Пока тихо сидели, мы с Иванычем глаза закрывали, а теперь дело серьезное! Труп-то криминальный!
Степан тяжело дышал, раздувая крупные ноздри, не пробуя вырваться из захвата Емцева, но и эксперта не отпускал. Желваки перекатывались под черной порослью бороды. Только тронь – и вспыхнет пожаром, пройдется ураганом по деревне. Павел отступил и огляделся: далеко за калиткой участковый неслышно беседовал с деревенскими, на коленке строча что-то в бланках, и в сторону избы не глядел. Маланья сидела на скамье обмякшим и равнодушным ко всему кулем. А тут, возле избы, искрило напряжение.
– Пусти! – так же вполголоса проговорил Емцев, не отводя взгляда от подергивающегося лица Степана. – Не нарывайся, Черных, с огнем шутишь!
Игумен заскрежетал зубами, но потом осекся и обмяк.
– Разрыв сосуда пишите, – буркнул он. – С образованием субдуральной гематомы.
– Проверим, – медэксперт аккуратно отцепил пальцы Степана и одернул измятый рукав. Следователь выдохнул с облегчением, потом обернулся к Павлу:
– На пару слов можно, молодой человек?
Они отошли. Павел не оборачивался, хотя и чувствовал спиной прожигающие взгляды. Напряжение не отпускало, звенело где-то поблизости потревоженным болотным гнусом.
– Надолго вы здесь? – спросил Емцев.
– Думал сегодня со старцем встретиться, а завтра уехать, – ответил Павел и вспомнил:
«Коли надумаешь, так приходи завтра в полдень…»
– Завтра, значит, – повторил опер и, покопавшись, вытряхнул нераспечатанную сигаретную пачку. – Будете?
Павел отрицательно мотнул головой. Емцев вздохнул, покрутил пачку и снова сунул в карман:
– И я бросил, а по привычке ношу, – он помолчал, ощупывая цепким взглядом городскую одежду Павла. – Придется вам задержаться на несколько дней. До выяснения, так сказать.
Сердце екнуло, но Павел и бровью не повел, ответил:
– Конечно. Если появятся еще вопросы, с удовольствием на них отвечу.
– Вот и правильно. Михаил Иванович договорится с Синицыной, чтобы не в три шкуры драла. А вы уж, пожалуйста, на рожон не лезьте, и к ним, – тут Емцев ткнул за плечо, где у леса на косогоре высились срубы Червонного кута, – вообще не суйтесь. Сами видели, народец странный, на голову двинутый, зато друг за друга горой. А вы для них чужак, таких тут не любят. Так в случае чего, ни я, ни Иваныч не поможем.
– Ясное дело, Илья Петрович, – с готовностью отозвался Павел.
– Ясное, – рассеянно повторил Емцев и полез за блокнотом, – что дело темное. Вот телефон дежурки, – он быстро набросал цифры. – В случае чего звоните.
Павел поблагодарил и взял листок. Первая семерка похожа на кривую «Ч».
«Черви… не ходи…»
Павел вытер сухие, воняющие гарью губы, и спрятал листок за пазуху.
13. Кто старое помянет?
Завтракали в полном молчании. Аппетита не было, гречка оказалась недосоленной и подгоревшей, от чая мутило. Бабка Матрена старалась избегать общества Павла и несколько раз посреди завтрака подавалась на двор – то покормить собаку, то проверить, не накрапывает ли дождь. Когда она возвращалась, вместе с ней проникало с улицы звенящее напряжение: деревня пропиталась им как ядом. Тишина выматывала, и Павел не выдержал первым.
– Баб Матрен, вы не волнуйтесь, я сколько нужно заплачу!
Бабка недобро покосилась на постояльца, выхватила у него обеденную тарелку и принялась ожесточенно тереть губкой.
– Ладно уж, чего там. Коли надо, живи. Надолго ли?
– Как следствие решит.
– Ох, горе! – вздохнула Матрена и принялась размашисто креститься. – Ох, страх какой! Вот и домовой меня давече душил. Проснулась – кругом темень, что глаз коли! И ни повернуться, ни вздохнуть! Сидит на груди, как камень, и давит, – Матрена всхлипнула, прижала ладонь к шее. – Я уж спросила его, к добру или к худу, Кузя? И вот тебе крест, Павлуша, услышала в ответ: к худу! Вот и случилось. Вот и грянула беда. Говорила мне Латка, хоть на поверхности озеро тихо, а дно бесы мутят. Недаром деревня окаянную славу снискала. А с той поры, как Захар сюда перебрался, так и вовсе…
Она осеклась, стрельнула вбок настороженным взглядом.
– Так что же стало, баб Матрен? – подстегнул ее Павел.
Матрена ополоснула тарелку, поставила ее на решетку стекать и, завернув кран, принялась вытирать руки вафельным полотенцем.
– То и стало, – буркнула она. – Сам видел, поди.
Бабка махнула полотенцем в сторону окна, где за низеньким заборчиком просматривался косогор с темными срубами Червонного кута.
– Так они же безвредные, – сказал Павел и вспомнил хоровод на берегу Полони. Гортанные выкрики, нелепые движения. И человек, вышагивающий из лодки на воду, как на шоссе.
– Безвредные, пока к ним попусту не лезешь, – ответила Матрена. – И то сказать, всех Захарий держал, а теперь кто удержит?
– Черный Игумен?
Бабка зыркнула, как водой обдала.
– Не диво будет, – медленно сказала она, – если Степан Захария и убил.
Потом вздрогнула, заозиралась по сторонам, перекрестила все четыре угла, бормоча под нос:
– Боже, Отец Всемогущий, благослови, освяти силою Святого Креста… сохрани от огненного пламени… от удара молнии избавь… от злого умысла сохрани и спаси…
Перекрестилась сама, заморгала редкими ресницами, на которые тотчас набежали слезы:
– Не слушай меня, Павлуша, дуру старую. Сама не знаю, что говорю. Такая беда! Такое горе! Как же теперь нам жить? Какой-никакой, а кормилец был!
Павел промолчал. Действительно, кормилец для всей деревни. Кто-то просящим комнаты сдает, а кто-то от них подарки принимает: не деньгами, так продуктами, а то и новые рабочие руки появляются.
– А вы ничего подозрительного утром не заметили?
Бабка утерла слезы и вытаращилась на Павла:
– Ты как наш Иваныч говоришь! Тот по всем дворам прошелся, всюду нос сунул. Только в своих бумажках строчит. Что мне замечать, милый? Спала я крепким сном, только услышала, как соседи заголосили. Тогда и на двор выскочила.
Павел кивнул. На какой-то миг ему стало не по себе: а ну, как сказала бы Матрена, что видела его, возвращающегося ночью, испачканного сажей и кладбищенской грязью? Может, и правда все это было сном?
– Баб Матрен, а расскажите, каким человеком был этот старец? Как он вообще здесь появился?
Матрена задумалась. Мяла передник, жевала узкими губами.
– Да что сказать, – наконец, ответила она. – О мертвых или хорошо, или ничего. Я мало что знаю. Слухи они как мухи: по деревне разлетаются, где окна открыты – туда и ныряют, людям в уши залетают, а те по-своему пересказывают. Слышала я, по молодости Захар нехорошим человеком был. Кто-то говорил, вор. Кто-то – душегуб. Я еще девчонкой была, когда его в эти места сослали, – Матрена опустилась на табурет, подперев кулаком подбородок. Воспоминания, наконец, прорвали плотину молчания, и слова хлынули, сбивчивые и торопливые. – В этих местах, Павлуша, лесозаготовки велись. Если по берегу реки идти да идти, все по течению, то вскорости выйдешь на то место, где бараки стояли. Там арестанты и жили. Нам строго-настрого велели дальше Окаянной церкви не ходить, пугали всякой нечистью. Байки, чтобы девки далеко от дома не бегали и со всяким сбродом не путались. Особенно, когда зону закрыли, а бараки бульдозерами снесли.
– Как снесли?
– Вот так, подчистую, – глаза Матрены заблестели, как слюдяные горошины. – Заключенных перевезли, а куда? Бог ведает! Только Захар остался на поселении, но тихо себя вел, плотничал помаленьку, семьей так и не обзавелся, жил себе бирюком. А потом парализовало его, – бабка помолчала, словно собираясь с мыслями, потом сказала: – Сам говорил, это епитимья за грехи. Да только слухи другие есть.
– Какие же? – спросил Павел, и показалось, что качнулась за окном серая пелена, приникла к стеклу, заволокла дымкой косогор и тени поползли по кухне, свиваясь в клубки и подбираясь к Матрениным ногам. Бабка словно почувствовала, поджала ступни в двойных вязаных носках, и запахнулась шалью.
– На том месте, где бараки построили, – проговорила она, – там издавна места нечистые были. Мне еще моя бабка рассказывала, а ей ее бабка, что леших да чертей там видели. Потому и название место получила – Лешачья плешь.
– Так причем тут старец Захарий и его чудеса?
– А притом, что Захар эти места вдоль и поперек изведал. По деревне пройдись, старожилов спроси… правда, тебе никто не расскажет: чужой ты здесь. А если бы рассказали, то узнал бы, что Захар нет-нет да и уходил в леса на месяц, а то и два. И где все это время жил? Что делал? Того никто не знает. Лишь старая Латка, которая еще прошлый век помнила, говорила, что Лешачья плешь большой силой напитана. Такой, что можно и больных исцелять и мертвых воскрешать. Только никакой человек ее взять не мог, как ни пытался.
– А пытались?
Мысленно Павел уже делал пометки для будущей статьи, и теперь оставалось только разобраться, где заканчивалась реальность и начинался вымысел.
– А то как же! – закивала Матрена. – Латка сказывала, искали. Да не кто-нибудь, а сам Демьян Черных. От него Захар про Слово и узнал.
Павел вспомнил могилу, увитую волчьим лыком. И соляной круг в свете бледной луны. И буквы, прорезанные в дереве.
– Черных, – повторил он и вопросительно поглядел на Матрену. – Уж не родственник ли Черного Игумена?
– Родной дед его, – подтвердила бабка.
Серая хмарь за окном лопнула и потекла гноем, истончаясь и пропуская лучи едва пробивающегося сквозь облака желтоватого солнца. Блики скакнули по окладам икон, и Матрена зажмурилась, заморгала слезящимися глазами. А вот в доме Захария икон не было. И ни у кого из Краснопоясников не было крестов, а только рыбешки, скрученные из медной проволоки.
«Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков…»
– Я видел его могилу на старом кладбище, – сказал Павел.
Бабка приоткрыла рот и всплеснула руками.
– Что ты, Павлуша! Не ходи туда больше! Окаянное место, не хоронят там уже никого…
Осеклась, увела взгляд в сторону. Солнечные блики покружились по комнате и пропали: небо снова заволокло мутью. Павел ждал, Матрена теребила ткань, сминая ее скрюченными пальцами, наконец, сказала:
– Демьян и был последним, кого там похоронили. Потом настоятель наш, отец Спиридон, запретил. Говорит, там нет дороги в царство небесное, где покоятся преступники и душегубы.
– А кем был дед Степана?
– Колдуном, – быстро ответила Матрена и снова осенила себя крестом. – Ох, святой Михаил Архангел, помилуй нас грешных…
«Колдуном», – мысленно повторил Павел и ощутил зуд, какой обычно бывает у журналистов, когда перед носом маячит сенсация. Понятно, почему на эти места положила глаз Софья Керр, вот только глубоко копать не стала, а напрасно.
Здесь, в Богом забытой деревушке, бывшем ссыльном поселении отмечено место с паранормальной активностью. О нем знал местный колдун, который сам хотел добыть силу, но по каким-то причинам не смог, и рассказал о секрете бывшему заключенному. И тот уходил в лес на поиски до тех пор, пока его не парализовало. Епитимья, наказание за прегрешения. Или некий побочный эффект? А потом зазвучало Слово, и недужные исцелились, а утонувший мальчик ожил…
Павел досадливо сморщился. Еще немного подобных сказок, и он сам поверит во всю эту сверхъестественную чепуху, как почти поверил в то, что мертвый брат поджидал его в Окаянной церкви.
Накатила духота. Павел оттянул воротник, кашлянул, глотнув застоялого воздуха, и сказал:
– Что ж, спасибо за разговор, баб Матрена! Непростой сегодня день выдался, нервный. Так голова и кружится. Мне бы на воздух.
– А сходи, сходи, милок, – закивала бабка, с кряхтеньем поднимаясь с табурета. – С умным человеком и разговор приятен. Кому еще байки потравить, коль не приезжим? Местные-то все волком глядят, да ты к ним и не лезь. Расспросит тебя Илья Петрович, о чем надо, и отпустит. Жаль только, не успел исцелиться-то. Ох, горюшко!
Матрена опять завела протяжный причет, но Павел не слушал. Обувшись, он вышагнул на крыльцо и с удовольствием подставил лицо влажному весеннему ветру.
С первой встречи Павел понял: непрост этот старец. Снаружи елейный и благочестивый, а внутри… кто теперь узнает, что за бесы мутили внутри? Старца увезли на вскрытие, избу опечатали, и на Червонный кут опустилась тишина и траур. Павел вышел на дорогу и сощурился, пытаясь разглядеть в едва подсвеченной солнцем дымке, не пройдет ли по косогору знакомая долговязая фигура? Не мелькнут ли красные пояса? Не было никого. Ветер не доносил ни звука из-за плотно запертых дверей. Люди отгородились от смерти, как от чужака. И казалось – выжидали.
Павел повернулся спиной к оврагу и побрел в гору, ориентируясь на купола Троицкой церкви. На ходу мысли потекли быстрее, и подумалось: откуда Демьян Черных знал о тайной силе? Для чего рассказал о ней бывшему ссыльнопоселенцу? Облегчить душу перед смертью? Или, как водится в старинных поверьях, некому было передать собственную колдовскую силу?
«Пошлите в церковь мальчика черненького аль девочку рыженькую. Пусть одну ночь проведет в церкви, жжет свечку и читает Псалтырь…»
Где же тогда находился его внук, Степан?
Павел остановился и оглянулся через плечо, словно опасаясь, что по его следу ползут тени-щупальца. Вдруг захотелось закурить. Павел облизал губы, уже ощущая во рту табачный привкус, и сам удивился этому. Он пробовал курить еще в далеком отрочестве, по наущению брата, но не успел приобрести привычки. А потом трагедия разделила жизнь на «до» и «после», и Павел обходился лошадиными порциями кофе и жевательными конфетами. Он сунул руку в карман, но нащупал только старый скомканный фантик. Павел вытащил его, покатал между подушечками пальцев и отбросил в сторону жестом, каким когда-то Андрей выбрасывал окурок.
В Пуле затрещали помехи, и Павел схватился за колесико, регулируя громкость. Поэтому не услышал, как из-за поворота вынырнул мопед и знакомый голос во все горло закричал:
– Эй, дядя! Посторонись, дядя!
Павел отпрыгнул в последний момент, когда ноги обдало прыснувшей из-под колес щебенкой. Мопед вильнул в сторону, объезжая Павла по дуге, и остановился. Кирюха взлохматил вихры и набычился.
– Вот рассеянный с улицы Бассейной! – воскликнул он и покрутил пальцем у виска. – Не слышал, что ли?
– Не слышал, – помехи, наконец, прекратились, а привкус табака пропал, и Павел с облегчением выдохнул и улыбнулся пареньку. – И горазд же ты гонять!
– А вы так под колеса ко мне и лезете, – буркнул пацан. – Мало мертвяков на сегодня?
– Ну извиняй! – Павел поднял обе ладони. – Тяжелый день, все мысли из головы не идут. Кто бы мог сделать такое?
– Что тут думать! – фыркнул Кирюха. – А то у Захара мало недоброжелателей! Это только с виду все перед ним на пузе ползали, а что за глаза говорили? У-у! Может, смерти и не желали, а уж проклинали по-черному. Даже те, кто рядом. Да вот взять хотя бы Степана…
Он вдруг прикусил язык и ухватился за руль. Щеки побелели, глаза поблекли и вылезли из орбит.
– Давай, дядя! – хриплым от страха голосом проговорил Кирюха. – Поеду я, мне тут надо продуктов у Лешихи взять, а еще…
Павел шагнул вперед и ухватил пацана за промасленный рукав.
– Стой!
Мысли понеслись галопом. Если Демьян Черных, прослывший на деревне колдуном, передал знание о силе не родному внуку, а чужаку, то не мог ли Степан за это ненавидеть Захария? Увивался рядом, прислуживал, выжидая удобного случая. Что он делал этой ночью? Павел вспомнил неподвижную фигуру, подсвеченную луной, и извилистые тени, клубящиеся вокруг Черного Игумена.
– Вот что, Кирилл, – твердо сказал Павел, вынимая из кармана бумажник. – Предлагаю тебе тысячу за неделю пустяковой работы.
– А что надо делать? – Кирюха шмыгнул носом и покосился на протянутую купюру.
– Ерунда! – усмехнулся Павел. – Ты парень местный, юркий. Людям продукты возишь, помогаешь, чем можешь. Всего-то и нужно, что время от времени на Червонный кут поглядывать и запоминать, когда Степан Черных из дома выходит, куда уходит и во сколько возвращается.
Кирюха, протянувший было руку, дрогнул и затравленно глянул на Павла.
– За Черным Игуменом следить? Да ты спятил, дядя?
– Еще пятьсот, – тот вынул вторую купюру. – И столько же, если увидишь что-то необычное. И по рукам.
Кирюха часто задышал, заозирался по сторонам, потом цапнул деньги и сунул за пазуху.
– Идет! – буркнул он. – На что только не иду ради тебя, дядя! А все потому, что здорово ты на моего батю похож! Вылитый просто!
– И ты мне нравишься, – Павел улыбнулся и потрепал парня по плечу. Хотел сказать, что Кирюха похож на покойного брата, но не стал. Вместо этого вспомнил еще: – И второе. Среди этих… Краснопоясников… девушку одну встретил. Молодая, симпатичная, на цыганочку похожа. Так если еще и за ней присмотришь, на исходе недели еще сотню накину.
Глаза Кирюхи блеснули лукавым огнем.
– Никак, влюбился?
– Вроде того. Теперь ты мои глаза и уши. Если что заметишь…
– Сразу к тебе, дядя! – понимающе кивнул пацан. – Только близко подходить к Краснопоясникам не буду, уж не обессудь. Если что – я не я, телега не моя. Понял?
– Договорились!
Они деловито пожали друг другу руки.
– И еще одно, – вспомнил Павел. – Нужно кое-что узнать про вашу деревню. Слышал, из старожилов у вас самая древняя некая Латка. Как бы повидаться с ней, не знаешь?
– Латка-то? – Кирюха почесал затылок и озадаченно нахмурился. – Вообще Лукерья Тихоновна она, и повидать-то ее можно, да только без толку это.
– Почему? Я бы смог ее разговорить, – Павел улыбнулся, но ответной улыбки не получил. Вместо этого Кирюха вздохнул, почесал подбородок и ответил:
– Да потому что, дядя, нет уже в живых нашей Латки. Померла она прошлой зимой.
14. Похороны
Следующий день тянулся и тянулся, как много раз пережеванная жвачка, и был таким же безвкусным и скучным. Павел несколько раз пытался подкатить к бабке Матрене с расспросами про Доброгостово, но после вчерашних откровений хозяйка глядела угрюмо и отвечала односложно. Да, деревня раньше называлась Погостово. Как давно? Когда ныне покойная Латка под стол пешком ходила. Нет, не осталось больше таких древних жителей, все ее, Матренины, одногодки. Из молодежи кто мог уехать – уехал. А вместо них новые обосновались. Те самые, с красными поясами. Чем живут? Что вырастят сами – тем и живут. Старец Захарий с просящих денег не брал, все больше продуктами, зато брал Черный Игумен: то избы подлатать, то кур или козочек прикупить. Да и сами деревенские подношениями не брезговали. Неплохо жили, в общем.
Проговорив это, бабка прикусила язык и замолчала надолго. Видимо, вспомнила скрипучий голос юродивой: «Любишь гроши, Матреша?» И как Павел ни пытался ее расшевелить, разговор сам собой заглох.
Прибегал Кирюха. Покрутился у забора, подождал, пока Матрена не выйдет кормить птиц, только потом юркнул в калитку и постучал в окно.
– Я это, дядя, с докладом! – запыхавшись, скороговоркой протараторил мальчишка.
Павел распахнул ставни и облокотился на подоконник.
– Чего видел?
– Немного, – шмыгнул носом Кирюха и скосил взгляд влево, в сторону птичника, откуда раздавалось кудахтанье кур и приглушенный голос хозяйки. – Полдня вдоль оврага болтался, потом по берегу шнырял, может и упустил чего – близко подходить не решился, ты уж извиняй. Видел, как Черных из дома выходил и с участковым Иванычем говорил. О чем – так и не понял, но знамо дело, о Захаре. Недовольный Иваныч ушел, дерганый какой-то.
– Любопытно, – заинтересовался Павел. – Они друг друга знают?
– Тут все друг друга знают! – усмехнулся Кирюха. – Иваныч сейчас подворовый обход делает, все выспрашивает, кто последним Захарку видел да при каких обстоятельствах. Меня и то спрашивал. Так я прямо сказал, что нах он мне сдался!
– Ладно, что еще видел? – перебил Павел. Может, и правда, участковый с каждым говорил. Человека убить – не кошелек из кармана вытащить. Начальство живым не слезет.
– Еще жена Степана, Ульянка, скотину кормить выходила. Только одна, без психички, – Кирюха поморщился. – И хорошо, что без нее. Не по себе мне, дядя, от Акулины. Особенно после тех слов…
Мальчишка передернул плечами, пугливо оглянулся: не идет ли Матрена? Потом быстро закончил:
– А больше не видел ничего. Только нашел, где твоя цыганка живет. Четвертый дом от оврага, там еще пара таких же чокнутых проживает. Значит, втроем в одной избе.
– А как зовут ее, узнал?
Кирюха мотнул головой и напрягся, глядя в сторону.
– Не торопись, дядя. Все узнается. Погнал я, не то Матрена уши надерет.
И, ужом скользнув к живой изгороди, пропал из глаз.
Павел вернулся к записям. Теперь в его блокноте завелась новая страница со страшным заголовком: «Убийство». Рядом стоял знак вопроса – бледный и мелкий, потому что Павел почти не сомневался: смерть была насильственной. Хотя, подумал Павел, старика могли и нечаянно толкнуть. Много ли нужно паралитику? В пользу этой версии говорили пятна крови на печке. Но рядом валялось полено, и вместо лица была кровавая каша. Значит, добивали уже потом.
Схематично зарисовав положение тела и в который раз пожалев, что не может сделать снимок с места преступления, Павел перевернул лист и подписал: «Кто подозреваемый?»
Их оказалось немало.
Во-первых, Черный Игумен. На него сразу же показала бабка Матрена, а после и Кирюха. Да и сам Павел – если, конечно, принять на веру, что все произошедшее не было сном, – видел Степана той ночью. Куда выходил он и что делал?
Во-вторых, девушка с кошкой. Загадочная и неуловимая, она рассыпала соль на могиле деревенского колдуна и рыскала ночью возле дома целителя.
Наконец, сам Павел.
Рука дрогнула, карандаш процарапал на листе «Верницк…», дернулся, нарисовал дугу и приписал «Анд…»
Павел прикусил губу и густо зачеркнул написанное.
Не было никакого Андрея, и прогулки по кладбищу не было. Павел просто прошел вдоль оврага и повернул назад, чтобы не встретиться с Черным Игуменом, а потом завалился спать. Вот и бабка Матрена подтвердит.
Сумерки погрузили деревню в траур. Низкие тучи, пригнанные северным ветром, накрыли Доброгостово грязно-серой шапкой. Матрена слегла, охая и жалуясь на подскочившее давление. Павел ужинал в одиночку, и опять еда отдавала прогорклостью.
Утром не распогодилось, воздух уплотнился и отяжелел. Над деревней вызревала гроза, и Павел подумал, что ни за что не выйдет сегодня на улицу, только если не случится что-то незаурядное.
Оно и произошло.
Часам к одиннадцати утра привезли гроб с телом старца.
«Уазик» – тот самый, на котором приехал Павел, – притулился в конце улицы. Шофер жевал самокрутку и с полным равнодушием наблюдал, как четверо Краснопоясников вытаскивают из грузового отсека простой, обитый темно-бордовым бархатом гроб.
– Прости, дядя, не уследил, когда Сам из дома ускользнул, – оправдывался запыхавшийся Кирюха. – Чуть свет с Михасем в город подались, а теперь ясно, зачем.
К избе старца стягивались люди, и Павел пристроился рядом с бабкой Матреной, которая нетерпеливо тянула шею и все норовила подойти ближе.
– Рано прощаться! – осаживал любопытных краснопоясник в белой рубахе. – Как понесем, так и подойдете!
– А когда понесете, милок? – спрашивала Матрена и косилась на открытый гроб, убранный пеной оборок, среди которых желтоватого лица покойного почти вовсе не было видно.
– Скоро уже, – недовольно отвечал краснопоясник. – Жди.
– А где хоронить-то будете? – не отставала Матрена. – Мы бы пока дом прибрали да для поминок кутью приготовили.
– Не будет поминок, – неприязненно ответил мужик. – На старое кладбище понесем.
Матрена так и застыла, разинув рот, и ее оттерли подоспевшие старухи. Павел с неприязнью подумал, что в старости появляется нездоровый интерес к похоронам. Краснопоясники все подходили: мужчины в одинаково белых рубахах, женщины – в платках. Их встречал Черный Игумен, говорил что-то совсем тихо и подводил к гробу, где каждый кланялся до земли и отступал в сторону. Женщины давили всхлипы, прикрывая рты покрасневшими от холода ладонями.
– Гляди, дядя! – зашептал Кирюха, дергая Павла за рукав. – Вон твоя цыганка!
Покойному поочередно кланялись девушки – бесформенные платья, опоясанные кушаками, волосы убраны под косынки, лица бескровны.
– Которая? – спросил Павел.
– Та, крайняя! Глаза-то разуй, прямо на тебя смотрит!
Павел вздрогнул, уколовшись об острый взгляд. Девушка отвернулась, мягко скользнула за спину подруги и тут же растворилась в белизне одинаковых рубах и платьев.
– Ульянка одна, без дочери, – сказал Кирюха после некоторого молчания. – Видишь, та баба в сторонке? Это и есть жена Степана.
Павел поглядел: женщина стояла поодаль, ближе к оврагу, и с тревогой оборачивалась за спину, где над Червоным кутом катились облачные буруны.
– А Акулька заболела, – продолжил Кирюха. – Который день из дому нос не кажет, – подумал и снова потянул Павла за рукав. – Как думаешь, дядя, все-таки убили Захара?
– Убили, убили! – вмешалась неподалеку стоявшая бабка. – Слышала, участковый наш говорил, что голову как кабачок раздавили, а потом из осколков собрали, а что недоставало – из гипса вылепили.
– Не болтай, чего не знаешь! – прицыкнул на нее мужик неопределенного возраста с помятым лицом и враждебно покосился на Павла.
«Правду тебе никто не расскажет: чужой ты здесь», – вспомнились слова Матрены.
– Я-то уж знаю! – не осталась в долгу бабка. – Господи, помилуй душу святого старца! Мало того, что умер без покаяния, так еще и на проклятое кладбище несут! Ах ты!
Вперед вышагнул Черный Игумен. Ветер подхватил красный кушак и стегнул им по гробу, как бичом. Степан поднял ладонь, и голоса разом смолкли. Даже старуха, все время бормочущая о покаянии, умолкла и только пыхтела натужно, изредка осеняя себя крестом.
– Братья и сестры! – выдержав паузу, глухо заговорил Черный Игумен. – Были беззаботны наши дни, и пастырь был милостив и добр, направляя овец к вечной жизни и радости. Но недаром сказано в Писании: «Содрогнитесь, беззаботные! Ужаснитесь, беспечные! Сбросьте одежды, обнажитесь и препояшьте чресла!» И вот мы поплатились за свою беспечность. Настал черный день, и наши сердца обуглились от горя, а глаза выплаканы слезами. Чей разум помутился? И кто нанес удар в спину? – Степан обвел тяжелым взглядом толпу, и Кирюха нервно сглотнул и спрятался за спину Павла. – Великий грех – убийство. Но еще более страшно преступление против больных и страждущих, против истинно верующих и молящихся! – голос Игумена окреп и рвал тугую тишину. – Великий грешник тот, кто пошел против Божьего промысла, кто осушил родник с водою живою! Убийца! – выкрикнул Степан, подняв крепко сжатый кулак, и вздох прокатился по толпе. – Знай, что гнев не замедлит! Наказание нечестивому – огонь и червь!
За спиной Павла испуганно икнул Кирюха, и старуха слева – та, что говорила про раздавленную голову, – снова истово перекрестилась. Черный Игумен помолчал, глядя поверх голов куда-то в свинцовую хмарь, потом выдавил:
– Прощайтесь.
И отошел в тень.
Первой заголосила Маланья. Упав перед гробом, завела протяжное:
– Корми-илец! Да как же мы теперь без тебя? Без благословения твоего и ми-илости? Головушка-то разбита-а! И Слово твое молчит…
Ее оттащил рябой мужик. Кажется, тот самый, что вынес из реки утонувшего мальчика, но Павел не был уверен: одинаковые рубахи, бороды и платки смешивались в однородную кашу, а ветер бесновался и набирал силу, завывая в Пуле и наполняя голову звоном.
«Точно гроза будет», – тоскливо подумал Павел и сдавил гудящие виски.
Наконец, подняли гроб. Желтая голова качнулась на подушке – невесомая и сухая, как у кузнечика. Степан поднял крышку, на которой не было креста, и Павел с удивлением отметил, что и венков тоже не было.
– Идет! Отец Спиридон идет! – выкрикнул кто-то.
Люди завертели головами, потом расступились. Кряжистый священник ледоколом врезался в толпу, и Павла обдало запахом мыла и ладана.
– Стойте, богоотступники! – загрохотал новоприбывший. – Не будет Царства Небесного для новопреставленного!
Держа перед собой гробовую крышку, как щит, наперерез шагнул Степан.
– Уходи! – гулко проговорил он. – Не ждали тебя.
Священник остановился, отдуваясь от быстрого шага.
– Ты не ждал, а люди позвали. Негоже без отпевания! Грех на душу не бери!
– Что ни есть – все мое, и не тобой считано, – Степан скрипнул зубами и велел мужикам. – Несите живее! До темноты надо управиться.
Краснопоясники отступили к оврагу. Чей-то мужской голос выкрикнул:
– Ты что, Черных? Дай по-человечески проститься! Всем миром по крохе собирали, чтобы старца в последний путь проводить!
Черный Игумен глянул исподлобья:
– Я не просил.
Краснопоясники отступили еще, и теперь между ними и деревенскими пролегла полоса, как пограничная зона, и по одну сторону стоял Степан, а по другую – отец Спиридон, раздувающий ноздри и пылающий, как печка.
– Я пришел призывать не праведников, а грешников к покаянию! – пробасил он. – Не лишай Захара милости Божией! Не ты, так люди просят!
– Люди что трава, – огрызнулся Степан, и ветер разворошил его волосы, как солому. – Куда дуну – туда и клонятся. А здесь не твоя, а моя паства.
– Паства твоя заблудшая, – спокойно возразил священник. – А слова лживы. Говорил Господь: «Берегитесь лжепророков, которые приходят в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные».
– Уж не я ли волк в овечьей шкуре? – недобро сощурился Степан и сжал кулаки.
– По делам и узнаем. Захар за самонадеянность поплатился, так теперь…
– Молчи! – прошипел Игумен и, отшвырнув гробовую крышку, схватил священника за рясу. – Не тебе судить о расплате!
– Черных, не дури! – крикнул мужик с помятым лицом. У Павла заныло под ложечкой, подумалось: «Сейчас что-то будет…»
Отец Спиридон вцепился в Игумена обеими руками и повторил севшим голосом:
– Не дури, Степан! Приходи лучше на исповедь! Может, тогда грехи деда спишутся, и дочь твоя…
– Акульку не трогай! – взревел Степан и, размахнувшись, мазнул кулаком по переносице.
Священник булькнул горлом и полетел спиной в толпу. Кто-то рванул навстречу, кто-то завопил:
– Гроб! Гроб держите!
Помятый мужик бросился слева, Павел – справа, и вдвоем они едва успели подхватить священника под руки, как раздался грохот. Ветер взметнул пену савана, что-то глухо стукнуло о землю, и старец повернул голову – Павлу показалось, будто плотно сомкнутые веки распахнулись, и между ресниц полыхнуло пожаром. Завизжали женщины, разбежались, как саранча. Потом налетел Степан. Павел только почувствовал, что подогнулись колени, а из легких вышибло воздух. Не удержав равновесия, упал на спину.
Больно ударили в ухо, но на счастье не в то, где крепилась Пуля. Голову обдало противным звоном. Павел ударил в ответ. Кто-то снова закричал. Перед глазами замельтешили черные мушки, сквозь которые проступало перекошенное лицо Степана – его всклокоченная борода набрякла от крови, в глазах полыхал огонь. Жесткие пальцы сомкнулись на горле. Павел не слышал, что повторяет Степан – в ушах колотился пульс, – но по губам прочитал:
– Сгною! Червь!
Мельтешащие мушки слились в сплошное пятно. Павел напрягся, ткнул костяшками наугад, пытаясь попасть в глаза. Степан захрипел и надавил сильнее. Потом его сшибли с ног, и мужики покатились по дороге, меся весеннюю грязь и отплевываясь от слюны и крови.
Павла рванули за плечо.
Глотая наэлектризованный грозой воздух, он растирал шею и пытался сфокусировать взгляд, но видел только склонившуюся над ним белую фигуру. Она терпеливо повторяла и повторяла что-то, совала в руки скомканную тряпку, которую рвал взбесившийся ветер. Павел машинально взял и дотронулся до Пули – не разбил ли? Сплюнул кровавую слюну и выдавил:
– Спа-сибо…
И удивленно умолк, разглядев, наконец, благодетеля – это была незнакомка с кладбища.
На ней теперь не было платка – его комкал Павел, утирая с лица пот и кровь, – черная стружка волос разметалась по плечам. Глаза смотрели встревоженно, губы шевельнулись, повторяя:
– Не лезь! Опасно!
Павел вздохнул и ответил, возвращая платок:
– Не опаснее… чем ночью по кладбищу гулять.
Девушка сморщилась и оглянулась через плечо: там разнимали дерущихся. Покачала головой и приложила палец к губам – тсс!
– Не следи за мной, – тихо проговорила она. – И Червонного Кута сторонись. Скоро сама приду.
С этими словами подскочила и умчалась к Краснопоясникам, где крепкие мужики держали беснующегося Степана, а еще двое укладывали покойного на подушках – его глаза и губы по-прежнему были плотно сомкнуты. Павел с облегчением вздохнул: померещилось. Горло саднило, руки противно дрожали, а ветер все гнал и гнал на деревню тучи, и встревоженно шумела тайга.
С севера надвигалась буря.
15. Гроза
Степан несколько раз вытер ладонью рот, прикушенный язык кровоточил. Хотелось вцепиться чужаку в горло, да не пальцами – зубами. Рвать, как дикий зверь, захлебнуться от ненависти и крови.
Подбежавшая Ульяна путалась под ногами, раздражала дурацким бабьим лепетом. Степан отстранился, глянул исподлобья:
– Ты с Захаркой попрощалась? Ну, так ступай с Акулькой сидеть. Без тебя схороним.
Одернув рубаху, широкими шагами направился вверх по косогору. В спину втыкались колкие взгляды, но Степан не оборачивался: тянула за собой сила. Только не та, в которую верили деревенские дураки и о которой проповедовал местный святоша. Слово было куда древнее, могущественнее и страшнее. Завладей им – и завладеешь жизнью.
Уже погромыхивало вдали. Брат Листар, держащий на правом плече гроб, сощурил белесые ресницы:
– Как бы ливень не начался. Всю могилу размоет.
Позади одобрительно загудели мужики. Степан, не сбавляя шага, бросил через плечо:
– Не размоет. Нет никакой могилы.
Шаги замедлились, потом и вовсе затихли.
– Да как же, батюшка… – ахнула сестра Зиновья.
Ветер зажал ей рот. Степан остановился, медленно повернулся к людям. Они переминались с ноги на ногу и настороженно переглядывались. Под рубахами мужиков бугрились мышцы. Потяни не за ту нить, пророни пустое слово – набросятся.
Степан скрипнул зубами, сдавил кулаки, выдохнул и разжал пальцы – напряжение потекло в землю, как талая вода.
– Братья и сестры! – терпеливо заговорил он. – Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его! Блаженны верующие, ибо во дни скорби не оскудеют духом. Слово есть дух и жизнь. И кто владеет им – то не умрет, а кто свят – тот отмечен печатью Божией. Так скажи, сестра Зиновья, не был ли отмечен Божьей печатью благодетель наш и целитель Захарий?
– Был, батюшка, – едва слышно пролепетала женщина.
– А ты, брат Арефий, скажи, – Степан указал на другого мужика, придерживающего гроб. – Не заслужил ли святой старец милости Божией и не будет ли стоять в Царствие Небесном по правую руку Его?
– Будет, – буркнул мужик, и небо над лесом белесо располосовала молния.
– Иисус сказал: Я есмь воскресение и жизнь! Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек! – Степан поднял ладони вверх и развел их в стороны. – Вот! Слышите?
Он хлопнул над головой. И следом прокатился гремящий раскат. Гроб на плечах мужиков качнулся, и качнулась на подушках голова покойного.
– Так смерть бежит от праведников! – выкрикнул Степан в побелевшие лица. – Как Иисус, спаситель наш, увидел, что Лазарь из Вифании четыре дня во гробе, то воззвал громким голосом: Лазарь! Иди вон! И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Так жизнь побеждает смерть! Так пришло время сказать: Встань, спящий, и воскресни из мёртвых!
Степан указал на гроб. Брат Листар вздрогнул, вцепился побелевшими пальцами в обитые бархатом доски. Пот выступил на лбу брата Арефия, и женщины позади процессии сгрудились кучей и теребили проволочные подвески.
– Сегодня во сне явился мне старец, – уже тише продолжил Степан. – Он сидел на хребте огромной рыбы, и правый ее глаз был как солнце, а левый – как месяц. Вокруг парили небесные ангелы, трубя в медные трубы и славя Господа. И сказал Захарий: Вот, услышал я Слово и принес Его в мир! Посему пройдет день и еще два, а на четвертый воскресну.
– Господи, слава Тебе! – запричитала сестра Маланья, но Степан махнул рукой, и женщина умолкла.
– Посему велю вам, мои братья и сестры! Не предавайтесь унынию и молитесь всю ночь, как я буду молиться в старой Всехсвятской церкви! Если мы воззовем – то Господь услышит!
– Слава! Слава Спасителю нашему! – наперебой зазвучали голоса. Мужики удобнее перехватили гроб, и процессия потянулась к лесу.
Короткий весенний день постепенно перетекал в сумерки. Глухая тишина давила на уши, под рубахой гулял ветер, поднимая волоски на теле, но холода Степан не чувствовал – сердце истекало жаром. Под сапогами чавкала никогда не подсыхающая грязь, ветки пружинили, хлестали по лицу, и Степан с удовольствием обламывал их, представляя, что ломает кости чужака, а еще отца Спиридона и прочих деревенских дурней, осмелившихся разевать поганые рты на него, Степана Черных.
Вскоре тропинка еще больше сузилась, из-под ног выкатывались комья глины, и Степан велел возвращаться по домам, сам встал под левый угол гроба и так, вчетвером, поскальзываясь на размокшей земле, они двинулись к кладбищу.
Над шпилем Окаянной церкви вращалась облачная спираль. Там змеились молнии и из тугой, набитой дождями утробы неслось глухое ворчание. Брат Арефий то и дело поглядывал вверх, тормозя всю процессию и оступаясь на каждом камне.
– Не считай ворон! – прикрикнул на него идущий позади Маврей. – Гляди, упадешь!
– Не упаду! – огрызнулся тот и устало выдохнул. – Недолго осталось.
– Донесем! – подхватил брат Листар. – Нужна ли помощь, Степан?
– Нет, – глухо отозвался Черный Игумен. – Вы уж донесите, а дальше я сам.
Маврей покачал головой.
– В такую-то погоду, – пробормотал он. – Ишь, как бесы разгулялись!
– Бесы всегда святость чуют, и святых искушают, – наставительно ответил Листар. – Справишься, батюшка?
Степан промолчал. Из зарослей волчьего лыка вынырнул крест – деревянный, с крышкой-домиком. Ветер сбросил отмершую хвою прямо под ноги, молния осветила буквы «Дем… Черн…», и белую дорожку, рассыпанную у подножия.
– Листар! – в панике крикнул Степан. – Возьми левее!
Он оступился, гроб на плече подпрыгнул и накренился.
– Что такое? – с досадой отозвался Листар. – В нору какую попал, что ли?
Над головой грохотнуло, и что-то невидимое толкнуло в грудь.
– Вроде того, – глухо сказал Степан. – Не пройду.
Маврей выругался шепотом, мужики потоптались и осторожно отошли в сторону, едва не стесывая бока гроба о сучки накренившейся сосны.
– Так пройдешь, батюшка?
– Попробую.
– След в след ступай! Да не мешкай, того гляди, ливанет!
Листар двинулся вперед, втаптывая в грязь соляные кристаллы. Невидимое натяжение лопнуло и обдало голову едва слышимым звоном. Степан вздохнул и перешагнул запретную черту, проложенную кем-то предусмотрительным и умным, кто совсем не боялся мертвых, но опасался живых.
Церковь разинула обугленный рот и в кромешной темени гроб опустили на пол. Глухо стукнулись доски о доски, покойный качнулся, издав сухой шелест. Только тогда Степан чиркнул спичкой и зажег вытащенную из-за пазухи свечу. Оранжевые блики разбежались по закопченным стенам, осветили мертвенные лица мужиков.
– Идите и молитесь! – тихо сказал Степан. – Верьте – и по вере воздастся нам.
Те поклонились в пояс, попятились к двери – сначала спиной, потом повернулись и, толкая друг друга, выскочили из церкви на воздух, а там понеслись, подстегиваемые ураганом. Степан подождал, пока их фигуры не затеряются среди кустарников и крестов, после чего осторожно запер дверь на новенький, на днях прилаженный засов. Здесь, в церкви, пахло горелой древесиной и тленом. Стараясь не смотреть на гроб, Степан прошел до алтаря и вынул припрятанные свечи, которые не спеша расставил по кругу. Черные языки вытянулись вверх, заплясали под куполом, свиваясь в змеиные клубки. Заколоченные окна осветило белой вспышкой, и сердце дрогнуло, когда бревенчатые стены потряс громовой раскат.
– Не убоюсь ужасов в ночи, – пробормотал Степан. – Ни бесов, ходящих во мраке.
Подошел к гробу, склонился над телом старца – желтоватое, будто вылепленное из воска, лицо было спокойно и неподвижно. Редкие волосы зачесаны так, как Захарий носил при жизни, борода оглажена, под плотно сомкнутыми веками залегли тени.
– Каждому приходит свой срок, – прошептал Черный Игумен и дотронулся до сложенных рук старца. – И червю, и человеку. И тебе, Захарушка, – отбросил укрывающий покойника саван и запустил пальцы в подкладку, нащупывая то, что спрятал, забирая тело из морга. – Жнущий получает награду и собирает плод, – вытащив сверток, Степан развернул его на полу. – Вот теперь говорю: пришло время жатвы!
И взял в руку хирургический скальпель.
Обмотавшись сдернутым с гроба саваном, как фартуком, Степан принялся срезать со старца одежду. От тела шел слабый запах формалина, из-под лоскутов рубахи вынырнул бугрящийся шов – упрятанный в тень, похожий на разлагающуюся змею. Степан вздохнул и осторожно разогнул сложенные на животе руки мертвеца. За стенами зашумели деревья, заскрипели старые доски, и кто-то невидимый и страшный постучал в заколоченное окошко – тук-тук!
Степан замер, так и не разогнув спину. Сердце нервно колотилось, ноздри трепетали, вдыхая острый запах химикатов. Степан вгляделся в узкие щели окон – никого. Лишь выл разгулявшийся ветер, да птицы возвращались в гнезда, чтобы переждать бурю, а здесь, на старообрядческом кладбище, не было ни единой человеческой души. Только он, Черный Игумен. Да еще труп старика во гробе.
Степан выдохнул и сдернул с Захария холщовые штаны, которые разошлись по шву с громким треском. Ноги у старца были иссохшие, острые колени натягивали пергаментную кожу. Степан подумал: тяжело будет резать мертвеца, пока он стиснут деревянными досками, и, обойдя гроб, подхватил старика под мышки.
Тело поддалось легко: смерть иссушила Захария, и он будто уменьшился вдвое, стал легким и бессловестным, покорным воле Степана. Не полоснет теперь острым взглядом, не усмехнется ртом, перекошенным в параличе, и не протянет елейное: «Сте-епушка…»
Шелестящий звук пронесся по церкви, вздыбил волоски на шее и мурашками скатился к пояснице. Степан замер, настороженно вертя головой, но видел лишь танцующие тени, да отблески молний снаружи.
– Не убоюсь… – шепнул Степан. Крякнул и вытащил старца.
Пятки деревянно ударились о края гроба, тело завалилось навзничь и стукнулось затылком о пол. Под волосами и туго натянутой кожей темнел шов, а под ним виднелся гипсовый слепок: разбитый череп действительно собирали по кускам, а чего не достало – вылепили заново. Повернув лицо на бок, старец жег Степана мертвым взглядом из-за плотно склеенных век, но все равно видел. Тени сновали по его лицу, плавили улыбку в углах скрепленного железными скобами рта, сквозняк вытягивал пламя свечей.
Степан вздохнул и снова взялся за нож.
Руки немного тряслись. То ли за многие годы утратилась привычка, то ли давала о себе знать проклятая болезнь. Закусив бороду, Степан торопливо резал нити и рвал края. Пальцы скользили, отпущенное время бежало, как дождевая вода, а потом первые капли ударились о церковный купол.
Дробь раскатилась по крыше, эхо отозвалось и пошло гулять по пустому помещению. Степан вздрогнул и рванул так, что лопнула брюшина, и оттуда вывалились скомканные салфетки и марлевые бинты – все, чем начиняли распотрошенное тело мессии.
– Всякая плоть… трава, – задыхаясь, проговорил Степан. – А всякая трава гниет… и удобряет землю. И на перегное прорастают новые всходы. Так и я взойду… на твоей плоти, Захарушка. И восход мой будет красен.
Он сунул руку в растянутую утробу. Не глядя и стараясь не дышать, отодвинул скользкий бледно-сизый кишечник и вытащил печень и сердце. Ножом пользоваться не пришлось: патологоанатом уже отделил органы, изъял образцы, а потом сложил, что осталось, обратно в брюшную полость.
По ставням стегнуло огненной плетью. Белизной озарило неподвижное лицо старика, высветило внутренности и кости. Степан вздрогнул, покачнулся на пятках, но не выронил ношу. Отодвинувшись, уложил по обе стороны от мертвеца приготовленные дощечки, и слева положил сердце, а справа – печень.
– Как вода дождем к земле опускается, потом в тучи возвращается, так и сила ко мне притянется, у мертвого не останется. Дело первое…
Церковь потряс громовой удар. Стены содрогнулись, и тени хлынули с потолка. Степан зажмурился и вытащил из-за пазухи пузырек.
– Из сухих костей, из черного праха, из белого дыма придет сила. Слово мое, и оно крепко. Дело второе.
Вытряхнул из пузырька измельченные сухие травы, потом чиркнул спичкой и поджег смесь. Заклубились дымные космы, потянуло горелым мясом, и за стенами завыла-зашумела буря, посверкивая молниями сквозь заколоченные окна. Степан снова взял скальпель и тщательно обтер его о саван. Тени упали к ногам и заелозили по доскам, словно шептали:
«Не медли! Накорми нас!»
Степан полоснул лезвием по раскрытой ладони. Острая боль прострелила до локтя, но Черный Игумен подавил вскрик. Выпрямившись, он пошел противосолонь, поочередно стискивая раненую руку над расставленными вкруг свечами. Кровь капала на дощатый пол, и падали с одеревеневших губ глухие слова:
– Забираю глаза, чтобы видеть невидимое. Забираю уши, чтобы слышать далекое. Забираю пальцы, чтобы держать бестелесное. Забираю сердце, чтобы оживлять мертвое. Забираю печень, чтобы обуздать злое. Забираю язык, чтобы нести Слово… – Степан вернулся и встал над запрокинутым лицом старца, выдохнул в клубящийся дым: – Забираю силу – отдаю благодарность. Дело третье, свершенное.
Кровь из сжатого кулака капнула на сомкнутые губы мертвеца. И в то же мгновенье затрещали под напором урагана старые сосны и деревянные кресты. Молния опалила окна, и старец разорвал намертво скрепленные губы и выдохнул в оранжевый полумрак:
– Сте-епуш-ка-а…
Ударил громовой раскат. И Степан, падая, тоже ударился о пол, до крови прикусив нижнюю губу. Вытаращив глаза, он глядел на отпавшую челюсть мертвеца.
– Сте-па! – глухо и басовито повторил старец, и скоба блеснула в разорванном рту, как металлическая кость. Желтые ногти заскребли по доскам, в распоротом брюхе студенисто задрожали пропитанные формалином органы, и Степан зажал пальцами нос, понимая, что его сейчас вытошнит если не от зловония, то от страха.
– Не с того… требуй… кто держал, – прогромыхал покойник, – а с того… кто владеет!
Он повернул голову, и под натянутыми веками завращались мертвые глаза. Степан застонал, пытаясь отползти, но лишь засучил ногами. Страх пригвоздил к полу холодной иглой, и Степан понял, что этот глубокий голос, приглушенный слоями влажной земли, вовсе не похож на голос старца – он пришел из детства, где пахло перебродившим молоком, сушеными травами и разрытой могилой.
Мертвец говорил голосом деда Демьяна.
Степан вдохнул прогорклый и влажный воздух. Он хотел спросить: «А кто владеет?», но ничего не сказал. Игла, пробившая позвоночник, дернулась и проткнула гортань. Степан поперхнулся, ощущая на языке металлический привкус, мышцы напряглись и окоченели, словно это он, а не Захар, лежал с распоротой брюшиной. Словно его, а не Захара, накачали химикатами, заключив тело в неповоротливый панцирь. Глаза закатились, Степан стукнулся затылком о пол и затрясся в конвульсиях.
Он не знал, сколько длился припадок.
Свечи давно погасли, и тьма повисла над миром спокойная и немая. Степан чиркнул спичкой: огонек озарил оплывшие кляксы, выделяющиеся на грязно-серых досках пола. Мертвец лежал неподвижно, приоткрыв разорванный рот – глаза по-прежнему сомкнуты, руки раскинуты, возле гипсовой головы чернеют обугленные куски мяса.
Неподвижный. Молчаливый. Мертвее мертвого.
Из праха вышел – в прах и вернулся.
Разорвав окровавленный саван, Степан обмотал рану чистой тряпицей. Пошатываясь, вышел за порог: до рассвета далеко, но буря затихла, и ветер относил ее к востоку, только дождь по-прежнему лупил в покатые своды и пузырился в раскисшей грязи.
Запирать дверь Степан не стал, только подвинул чурочку к входу: знал, не будет охотников соваться в Окаянную церковь, а пройдет ненастье, сам вернется и похоронит останки неудачливого мессии.
По тропинке шел наугад, цепляясь за ветки и переступая поваленные кресты. Не остановился и у могилы деда, а так и брел до самой опушки, размазывая по лицу дождевые потоки и грязь, пока не потянуло дымом и между деревьями не показались черные срубы. Тяжело переступая со ступени на ступень, поднялся на крыльцо и загрохотал в дубовую, вымоченную дождем дверь – каждый стук отзывался саднящей болью в разрезанной ладони. Сначала никто не откликался, потом в тишине послышались шорохи и торопливые шаги. Лязгнул засов, из проема вынырнуло заспанное лицо Листара. Проморгавшись, тот узнал незваного гостя и забормотал плаксиво:
– Уж я молился! Молился, батюшка, как ты велел, вот только прикорнул на минуточку, а тут…
Степан рывком распахнул дверь, впустив в дом сырость раннего утра и запах дыма и тлена.
– Буди общину, – отрывисто проговорил Черный Игумен. – Свершилось чудо, и блаженный Захарий взошел на Небеса. И, возносясь, оставил меня за преемника. Видишь, грязь на моем челе и кровь на моих руках? Так предсказано: придет человек, облеченный в одежду, обагренную кровью. То будет новый мессия, и имя ему – Слово Божие.
16. О чудесах и лжепророках
Павел не выстоял до конца службы: воздух загустел, кадильный дым лениво тек между людьми, застывшими, как церковные свечи, и вскоре от духоты поплыла голова. Откачнувшись назад, Павел наступил на чью-то ногу, выдавил: «Прос… тите» и, не услышав ответа, вывалился на улицу. Там, глотнув свежести, прислонился плечом к стене и сунул ладонь в задний карман брюк, где обычно держал зажигалку, но ничего не нащупал. Павел раздраженно похлопал по другому карману – снова пусто, и чертыхнулся под нос. А потом замер, округлив глаза и чувствуя, как по коже разбегаются мурашки.
Зажигалки нет, потому что никогда не было, ведь он не курил.
Павел шумно выдохнул и вытер взмокший лоб – не заболел ли? Что-то происходило с ним – нехорошее, жуткое, начавшееся со странного ритуала на берегу Полони. А, может, еще раньше, с просмотра записи, где билась одержимая девушка, выдыхая протяжное: «Чер-во-о…»
Все-таки гипноз?
Вспомнилось, как несколько лет назад в передаче «Тайный мир» показывали гипнотизера, который на расстоянии и от болезней исцелял, и воду заряжал, и на эти сеансы люди собирались целыми семьями. Поговаривали, действительно исцелялись. Как уверуешь – так и будет тебе. Может, и Павел попал под действие такого гипноза? Слишком долго ждал настоящего чуда, и уверовал в исцеление Леши Краюхина, в хождение по воде и воскрешение мертвого брата.
Двери захлопали, и Павел посторонился, пропуская выходящих из церкви людей. Женщины, поворачиваясь к входу лицом, крестились, кланялись, а потом, срывая наспех накрученные платки, шли к выходу, переговариваясь о чем-то своем. Мужик с помятым лицом, виденный Павлом на похоронах, неодобрительно глянул на него, хотел что-то сказать, но раздумал и лишь поскреб заросшую щеку. Вышла и бабка Матрена. Поравнявшись с Павлом, спросила:
– Домой теперича?
– Не сейчас, – ответил Павел. – Хочу панихиду заказать.
Он подождал, пока разойдутся прихожане, добрел до хозяйственного корпуса, глянул на приходской дом, в маленьких оконцах которого горел тусклый свет. Совсем как в Окаянной церкви несколько ночей назад. Открой дверь – и дохнет гарью и тленом.
Павел обтер губы ладонью и повернул обратно к церкви как раз в тот момент, когда из нее вышел священник.
– Отец Спиридон!
Священник остановился. Ветер отбросил со лба длинные кудри, и показалось, что половина лица священника вымазана тьмой, но, подойдя ближе, Павел разглядел, что это только зреющая гематома.
– Закончилась служба, – устало произнес отец Спиридон. – Вечером приходи.
– Мне бы на пару слов, – поспешно ответил Павел. – О старце Захарии поговорить хочу.
– Сколько повторять! – загрохотал священник хорошо поставленным басом. – Не одобряю я решения хоронить убитого без покаяния, да еще на проклятом кладбище! Не войдет он в Царствие Небесное, сколько панихид ни заказывай!
– Я не ради панихид.
Отец Спиридон внимательно оглядел его и наморщил лоб, вспоминая, где видел раньше.
– Приезжий? – наконец осведомился он.
– Просящий, – по-местному ответил Павел, но с ответом не угадал. Священник нахмурился и потрогал подбитый глаз.
– Слышал, как говорится? «Восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса».
– Так, значит, старец Захарий лжепророк? А я своими глазами видел, как он парализованного мальчика на ноги поставил и утопленника оживил.
– Поверил?
– Трудно не верить. Хочу теперь понять, чудо или нет.
Отец Спиридон помрачнел, задумался, раздувая крупные ноздри. Ветер трепал подол сутаны, забирался Павлу под куртку, и послегрозовая сырость остужала голову.
– Вспомнил я тебя, – наконец, сказал отец Спиридон. – Очень ты нашему участковому не глянулся. Взгляд, говорит, цепкий, и бумаги подписывал как не в первой, – усмехнулся и добавил. – А еще вспомнилось, как вчера ты, раб божий, так Степку приложил, что его перекосило всего. Такого он не простит и не забудет.
– В этом не сомневаюсь, – ответно усмехнулся Павел, вспомнив первую встречу с Черным Игуменом и его тяжелый гипнотический взгляд. – А между вами, отец, никак тоже черная кошка пробежала?
– У Степана не кошки, а бесы в услужении, – прогудел отец Спиридон, завел глаза к небу и размашисто перекрестился. – Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, и едящие паству мою, как хлеб? Ведь не страшатся ни кары, ни ада. Сами призвали дьявола, а теперь пожинают плоды… – отец Спиридон вздохнул, снова пощупал гематому, помолчал, потом спросил: – Значит, про Захария поговорить хочешь?
– За этим и пришел. Вижу, не все от соседства Краснопоясников в восторге.
– Не все, – откликнулся отец Спиридон. – Раз так, идем.
Он махнул рукой и широкими шагами направился через двор. Павел поднял воротник куртки, спасаясь от промозглого ветра, и поспешил следом.
Идти оказалось недалеко: изба священника притулилась рядом с церковью и казалась частью церковных построек из-за беленых стен и резных наличников на окнах. На крыше вслед за ветром поворачивался жестяной петушок, несколько перьев в его хвосте были погнуты.
– Заходи, раб божий, – отец Спиридон приглашающе распахнул двери и сам прошел в сенцы, оттирая подошвы ботинок о коврик и снимая их в прихожей. – Зовут-то тебя как?
– Павел.
– Тринадцатый апостол, значит. Ну, входи, Павел, не стесняйся – священник перешагнул порог коридора и густым басом прокричал: – Катенька, душа моя, ты дома?
Павел аккуратно поставил обувь и вошел следом. Из темной комнаты выглянула женщина, поддерживая тугой живот, хмуро глянула на мужа:
– Тише! Раскричался! Ваньку разбудишь.
– А я не один, с гостем, – отец Спиридон поцеловал женщину в лоб. – Поставь нам чайник, моя душа, да принеси баранок. Мы посидим немного, за жизнь побеседуем.
На кухне пахло теплым парным молоком и немного ладаном. Павел сел на свободный табурет, разгладил клеенчатую скатерть и проследил, как женщина степенно накрывает на стол, выставляя вазочку с вареньем, конфеты, соленья и нарезку из балыка.
– Ступай, – отец Спиридон погладил жену по выпирающему животу. – Дальше мы сами. Шуметь не будем.
– На беленькую не налегайте, еще вечерю отстоять надо, – ответила женщина, вежливо, но прохладно улыбнулась Павлу, и вышла из кухни.
Священник крякнул:
– Ох, и язва! Пошто мне такая матушка досталась? Ну да понять ее можно, второго ждем.
Помедлил, пока в доме не наступит тишина, потом полез в холодильник и достал заиндевевшую бутыль.
– Ты как, уважаешь?
– По стопке можно.
– Добро!
Звякнули о стол рюмки, отец Спиридон вытянул зубами пробку и налил до краев.
– Ну, будем! За упокой души Захария!
Перекрестил рюмку, перекрестился сам и опрокинул водку в рот. Павел выдохнул и последовал его примеру. Водка обожгла слизистую, Павел сморщился и сразу закусил балыком.
– Отличный балык! – похвалил он.
– Сами и солим, и вялим, – довольно отозвался отец Спиридон. – Не то, что ваша, городская, магазинная. Ни запаха, ни вкуса – грех один.
– А вы откуда знаете? – сощурился Павел, привычно выровняв на столе рюмки и сдвинув варенье на край.
– Так я сам городской, – усмехнулся отец Спиридон. – Родители глубоко верующими были и назвали в честь Спиридона Тримифунского. Потом в семинарии отучился, а потом Владыка сюда направил. Да только если бы знал…
Он качнул головой и проредил пальцами густую шевелюру. Павел повторил его жест, ненавязчиво дотронувшись до слухового аппарата, и подкрутил регуляторы.
– Я сюда семь лет назад приехал, – начал рассказывать Спиридон. – Почти два года приход без должного присмотра был, тогдашний священник на ладан дышал. Нечисть разгулялась, силу набрала, а я, слепец, не доглядел. И вот расплачиваюсь…
Отец Спиридон помолчал, хмуря густые брови и размеренно жуя балык.
– Не доглядел, да, – повторил он, словно эта мысль и спустя семь лет не давала ему покоя. – Жил себе старец на окраине деревни, бегали к нему люди за советами и излечением, так ведь и на службу ходили исправно. А я бывший семинарист, зеленый, глупый. С Катенькой обвенчались, потом сына, Ваньку, родили. Ох, горе пастырю, бросающему паству свою, и хочется сказать, что, мол, дьявол глаза отвел, да не согрешу перед Богом, на мне вина. На мне полностью.
Вздохнул и плеснул по рюмкам снова.
– Эх, Павел, раб божий! Чтобы глаз твой был всегда зорким, ухо чутким, а рука крепкой, – сказал Спиридон и выпил.
Павел поднес было рюмку к губам, но вздрогнул и только слегка пригубил.
– Откуда вы Черного Игумена знаете? – спросил он, отставляя рюмку.
– Да какой он игумен! – в сердцах ответил священник и потер подбитый глаз. – Лжеапостолы принимают вид Апостолов Христовых, потому что сам сатана принимает вид Ангела света. Говорила мне однажды Латка: Берегись, Спиридон, всего рода Черных! Только что мне за дело было до старых кликуш? Не было тогда никаких Краснопоясников, и Червонного кута не было, а из всех деревенских только и можно было поговорить, что со Степаном. Мы сразу с ним сошлись, на этой самой кухне за рюмочкой-другой такие беседы заворачивали, куда там нашим богословам! – Спиридон хмыкнул и с хрустом раздавил зубами маринованный огурчик. Павел поморщился: запах спирта бил в ноздри, и он отодвинул рюмку еще дальше, почти на край стола, потом машинально тронул нарезку, симметрично располагая куски балыка.
– Так вы дружили?
– Можно сказать. Недолго, правда. Как раз Ванька родился, мы с Катенькой в семейных хлопотах погрязли, а у Степана свои заботы с дочерью были.
– С Акулиной?
– С ней. Потому и душу нечистому продал, чтобы дочь свою вылечить.
– Нечистому – это старцу Захарию?
Отец Спиридон рассмеялся густым рокочущим смехом, потом зажал рот ладонью и обернулся через плечо – не идет ли жена? Помотал головой и усмехнулся:
– Не дьявол Захар, а орудие в руках дьявола.
– Я слышал, – перебил Павел, – будто бы старец свою силу от местного колдуна получил. Демьяна Черных. Знали о таком?
– Как не знать, – ответил священник, – коли это Степанов дед? Степка ведь без родителей рос: то ли на пожаре сгорели, то ли еще при каком несчастном случае погибли, только воспитывал его дед Демьян с малолетства.
Павел потер указательным пальцем нос: на миг вернулся горелый запах, и отдаленный грохот барабанов возник и так же быстро пропал.
– И у меня родители… сгорели, – через силу выдавил он. – Как похоже.
Спиридон покосился на него заплывшим кровяным глазом и, опершись локтями о край стола, наклонился к Павлу.
– Если душу надо излить, – тихо заговорил он, – так приходи на исповедь.
Павел усмехнулся:
– Я в Бога не верю.
– Атеист?
– Можно и так сказать. Вы про Краснопоясников расскажите. Я ведь для этого в Доброгостово приехал.
– А я сразу разглядел, что не просящий ты, – подхватил священник и снова взялся за бутылку. – Тех, просящих, сразу видно. Лицо набожное, взгляд пустой, о Боге говорят, а сами бесов чтят и в голове ветер разгуливает. А дураками, раб божий Павел, управлять легче. Кто домовины не видывал, тому и корыто за диво, – Спиридон опрокинул рюмку, занюхал широким рукавом сутаны и вытер слезящиеся глаза. – Да что ж ты не пьешь?
Павел машинально коснулся рюмки, провел пальцем по ободку, но так и не подвинул, убрал руку и спросил:
– Значит, в чудеса не верите?
– Для начала определимся, что такое чудеса, – ответил Спиридон. – Исполнение желаний? Магия? Что это для тебя, раб божий Павел?
«Воскрешение мертвых», – подумал тот, а вслух сказал:
– Не знаю.
– Так я скажу, – подхватил Спиридон и ткнул в сторону окна. – Там чудо. Вот этот яблоневый сад, и пес в конуре, и река Полонь, и лес за косогором, и небо, и моя Катенька, и мы с тобой, раб божий Павел. Чудо – это сама жизнь, само существование человека и мира в целом. Чудо органично встроено в жизнь христианина, потому что это не только мироточение икон и не глас с неба. Это все, что происходит вокруг. И главное, что происходит здесь, – он положил ладонь на грудь, поверх креста. – В тебе самом. Чудо – не обратить течение реки вспять и не передвинуть горы. Чудо – измениться самому, передвинуть свои грехи и пагубные привычки, обратить вспять страсти. Истинность веры не в пророчествах, а в переменах, которые происходят в людях, от которых вроде бы нельзя ожидать покаяний и перемен.
– Бывший преступник покаялся, – заметил Павел. – И за свои грехи поплатился параличом, но обрел дар исцелять больных.
– Если скажут тебе: вот здесь Христос! Не верь! – Спиридон ударил кулаком по столу, и рюмка, стоявшая на краю, подпрыгнула и опрокинулась на пол с жалобным: дзень! Водка выплеснулась на линолеум, Павел отодвинулся на табурете, наклонился, чтобы поднять.
– Сам уж! – прикрикнул на него священник и сорвал с батареи тряпку. – Ну, сейчас точно весь дом сбежится!
И точно, в коридоре прошлепали босые шаги, а в дверях появился заспанный темноволосый мальчуган лет четырех.
– Папа? – с порога сонно спросил он и сунул в рот палец.
– Что ты, Ванька? – Спиридон мигом бросил елозить тряпкой по полу, подошел к сыну в два шага, наклонился и поцеловал в макушку. – А ну бегом к себе! Мать-то где?
– Уснула, – пролепетал мальчик. – А кто у тебя?
– Гости, Ванька, – Спиридон погладил мальчика по волосам. – Ну, идем, идем! Только тихо, тсс!
Обхватив сына за плечи, он мягко вывел его в коридор и на несколько минут пропал из поля зрения. Павел проводил его понимающей полуулыбкой, ногой задвинул тряпку под стол и ощупал карман, где лежал блокнот – корешок привычно хрустнул под пальцами. Жаль, нельзя достать и записать дословно все, что наговорил священник.
Тот вернулся быстро, виновато отводя взгляд, вздохнул и убрал бутылку в холодильник.
– Подальше от греха, – пояснил Спиридон. – Уж лучше по чайку.
– Не хотелось бы вас утруждать, – вежливо ответил Павел. – Да и пойду я скоро. Вы только про Захария договорите.
– Да что Захарий! – в раздражении ответил Спиридон. – Поговорка есть такая: не все, что сверху, от Бога. А распознать лжепророка можно по плодам: что чудеса порождают в душе человека? Появляется ли равнодушие, злость, корысть? Приводит ли так называемое чудо к отходу от христианской веры? Господь в Евангелие не чудесами вытягивал веру, но в ответ на веру творил чудеса. Если бы Степан Черных молился об исцелении своей дочери, то каждую молитву заканчивал бы словами: «Да будет воля Твоя, Господи». И в этом значительная разница между молитвой и волшбой. Читая заговор, колдун демонстрирует власть над духовным миром, навязывает свою волю. А христианин знает, что тот, к кому он обращается, бесконечно выше его, и поэтому христианин просит, а не диктует Богу свою волю.
– Значит, с Черных вы в вопросах веры не сошлись?
– Не совсем, – хмуро ответил священник. – Поговорили мы однажды по душам. Хорошо поговорили, получше, чем вчера, – Спиридон усмехнулся и намекающее потрогал щеку. – Горько мне было глядеть, как такой человек пропадает. Он ведь врачом был, практикующим хирургом. Для того и в город уехал, чтобы образование получить, потому и с дедом разругался в пух и прах. Та же Латка, упокой Господь ее душу, известная по деревне сплетница, так говорила, что дед Демьян очень не хотел, чтобы внук уезжал. Кому бесовскую силу передавать, как не родной крови? А Степан не послушал.
– Если не послушал, зачем вернулся?
– Потому что не отпускает дьявол тех, кто ему обещан. Большая внутренняя сила нужна и железная воля, чтобы соблазну противостоять. А он не смог.
Оба замолчали. От окна тянуло сквозняком, и Павел следил, как волнообразно колышется нижний край занавески – туда-сюда. Убаюкивающе, как маятник гипнотизера. Веруй и воздастся…
Мама верила, но это не спасло ее от смерти. Верила и бабка, но не смогла вернуть внуку слух.
Павел досадливо поморщился и поднялся.
– Что ж, спасибо за гостеприимство. Не стану больше вас утруждать, но если вдруг еще что-то вспомните, я с удовольствием…
– На вечерю приходи, – перебил отец Спиридон. – Вижу, неспокойно у тебя на душе, раб божий Павел. А к таким, неспокойным, нечистый дух быстрее льнет. Говорил Господь: «Берегитесь, чтобы не прельстили вас, ибо многие придут под именем Моим». Так пришло время отделять зерна от плевел. Сумеешь ли?
– Смогу, – ответил Павел. – Постараюсь.
17. Фокусы Степана Черных
Разговор оставил неприятный осадок. Вроде и слова Спиридон говорил правильные, да сколько их, правильных, было? Наслушался обещаний за десять лет вместо того, чтобы сразу пойти на операцию. Чудо дразнило обманчивой близостью, посверкивало, как блесна на леске, и уводило Павла все дальше – от друзей, от Ани, чей образ постепенно изглаживался из памяти, от всего нормального мира. Ветер шептал в голых ветвях, обещая каждому воздать по вере, и в воздухе густело что-то невидимое, но осязаемое, что раньше принадлежало покойному старцу, а теперь никому.
Сгорбленную фигуру участкового Павел заприметил издалека: Михаил Иванович ошивался возле Матрениного дома, смоля папиросу и теребя замурзанный ремешок перекинутой через плечо охотничьей двустволки. Павел поначалу встревожился и принялся оглядываться, раздумывая, не шмыгнуть ли за живую изгородь и обойти огородами, но вовремя опомнился: что он как мальчишка? Кого испугался?
– На охоту собрались? – дружелюбно спросил Павел, поздоровавшись.
Участковый растянул потрескавшиеся губы в вежливой улыбке и уклончиво ответил:
– Да вот проходил мимо и решил заскочить. Илья Петрович велел вам привет передавать.
– А что кроме привета? – спросил Павел и машинально сунул руку в карман, где лежал сложенный вдвое листок с номером дежурной части.
– А кроме привета просил ваш телефончик напомнить, – ответил Михаил Иванович и достал блокнот с воткнутым за тугие пружины карандашом. – В протоколе вы так и не указали.
– Простите, – вежливо, но неискренне сказал Павел. – Я нечасто пользуюсь телефоном, разве что сообщение написать.
– И все же? – участковый выжидающе поднял взгляд.
– Наизусть не помню, а при себе не ношу. В доме оставил.
– Так вы сходите?
Павел согласно кивнул и поднялся по порожкам, ощущая спиной прицельный взгляд.
Телефон обнаружился в кармане спортивной сумки. Аккумулятор был разряжен, и Павел, чертыхнувшись под нос, перерыл вещи в поисках зарядки. Нашел, воткнул вилку в розетку возле кровати – экранчик вспыхнул зеленоватыми огоньками и тут же зажужжал в ладони Павла. Он помедлил, прежде чем нажать на оранжевый конвертик. Сердце взволнованно стукнуло: а вдруг это Аня? Передумала, соскучилась, простила. Павел опустился на кровать, не в силах поверить в написанное: «Ты как?»
Потом увидел имя абонента – Нина.
Павел пролистал еще два: «Почему молчишь? Напиши» и «Евген Иваныч спрашивает, как добрался? Напиши!»
Сглотнул колючий ком разочарования и, сжав пальцами переносицу, закрыл глаза.
Чудес не бывает.
Вздохнул, нажал «ответить» и отбил короткое: «Добрался хорошо. Останусь еще на неделю». Подумал, говорить ли о совершенном убийстве? Сенсация получится громче, чем в «Тайном мире» Софьи Керр. Павел облизал нижнюю губу, дописал: «Старца убили» и нажал «отправить».
Участковый терпеливо ждал на улице, вымарав штакетник папиросным пеплом. Павел внутренне улыбнулся: заметит бабка Матрена, поднимет крик на всю деревню.
– Простите, Михаил Иванович. Искал долго.
Павел надиктовал номер. Участковый, зажав папиросу зубами, старательно записал в блокнот, убрал в карман, подтянув спадающее с плеча ружье.
– Я что хотел спросить, – сказал он, быстро помаргивая рыжеватыми ресницами, – свидетели сообщили, что вы последний, кто видел Захария перед тем, как его убили.
– Кто же такое сказал? – осведомился Павел, а про себя подумал:
«Степан Черных…»
– Свидетели, – повторил Михаил Иванович. – Вы, Павел Николаевич, старца до дома провожали после того, как утонувшего мальчика спасли. Так или нет?
– Так, – согласился Павел. – Но я только до калитки проводил. А там…
Он запнулся, вспоминая: густеющие сумерки над деревней, перекошенная изба, и жмущаяся к забору женская фигурка.
– Ульяна, – повторил Павел возникшую в голове подсказку. – Так ее назвал старец. Сказал, за дочерью пришла.
– Вот как, – буркнул участковый и потянулся за новой папиросой. – И в дом, значит, не заходили?
– Поужинал и лег спать. Баба Матрена подтвердить может.
– Проверю.
Михаил Иванович совсем скуксился и, надвинул на лоб фуражку, торопливо попрощался.
– Удачной охоты! – крикнул вдогонку Павел.
Михаил Иванович вздрогнул, повернулся через плечо:
– Не желают удачи. Примета плохая.
Сплюнул под ноги и, сутулясь, перешел на другую сторону улицы, будто обходил опечатанный дом Захария.
Вернувшись, Павел обнаружил на телефоне два пропущенных звонка от Нины и три от Евген Иваныча. Телефон настойчиво моргал, требуя: «Позвони!»
Запах сенсации за считанные минуты долетел от Богом забытой деревеньки до Тарусы. Павел улыбнулся и нажал на кнопку вызова. Трубку сняли моментально, и голова тотчас наполнилась свистом и звоном. Павел вздрогнул и отодвинул телефон от динамика Пули, за треском помех просачивалось неразборчивое:
– Паша! Ты…
И невнятная, но все равно узнаваемая ругань.
– Погодите, Евген Иваныч! Я вас почти не слышу… – Павел перевел телефон в режим совместимости. – Скажите теперь что-нибудь.
Евген Иваныч сказал – забористое и недвусмысленное, закончив лаконичным:
– Рассказывай! Что со старцем?
– Убили старца, – ответил Павел. – Четыре дня назад. По предварительным данным – поленом по голове. Местные органы попросили задержаться до выяснения.
– Выяснять-то они до ишачьей пасхи могут! – в сердцах ответил Евген Иваныч. – Ты-то что делать собрался? Как хочешь крутись, а материал чтобы мне на стол!
– Когда я подводил? Проведу собственное расследование, материала на разворот хватит. Вы правы, золотая жила эти Краснопоясники.
– К июньскому номеру успеешь?
Павел прикинул, выудил блокнот с записями, пролистал и с сожалением ответил:
– Вряд ли, к июльскому сделаю. Мне бы аванс…
В динамике снова зашипели помехи, а, может, это Евген Иваныч недовольно пыхтел в трубку, но все же сказал:
– Постараюсь выбить, в течение недели жди перевод.
– Буду ждать, – сказал Павел и, прежде чем попрощаться, попросил передать телефон Нине.
– Здравствуй, Нинель! – радостно поприветствовал он.
– Что такое, Верницкий! – послышался в ответ возмущенный женский голос. – На очередь в Казановы за Артемом записывайся!
– Я о помощи попросить хочу. Сходи в нашу библиотеку, спроси Ирину Петровну. У нее есть материал о Доброгостове. Узнать бы, что здесь до ссыльного поселения было. Сделаешь?
Нина пообещала, и Павел оборвал связь. Хватит ли месяца, чтобы разобраться во всех тайнах? Он подтянул блокнот, пролистал до страницы со списком подозреваемых: Степан Черных, девушка с кошкой, густо зачеркнутое Анд…
В ухе неприятно кольнуло, Павел потер кожу под звуководом. Был кто-то еще, кого он не записал. Женщина, которая убиралась у старца? Маланья? Она тоже, но уж очень достоверно убивалась по погибшему, будто собственного мужа хоронила. Павел вспомнил, как сидела она возле сарая, утирала распухший нос стащенным с головы платком, протяжно подвывая: «Осироте-ли-и!»
А мог ли убить отец Спиридон?
Криво усмехнувшись, Павел вписал и его имя. Был между священником и самозваным пророком конфликт? Наверняка был. Не с ним самим, так с его последователями. Устранив причину, устранишь и следствие.
И была еще женщина. Та, которая встречала старца Захария после странного ритуала на берегу Полони.
Ульяна…
Где он уже слышал это имя? Да вот как раз вчера на похоронах. Кирюха дергал Павла за рукав и показывал на женщину, гнусавя тихое: «Видишь, та баба в сторонке? Одна, без дочери. Акулька захворала…»
Павел послюнявил карандаш и дописал в самом конце списка: «Ульяна Черных. Жена Черного Игумена…»
В окно деликатно стукнули.
Грифель сломался, прочертив по бумаге кривую борозду. Павел выпрямился и выронил карандаш: из окна на него смотрела кошка.
Она важно прошлась по подоконнику, дугой выгнула спину и покосилась на Павла, будто говоря ему: «Ну, вот я и пришла. Что же медлишь?»
Он поднялся, ощутив, как от волнения намокает спина. Журналистское наитие подтолкнуло к окну, и Павел видел будто со стороны, как его рука протянулась к раме, как дернула защелку шпингалета. Кошка по ту сторону стекла улыбнулась чеширской улыбкой, потом прыгнула вниз.
Павел дернул раму на себя. Рассохшееся дерево поддалось не сразу, шпингалет заелозил туда-сюда, выдавливая стружку засохшей краски. Павел поддел пальцами раму, скребя краску ногтями, рванул снова. Вот почти…
Она поддалась с громким «…тррак!», в лицо ударил запах сырого дерева, и Павел откачнулся, ударившись плечом об угол шкафа, но боли не почувствовал. Им вдруг овладело странное беспокойство, как однажды в кабинете, когда он чужим почерком писал на «склеротничке» пугающее «Чер-во…», как во сне, где была заколоченная церковь и мертвый брат у алтаря…
Беспокойство, пришедшее извне: чужое, странное, не его. Что-то сродни одержимости.
Павел вскарабкался на подоконник, тяжело, как марионетка, ведомая неумелым кукловодом, пьянея не то от подскочившего адреналина, не то от уличной свежести, и, боком протиснувшись в оконный проем, спрыгнул на пропитанные дождем грядки. Из-под ног брызнула вязкая грязь. Под кустами смородины вспыхнули кошачьи глаза. Сознание Павла будто разводилось, и шепот благоразумия пенял ему: «Дурак! Куда тебя несет? Это всего лишь кошка…» Второй голос звучал сильнее, он дрелью ввинчивался в правый висок, и настойчиво бубнил: «Иди и смотри! По вере воздастся тебе…»
Кошка покружилась вокруг оси, вздернула хвост и одним махом вспрыгнула на штакетник. В глубине двора залился лаем Матренин пес, загромыхал цепью, но так и не показался из-за угла.
Выпростав ногу из раскисшей грязи, Павел шагнул к забору. Острые иглы крыжовника вцепились в штаны. Павел рванулся вперед. Выставленные ладони со всего маха впечатались в штакетник, и кошка плавно спрыгнула по ту сторону забора и села, настороженно поджав переднюю лапу и склонив голову чуть на бок. Идешь ли следом?
Перелезть забор оказалось делом плевым. Павел перевалился через штакетник и очутился позади домов. Отряхнув ладони от налипшей краски, а колени от сора и с сожалением заметив, что на правой брючине красуется длинный разрез, оставленный шипом крыжовника, Павел выпрямился и огляделся.
Волнующее напряжение понемногу сходило на нет, сердце по-прежнему колотилось, но уже не так быстро и беспокойно, и Павел осознал, что стоит на склоне косогора, за которым простирался пустырь, поросший борщевиком и крапивой. За пустырем щетинисто вырастала тайга, встряхивала мокрыми после дождя ветвями и тихонько дышала в полудреме. Не было ни тропинок, ни дорог, и не было никого вокруг: Матренин дом скрывали разросшиеся яблони и кусты шиповника, стоявшая на отшибе изба покойного старца утопала в зарослях сорняка, и черная покосившаяся крыша торчала, как шляпка червивого подберезовика. А если спуститься по склону к оврагу, можно зайти к Червоному куту со стороны пустыря, и никто не проследит за Павлом, никто не увидит его приближения.
Кошка поднялась и снова покрутилась, дергая острым хвостом. Поочередно мигнула малахитовыми глазами: сначала правым, потом левым.
– Не подмигивай, – строго сказал Павел. – Веди, если позвала.
Кошка развернулась и невозмутимо потрусила к оврагу. Павел вздохнул, еще раз обтер ладони о свитер, и двинулся следом.
Склоны поросли бурьяном так густо, что кошка без опаски бежала по сплетенным над оврагом корневищам. Павел перебирался мелкими шагами, то и дело цепляя на штаны и свитер сухие репьи. Избы Червоного кута маячили в отдалении, одинаковые и влажно поблескивающие, точно скопление опят. Грязно-серое небо нависало над крышами, едва не цепляясь клочковатыми облаками за печные трубы, и даже издалека отчетливо виднелись белые кляксы рубах и длинные ленты кушаков – Краснопоясники сгрудились перед домами, так много их Павел видел только на похоронах. Что собрало их теперь?
Павел пригнулся, стараясь затеряться в зарослях бурьяна, и замедлил шаг. Где-то в высокой траве сгинула кошка, но Павлу больше не нужен был проводник: теперь его подстегивало любопытство. Ветер сдувал со лба намокшие волосы, и Павел держал перед лицом согнутую в локте руку, поглядывая поверх нее и щуря воспаленные глаза. Все ближе. Вот уже ветер доносил отрывистые слова:
– Я сказал… и приведу… в исполнение! Предначертал и… сделаю…
– Славься, Господи! Славься! – надрывно вопили в толпе.
Пояса плескались по воздуху, как плети. Из-под белых косынок женщин выбивались волосы, залепляя бледные лица. Все они смотрели перед собой, сложив на груди ладони, а впереди, возвышаясь на добрую голову над паствой, стоял Степан Черных. И под рукой, как назло, не было фотоаппарата.
– Слышите? – громыхал Игумен, глядя поверх голов в низкое небо. – Господь говорит… моим голосом. Это Он… моими глазами… десница простирается над Доброгостовым!.. видит всех: грешных и правед… сластолюбцев и… близок Его гнев… а Слово – разяще. Будет ли прощение?
– Не будет! – завопил женский голос. – Нет прощения убийц…!
– …аам! – подхватили другие.
Под ногой Павла хрустнула ветка. Он остановился, сгорбившись в три погибели и прижав ладонь к груди, слушая, как тревожно колотится пульс. И едва не вскрикнул, когда чьи-то пальцы сомкнулись на щиколотке.
– Тсс! – прошипели откуда-то снизу. – Пригнись!
И дернули за штанину.
Павел послушно плюхнулся на четвереньки и увидел рядом с собой белое от испуга знакомое лицо.
– Ты!
Девушка тут же накрыла его рот ладонью: от кожи пахло молоком и травами. Потом качнула головой, из-под косынки выбились смоляные кудряшки, и настырно прижала палец к губам: «молчи!»
– Ты послала кошку? – совсем тихо спросил Павел.
Девушка утвердительно кивнула и умоляюще прижала ладони к груди, ткнула пальцем сквозь бурьян, туда, где стояли Краснопоясники. Павел подвинулся ближе и тронул за плечо:
– Не бойся. Я читаю по губам…
Девушка поежилась от прикосновения и задрожала, но не отодвинулась, только округлила губы и почти без слов выдохнула:
– Сте… пан…
То, что девушка прячется от Черного Игумена, Павел и так понял. Ветер доносил бессвязные слова, и было ясно, что Степан повторяет то же, о чем говорил на похоронах: об убийстве старца и о расплате за содеянное. Но что-то тревожное – в поведении ли незнакомки, в реакциях сектантов, в обезумевшем облике самого Степана, – настораживало и мучило ожиданием неминуемой беды.
«Он… взял… Сло-во», – прочел по губам Павел. – «Те-перь… он… месси…»
– Я-а! – прогрохотал могучий Степанов бас. – Я есмь Слово Божие… и гнев! Придет день… пылающий как печь. Тогда все… поступающие нечестиво будут как солома… попалит их грядущий… не оставит ни корня, ни ветвей.
Девушка рядом с Павлом зажала ладонями уши и закусила губу, а сам Павел осторожно отодвинул ладонью заросли и глянул.
Черный Игумен жадно пил из большого прозрачного кувшина, словно его мучила жажда. Наконец, опустив его и вытерев рукавом бороду, обвел горящим взглядом паству и прохрипел:
– Скорбит Господь, видя нечестивые дела. Неверие разъедает души, как гниль.
– Веруем, батюшка! Спасение наше! – вразнобой прогудели мужские и женские голоса, но Степан отмахнулся.
– Слышал я, – продолжил он, – как многие говорили: «Вот, старец Захарий умер, а ты не стоишь перста его. Если ты – Бог, так накажи преступника, если гнев, то где твои стрелы?» И вот я отвечаю вам, как отвечал Господь фараону, царю Египта, – он наклонился и выдернул из-под ног обструганную щепу. – «Теперь ты узнаешь, что я – Господь! Посохом, который у меня в руке, я ударю по воде Нила, и вода превратится в кровь. – Степан опустил щепу в воду и прижал ко дну. – Рыба в Ниле умрет, река станет зловонной, и египтяне не смогут пить из нее». Так и я взываю: «Господи! Если Ты говоришь через меня, то покажи нечестивцам всю силу Своего гнева! Преврати эту воду в…»
Женщины взвизгнули, потом громко выдохнули мужчины. Со своего места Павел увидел, как вода в кувшине окрашивается в багрянец. Рядом прерывисто задышала незнакомка и впилась острыми ногтями в Павлово плечо.
– …кровь! – мрачно докончил Степан и, отступив, со всей силы хватил кувшин о камень.
– Господи, помилуй! Прости за грехи наши! – донеслось из толпы.
Черный Игумен нагнул голову и обвел паству тяжелым взглядом.
– Я сделаю так, – глухо проговорил он, – чтобы во всех реках и водоемах вода превратилась в кровь. Даже в стеклянных и глиняных сосудах. Такова будет расплата за неверие. Я накажу мир за зло, а нечестивых за беззакония, и это – мое первое наказание…
– Батюшка, не гневись! – завопила женщина и первая бухнулась на колени. – Лукавый с пути сбил! Все он, он! Антипка!
Следом за ней бухнулся на колени мужик, рванул на шее крученую подвеску и захрипел:
– Не гневись, батюшка! Не со зла, а только по бесовскому наущению…
– Бесы к тому приходят, кто им свое сердце с охотой открывает, – ответил Степан. – Каешься ли?
– Каюсь! – с жаром подхватил Антип. – Любое наказание приму!
– Тогда будет тебе десять плетей, – холодно сказал Степан. – А тебе, Авдотья, пять. – И ткнул пальцем в толпу: – Ты, Листар, и ты, Маврей, проследите.
От Краснопоясников тотчас отделились двое мужиков и подхватили под руки рыдающую женщину, а Павел вспомнил, что именно они несли на плечах гроб с телом старца Захария, и снова ощутил на языке горелый привкус. Облизал губы – привкус пропал.
– Остальным молиться за упокой души Захария, – продолжил Черный Игумен. – А если среди вас есть убийца, то сроку даю до вечера. Придите и покайтесь, ибо близок час моего гнева.
18. Новое знакомство
– Чертовы фанатики! Ерунда это все! Фокус!
Девушка испуганно глянула, переплела на груди пальцы, сжимая подвеску-рыбку.
– Фокусы это, – повторил Павел, сердито отцепляя от рукава сухие колючки: пока бежали через пустырь, насобирали их вдоволь. – Добавление индикатора вроде фенолфталеина, он краснеет в щелочах и солях. Как вариант – реакция роданистого аммония и хлорного железа. Залепить кристаллик аммония в воск, прикрепить в щепке, а потом раздавить в заранее подготовленном сосуде – вот тебе и библейское чудо.
– Он пил из кувшина…
– Кувшин можно подменить или добавить хлорное железо чуть позже.
– Выходит, нет у Черных никакого Слова?
– Выходит, нет, – Павел встряхнул пальцами: колючки хоть крошились в труху, но упрямо впивались в кожу крохотными якорьками.
– Что ж ты тогда побежал?
– А ты чего?
Глянули друг на друга: лица встревоженные, побелевшие. На девичьей гладкой щеке алела припухлость от хлестнувшего наотмашь борщевика.
– Боюсь его, – шепнула девушка, зябко поводя плечами. За ее спиной гулял в бурьяне ветер, паства разбрелась по домам, и над Червоным кутом повисли дымные клубы, косматые и седые, как свалянная шерсть.
– Если боишься, почему не уйдешь? – раздраженно спросил Павел.
Она опустила ресницы и вдохнула, накручивая на палец пружинистый локон:
– Не могу. Некуда идти: ни семьи, ни родителей. Был один дед, и тот оставил…
Сказала и умолкла на полуслове.
– Зовут-то тебя как?
– Леля, – имя перекатилось на языке, как сладкая карамель. – А здесь Аленой зовут.
Она снова поправила косынку, но непослушные кудри не желали прятаться под белым хлопком и выпрыгивали то на виске, то надо лбом.
– Ты меня не выдавай, – попросила Леля. – Узнает Черных, что я за ним следила, убьет.
– Не выдам, – сказал Павел, – если расскажешь, что делала ночью на кладбище.
Леля покосилась, но вдруг рассмеялась, встряхнув головой, отчего косынка снова сползла на затылок и кудряшки рассыпались пушистым облаком.
– А ты ведь тоже за мной следил! – сказала она. – Выходит, прав Черный Игумен, что не за исцелением приехал? Зачем тогда?
– Хотелось на чудо посмотреть. Я по ним специалист.
– Увидел?
– Как вода в кровь превращается? Такими фокусами и школьника не проведешь. Дураки, кто верит.
Леля посерьезнела, поджала губы.
– Человек отчаявшийся и запуганный во что угодно поверит. Особенно, если своими глазами видел, как утонувшего мальчика оживили. Степан спал и видел, как силу получить, а теперь себя мессией называет, воду в кровь обращает, сомневающихся наказывает. – Леля стиснула белыми тонкими пальцами ворот рубахи и длинно выдохнула: – Страшно мне, муторно… Нехорошее чую.
«У-уу!» – в отдалении взвыла собака, и голова наполнилась треском и скрежетом, словно ножом провели по сковородке. Павел болезненно сморщился и зажал пальцами звуковод: в последние дни слуховой аппарат частенько сбоил, и Павел нервничал, скреб ногтем ребристое колесико настройки. Леля наблюдала, сдвинув черные брови.
– Случилось уже, – процедил Павел. – Убили старца, а я тебя в эту ночь рядом с его домом видел. Интересно, знает об этом Илья Петрович?
– И я тебя видела, – отозвалась Леля. – Об этом тоже никто не знает.
– Я вышел по… – «покурить», едва не сказал Павел и, коснувшись губ кончиком языка, поправился: – воздухом вышел подышать.
– А я кошку искала.
– На кладбище?
Вой повторился, но быстро смолк, точно пес захлебнулся сырым воздухом. Леля хмыкнула, привычным жестом заправив за ухо кудряшки:
– Далеко проследил. Что же видел?
– Как соль сыпала и колдовала. Как возле дома старца крутилась.
– Три хода посолонь, на растущей луне, – подхватила Леля, – как ангел хранитель караулит с утра до вечера, так соляной круг сохранит от зверя и волка, от наговоренной иголки, от суда и расправы, от ножа и отравы…
Она запнулась, быстро дыша и теребя подвеску – вот-вот порвет.
– Охраняла, значит? – усмехнулся Павел. – От кого же? От мертвого колдуна?
– Зачем от мертвого, когда живой рядом? Только в иные места ему соваться незачем, – спокойно ответила Леля. – Через заговоренную соль не пройдет, а если наступит – споткнется.
– И кто же этот колдун? – шутливо спросил Павел, но улыбка сразу исчезла с губ, когда он вспомнил: тот, кому умирающий Демьян не передал силу, внук его… – Степан Черных?
Леля кивнула. Павел поежился, прогоняя морозец, дотронулся до проволочной рыбки:
– А оберег не помогает?
– Если не веришь, то не поможет.
– А во что верил Захарий?
Нет, Павел не сомневался, что старец шарлатан, что исцеление Леши Краюхина, изгнание бесов и спасение утонувшего мальчика – сложные фокусы, до которых еще далеко Степану Черных. Но если сам таежный мессия не верил в свою силу, во что верил тогда? В дурацкие наговоры? В охранный круг из соли?
– Он верил в Слово, – сказала Леля, и воздух вдруг разорвал громовой раскат. Над темной шапкой тайги с гомоном поднялась воронья стая. Леля обернулась, напряженно вглядываясь в туманную взвесь, сказала встревоженно: – Михал Иваныч охотится. Скоро вернется. Пора мне.
Она приподняла длинный сарафан и метнулась по косогору вверх.
– Стой! – Павел ринулся следом, но репейник с обеих сторон впился в его рукава цепкими коготками, потянул назад. Леля обернулась – вся в белом, как привидение, только смоляные вихры пушатся из-под платка.
– Я пришлю Белолапку, – негромко сказала она, старательно округляя рот, чтобы Павел точно услышал, прочел по губам и понял. – И помни: никому ни слова!
Повернулась и побежала по склону, подпрыгивая в бурьяне, только ветер трепал сарафан. Павел не стал ее догонять.
Перелез забор, обломав ветки смородины. Увидит бабка Матрена – крику будет на весь двор, но в окнах ни огонька, хлопают на ветру распахнутые ставни, жалобно дребезжит стекло. Павел придержал раму, надеясь, что бабка не сунется в его комнату и не увидит, как ее постоялец, словно деревенский хулиган, лезет в окно. За такими выходками Павел и в детстве не был замечен, в отличие от брата. Уж тот был мастер авантюр: когда все засыпали и над дачами болезненно вспыхивали желтушные фонари, Андрей выскальзывал из-под одеяла – в джинсах и толстовке, – и выныривал во двор, где его ждала местная шпана, передавая по кругу дотлевающий бычок. Звал и Павла, но брат трусил и отступал, а вот теперь и сам оказался на месте Андрея.
Аккуратно закрыв за собой ставни, Павел нашарил под кроватью брошенный туда блокнот и ничком рухнул на одеяло. Там, где со страниц под жирно подчеркнутым «Подозреваемые» теснился список имен, Павел обвел «девушка с кошкой» и подписал рядом – Леля.
– Ле-ля, – повторил он вслух. Голову слегка повело, в пальцах появилась дрожь, и снова вернулся табачный привкус, точно и не пропадал никогда. Павел вытер рукавом рот и под именем написал «ведьма».
Она верила в охранный круг из соли и старинные наговоры, верила, что Степан – черный колдун, представляющий для людей опасность. Она не хотела, чтобы Черный Игумен смог подойти к дому старца, и не хотела, чтобы он появлялся на старообрядческом кладбище. Почему? Ответ пришел сам собой: там находилась могила Демьяна Черных. А еще заколоченная церковь, прозванная в народе Окаянной. Там Павел встретил мертвого брата…
Он замер над блокнотом.
Воздух уплотнился и пропах табаком, легкие саднило, словно в них насыпали песка, и черные закорючки букв начали складываться в узнаваемые черты: вот «О», выпученное и лишенное век, вот лоскуты «Л», «В» и «Д», затертые рукой и свисающие, как обгоревшая кожа со щек. Жирные подчеркивания слились в сплошную линию, проводом наушников убегающую под капюшон.
Андрей ухмыльнулся, показав желтые клетки зубов, и шепнул в самое сердце Павла: «Жить за тебя… буду…»
Блокнот захлопнулся, как охотничий капкан, перекусив карандаш пополам. Павел отпрянул, прижимая к груди руку – еще немного, и лишился бы пальцев, а сердце отстукивало испуганное: «Этого не может быть! Этого не может быть… Этого нет!» Обломки грифеля чернели на белой простыне, будто обугленные кости.
Задребезжала расхристанная рама.
Павел обернулся, заливаясь холодной и липкой волной накатившего страха, ожидая увидеть в окне не то мертвого брата, не то черную кошку, не то покойного колдуна Демьяна, но над подоконником торчала всклокоченная голова Кирюхи. Прижавшись носом, он открыл рот и выдохнул прямо в стекло, оставляя на нем влажные разводы:
– Дя-дя-а! Пус-ти, дядя! Важное дело есть!
Павел сомнамбулой прошел к окну. Деревянные пальцы не гнулись, соскальзывали с задвижки. Кирюха нетерпеливо приплясывал по ту сторону стекла: глаза выпучены, верхняя губа оскалена по-собачьи. Подтолкнув раму снаружи, Кирюха ввалился через подоконник и, захлебываясь слюной, сразу зачастил:
– А что я видел, дядя! А что видел!
Прикрыв рамы, Павел остался у окна, глядя не на Кирюху, а мимо, где на кровати остался отброшенный блокнот.
– Я ведь едва свалил! – тараторил Кирюха. – Засек меня, дядя! Гадом буду, засек! Только поймать не смог. Я сначала по улице, потом огородами, огородами! Потом через забор… И как в омут провалился!
– Куда провалился? – механически отозвался Павел, не сводя взгляда с блестящего панциря кожзама.
– Да в подпол же! – крикнул Кирюха. – Не слышишь, рассказываю?
Павел на автомате крутанул колесико на минимум.
– Не ори. Не на пожаре.
– Да я и не ору, дядя, – удивленно ответил Кирюха. – Ты же глухой вроде, так я и рассказываю, чтобы…
– А ну-ка, глянь туда! – перебил Павел, сморщившись от собственного слишком громкого голоса. – Что видишь?
Кирюха умолк и с явным неудовольствием полуобернулся назад.
– Блокнот видишь?
– Не слепой.
– А ну открой!
Кровь ударила в голову, как в барабан: Павел сжал на коленях взмокшие кулаки, наблюдая, как Кирюха тянется к блокноту. Вот взял в руки, вот открыл наугад…
– Ле-ля, – по слогам протянул Кирюха и оскалил в ухмылке молодые зубы. – Твоя цыганка?
Павел выхватил блокнот:
– До чего любопытный! – а про себя подумал с облегчением: «Почудилось».
Пролистнул на всякий случай, но не увидел ничего, кроме собственных записей. На слове «ведьма» карандаш пошел вкривь и вкось, уродуя гладкий почерк Павла.
Переутомился. Разнервничался. Вернется с материалом – как раз лето, а там можно в отпуск и на море…
– Так это моя работа, любопытным быть! – ответил Кирюха, продолжая довольно скалиться. – За это мне и платишь, дядя.
Павел промолчал, и, спрятав блокнот за пазуху, сгреб обломки карандашей. Вздохнул, ладонями растирая лицо, потом попросил тоскливо:
– Кирилл, у тебя закурить есть?
Мальчишка с готовностью полез в карман.
– Держи, дядя. Последнюю от сердца отрываю.
Чиркнул зажигалкой, подсаживая на кончик сигареты алого светлячка. Павел затянулся. Горло сразу обожгло, и он согнулся в кашле.
– Что ты, дядя? Что ты! – в удивлении лопотал Кирюха, заботливо хлопая Павла между лопаток, пока тот выплевывал прогорклый дым и вытирал брызнувшие слезы. – В первый раз, что ли?
– В… первый, – сипло ответил Павел. Отдышался, высморкался в платок, и затянулся снова – на этот раз осторожно, корнем языка ощущая табачную горечь. Сердце теперь колотилось спокойнее, тише, голова приятно кружилась с непривычки, и Павел заухмылялся, представив себя перепуганного, бледного, с обломанным карандашом в руке. Проклятые Краснопоясники: так хорошо мозги промывают, что даже после их проповедей галлюцинации мучают.
– Так что ты видел? Расскажи.
Кирюха прикурил тоже – врал, что отдал последнюю, – и повторил уже спокойнее:
– Говорю же, за Черным Игуменом я следил, как ты и велел. И до того доследился, что еле ноги унес.
– Я Игумена около получаса назад в Червоном куте видел. Ты-то когда успел?
– Утром еще. Я, дядя, свою работу четко выполняю. Как мать на утреннюю дойку уходит, так я сестру покормлю и тут как тут. Слежу, как Бобик из конуры. За это, дядя, ты мне еще полтинник должен.
Павел замер, не донеся сигарету до рта:
– Грабитель!
– Сам сказал, что надбавишь, если необычное увижу. Я и увидел.
«И не ты один», – подумалось Павлу снова, вслух же сказал:
– Будет надбавка, не тяни. Говоришь, чуть не поймали тебя?
Кирюха закивал, тыкая сигаретой куда-то за спину:
– Там, с другого конца деревни. Ты, наверное, помнишь, как мы от станции ехали, я тебе старую школу показывал. – Павел не помнил, но согласно кивнул. – Сейчас там магазин, а неподалеку Лешиха живет, к ней еще Тимоха из Гласова заезжает. Да и много кто заходит, самогон у нее первый сорт. Я когда увидел, куда Сам направляется, офигел. Неужто за самогоном? А ведь непьющим прикидывался.
Павел снова кашлянул, растерянно огляделся, выискивая, куда бросить окурок: комната полнилась туманом, тумбочка, шкаф и пирамида подушек качались в растекающемся дыму, Кирюхины слова падали в вату, но все-таки Павел слышал каждый слог, точно мальчишка говорил прямо в динамик:
– Да где там! Не к Лешихе он шел, а прямо к дому старой Латки. Помнишь, дядя, рассказывал тебе? Та, что в прошлом году померла.
Павел крякнул и раздавил окурок о край вазочки.
– Так вот, – продолжал Кирюха, ноздрями выдувая дым, – изба старая, дрянная, хуже, чем у Захарки. С прошлого года пустой стоит, крыша обвалилась, весь двор бурьяном зарос. Хотели сначала на продажу выставить, да кто такую рухлядь купит? Эти, – Кирюха дернул подбородком в сторону окна, и Павел сразу понял, что речь идет о Краснопоясниках, – если и приезжают, в Червоном куте селятся. А нормальных сюда не дозовешься, все городские стали, вроде тебя, дядя. – Кирюхин окурок метким щелчком отправился в ту же вазочку, а взгляд исподлобья показал все отношение к городским. – Я уж не говорю о том, что Краснопоясники редко в эту часть деревни заглядывают, а может и внимания не обращал. Дурак! – он с досадой почесал себя согнутым пальцем над бровью и пожал плечами: – Да что теперь! Знал бы раньше… только и Черных не знал. Но что-то искал, это я сразу понял. Вертелся возле дома, вынюхивал. Я хорошо за ржавым грузовиком спрятался, оттуда и видел. Сам покрутился-покрутился, а потом в калитку и прошмыгнул.
– А ты за ним? – улыбнулся Павел, вспоминая собственное путешествие через пустырь. Еще не все колючки со свитера выбрал, вон, одна блохой скакнула на одеяло. Павел прижал ее ногтем, и колючка раскрошилась коричневой трухой.
– А я за ним! – подхватил Кирюха, сильнее округляя глаза. – Ты не думай, дядя, я ведь аккуратно. Так, что веточка под ногой не хрустнет, я в этом мастак! Сидел в бурьяне, пока Сам под окнами Латки вынюхивал. Нервничал он, озирался, может ждал кого-то? Я уж и дышать перестал, а Черных носом потянул, как собака. Представляешь, дядя? И нырь в избу! – мальчишка хлопнул по колену, и Павел вздрогнул. В Пуле снова заскрежетало, он тронул настройки и с удивлением обнаружил, что дальше крутить некуда. Опустил руку, вздохнул:
– Дальше?
– А дальше я едва не попался, – Кирюха нервно сглотнул. – Хитрый он, все-таки услыхал меня. Ждал, когда следом полезу, в дверях ждал, далеко не ходил. Я, дурак, и полез. Там темнотища, глаз коли! Я руки выставил и нечаянно его в спину толкнул! Ох, что тут началось! – Кирюха зажмурил один глаз, скривился. – Он меня за шиворот – цоп! «Кто? – спрашивает. – Отвечай, паскуда!» Я как дуну, дядя! В ногу его лягнул, извернулся, чуть куртку ему не оставил, и деру, нах! Как беляк, через весь бурьян в два прыжка перемахнул! А он-то сзади! И на улице ни души, все на службе. Я подумал, что на дороге он меня быстро догонит, решил спрятаться. Ну и поскакал на задний двор. Там из бурьяна сарай торчит, я туда. Дверь давно с петель сошла, только и держится, что краем в землю вросла. Вот такие щели! – Кирюха растопырил руки. – Я туда! И ух! Как подо мной пол проломится! А я как покачусь! Хорошо, не вскрикнул, иначе бы Сам точно услыхал, тогда не сидеть мне тут с тобой.
Павел задумчиво хмурил лоб, тер нижнюю губу, смакуя на языке табачную горечь, пробурчал под нос:
– Интересно, с чего Игумена туда потянуло? Почему не в дом старца?
– Значит, в доме старца ему искать нечего, – ответил Кирюха, и зрачки беспокойно вильнули.
– А в доме Латки? Да еще год спустя? Выходит, там есть, чего?
– Выходит, есть.
– Что-то ты мне не договариваешь, – сердито сказал Павел, как обрубил, и хлопнул ладонью по одеялу. – Выкладывай начистоту! Уговор, помнишь?
Кирюха быстро закивал, полез за пазуху и выудил грязную тряпицу.
– Вот, дядя. Доказательство прихватил, да не одно.
Развернув тряпицу, он вытряхнул на одеяло что-то серое, иссохшее: вытянутые лапки, пятнистое брюхо. Сушеная жаба!
Павел брезгливо отпрянул.
– Где взял?
– В подполе, куда провалился, – понизив голос, ответил Кирюха. – Чернота была, как в трубе. Я сначала шевельнуться боялся, думал – Степан найдет, не поздоровится. Потом рукой-ногой дернул – вроде, цел. Сел на задницу, внизу – доски. И пахнет гнильем и лекарством. Странно так, дядя. Я зажигалкой щелкнул и увидел… – он придвинулся еще, зашлепал губами, по слогам вышептывая то, что не нужно слышать никому, и чтобы понял только Павел: – Там пол-ки. Как у нас в пог-ребе, куда мать со-ленья ста-вит. И тоже бан-ки, банки… Я взял од-ну, думал – огу-рцы после Латки оста-лись, толь-ко не огурцы там бы-ли, а кос-ти!
– Кости?
Кирюха хлопнул себя ладонью по губам, качнул головой: тише! Потом взволнованно облизал губы и продолжил:
– Не знаю, звериные или… чело-вечьи. Жутко, дядя! А в другой суше-ные жабы. А еще тетради… – Кирюха выудил тугой рулон, расправил на постели. Края давно истрепались, пожелтели, клеенчатый переплет шел пузырями. – Гляди сам, а никому не показывай. Ух, я страху натерпелся, пока из подпола вылезал и обратно бежал! Огородами да вкруг!
– А Черных? – спросил Павел, быстро пролистывая тетрадь. Кирюха вытянул шею, кося любопытным глазом на каракули, пестреющие «ятями».
– Черных ушел, наверное, – неуверенно ответил мальчишка, и его слова теперь текли через странные фразы, едва разбираемые Павлом: «Встану язъ рабъ Божій (имя рекъ) благословясь и пойду перекрестясь въ чистое поле подъ красное солнце, подъ младъ свѣтелъ мѣсецъ, подъ частыя звѣзды, мимо Волотовы кости могила…»[1]. На последнем слове Павел вздрогнул и захлопнул скользкий переплет, выхватывая Кирюхино: – …спугнул его кто-то или нарочно отвлек. А там и люди со службы пошли. Я хотел сразу к тебе, дядя! Прибежал – тебя нет, нах! Вот, дожидался.
Он замолчал, собирая в морщины гладкий лоб, потом спросил:
– Дядя, а помнишь, что про меня Акулина сказала?
Павел нехотя отложил находку. Старинные буквы покачивались в накуренном воздухе как елочные игрушки, позвякивали, утаскивали в тайну.
– Лягушачью кожу в костер, а себе приговор, – прошептал Кирюха и съежился. Старинные слова-заклинания лопнули и осыпались пеплом. Павел поднялся.
– Вот что, Кирилл, – сказал он и вытащил из бумажника тысячные. – Держи премиальные, заработал. Бери, не бойся! Они же и расчетные.
– Как это? – растерялся Кирюха, протянул руку, подержал на весу.
– А так! – Павел пихнул бумажки в его ладонь. – Деньги твои по совести. А теперь тебе другое задание: держаться подальше от Степана Черных и от Червоного кута тоже.
Кирюха молчал, раздувая ноздри, мял в пальцах купюры.
– Там, в подполе, еще много всего, – пробурчал он. – И Степан не знает… остальное забрать бы, а, дядя?
– Заберу, – твердо сказал Павел. – Вот как стемнеет, так и схожу. Только ты больше ни во что не ввязывайся. Не шуточное это дело. Ну? Обещай мне!
Кирюха сопел, думал, наконец, кивнул и со вздохом спрятал деньги в карман.
– Не справишься ведь без меня, дядя. Я б тебе место показал и фонарь принес.
– Фонарь принеси, – согласился Павел. – А ходить со мной запрещаю.
19. Из огня…
Весь день и до самых сумерек Павел перелистывал найденную Кирюхой тетрадь, продираясь сквозь прыгающие закорючки: собрание заклинаний, переписанных аккуратно, от руки. Водя пальцем по строчкам, Павел читал полушепотом: «Чтобы видеть во снѣ средство оте болѣзни, нужно на Николинъ день лечь спать въ церковной оградѣ, а на ночь проговорить слѣдующее…»
Выцветшие кляксы прожигали кое-где пожелтевшие листы, чернила плыли. Телефон прогудел сообщением: «От И.П. привет!»
Значит, Нина уже в городской библиотеке, в гостях у Ирины Петровны. Наверное, пьет зеленый чай с шоколадными печеньями и болтает о всякой ерунде, как принято у женщин. Некстати вспомнилась и Аня…
Павел досадливо захлопнул тетрадь. Хотелось курить, оттого и мысли рассыпались. Надо бы освежить голову, а там и до вечера недалеко.
К бабке Матрене пришла соседка и стекло о стекло зазвенели рюмки, а по кухне поплыл крепкий дух самогона. Для приличия предложили Павлу, но он вежливо отказался, сославшись на здоровье, и соседка прицокнула языком:
– Что за мужики стали, или горький пьяница, или совсем не пьющий. А мы по десять капель для сердечной радости. Ну, кума, за упокой души раба Божия Захара!
Пили в тишине, не чокаясь, и Павел, обуваясь, услышал от двери:
– Так где же похоронили горемыку-то?
– На старом кладбище. А где точно? Не говорят, окаянные.
«Надо спросить у Лели», – решил Павел и вышел за порог.
Сумерки легли под окна, вывернув сизое брюхо. В отдалении порыкивал гром, но гроза обходила Доброгостово стороной, и тугие тучи скользили мимо, унося подальше от деревни червивые клубки молний.
Павел спугнул жмущуюся к забору парочку и чужим трескучим голосом попросил закурить. Коренастый парень молча протянул мятую пачку. Павел вытащил сигарету, машинально сунул во внутренний карман, к блокноту и обломку карандаша, выровнял их пальцами – одно к другому, проверил, на месте ли Кирюхин фонарик и камера.
В деревне не заблудишься: ориентиром служила маковка Троицкого собора. Бойко отзвенели колокола, оповещая окончание вечерней службы, эхо еще долго дрожало и переливалось в вечернем воздухе. С гиканьем по улице пронеслись мальчишки, швыряясь друг в друга комками глины. На них сердито прикрикнула мимо проходящая женщина и скользнула по Павлу виноватым взглядом. Он сдержанно улыбнулся и повернул от церкви налево, к почте. Вот магазин, а там уже видна продавленная крыша, до конька поросшая бурьяном.
Дом старой Латки.
Павел прогулялся по грунтовой дороге дальше, к лесу, изредка делая снимки и пережидая, пока опустеет улица. Он не сомневался: Латка водила дружбу с местным колдуном Демьяном и знала, откуда пришло загадочное Слово. Надеялся, что другие записи, о которых болтал Кирюха, прольют свет на темное прошлое деревеньки.
По грунтовке протрясся грузовичок прямо к дому Лешихи. Из кабины, кряхтя, вылез мужчина в низко надвинутой на лоб кепке и боком протиснулся в калитку. Забрехала Лешихина собака, окно подмигнуло желтым глазом, дверь быстро отворилась и также быстро захлопнулась: хозяйка приняла гостя, и улицу объяла долгожданная тишина. Нащупав в кармане фонарик, Павел крепко его сжал и, оглядевшись, спиною ввалился в бурьян.
Дом – не дом, трухлявая глыба. Из нее, дырявя крышу, перла молодая поросль. Павел зажег фонарик, и оранжевый луч полоснул по голым окнам. Стекла давно побили мальчишки, лишь кое-где топорщится колючая бахрома. Под ногами хрустнули битые черепки, и Павел замер, сразу же выключив фонарик и испуганно глядя по сторонам. Темнело быстро, крест Троицкого собора перечеркивал небо; далеко, над растрепанной гривой тайги, утробно ворчала гроза. Под козырьком Лешихиного дома покачивался фонарь, и тени врассыпную катились через улицу, ныряли в бурьян, подальше от света и жизни.
Павлу было любопытно заглянуть внутрь. По словам Кирюхи, именно там поджидал его Черный Игумен, и на какой-то миг Павлу почудилось, что он и правда стоит перед домой. Да и не сам Степан, а дед его, колдун Демьян – тощий, косматый, расставивший высохшие руки. Павел подобрался, выстрелил оранжевым лучом – фонарик высветил поваленную березу.
«Идиот!» – голосом Евген Иваныча обругал себя Павел, щелкнул вспышкой, но снимок получился неважным. Павел сплюнул в досаде и двинулся в обход к сараю.
Он сразу приметил, где продирался Кирюха: трава примята, на кустах чертополоха голубел комковатый пух от свитера. Стараясь ступать след в след, Павел протиснулся к сарайчику, вросшему в землю едва не по самые оконца, забрызганные землей и туго спеленатые вьюном. Дверь, как было сказано, перекошена и намертво вошла в грунт, оставив треугольный лаз, из которого несло гнилью. Зажав нос, Павел посветил в проем фонариком: оранжевое пятно заплясало, отразилось от заржавленных обручей перевернутой лохани и ухнуло в черный провал – почти у порога, почти под самыми ногами. Шагни неосторожно и костей не соберешь.
Павел осторожно протиснулся внутрь, обтерев курткой заплесневелые стены. Присев над провалом, посветил вниз: подпол оказался не таким уж и глубоким, как показалось по рассказу Кирюхи, ну да у страха глаза велики.
От волнения приподнялись все волоски на коже: скоро в руках окажется уникальный материал, за который многое отдала бы ведущая «Тайного мира». Павел усмехнулся в темноту, представив лицо Софьи Керр, когда она поймет, как близко была к тайне Доброгостова, прошла по краю, но не потрудилась наклониться и подобрать.
Зажав в зубах фонарик и опершись ладонями о доски, Павел спрыгнул в провал. Подошвы заскользили по глине, и Павел грузно бухнулся на пол.
– Зар-раза! – прошипел он.
Фонарик тут же выпал изо рта и укатился во тьму. Дрожа от напряжения, Павел ощупал сначала Пулю, поправляя соскочившую дужку звуковода, потом ногу: в лодыжке разливалась тянущая боль – подвернул, как пить дать.
Он зашарил в темноте: под пальцами скользила раскисшая земля, тянуло тленом, старостью, лекарствами. Так пахло в домах знахарок, куда Павла по молодости таскала бабушка. Он был уверен, что подними голову – и увидит развешенные гирлянды из грибов и сушеных трав. На полках, как и сказал Кирюха, будут банки с вонючими мазями, сушеная лягушачья кожа, самодельные свечи… в общем, типовой набор доморощенного колдуна, только и умеющего, что бормотать предсказания и дурить людей дешевыми фокусами.
Наконец, нашарил фонарик. Едва не стукнувшись лбом о продавленную полку, Павел осторожно выполз на середину и сел, вытянув пострадавшую ногу. Свет заюлил по стенам, темнота разбежалась по углам. Павел запрокинул лицо, вглядываясь в торчащие над головой ломаные зубцы досок, чуть дальше от них болтался высохший хвостик шнура – здесь когда-то висела лампочка. Вдоль стен – крепко приколоченные полки. Только не было ни банок, ни трав, ни тетрадей: голые стены окружали Павла.
Он удивленно привстал, но, дернувшись от боли, сел снова.
«Дурак, дурак, дурак!» – вихрем пронеслось в голове.
Выходит, соврал Кирюха? Вот только зачем?
Оранжевое пятно перебиралось с одной пустой полки на другую, по ржавым гвоздям, по восковым потекам, оставленных свечами. Нет, не соврал пацан. Были тут свечи, и книги были: между досками белел оторванный лоскут. Павел быстро подполз к нему, аккуратно потянул на себя – какие-то имена и фамилии, напечатанные на пишущей машинке: «Копылов Федор Дмитриевич… Меркушев Никита Петрович… Силин Георгий…» На девятом имени лист обрывался.
Павел в волнении привстал, фонарик всколыхнул полумрак, обшаривая полки – ничего! Кто-то был здесь до Павла, кто-то дочиста вылизал подвал.
Кто?!
Сердце взволнованно стукнуло, и грохнуло над головой. Оранжевый луч выстрелил вверх и вместо того, чтобы рассеяться в пустоте, испуганно замельтешил по доскам. Грохнуло снова, доски задрожали и поползли, перекрывая собой дыру. Вниз посыпались труха и грязь.
– Эй! – заорал Павел и взвился во весь рост. Жар полыхнул от лодыжки, метнулся выше, к бедру, оранжевые мушки брызнули по сторонам и завертелись перед глазами. Фонарик снова упал и погас, погрузив подвал в могильную тьму.
Ухватившись за ближайшую полку, Павел замер и тяжело задышал, привычно подкручивая громкость в Пуле, но даже при выключенном аппарате все равно бы почувствовал, как дрожит от шагов потолок.
– Эй, там! – выкрикнул снова и ударил в стену. – Тут человек внизу!
Кровь ударила волной, Павел упал на карачки и заелозил по грязному полу: где, где фонарь? В ладонь вошла длинная щепа. Павел сцепил зубы и застонал сквозь них, дрожа от ярости и бессилия. Щепку вытащил, тут же переломил надвое. Под колено что-то подкатилось, он машинально накрыл ладонью и ощутил ребристую металлическую поверхность. Щелкнул кнопкой, свет пыхнул и медным пятаком покатился по углам.
– Дурак, дурак! – ругая самого себя, Павел обшаривал западню: тесные стены обступали со всех сторон, с потолка сыпался сор, лодыжка ныла. Он снова попробовал подняться, опираясь о полки. Наступил на обе ноги, но не вскрикнул, только выдул из ноздрей горячий воздух. Если стоять спокойно, можно терпеть. Главное не дергаться и не паниковать. Не впервой.
– Дай только выбраться! – прохрипел Павел и выругался. Обтер фонарик о куртку, зажал между зубов, подтянулся, поднатужился и обеими ладонями уперся в доски над головой, как в гробовую крышку. Они загромыхали, подскакивая от ударов, но не поддались.
– Ч-черт! – выцедил Павел и прислонился спиной к стене. – Я все равно… все равно выберусь… узнаю… не поздоровится!
Фонарик подмигнул беспечным глазом, блеснул панцирем черный жучок и, выбравшись из щели, быстро-быстро побежал вниз.
– Черт, – повторил Павел и обтер взмокшее лицо.
Ори, не ори, а никого не дозовешься. Над Доброгостовым текла весенняя ночь, вдали перекатывался гром, лаяла соседская собака. Никто не услышит запертого в ловушке Павла, никто не придет. Разве что бабка Матрена спохватится, не получив плату за постой. Да еще Кирюха…
– Кирю-ха-а! – во всю мочь заорал Павел и, собрав силы, обеими кулаками грохотнул в потолок. Доски подпрыгнули, что-то тренькнуло снаружи, сквозь щели потянуло дымком.
Павел задышал через рот, обводя подвал лихорадочным взглядом. Пульс колотил в висках. Кровь ударит – и схлынет, ударит – и схлынет. В слуховом аппарате потрескивало неприятно, страшно.
– Лю-ди! Сюда! И-эх!
Подпрыгнул, ударил плечом, потом кулаками. Кожа – в кровь, лодыжку будто опустили в крутой кипяток, и из щелей меж досок ползли сизые дымные струйки.
Павел окоченел. Какое-то время стоял, пошатываясь, хватаясь за воздух и обводя блуждающим взглядом полумрак: тот наливался сизым маревом, качался, туманно плыл. Все нестерпимее тянуло гарью, все отчетливее трещало в Пуле – не шум электрических помех, а отголосок пожара. Павел замотал головой и поднял ладони к ушам, и в то же время внутри черепа взревели гитарные рифы.
Паника подожгла его изнутри, как сухой валежник.
Глухо вскрикнув, Павел плечом врезался в полки. Трухлявое дерево хрустнуло, сорвалось с ржавых гвоздей. Фонарик закрутился под ногами, по-змеиному стреляя желтым языком. Подвал завертелся каруселью: свет – тьма, свет – тьма. Павел ударил в потолок еще. И еще раз! Доски трещали, шатались. Дым валил клубами, и где-то далеко-далеко – за стенами сарая, за городом, в другой жизни – неслась пожарная машина, хрипя и надрываясь сиреной.
Задыхаясь и зажимая пальцами нос, Павел стянул куртку. Собачка цеплялась за ткань, рвала молнию. Руки тряслись, и Павел путался в рукавах.
«Смерть! Смерть! Сме-ерть!» – ревели в голове басы.
«Нет-нет-нет-нет!» – болезненным стуком отзывалось в груди.
Ему казалось, что в кромешной темноте и дыму клокочет желтое пламя. Оно облизывало стены, растекалось вверх и в стороны, глодало доски, окрашивая их в уголь. Углем станет и Павел: мертвый брат, наконец, дотянулся до него через годы, и здесь, в Богом забытой деревне, пришел отплатить смертью за смерть.
– Нет, нет!
Он выполз из куртки, как змея из кожи. Почудилось, что наверху прокатился грохот и кто-то знакомым голосом, срываясь, закричал ему:
– Дя-дя-а! Дядя Паша!
Дымная лапа облепила лицо. Павел закашлялся – тяжело, муторно, до рвоты. Слюна потекла по подбородку, по щекам – слезы. Руки тряслись, обматывая куртку вокруг головы, и теперь окрик прозвучал глуше:
– Дяд… Па-ша! Сюд… а! Ну!
– Я здесь, здесь! – замычал Павел в пропитавшуюся дымом ткань. Он вскинул руки и слепо зашарил по стенам: дерево, дерево, труха, копоть…
Горячие пальцы поймали его ладонь, сжали:
– Скор… эй!
Потянули на себя. Павел собрал остатки сил и прыгнул. Одной рукой ухватился за доски, второй – за плечо спасителя. Боль устремилась от лодыжки вверх. Павел зарычал по-звериному и рванулся снова. По спине царапнули чужие пальцы, сграбастали рубашку в горсть, дернули со всей силы.
«Скорее! Скорее! Скорее!»
Павел подтянулся на руках. Брючина зацепилась за ржавый гвоздь и треснула, где-то совсем рядом лопнуло стекло. Вскрикнув, оглушенный Павел повалился ничком и пополз, обтирая живот о дощатый пол. Кто-то помогал ему, причитал, тащил за куртку. Павел не слышал ничего, кроме гула огня и визгливых гитарных аккордов. Дым разъедал легкие, страх подгонял:
«Скорей, скорей!»
Подальше от искореженных машин, автострады, крови, дыма, погибших родителей и брата…
– Дядя Паша! Ну твою-то маму! Живой?
Его тормошили за плечи, пытались выпутать из куртки. Павел выдохнул и снова вздохнул – длинно, со свистом. Воздух все еще пах дымом, но уже не был столь едким и душным, мокрую спину оглаживал ночной ветер.
– Ж-жи… – прохрипел Павел, сдернул куртку и зашелся в кашле, сплевывая желтую слюну и сгибаясь пополам. Легкие драло наждаком, глаза нещадно резало, и сквозь слезы Павел различил перепуганное лицо Кирюхи.
– Ну, ляха-муха, слава те, Господи! – пробормотал пацан и размашисто перекрестился. – Ну, дядя, думал, конец тебе!
Павел разогнулся и вытер рукавом лицо. Желтое зарево полыхало, растекаясь по крыше, жадно пожирая бурьян. Земля тряслась от топота ног, тряслась пожарная машина, трясся сам Павел. К дому старой Латки подтягивались люди, одинаково черные, будто вымазанные сажей. Визжала женщина:
– Тушите, тушите! Ох, лишенько! Сейчас полыхнет!
Выла пожарная сирена.
– Сле… дил, все-таки? – захлебываясь кашлем, прохрипел Павел и покосился на Кирюху. Пацан сглотнул, мотнул головой, вроде отнекиваясь, но потом согласно кивнул и проворчал:
– С тебя, дядя, надо глаз не спускать. Если бы не пришел, то так бы и погорел!
И улыбнулся широко, во все зубы.
– Видел… кто поджег? – спросил Павел.
Кирюха тотчас же посмурнел и нахохлился:
– Не видал. Но знаю…
Замолчал, тяжело сопя, утирая испачканное лицо и глядя на дорогу. Павел обернулся: размашисто шагая, к нему спешил участковый.
20. …да в полымя
По дому сновали вертлявые тени, приникали к изголовью больной. Акулина металась по кровати, разлепляя губы, обложенные налетом, и бормотала что-то бессвязное.
– Степан! – в страхе кричала Ульяна. – Опять жар!
Растерянная и осунувшаяся, она вся тряслась и гладила спутанные волосы дочери.
– Амоксициллин давала? – устало спросил Степан и потрогал лоб Акулины влажной, пахнущей мылом ладонью.
– Давала, – жалобно откликнулась Ульяна. – И морс из клюквы давала, и обтирания делала. Почему никак не проходит, Степушка?
Он промолчал и сел рядом, взял маленькую руку Акулины в свою.
– Ну что ты, милая? – ласково позвал он. – Поправляйся уже, моя хорошая. Будет тебе хворать…
Под желтыми, как пергамент, веками девочки заворочались глазные яблоки, и Степан похолодел: вспомнилась жуткая ночь в Окаянной церкви, восковое лицо покойника и его утробный голос, ударивший в уши, как в набат.
Степан наклонился и быстро поцеловал горячую и сухую ладошку, погладил, наблюдая, как Акулина силится разлепить склеенные веки, но не может.
– Врача бы, Степушка, – робко сказала Ульяна.
– А я чем не врач? – угрюмо откликнулся Черный Игумен и тоскливым взглядом окинул придвинутый к кровати столик, заставленный пузырьками и заваленный таблетками, достал из ковша отяжелевшую губку, отжал: вода потекла между пальцев.
– Самый лучший! – донесся в спину задыхающийся шепот Ульяны. – Самый лучший, Степушка! Ты ведь поможешь нашей доченьке, да? Поможешь, правда?
Она схватила его руку, и Степан обернулся и вздрогнул, встретившись с глазами жены – влажные, они горели, точно в лихорадке, в зрачках поплавком качался страх.
Четвертый день она не отходила от кровати дочери, а той не становилось лучше: после смерти старца Акулина пожаловалась на боль в горле и послушно открыла рот, позволив Степану осмотреть себя. Слизистая оказалась сильно воспалена, и той же ночью температура подскочила до тридцати девяти.
– Больно! – жаловалась Акулина. – Больно, папенька!
– Глотать больно? – спрашивала Ульяна.
– Говорить больно, – хныкала Акулина и трогала пальцами горло. – Горит, горит!
– Ох, бедовая. Неужто ангину подцепила? – мать плакала, готовила дочери обильное питье и полоскания, а Степан высматривал, не воспалятся ли фолликулы, но крохотные гнойники так и не высыпали, зато увеличились лимфоузлы, и температура ползла выше, неуклонно приближаясь к отметке сорок.
Потом наступило кратковременное улучшение: Акулина сама встала, сама расчесала волосы, обулась и прошла в сенцы, где села на лавочку и нахохлилась, будто прислушиваясь к чему-то. Там ее и обнаружил возвращающийся с проповеди Степан.
– С ума сошла! Застудишься!
Он подхватил дочь на руки и заволок в дом, дыханием согревая ее оледеневшие ладони. Акулина не пыталась вырваться, доверчиво приникла к отцовской груди и только повторяла задумчиво:
– Ты слышал, папенька, как ангелочки пели? Красиво так, красиво…
И через пару часов снова слегла. Тогда Степан снова набросился на жену, и хлестал ее поясом холодно, вдумчиво, с оттягом:
– Не уследила, ведьма! Застудила девку, паскуда!
Ульяна кусала кулак и сносила все молча, понимая: виновата. Теперь же смотрела на Степана заискивающе и пугливо, ловя каждое его слово.
Давя тоску и рвущийся бессильный стон, Степан обтер горячее лицо дочери, нагнулся и поцеловал в лоб.
– Одень ее, – бросил жене через плечо. – Возьми пальто и носки. И одеял побольше.
Ульяна всхлипнула и растерянно спросила:
– Чего ты удумал, Степушка?
– В город ее повезу. Собирайся и ты.
Порывисто встал и вышел из дома, громыхнув дверью так, что она закачалась на расхлябанных петлях.
Машину просил у участкового. Тот хмурился, недоверчиво глядел на Степана и медленно пережевывал кусок собственноручно убитой и уже приготовленной утки. От Михаила Ивановича несло луком и бражкой: расслабился под вечер и прихода гостя не ожидал.
– Не могу за руль, – развел он руками. – По деревне еще ладно, а в Гласово… Там ребята не наши, обдерут как липку, а то и прав лишат. Полечу с должности, а мне до пенсии всего ничего.
– Сам поведу, – глядя исподлобья, ответил Степан. – Ты мне доверенность напиши.
– Напиши, напиши, – ворчливо отозвался Михаил Иванович. – Устал я от тебя и сектантов твоих, понял?
– Дочь у меня болеет…
– Не одна проблема, так другая, то участок под застройку, то машину подавай, – не слушая его, бубнил участковый. – Через тебя, подлеца, пропадаю. Теперь висяк на мне, Емцев за горло душит. Кончились мои спокойные деньки…
– Об этом раньше надо было думать, – огрызнулся Черных. – Любишь пострелять вволю, люби и ответ держать. Кого сегодня убил-то? Уж не краснозобую ли казарку? А то, может, и не утятина у тебя на заднем дворе вялится, а мясо сохатого? Так на лося не сезон сейчас.
Участковый волком зыркнул на Степана.
– Не лося, – с трудом вытолкнул он и задвигал кадыком, точно кусок утки встал ему поперек горла. – Пугаешь? Или сдать решил?
– Не пугаю и не сдать.
– Так с чего в город собрался?
– Дочь болеет, – повторил Черных. – Миндалины воспалены, как бы операция не потребовалась.
Михаил Иванович повел тяжелой головой, прицыкнул и махнул на Степана:
– Черт с тобой! Бери.
Ехали вслед за грозой.
Желтоватый круг фар выхватывал из густой темноты петляющую дорогу, проложенную, похоже, каким-то пьяницей. Укатанный гравий сменялся глиной: на обычной легковушке не проедешь, поэтому в Доброгостове держали внедорожники, только на них можно было выбраться из этого медвежьего угла, преодолевая вросшие намертво узловатые корни и прущие с обеих сторон заросли боярки и крушины. Время от времени дорогу чистили от сосняка, наломанного бурей, хотели даже закатать в асфальт, но средства были перераспределены на более насущные дела, и проект забросили.
Молнии маячками посверкивали в отдалении. Гром утробно ворчал, и на заднем сиденье каждый раз испуганно вздрагивала Ульяна. На ее коленях распласталась Акулина, укутанная в кокон одеяла.
– Поехали бы утром, Степушка, – мямлила жена. В зеркале ее силуэт казался бесформенным, и только вспышки молний изредка выбеливали лицо, делая его похожим на маску.
– Ничего, дежурные врачи в отделении всегда есть, – отзывался Степан, и сосущая тоска ворочалась под сердцем, на висках от напряжения выступал пот. Ему почему-то казалось, что до утра ждать бессмысленно, что можно не успеть, ведь он и так тянул слишком долго, глупо полагаясь то на Слово, то на антибиотики, припрятанные в сундуке – напоминания о прошлой жизни и том, кем он когда-то был.
Слишком самонадеянный. Слишком гордый. А разве не гордыня один из самых страшных грехов?
«Погибели предшествует гордость…» – так говорил старец Захарий. Правда, сам вел жизнь совсем не праведную, глядел на Степана свысока, осознавая силу и власть над ним. И только Слово живое удерживало Степана рядом.
А еще Акулина.
Молния располосовала небо огненным стежком. В глазах Степана завертелись белые мушки, голова зазвенела, отзываясь на громовой раскат, и мышцы некстати свело судорогой.
«Только не сейчас, – в страхе подумал Степан. – Господи, помилуй! Уверую!»
Он инстинктивно вдавил тормоз как раз в тот момент, когда гнилая тьма распахнула пасть и изрыгнула дочерна иссохшую сосенку. С громким хрустом она рухнула на дорогу. Степан услышал пронзительный вскрик жены, вывернул руль и вспахал заросли папоротника. Свет разлетелся брызгами, правая фара лопнула и погасла. Подмяв колесами подлесок, внедорожник дернулся и остановился.
Некоторое время Степан сидел, бессмысленно глядя во тьму, ставшую сразу пугающей и плотной. Сзади визжала Ульяна, эхо ее крика напильником шлифовало череп, в ушах звенело. Степан сглотнул кровь из надкушенной губы, кашлянул и бросил через плечо:
– Чего орешь, дура? Никто не убился, поди! Как Акулька?
Ульяна сразу же замолчала, завозилась, ощупывая дочь, потом слабо отозвалась:
– Все хорошо, Степа… Только как же мы теперь?
Черных повернул ключ в замке зажигания. Двигатель послушно зарокотал.
– Выберемся, – глухо проговорил Степан и потихоньку, почти вслепую начал сдавать назад. Под колесами хрустело, уцелевшая фара щурилась во мраке, оранжевым лучом била в сосенку, упавшую на дорогу трухлявой головой. Поставив внедорожник на ручник, Степан выбрался из кабины. Фара светила ему в спину, и черная тень Степана поплыла впереди, будто темный двойник, указывающий дорогу. Вот крест-накрест перечеркнула сосну, вот острый сук пропорол черную грудь двойника и окостеневшим плаьцем указал на Степана. По ветвям пронесся мертвящий шепот: «Сте-епушка…»
Степан оглядел пляшущую тьму. Внедорожник надсадно пыхтел, выбрасывая белесые выхлопы. Вокруг него обступили великаны – сосны и кедры, прямые, обряженные в черные сутаны, словно собравшиеся на поминки по старцу, чье распотрошенное тело все еще лежало на полу Окаянной церкви. А Слово… Был ли толк от того страшного ритуала? Степан не знал. В стороне издевательски хохотнул гром, на лицо брызнул дождик, и Степан в раздражении вытерся.
– Врешь. Не сдамся! – он погрозил лесу кулаком. Бесы присмирели, тенями залегли по оврагам и ждали: что сделает теперь человек? Отпустит ли его деревня или обовьет сейчас скрюченными руками-ветками, утянет обратно?
Сдвинув брови, Степан подлез под сосну. На плечи тут же посыпалась труха, подошвы поехали по глине, но руки нащупали почти окаменелые, вывернутые корни и прочно уперлись в них.
– Не сдамся, – повторил Степан, давя зубы до хруста в челюсти. Поднатужился, выдохнул и своротил сосну с дороги. Она резанула его по щеке острым сучком и ухнула во мрак, распавшись на труху и щепки.
Вернувшись в машину, Степан заблокировал двери, на всякий случай проверив, не шмыгнула за ним пронырливая тень? Нагнулся и посмотрел под соседнее кресло, с волос скатилась капля, упала на губы. Степан встряхнулся, как дворовый пес, и обернулся назад: у жены оказались глаза покойного Захария. Бросило в пот.
– Сгинь, нечисть! – прошептал он и поднял руку, чтобы перекреститься. Ульяна тотчас сжалась, состроила плаксивое лицо и протянула:
– Степа-а! У тебя кровь на щеке…
Он машинально поскреб щетину. Из зеркала на него глянул бес: мохнатые брови прыгают над глубоко запавшими глазами, ноздри раздуваются, борода трясется, чуть повыше щетины царапина во всю щеку.
– Как дочка? – спросил бес голосом Степана.
– Уснула, ангел наш, – ответила Ульяна и погладила ладонью лежащий на коленях куль. Дыхание Акулины было сиплым, но ровным. Отвернув зеркало, Степан вдавил педаль газа в пол. Колеса взрыхлила влажную глину, и в лобовое стекло забарабанил дождь.
– Прорвусь.
Внедорожник пополз вперед.
Дождь зарядил сильнее, но не рассвирепел, не превратился в ливень. Тревожно и гулко колотил в крышу, заливал стекла и косой стеной перекрывал путь круглому пятну света, ползущему впереди.
Лунными плошками подмигнул семафор. Внедорожник перевалил через переезд, загромыхал на стыках, а дальше дорога становилась ровнее и шире, фара выхватывала потертую полосу разметки, а впереди далекими светлячками загорались неспящие глаза Гласова. Степан переключился на четвертую передачу, приободрился, дышать стало легче. Зарницы вспыхивали над тайгой. Акулина спала и улыбалась во сне.
Дорогу до больницы Степан нашел бы и с закрытыми глазами. Старинное здание, бывшее когда-то дворянским особняком, обросло уродливыми пристройками, лишилось гипсовых ангелочков, зато обрело вывеску: «Гласовская районная больница». На парковке хватало мест, и Степан оставил машину у фонарного столба, рядом с подержанной легковушкой.
Акулина захныкала, почувствовав, как ее вытаскивают из теплой кабины на холод. Степан прижал ее к груди и погладил по затылку.
– Ничего, моя рыбонька, – ласково проговорил он. – Вот и прибыли. Все, как папка обещал. А если папка обещал – никакая сила не удержит.
И прикусил язык, наткнувшись на внимательный взгляд Ульяны.
«Ведьма», – промелькнуло в голове. Степан нахмурился и широким шагом, перепрыгивая сразу через две ступеньки, поднялся по лестнице. Двери шарахнули за спиной, тоскливо звякнул колокольчик, и задремавшая на стойке регистраторша вздернула голову и сонными непонимающими глазами воззрилась на ночного гостя.
– Дежурит кто по детскому отделению? – спросил Степан, оглядывая пустой холл. Лампы голубели, рябила в глазах шахматная плитка. Он сморщился, ощутив покалывание в висках. Такое мельтешение вполне могло спровоцировать приступ, а этого допустить нельзя, только не сейчас.
– Федор Александрович, – донесся будто из-под воды усталый голос регистраторши.
– Кузнецов? – спросил Степан.
– Да.
– Зови срочно, – Черных тряхнул головой, прогоняя возникший в ушах звон, и дождевые капли полетели с его кудрей на разложенные журналы. Регистраторша сгребла их в охапку и рассовала по нижним полкам. – Скажи, Степан Черных спрашивает.
– А ваша карта… – начала регистраторша.
– Зови! – перебил Степан и стукнул кулаком по стойке. – Не видишь, дочь у меня больна? Засужу!
Регистраторша пискнула и подскочила. Взгляд метнулся в сторону, заюлил: бежать за врачом или сразу жать тревожную кнопку? Степан дрожал, по лицу катилась вода и пот. Акулина спала, свернувшись в одеяле котенком. Потом в пустом коридоре раздались шаги, и знакомый голос окликнул:
– Что случилось, Ксения Петровна? Почему шум?
– Посетители! – отозвалась регистраторша. – К вам…
Мужчина вынырнул из полумрака, блеснув стекляшками очков. Степан длинно выдохнул и шагнул навстречу:
– Федька? Привет. Помнишь меня?
– Черных? – брови над очками подпрыгнули, врач несмело заулыбался, близоруко щурясь и словно не веря, что перед ним действительно однокашник – раздавшийся в плечах, заросший, грязный как черт. – Ты, правда?
– Я. Дочери плохо стало. Посмотришь?
Лицо врача посерьезнело, из-под очков стрельнул острый профессиональный взгляд.
– За мной неси, – сказал Кузнецов и махнул регистраторше. – Пропусти, Петровна. Знакомый это мой, бывший коллега.
Оставляя на полу грязные следы, Степан прошел за приятелем, Ульяна покорно семенила следом.
В смотровой бил слепящий белый свет, резко пахло лекарствами, и под ложечкой Степана засосала тоска. Бывших врачей не бывает, годами выпестованная профессиональная привычка подняла ослабевшую голову, раздула ноздри, вдыхая привычные запахи. Вот бы халат на плечи, и если не скальпель, то стетоскоп в руку. Плевать на бессонные ночи, хроническую усталость, бесконечные жалобы и бумажную волокиту. Степан снова окунулся бы в это, дышал этим, жил…
Спрятав ладони в карманы куртки, Черных четко, не дрогнувшим голосом изложил симптомы. Кузнецов слушал, не перебивая, мыл руки над маленькой раковиной, тщательно вытирался вафельным полотенцем.
– Клади туда, – врач указал на застеленный клеенкой топчан. – Думаешь, инфекция?
– Думаю, – признался Степан. – Если нужно, на стационар положим. Ульянка останется.
– Посмотрим, – ответил Кузнецов и подошел к топчану. – Ты бы в коридоре подождал.
– Зачем? Я тоже могу…
– Можешь. Только раз привез дочь, то мешать не надо. Да и грязи сколько наволок, а тут все-таки больница. Подожди, хорошо?
Степан сглотнул колючий комок, сжался пружиной, но тут же сдался.
– Хорошо, – ответил и вышел в коридор.
На мягкой скамейке нахохлилась Ульяна.
– Что там, Степа?
– Посмотрит, сказал.
Оба затихли, прислушиваясь к звукам за дверью. Там тренькал металл о металл, шуршало одеяло, потом воцарялась тишина, и сколько Степан ни напрягал слух, слышал только прерывистое дыхание жены. Она опасливо придвинулась, прижалась горячим боком и замерла, боясь, что сейчас ее прогонят. Степан вздохнул и обнял ее, поцеловал в макушку.
– Все будет хорошо, – шепнул он в порозовевшее ушко. – Федька отличный педиатр, мы с ним вот с такого возраста, – он повел ладонью на уровне пояса, – только потом по разным факультетам разбежались, он в педиатрию, я в хирургию. Потом снова в одной больнице встретились. Ну что ты? Ну-ну, – Степан погладил всхлипывающую жену, прижал к себе, баюкая, как до этого Акулину. – Не плачь, не плачь, рыбка. Чего разнюнилась?
– Страшно мне, Степа, – прошептала Ульяна, цепляясь за его вымокшую рубаху. – За доченьку страшно. За себя тоже, и за тебя, мой хороший.
– За меня-то почему? – весело спросил Степан, а тоска снова закрутилась в животе, стянула кишки в узел и выпустила яд, отчего во рту появился привкус желчи.
– Погибнешь ты в деревне этой, – ответила Ульяна. – И мы вместе с тобой.
Она подняла мокрое лицо, круглое и бледное, как луна. Лунами блеснули глаза, луною вспыхнула лампа под потолком, по плитке скользнули лунные тени.
– Давай останемся, а? Положим Акулину в стационар, я лягу с ней вместе, а ты останешься тут, – Ульяна стиснула его плечи, заглянула в глаза. – Снимешь комнатку, будешь помогать тут, при больнице. Может, сторожем тебя возьмут, может, дворником. А потом и сам подлечишься, переучишься, восстановишь лицензию. Жить будем как люди, Степа! Давай?
Черных тяжело дышал. Тоска глодала кости, выворачивала наизнанку суставы, зубы ныли все как один, а в голове скакали шальные мысли: может, и правда? Может, остаться? Отпустила его деревня один раз, отпустит и второй. Пусть старец сгниет в церкви, его звонкое Слово умрет с ветром, растает, как весенний туман. Что до этого Степану?
– В деревне Акульке легко было, – неуверенно проговорил он. – Спокойно рядом с Захаркой…
– Нету теперь Захарки, – быстро ответила Ульяна и прижалась ближе. – Убили его, помнишь?
– Найдут убийц, – сказал Степан, рассеянно поглаживая жену по круглому и теплому плечу. – Эти деревенщины на меня показывают, знаю.
– И что с того? – спросила Ульяна и вся затрепетала. – Пусть лаются, кобели, если хотят. А я так скажу: туда Захарке и дорога! Сам развратник, убийца, а все святошей прикидывался, – ее глаза полыхнули ведьмовским пламенем. Степан вздрогнул и попытался отстраниться, но Ульяна держала крепко, тянула жаркие губы к его лицу. – Забудь, Степушка! Нету душегубца, радость-то какая! Полной грудью вздохнем, жить будем!
Степана лихорадило. Глаза Ульяны прыгали, волосы выбились из простой прически. Она была, как в далекой юности – волнующая, дикая, целующая до томительной слабости, до головокружения. Степан водил по ее телу ладонями, отвечал на поцелуй, задыхаясь от накатившей нежности.
– Останемся, – шептал он в жадно подставленный рот. – Черт с ними, Ульян. Вернуться хочу, все заново начать… а тебя… люблю…
Дверь грохнула. Подскочив со скамьи, Черных оттолкнул жену, и она со стоном откинулась на стену, прикрыв глаза и прижимая ладони к тяжко вздымающейся груди.
– Что с дочерью? – спросил Степан и облизал искусанные губы. – Что?
– Не кричи так, спит она, – с улыбкой ответил Кузнецов. – Температуры нет, жара нет, слизистые в норме, никаких воспалений.
– Врешь! – Степан пихнул педиатра плечом, ворвался в смотровую и упал на колени перед Акулиной. Она вздохнула, повернулась на другой бок, и подложила кулак под щеку, заулыбавшись чему-то во сне и дыша ровно, спокойно, без хрипов.
– Антибиотики давал? – спросил вошедший следом Кузнецов.
– Давал, – эхом отозвался Степан. – И полоскания делали.
– Вот и поправилась, – все так же улыбаясь, произнес врач. – Не веришь мне – посмотри сам. Но если хочешь, положу на недельку. Нужно только карту оформить. Ты документы взял?
– Где-то были, – сказал Степан и сунул руку в карман. Пальцы наткнулись на что-то, завернутое в тряпицу, и окатило холодом.
Скальпель.
Тот самый, который недавно вскрывал тело Захария.
Показалось, или ноздри защекотал едва уловимый запах формалина? Степан поиграл желваками, удерживая поднимающуюся тошноту.
«Не с того спрашивай, кто держал, а с того, кто владеет!» – ударил в уши мертвящий голос.
Степан сгорбился и уронил руку. По спине градом покатился пот.
– Не взял, – тускло сказал он. – Нет документов.
– Если подвезешь завтра, я могу… – начал Кузнецов, но Черных мотнул головой, легко поднял дочь с топчана, и она захныкала во сне, но вскоре умолкла и уютно устроилась на отцовских руках, как птичка в гнезде.
– Не нужно, – процедил Степан. – Я лучше за лекарствами заеду. Завтра. Или послезавтра. Наверное.
Он вышагнул в коридор. Страх, возникший в смотровой, подхлестнул в спину. Это был не страх за себя или дочь, это был страх остаться без Слова – великого, тайного, дарующего неведомую силу. Еще слабое, вошедшее в его легкие с жертвенным дымом, оно крепло внутри, питаясь энергией проклятой земли Погостова. Было бы неправильно покидать деревню прямо сейчас. Пусть оно окрепнет, пусть зазвучит из уст Степана в полную силу, вот тогда…
Ульяна с надеждой поглядела на мужа и сразу все поняла. Бросилась к дочери, обняла ее и заревела в голос. Степан не знал, от облегчения, что Акульке лучше, или от горя, что поняла решение мужа, но не могла принять его.
21. Ведьмин час
Разговор с участковым оставил неприятный осадок. Михаил Иванович смотрел на Павла недобро, с подозрением, и все выспрашивал, как тот очутился в запертом сарайчике?
– Незаконное проникновение на частную территорию, – бубнил участковый, взглядом высверливая в Павле дыры. – Это, Павел Николаевич, ни в какие ворота!
– Дом не меньше года заброшенным стоит, – раздраженно отвечал тот, оттирая лицо от копоти и поправляя слуховой аппарат: чудо, что не потерял. – Окна не мной побиты, а доски не мною растащены.
– А вот это бросьте! – грозил Михаил Иванович, щуря пьяненькие глаза. – Вы человек приезжий, городской, от нашей жизни далекий. Значит, нужно было, раз взяли! Народ у нас не прижимистый, каждый друг за дружку держится. А что окна побили – так мальчишки шалят.
– Вы лучше не оправдывайтесь, а поджигателя найдите.
– Какого поджигателя? Нет у нас никаких поджигателей! Может, вы и есть поджигатель? А, Павел Николаевич? – участковый икнул и шепотом ругнулся. – Хватили лишку, закурили, да и задремали с сигареткой.
– Не курю, – ответил Павел, и тут же захотел закурить. Сплюнул, вытер губы ладонью.
– Простите, но я считаю вас причастным к поджогу, – продолжил напирать участковый.
– На каком основании? – Павел едва выдерживал ровный тон, хотя в груди клокотало возмущение.
– На основании, что вы посреди ночи по чужим домам шастаете. За какими такими надобностями?
– Мимо проходил, свежим воздухом дышал, – на ходу сочинил Павел. – Увидел, как человек в дом шмыгнул, решил посмотреть, не вор ли.
– Ваш гражданский долг, уважаемый Павел Николаевич, о подозрительном человеке куда следует сообщить, а не самому погоню устраивать. Думаете, не знаю? Ходите по деревне, вынюхиваете что-то, следствию мешаете и людей с толку сбиваете.
– Вы меня в чем-то обвинить хотите?
Михаил Иванович набычился, зыркнул на Кирюху, что слонялся неподалеку и грел уши, и ответил вполголоса:
– Обвинять не стану, а Емцеву Илье Петровичу сообщу.
– Куда хотите сообщайте, – раздраженно ответил Павел. – Заодно мои показания запишите. Человек, который в дом проник и, вероятно, устроил поджог, на Степана Черных смахивал.
Сказав это, Павел внимательно глянул в неопрятно побритое лицо участкового, но тот не смутился ни капли, спокойно вынул папироску, сунул в уголок рта и прежде, чем закурить, ответил:
– У страха, Павел Николаевич, глаза велики. Не мог Черных поджог устроить, дочь у него заболела, в город уехали всей семьей, в больницу. А вас за ложные показания и привлечь могут. Вы наперед подумайте, когда будете тень на плетень наводить.
– Посмотрим! – зло сказал Павел. – Но будьте уверены, я всех выведу на чистую воду!
На Кирюху набрасываться не стал: пацан и сам не знал, когда Черных уехал, хотя божился, что он и поджег. Кому же еще? Разве что своим сектантам приказал, с Черного Игумена станется.
Дома Павел с досадой тщательно осмотрел припухлость на лодыжке. Сделав йодную сетку, туго забинтовал восьмеркой, надеясь, что скоро боль утихнет.
В телефоне оказалось несколько пропущенных звонков, и все от Нины, единственное сообщение мигало тревожным: «Перезвони». Павел и перезвонил. Правда, ответили ему не сразу.
– Верницкий, ты в своем уме? – прошипела трубка. – Третий час ночи!
– Прости, Нинель, не смог раньше, – нервно ответил Павел. – Меня поджечь пытались.
– То есть как поджечь? – сразу проснулась Нина, в голосе зазвенела тревога.
Павел вкратце рассказал. Нина слушала, тихонько ахала, стараясь не разбудить домочадцев, потом протянула:
– Па-авлик! Уезжал бы ты оттуда, а? Сначала убийство, теперь поджог… Боязно мне.
– Нашла что-нибудь? – прервал ее Павел, не позволяя разрастись тревоге.
– Не поверишь! – захлебываясь эмоциями, прочирикала трубка. – Сходила я к Ирине Петровне, разговорились о своем, о женском, чаю попили с пряниками. Потом на абонемент пошла и знаешь, кого там встретила?
Нина выдержала паузу, и Павел попытался отшутиться:
– Призрака купца Смородина?
– Хуже! Софью Керр, королеву эпатажа.
– Ведущую «Тайного мира»? Что вынюхивала?
А про себя выругался: Софья такая же фанатичка, как и сами Краснопоясники, они бы сошлись на почве общих интересов.
– Так она и признается! – хмыкнула Нина. – Поулыбалась мерзенько и мимо пробежала, торопливо так. Мне кажется, Павлуш, она про твой отъезд узнала, и волосы теперь рвет, что ты материал у нее из-под носа увел.
– В большой семье клювом не щелкают, – пробормотал Павел и нетерпеливо повторил: – Так ты нашла что-нибудь?
– С этим сложнее, – вздохнули в трубке. – В Интернете только та информация, что касается ссыльнопоселенцев. Чуть дальше от Доброгостова колония была, только ее прикрыли, а бараки снесли.
– Об этом мне местные рассказали. А еще?
– Еще Ирина Петровна обещала архивы поднять. Те, что еще не успели в свободный доступ выложить, а, может, и не собирались никогда. В старых подшивках было упоминание о какой-то трагедии, произошедшей с группой туристов. В свое время история вызвала резонанс, но ее быстро замяли.
– И почему мне не нравится слово «было»? – пробормотал Павел, трогая слуховой аппарат. Шепот Нины показался ему слишком громким в ночной тишине.
– Потому что мы не нашли подшивок, Паш. Зато Ирина Петровна проверила картотеку и выяснила, что в последний раз именно эту подборку просматривала некто Ирина Глазова.
– Она же Софья Керр, – Павел устало потер переносицу. – Дай угадаю, взяла в читальном зале и не вернула?
– Бинго!
Павел прикрыл глаза, и долгое время массировал веки. На его памяти еще не было случая, когда бы Софья столь нагло переходила ему дорогу. Она хватала по верхушкам, он тщательно собирал и анализировал материал, она усиленно продвигала любого мало-мальски ушлого экстрасенса и даже собиралась открыть ток-шоу «Битва колдунов», он со скрупулезностью хирурга вскрывал пером, как скальпелем, фокусы доморощенных мистификаторов. У них были разные подходы и разные форматы, и Павел был уверен, что Софья успела снять сливки с репортажа о Краснопоясниках, но не успокоилась до сих пор. Что так затронуло ее? Убийство старца или уязвленная профессиональная гордость?
– Я попробую поискать еще, – пообещала Нина и зевнула в трубку. – Если что, будь на связи. И береги себя, ладно?
Павел пообещал и отключил телефон. Голова была пустой и бездумной, на часах – два сорок пять. Говорят, ровно в три ночи наступает время, когда темные силы обретают особое могущество, в народе его называют «ведьмин час». В это время нельзя выходить из дома, мыться и расчесывать волосы, спящего часто мучают кошмары, иногда наступает и бессонница.
«Вот и проверим», – подумал Павел, открепил Пулю и вскоре провалился в тишину и сон.
Во сне он снова стоял на берегу Полони, и снова Краснопоясники сцепились в хороводе и мчались вокруг него, высоко вскидывая колени. Ветер рвал пояса, гнал по реке густую зыбь, по небу – клочковатые тучи, но Павел не слышал ни рева непогоды, ни плеска волн. Тишина звенела в ушах, отсекая его от большого и чуждого ему мира, и Павел казался себе маленьким и растерянным – былинкой в центре бури. А перед ним на земле лежал Андрей. Обугленный, неподвижный, мертвее мертвого. Одним глазом, белым, как крутое яйцо, он глядел в косматое небо, другой уставил на брата и криво улыбался, скаля прогнившие десны.
Люди кружились, сливаясь в темный вихрь. Рты одинаково оскаленные, одинаково выпучены стеклянные глаза, небо дробилось, воздух разлетался на осколки, ранил легкие.
– Хватит! – хотел закричать Павел, но не мог. Изо рта не вылетало ни единого звука, язык приклеился к гортани. – Хвати-ии…
«И-ии!» – взревела буря.
Павел прижал ладони к ушам. И, глухой, услышал…
Так могло звучать землетрясение. Или взрыв водородной бомбы. Или раскат грома прямо над головой.
Это произнесли Слово.
Звук цыганской иглой прошил насквозь. Внутри что-то натянулось, лопнуло, и кровь потекла между прижатыми к голове пальцами. Под ногами зашевелилась земля, и зашевелился мертвый Андрей.
– Чер-вы… – вышел из продавленной груди утробный голос и зачастил, повторяя: – Червы-червы-червы-ы…
Костяные пальцы заскребли по земле, подцепили дерн, мелкие комья, извивающихся красных червей и потянули к распахнутому рту. Павел закричал, но не услышал собственного крика, на подбородок густым черным потоком выплеснулась кровь, но вместо металлического привкуса почувствовал что-то тошнотворное, густое. Голову повело, желчь подступила к горлу.
Сделав над собой усилие, Павел дернулся и упал в раскисшую грязь.
Он лежал под кустами крыжовника, сердце колотилось, как оголтелое, рот и ноздри забивала земля. Павел замычал, перевернулся на бок, и его вытошнило вчерашним ужином, землей и кусками чего-то живого, розового, извивающегося в желудочном соке.
Дождевые черви.
Павла затрясло от омерзения. Подскочив на ноги и почти не почувствовав боли в больной лодыжке, он сунул два пальца в рот, и его вырвало снова: руки оказались перепачканы грязью, под ногтями забилась земля. Стянув с головы майку, он принялся вытирать лицо, ладони, живот. Отступив, едва не поскользнулся на глине, но ухватился за открытую раму окна. В ту же минуту в глубине его спальни зазвонил телефон – надрывно, настойчиво, повторяя одну и ту же незатейливую мелодию. И Павел – даже без слухового аппарата – слышал.
«Мне это только кажется, – подумалось ему. – Все это сон…»
Провел ладонью по раме, чувствуя, как в кожу вонзаются острые щепки и отживающие струпья засохшей краски. Телефон звенел. Звенел цепью бабкин пес, хрипя и косясь на человека недружелюбным взглядом. В ветвях шумел проснувшийся ветер, розовела полоска зари.
Павел не спал. И, осознав это, до хруста сжал зубы.
Грузно перевалившись через подоконник, прошлепал через комнату, подволакивая ногу и оставляя грязные следы. Телефон пропиликал последние ноты и умолк, помаргивая экраном. Павел скользнул по нему одурманенным взглядом: внутренности дрожали, кожу на подбородке стягивала грязь. Он поскреб ее ногтем и снова почувствовал дурноту.
«Меня вырвало землей и червями. Господи Боже! Червями!»
Крик набух в груди, но так и не вышел из оцепеневшего горла. Зажимая ладонью рот, стараясь не вдыхать запах земли и не думать о червях, Павел прохромал на кухню. Там, открутив вентиль, сунул голову под тонкую струю. Виски и лоб обложило льдом, Павел тряхнул волосами, как собака, разбрызгивая холодную воду, наощупь дотянулся до мыла и принялся тщательно намыливать ладони, лицо, шею. Вода шумела, в голове гудела кровь, словно Павел, как в детстве, прижал к ушам найденную на берегу раковину и слышал громкий шепот прибоя. Размеренный и успокаивающий звук.
Набрав полный рот воды, Павел часть сплюнул, а часть проглотил, и сразу почувствовал себя лучше. Реальный мир снова обрел четкость, безумие отступило, и звуки становились все тише, тише. Последнее, что еще слышал Павел – шорох полотенца, сорванного с вешалки. Потом голову обложило привычное безмолвие.
Вытерев лицо, он медленно выдохнул и несколько секунд тупо смотрел на комковатые следы, тянущиеся по коридору. Цепочка, одним концом уцепившаяся за реальность, другим протянувшаяся к безумию. Павел наклонился, достал из-под мойки половую тряпку, намочил и сначала тщательно вытер собственные ступни, потом принялся елозить по полу, уничтожая улики. В его логичном и насквозь рациональном мире не было места библейским чудесам и воскресающим покойникам.
Павел в сердцах махнул тряпкой, и кто-то взлохмаченный и черный махнул в ответ из темноты. Сердце скакнуло к горлу, Павел поднял лицо и встретился с гипсово-белым лицом мертвого брата.
– Сгинь! – беззвучно выдохнул он, и мертвец тоже шевельнул губами. Сморщил нос – и Андрей поморщился. Павел хрипло выдохнул и вытер разгоряченный лоб – зеркальный двойник повторил.
Собственного отражения испугался!
Домыв пол, запихал тряпку обратно под раковину, прошел в спальню и сначала накрепко запер дверь, затем закрыл окно. Пальцы подрагивали, и это не нравилось Павлу. Реальность походила на стеклянный домик: тронь неосторожно, и разлетится на осколки.
На смятой постели продолжал подмигивать телефон. Павел пощелкал кнопками, некоторое время пялился на неопознанный номер, потом нацепил Пулю и перезвонил.
Трубку сняли сразу.
– Привет, Верницкий! – произнес простуженный голос. Сначала невнятно, но Павел подкрутил настройки и вслушался в потрескивание на линии.
– Это кто?
– Конь в пальто, – ответили из динамика. – Ты мой сюжет украл, скотина.
Павел плюхнулся на кровать и подколол в ответ:
– А ты материал из библиотеке стащила, Ириш. Вот и поквитались.
– Софья, – поправили в трубке. – Я имя официально поменяла.
– Давно ли?
– После дождичка в четверг. Не твоя печаль, Верницкий. Ты какого лешего в Доброгостово подался?
– А должен был у тебя разрешения спрашивать?
– Я первая материал накопала!
– А я накопанное раскручиваю.
– Отомстил, значит, – хрипловато хохотнула Софья. – Задела тебя? Славу увела?
– Ты зачем звонишь? – перебил Павел. – Если просто поболтать, то прости, мне некогда, прямо сейчас мне нужно…
«…поесть червей», – скакнула в голову оголтелая мысль.
Желудок свело спазмом, на висках выступил пот. Павел захрипел, выравнивая дыхание, прикрылся рукой. Зараза! Так и спятить недолго!
– Никак звонка своей подельницы ждешь? Как ее там? Нина, что ли, – продолжила Софья, и Павел услышал тяжелый вдох, как если бы собеседница затягивалась сигаретой. Ему сразу же захотелось курить, но вместо привкуса табака почувствовал привкус земли и, холодея от омерзения, вытерся ладонью.
– Так вот, – ничего не замечая, беспечно чирикала трубка, – можешь не ждать, ничего твоя курица не накопала. Не из чего копать, об этом я позаботилась.
Павел вцепился в телефон до хруста в суставах, но постарался придать голосу бесстрастность:
– В курсе уже, Ирина Петровна не обрадовалась пропаже. А тебе зачем?
– Так я помочь хочу, Верницкий. Я же отходчивая и любопытная, страсть!
– Любопытство сгубило кошку. Знаешь такую пословицу?
– Фольклором не интересуюсь, – тут голос обрел вкрадчивые оттенки, – а вот твои интересы легко вычислить. Лешачья плешь, Окаянная церковь и другие проклятые места…
– Откуда знаешь? – пульс зачастил, подхлестываемый адреналином.
– Хвосты надо ловчее подчищать, – промурлыкала Софья. – Знаю, что ты прошлым деревни интересуешься, про колдунов узнавал, про старообрядческое кладбище, про колонию и ссыльнопоселенцев.
Павел чертыхнулся и, кажется, вслух. Трубка отозвалась восторженным хохотом. Отняв телефон от уха, Павел боролся с желанием сбросить вызов, скользнул пальцем по кнопке, но все-таки не нажал.
– И что дальше? – холодно осведомился он. – Притащишь сюда телевизионщиков? Всю съемочную бригаду? Операторов, гримеров, осветителей, звуковиков?
– Я, конечно, психичка, но не настолько, – ответила Софья. – Видел же, как к приезжим относятся. Меня с командой на пушечный выстрел не подпустят. Тем более после убийства.
– Об этом-то откуда знаешь? – досадуя, спросил Павел.
– Птичка на хвосте принесла. Спокойно, Верницкий, я кость из твоей пасти рвать не собираюсь. Говорю же, помочь хочу. Материал занятный нашла, у нас товар, у вас купец. Баш на баш, давай?
Павел молчал, размышляя. От Нины помощи ждать бесполезно, а Софья ушлая девица, не просто так вынюхивала по библиотеке и выкрала газетную подшивку. Если что-то в ее интересах, землю рыть будет.
– В обмен что хочешь? – спросил он.
– Ничего особенного, Паш. Узнать хочу, что там в Доброгостове случилось. Будешь моими глазами, а я твоими ушами, – Павел поморщился и привычно тронул Пулю, – вместе такой материал состряпаем, все закачаются! А можно и репортаж с места событий вести. В телеэфир запустим, блогеров привлечем. Не дрейфь, Павлуш, тебя не обижу, будешь у нас герой под прикрытием. Ну, как?
Мысли завертелись каруселью, рассыпались у развилки «за» и «против». Правильно Софья сказала, местные не спешат открывать перед ним свои тайны, всего и есть у него информаторов, что Кирюха и сектантка Леля. А у Софьи связи, у Софьи выход на всемирную паутину, да и в теме она разбирается куда лучше Нины.
– Идет, – сказал Павел и, сощурившись, глянул в окно: сквозь стекла сочилось утреннее зарево, покачивались на ветру розоватые ветки яблонь. – Расскажи, что найти удалось.
– Хи-итрый какой! – капризно протянула Софья. – Ты первый!
– Нет, – твердо сказал Павел. – Я здесь не в игры играю, должен понимать, за что информацию продаю.
В телефоне вздохнули, прицокнули языком.
– Твоя взяла! Все вы, мужики, одинаковые, никогда девушке не уступите. Но я прощаю, очень уж меня саму эта история заинтересовала. Ты слышал что-нибудь о таинственных смертях так называемых Громовцев?
– Трагедия с группой туристов? – насторожился Павел, сразу вспомнив, о чем рассказывала ему Нина. И понял, что угадал.
– Они самые, – подтвердила Софья. – Три парня, три девушки и инструктор, Громов Иван Анатольевич, мастер спорта по пешеходному туризму. Направились они в Новоплисский уезд, в место, которое сейчас называется Лешачьей плешью, а когда-то носило живописное название «Место, где говорят духи». Синоптики обещали солнечную погоду, но прогадали. В течение трех или четырех дней шел дождь и дул сильный ветер, который только усилился, когда группа приблизилась к Лешачьей плеши. Говорят, это совершенно ровное и гладкое место, вроде Лысой горы. Ты видел, Верницкий?
– Нет, – тихо ответил Павел и крепче прижал телефон к динамику Пули.
– Это и хорошо, потому что в ночь, когда инструктор разбил там стоянку, поднялась страшная буря. Дождя не было, но ветер ревел, как ненормальный, гнул до земли деревья. По дневниковым записям, которые нашли на месте стоянки, примерно в три ночи у одного из парней совершенно неожиданно пошла изо рта пена, а из ушей полилась кровь, – Павел вздрогнул и на всякий случай прикрыл другой ухо ладонью. Вспомнился сон, ревущая непогода и бесконечный танец сектантов, тем временем Софья продолжала: – Помочь ему никто не смог, и буквально через несколько секунд он умер. Тут же одной из девушек стало плохо, и она потеряла сознание. Другая начала биться головой о камни. Один из парней с теми же симптомами кровотечения умер за несколько секунд. Оставшиеся ребята вместе с инструктором побежали из лагеря, но далеко не ушли. Инструктор умер от сердечного приступа, парень с девушкой видели, как ураган громадной силы валит деревья, как спички, и бросает на землю. Это последняя запись в найденном дневнике, и кто погиб раньше, экспертиза не установила. Нашли ребят на довольно большом расстоянии друг от друга, девушка бежала в чащу, парень – к болотам. По результатам вскрытия, все умерли от переохлаждения. И немудрено, были в одном белье и босиком, но вот что странно, у двух девушек и одного парня не оказалось глаз, они просто лопнули в глазницах. Также подтвердили кровотечение, а это означает разрыв сосудов. Как такое может быть, Паш?
Софья взяла паузу и отчетливо чиркнула зажигалкой. Павел облизнул губы и сказал:
– Не знаю. Результаты вскрытия точные?
– Кто же признается в обратном? Переохлаждение – официальная версия. Но есть и другие.
– Например?
– Например, нервнопаралитический газ. Или массовое помешательство. Недаром люди вели себя неадекватно, бились головой о камни и…
– Ели червей?
– Нет, – удивленно ответила Софья. – Червей не ели, но кто в здравом уме побежит к болоту в чем мать родила? Есть и еще версия: инфразвуковая волна.
Павел замер. Где-то глубоко в мозгу заныла, затянула высокая нота «И-ии…», по комнате поплыла зыбь. Павел моргнул – ничего не стало.
– Инфразвук, значит, – повторил он.
– Именно так. Я погуглила информацию и узнала, что наш мозг имеет свои биоритмы. Некоторые из них можно активизировать ультразвуком или инфразвуком. Человек этого не слышит, но на его мозг инфразвук воздействует, вызывая, например, чувство страха. Низкочастотные перепады давления могли вызвать кровотечение и привести к травме легких. И что самое интересное, это не первый случай.
– Были еще смерти? – насторожился Павел.
– Угу, только не туристов, а заключенных. Промелькнуло в одной статье, что в Новоплисской колонии эпидемия началась. Вирусная инфекция неясной этиологии, при которой среди людей чуть ли не массовое помешательство произошло. Я попробую порыть еще, но чует моя задница, неспроста колонию с землей сравняли. Только каким боком это связано со старцем? Большой вопрос, Павлуш. Может, ты мне скажешь?
Он встал и подошел к окну, горячим лбом приложился к стеклу. Под кожей рождалась неясная дрожь – эхо вибрации, пришедшей из сна, где было произнесено Слово.
– Место, где говорят духи, – проговорил Павел, щурясь на пламенеющий рассвет. – Так называлось когда-то эта местность, задолго до колонии, задолго до образования деревни. А со старцем говорил Бог и лечил Словом.
– В начале было Слово, – подхватила Софья. – А может, не словом, а звуком? Инфразвуком, который на одних частотах может убивать, а на других – исцелять?
– Все есть яд и все лекарство, тем или иным делает только доза, – процитировал Павел и устало потер лицо. – Попробуй раскопать побольше информации, ладно?
– Сделаю, – пообещала Софья. – Только теперь твоя очередь рассказывать.
22. Яд и лекарство
Рисунок на развороте блокнота напоминал планетарную систему.
На неровных орбитах крутились планеты «Леша Краюхин», «Степан Черных», «Ульяна», «Акулина», «Кирюха», «Спиридон», «Леля» и сам «Павел». Между собой они соединялись пунктирными линиями с подписью «Захарий» – старец был ниточкой, связавшей близких и посторонних людей, и внешний круг назывался «Доброгостово». Внутри него Павел схематично изобразил кладбище – Погостово. Кресты – как маленькие астероиды, а само кладбище – граница, отделяющая современный Павлу мир от прошлого. Там, в прошлом, притаилась Тайна. Вокруг нее крутились более мелкие планеты с названиями «Колдун Черных», «Старая Латка», «Смерть туристов», «Помешательство заключенных». Павел вложил рядом и бумажку с именами, которую нашел в подполье заброшенного сарайчика. Они тоже соединялись пунктиром, и этот внутренний круг назывался «Место, где говорят духи». Какая-то геопатогенная зона? Павлу только предстояло это выяснить, и внутренним чутьем он понимал: все планеты вращаются вокруг одного-единственного светила, и этим светилом было Слово.
Павел густо обвел контур и задумался.
Что такое «Слово»? Заклинание? Молитва? Павел был уверен, что тоже слышал его. Не во сне, а еще раньше, на берегу реки Полонь. Чтобы его услышать, не нужен слуховой аппарат: Слово резонирует в каждой мышце, в каждой клетке тела, его вибрации проникают в мозг и могут воскресить утопленника или свести с ума здорового человека.
Снова ощутив во рту вкус земли, Павел сплюнул и только теперь обнаружил, что незаметно, одну за другой, выкурил три сигареты. Страх поскребся изнутри, дрожью отозвался в кончиках пальцев.
Нельзя давать волю страху.
На кухне перед образами горела лампадка. Бабка Матрена, вздыхая, крестилась перед Николаем Угодником и бормотала молитву:
– Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде жизни вечной представившегося раба Твоего, Захария… – скосив слезящиеся глаза на постояльца, плаксиво прибавила: – Девять дней сегодня, Павлуша. А по-человечески так и не помянули. В церковь-то сегодня пойдешь?
– Как раз собираюсь, – ответил Павел, отхлебнув воды прямо из чайника. Она была еще теплой, не остывшей, на языке остались хлопья накипи, и Павел сплюнул их в раковину.
– Ты уж поставь свечку за упокой его души, – сказала Матрена. – Отец Спиридон должен и панихиду отслужить. Хоть и гневается, что нельзя по убиенным, а все равно сердце у него доброе, и слова находит для каждого правильные.
– Вот и схожу, поговорю кое о чем, – ответил Павел, набрасывая на плечи провонявшую дымом куртку.
– Сходи, сходи, – закивала Матрена. – Заплатить только за недельку не забудь. Вторая уже пошла, как-никак, а заплатишь, так и иди себе с Богом.
– О чем разговор.
Вернувшись в комнату, достал деньги. Подумал и положил в карман телефон: мало ли, когда понадобится перезвонить Софье.
Сквозь сизые тучи улыбчиво подмигивало солнце. День выдался теплым и сухим, на лавочки выползли старушки и щелкали семечки, время от времени швыряя горсти налетевшим голубям. Те суетливо подскакивали, прыскали из-под ног и снова слетались на прикормленное место. Чуть дальше по улице угрюмый мужик перестилал крышу, а внизу крепкая деревенская женщина командирским голосом давала советы. Мелкая ребятня с визгом салили друг друга, нарезая круги перед почтой, девчонки постарше цыкали на них и с любопытством провожали Павла. Одна из них была так похожа на Юльку, подругу из далекого детства, что Павел сбавил шаг и поймал ее взгляд – настороженный, юркий. Поняв, что на нее смотрят, девчонка вспыхнула румянцем и сделала вид, что громко зовет загулявшую кошку. В деревне пробуждалась жизнь, в деревню шла весна.
Отец Спиридон рыхлил грядки. Раздетый по пояс, кряжистый, всклокоченный, как медведь, он размеренно махал мотыгой. Завидев прихрамывающего Павла, остановился и сощурился, козырьком приставив ко лбу ладонь.
– Раб Божий Павел! – улыбка приподняла густые усы. – Ну, заходи, заходи, у калитки не стой. Как видишь, работаю. Вечером пища для духа, а сейчас пища для брюха. С чем пожаловал?
– Поговорить хотел, отец Спиридон, – Павел пожал широкую мозолистую руку священника. – Можно?
На соседней грядке замер Ванька, прижимая к груди красное пластиковое ведро, куда старательно обирал личинок, и навострил уши.
– А ну, брысь к мамке! – прикрикнул на него Спиридон, и мальчишка подскочил, одернул маечку и заковылял к дому, сопя и поглядывая на отца через плечо. Священник погрозил пальцем, потом добродушно улыбнулся и сказал: – Люблю, постреленка. Но взрослые разговоры ему слушать не надобно.
– Правильно, – согласился Павел и, вытряхнув из пачки сигарету, помял ее в пальцах. – Про пожар слышали?
– Как не слыхать, – Спиридон с досадой вонзил мотыгу в землю, и из-под лезвия полезло, заизвивалось красное. Черви.
Дрогнувшей рукою сунув сигарету в рот, Павел чиркнул зажигалкой:
– Не возражаете?
– Травись на здоровье. Иваныч божится, что ты и есть поджигатель. Правда?
– Нет, – Павел затянулся и сощурился, выдыхая дым. – Меня самого в горящем сарае заперли.
– Так! – Спиридон снова стукнул мотыгой, погрузив ее глубоко во влажную землю. – На Степана Черных думаешь?
– Его ночью в деревне не было. Мог ли кто-то еще?
Священник задумался, шевеля косматыми бровями.
– Разве что по его наущению, – наконец, проговорил он. – Для местных ты, раб Божий Павел, хоть и чужак, а вот как та сорока, – священник кивнул на скакнувшую со штакетника птицу. – Под окнами крутишься, пользы от тебя нет, но и вреда никакого. А вот для Краснопоясников ты как заноза в… ладони, – Павел усмехнулся и закашлялся, священник хмыкнул в бороду и добавил: – Да-да, на первый взгляд вроде незаметно, а сидишь глубоко и зуда от тебя по всему организму.
– Значит, вырвать хотят.
– Если и не вырвать, то запугать, чтобы от страха сам выпал.
Павел помолчал, выдыхая сизые струйки. В Пуле пощелкивало тихонько и назойливо, как комар зудел над ухом. Павел слегка прикрутил регулятор, и щелканье стало едва различимым.
– Вот и пугают меня, – произнес он. – И огнем, и словом.
– Словом? – отец Спиридон приподнял брови и с интересом глянул на собеседника.
– Да. Об этом и хотел поговорить. Что такое вообще – Слово? С точки зрения церкви.
– С непростым вопросом пришел, – священник вздохнул и размял ладонью напряженную шею. – Меня этому четыре года в семинарии учили, а ты за пять минут узнать хочешь.
– Вы своими словами, как можете. Ведь начинается Евангелие фразой «В начале было Слово». А что это? Молитва? Или сам бог?
– Вообще, в оригинале стоит древнегреческое Логос, – ответил отец Спиридон, – его можно перевести как разум, мысль. Недаром апостол Павел говорил: «Мы проповедуем Божию силу и Божию премудрость». Так можно трактовать это высказывание. Но есть и другая версия. Слово подразумевает звук, – Павел напрягся, разминая в пальцах сигарету и почти не ощущая, как она обжигает пальцы. – Все живое издает вибрации, а звук – универсальный язык общения, один на всех. Космогонические мифы всех культур мира описывают один и тот же сценарий сотворения. Вначале был хаос, а потом по пространству прокатилась энергия.
– По аналогии с Большим взрывом, – понимающе кивнул Павел и, отбросив окурок, вдавил его подошвой в землю.
– Верно, – ответил Спиридон и в подтверждение своих слов хлопнул ладонью по черенку мотыги. – Под действием вибрации или звука все, что находилось в хаосе, структурировались, и образовало материальную вселенную, в которой мы существуем.
– «Однажды все вокруг огласил звук, никогда ранее не слыханный – звук «Ом-м», и ранее пустой мир захлестнуло энергией», – на память пересказал Павел. – Так сказано в индуистских ведах.
– Звук – и он же вибрация, энергия, Бог, – подхватил священник, – присутствует повсюду, он вокруг нас. Поэтому мы говорим, что Бог вездесущ. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
– Я слышал его, – сказал Павел и комариный писк, прозвенев на тягучей невыносимой ноте, умолк, будто струна оборвалась.
Наступило молчание, густое, как кисель. Трещала сорока, вскочив на ветку березы. Новенькие листочки слегка шелестели от ветра, где-то брехала собака, где-то кричала ребятня. И, несмотря на прикрученный до минимума регулятор, Павел слышал.
– От Захария? – спросил отец Спиридон.
– Да. Когда утонувшего мальчика спасли.
Они снова помолчали. Павел пощипывал ухо, то и дело задевая звуковод. Слуховой аппарат, сросшийся с его телом много лет назад, теперь казалась каким-то чуждым придатком, который хотелось оторвать от кожи, как впившегося клеща, и давить, давить, пока из Пули не полезет живое, червивое и красное.
– Я начал слышать, – сказал Павел, пряча от священника глаза. – С каждым днем все лучше. Вот только… – он сделал паузу, чтобы набрать воздуха в легкие. – Вот только, кажется, у этого чуда есть побочный эффект.
– Эффект какого рода?
– Я стал видеть галлюцинации, – подбирая слова, начал рассказывать Павел. – Вроде давно погибшего брата… А еще делать несвойственные себе вещи. Пишу будто не своей рукой, начал курить. А сегодня утром, – Павел сморщился, – проснулся с полным ртом земли…
Священник приподнял густые брови, но не улыбнулся и никак не выразил недоверие.
– Курил брат твой? – совершенно серьезно спросил он.
– Покуривал по молодости, – удивленно отозвался Павел.
– А умер в огне?
– Как догадались? – в глазах мелькнул и пропал испуг, священник вздохнул, помассировал лоб ладонью.
– По плодам узнаете их, – процитировал он. – Не говорил ли ты другим голосом, раб Божий Павел?
– Нет, – качнул тот головой. – Ничего…
И вдруг вспомнил Акулину в первый день своего прибытия в Доброгостово, и услышал ее скрипучий, будто идущий не из горла, а из нутра голос: «Правая половина живет, левая гниет. Правая половина горит, а в левой черт сидит!»
– Чувствовал запах серы?
– Только гари, – сказал Павел и облизал губы. – Это что-то значит?
– Да, – ответил священник. – Одержимость.
Павел недоверчиво улыбнулся. Так мог бы улыбаться раковый больной, впервые услышав о страшном диагнозе: самого страха еще не было, а было только непонимание.
«Вы уверены, доктор? – сказал бы он. – Перепроверьте анализы еще раз, это наверняка какая-то ошибка. Этого не может произойти со мной!»
– Как можно проверить? – спросил и Павел. – Одержимость часто путают с помешательством. Как узнать наверняка?
– Наверняка… – повторил Спиридон. – Как можно узнать наверняка, есть ли Бог? Приходи сегодня на службу. Хоть и неверующий, а если сомнение есть, то или подтвердишь, или опровергнешь. Одержимость часто выявляется, когда человек подходит к благодатным святым мощам или к чудотворным иконам, когда кропят святой водой или звучит на Божественной литургии Херувимская песнь.
На том и порешили.
Только когда Павел прошел по улице вниз до Троицкой церкви и остановился, щурясь на пылающий золотой крест и нащупывая в кармане куртки сигаретную пачку, накатил страх.
Его затрясло в ознобе, зацокали зубы, прозрачный воздух, пропитанный солнцем, посерел и пахнул тленом.
«В тебе червь сидит! Вижу! В тебе!» – вспомнился безумный крик психа с лопатой, с появления которого и началась история с Краснопоясниками. Может, он сам был из таких? И почему указал на него, Павла? А ведь еще была странная запись, показанная в передаче «Тайный мир». Павел очень хорошо помнил, как выгибалось тело бесноватой, касаясь пола только затылком и пятками, а ее губы шевелились, выдыхая страшное «черво-о…»
Телефон выскальзывал из взмокшей ладони, пальцы едва попадали по кнопкам, набирая номер. Павел почему-то думал, что после бессонной ночи трубку никто не возьмет, но Софья ответила после второго же гудка.
– Сокучился, Верницкий? – ее хрипловатый голос точно бросил Павлу спасительную веревку, и он ухватился за нее, пытаясь удержаться на плаву и не утонуть с головой в водовороте безумия.
– Скажи, – быстро проговорил он, – та пленка… помнишь? С обрядом экзорцизма… якобы переданная съемочной группе…
– Почему якобы? Действительно сняли на простенькую видеокамеру и передали по моей личной просьбе.
– Так обряд настоящий?
– Самый что ни на есть, – подтвердила Софья. – Что тебя беспокоит, Верницкий?
Павел прикрыл глаза. Страх обжигал ледяными прикосновениями, в ушах шумело, и когда он ответил, голос звучал глухо, будто из-под воды:
– Помнишь, как звали ту девушку?
– Это конфиденциальная информация.
– И все же?
– Мм… может, снова баш на баш? Я тебе имя девушки, а ты…
– У меня нет времени торговаться! – закричал Павел. Пузырь терпения, долго надувавшийся в груди, наконец, лопнул, обдав его колкими брызгами и вонью болота. – Меня подозревают в убийстве! Едва не сожгли заживо, а скоро сведут с ума! – он со свистом втянул воздух носом и зло глянул на проходящую мимо бабку. Бабка перекрестилась и заковыляла быстрее. Павел сложил ладонь лодочкой над динамиком и заговорил тише: – Мы ведь заключили сделку, так? Скажи мне имя! Уж не Акулина Черных?
– Нет, не Акулина, – к его разочарованию ответила Софья. – Это Меркушева Ольга, дочь одного новоплисского чиновника. Правда, сильно сомневаюсь, что она действительно одержимая. У девчонки на почве наркоты поехала крыша, но отчаявшийся родитель во что только не поверит, верно?
– Верно, – ответил Павел и прикрыл глаза. Адреналин подхлестывал волнами, дышалось тяжело, до покалывания в легких. – Ир, ты сможешь найти мне кое-что?
– Софья, – поправили на том конце. – Какая тема интересует?
– Одержимость, – проговорил Павел. – Как проявляется, от чего возникает и чем лечится.
– Помедленнее, я записываю. Отзвонюсь, товарищ командир. И поаккуратнее там, не то и тебя подлечить придется.
Потом нажала отбой.
В церковь Павел заходил с опаской, но судороги не начались, и не появилось неудержимого желания выкрикивать ругань и богохульства, разве что нога напомнила о себе постреливающей болью. Подтверждает ли это, что Павел никакой не одержимый? На всякий случай, он встал поближе к выходу, цепко осматривая немногочисленных прихожан, основной костяк которых составляли старики. Некоторые держали за руки совсем маленьких внучат, подводили к иконам и объясняли:
– Это вот Николай Чудотворец, Коленька, твой небесный покровитель. Ты его поцелуй и свечечку ему поставь, да и попроси, чтобы здоровенький был, и чтобы бабушка твоя здоровенькая была, и мама…
Коленька послушно целовал темный лик, прикрытый стеклом, ставил в подсвечник уже подплавленную в ладошках свечку и повторял непонятные ему молитвы. Павел угрюмо следил и теребил верхнюю пуговицу рубашки, пытаясь через ткань нащупать крестик и не сразу вспомнив, что крестик он снял после смерти бабушки и никогда больше не носил, так и лежал в альбоме с фотографией мертвого брата, потемневший от времени и не нужный.
Отец Спиридон начал литию, и под сводами загремело раскатистое:
– Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечна-аго преставившегося раба Твоего Захария, яко Благ и Человеколюбец, отпущай грехи и потребля-яй неправды, осла-аби и прости вся вольная его согреше-ения и невольна-ая…
Белая фигура на фоне траурно темных проявилась, как росчерк мела на грифельной доске. Те, кто стоял поближе к выходу, отодвинулись разом, будто их смыло волной. Только Павел остался на месте. Да еще женщина в длинном белом сарафане, подпоясанном красным кушаком.
Встретившись с ним взглядом, женщина вспыхнула, глаза блеснули живым огнем, она что-то шевельнула губами и вытолкнула из-за спины щуплого подростка в отцовской куртке. Мальчишка как послушная кукла шагнул вперед. Руки тонули в рукавах, подбородок касался груди и лохмы почти полностью закрывали лицо, но Павел все равно заметил, какое оно иссохшее и бледное.
«Точно у мертвеца», – пришло на ум, а отец Спиридон тут же отозвался с амвона:
– …даруй ему причастие и наслажде-ение вечных Твоих благих, угото-ованных любящим Тя-а…
И женщина в белом сарафане приподняла мальчику голову и робко прикоснулась сложенными в щепоть пальцами сначала к его лбу, потом к плечам и груди. Вот тогда Павел узнал…
– Евсей? – тихонько позвал он.
Женщина дернулась, точно ее хлестнули по пояснице, в глазах промелькнул страх.
– Это ведь Евсей, правильно? – шепотом повторил Павел и придвинулся на шаг. Женщина, напротив, отодвинулась, а подросток остался стоять, безучастный ко всему, ссутуленный и тихий. – Мальчик, который едва не утонул…
– Уто… нул, – эхом отозвалась женщина и задрожала мелко-мелко, как в ознобе.
– Ты Един еси-и кроме всяка-аго греха, и правда Твоя во ве-еки-и!
Последнее слово проглотил грохот настежь распахнувшихся дверей. Сквозняком переворошило воронье гнездо на голове подростка, подняло Павлу воротник, тронуло пламя свечей и некоторые, дрогнув, погасли. Серый прямоугольник дверного проема заслонила горбатая тень, из-под тяжелых надбровных дуг полоснул колючий взгляд.
– Зиновья! – сдерживая ярость, произнес Черный Игумен. – На выход немедля!
Старухи, стоящие впереди Павла, обернулись и закрестились, разевая сморщенные рты. Женщина затряслась, заюлила глазами, точно ища поддержки. Но немногочисленные мужики, стоявшие у икон, только хмурили брови и с места не шевелились. Не шевелился и пацан: все так же болтались пустые рукава, глаза не двигались, между полуоткрытыми губами протянулась ниточка слюны.
– …и Тебе славу возсыла-аем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно-о и во веки веко-в… – на одном дыхании закончил отец Спиридон.
Черный Игумен протянул руку и схватил женщину за плечо. Та вздрогнула, но не издала ни звука.
– Идем, – повторил Степан. – И сына забери.
Женщина взяла мальчишку за рукав, молча подтолкнула к выходу. Павел скользнул взглядом по прихожанам: мужчины отвели глаза, старухи уткнулись в пол и жевали губами, маленький мальчик тихонько заплакал, но его тут же прижала к себе мать. Потом с амвона раздался грохочущий голос священника:
– Неправославные! Покиньте храм Божий!
Снова хлопнули двери, от потухших свечей потянулся тонкий серый дымок, а перед глазами Павла все еще маячило бледное лицо мальчишки с ввалившимися щеками и безучастным взглядом. Так смотрел на него Андрей в заброшенной церкви.
Павел повернулся к иконам спиной и, с силой толкнув дверь, вывалился на воздух.
Багровое солнце неуклонно катилось на запад. От этого церковные ворота и позолоченный крест горели ярко, до рези в глазах. Белые рубахи сектантов отсвечивали закатным золотом, красные пояса облизывали фигуры, как языки фантастических чудовищ.
– Стойте! – крикнул Павел, и собственный голос показался ему слишком резким и громким, в Пуле кольнуло, и он прижал мизинцем звуковод.
Незнакомый мужчина, бок о бок идущий рядом с женщиной и поддерживающий ее под локоть, остановился. Павел догнал их, тронул мальчишку за плечо.
– Евсей! – позвал он. – Не бойся меня, слышишь?
Пацан не шевельнулся, зато Черный Игумен перехватил его руку так крепко, что Павлу показалось, его стиснули железными клещами.
– Тебе чего? – спросил Степан, раздувая ноздри, точно готовящийся атаковать бык.
– Поговорить хочу! – с вызовом ответил Павел.
– Не о чем говорить! – нервно пролаял и незнакомый мужик, злобно посверкивая воспаленными глазами. – Идем, Зиновья! Что встала?
Женщина тихонько всхлипнула и прижала к себе мальчишку. Павел сбросил с себя ладонь Степана, но отступать не собирался.
– Вы посмотрите на сына, – тяжело дыша, проговорил он. – Мальчик больным выглядит. Может, врач нужен, не зря же вы в церковь пришли. За помощью, да?
– Да, – тихо отозвалась женщина и вдруг подалась вперед, схватила Павлу за плечо и зачастила, срываясь от страха и волнения: – Спаси, спаси! Спаси моего мальчика! Ведь совсем не говорит он и ест через силу! С того света вернули, а души не вложили! Ах, господи!
– Молча-ать! – звонкая оплеуха прервала ее речь, и женщина охнула, ее глаза округлились и остекленели.
– Что вы себе позволяете! – ощетинился и Павел.
– У тебя не спросил, щенок! – рявкнул мужик и толкнул Павла в грудь.
Тот схватил мужика за ворот, рванул на себя. А потом со стороны пришел удар.
Голову обложило горячим звоном. Павел пошатнулся, но не упал, только отступил на шаг, а перед глазами веером рассыпались белые искры и завертелись, как в калейдоскопе.
– Так, значит! – сквозь звенящую тишину прорвался густой бас Черного Игумена. – За дар и исцеление дерзостью отвечать? Пес!
Он шаркнул сапогом в пыли, и пластиковый цилиндр тускло блеснул в закатном свете. Павел, замахнувшийся было для ответного удара, окаменел и прижал ладони к ушам, но не нащупал привычной улитки звуковода. Кровь прилила к голове, в памяти тугим гулом отозвались барабаны, и солнце полыхнуло над дорогой, как зарево пожара.
– Уби-рай-ся-от-сю-да! – четко и жутко проговорил Степан. – По-жа-леешь!
Потом наступил на цилиндр ногой.
Пластик хрупнул как переломленная кость, и Павел – оглохший, с прижатыми к ушам ладонями, – услышал. Он медленно выдохнул, мир окрасился в пламя, а фигура Степана – в уголь. Бросившись вперед, Павел ударил наугад, целясь в бородатое лицо. Его руку перехватили, вывернули так, что затрещали суставы.
– Пес! – прогудело пламя сквозь грохот барабанов и скрежет электрогитар. – Еще-раз-попадешься-убью!
Его отшвырнуло на дорогу. Павел упал головой в пыль, и мир перевернулся, как стеклянный шар. И там, в этом шаре, в опрокинутой церкви, крестом вспоровшей кровавое небо, из распахнутых дверей посыпались люди.
23. Без языка
Приступ случился почти сразу по возвращению в Червонный кут. Багряная монета солнца обуглилась и завалилась за окоем, а вместе с ней повалился и Степан. Очнулся он, когда над тайгой горел лишь узкий огненный ободок, зато все небо было вымарано кровью, и кровь текла по подбородку, оседая в спутанных волосах и капая на рубаху.
– Что… – прохрипел Степан, вытирая губы. Язык едва ворочался в распухшем рту, голова гудела, точно под черепом звенел и звенел взбесившийся колокол.
– Приступ у тебя был, Степушка, – пролепетала жена. Сидя на земле рядом, с непокрытой головой, она взволнованно всхлипывала и гладила мужа по щеке дрожащей ладонью.
– Сам… знаю, – отозвался Черных и отвел ее руку. – Кто с Акулькой?
– Сестра Алена…
– Черт знает, кто такая, – просипел Степан, заелозил ногами по рассохшейся глине, привстал. Чугунная башка тянула книзу, багряная муть перед глазами колыхалась, и сквозь нее проступали фигуры привидений – грязно-белые, как талый снег, дрожащие, как свечное пламя. Лица кривились уродливыми масками, не лица – хари.
Степана бросило в жар.
– Кто здесь? – в страхе спросил он.
– Кто же может быть, Степушка? – всхлипнула жена. – Наши все… брат Листар, да брат Маврей, да брат Арефий, да сестра Меланья, да сестра Зиновья с мужем и сыном…
– Зиновья!
Он захрипел и пропустил сквозь пальцы ссохшуюся землю. Она застучала глухо, точно о гробовую крышку.
– Отступница! – прохрипел Степан. – Чуял я, что гнилью пахнет, как от тухлой рыбины. Только не плоть это, а душа гниет.
Он поднял налитые кровью глаза. Зиновья съежилась, затрепетала. Ее тут же подхватил за плечи стоящий рядом муж.
– Батюшка, да я… – пролепетала женщина. – Сынок ведь мой… с того дня все чахнет…
– Чахнет, – эхом повторил Степан и вытерся рукавом. Болезненная дрожь скручивала мышцы, ненависть кипела в крови, обдавало жаром. – Оттого и чахнет, что Слово слабеет. Тут оно, – Черных схватился скрюченными, вымаранными землей пальцами за горло, – клокочет, бурлит, а выходит пустым паром, и наша община теперь как колокол без языка. Питать его некому, нет веры в вас!
– Мы ради Слова жизни перевернули! – отозвался со стороны мужской бас, в нем дрожало возмущение и злоба. – От всего отказались. От дома, от положения, от имени!
– А ты за имя волнуешься? – сощурился Степан, выискивая в толпе крикнувшего. – Или, может, за положение? Прежде Дмитрию Олеговичу, предпринимателю, в ножки кланялись, а теперь брат Арефий сам поклониться должен? Так, выходит?
– Так! – со злостью ответил мужчина, его лицо шло красными пятнами, по лбу катился пот.
– А если так, – прорычал Степан, – что же тогда приполз сюда на брюхе как пес шелудивый? Поезжал бы в столицу, в хоспис. Да только помогла бы тебе химиотерапия, скажи? Помню, помню тебя, Димка. Как мумия высохший был, от боли выл, ноги Захарию целовал. Было?
Арефий молчал, по-бычьи раздувал ноздри. Степан обвел тяжелым взглядом собравшихся людей, ткнул наугад пальцем:
– Ты, Листар, а прежде Антон Пронин. Травма позвоночника, жизнь не в радость, жена ушла. А теперь с Аграфеной душа в душу… Кстати, Аграфенушка! – глаза Игумена нехорошо заблестели. – Не прячь взгляд, не прячь, красавица. Грешила много, без разбору, ну да что там! На ВИЧ теперь анализы отрицательные, верно? – женщина всхлипнула, приникла к Листару. – Не отвечай уж, я сам проверял. А ты, Ермил, в прежней жизни Георгий Силин! – Степан усмехнулся и облизал сухие губы. – Ты сколько в завязке? На героин не тянет? Так вспомни, кому обязан этим! Вспомни, голубчик, и воздай хвалу! Маврей, про дочь твою промолчу, я тебя как никого понимаю, у самого Акулина хворая, а твоя-то Оленька поправилась. Кто ж вылечил ее, скажи?
– Ясное дело, Захарий, – хмуро отозвался брат Маврей.
– Слово! – закричал Степан и рывком поднялся на ноги. Мир помутнел, голову обдало звоном, и он ухватился за плечо жены, чтобы не упасть. – Слово прозвучало над вами, страждущие и болящие, грешные и покаявшиеся! Да только молитесь ли так же часто и с тем же жаром, как делали это раньше? Любите ли Бога, как прежде?
– Любим, батюшка! – плаксиво протянула Меланья и рухнула на колени. – И тебя любим! И Слово чтим!
– Не вижу, – процедил Степан и сомкнул веки. Его трясло, под кожей кололо, точно крохотные черти резвились, прокалывая мышцы раскаленными вилами. – О, горе, горе… Оставил мне Захарий паству непослушную, гордую, своенравную. А я, дурак, не соберу… Допустил, чтобы впали во грех… Преступили законы общины… отступили от веры… оставили силу молчаливой и безъязыкой… Вина на том моя, мне и отвечать!
Стянув через голову рубашку, Степан привычно скрутил пояс в жгут, завязал узлом. Руки дрожали, ветер выхолаживал спину, а изнутри черным валом вскипала злоба.
– Господь милостив, но строг, – срываясь, проговорил Степан. – Когда отступает народ, Он преследует его бичом, пока не вернет обратно к Себе.
Жгут взвился, узел полоснул по плечам.
– Если сыновья оставят закон Мой, – хрипел Черный Игумен, – и не будут ходить по заповедям Моим… – хлыст взвился снова, – если нарушат уставы Мои… повелений Моих не сохранят… – еще удар! – посещу жезлом беззаконие их, и ударами неправду их…
Кожа лопнула, и весь копившийся внутри огонь хлынул наружу. Кто-то вскрикнул рядом женским голосом, Степан не понял, кто. В голове гудел и гудел колокол, с прокушенного языка сочилась кровь, кровью налилось небо, и в качающемся мареве Степан увидел, как повалились на колени люди.
– Грешны, батюшка! – понеслись сбивчивые стоны. – Отступили… каемся!
Белыми крыльями взметнулись срываемые рубашки, алые пояса взвились, захлопали на ветру, наотмашь хлеща по обнаженным телам.
– Наказывает ли тебя Бог? – кричал Степан, запрокинув лицо в раздувшееся, все в рваных ранах небо. – Если так, покайся! Чтобы Ему не пришлось бить тебя более!
Над землей вздернулся и пополз надсадный вой. Чаще засвистели, вспарывая воздух, скрученные в жгуты пояса, в ноздри ударил смешанный запах крови и пота.
– О, возвратись! – хрипел Степан, обливаясь жаром. – Возвратись, отступник, к Слову! Отвратись от греха! Исцели непокорность!
Пошатываясь, точно пьяный, на дрожащих ногах подошел Степан к Зиновье. Та распласталась по земле, вздрагивая худым телом, из-под плотно прикрытых век катились слезы.
– Плачь, отступница, – глухо проговорил Степан. – Со слезами да с кровью вся дурь выйдет. Держи душу в чистоте и вере, а плоть во смирении.
Подошел к мальчишке. Тот все так же стоял, опустив осунувшееся лицо, глядя пустым взглядом под ноги. Степан поддел его окровавленными пальцами под подбородок, повернул голову вправо, влево. Отблеск заходящего солнца отразился в темном зрачке, и тот сразу сузился. На свет реагирует, жив.
– Молись, – почти не слышно, под нос прошелестел Степан, и погладил мальчишку по щеке, оставляя на ней кровавый отпечаток. – Ибо близок всему конец…
Вздрогнул от собственных слов, скрипнул зубами и пошел в избу.
Сердце ныло, захлебывалось черной ненавистью ко всем, оставленным позади, ползающим в пыли, все еще хлещущим себя поясами, ноющим и плачущим. Так им! Больше! Кем они были бы без Слова? Хапуги, воры, наркоманы и проститутки. Отбросы общества. Сжать их всех в кулак, стиснуть до хруста, размолоть в кашу, растереть в труху, чтобы и памяти не осталось от их проклятого семени! Да только пока живут они, живет и Слово. Пока не зазвучит в полную силу, не окрепнет так, что можно будет унести из этого проклятого, пропитанного отравой места, из болот да в большой мир… Ух! Степан бы перевернул землю! Куда до него дураку Захарке, только и умеющему, что лапать за задницу глупую Маланью и довольствоваться тем, что принесут просящие. Не таков его, Степана, путь. Слово прогремит над миром, перевернет его вверх корнями, переломает тела, перекрутит души. Так будет!
В полутемной избе шмыгнули тени.
– Кто тут? – хрипло спросил Степан.
Тени задрожали, уплотнились, обнявшись, точно приросли друг к дружке.
– Акулька?
– С ней все в порядке, батюшка, – раздался робкий девичий голос. – Спала она, теперь я ей сказки сказываю…
– Какие такие сказки? – Степан зажег свет, и кудрявая черноволосая девушка съежилась под его взглядом.
– Разные, – тихо ответила она. – О птицах сладкоголосых, что вьют гнезда в райских землях, поближе к ангелам и Богу. О быстроногой Сивке, о коте Баюне, что показывает послушным детям приятные сны…
– А непослушным? – спросил Степан и, взяв со стола полотенце, принялся промокать иссеченные плечи. Кожа горела, и Степан морщился, но боль была спасительной, поэтому он терпел.
– А непослушных ест, – подала голос Акулина и ее глаза блеснули как два угля.
«Господи, да это ж нечистый!» – бросилось в голову, и Степан замер с колотящимся сердцем, вглядываясь в бледное, будто маска, лицо дочери. Налил из графина воды, выпил, проливая часть на бороду.
– Обдерет железными когтями кожу, – продолжала бубнить Акулина, покачиваясь взад и вперед, – слижет шершавым языком всю кровь, потом проглотит вместе с костями. А кто уйти попробует, того сладкими речами заворожит, и будет спать тот человек три сотни лет без просыпу…
– Но тебя не тронет, – мягко сказала девушка и поцеловала Акулину в макушку. – Ты ведь у нас умница, расскажи папе, как всю кашу съела, а?
– Я съела! – расцвела улыбкой девочка, посветлела лицом и сразу превратилась в любимую Акулину. – Я съела, папенька, еще и добавки попросила. Скажи, почему ты Аленку к нам раньше не водил? – она подняла на отца вопросительный взгляд.
– Буду водить, милая, – откликнулся Степан, подошел и тоже чмокнул дочь в сухой пробор. – Хорошо тебе с ней?
– Очень, очень хорошо! – Акулина обвила Степана худыми ручонками. – Спокойно так, сердечко радуется. А от тебя кровью пахнет…
– Сейчас в баню схожу, и пахнуть не будет.
Степан погладил ее по голову, стрельнул пылающим взглядом вбок. Девушка сползла со скамейки, прянули в разные стороны скрученные в пружинки кудри.
– Позволь, батюшка, – тихо произнесла она и смочила полотенце водой. – Не достаешь ты, я помогу…
И прижала влажный комок к израненной спине. Степан выдохнул. Прикосновения были мягкими, теплыми, руки порхали, как лебединые крылья. Такую бы ассистентку ему, да только та жизнь рассыпалась на осколки, не собрать.
– Тебя как в миру звали? – спросил он.
– Еленой, – отозвалась девушка, аккуратно промокая раны. Ее стан, гибкий и стройный, не смогла спрятать просторная хламида.
– Родные есть?
– Родителей не помню. С младенчества дед воспитывал, да оставил…
– Сирота, значит. А как в общину попала?
– Грешила, батюшка, – зеленые глаза лукаво блеснули, Степана окатило огнем.
– Блудница, значит? – скрипнул зубами он. – Все вы, бабы, не блудницы, так ведьмы. Вон, глазищи какие! И кудри цыганские. Гадала, никак?
– И такой грех есть, – ответила девушка. Блеснули белые зубы, в голосе почудилась насмешка.
Степан круто обернулся, схватил девушку за узкое запястье, и та от неожиданности вскрикнула.
– Кто ты? – хрипло спросил Черных. – Зачем пришла? Говори!
Он дернул на себя. Девушка оперлась ладонью в его грудь, точно приложила раскаленное железо.
– Пусти! – сказала она и уставила на Степана пылающие ведьмовские глаза. – Ухаживать за Акулиной я пришла, словом с ней перемолвиться…
– Словом?! – закричал Степан.
Хлопнула дверь, сквозняк вздыбил белесую тюль, точно мертвецкий саван. Девушка вывернулась, юркнула в проем, мимо вставшей на пороге Ульяны.
– Разошлись все с твоего позволения, Степушка, – пугливо проговорила жена. – И ты бы отдохнул, может, баньку тебе…
Он шагнул к жене, оттолкнул плечом.
– Уйди с прохода! – страшно прохрипел он. – Уйди, зашибу!
И поднял кулак. Лицо Ульяны перекосило плачем, она отшатнулась, бросилась к захныкавшей Акулине, но Степан уже не обращал ни на кого внимания. Слово горело в нем, колдовские глаза полыхали перед внутренним взором, и гибкая фигура маячила на фоне леса, окрашенного в кровь и пепел.
– Аленка! – кричал Степан в похрустывающий пылью воздух. – Стой!
Мир мелькал, точно спицы в колесе: прыгали, проносясь черными полосами, высохшие деревья, между кронами прыгало багровое небо, и ноги заплетались о корни. Девушка перелетала их птицей, оглядывалась назад, но вместо испуга в ее лице Степан чуял что-то иное – томительное, зовущее, – и ломал сапогами прелые, присохшие к земле ветки.
– Стой, ведьма!
Сердце выскакивало из груди, адреналин перехлестывал волною, кровь густела, текла по израненной спине.
– Стерва, стой!
Кресты замельтешили с двух сторон. Белый сарафан мелькнул среди зарослей папоротника, отчетливо выступил на фоне черной покосившейся церкви, где все еще лежало распотрошенное тело Захария.
– Стой! Убью!
Она оглянулась. Споткнулась о трухлявую корягу, рыбкой полетела вперед, на влажный мох. Рыча, Степан повалился следом.
– Вынюхиваешь, ведьма? – хрипел он, впиваясь железными пальцами в худые плечи. – Слово тебе надо? Говори!
Девушка билась под ним, пытаясь вырваться, бормотала сипло:
– Пусти, черт! Уйди, пропади с моего пути!
Вывернув руку, загребла горсть земли, швырнула в лицо Степана. Что-то обожгло щеку, он зашипел, сглотнул слюну, ощутив на губах привкус земли и соли. Степан схватил девушку за плечи, тряхнул так, что ее затылок стукнул о покосившийся крест-голбец.
– Знаешь, кто я? – задыхаясь, проговорил он. – Следишь за мной? Через Акульку подбираешься?
Снова тряхнул, рванул сарафан так, что ткань треснула и расползлась, из-под белой сорочки вынырнул обнаженный холмик груди. Степан накрыл его ладонью.
– Заслоны солью от меня ставишь, – просипел он на ухо, прижимаясь своей заросшей щекой к гладкой девичьей коже. – От кладбища отводишь… знаешь, видно, кто тут лежит?
– Знаю, – через силу выдохнула девушка. – Весь род твой колдовской, проклятый.
– Так, – рыкнул Степан и прижал ее к земле, задирая подол сарафана. Упругое тело извивалось под ним, скакали по могилам черные бесы, текла над головой кровавая река, и кровью пахло остро и горячо, до тяжести в паху. – Была у нас сила… была власть… теперь вернуть надо… и ты послужишь мне, ведьма!
Девушка закричала, когда он вторгся в нее, вжимая в мох, выплескивая всю боль, всю ненависть и злобу. Бесы хохотали, и мертвый Захарий, приникнув к заколоченному окну и поддерживая вываливающиеся кишки, подсматривал ослепшим глазом, приговаривая:
– Так, Степушка… так…
– Так, так! – рычал Степан, вколачивая податливое тело ведьмы в сырой мох.
Черный шпиль Окаянной церкви, точно скальпель, вспорол небо, и оттуда хлынула густая кровь. Залила глаза и уши, выплеснулась из Степана, скрутив его мышцы судорогой, и он захрипел и повалился ничком. Девушка дышала под ним болезненно и тяжко, кусала губы, но не плакала. Поднявшись на ноги, Степан поддернул штаны и застегнулся.
– Вставай! – он подал ей руку.
Девушка молча поднялась, отряхивая сарафан от налипшего сора. Ее покачивало, по искусанным губам тоненько струилась кровь, но глаза оставались сухими.
– Знаешь, у кого Слово? – спросил Степан.
– Нет, – блекло ответила она и отвела потухший взгляд. – Чую, рядом… а где?
– И я не знаю. Может, у меня. Может, у чужака. Или у тебя, ведьма.
Она качнула головой:
– Если б у меня было, меня бы здесь не было.
– Верно говоришь, – ответил Степан. – Видать, у чужака… Знаешь его?
Она кивнула.
– Будешь присматривать за ним и мне докладывать.
Девушка неопределенно повела плечами и вздрогнула, когда Степан стиснул ее руку.
– Будешь! – прошипел он. – Иначе… ты поняла, со мной шутки плохи.
– Я поняла, – прошептала она. – Пусти…
Возвращались молча, порознь. Шагалось легко, место ненависти заняла стылая пустота, и Степа нес ее, как наполненный водою чашу, боясь расплескать.
Мягко хлопнув дверью, Черных прошел к столу, выхлебал половину графина. Ульяна, прижавшись острыми лопатками к стене, следила за ним встревоженными глазами.
– Где ты был?
– Где был, там уже пыль ветер носит, – грубовато ответил Степан. – Подай рубаху, озяб я.
Жена молча подала. Степан медленно оделся, подпоясался, выровнял складку на спине.
– Искали тебя, Степушка.
– Кто? – он снова приложился к графину. Вода зажурчала, охлаждая разгоряченное нутро.
– Арефий с Мавреем, – тихо проговорила жена. – Зиновья вещи собирает, уехать хочет.
– Как уехать?
Степан грохнул графином о стол. Чашки подпрыгнули, из-за занавески высунула любопытный нос Акулина. В прохладной пустоте, поселившейся под сердцем, снова зажегся тревожный огонек.
Над Червоным кутом тянулась тишина. Небо поблекло, затянулись облаками рваные раны, а в избе Маврея кисло пахло потом и страхом. Здесь собралась почти вся община кроме детей и некоторых женщин. Одинаково белые лица повернулись к Степану, одинаково мигнули темные глаза. Многоголовая гидра, на шеях которой Степан затягивал петли, но только подпусти слабину, вмиг вывернется и растерзает.
– Что такое? – спросил он, стараясь, чтобы голос звучал ровно и уверенно.
– Уехать хотела, отступница, – ответил выступивший вперед Маврей, а в прошлом большой чиновник Меркушев Никита Петрович, отец бесноватой наркоманки, которая тоже прижалась в углу, бессмысленно ворочая пустыми рыбьими глазами. – Мы уж отговаривали, батюшка. Скрутили, как могли.
– Вижу.
Степан согнулся, едва не задевая макушкой потолок. Зиновью держали мужики, ее грудь высоко вздымалась, из-под век блестели влажные белки. Ее муж Гурьян стоял подле, трясясь, как в лихорадке.
– Прости, батюшка, – бормотал он, срываясь и обтирая наполненный слюной рот. – Грешен я, не доглядел…
– Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная – как гниль в костях его, – проговорил Степан, подошел к Зиновье, та упрямо вскинула подбородок.
– Пустите меня! – не то попросила, не то простонала она. – Отпустите с сыном. В город поеду, врачам покажу. Нет больше сил моих тут… Олег!
– Гурьян! – поправил муж, стрельнув по сторонам затравленным взглядом. – Придя к Господу и напитавшись Его Словом, мы оставили в прошлом греховные жизни и начали новые.
– Верно, – поддакнула сбоку сестра Олимпия. – Будь смиренна, сестра!
– Сил моих нет! – простонала Зиновья. – Какое смирение… За что Господь одной рукой дает, другой забирает?
– Если отбирает, стало быть, угодно ему! – прошипел брат Арефий. – Вспомни, как сатана искушал Иова, отобрав его богатство, слуг и детей, как поразил его тело проказой. Отвернулся ли тогда несчастный от веры?
– И говорила жена Иова мужу! – крикнула сестра Маланья. – Зачем ты тверд в вере своей? Похули Бога и умри!
– Но отвечал Иов, – мрачно подхватил брат Маврей. – Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?
– Верно говорите, – произнес Степан и взял женщину за подбородок, заставляя ее смотреть в свое спокойное каменное лицо. – Иов не отрекся, а сестра Зиновья отреклась. Куда ты пошла, милая? Кому еще рассказала о своем горе?
– Никому, – прошептала Зиновья, едва ворочая языком от страха. – Только…
– Чужаку, – мрачно закончил Степан, провел по ее губам шершавыми пальцами. – Язык подобен острому мечу, яд аспида под твоими устами. Кто услышит отравленные речи – тот усомнится, кто усомнится – отступится, а кто отступится – навеки лишится благословенного Слова. Не так ли, брат Гурьян?
– Так, батюшка, – угодливо просипел тот.
– Но Господь милостив, – продолжил Степан, – а я орудие в руках Его. И если скажет Он: «Избавь отступницу от уст лживых, от языка лукавого», то исполню. – Он протянул руку ладонью вверх. – Подай мне нож поострее, брат Арефий. А ты, сестра Меланья, полотенце. И держите отступницу крепче.
– Что, что, что? – запричитала Зиновья, выворачиваясь в руках мужчин. – Помилуй, батюшка-а…
Степан с силой разжал ее зубы, вложил скрученное полотенце. Женщина задохнулась, захлебнулась слюной, глядя на Степана расширившимися глазами, зрачки почти целиком затопили радужку. От нее пахло по-особенному остро – отчаянием, страхом, обреченностью. В раскрытом рту ворочался скользкий язык, Зиновья мычала, подергиваясь, как насаженный на крючок мотыль, и сердце Степана защемило, наполнилось жгучей жалостью и любовью.
– Не бойся, – тихо, почти ласково сказал Черный Игумен, погладил женщину по щеке. – Я хирург, и рука моя легка. Я сделаю все быстро.
Наклонившись, он поцеловал Зиновью во вспотевший лоб. Когда острое лезвие коснулось языка, женщина выгнулась и завыла.
24. Исход
Все повторялось, как много лет назад на Тарусской трассе.
Кто-то помог подняться, кто-то настойчиво спрашивал… о чем? Павел не слышал. В голове стоял звон, руки ходили ходуном, в животе раскручивалось огненное злое лассо. Он оттолкнул плечом женщину, протягивающую ему платок, буркнул:
– Я-в-по-ряд-ке…
И побрел по дороге, прихрамывая и загребая носками пыль. В плотно сомкнутом кулаке лежали остатки Пули. Без нее Павел казался самому себе обнаженным и уязвимым, и его беззвучие не было пустым. За навязчивым грохотом Павлу чудился едва уловимый смех. Так мог бы смеяться подросток, взорвавший петарду возле соседского гаража – издевательски, осознавая безнаказанность. Павел оглянулся, но люди маячили обугленными силуэтами на кумаче заката, им больше не было дела до Павла. Краснопоясники давно растворились в конце улицы, и она опустела, только ветер покачивал ветвями яблонь и тополей, да за забором в совершенной тишине бегал пес, вываливая алый язык, будто тоже смеялся над Павлом.
Чертовы сектанты! Павел насмотрелся на них в свое время, когда бабушка таскала его по святым местам вместо того, чтобы собирать деньги на операцию. Слух можно было вернуть! Все можно было повернуть вспять!
Он скрипнул зубами. Смешок повторился, кольнув висок холодной спицей, и ноздри защекотал запах гари. Павел приложил пальцы к голове и ощутил болезненную пульсацию.
– Ос-тавь ме-ня, – вслух произнес он, услышав себя только благодаря вибрации голосовых складок. – Я-не-одер-жим…
«Тогда с кем ты разговариваешь?»
Павел мотнул головой, точно вытряхивая залившую уши воду.
«Правая сторона спит, а в левой черт сидит!» – скрипуче хихикнуло снова.
– Иди-прочь! – прошипел он. – Изы-ди! Вон!
Стиснул кулак так, что хрустнули костяшки. Или это окончательно раскрошился пластик и микросхемы?
– С-сука! – просипел Павел и швырнул остатки Пули в пустоту.
Они бесшумно рассыпались и затерялись в пыли. Кто-то схватил Павла за плечо и развернул так, что вывихнутая лодыжка стрельнула болью.
– Пошел ты…! – крикнул Павел прямо в лицо опешившему участковому.
Михаил Иванович сердито задвигал бровями, раздул крылья носа и произнес что-то невразумительное. Павел сбросил его руку и отшагнул назад.
– Оставь-те…
Участковый снова зашлепал губами, из чего Павел понял только «хорошо» и «машина». Снова тряхнув головой и прижав мизинцем не слышащее ухо, Павел вздохнул раз, другой и произнес как можно понятнее:
– Не… слышу! Сло-мал… аппа-рат… Гово-рите четче, пожа…луйста!
Михаил Иванович полоснул злобным взглядом, но все-таки повторил, как можно яснее выговаривая слова:
– Хоро-шие но-вости, Павел Нико-лае-вич! Следствие сня-ло с вас все по-до-зрения. Вы може-те уезжать. Сегод-ня же я за-ка-жу маши-ну и…
Он замахал руками, показывая за спину, за Троицкую церковь, за убегающий алый горизонт. Огненное лассо, раскручивающееся в животе, сжалось в тугую пружину. Павел остолбенел, непонимающе уставившись на участкового, все еще пытаясь пробиться сквозь обложивший голову звон.
– Я… этим ухом… слышу лучше, – ответил он и приблизился к Михаилу Ивановичу. – Повто-рите… следствие?
– Не нашло улик против вас, – подхватил Михаил Иванович, но на его лице не было радости и не было улыбки, между напряженно сведенными бровями пролегла глубокая складка, словно кто-то рассек переносицу ножом. – На орудии… пре-сту-пления… нет ваших отпе-чатков…
– А чьи есть? – резко спросил Павел.
– Ничьих нет, – на этот раз участковый улыбнулся, но улыбка вышла натужной. – Илья Петро-вич просил пере-дать, что не смеет вас за-дер-живать. Вы можете уезжать прямо…
– Пере-дал лично? – снова перебил Павел и прочитал по губам участкового:
– Лично. Вы сво-бодны.
– А поджог?
Дальше Павел мало что разобрал, но понял: Михаил Иванович втолковывает ему про проводку и замыкание.
«Замыкание в заброшенном сарае, как же!» – хохотнул в голове Андрей.
Павел тронул кончиком языка высохшие губы и сказал сквозь кипящую злобу:
– Я знаю… поджог Чер-ных!
На фоне заката фигура участкового казалась монохромной, ненастоящей, точно нарисованной ребенком. Все его подкопченное лицо подергивалось, брови прыгали, черные губы шевелились, произнося слова быстро-быстро, из чего Павел разбирал только: «чем докажете?», «привлечь за клевету…», «по-доброму предлагаю».
– Я по-звоню Ем-цеву, – не слушая его, произнес Павел. – Прямо сейчас…
Он потянулся за телефоном. Лицо Михаила Ивановича почернело совершенно, из запавших глазниц сверкнули озлившиеся глаза. Павел вытащил мятую бумажку с расплывшимися чернилами, стараясь не глядеть на участкового, набрал номер. Он не слышал гудков, но видел, как по экрану бегут пунктирные линии. Секунда, три, пять, восемь…
Гудок оборвался. Наверное, на том конце женский голос вежливо пояснил, что абонент временно не доступен. От острого разочарования свело зубы.
– Я это-го так не остав-лю, – механически проговорил Павел и сжал телефон, едва справляясь с желанием швырнуть его на дорогу. Повернулся и пошел: лопатки сверлил пристальный взгляд участкового. Было душно и страшно, но за этим страхом таилось безбашенная злоба. Приоткрой дверцу, впусти его за порог и обидчикам воздастся по делам их…
Телефон завибрировал.
Вот сейчас! Сейчас Павел расскажет все, что происходит здесь! Про пожар и полумертвого мальчишку, про драку на похоронах, про участкового, явно покрывающего делишки Краснопоясников, а может, и настоящего убийцу.
Павел с готовностью поднес экран к глазам.
«Это не Емцев», – холодно сказал Андрей.
И оказался прав: звонила Софья.
Павел машинально нажал на кнопку, поднес динамик ко рту и сказал как можно отчетливее:
– Не-слышу… на-пи-шу…
Потом сбросил вызов. На всякий случай обернулся: не преследует ли его Михаил Иванович? Но участкового и след простыл, люди шли со службы, бесшумно и неспешно, точно призраки. Закат кипел, кровь кипела в висках.
Угрюмо уткнувшись в телефон, Павел быстро набрал сообщение:
«Сломал аппарат. Что нашла?»
Отправил.
Ждать пришлось недолго. В ответном сообщении пришло:
«Жаль. Как теперь? Нашла, как звали чиновника, отца бесноватой. Меркушев Никита Петрович. Знакомо?»
«Нет», – ответил Павел.
«Да», – шепнул Андрей.
Звон в голове усилился. Небо покачнулось, прикрыло облаком кровоточащий глаз солнца. Павел вытер пот ладонью.
«А так?» – пришел ответ. И вместе с текстом – фотография.
Скуластое лицо, тяжелый выбритый подбородок, пронизывающий взгляд и дорогой костюм.
«Не знаю! – мысленно простонал Павел. – Не видел! Откуда?»
«На похоронах», – подсказал Андрей, и внутренности обдало жаром. Медленно, точно во сне, Павел вытащил из кармана еще одну мятую бумажку – ту самую, подпаленную с края, найденную в подвале сарая, – прикрыл нижнюю часть лица на портрете. Тусклый экран подсветил буквы, и Павел шевельнул губами, прочитав написанное на клочке имя:
«Меркушев Никита Петрович».
Бывший чиновник, а теперь Краснопоясник, сектант. Это он держал гроб с телом Захария, когда случилась драка, и он оттаскивал разбушевавшегося Степана.
«Узнал!» – удовлетворенно проскрипел Андрей, и тишина лопнула: где-то за спиной затрезвонили колокола.
– Да замолчи, ты! – зашипел Павел и, выронив листок, сжал ладонями виски.
Налетевший ветер подхватил клочок бумаги, закружил, понес вдоль улицы. Павел очнулся и, хромая, бросился следом, подхлестываемый в спину колокольным звоном, а мысли неслись вскачь.
Значит, уходили в секту не только спившиеся деревенщины и замученные домохозяйки вроде матери Леши Краюхина, но и довольно крупные фигуры. Павел и таких повидал: в слепой вере, в погоне за чудом отдавали последнее, деньги перечисляли секте на правах пожертвований, и теперь слова бабки Матрены о том, будто Захарий был для деревни «кормильцем» приобрели новый смысл. Рука руку моет. Неудивительно, что участковый заодно с Краснопоясниками. Интересно, знает ли об этом Емцев? Павел обязательно свяжется с ним, он выведет этих фанатиков на чистую воду, а его статья взорвет общественность!
Мимо, поднимая пылевые вихри, пронесся на мопеде Кирюха. Резко затормозив, свесился с сиденья и ловко подхватил листок.
– Дай-сю-да! – выкрикнул Павел. – Мое!
Выхватил бумажку из потной Кирюхиной ладони и запихал в карман. Дышалось тяжело, в ноздри набилась пыль. Павел высморкался прямо на дорогу, обтер взмокший лоб. Кирюха зашлепал губами, и Павел едва уловил слова «Червон…», «страх» и «убьет».
– Го-вори четче! – сердито произнес Павел. – Кто-убьет?
– Сте-пан! – по слогам выговорил Кирюха. Его зрачки плясали, от куртки пахло потом и соляркой. – Машин-ка где?
– Сломал, – ответил Павел.
– Черных?
– Да.
Кирюха съежился.
– К мам-ке соседка при-ходила, – заговорил он. – Ви-дела как… крас-но-поясники себя сте-гали… кричали… страшно!
Павел сплюнул от досады и выдержка давала трещину. Ох, как же он сейчас их ненавидел! За каждый проведенный в тишине год, за каждый сочувствующий взгляд со стороны, за каждую ложь. Вынув телефон, повертел в руках, поглядывая на экран – не перезвонит ли Емцев? Не перезвонил.
– Бо-имся Степана, – продолжил Кирюха. – Ра-зо-шелся не на шутку. Ты бы уезжал, дядя. Жалко…
– Не уеду, – упрямо ответил Павел. – И на Чер-ных найдется упра-ва.
Кирюха распахнул глаза.
– Что-то заду-мал, дядя?
– Задумал кое-что. Па-латка у тебя есть?
– Нету, – удивленно ответил Кирюха и в подтверждение слов мотнул головой. – Тебе зачем? В по-ход собрал-ся?
– Вроде того. За-цепка есть. Оста-лось узнать, отку-да пошло Слово.
– На Леша-чью плешь собрался? – сразу понял мальчишка. В глазах мелькнул страх, потом исчез, сменившись хулиганским восторгом. – Ух, дядя! Ух!
– Так что? – нетерпеливо спросил Павел. – Дашь палатку?
– Нету у меня, – с досадой ответил Кирюха. – Спаль-ный ме-шок есть. Мам-ка на чердак за-кинула. Погоди, при-везу.
– Вези. У Мат-рены буду.
Мальчишка театрально взял под козырек и рванул по дороге, обдавая Павла пылью и выхлопами.
Закат истекал последней сукровицей. Павел собирался поспешно, сначала принялся по привычке педантично складывать футболки, а потом плюнул и побросал, как попало. До предела зарядил аккумуляторы телефона и камеры, пролистал блокнот с записями.
Наверное, Емцеву будет интересно увидеть эти записи. Павел набрал ему смс: «Перезвоните. Есть разговор», потом отключил телефон – аккумулятор нужно экономить.
– Куда собрался на ночь глядя, милок? – с подозрением спросила бабка Матрена, поймав Павла в коридоре. – Поезда уже не ходют.
– Вер-нусь, – ответил он, на ходу застегивая куртку. – Через день-другой. Вот, – он порылся в кармане и протянул деньги, – на буду-щее. Нико-му ком-нату не сдавайте.
– Раз так, другое дело, – довольно ответила бабка Матрена и перекрестила постояльца. – Бог в помощь!
Звон разбитого стекла Павел услышал и без Пули. Вскинул голову и замер, прислушиваясь. Звон повторился. Бабка Матрена отскочила к стене, заверещала, взрезая криком плотную тишину, потом бросилась в кухню. Павел скинул сумку и шагнул следом. Глухие удары дробно прокатились над головой, и Павел инстинктивно пригнулся, вжимаясь в стены и озадаченно озираясь по сторонам. Тишину рвал собачий лай, топот бегущих ног и хулиганский свист.
Выскочив в кухню, Павел заметил, как за окном мелькнула тень. Жалобно дзенькнуло стекло в раме и взорвалось осколками. Павел бросился вперед, не сшибив с ног бабку Матрену. Над головой просвистело что-то тяжелое и ударилось в стену. На волосы посыпалась побелка.
– Ах, Господи! – плаксиво причитала бабка, неповоротливо ворочаясь рядом с Павлом. Он слышал, как хрустят артритные суставы, как из груди выходят всхлипы. – Кого я прогневила? За что же такое наказание?
Павел поднялся, опираясь о стену и стряхивая с макушки пыль. Возле стены лежал немалых размеров булыжник. Камни продолжали градом осыпаться с крыши, заходился лаем старухин пес, бренча цепью, потом вдруг взвизгнул страшно и высоко.
– Мухтар! – закряхтела Матрена, с трудом поднимаясь на ноги. – Мухтарушка-а!
Павел кинулся к дверям. Камень просвистел совсем рядом, грохнул в оштукатуренную стену, и она лопнула, как скорлупа, пошла крупными трещинами. У будки, перетянутый цепью, как удавкой, лежал пес: шерстяные бока ходили ходуном, возле головы растекалась кровавая мокрая лужа.
– Убирайся! – услышал Павел полный ненависти окрик. – Чужак! Вон!
За калиткой маячила тройка пацанов в белых рубахах, перетянутых поясами. Увидев Павла, один из мальчишек показал ему неприличный жест и хрипло засмеялся.
– А как же гово-рится, – крикнул Павел, – кто без гре-ха… пусть первым бро-сит ка-мень!
– Мы были безгрешны! – крикнул кто-то со стороны уже взрослым мужским басом. – А ты осквернил! Убирайся!
– Скверна в тебе! – заверещала женщина, вороньим пугалом вставшая за кустом. – Червь в тебе! Вижу! В тебе!
«А-а! Черви! Кормите рыб!» – отозвался эхом в голове.
Павел не успел увернуться от нового камня, и скривился от прицельного удара в плечо. Оно тотчас взорвалось болью, глаза заволокло кровавой мутью.
– Паршивец! – зашипел он. – Получи!
Подобрал камень, но швырнуть не успел. Дверь толкнула его в спину, на крыльцо вывалилась бабка Матрена и, увидев издыхающего пса, завыла в голос:
– Мухта-арушка! Да что же… Ох, горе-е!
– Смотри, бабка! – нахально крикнул один из мальчишек. – И с тобой то же самое будет!
– Любишь гроши, Матреша? – кривляясь, прокричал другой. – Держи миллион!
И швырнул булыжник. Он поскакал по железному козырьку, отдаваясь в ушах грохочущим звуком – бум! бум! – будто сумасшедший ударник что есть силы лупил в тарелки. Дрожа от ярости, Павел заковылял с крыльца. Мальчишки прыснули в разные стороны, силуэт женщины за кустами исчез, словно растворился в надвигающихся сумерках.
– С-суки! – повторял Павел. – Долбанные фанатики! Убью!
Подобрал камень, но выронил. Рука наливалась тяжестью, из груди выходили надсадные хрипы, и сзади голосила бабка Матрена, оплакивая пса и почем зря кроя самого Павла.
– Из-за тебя все, изверг! Из-за тебя Мухтарку пришибли! Гляди, сколько бед натвори-ил!
Павел оглянулся, раздувая ноздри, в груди вскипала черная ярость.
– Надо идти к участковому! – выцедил он, но тут же поправился: – В город, к Емцеву. Пишите заявление, я в свидетелях буду.
– Тьфу, пропади! – плюнула бабка Матрена. – Чтоб тебя тут духу не было! Ббумажки свои поганые забери! – Она выгребла из кармана деньги и швырнула их в Павла. – И не возвращайся! На порог не пущу!
Павел глянул исподлобья. Кровь приливала к голове, пульсировала в висках, и до одури хотелось закурить. Он с досадой хлопнул по карману, сплюнул под ноги и, хромая, поднялся на крыльцо. Там подхватил брошенную сумку, перекинул через плечо.
– А ведь инвалидом прикидывался, – услышал он полный ненависти шипящий голос бабки. – Я поверила, дура!
В сумерках ее глаза блестели как два бутылочных осколка.
25. Сообщники
– А я тебе тут тушенки приволок, дядя, – говорил Кирюха, старательно произнося слова, хотя Павел слышал и так – не очень четко, будто через подушку, но после многолетней тишины и это было чудом, а Кирюха все продолжал выгребать из рюкзака домашнюю снедь, приговаривая: – А еще хлеба. И вот огурцов малосольных. И колбасы домашней. На-ка!
– Ограбил мамку! – качал головой Павел, но про себя улыбался. Забота мальчишки была ему приятна. – Не хватится?
– Не! – махнул Кирюха рукой. – Она с сеструхой сидит, приболела малая. Я вот тоже тебя провожу, да обратно поеду.
– Можешь не провожать. Сам доберусь.
– Ага, как же! – хмыкнул мальчишка. – Ты дорогу-то на Лешачью Плешь знаешь? Поди, каждый день туда ездишь?
Павел покачал головой. В этом Кирюха был прав, дороги Павел не знал и спросить не у кого, ведь не у Степана Черных, правда?
– Вот я и говорю, – мальчишка запихал все принесенное в сумку Павла и крутанул педали, заводя мопед. – Провожу да лесу и обратно поеду. Не ссы, дядя! Со мной не пропадешь!
– Верю, – разулыбался Павел и плюхнулся позади Кирюхи, закрепив сумку на багажнике, куда уже был свален спальный мешок. – Выдержит железный конь?
– А то! – прокричал мальчишка, теперь уже менее внятно. – Ты… держись… не бухнись! В объезд, нах…!
Мопед запрыгал по разбитой дороге. Павел ухватился за сиденье, боль отдавала в плечо – перелома не было, а вот синяк получится изрядный. Но куда больше беспокоил вернувшийся слух.
«Одержимость, одержимость», – бесконечно крутилось в голове.
Павел стискивал зубы и подставлял лицо встречному ветру. Он дул от реки, нагоняя прохладу и сырость, сама Полонь широкой серой лентой разворачивалась справа, слева катились назад одинаковые срубы Червоного кута, а впереди тайга разевала пасть, густо усаженную частоколом деревьев.
Кирюха не шибко гнал, ловко лавируя между разлапистыми елями. Места он явно знал, и старательно объезжал старообрядческое кладбище, хотя время от времени Павел все равно замечал кресты, то тут, то там выскакивающие из-за стволов, и черная церковь подслеповато вглядывалась в сумерки, провожая Павла голодными пустыми глазами.
«Не возьмешь! Не догонишь!» – думал он, по-мальчишечьи подскакивая на сиденье, и следил, как тонкий луч фары разрезает густеющую темень.
Ехали недолго. Вильнув в сторону, Кирюха остановился у склона холма, поросшего молодым ельником, и выгрузил сумку и спальник.
– Дальше, дядя, сам, – еле слышно проговорил он. – Там… вода, – он махнул рукой в сторону. – Идти туда, – указал за спину, – на северо-восток, по течению. Не заблудишься, тут тропа. Ориентируйся на экскаватор пустой… дальше шлагбаум. Выйдешь на железную дорогу… узнаешь. Заросшая, правда, раньше вагонетки ходили, а теперь ничего нет. Выведет!
– Спа-сибо! – поблагодарил Павел и пожал протянутую худую руку. – Ты как один вер-нешься?
– Я тут каждый куст знаю! – засмеялся Кирюха. – Сам не пропади! А хочешь, утром раколовку выну, уловом поделюсь?
Павел качнул головой. Надеялся, что утром уже будет в пути, рассиживаться ему некогда.
– Ну, бывай! – глаза Кирюхи задорно блеснули в темноте. Подумал и добавил: – Дядя… ты правда слышишь?
– Не-много, – ответил Павел и коснулся уха.
Дождавшись отъезда Кирюхи, он насобирал хвороста, натаскал бревен и разложил костер. Из подаренной фляжки пахнуло керосином, и Павел снова мысленно поблагодарил предусмотрительного мальчишку: скомканные газеты и сухие ветки вспыхнули быстро и разгорелись на славу, озаряя темнеющий лес неровным оранжевым светом.
Подкрепившись бутербродом, Павел включил телефон. Связь едва ловила, а во входящих смс уже светилось сообщение от Софьи: «Кое-что нашла. Прочитай это». Разложив спальный мешок, Павел устроился поудобнее и открыл вложенную картинку. Это были снимки книжных страниц, шрифт довольно мелкий, но Софья постаралась сфотографировать так, чтобы и Павел смог прочесть.
«Одержимость бесами или беснование – это состояние, в котором человек подчинен одному или нескольким духам. Сознание человека в такие моменты раздваивается, он говорит то за себя, то от имени живущего в нем беса, но ничего поделать не может. Чаще всего сознание отключается, и бесноватый даже не знает, что вытворяет. В припадке беснования голос у человека меняется, он может богохульствовать, кричать по-звериному, поедать несъедобные предметы…»
Павел вспомнил червей и привкус земли, сплюнул и вытерся рукавом.
«Человек может быстро терять в весе, но при этом иметь невиданную силу, – продолжил читать он. – Во время припадков проявляется так называемое «автоматическое письмо», словно кто-то невидимый водит рукой несчастного, бесноватый чувствует странные запахи вроде серы, бормочет на несуществующих языках. Припадки особенно часто происходят на церковные праздники вроде Пасхи или Рождества Христова, а также в церкви во время молитвы, чтения Евангелия, причастия и попыток отчитать бесноватого.
Издревле такую болезнь называли кликушеством, потому что несчастный во время припадка «кличет» разными голосами. Одержимых женщин называют кликушами, они не причиняли зла, а только являлись жертвами нечистой силы. Считается, что кликуши, или, вернее, сидящие в них бесы, умеют предсказывать будущее или видеть человека насквозь, говорить о нем то, что скрыто от посторонних глаз…»
Павел с трудом оторвался от чтения и протер глаза.
«А ведь это про Акулину», – подумалось ему, и вспомнилась первая встреча с девочкой, ее выгнувшееся тело, безумный взгляд и голос, словно не принадлежащий ей:
«Правая сторона живет, левая гниет!»
Павел тряхнул головой. Мелкие буквы плясали, огненные искры вились вокруг, тишина была плотной, почти осязаемой – протяни руку и погрузишься в густой кисель. Придвинувшись к огню, Павел читал дальше:
«Наравне с теми, кто считает беснование и кликушество разновидностью психического заболевания, другие склонны видеть в этом проявление так называемой шаманской болезни.
Считается, что в раннем детстве или юности будущий шаман переживает глубокое психическое потрясение. Кроме состояния, близкого к помешательству, и мучительных переживаний человека преследуют физические недуги. Например, эпилептические припадки, истерия, потеря сознания, перепады давления, непонятные боли, в том числе локализованные там, куда по поверьям входят духи: в живот, и тогда у избранного начинается расстройство желудочно-кишечного тракта, или в горло, и тогда человек длительное время болеет ангиной. Трансформация происходит у всех по-разному, и сказать, сколько продлятся симптомы практически не возможно. Но в итоге под действием силы раскрывается внутренний потенциал, болезнь прекращается полностью, когда шаман проходит инициацию и учится контролировать ее…»
Здесь текст обрывался. Павел с досадой поскреб переносицу. Хорошенький выбор: псих, одержимый или инициированный колдун. Интересно, что из этого подходит ему, Павлу? Мысли разлетались пеплом, в голове качался туман. В конце концов, он набрал сообщение: «Спасибо за информацию», отправил.
Ответ пришел незамедлительно:
«Рада, что пригодилась. Как ты?»
Как он после чего? После мысленного разговора с погибшим братом? Или после бомбардировки камнями? Или сейчас, в ночном лесу возле подрагивающего костра, над которым уже вьется жадная таежная мошкара? Павел подумал, что в довершении ко всему не мешало бы взять с собой репеллент, ухмыльнулся, представив, в какого опухшего от укусов красавца превратится к концу своего путешествия, и написал:
«Иду на Лешачью Плешь».
«Опасно!», – испуганно мигнул телефон.
«В деревне тоже. Сектанты разбушевались. Участковый взяточник, покрывает».
На этот раз сообщения не было довольно долго. Павел ждал, устало глядя в потрескивающий костер. Ночь густела, качались еловые верхушки, стряхивая отмершую хвою. Наконец, телефон ответил тревожным:
«Краюхины продали квартиру. Мальчику хуже. Соседи говорят, уехали лечиться. Куда не знают».
Павел не удивился. Конечно, измученная женщина в захламленной квартире сказала тогда, что собирается переехать в Доброгостово. Значит, вскоре появится в секте под именем какой-нибудь Анисьи. Тревожили слова, что после кратковременного улучшения мальчику снова стало хуже. Снова побочный эффект Слова?
Задумавшись, Павел едва не пропустил сообщение, поступившее вдогонку:
«Я приеду».
Павел хмыкнул: довольно с него одержимых. Да и появление настырной журналистки уж слишком всколыхнет это стоялое болото. Сначала бы разобраться самому…
Написал: «Не нужно. Я буду вне зоны доступа. Если не появлюсь на связи через три-четыре дня, позвони по этому телефону. Емцев Илья Петрович».
И отправил номер. Надо отдать Софье должное, она не задавала лишних вопросов, а коротко ответила:
«Поняла. Сделаю».
С облегчением вздохнув, Павел отключил телефон и залез в теплый спальник.
Ночь подкатилась под бок и улеглась рядом. Павел ворочался, думал об одержимости, о Софье, о мальчике с пустым лицом, но мысли перемешивались, утекали сквозь пальцы, не ухватишь. Сон накатывал тяжелый, как волны Полони. Павел тонул в нем, ворочался, морщась от боли в плече и подвернутой лодыжке, задыхался и несколько раз подскакивал с тяжелой головой и колотящимся сердцем. Промучившись так какое-то время, вовсе оставил попытки заснуть, выбрался из спальника и сел у прогоревшего костра – всклокоченный, злой. Поворошил угли, запалил новый огонек и от него прикурил сигарету. Горьковатый дым поплыл над головой, тая в черничной вышине. Там мягко шелестели еловые лапы и блекло посверкивал зрачок луны. А здесь, внизу, со всех сторон обступала тьма. Костерок играл, лениво выплевывая пепел в загустевший воздух, и Павел задумчиво глядел в огонь, будто пытался разглядеть в нем разгадку тайны Доброгостова, где оживали мертвые и властвовало Слово.
Докурив, Павел поднялся и размял затекшие ноги. Включил телефон, чтобы проверить время. Часы показывали три пополуночи, ни вызовов, ни сообщений не поступало. Павел решил прогуляться до реки: сон все равно не шел, а освежить усталую голову не помешало бы.
Подсвечивая дорогу фонариком, побрел через заросли боярки и папоротника, внимательно глядя под ноги, чтобы не споткнуться о какой-нибудь узловатый корень или не провалиться в мышиную нору. Стояла гнетущая тишина, настолько плотная, что Павлу казалось, будто он продирается сквозь желе. Блеклый луч прыгал впереди, выхватывая из густой черноты то перевернутые пни, то заломы, как будто нарочно перегораживающие путь, и там, где оказывался бесполезен слух, и нельзя было положиться на зрение, Павел ориентировался на запах.
С реки тянуло сыростью и тиной, а вскоре показалась и она, блеснув чешуей волны между частоколом деревьев – широкая черная лента, несущая воды между крутыми, поросшими елями, берегами. Откуда текла она и куда впадала? Сколько тайн скрывала на глубине? Выживший мальчик Евсей вернулся только наполовину, оставив на дне Полони нечто важное, что делает человека человеком, и воскресить по-настоящему не мог и таежный мессия. Или сам не умел пользоваться Словом в полной мере, или после его смерти сила пошла на убыль.
Снова вспомнился ритуал: пляшущие фигуры, развевающиеся белые рубахи. Вот и одна из них мелькнула за валунами.
Павел выпрямился. Фонарик полоснул светом по крутому склону, высветлив морщинистую кожу камней, вывороченные корни и заросли папоротника.
– Эй! – сказал Павел и не услышал собственного голоса, только сглотнул сырой воздух и кашлянул, прикрывшись кулаком.
Лес возвышался сплошной стеной, сквозь черноту не разглядеть даже огня от костра. Да и кто тут может быть кроме Павла?
Краем глаза уловил движение за спиной. Круто обернулся, но различил только расходящиеся по воде круги. Наверное, рыба плеснула и ушла на глубину. Под светом фонарика волны рябили как помехи в телевизоре. Павел нажал на кнопку и провалился в темноту.
Теперь мир освещала только луна. Помаргивая сквозь дымную облачность, она истекала стылым серебром, и лес по ту сторону реки стал однородным и плотным, словно вырезанным из картона. Павел оглядывал камни, похожие на сваленные в кучу прогнившие черепа, на корни, напоминающие застывших угрей. Все чувства обострились, под кожей ходили зябкие волны, и Павел раздувал ноздри, втягивая запахи влажной земли, тины, гниющей хвои, далекого костра и почему-то мокрой шерсти…
Воздух колыхнулся, справа мелькнуло белое пятно. Круто повернувшись, Павел включил фонарик и рассек темноту лучом. В животе перевернулся страх.
Белый призрак, возникший на ближайшем валуне, глянул фосфоресцирующими круглыми глазами, потом бесшумно скользнул вниз. Хлестнули по воздуху широкие руки-крылья, с берега посыпались мелкие камешки и сор, и сквозь плотную пелену безмолвия донесся короткий вскрик.
Павел метнулся к валуну. Луч фонарик зашарил по воде, выхватывая барахтающуюся фигурку, облепленную брызгами, как бисером. Нелепо хлопая по воде руками, человек поплавком выскакивал на воздух, заглатывал его широко раскрытым ртом и снова уходил под воду.
Зажав фонарик в зубах, Павел принялся спускаться к воде. Подошвы скользили по мокрым камням, подвернутая нога ныла.
– Спа… си! – крик проколол тугую поролоновую тишину, и она распалась на лоскуты. С каждым шагом Павел слышал все лучше: плеск воды, шорох ветра в елях, и бульканье тонущего человека.
– Держись! – крикнул он и нагнулся над водой. Здесь течение еще не вошло в полную силу, несчастный барахтался среди камней, как в маленькой запруде. Павел одной рукой ухватился за корень, другой – за белеющую мокрую рубашку, и потащил.
– Ну! Раз, два…
Человек, в свою очередь, обвил запястье Павла липкими, как водоросли, пальцами. Еще немного… вот!
Вскарабкавшись на камень, человек согнулся пополам, отплевываясь от воды. Мокрые кудряшки совсем завесили лицо, но Павел уже разглядел хрупкие плечи и женственные изгибы, облепленные намокшей тканью.
– Леля? – удивленно выдохнул он и зажег фонарик.
Девушка вскрикнула и закрылась от света ладонью. Павел отвел луч и вытер вспотевшую шею. Страх сменился удивлением, а удивление – злостью.
– Сле-дила? – хмуро спросил он.
Она вскинула испуганное лицо и замотала головой.
– Врешь! – непреклонно отрезал Павел. Дышать было тяжело, запах мокрой шерсти стал острее, щекотал нос так, что хотелось чихнуть.
– Немножко, – наконец, шепотом призналась девушка.
– Сбе-жала? – переспросил Павел и снова направил фонарик на ее лицо.
Лелины губы затряслись, зацокали зубы.
– Сбежала! – сказала она. – Сам лютует… Карами грозит, плетьми хлещет… Страшно!
– И куда шла?
Она опустила голову, и Павел едва разобрал по губам:
– Не знаю… куда угодно… подальше отсюда!
Вода стекла с нее ручьем, и теперь, когда наступал адреналиновый отлив, Павел почувствовал, что тоже замерзает. Он тронул ее плечо – мокрое, ледяное, пахнущее тиной.
– Идем! – сказал он как можно громче, чтобы слышать собственный голос, и, сбросив куртку, протянул ее девушке. – Переоденься. Обсохнешь и все расскажешь.
26. Кто без греха?
Среди ночи в ставни коротко постучали. Ульяна заворочалась во сне, но так и не проснулась, лишь крепче обняла подушку. В полумраке, освещенная лишь серебристым лунным светом, она была красива прежней ведьмовской красотой: вечный испуг изгладился с лица, как и мелкие морщинки вокруг глаз, скрученные пряди волос расползлись по простыне, точно змеи с головы Медузы Горгоны. Поднимет веки и полоснет по Степану ледяным взглядом, а тот окаменеет, не успев дотянуться до ставен. Тьфу, нечисть! Пропади!
Ступая на цыпочки и обжигая ступни о холодный пол, Степан отошел к окну и выглянул. Лицо брата Листара, прижатое к стеклу, напоминало выбеленный холст.
– Михал Иваныч к тебе идет, батюшка, – дохнул в приоткрытую раму холодом и тревогой брат Листар.
– Что надо?
– Черт знает!
Степан ухмыльнулся в темноте.
– Знает. Да нам не скажет. Неужто, брат Гурьян что-то выболтал? Жена его где?
– Под замком сидит, – тихо ответил Листар. – Вместе с Гурьяном. Следим за ними, не могли разболтать, а Зиновье и нечем… Может, про чужака спросить хочет?
– Среди ночи? – повел цыганскими глазами Степан, и Листар пригнулся под его взглядом. – Хорошо же вы его напугали, чуть Матренину избу не завалили.
– Перестарались, батюшка. Кто же думал…
– И то верно. Не положено пастве, за вас пастырь думает, – Степан помолчал и велел: – Ступай!
Брат Листар растворился в серебристом свете, заливающем Червонный кут. Степан аккуратно прикрыл ставни и, повернувшись, напоролся на острый взгляд жены. Вздрогнул от неожиданности.
– Тьфу на тебя, – негромко проговорил он. – Напугала, бесовка.
– Что случилось, Степушка? – тревожно спросила Ульяна, подтягивая одеяло к подбородку, глаза взволнованно поблескивали.
– Участковый идет, – ответил Степан. – Сиди смирно, за Акулькой смотри.
Ульянино лицо скуксилось, сморщилось, стало совсем маленьким и жалким. Степан отвернулся, борясь со смешанным чувством злобы и жалости, принялся поспешно натягивать рубаху. Подпоясаться не успел: в дверь постучали.
– Открывай! – послышался глухой оклик. – Михаил Иваныч это!
Черных отодвинул засов, приоткрыл дверь на пол-ладони.
– Тихо, моих разбудишь, – прошипел он. – Чего явился?
– Поговорить хочу, – хмуро ответил участковый. – Жалобы на тебя, Черных. – В лунном свете он выглядел нездоровым, обрюзгшим и неопрятным, с тяжелыми мешками под глазами. – Может, впустишь?
– Тут поговорим, – холодно ответил Степан. – Жалуется кто?
– Матрена Синицына, – ответил участковый. – Ей окна сегодня камнями поколотили и собаку убили. Слышал?
– Нет.
– А чего рубаха в пятнах? – сощурился Михаил Иванович. – Не кровь ли?
– Кровь, – не стал отпираться Степан. – Жена отстирать не успела. Вера у нас такая, Мишенька. Чтобы душу очистить, надо плоть усмирить.
– Хорошо же вы плоть усмиряете. До кровавых ран. А ведь среди вас дети… Нехорошо!
– Детей мы не трогаем, сам знаешь. Они и так душой чисты.
– Эти твои чистые душой Матренин дом и побили, – мрачно заявил Михаил Иванович. Прикурил папиросу, пыхнул Степану в лицо. Тот недовольно сморщился.
– Это Матрена сказала?
– Она самая, – дым окутал участкового серым коконом. Луна сияла за его спиной, как нимб, и от этого лицо Михаила Ивановича то проваливалось в густую тень, то выныривало на свет, становясь гипсово-белым и почти неживым. – А еще пожар недавний… Тоже на тебя грешат. Я хоть и знаю, что ты в ту ночь далеко от Доброгостова был, да ведь другие Краснопоясники здесь оставались.
– Рыбари Господни, – поправил Степан, тронув медную подвеску. – Пожар на меня не повесишь, не старайся. Это чужака рук дело. За то Матрена и поплатилась, что его приветила.
– А Емцеву Илье Петровичу мне то же самое доложить? – окрысился участковый. – Не ровен час, вскоре сюда явится и разгонит вас к чертям собачьим!
– Придет время, сами уйдем, – отозвался Степан спокойным тоном, хотя внутри так и подкатывала жгучая лава. – Дай только Слову окрепнуть…
– Это дерьмо ты в уши своим дуракам заливай, – зло сплюнул Михаил Иванович. – А мне и без того тошно. Висяк нераскрытый камнем на дно тянет! Не ровен час, все друг за другом как домино повалимся!
– А ты сделай, чтобы не повалились, – ответил Степан. – Найди, кто убил.
– Илья Петрович тебя подозревает, – сказал участковый и глянул недобро сквозь дымную взвесь. – Что скажешь?
– Ложь, – скрипнул зубами Степан. – Есть доказательства?
– Полено чистое, а в доме отпечатки и твои, и Маланьи, и много кого еще, даже Акулины. Вокруг Захария кто только не отирался. И убить мог, кто угодно. Старец хлипкий да больной, ткни пальчиком, и сам о печь брякнется. А там и добить легко.
– Чужак убил, – упрямо проговорил Степан. – У него и Слово.
– Где он, кстати?
– А его нету, – послышалось за спиной. Черных обернулся.
Встрепанная, в длинной белой сорочке, девочка стояла, слегка покачиваясь с носка на пятку. Ее голова склонялась то к правому, то к левому плечу, рот кривился в застывшей усмешке, глаза пылали как угли.
– Его кот Баюн съел, – продолжила Акулина не своим, а более низким и скрежещущим голосом. – Заманил в лес, заворожил песней, а потом убил. Ободрал кожу и нализался крови. Сла-адко!
Жутко ухмыльнувшись, Акулина снова покачнулась и осталась стоять на носочках, вытянув тело в струнку. Руки безвольно болтались, лишь скрюченные пальцы подрагивали, будто наигрывали на невидимых клавишах.
– Иди в кровать, Акулина, – произнес Степан. Язык не слушался, ворочался деревянной щепой, в уголках рта собралась слюна, и Черных вытерся рукавом.
Акулина стукнула пятками об пол. Ее глаза завращались и уставились на гостя.
– Мишенька! – скрипуче протянула она. – Любишь зверюшек пострелять? Кот и до тебя доберется. Глаза у него зеленые, одна лапка беленькая, язык змеиный, а зубы и когти железные. Обдерет и тебя, миленький, – девочка гнусно захихикала. – Вот потеха будет, Мишенька! Вот потеха, когда твою шкурку вместо медвежьей в чертовом доме повесят!
– Акулина! – из дома выскочила Ульяна, прижала к себе дрожащую дочь, глянула поверх ее головы с ненавистью. – Что девку пугаете? Не видите, худо ей!
Степан молчал. За его спиной мелко дрожал Михаил Иванович. Папироса прилипла к нижней губе, и пепел сыпался вниз.
– Иди, – тихо сказал Степан. – После поговорим. Мне девчонку уложить надо, теперь всю ночь плакать будет.
Участковый вздрогнул и выронил папиросу. Она светлячком упала в траву, в последний раз подмигнув Степану, потом погасла. Не слушая бормотаний, Черных захлопнул дверь и привалился к ней спиной. Гнусный смех все еще стоял в ушах, хотя Ульяна давно увела дочь в спальню и там баюкала ее: до Степана доносились невнятные причитания.
Вытерев лоб, Степан прошел следом. Акулина сидела на краю кровати, неподвижная и задумчивая, сосала палец.
– Ну что ты, милая? – по-доброму спросил Черных. – Что ты…
Протянул руку, чтобы погладить девочку по взъерошенным волосам, но тут же между ним и дочерью встала Ульяна.
– Не тронь! – зашипела она. – Убью!
Степан застыл.
– Спятила, Ульяна? – медленно спросил он, дрожа всем телом. – Или забылась?
Она вздохнула, каменное лицо оттаяло, губы обвисли.
– Степа… – прошептала жена и опустилась рядом с дочерью. – Страшно мне… за тебя страшно, за доченьку… Не будет покоя, пока мы здесь. Уедем, а?
– Опять за свое! – прикрикнул Степан и хлопнул ладонью по спинке кровати. Акулина вздрогнула и захныкала, повалившись лицом в подушку. – Сказано, не время!
Ульяна замолчала, затеребила подол сорочки. Пот катился по ее вискам, волосы слиплись и висели сосульками, тени сновали за спиной, шептались.
– Страшно, Степушка, – повторила жена. – Неспокойно на сердце… душно!
– А чего же страшишься? – спросил Степан. – Сказано: Господь свет и спасение, так кого бояться, если в сердце вера?
– Сам ты во что веришь, Степушка? – подняла горящий взгляд Ульяна. – Ведь не в Бога, знаю. А в то, что мертвый старик силу передать мог. Только где она, эта сила?
Акулина всхлипнула и притихла, точно прислушалась. Степан наклонился, погладил по волосам.
– Близко, чую. Старик хитер был, так просто не отдал. Знать бы, кто убил…
Ульяна опустила лицо. Волосы свесились на лоб, налипли к бледной коже.
– А узнаешь, что тогда? – шепотом спросила она.
– Душу выну, – ответил Степан и оскалился в полумраке. – Вместе со Словом.
Акулина под его рукой тоненько выдохнула носом и задышала ровно-ровно, погружаясь в дремоту. Но Степану было неспокойно. Тяжко, тревожно на душе. Будто с появлением участкового в дом проникла невидимая злая сила. Сам Мишка и слова не скажет, на него у Степана имеется управа, да и местные будут молчать. Черный Игумен знает, как заткнуть болтливые рты. Вот только чужак… чужак не давал покоя! Ведь он был в ночь убийства в доме, не так ли? А если был, то мог перенять и Слово. Оно как ветер, не ухватишь, не спрячешь в мешок, в кого захочет – в того и войдет, покрутит поначалу, обожжет легкие и горло, затуманит разум, а потом и успокоится, покорное воле.
Степан знал, как это бывает. Его эпилепсия не была врожденной: то зацветала в нем родовая сила, но так и не созрела. Обиделся дед Демьян, что внук в город уехал и передал Слово Захарию. Что теперь осталось у Степана? Зачаток, рудимент, только не отсечешь его скальпелем, до смерти мучиться будешь. Вот и Акулине досталось… тоскует девка, болеет. А ведь и она подле старца была. Ну, да многие крутились рядом, ловили крохи, как воробьи. Кому же лакомый кусок достался? Кому?
Степан расхаживал по комнате. Ночь за окном плыла, медленно перетекая в рассвет. Наконец, сорвав с крючка спецовку, Степан решился и бросил жене:
– Скоро приду.
И вышел за порог.
В Червоном куте безлюдно, холодно. Ровно дышала во сне Степанова паства, только Маврей не спал. Сматывая веревку, поглядывал на Черного Игумена исподлобья, цедил сквозь зубы:
– Задумал чего?
– Узнаешь, – нервно отвечал Степан, весь сгорбившийся, лохматый, как леший. – Сделаешь – силой награжу. Слово скоро вызреет и зазвучит, и можно будет не таиться. Уйдем из скита в мир.
– А как же смирение, батюшка? Отступимся?
– Смирение нужно, чтобы душу от греха очистить и Слово напитать, чтобы ко всем невзгодам готовым быть. Так учат святые: умей жить в скудости и в изобилии, а где будет сокровище твое, там будет и сердце.
Черный Игумен понимал: тяжело бывшему чиновнику дается отшельничество, оно и самому Степану нелегко давалось. Не было здесь размаха, не ощущалась власть. Доброгостово – отрезанный от мира ломоть, но только здесь и могло зародиться чудо. Выкормить бы его и унести, окрепшее. Вот тогда бы развернулся Степан, тогда бы получил власть над умами и душами, над жизнью и смертью.
Он ухмылялся про себя, продираясь сквозь заросли крушины и папоротника. Туман, поднявшийся от реки, лизал голенища сапог. Сзади пыхтел брат Маврей, волоча скрученные мешки и мотки веревки, изредка чертыхаясь, когда спотыкался о торчащие из земли корни.
В тумане тонули кресты и надгробья. Очищенная от соли могила деда Демьяна вздымалась и опадала, словно лежащей в ней мертвец вздыхал и шевелился во сне. Солнце еще не поднялось над лесом, но горизонт светлел, и пробегающие облака уже несли в своих животах розоватые сполохи. Успеть бы до восхода!
Поднатужившись, Степан отодвинул приваленное к двери бревно. Из разверстого нутра церкви потянуло тухлятиной. Маврей зажал нос и отступил.
– Что там?
– Удобрение для новой жизни, – ответил Степан. – Помни, брат. Никому ни слова!
Закрывшись рукавом, щелкнул зажигалкой и перешагнул порог. Тени припали на брюхо, поползли к Степану, виляя змеиными хвостами.
– Прочь, бесы! Сгинь! – на выдохе прошептал Черный Игумен.
Показалось, лежащий на голых досках мертвец повернул к вошедшим подгнившее лицо. Поднялись и загудели роем потревоженные мухи. Сзади забулькал горлом брат Маврей. Степан обернулся, пережидая, пока у того пройдет приступ тошноты.
– Полегчало?
Маврей неопределенно мотнул головой.
– Это ведь… это…
– Плоть это, – глухо сказал Черных. – А всякая плоть смертна. Но она станет перегноем и напитает новые всходы. А душа очистится, брат Маврей, и вознесется к небесному престолу.
– Но ты сказал, что похоронил…
– Не дело смертных знать времена или сроки, которые Господь положил в своей власти! – отрезал Степан. – Что завещал Захарий, то исполняю. А он велел, чтобы не раньше, чем на девятый день, когда дух из тела выйдет, а плоть размягчится, отдать его матушке-природе, или в болото топкое, или в реку быструю. Аскетом он был и святым человеком, всех лечил, в лесу жил, напитывался там силой. Посему откуда пришел, там должен и оставаться.
– И поэтому лежит тут распотрошенный как карась? – Маврей снова закрылся рукой и отвел взгляд. Смотреть на Черного Игумена побаивался, но в голосе уже звучали недоверчивые нотки.
– Безгрешен был Захарий, – ответил Степан. – Потому и передал душу Господу, тело – миру, а Слово – мне. Помнишь, брат Маврей, как архангел Рафаил исцелил слепого при помощи желчного пузыря, взятого у рыбы, а злого духа изгнал, когда воскурил сердце и печень? Вот так и я принес прозрение и покой общине. Оцените ли это?
Брат Маврей молчал, все так же глядел под ноги. Его била дрожь, пальцы сминали скрученный мешок. Степан подошел, мягко положил ладонь на плечо мужчины, заглянул в глаза.
– Неисповедимы пути праведников, – мягко произнес он. – Не все выглядит тем, чем кажется на первый взгляд. Отринь страх, брат Маврей. Будь смел и безгрешен. И выполни волю старца Захария, как он исполнил свое предназначение и вылечил твою дочь.
Маврей сглотнул.
– Ладно! – ответил гулко, как в бочку, и эхо разнеслось под сводами церкви: «ада-а…». Маврей икнул, обвел мертвым взглядом черные стены, и повторил уже тише: – Ладно. Исполним последнюю волю. Только ты, Степан, помни, кто помогал! Слышишь?
– Слышу, – усмехнулся Черных. – На тебя одного и полагаюсь, что поджог устроить, что тело схоронить. Не оставлю.
Взяв из рук Маврея мешок, пошел к телу, подсвечивая путь зажигалкой. Доски скрипели под ногами, будто старец охал, похрустывая больными суставами. Потерпи, Захарий, недолго тебе осталось.
– Помогай! – зло сверкнул глазами Степан и ухватил старца под руки. – А ну! Взяли!
Маврей, отворачиваясь и кашляя, подхватил костяные ноги. Старец скользнул в мешковину как в кокон, сверху его накрыли еще одним мешком, замотали накрепко веревкой.
– А ты не морщись, брат, – напутствовал Степан. – Не бойся руки-то запачкать. Этими самыми руками взятки брал, так теперь смывай грех сребролюбия. Очисти тело и душу.
Пыхтя, они вынесли мертвеца на воздух. Край неба заалел, прихваченный рассветным пожаром, туман стал плотнее и ниже. Шли в нем, как в топленом молоке. Трещали под ногами ветки, с набрякших влагой ветвей падали капли. Степан то и дело по-собачьи встряхивал лохматой гривой и морщился от нестерпимого трупного духа. Над ухом жужжала и жужжала настырная муха, то присаживаясь на мокрый висок, то снова взмывая в воздух, но, сделав круг, возвращалась снова.
Наконец, вышли к обрыву.
– Найди булыжник побольше, – велел Степан, а сам опустился на траву, поджав ноги и вытирая вспотевший лоб. Внизу бурлила Полонь, здесь она становилась шире, а течение быстрее. У берегов выступали мокрые валуны, покрытые осклизлыми водорослями. Назойливая муха села на мешковину и поползла, поблескивая зеленоватым брюшком. Степан хотел прихлопнуть ее ладонью, но передумал. Лишний раз прикасаться к покойнику не хотелось. Отработал свое Захарий, чудесам его пришел конец, а концы, как известно, нужно прятать в воду.
Камень нашелся подходящий. Оставшийся кусок веревки обвязали вокруг него, хорошенько закрепили.
– Тяжеленько придется, – отдуваясь, проговорил Маврей.
– Кто говорил, что будет легко, – рассеянно ответил Степан и подхватил куль. – Давай, не тяни! На счет три бросаем. Раз, два!
– Три! – выдохнул Маврей.
Куль полетел, утаскиваемый камнем, веером разлетелись брызги, кроваво блеснули в рассветном солнце. Степан неосознанно вытер ладони о спецовку и замер, почувствовав на себе пристальный взгляд. Волосы на шее тут же поднялись дыбом, желудок скрутило от страха.
«Мы не одни! – щелкнуло в мозгу. – Кто-то увидел нас. Кто-то…»
Он быстро обернулся и разглядел внизу, на камнях, силуэт, показавшийся плоским и черным на фоне светлеющего неба. Фигура дрогнула, изменила положение и превратилась в Кирюху Рудакова. Рот приоткрыт, глаза вытаращены как стеклянные шарики, в руке – мокрая сетка раколовки.
– Ля-гу-шонок! – медленно по слогам выдавил Степан.
Мальчишка будто услышал его, встрепенулся и, высоко задирая колени, понесся по скольким камням.
– Держи гаденыша! – придушенно прорычал Степан и бросился вдоль обрыва. Гнев ударил, будто в набат, так, что загудела отяжелевшая голова. – Держи! Уйдет!
Маврей грузно спрыгнул на валуны. Мальчишка поднажал сильнее.
– Поганец! Стой!
Степан подобрал камень и швырнул наугад. Кирюха покачнулся, будто от толчка в спину. Раколовка плюхнулась в воду, мазнув по воздуху серым хвостиком веревки. Мальчишка взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, но резиновые подошвы уже поехали по камням. Вскрикнув, соскользнул в воду.
– Ушел, зараза! – со злостью крикнул Маврей.
Степан остановился, отдуваясь и прижимая ладонь к покалывающему боку. Мышцы сводило от напряжения, перед глазами вились черные мушки, и мир плясал, то проваливаясь в пепельную серость, как река и тайга на противоположном берегу, то вспыхивая заревом, как небо на горизонте.
– Не… уйдет, – ответил Степан и указал на воду. – Гляди.
На фоне темной воды показалась и поплавком запрыгала голова. Кирюха боролся с течением, пытаясь выгрести к берегу, но его все дальше относило к стремнине.
– Выплывет! Как пить дать! – нервно пролаял Маврей.
– Посмотрим, – Степан сощурился и, нагнувшись, поднял с дороги камень. – Господь наказывает грешных, а безгрешных милует. Так ли, брат Маврей?
– Так, батюшка, – пугливо отозвался тот.
– А мы, Рыбари Господни, – продолжил Степан, подбрасывая камень в ладони, – разве не исполняем Божии заповеди? Не живем во смирении и святости?
– Живем…
– Так если мы святы и безгрешны, не можем ли карать грешников по своему усмотрению? Как говорил Господь: кто без греха? Пусть первый бросит камень! И вот, бросаю…
Черных размахнулся. Камень просвистел над обрывом, плюхнулся, чуть-чуть не долетев до барахтающегося Кирюхи. Мокрая голова на миг скрылась под водой, потом вынырнула, закачалась поплавком.
– Бросай, Маврей! – проревел Степан. – Не медли! Во исполнение завещания Захария!
Второй камень с громким всплеском упал в воду.
– Во имя святости!
Третий камень – от Маврея – почти коснулся темнеющей головы. Поплавок погрузился в воду, вынырнул, закрутился в водовороте.
– Во славу Господа!
Четвертый попал. Вода потемнела, окрашиваясь в закатный багрянец.
– И ради Слова…
Поплавок булькнул и ушел на глубину. Заря вспыхнула, раскрыла над лесом огненный глаз, и по воде потянулись кровавые полосы. Степан ждал, прижимая ладонь к саднящей груди, но над водой было тихо и пусто. Полонь катила воды дальше, все быстрее, все напористей, утаскивая с собой и гниющий труп Захария, и податливое тело Кирюхи. Там, на глубине, запутавшись в водорослях, они встретятся и откроют пустые рты, чтобы поделиться заветной тайной Слова. Да кто, кроме рыб, услышит?
27. Путь
Солнце неспешно поднималось над тайгой, а от земли поднимался пар.
Леля осторожно ступала по росе, придерживая юбку, края которой потемнели от влаги. Павел шел вперед тяжело, размеренно, прихрамывая на больную ногу и ощупывая путь длинной сучковатой веткой. Поначалу его раздражало, что девушка увязалась следом, но она заверила, что бывала в этих краях и видела, каким путем ходил Захарий.
«Увидишь экскаватор пустой, дальше шлагбаум и железная дорогая заросшая…» – вспомнились слова Кирюхи.
Где он сейчас? Еще спит или, как и обещал, спозаранку пошел за раками? Павел понял, что скучает без общества этого пронырливого парня, а девушка, по-кошачьи неслышно ступающая следом, вызывала тревогу. Она казалась слишком тихой, слишком покорной, дрожащей, как те городские собачки, которых носят за пазухой. Но кто-то внутри Павла – Андрей? – уверял, что первое впечатление обманчиво.
– Далеко идти? – спросил он, замедляя шаг и жадно ловя движение ее губ. Влажная тишина не была полной, колыхалась в воздухе, как пар, и вместе с паром лениво поднималась вверх. Слова девушки доносились приглушенно и словно бы издалека, но все-таки Павел слышал.
– Нет, – мотнула головой Леля, и пружинки волос, напитанные утренней влагой, тяжело подпрыгнули. – Захар паралитик, далеко бы не ушел.
– Один бы не ушел. А с Черным Игуменом…
Губы Лели дернулись, складываясь в полуулыбку.
– Так он и позволил бы необученному колдуну за собой следить.
– Но ведь ты следила?
– Я только до шлагбаума дошла, – ответила Леля и моргнула ресницами, на которые налип черный комочек мошки. Скоро солнце припечет в полную силу, и тучи насекомых поднимутся над парной землей и стоячими болотами. Павел в который раз пожалел, что не взял с собой репеллент, зато в кармане лежала запасная сигаретная пачка, в случае чего, будет спасаться дымом.
– А за шлагбаумом что? – спросил он, хотя и так знал ответ.
Там была заброшенная железная дорога, ведущая к Новоплисской колонии, где заключенные начали сходить с ума, а бараки сравняли бульдозерами, оставив одну только плешь, названную в народе Лешачьей.
Проклятое место.
Место, где говорят духи.
Какое-то время они молчали, продираясь сквозь траву, после дождя быстро идущую в рост. Павел не знал, выбрались они уже на дорогу или заблудились окончательно, в редкой зелени горели оранжевые пятна купальниц, палка проваливалась в мышиные норы, на трухлявом пеньке показался бурундук: вытянувшись в столбик, зверек тревожно нюхал воздух и юркнул в сторону, как только люди подошли ближе. Где-то взвилась воронья семья, стряхнув с еловых веток росу и хвою. Облака таяли в прозрачной голубизне, солнце жарило все увереннее. День обещал быть душным.
Павла тронули за плечо.
Он повернулся, вопросительно подняв брови. Леля указала рукой вбок, и Павел едва не выругался с досады. Как мог пропустить? Задумался и чуть не прошел мимо первого ориентира – пустого экскаватора, из ржавой кабины которого проглядывала поросль. Рядом чернела сгоревшая береза.
– Молния, – сказала Леля. – Здесь часто бывает.
И пошла, высоко задирая ноги, оставляя в папоротнике расходящуюся рябь. Павел двинулся следом.
Желтая стрела экскаватора торчала к земле под углом, рукоять свисала так, что ковш упирался зубцами в землю, и со стороны машина походила на однорукого великана с когтистой лапой. Павлу вспомнилось, как он бежал по стройке от осатаневших фанатиков, перепрыгивая арматуру и прижимая к груди фотоаппарат. Потом вспомнил, как в детстве лазил по стройке с братом. Андрей бесстрашно бегал по бетонным перекрытиям и прыгал с балки на балку, поддразнивая Павла и обидно называя того девчонкой. Пытаясь повторить подвиг брата, Павел неудачно упал и сломал ногу. То лето оказалось самым душным и скучным в его жизни, зато Андрей дразниться перестал и в знак братской солидарности таскал сладости, чтобы Павлу было не так обидно лежать в больнице.
Леля снова тронула его плечо и заглянула в глаза тревожным зеленым взглядом.
– В порядке? – прочитал Павел по губам. Над ухом слишком резко зазвенела мошкара. Павел отмахнулся и вместо ответа спросил:
– Это осталось после сноса бараков?
– Наверное, – ответила Леля, задумчиво поглаживая ржавую стрелу. Краска желтыми струпьями оставалась на ее ладони. – Местные сюда ходить боятся.
– А ты?
Леля усмехнулась и вытерла ладонь о юбку.
– С тобой не боюсь, – сказала она, поднырнула под стрелу и пошла дальше, легко и беззаботно, раздвигая зеленое море папоротника. Павел задержался, достал фотоаппарат и сделал несколько снимков с разных ракурсов: на всех Лелина фигура выглядела невесомой, призрачно-белой.
Железная дорога оказалась прямо за экскаватором: рельсы пролегали параллельно тропе – вывороченные шпалы бугрились под зеленым полотном, кое-где пробивались бурые плеши глины. Когда-то здесь был переезд, и дорогу пересекал полосатый шлагбаум. На всякий случай Павел сфотографировал и его. Леля обернулась и нахмурилась.
– Не надо, – громко сказала она так, чтобы Павел наверняка услышал.
– Что не надо? – спросил он, пряча фотоаппарат и подтягивая лямки рюкзака.
– Фотографий не надо. Слово не любит технику. Неживая она.
– Ты тоже в Слово веришь?
Леля неуверенно кивнула.
– Поэтому и пошла со мной? – продолжил Павел. – Хочешь его найти?
– А ты? – вопросом на вопрос ответила девушка.
– Я хочу узнать, кто убил Захария.
– Узнаешь, – ответила Леля и в один прыжок перемахнула через заграждение.
– Ты видела кого-то в доме? – спросил Павел, неуклюже шагнул следом и остановился возле шлагбаума. На солнце набежало облачко, будто по ту сторону ограды кто-то разом выплеснул ведро серой акварели.
– Видела, – сказала девушка, улыбаясь темными глазами.
– Кого? – бросило в жар, и Павел обеими руками вцепился в окрашенное дерево. Из-под пальцев полезли ломкие хлопья краски.
– Тебя видела, – сказала Леля, отступая все дальше в тень. – А еще Маланью…
Конечно, женщина, которая прибирала в доме у старца, и которую первой увидел Павел в то роковое утро. Могла ли убить женщина? Возможно, могла. С паралитиком справиться много силы не надо.
– Не только ее, – продолжила Леля. – Еще Акулина в избе лежала, хворала. Ей от Слова легче становилось, вот у Захария и ночевала. За ней дважды Черных приходил, но с пустыми руками ушел. Потом жена его, Ульяна, возле дома крутилась.
Павел перелез через шлагбаум и спрыгнул на шпалы. Что-то потянуло за свитер.
«Червы! Не ходи!» – подтолкнула память.
«Иди», – шепнул в голову Андрей.
Павел стиснул зубы и обернулся: свитер зацепился за торчащую щепу. Выругавшись, Павел отцепил одежду и с досадой заметил, как между выдранными нитками расползается дыра.
– Ты об этом Емцеву сказала? – буркнул он, искоса глянув на девушку. Облачко растаяло, мир обрел цвета и звуки. Слишком громкие звуки для глухого Павла: где-то переругивались сороки, в траве вовсю стрекотали кузнечики, и жужжала жадная до крови мошкара, прилипая то к взмокшей шее, то ко лбу.
– Нет…
– Боялась?
Леля неуверенно кивнула.
– Я думала, Черный Игумен убил.
– А теперь не думаешь так?
Они снова пошли бок о бок, перешагивая рассохшиеся шпалы. Воздух настаивался трескучим зноем, и Леля расстегнула куртку.
– Нет. В Степане одна злость кипит, а наполненности Словом нет.
– Значит, кто убил, в том и Слово? – спросил Павел. – А как узнать, что оно в тебе?
Леля повела округлыми плечами и приложила ладонь к животу:
– Вот тут огонь зарождается, – ответила она, потом дотронулась до горла. – А сюда перетекает. И больно, и сладко, и сказать надо, иначе мука тебе и человеку гибель. Так мне дедушка объяснял.
– А он откуда знает?
– Знает, – упрямо ответила Леля и больше не сказала ничего.
Павлу захотелось сделать привал, открыть блокнот и просмотреть записи, но не стал делать этого при Леле, просто мысленно вызвал перед глазами зарисованную схему.
Более всех Словом хотел завладеть Степан. Правая рука старца, лидер общины, подмявший под себя и деревенского участкового, и новоплисских чиновников, он вполне мог оказаться убийцей. Получил силу или нет – дело десятое. Может, и силы никакой не было, а была только глупая легенда.
Могла ли убить Леля? Вполне. Старец Захарий сначала ударился головой о печь, потом его добили поленом. Такое могла сделать и женщина. А Леля тоже верила в Слово и тоже искала его. Может, потому и пошла вместе с Павлом в «место, где говорят духи»?
Маланья… какой у нее мотив? Павел вспомнил передачу Софьи Керр, тогда старец сказал, что Маланья по молодости грешила, и сидело в ней шесть бесов.
– Расскажи мне про женщину, которая прибиралась у старца? – попросил Павел и в очередной раз согнал с шеи настырную мошкару. Леля обернулась, приподняв бровки домиком. За все время, пока они шли по тайге, Павел ни разу не заметил, чтобы девушка отмахивалась от комарья. Она была словно невидимой для них.
– Маланья? – Леля накрутила локон на палец, отпустила, как распрямленную пружинку. – Ее Оксаной звали, проституткой была, переболела всем, чем только можно. Приехала в деревню одной из первых, излечилась и осталась.
– Сожительствовала со старцем?
– Разве что поначалу, пока у Захара силы были, – усмехнулась Леля и скинула Павлову куртку. – Уф, ну и припекает!
Сощурилась, глядя поверх лиственниц, где сиял натертый добела солнечный медяк. Павел тоже снял свитер и, затолкав его и куртку в рюкзак, остался в одной рубашке. Потом спросил:
– Часто они ссорились?
– Ссор вроде и не было, – ответила Леля. – По крайней мере, я не видела и не слышала. Мирно жили, старец никаких конфликтов не допускал.
– А вернуться в город она не хотела?
– Не к кому возвращаться было. И родню, и друзей Захар заменил. Маланья за ним как верная собачка ходила.
Значит, не могла быть убийцей? Горевала Маланья убедительно, но все-таки Павел поразмыслил и решил пока не сбрасывать женщину со счетов.
– А что про Ульяну скажешь? Жену Степана. Она тоже приезжая?
– Не, – мотнула головой Леля. – Местная она. Я кое-что краем уха слышала…
– Что же?
– Будто она всегда из деревни уехать хотела. И всем городским, кто мимо проезжал, на шею вешалась. Пока не встретила Степана Черных.
– Так ведь и он местный!
– Местный. Только в город учиться уезжал, а когда дед умирал, тогда и вернулся. Ульяна на него глаз положила, вплоть до того, что приворожить хотела. Для этого к старой Латке ходила, чтобы рецепт приворота узнать.
– Судя по всему, не очень-то у нее получилось, – Павел вспомнил вечно испуганное лицо Ульяны, тусклые мышиные глаза. Могла она убить Захария? Могла. Хотела ведь уехать из деревни, а не вышло. Захарий держал Черного Игумена подле себя как цепного пса, а тот в свою очередь держал в кулаке Ульяну.
– Отчасти получилось, – мягко возразила Леля. – Только Степан не увез ее в город, а сам здесь остался. Оно и понятно: дед умирал, нужно было колдовскую силу перенять. А сила не тому досталась.
Леля вдруг засмеялась тихо и зло:
– Ни тогда не получил Слово, ни теперь! А хочется ему, Павлуша! Так хочется, что в глазах темнеет, кишки от досады перекручивает. Ищет, как пес воздух тянет, и вроде бы рядом Слово, а не найти. Вот он злобу на всех и вымещает, а в первую очередь на жене.
– Бьет?
– Побивает. Только Акулину не трогает. Любит ее…
Леля притихла и задумалась, собирая юбкой золотую пыльцу одуванчиков. Павел тоже задумался, вспоминая первую встречу с Акулиной. Жуткая девочка, вроде и больная, и пожалеть ее надо, а как вспомнит острый взгляд, скрипучий голос – так мурашки табунами.
«Я что, всерьез раздумываю над этим? – одернул себя Павел. – Девчонке не больше десяти. При таком раскладе и себя к подозреваемым причислишь. Нереализованная сила, одержимость, вернувшийся слух… я ведь тоже мог…»
Стало зябко и неуютно. Павел скинул рюкзак с натертого плеча, делая вид, что поудобнее утрамбовывает вещи. Свитер сместил чуть левее, куртку правее, нащупал в кармане блокнот, вытащил сигаретную пачку, и, воровато оглянувшись, сунул в карман брюк. И вот тогда заметил.
Что-то изменилось.
Первым делом Павел увидел растения. Из молодой травы и одуванчиков выглядывали острые и гибкие листья, ярко-зеленые сверху и кроваво-красные внизу. Когда ветер пробегал по траве, они выворачивали изнанку и шевелили алыми язычками, словно дразнились, словно подзывали к себе.
«Не трогай», – предупредительно шепнул в голове Андрей, и Павел отдернул руку и выпрямился. Ощущение, будто что-то изменилось, не только не ушло, но даже усилилось.
– Леля?
Имя провалилось как в омут: только плеснуло – и нет ничего, лишь круги расходятся в пропитанном зноем воздухе. Девушка, не оборачиваясь, шла и шла вперед. Ее силуэт, подпаленный по краям солнцем, казался вырезкой из альбома. Волосы колыхались как черные водоросли, и колыхался окружающий лес: перешептывался, дрожал, встряхивал ветвями, менялся, то подступал ближе, наползая на рельсы, стальными нитями протянувшимися через зеленое море, то оголял ярко-голубое, до рези в глазах, небо.
Павел подхватил рюкзак и захромал следом. На какое-то мгновенье почудилось, что он, как и Леля, не движется, а только висит в воздухе, перебирая ногами, как подвешенная за ниточки марионетка, а вокруг течет и меняется мир. Поваленные и поросшие мхом сосны убегали за спину, пикетные столбики со стертыми табличками и опоры контактной сети сами по себе выступали из колеблющегося марева и быстро ныряли в прозрачный сумрак, ползущий по пятам, точно пролитые чернила, а по откосам дороги все чаще встречались вывернутые на алую изнанку растения.
– Леля! – снова позвал Павел и, как мог, ускорил шаг. Девушка обернулась, сверкнув болотными огоньками глаз. Мимо нее спикировала с лиственницы сорока. Расправив крылья, она пролетела над странной красно-зеленой порослью. Один из самых крупных и мясистых листьев вдруг распрямился, выстрелив длинным алым языком. Павел услышал сдавленный писк, вспыхнуло и распалось в пепел черно-белое оперенье, по зелени волною прошла дрожь, сопровождаясь долгим и тихим: «А-ах…»
– Что это такое? – прохрипел Павел.
– Венерина мухоловка, – спокойно ответила Леля.
Он недоверчиво покосился на облизывающиеся кровавой изнанкой листья. Разве так выглядит мухоловка? Конечно, нет, она похожа на створчатую ракушку с острыми зубчиками, произрастает в умеренном климате и питается исключительно насекомыми. Не сороками, которых способно испепелить в одно мгновенье! Бросило в жар, когда Павел подумал, что бы случилось с его пальцами, прикоснись он к этим растениям.
– Меньше глазей по сторонам, – между тем спокойно произнесла Леля, глядя на него прозрачными глазами. В них танцевали крохотные болотные огоньки. – И лучше не оборачивайся. Здесь будет… немного странно, но ты быстро привыкнешь.
– К чему? – спросил Павел.
– К изменениям, – ответила Леля. Обернулась и пошла, неслышно ступая со шпалы на шпалу.
Мошкары стало куда меньше, она сонно гудела, одурманенная зноем. Солнце жарило нещадно. Рельсы блестели, как натертые полозья. Было в этом что-то неправильное, странное. Вот только что?
«Дорогой не пользовались черт знает сколько времени! – подсказал Андрей. – А рельсы как новенькие».
Павел сглотнул слюну, присел, дотрагиваясь до нагретого металла. Воздух расходился рябью, настаивался сладковатым запахом, похожим на запах разложения.
– Здесь до сих пор ходят поезда? Может, вагонетки? – спросил Павел в обтянутую белой тканью спину Лели.
Она слегка обернулась через плечо и ответила:
– Давно не ходят, дорога много лет заброшена. А раньше проходила через Доброгостово. Тут в основном древесину и уголь возили.
Давно – это еще когда действовала колония, когда деревня называлась Погостово, а старец Захарий именовался просто Захаром и отбывал срок в этих Богом забытых местах. Вот только Леле откуда об этом известно? Или она знает куда больше, чем хочет показать?
Замешкавшись и сделав вид, что поправляет брюки, Павел достал фотоаппарат и украдкой щелкнул кнопкой. Сфотографировал точеную фигурку Лели, кровавую изнанку плотоядных листьев и железнодорожное полотно, сходящееся где-то на горизонте. Вспышка отразилась от рельса и полоснула по глазам.
– Я-же-сказала-нельзя! – голос Лели прозвучал угрожающе, чересчур близко.
Павел спрятал камеру. Лиственницы, густо растущие вдоль дороги, дрожали, возмущенно качали кудлатыми головами, за их плотной стеной что-то беспрестанно хрустело, шепталось и щелкало, точно потревоженный зверь беспокойно перебегал с места на место.
– Прости, больше не стану.
Леля промолчала, сдула со лба черные локоны и двинулась дальше. Павел тоже вытер взмокшую шею и пожалел, что не взял с собой воды: от жары пересохло в горле. Кто бы мог подумать, что еще совсем недавно в низинах лежал снег, а деревья только-только пушились молодыми листочками? Теперь бледная немочь весны сменялась здоровым румянцем лета, в траве вспыхивали желтые соцветия купальниц, и куда ни взгляни – кругом обступало зеленое море. Природа уверенно слизывала следы пребывания человека, и только рельсы оставались нетронутыми и чистыми – белые шрамы на теле земли.
Из зеленой гущи вынырнул покосившийся семафор, робко подмигнул путникам. Кто-то приколотил к нему фанерный указатель: «ИК-4. 4 км.»
– Исполнительная колония, – вслух сказал Павел и почему-то добавил: – В некоторых азиатских странах число «четыре» считается несчастливым, потому что произносится одинаково со словом «смерть»
– А мне дедушка говорил, что четверка обозначает «добро», – откликнулась Леля, замедляя шаг, и вдруг спросила: – Кто такой Андрей?
От неожиданности скрутило живот. Леля кивнула на указатель. Внизу бледнела выцарапанная ножом надпись: «АНДРЕЙ был здесь».
Павел сжал мокрыми пальцами лямки рюкзака и просипел:
– Мальчишки баловались, наверное.
– Наверное, – эхом отозвалась Леля.
Теперь они шли бок о бок, едва не касаясь друг друга плечами. Раскаленное солнце висело над дорогой, полируя рельсы до невыносимого блеска. Ветер улегся, деревья стояли прямые и неподвижные, будто выжидая чего-то. Звуки исчезли, окончательно провалившись в трясину тишины. Не было слышно даже собственных шагов, и Павел подумал, что глухота вернулась к нему, как вдруг услышал…
Дзеньк. Дзеньк.
Два коротких звонких удара. Павел остановился, вскинув голову и вглядываясь в застывший воздух.
– Слы-шишь?
– Да, – тихо ответила Леля.
– Что это?
– Не знаю. Может, зверь…
И вильнула глазами в сторону, уходя от ответа. Павел проследил за ее взглядом: сбоку от рельса из земли торчал еще один указатель.
«ИК-4. 2 км.»
Внизу нацарапана рыба. Не нарисована, не прорезана, а именно нацарапана, точно подросток водил по фанере ключом от квартиры, старательно прочерчивая угловатые линии. Она была точно такой же, какую однажды нарисовал Андрей на стекле отцовского автомобиля. За несколько минут до того, как они вылетели на скоростную трассу, где…
– Сколько мы прошли? – спросил Павел.
– Не думай об этом, – ответила Леля. – Тут время течет по-другому. Иногда кажется, что ты прошел всего несколько шагов, а иногда, что блуждаешь здесь всю жизнь.
Она замолчала, потому что стук повторился: два громких удара – Дзеньк! Дзеньк! Стучали железом по железу. Рябь поплыла над рельсами, лениво колыхая неподвижный воздух. И застывший лес стал нечетким, как размытый рисунок.
Павел, наконец, вспомнил, где слышал этот звук. Такой издают молотки, которыми путевые обходчики стучат по колесам, выявляя трещины и прочие повреждения. Вот только Павел не видел вокруг никаких составов, даже очень старых и ржавых. Что позади, что впереди простиралось одинаково голое полотно с вывороченными шпалами, где-то поросшими травой, где-то раскрошенными в труху.
Потом пришел запах – густой запах влажной земли. Так пахли с корнем вывороченные пни, поганки на бледных ножках, сырой глинозем, где копошились черви…
Плотоядное растение дразняще свернуло красно-зеленый язык, закачало им из стороны в сторону, будто подзывая: подойди, и по вере воздастся тебе!
Павел вздрогнул и отступил. Леля ухватила его за локоть:
– Соль!
Он не услышал, а прочитал по губам. Тишина душила, на языке оседали колкие песчинки, словно Павел шел не сквозь напитанный недавними дождями лес, а шагал навстречу пылевому вихрю.
– Быстрей! Где? – Леля потянула рюкзак, вызвав острую боль в ушибленном камнем плече.
– В правом… кармане, – вытолкнул Павел непослушным языком, стряхнул рюкзак и принялся сам расстегивать карманы.
Дзеньк! Дзеньк! Дзе-еньк!
Что-то приближалось. Что-то шло навстречу, медленно, но неотвратимо, распространяя удушливую вонь. Краем глаза Павел увидел, как Леля вытащила пакетик. Надорвала его, даже не пытаясь развязать узел. Белая крупа рассыпалась под ноги, легла неровным полукругом. Губы девушки шевелились, но Павел не мог разобрать ни слова, зато ощущал кожей, как земля слегка вздрагивает от чужих шагов.
А еще дыхание… Хриплое дыхание зверя, привыкшего питаться сырой рыбой и падалью.
На какой-то миг показалось, что мир потемнел, но это всего лишь исполинская фигура вышла из-за поворота и остановилась, заслонив солнце. Присмотревшись, Павел понял, что странная треугольная голова – всего лишь капюшон дождевика, надвинутый так низко, что лица существа вовсе не было видно, зато хорошо ощущалось гнилостное дыхание и сипы, исходящие из его груди. Леля всхлипнула и прижалась к Павлу, тот взял ее за руку и почувствовал, как холодны ее пальцы.
«Не смотри на него, – шепнул Андрей, а может подсознание или инстинкт самосохранения. – И не двигайся».
Чудовище шагнуло вперед, покачиваясь из стороны в сторону, как кобра на хвосте, и Павел вдруг вспомнил, где однажды видел его.
Совсем недавно, в редакции! Босого человека, пришедшего с улицы и крикнувшего прямо в лицо Павлу: «В тебе червь сидит! Вижу, в тебе!»
Только этот был раза в два выше, а под дождевиком бугрились пульсирующие наросты, от одного взгляда на которые Павла замутило, и он поспешно отвернулся, заметив лишь, как блеснула на солнце сталь.
Дзеньк, дзеньк!
Чудище деловито застучало по стыкам, вот только лупило оно не молотком, а штыковой лопатой, с ржавого бока которой осыпались крупные комья земли.
– Чер-вы-ы… – прохрипело существо, гулко и утробно, словно ветер дунул в полую кость.
Пальцы Лели оплели руку так сильно, что Павел от напряжения стиснул зубы. Откуда у хрупкой девушки столько силы? Она тоже не глядела на чудовище, из-под склеенных ресниц бежали слезы или пот – Павел не мог разобрать. Он сам покрылся испариной, словно защитной пленкой, во рту появился кисловатый привкус.
– Чую… черви… тут, – проурчало чудовище, и Павел вдруг понял, что кроме этого низкого голоса нет больше никаких звуков. Не шелестела от ветра листва, не кричали птицы, не жужжали насекомые. Лес умер и окостенел – иссохшая мумия, пугающая подделка под жизнь. И существо было таким же – чужим и мертвым.
Оно качнулось, как манекен. Шлеп, шлеп! Черные лапищи, все в грязи и струпьях, прошлепали по шпалам и остановились, отделяемые от Павла расстоянием в каких-то десять шагов, да еще и полукружьем соли, рассыпанной у самых ботинок. Существо принюхивалось, дыша звериной вонью, и желудок Павла спазматически сжался. Его сознание снова разделилось на части, и разум убеждал:
«Это галлюцинация. Никаких монстров тут нет. Ты не видел их на заброшенной стройке, где собирались сатанисты. Ты не видел призрака купца Смородина в Тарусской библиотеке. Никого не видишь и теперь».
Но кто-то другой, чей ядовитый якорь прочно засел в голове у Павла, шептал:
«И все-таки есть. Однажды он нашел тебя по запаху, и теперь поджидает здесь. Путевой обходчик, следящий за дорогой из мира живых в мир мертвых. В место, где говорят духи…»
Встретив его, нужно молчать и не двигаться. И ни в коем случае не смотреть под капюшон, где, наверное, и лица никакого нет, а только гнилое, изъеденное червями мясо.
Чудовище вдруг забеспокоилось. Вздернув голову, усиленно потянуло носом, издавая свистящие звуки, сухой воздух всколыхнулся, принеся едва уловимый запах копоти. Продолжая принюхиваться, существо прошло мимо, грузно шлепая по шпалам и оставляя в земле длинные и глубокие борозды.
Павел глянул на Лелю. Она быстро дышала, слегка приоткрыв губы. Павел ткнул себя в грудь и указал в сторону, откуда пришло существо: «Надо уходить!»
Леля упрямо затрясла головой. Павел ощутил размеренную дрожь земли, теплый ветер, дующий в спину. Он уже понял, что это значит.
«Поезд!» – показал он на пальцах, но девушка не понимала азбуки глухонемых и снова качнула головой. Существо стояло позади, все так же ворочая неповоротливой башкой и нюхая пыльный, напитанный гарью воздух. Павел не смотрел на него, а смотрел на рельсы, где крутился и подпрыгивал в креплении на стыке ржавый болт. Зубы залязгали от страха. Инстинкт самосохранения взвыл и заметался, запертый в клетке ребер, сердце колотилось, как сумасшедшее.
– Бе-жим! – в панике закричал Павел и вышагнул из круга, слово рассыпалось на сухие песчинки.
Тогда чудовище обернулось.
Сначала он увидел, как небо располовинил острый край штыка. И вслед за этим рев чудовища и паровозный гудок слились в один сплошной вой. Тишина лопнула, швырнула в лицо Павла горсть сухой пыли.
– Бежим! – закричал кто-то.
Последнее, что видел Павел – это надвигающуюся тень локомотива. Потом перед глазами замелькали шпалы. Лес огромными прыжками понесся назад, земля сотрясалась под ногами, в ушах стоял гул и вой. Инстинкт выживания, наплевав на острую боль в лодыжке, подхлестывал в спину, тянул на насыпь, густо поросшую папоротниками. Вильнуть туда, укрыться в траве, пока состав не пронесется мимо, но Леля поняла замысел Павла и крепко вцепилась в ушибленное плечо:
– Не сходи с дороги! Только не сходи с дороги! И не оборачивайся!
Она завязала на узел платок и швырнула в зеленую гущу леса. Длинные алые языки развернулись, лизнули воздух и жадно вцепились в материю, разрывая ее на куски. Тогда Павел зажмурился и поднажал.
Сзади ревел локомотив, колеса погромыхивали на стыках. Удушливый дым заволакивал небо, где все так же висело белое, точно приклеенное солнце. Пот заливал лицо, остро блестящие рельсы кромсали глазные яблоки до тех пор, пока мир не рассыпался на тысячу фрагментов, на тысячу шпал, на тысячу звуков топочущих ног. Только бы не споткнуться! Не потерять силы! Дорога изгибалась дугой, за новым поворотом Павел заметил очередную фанерную табличку с выцарапанной надписью: «Корм для рыб ЗДЕСЬ!», и не успел удивиться.
Дорога кончилась.
Только что была тут и вдруг исчезла, зарывшись блестящим носом в заросли папоротника, а впереди возвышались ворота, наглухо заблокировавшие путь. Дальше прохода не было.
Павел гневно вскрикнул и обернулся.
Чудовище все это время преследовало его. Дождевик лоснился на солнце и раздувался, как жабьи бока. Под капюшоном по-прежнему не было видно лица, но на грудь текло и текло что-то вязкое и блестящее. Слюна?
Штыковая лопата вновь блеснула отточенным краем. Павел толкнул Лелю в сторону и сам вскинул руки.
Локомотив налетел, подминая под себя и чудище, и Лелю, и самого Павла. Мир рассыпался на блестящие конфетти. Грохот отозвался болью в каждой косточке, в каждой клетке уставшего тела, и, срезонировав, быстро сошел на нет, оставив после себя лишь тянущее напряжение. А больше ничего.
Не было чудовища, не было поезда. Лишь у ворот стояла до смерти бледная Леля, глядя круглыми пустыми глазами.
– Что… было? – простонал Павел и, в бессилии сев прямо в траву, подтянул огнем горящую лодыжку.
Девушка моргнула, и взгляд стал более осмысленным.
– Морок, – тихо ответила она. – Мы пришли.
И указала на тропу, сбегающую с насыпи вниз.
28. Место, где говорят духи
С возвышения, на котором они стояли, это походило на огромный черный круг. Правда, в фантазиях Павла земля на Лешачьей плеши представлялась жирной и мягкой, топкой, как болото. На деле она оказалась сухой и выжженной, окаймленной редким подлеском. Должно быть, здесь когда-то случился пожар: березы и лиственницы стояли черные и голые, обсыпанные лишаем пепла. Из центра поляны торчал слегка покосившийся железный шест, и от этого Лешачья плешь напоминала гигантские солнечные часы: короткая тень знаменовала середину дня. Сунув руку в карман, Павел нащупал пластиковый корпус телефона. Точно так же когда-то он цеплялся за Пулю, но слуховой аппарат рассыпался на осколки, как рассыпалось рациональное зерно его веры. Страх отступал, и все случившееся казалось… обыденным? Наверное, в самом воздухе этих мест, в аромате цветов, в давящей тишине было что-то дурманящее, бесконечно толкающее вперед. Павел чувствовал себя альпинистом, с каждым шагом приближающимся к заветной вершине. От этого сдавливало грудь, волоски на руках и шее поднимались, точно наэлектризованные. Воздух был душен и горяч, и небо постепенно затягивало сизой дымкой.
– Гроза будет, – сказала Леля. – Грозы тут часто. Надо успеть.
Они принялись спускаться с насыпи.
Подвернувшаяся под ногу жестянка оказалась миской с пробитым дном. Павел едва удержал равновесие, перенес вес на здоровую ногу и поддал ее носком, вывернув вместе с прессованной землей. Вспомнилось, как однажды в деревне они с Андреем набрели на заброшенный дом вроде того, в каком жила старая Латка. Ни дверей, ни окон в доме не было, все, что могли, давно вынесли, оставив только негодный хлам вроде табурета с обломанной ножкой, рассыпанных ложек, тряпок, некогда бывших цветастыми платьями, да проржавевших тазов. Следы, оставленные когда-то кипевшей тут жизнью, а теперь пожираемые самым ненасытным из чудовищ – временем.
Идти по таким местам все равно, что идти по кладбищу.
– И часто сюда приходил старец? – спросил Павел.
Собственный голос казался странным, будто говорил он сквозь медицинскую маску, и от этого слова звучали тихо и невнятно. Слух опять притупился, но это почему-то принесло облегчение: там, на железной дороге, все происходящее воспринималось чересчур остро, неправильно, дико. Словно глухота была анестетиком и, лишаясь ее, Павел ощущал себя слишком уязвимым, слишком восприимчивым ко всему…
… потустороннему?
Да, сколько угодно можно врать себе, убеждая, что это только галлюцинация, что и поезд, и путевой обходчик с лопатой наперевес – это игра больного воображения или результат гипноза. Ничего этого не могло произойти в насквозь рациональном мире Павла, где жизнь складывалась из череды случайностей, смерть оказывалась лишь логичным завершением жизненного цикла, и мертвые не возвращались с того света. Но здесь, в Доброгостове, этот мир трещал по швам, и в прореху заглядывало что-то иное…
То, во что верил Степан Черных, и ради чего убили старца Захария.
– При мне уходил только раз, – сказала Леля. – Отсутствовал девять дней, потом вернулся. И грозы тогда случались каждый день, ветер так бушевал, что кресты на кладбище повалил. Град по крышам стучал, как будто черти плясали.
Эти слова Павел уже слышал от матери больного Леши Краюхина.
«На крыше что-то загрохотало, а потом забегали, да гулко так, будто копытами. Это ведь нечистый ходил, да? Там, где святые живут, там и бесы ходят, с пути истинного сбивают…»
Только старец Захарий не был святым. А кем? Не то ловким гипнотизером, не то и вправду колдуном. Интересно, какие ритуалы он проводил здесь? Совершал жертвоприношения? Медитировал?
Павел перешагнул обломок кирпича. Вдавленные в глину остатки фундамента вели к разрушенному бараку с обвалившейся штукатуркой и чудом сохранившейся крышей. Неподалеку от него торчал остов вышки, такой же обугленный, как и прочие деревья, частоколом окаймлявшие Лешачью плешь.
Поляна в окружении подлеска действительно выглядела, как выбритая макушка, густо вымазанная сажей.
А в центр макушки кто-то вбил железный прут.
– Странно, – вслух подумал Павел. – Бараки снесли, что не смогли разрушить – судя по всему, уничтожил пожар. А этот столб остался.
– Это не столб, – тихо ответила Леля.
Она стояла на границе круга, там, где еще зеленели клочки травы, переминалась с ноги на ногу и боязливо глядела в небо, где плыли темные, беременные оранжевым заревом тучи.
Откуда приходило Слово? Конечно, с воздуха. Недаром в рассказе Софьи Керр о погибших туристах фигурировал ветер, не зря Леля все время говорила о грозах. И в центре Лешачьей плеши, конечно, был никакой не столб.
– Это громоотвод, – сказал Павел и шагнул вперед.
Ветер швырнул ему в лицо сор и пепел. Кажется, Леля что-то крикнула в спину – он не расслышал. Ботинки и брюки тут же окрасились в сажу, и Павел заковылял вперед, давя подошвами гнилушки. Никакая это не поляна, а самое настоящее пепелище. Вот, хрустят и рассыпаются в труху обугленные доски, поднявшийся ветер гонит антрацитовую рябь. Павел закрыл нос ладонью, чтобы не наглотаться пепла.
– Не… ско! – едва донеслось из-за спины.
Павел глянул через плечо.
Леля осталась позади, все так же не решаясь перешагнуть границу неровного круга. Не побоялась проследовать за Павлом ночью, не испугалась призрачного локомотива и великана, обходящего пути, но здесь, на краю гигантского пепелища, дрожала под напорами ветра, испуганная и тонкая, как камышинка.
Она сложила ладони рупором и закричала снова. Ветер подхлестнул Павла в спину, вздыбил волосы, поднял Лелину юбку пузырем, обнажив голые и стройные щиколотки.
Павел покачал головой и коснулся уха.
Леля догадалась и опустила ладони, чтобы он смог прочитать по губам:
– Не. Под-хо-ди. Близ-ко.
Павел улыбнулся и показал большой палец. Конечно, он проделал весь этот путь не для того, чтобы повернуть назад. Он не уйдет, пока не узнает, что влекло сюда Захария, что скрывалось в этом безлюдном месте, где не водилось ни зверей, ни птиц, где тугую тишину разрывал только вой ветра, качающий кроны лиственниц и берез, и швыряющий в лицо хлопья пепла.
Громоотвод возвышался над землей в три человечьих роста.
Вблизи он оказался диаметром с хороший телеграфный столб и имел не такую уж и гладкую поверхность: она была вся испещрена заковыристыми узорами, напоминающими руны. Дотронувшись до них, Павел ощутил тепло и гладкость, и понял, что металл совершенно не заржавел, а черным казался из-за налипшей на него сажи. От шеста шло еле ощутимое гудение. Такая вибрация обычно бывает у трансформаторной будки или линии электропередач.
Павел провел пальцем по одному из узоров. Кажется, эта руна называется Одал? Похожа на греческую Омегу. Или угловатую рыбку, танцующую на хвосте.
Палец пронзила резкая боль. Павел машинально отдернул руку, под ногтем набухла гематома. Наверное, напоролся на острый край. Павел сунул палец в рот и почувствовал металлический вкус крови.
Скинув с плеча рюкзак, он достал носовой платок и долго, с наслаждением вытирал ладони, при этом почему-то не сводя глаз с громоотвода. Казалось, под сажей он имеет совершенно другой цвет. Может, ярко-белый. А может, темно-красный, как раскаленное железо в горне.
Показалось, что сзади снова что-то кричит Леля, но ветер дул в уши, как электрические басы. Вырвав из рук платок, он понес его по пепелищу. Павел бросился было следом, поскользнулся и едва не растянулся в угольной пыли. Он скорее не услышал, но почувствовал, как под подвернутой ногой что-то лопнуло с сухим хрустом. Очередная гнилушка или ржавая миска, вроде той, что попалась в самом начале пути? Морщась от боли, нагнулся, чтобы расчистить и рассмотреть и замер, ощущая, как позвоночник сковывает мороз.
Это была не ветка.
В памяти крохотными молниями зажглись слова:
«Тело мертвеца раздулось и лопнуло. И брызнули из него во все стороны кости да черви. И к ногам мальчика подкатилась косточка махонькая, самый мизинчик…»
Это и была человеческая кость. Лучевая, оканчивающаяся почерневшим запястьем, издалека похожим на крабью клешню. Павел ковырнул кость, она хрупнула и осталась в руках, и он задышал хрипло и тяжело, будто не хватало воздуха.
Кладбище, значит? Так оно и есть. Павел не сомневался, что, если копнуть хорошенько, он найдет и другие: кости и черепа, может, обгоревшие трупы.
Тайна старца Захария была скрыта от человеческих глаз в единственном недоступном месте – огромном могильнике, что остался на месте старых бараков.
Павел выпрямился, почти не осознавая, что все еще держит косточку в руках. Машинально сунул в карман вместе с платком и растерянно огляделся.
Вот теперь действительно потемнело. Обугленные деревья напоминали кривые клыки чудовища, белая юбка Лели трепыхалась крылом бабочки-однодневки. Девушка что-то кричала и показывала наверх.
Павел поднял лицо.
Над ним вращалась гигантская облачная спираль. Сотканная из тьмы и багрянца, она время от времени озарялась вспышками молний. Воздух все более густел и насыщался озоном, ветер закручивал под ногами крохотные вихри, и верхушка громоотвода время от времени вспыхивала бело-фиолетовым слепящим светом.
Леля обещала грозу, и вот она пришла.
Павел вдруг осознал с пугающей ясностью, что это пепелище, возможно, и не было делом рук человеческих. Здесь властвовала стихия: молнии били в громоотвод, в близлежащие деревья, в уцелевшую вышку, превращая зелень в черноту, живое – в мертвое. И если Павел хоть на несколько минут останется тут, посреди могильника, рядом с металлическим шестом, над которым вращается буря, то его кости останутся лежать рядом с другими костями, такие же обугленные и ломкие, как хворост.
Подобрав рюкзак, Павел развернулся и, спотыкаясь, бросился назад.
Тугой рулон спального мешка с каждым прыжком хлопал по спине: тум, тум! А Павлу казалось, это его мертвый брат, тяжело дыша в щеку запахом табака и тлена, подталкивает костлявыми ладонями – беги! беги!
Подальше от пылающих машин, от отвратительного пепла, оседающего на языке, от ритма сумасшедших барабанов. От мертвых – к живым, к людям, к поджидающей у обочины женщине в белом халате. Она протягивала Павлу руки и что-то беспрестанно говорила, говорила… что?
– Будет гроза.
Да, Павел это чувствовал каждой косточкой…
…одной, спрятанной в кармане, завернутой в окровавленной платок…
…напряженными мышцами, всем существом. Воздух звенел и наливался силой, землю заливала тьма.
Будет гроза.
– Там, – прохрипел Павел, ухватывая Лелю за локоть. – Кости…
– Да, – шевельнулись ее губы. – Это могильник.
Он уже и так понял. И, поняв, оглянулся в страхе. Так оглядываются те, кто бежит из подземного мира, опасаясь, что мертвые идут следом, что черная гниль, пролившаяся с неба, ползет по пятам, чтобы нагнать и поглотить смельчака, превратить его в одну из безмолвных теней.
«Жена Лота оглянулась, уходя из Содома, – прошелестел в голове мертвый близнец. – И превратилась в соляной столб…»
Проведя языком по губам, Павел почувствовал привкус соли.
– Старец приходил сюда, – хрипло сказал он. – И я должен узнать, зачем.
– Ритуал, – ответила Леля. – Он совершал здесь ритуалы. Уйдем теперь!
– Откуда знаешь?
Страх истощался, вместо него приходило возбуждение.
Павел видел и проклятые кладбища, и квартиры с полтергейстами. Он разговаривал с колдунами и спасался от сатанистов на заброшенной стройке. Он слишком хорошо знал, что чудес не бывает, и хотел найти подтверждение этому.
Хотел подтвердить, что Слова не существует.
Или опровергнуть это…
– Откуда знаешь?! – спросил он громче, стараясь перекричать завывание ветра в лиственницах. Их кроны двигались над головой, склоняясь то влево, то вправо. Лес полнился шорохом и скрипом, сухими щелчками и перестукиваниями. Так бьются друг о друга полые кости, так хрустит обгоревшая кожа.
– Я слышала от дедушки, – прошептала Леля. А, может, сказала в полный голос – до Павла ее слова доносились точно из-под шерстяного одеяла. Она знала слишком много для простой сектантки, завороженной сладкими обещаниями Черного Игумена.
– Идем туда, – Павел ткнул в полуразрушенный барак. – Пересидим грозу, и ты все расскажешь.
– Но буря…
– Бури, сама говоришь, тут частые. А барак все еще на месте. Идем!
Павел не сомневался теперь, что старец Захарий, если действительно приходил сюда, ночевал именно в этом самом бараке, от которого осталось только три стены, углом повернутых к Лешачьей Плеши. С четвертой его защищало поваленное дерево в три обхвата, с внешней стороны обугленное, с внутренней поросшее мхом. Стекол в окнах барака не было, с потолка свисала подмокшая фанера, пахло плесенью и гарью.
«Как в сгоревшей машине, которая долго пролежала под открытым небом», – подумал Павел и провел пальцами по губам.
У входа он скинул рюкзак и развернул спальный мешок. Хотя спать в месте, подобном этому, не входило в планы, однако, сидеть на чем-то мягком куда лучше, чем на земле. Ветер почти не задувал, хотя снаружи бесновался все сильнее, и все быстрее раскручивалось облачное веретено.
– Да это не гроза, а настоящий смерч, – пробормотал Павел и подошел к окну.
Лешачья Плешь просматривалась как на ладони. Черные березы окаймляли ее, будто рамка, в центре торчал железный шест, верхушка которого изредка вспыхивала грозовым заревом. Тогда казалось, будто по громоотводу катится бисер рассыпанных шариков-огоньков.
Павел вернулся и достал фотоаппарат.
– Я предупреждала, – послышался тихий голос Лели. – Нельзя…
Он отмахнулся, пожалев лишь о том, что не вытащил камеру раньше, возле громоотвода, и не снял один из тех символов, о который занозил палец. Ранка слегка пощипывала, но уже не кровоточила, и Павел несколько раз щелкнул затвором. Его руки подрагивали от возбуждения, и он снова облизал губы, подумав о том, что это будет его лучшая статья.
Репортаж с места жертвоприношений.
– Расскажи, что знаешь, – сказал он, старательно выговаривая слова. Собственный голос по-прежнему казался ему странным, чужим, словно звучал из другого мира, живого, а он, Павел, находился по эту сторону, в мире теней и бури. – Твой дед был в Доброгостове, так?
– Нет, – Леля мотнула головой, и кудряшки рассыпались по плечам. Опустившись на спальник, она поджала ноги и обхватила руками колени. – Он никогда не был у Краснопоясников. Но много слышал об этом месте… слышал о Слове.
– Откуда?
– Он изучает все… странное, – теперь Леля с трудом подбирала слова и прятала лицо, будто говорила одно, а хотела сказать другое, чтобы Павел не смог прочитать по губам нечто сокровенное. – Он историк и искусствовед. Собирает фольклор, много ездит по миру и… ищет особые места…
– Паранормальные, – уловив заминку, подсказал Павел.
Приблизился и сел рядом. Отсюда, со спальника, вид на Лешачью Плешь просматривался чуть хуже, словно картину в раме обугленных берез слегка наклонили, и от этого она исказилась и верхняя часть пропала во тьме.
– Да, паранормальные, – повторила Леля. – Наверное, ты тоже слышал.
Лешачья Плешь, Окаянная церковь и другие проклятые места…
Конечно, Павел читал о них. Хорошее место для секты, для дремучих суеверий и страшных ритуалов. Духи здесь говорили с Захарием или кто-то еще, но Павел вскоре поговорит с читателями своей рубрики и вскроет все грязные тайны, как хирург вскрывает скальпелем гнойник. Дозвониться бы Емцеву… Ему будет интересно послушать про кости на старом пепелище.
– В некоторых местах, – продолжила Леля, – не только в этом, время от времени случаются странные события. Например, пропадают люди или мертвые поднимаются из могил. Я не знаю, что здесь было до колонии. Может, языческое капище. Может, что-то иное… какое-то особенное, сакральное место. Здесь никогда не было археологических раскопок, но бури случались всегда.
Она помолчала, повертела в пальцах подвеску. Только теперь Павел заметил, что рыбка была не скручена из медной проволоки, как у всех, а вырезана из кости. Она висела мордой вверх, на вощеном шнуре, продетом через ее круглый глаз. На треугольном хвосте темнели зарубки.
Где-то Павел видел раньше этот символ… Не в деревне Краснопоясников, не в архиве библиотеке. Совсем недавно, буквально несколько минут назад.
Руна Одал, греческая Омега. Символ, нанесенный на громоотвод.
«Я есмь Альфа и Омега, есмь Царь, есмь Господь, есмь воскресший из мертвых. Начало неизъяснимое и конец непостижимый. Который есть, и был, и грядет…»
Грядет гроза.
В быстро темнеющем окне уже не различить ни берез, ни пепелища, зато виднелись вспыхивающие зарницы. Павел надеялся, что и на этот раз барак выдержит, и ближе придвинулся к девушке. Под бок подкатилось что-то твердое. Павел завел назад руку и нащупал камеру, убрал ее со спального мешка от греха подальше: не раздавить бы.
– Почему ты постоянно говоришь про бурю? – спросил он, внимательно глядя в Лелино белое лицо.
– Дедушка считает, что с грозой приходит Слово, – шевельнулись в ответ ее губы. – Откуда берется гром? Пар поднимается от воды, от нагретой земли, скапливается там, – она ткнула пальцев в крышу, – над нами. Энергия накапливается, а потом высвобождается, образуя при этом молнию. Молния нагревает воздух. Из-за происходит взрыв: гремит гром.
– А Слово?
– Слово как гром. Оно приходит, когда накапливается особого вида энергия. Не электричество… что-то другое. То, что есть у каждого человека…
– Например, что?
– Например, душа, – губы Лели растянулись в жутковатой улыбке. Павла обожгло холодком, но он стряхнул морок, и небрежно заметил:
– Так все просто?
– Все просто, – улыбка замерла на лице девушки, словно приклеенная. – Душа – есть своего рода энергия, сгусток, пар, который остается, когда наше тело умирает. И этот пар тоже поднимается вверх, как пар от воды. Энергия всего живого – человека ли, животного или птицы, рыбы или травы – она… ммм…
– Аккумулируется, – машинально подсказал Павел.
– Да, – выдохнула Леля, – и сохраняется… где-то. Может, в озоне. А потом… звучит.
Снаружи послышался треск. Павел вздрогнул, но это, кажется, под напором ветра треснуло очередное иссохшее дерево.
Будет буря. Будет гроза. И скоро духи заговорят…
– Дедушка рассказывал, что не зря все странные места появляются там, где происходили массовые смерти или есть массовые захоронения, – продолжила Леля. – Энергия скапливается, напитывает сам воздух, и вскоре перетекает через край…
Смерти. Заключенные, слышавшие странные звуки и сходящие с ума. Погибшие туристы. Старообрядческое кладбище, где похоронен колдун.
Энергия, полученная от мертвых, возвращалась к живым, но не приносила тем облегчения. У больного Леши Краюхина вскоре случился криз, спасенный из реки мальчик вернулся без души – где он оставил ее? Там, наверху, над железным шестом, испещренным древними символами? – и сам Павел потихоньку сходил с ума. Ведь не верил же он россказням сектантки?
Или…
– Почему твой дед сам не приехал в Доброгостово? – спросил Павел.
– Пытался, – Леля снова тряхнула кудряшками и слегка улыбнулась. – Черный Игумен его сразу узнал. Не в лицо узнал. Но как-то… почуял. Колдуны всегда чуют себе подобных. Но меня он не учуял…
– Значит, твой дед колдун, а ты ведьма? – Павел усмехнулся, и Леля вскинула подбородок. В полутьме ее глаза сверкнули как две зеленых искры. – Что же сделаешь со Словом, если найдешь его?
– Спрячу, – быстро ответила девушка и сжала кулак. – Так спрячу, что никто не найдет. Никогда. Никогда. Никогда… Дедушка говорил, не всякую силу можно в мир выпускать. А Слово – есть огромная сила! Не хорошая и не плохая на самом деле, только ей надо уметь воспользоваться. И мы хотим понять, как…
Вздохнула и поймала пристальный взгляд Павла.
– Не веришь?
– Не верю, – твердо ответил Павел.
Ему почему-то захотелось причинить девушке боль, сказать что-то резкое, обидное, вскрыть тугое зерно ее веры и нащупать, что скрывается в нем? Может, та же пустота, что все это время таилась в сердце самого Павла?
Одна сторона живет, другая гниет…
– Все вы такие, неверящие, – усмехнулась Леля, показав белые и ровные зубы. – Снаружи, вроде, живые, а внутри – гарь да соль. Бродите пустышками по свету, оглохшие ко всему. Зачем ты пришел сюда, Пашенька? – она заглянула в его глаза, и сердце Павла вздрогнуло и застучало часто-часто. – Что будешь делать со Словом?
– Ничего, – сказал он. – Нет никакого Слова. Все это гипноз, выдумки обезумевшего старика и его адептов. Сколько повидал я таких, – он выплюнул последние слова вместе с табачной слюной. – Наживаются на страхах, на бедах, на вере. Обещают если не бессмертие, то исцеление. И люди идут, как барашки на веревке, несут все, что дорого им, в обмен на эти пустые обещания. Я видел сектантов, – их взгляды пересеклись, – глаза пустые, и сердца пустые, и нет у них ничего за душой. Да и души самой нет.
– А у тебя-то есть? – вкрадчиво спросила Леля.
– Может, и нету, – жестко ответил Павел. – Я в душу не верю, и в Бога не верю. Где он был, этот Бог, когда случилась авария? Когда мои родители и брат погибли, а я оглох? Где он был, когда бабка таскала меня по шарлатанам и экстрасенсам, вместо того, чтобы просто оплатить операцию? Они все одинаковы. Глупцы и вруны, слепо верящие в то, чего нет. Гарь и соль, говоришь? Пусть лучше так, чем гниль и пустословие сумасшедших фанатиков.
– А чем ты отличаешься от них?
Эти слова Павел почти не услышал – они потонули в реве, прокатившимся над Лешачьей Плешью. Снова хрустнула ветка и ухнула вниз, махнув перед окнами едва распушенной листвой.
«Чем? – вертелось в голове. – Чем…»
Разве не поэтому ушла от него Аня? Оттого, что слишком часто он задерживался на работе, оттого, что его неверие переросло в фанатизм. Чем он отличался от тех, кого преследовал?
Павел открыл рот, не зная, что ответить. Ранку защипало, и Павел, как в детстве, приложил палец к губам. Ветер взвыл снова, на этот раз совсем близко. Фанерные листы над головой задрожали, выгнулись, точно по крыше ходил кто-то, стуча копытами.
Нечистый? Тот, кто охраняет могильник. Существо с бугрящейся кожей под дождевиком…
Нет, просто ветер.
– Дай посмотрю, – Леля взяла Павла за руку. Ее пальцы казались темными и тонкими, как паучьи лапки. И очень холодными. Как железный шест, вбитый в плешивую макушку земли, как руки мертвеца. – Больно?
– Немного, – ответил Павел и почувствовал: теплые губы девушки коснулись пульсирующей ранки.
– А так? – донесся хриплый шепот. Изо рта Лели вынырнул маленький и узкий язычок и лизнул запекшуюся кровь. – Шш… Не бойся, заговорю.
Ее голос зашелестел, как шелестит дождь, омывающий окна и крыши:
– Ты, рана, уймись, засохни, затянись. Нет здесь места тебе, и быть тебе в другой стороне…
Слова журчали, ручейками стекали в углы. Куда только девались злость и напряжение, боль в плече и лодыжке? Мышцы отяжелели, в голове сгущался туман.
– В той стороне люди не живут, в небе птицы не поют, рыба в воде не плывет, пшеница на полях не растет. Сгинь, пропади, от тела отойди.
Снаружи гуляла непогода, в окне плавали грозовые сумерки. А здесь почти не чувствовался холод. Словно пришел домой, скинул обувь и растянулся на любимом диване. Кто-то неслышно прошел в мягких тапочках, присел на край: диван спружинил под тяжестью тела, щеки коснулись мягкие и душистые волосы.
Аня? Вернулась…
– Анечка… – прошептал Павел, силясь разлепить ресницы, но веки набрякли тяжестью и не слушались, только сквозь приоткрытые щелки виднелся дрожащий силуэт. Тень наклонилась и подняла что-то с пола. Что-то тяжелое, темное, оно удобно легло в Анечкину ладонь.
– Грядет гроза, милый, – ответила Аня и замахнулась для удара.
Сверкнула молния. Голову Павла обдало слепящей болью, и грома он не расслышал.
29. Пробуждение
После удара мир окрашен в красное и черное. Красное – огонь, черное – сажа.
Ветер ревет, ворошит слои памяти, поднимает ил со дна. И все прожитое, просеянное, похороненное и забытое повторяется снова, и снова, и снова…
Он нажимает на грифель, проводит черную борозду по белой бумаге, штрихи неровные, резкие, грубые.
– Ты ведь слышишь меня, – говорит мягкий женский голос. Слова приглушены, словно их произносят через марлевую повязку. – Я знаю…
Он молчит. Делает вид, что не слышит. Грифель поскрипывает, старательно выводя контуры чешуек и плавников, раскрытую рыбью пасть.
– Я говорила со специалистами, – продолжает женщина. У нее смуглое лицо и густые брови, длинные темные волосы заплетены в косу. Прямо над головой, словно многоярусный нимб, распускаются огромные бумажные маки. Их лепестки похожи на сполохи пожара.
– Даже если не делать операцию, барабанная перепонка со временем восстановится, – голос журчит, не собирается оставлять его. И в пасти нарисованной рыбы появляются острые зубы. – Позволь мне помочь тебе?
Из рыбьего тела вырастают шипы. Длинные, острые, черные, как иглы дикобраза. Ими можно проткнуть плотный пузырь тишины, окружающий его уже долгое время. Или отогнать слишком приставучих психологов.
– Знаешь, глухота не всегда наступает в результате травмы. У тебя бывало, что ты просто не хочешь с кем-то общаться? Не видеть того, что происходит вокруг? Не слышать, что говорят люди? Просто взять и выключить один из органов чувств. Точно так же, как ты выключаешь свет, когда ложишься спать. Щелк – и темнота.
У рыбы черные плавники и красные глаза.
Щелк – черное.
Щелк – красное.
Мрак и вспышка.
Пепел и огонь.
– Можно закрыть глаза и представить, что окружающего мира не существует. А когда нельзя заткнуть уши, появляется единственный выход – оглохнуть. Спрятаться за барьер, где хорошо и легко, где тебя оставят в покое.
Рыбью чешую перечеркивает шесть гитарных струн. Они натянуты туго от верхнего плавника до хвоста. Если их задеть – бежевая комната наполнится насыщенным звуком аккордов. Тогда в них потонет участливый голос психолога, противный скрип грифеля по бумаге, визг тормозов, крики, вой сирены, треск пожара…
– Я знаю, что в твоей жизни произошла трагедия. И хочу помочь справиться с твоими чувствами. С болью потери, с неприятием, со страхом, гневом и виной. Я поговорю с твоей бабушкой. Мы вместе можем справиться со всем этим! Ты можешь довериться мне, слышишь?
Не слышит. Склонившись над столом, он тщательно рисует рыбу. А у рыб не бывает ушей.
– Ты слышишь? Андрей!
Чужое – его, – имя шурупом вкручивается в мозг, выжигает изнутри.
Он стонет, карандаш вываливается из ослабевших пальцев.
Это не психолог сидит напротив, это Аня, и ее рука цепко держит за плечо.
– Отвечай! – выдыхает она. – Отвеча-а…
С губ срываются хлопья пепла. И сами губы – красные и сочные, как у киношного вампира. Аня никогда не пользовалась ярко-алой помадой. И это не Аня уже, а Софья. Каре обрамляет ее бледное лицо, брови строго сдвинуты, из-под них сверкают зеленые кошачьи глаза.
– Говори!
Ил воспоминаний бесконечно кружится, темнеет, оседает пеплом. Лицо Ани оплывает, как талый снег. И теперь это не Аня и не Софья, а Леля.
Павел закашлялся, сплевывая соленую, с привкусом металла, слюну. Он лежал навзничь, и дождевая вода заливала лицо, голова раскалывалась, будто внутри нее плавала нарисованная рыба с хищно раскрытой пастью, и острыми шипами прокалывала мозг.
Все повторялось снова и снова, но по-другому.
Черное – сажа, красное – кровь.
Первый удар принес глухоту, второй – вернул слух.
Рывками возвращаясь в реальность, Павел слышал так остро, как не слышал никогда: трещали под натиском ветра березы и лиственницы, дождь шелестел, размешивая пепел до кашицеобразной густоты, и рядом хрипло дышала Леля. Ее зубы жутко белели во тьме, мокрые кудряшки липли ко лбу и щекам, испачканным грязью и сажей. И где-то за ней, разрывая тьму, сновали огненные нити молний.
Гроза пришла и теперь гремела прямо над ними.
– Ле… ля?
С усилием вытолкнув имя, Павел попробовал подняться, но подошвы поехали по грязи, и он завалился набок. В вывернутых плечах стрельнуло болью: руки оказались заведены за спину, запястья стянуты… чем? Наверное, поясом. Павел нащупал набрякшие узлы и длинный матерчатый хвост, уходящий куда-то назад. Выкрутив шею, краем глаза увидел нависший над пепелищем громоотвод: вся его верхушка пылала, как факел.
– С-сука, – выплюнул Павел. Лоб саднило, соленые капли падали на губы. – Развяжи!
Он дернулся. Поселившаяся в голове рыба-еж тут же раздула бока и заворочалась под черепом. Боль ударила ослепляющей вспышкой, рядом раздался щелчок – словно сработал гигантский выключатель.
«Это молния! – в страхе подумал Павел. – Молния бьет прямо над моей головой! Если она ударит в громоотвод… если она…»
Он зажмурился и заскрежетал зубами. Казалось, что под мокрой, прилипшей к телу рубашкой змеились электрические угри, мышцы сводило от напряжения. От мучительного ожидания беды.
– Да что тебе надо?! – выкрикнул Павел, и последнее слово поглотил громовой раскат.
Земля задрожала, дождь зарядил сильнее. Где-то хрустнуло дерево и с протяжным «шууурх!» обрушилось вниз.
Красное – кровь. Черное – пепел.
Павел приоткрыл глаза. Во тьме плавали белые искры, юркие, как мальки. Они бисером катились по обнаженным плечам Лели, по ее перепачканной груди, падали в грязь и гасли. Леля не отвечала. Круглые глаза мерцали как фонари, в зрачках отражались грозовые отблески.
На этот раз пронесло, но куда молния ударит в следующий раз?
Павел дернулся. Еще и еще. Мокрый пояс натянулся, узлы впились в запястья.
Поверил фанатичке. Попался в ловушку. Позволил привязать себя, как пса! Или того хуже – как ягненка у жертвенника.
От злости сводило скулы и, как псу, хотелось выть.
– Значит, за Словом охотишься, – прошипел он, крутя и царапая узлы. Вот стерва, крепко стянула! Откуда только силы взялись? – Решила ритуал Захара повторить? Так, может, ты его и убила? А? Не зря тебя возле его дома видел.
Губы Лели раздвинулись в усмешке.
– Все вы на Слове помешались, – продолжил Павел, кривя рот и выплевывая слова вместе с дождем и слюной. – Долбанные фанатики. Да хрен вы его найдете! А знаете почему? – он рванулся вперед, но путы держали крепко. – Нет его! В природе не существует!
Девушка зашипела: резко и громко, точно воздух вышел из разбитого радиатора…
… машины, вылетевшей на встречку…
…и вскинула руку.
Павел зажмурился, ожидая удар и вспышку. Они не заставили себя ждать.
…лопнуло и разлетелось стекло. Осколки обожгли кожу…
От пощечины загорелось лицо.
Леля высунула острый язычок и быстро облизала свои пальцы. Из-под ногтей сочилась его, Павла, кровь. А сами ногти в свете зарниц казались слишком длинными, слишком тонкими, блестящими, как ножи.
Или шипы нарисованной когда-то рыбы.
– Чертова стерва! – просипел Павел. – Да кто ты такая?!
Она прекратила вылизывать руку и уставила на него зеленые глаза-плошки.
– Кто-о… – выдохнула Леля грудным вибрирующим голосом и зачастила, сверкая глазищами: – Кто-то-к-тот-ток-кот-кот-то-о…
Рыба внутри Павловой головы заворочалась снова, вдоль хребта покатилась бисерная дрожь, холодным сгустком оседая внизу живота.
– Ко-от Ба-аюн, – певуче сказала Леля и заулыбалась окровавленными губами. – Сидит он на железном столбе в три сажени высотой… а столб этот – в мертвом лесу стоит, где ни птица не пролетит, ни зверь не прорыскает… только ветер свищет, деревья валит, и гроза гремит без устали… У кота шерсть черная, глазищи зеленые, а одна лапка белая…
Тут Леля протянула руку и вывернула ладонью вверх: точно в дурном сне, Павел увидел, что ее запястье стягивает шрам от ожога.
«Захочу отыскать тебя, пошлю Белолапку», – вспомнились Лелины слова. Павел приоткрыл губы и с них сорвался хриплый стон. Этого не могло быть. Оборотней не существовало в природе, как не существовало Слова. Но Лелин голос был тут: звучал и звучал, вибрирующий, низкий, болью отзывающийся в висках…
…как соло на электрогитаре, как басовый аккорд, как музыка, навсегда оставшаяся в голове, чтобы больше не вспоминать, не думать, не чувствовать, не слышать…
Павел совершенно отчетливо понял, что та Леля, что сидела в грязи перед ним, совершенно точно не была человеком. Возможно, какое-то время она – оно, – умело прикидывалось им. Но на деле принадлежало другому миру: тому, где выворачивались на мясную изнанку плотоядные растения, где шлепал по заброшенным шпалам путевой обходчик, вынюхивающий червей для наживки… кому?
Слову.
Понимание опалило мозг, как очередная молниевая вспышка.
Павла заманили на гигантское пепелище, чтобы принести в жертву древним и страшным силам, чтобы пробудить их. И этот громоотвод – громоотвод ли? – изрезанный странными символами, больше напоминал железного идола. Под ним лежали кости погибших заключенных и туристов. А может, и местных жителей, неугодных Захарию.
– Идет кот вверх – рассказывает небывальщину, – продолжила журчать Леля, и ее рука медленно качнулась и приподнялась. – Идет вниз – поет колыбельную. – Рука опустилась, и с серповидных когтей посыпались горошины шаровых молний. – Кого кот увидит – раздерет мясо железными когтями, разгрызет кости железными зубами, слижет языком всю кровь. А кого не убьет – того голосом заворожит, – слова стали резче, отрывистей, приглушенными, как пиццикато. – Голос у кота волшебный. Кто его услышит – на того мертвый сон найдет, и будет человек спать триста лет без просыпу, под железным столбом, под проливным дождем, в сыром могильнике. А столб все будет вращаться. И будет вращаться мир. И будет греметь гроза. И звучать СЛОВО!
– Вот только… у меня… нет, – вытолкнул неповоротливым языком Павел.
Леля – или то, что казалось ей, – наклонилась и принюхалась. Ее ноздри затрепетали, втягивая напитанный озоном и влагой воздух, и сама она тоже дрожала от предвкушения. Ее лицо было так близко от Павла, что можно было различить мягкое свечение ее сероватой кожи, видеть собственное отражение в круглых зрачках, чувствовать легкий гнилостный запах, дурманящий, погружающий в непонятное оцепенение, но от того не менее мерзкий.
Потом она округлила рот.
Волосы на висках Павла приподнялись как наэлектризованные. На грани обморока и яви он следил, как верхняя губы существа подворачивается вверх, обнажая мелкие и острые белые зубы, как нижняя челюсть опускается все ниже, и кожа на лице Лели растягивается, будто резиновая, обнажая зев.
Черный провал.
Воронку.
Бездонный колодец.
Там не было ни языка, ни миндалин, ни верха, ни низа. Лишь тугая вращающаяся тьма.
Оттуда на Павла дохнуло могильным холодом и сыростью. Он хотел зажмуриться – но не смог, и увидел, как тьму располосовала молния. Хотел оглохнуть – но не было Пули, которую смог бы выключить, поэтому услышал, как следом за громом из бездны донесся раскатистый и гулкий звук:
– ОооМммАааааОоооУуууу…
Его отбросило назад.
…удар был такой силы, что треснула кость…
Мрак и вспышка.
Пепел и огонь.
…Мама?
…Папа?
…Андрей?
Протяжно и тоскливо выла сирена: «…оооОУуууМммАааОооо…»
За стеной ливня ничего не разглядеть, кроме взбесившихся молний. Ноги разъезжались в расхлябанной жиже, железо холодило затылок. Вслепую Павел принялся ощупывать столб: вода текла по вытравленным желобкам, острые края кололи пальцы.
Теперь он находился прямо возле громоотвода – идола? жертвенника? железной оси, вокруг которой вращается мир? – и если молния ударит сюда в следующий раз, то Павел вспыхнет как…
…Андрей, оставшийся навсегда шестнадцатилетним среди искореженных машин на Тарусской автостраде, где вечно ревет сирена…
И разве это честно? Чтобы один близнец погиб, а второй остался жить? Чем он, Павел, заслужил эту жизнь? Ведь завидовал всегда Андрею за его сноровку, за острый язык и цепкий ум. И тянулся за ним, как подсолнух за солнцем, но никогда не мог достичь. Однако же вот, выжил!
Он снова попытался подняться. Из-под ботинка вывернулась реберная кость и осталась торчать перпендикулярно земле. Ее грани были черны и остры, и Павел подумал, что в древности из таких костей делали ритуальные ножи, которыми удобно резать жилы и сдирать шкуры. Таким бы перерезать узлы…
Павел нервно облизал губы, уже не чувствуя ни гари, ни крови. Может, их смывал дождь, а может, он уже привык к их вкусам и запахам, к реву стихии, к красному и черному.
Сколько ни трепыхайся, мотыль, а быть тебе рыбьим кормом.
Существо, когда-то назвавшееся Лелей, возилось в грязи. Скрюченными пальцами разгребало кашу, обнажая все новые и новые кости, жадно принюхивалось и рыло снова. К Павлу оно потеряло интерес, ведь Слова у него не было.
Значит, теперь…
Сцепив зубы, Павел прижался спиною к столбу и принялся тереть узлы о шершавое железо. Его лихорадило, руки то и дело соскальзывали и тогда, казалось, в кожу вонзались мелкие, но очень острые зубы.
Успеет ли? Андрей бы успел.
По пепелищу мчались болотные огоньки. Павел вспомнил, что их еще называли «свечой покойника». Вспыхивая, они рассыпались на миллионы мерцающих светлячков, и, подсвеченные ими, из черной хляби вырастали кости.
Целый костяной лес!
Ребра – как частокол сосен. Плечи и бедра – ветки. Пальцы рассеяны травою. И обугленные черепа камнями катятся по жиже. И все это шевелится, бугрится, выползает из-под земли на свет, похрустывает, точно стонет – не мертвое, и не живое, но в тщетной надежде ожить, когда грянет Слово.
Встань, спящий, и воскресни из мёртвых!
Павел зажмурился и принялся быстрее водить связанными руками возле громоотвода. За шумом дождя и воем ветра он слышал, как с треском ломаются лиственницы, слышал, как рвется мокрая ткань. Скосив глаза, он видел обмочаленные нитки. Еще немного!
На какой-то миг – короткий, но в сознании Павла тянущийся невероятно долго, – воздух загустел, как заряженная электричеством смола. И он, Павел, увяз в этой смоле – ни пошевелиться, ни вздохнуть. Кожа покрылась мурашками, и все волоски приподнялись, потянулись к небу, как тянулись к нему иссохшие кости.
УуоооОУуууМммАааОоооммм…
Взвыл ураган в третий раз и тучи свернулись бумажной воронкой. Запрокинув голову, Павел заледенел.
В небе, лениво выныривая из набегающих облаков, плыла гигантская рыба. Ее правый глаз был как солнце, а левый как месяц. Ощетинив костяной плавник, она стряхивала с чешуек дождевые капли и ныряла вниз, прижимаясь к верхушкам лиственниц белесым брюхом, где зрели икринки молний. Вот одна из них задрожала, увеличилась в размерах, и, вспоров рыбье брюхо, устремилась вниз.
В то же время натянулся и окончательно лопнул связывающий Павла пояс. Но откатиться он не успел.
Раздался сухой щелчок, и рыба, разинув круглый, засаженный иглами молний рот, поглотила Павла целиком. Он вспыхнул в ее пасти, как бумажный рисунок.
Мир задрожал и начал рассыпаться на фрагменты. Только на сетчатке глаза остался отпечаток громоотвода, пылающего сначала голубым, а потом багряно-красным светом.
Пепел и огонь…
Остывающая автострада, мокрая от дождя…
Далекие отзвуки сирен…
Красный крест на блестящем боку «Скорой помощи», красный крест на белоснежной шапочке медсестры. Она наклонилась, растянув в улыбке ярко-алый рот, а потом вышептала вместе с душным запахом гниения:
– Встань, Андрей!
И спящий открыл глаза.
30. Обман зрения
Страшно, душно. Хоть бы немного свежести! Дождя бы! Но нет, молнии посверкали, да и рассыпались искрами над Полонью. В Червоном куте злыми огоньками помаргивают избы: то одно окно вспыхнет, то другое. Неспокойно в деревне, неспокойно на сердце.
Акулина спит и причмокивает во сне. Ульяна тише воды, ниже травы, только глаза вечно на мокром месте. Смотрит на мужа просяще, а вслух не говорит ничего. Да Степан и так знает: уехать она хочет, сбежать из проклятой деревни. Подбирается к Акульке, гладит ее по лохмам дрожащей ладонью, а глаза так и зыркают по сторонам. Была бы воля – ухватила бы дочь в охапку и деру! Но, натыкаясь на тяжелый взгляд Степана, съеживалась и притихала.
Тише, Ульянка. Жди, скоро вместе уйдем.
И Степан ждет, шумно глотает воду из графина, душно ему, неспокойно, червяк гложет под сердцем. Где-то в деревне воет мать Кирюхи Рудакова: рассказали ей мужики, что видели сына на берегу, мол, за раками пошел, теперь участковый грозится баграми дно перерыть. Найдет Кирюху – наткнется и на труп Захария.
Брат Маврей ходил тенью, но молчал, только глаза прятал под сдвинутыми бровями. Пусть прячет, пусть молчит, молчание – золото.
Степан шумно выдыхал и вновь хлебал сырую воду, проливая на бороду, на грудь, но не пытался вытереться. Где там ведьма? Выманила у чужака Слово? Текли минуты, текло за окнами сырое туманное утро, а новостей не было.
Стукнули в двери. Ульяна по-птичьи дернула головой и поспешно опустила взгляд. Степан прокрался по тени и замер перед дверью. Кого принесла нелегкая?
– Открой, батюшка, – шепнули снаружи.
Замаячило на пороге что-то темное, чужое, костлявое. Не то призрак деда Демьяна, не то мумия старца Захария. В приоткрытую щель пахнуло могилой. Степан окаменел, вонзил ногти в рассохшееся дерево. Нет, показалось. Не могилой, а сыростью утра, туманом, мокрой травой.
«Что-то зрение подводит», – устало подумал он и угрюмо глянул на худую женщину, мнущуюся у порога – мать Кирюхи Рудакова.
– Чего надо?
Ее лицо – как обтянутый кожей череп, глаза спрятались в черных провалах. Стояла, дрожа, комкала в руках рваную сумочку.
– Сына мне, – прошелестела женщина. – Сына верни…
Снова повеяло сыростью, да не от реки теперь, от собственной рубахи. Тиной, гнилой землей, смертью. Степан пошевелил ноздрями, поморщился и ответил:
– Нет его у меня.
– Знаю, – дрожащий голос Рудаковой походил на шелест осин. И сама женщина, как осинка на ветру. Дунь – и поклонится до земли. Ударь – надломится пополам. – Умер он, да? Умер мой мальчик…
Сумочка выскользнула из пальцев и повисла на дерматиновом ремне.
«Какое странное слово «умер», – подумал Степан и криво ухмыльнулся сам себе. – Только был недавно, а теперь – пфу! И нету».
– Я не Господь Бог, – сказал вслух. – Знать не могу.
Толкнул дверь, но закрыть не успел, женщина выставила колено. Глаза замерцали отчаянной решимостью.
– Вот, возьми! – забормотала она, лихорадочно рванула застежку-молнию на сумочке. – Все, что сыну на учебу накопила… не успела. А теперь толку от этого? – ее плечи задергались. – Живой мне сын нужен, батюшка! Хотя бы разочек увидать хочу!
Она выгребла из сумки пачку купюр, заботливо перевязанных зеленой резинкой, протянула в дрожащей ладони. А Степану почудилось, не деньги ему протягивают, а жабу. Отпрянул, скривившись от омерзения.
– Живого мне дай, – продолжала Рудакова, суя деньги невпопад, вслепую. – Знаю, что можешь. Люди говорят. Иди, говорят, к Черному Игумену. Он вернет. На! На!
Бумажки шелестели в сухих пальцах. Шелестела листва. Полонь шумела, бурлила в своих берегах. Что будешь делать, Степа, когда из реки достанут труп с пробитой головой? Не вернуть мальчишку, да и незачем.
– Иди! Вон иди, слышишь? – прикрикнул на женщину Степан. – Не знаю ничего про твоего сына! Дочь у тебя осталась. Иди к ней!
Она не слушала, повторяла, как безумная:
– Не побрезгуй, батюшка! Деньги что? Будут еще. А другого сына не будет…
– Не знаешь, о чем просишь! – Степан оттолкнул протянутые руки. Бумажки выхватил ветер, бросил в траву и грязь. Женщина застонала и повалилась следом.
– Батюшка-а, – заскулила она, как побитая собака, касаясь лбом грязного порога.
Ууууу! – завыл в трубе ветер, тоскливо, как по покойнику. Степана дернуло судорогой, он лязгнул зубами, ощутил на языке железистый привкус и вытер рот ладонью. Бурые пятна проказой расползлись по коже.
Кровь… Его или Кирюхи Рудакова?
– Я на все готова, батюшка, – как сквозь туман слышалось сбивчивое бормотание женщины. – Что скажешь – то и сделаю. Хочешь, деньги бери. Хочешь, душу мою. Забирай, если надо! Ты один теперь мне спаситель!
Она рванула с шеи нательный крестик. Цепочка лопнула, обвисла в ее пальцах, и сам крестик, сверкнув золоченым боком, упал в пыль. Степан шумно выдохнул, прижал ладони к глазам.
«Спаситель, значит! – засмеялся в уши мертвый Захарий. – Убийца ты, Степушка. Руки у тебя в крови, а голова в темных думках. Как у деда твоего, Демьяна. Как у меня. Как у всех, кто был, и есть, и грядет, и воздастся кому по вере…»
– По вере воздастся, – вслух простонал Степан.
Между веками и глазными яблоками расплывались круги – зеленые и круглые, как кошачьи глаза. И сама кошка тенью вспрыгнула на нижнюю ступеньку лестницы, разинула красный рот и зашипела.
Не кошка это! Ведьма!
– Сгинь, ведьма! – в страхе крикнул Степан. – Пропади!
Он замахнулся кулаком, хлопнула, отлетая, дверь. Безутешная мать выла, вцепившись пальцами в волосы. Степан отпихнул ее ногой и слетел по лестнице вниз.
Где та кошка? Вон, мелькнул за баней черный хвост.
Степан – туда.
Облака бежали резво, весело, то густея до сизой темноты, то оголяя выбеленное брюхо. Из-под ног катились мелкие камешки, как тогда, на берегу реки. И солнце поплавком выныривало из облачных волн – не солнце, вихрастая Кирюхина голова. И от этой головы по всему небу тянулся и тянулся кровавый след – то заря занималась над Доброгостовым.
– Поймал, ведьма!
Степан завернул за угол и ухватился за некогда белый, а теперь испачканный сажей и грязью рукав. Девушка зашипела, показав острые зубы.
– Слово где? – задыхаясь, потребовал Степан. – Взяла?
– Нет…
Он зарычал и встряхнул ее за плечи. Стружка волос взметнулась и распалась по плечам, зеленые глаза на перепачканном лице сверкнули хищно, не по-доброму.
– Нет у чужака Слова, – прошипела ведьма. – Другое взяла.
– Что?
Степан ослабил хватку, и девушка, наконец, вырвалась. Распахнув ворот и оголив одну аккуратную грудь, она вытащила из-за пазухи потрепанный блокнот. Края оказались опалены огнем, листы исписаны аккуратным убористым почерком.
«Лешачья плешь», «Колдун Черных», «Помешательство заключенных», «Место, где говорят духи»…
Пролистывал страницы, Степан разглядывал рисунки и особенно долго смотрел на имя, густо перечеркнутое, но все еще читаемое – «Андрей Верницкий».
– Его записи?
Ведьма согласно тряхнула головой и снова оскалилась по-звериному. Взлохмаченная, вымазанная грязью и сажей, сейчас она походила на зверя. Отвернись – и вцепится острыми зубами в шею.
– Еще что? – спросил Степан.
Значит, он был прав насчет чужака. Значит, не просящий. Смотрел, вынюхивал, записывал, собирал улики против него, Степана, и против всей общины. Может, хотел узнать, кто убил Захария. А, может, раскрыть тайну Слова.
– Еще камера была, – сказала ведьма.
– И где она?
– Разбила.
Скрипнув зубами, Степан убрал блокнот в карман. Будет время, изучит внимательнее. Может, и узнал чужак что-то, о чем он, Степан, не имел представления.
– И где он теперь?
Ведьма неопределенно качнула головой.
– Там… На корм рыбам пошел, – и хихикнула, отчего по спине Степана прокатились мурашки.
Где это – там? На кладбище? Или у Окаянной церкви? Или в ином, потайном месте, куда ходил старец Захарий, и где получил свою силу дед Демьян?
Хотел переспросить, но ведьма вдруг замерла и вытаращила глаза, которые тут же остекленели, зажглись тревогой и страхом. Она как-то вся подобралась, черные кудряшки вздыбились, будто кошачья шерсть. И беспокойный червячок засосал у Степана под ложечкой. Снова стало невыносимо, душно, точно навалился кто-то невидимый и давит на грудь так, что не выдохнуть.
«Не оборачивайся, – подсказало чутье. – Беги отсюда. Забирай жену, дочь, и беги, пока еще можно спастись…»
«Обернись, – вкрадчиво шепнул мертвый старик. – И узришь чудо».
Степан обернулся.
По тропке со стороны кладбища, пошатываясь, точно пьяный, медленно брел чужак.
– На корм рыбам, значит? – хмуро переспросил Степан.
Не понравился вид чужака: всегда опрятно одетый и собранный, сейчас он действительно напоминал рыбий корм. Так мог бы выглядеть Кирюха Рудаков, если бы поднялся с речного дна. Рубаха разорвана, штаны и ботинки заляпаны грязью. Где он пропадал ночью, что так перемазался в золе и глине? И зачем вернулся теперь?
Чужак остановился, точно раздумывая, идти ему прямо по тропе, мимо хозяйственных построек, через овраг и до самого Троицкого собора, или же свернуть в Червонный кут. Стоял, покачиваясь, с трудом ворочая окостеневшей шеей. Со вздыбленных волос сыпались хлопья пепла. Теперь Степан видел его лицо: оно застыло в искривленной гримасе – один уголок рта опущен вниз, второй приподнят в ухмылке. И глаза поблескивают бельмами с закопченного лица.
Степан шумно выдохнул, и листья осинок вздыбились под порывом ветра, выворачивая позолоченную солнцем изнанку.
Чужак медленно поднял ладони и похлопал ими по груди.
– Сигареты забыл, – невнятно произнес он. Голос оказался хрустящим, как обгоревшая береста, и чужак закашлялся, отхаркивая черную пыль.
Он снова потащился вперед, подволакивая ноги и нелепо подергиваясь, и Степан не сразу понял, что чужак идет к его собственному дому.
Там, у порога, возилась безутешная Рудакова, подбирая с земли разбросанные деньги. Бормотала, всхлипывала, раздавленная горем, но еще не теряющая надежду. Все просящие такие: приезжали дрожащие, слабые, ногтем придавишь – и не станет человека. Но в милости своей и человеколюбии мессия Захарий спасал гниющие душонки, штопал наживо, Словом. Вот только не у всех заживали швы, и кому это видеть, как не бывшему хирургу? Кого нельзя перекроить заново, того следует умертвить.
Степан двинулся наперерез, и чужак остановился. С уголка рта стекала слюна, и один глаз, подернутый беловатой мутью, уставился на Степана, другой же оказался полуприкрыт: ресницы склеились от грязи.
Да видит ли он вообще?
Сухостью обложило губы. Воды бы! Степан облизнулся, и чужак, будто в насмешку, повторил его жест. Кончик языка у него оказался белесым, как брюхо мертвого карпа.
Или Кирюхи Рудакова.
Может, это и был Кирюха? Встал со своей илистой перины, двигаясь медленно, точно в полусне, преодолевая сопротивление водной толщи или даже самой смерти. И теперь стоял тут – распухший, белый, безъязыкий. Не человек… а кто тогда?
«Кто ты?» – хотел спросить Степан и сощурился. Мир расплывался, воздух дрожал, дрожали пальцы, нервно скручивая пояс.
Рудакова тоже вскинула серое лицо и страдальчески приподняла брови.
– Видел сына твоего, – произнес чужак.
Баба приоткрыла темный рот. Степан видел, как дрожала натянутая нить слюны, видел, как надеждой вспыхнули пустые глаза, словно кто-то внутри ее головы зажег крохотный фонарик.
– Где? – шлепнула губами Рудакова.
– На дне речном, – ухмыльнулся чужак, и фонарики в глазах погасли. – Вошел он в ил по самые колени, рыбы ему нос отъели. Был человек – стал червь.
Он тихо, скрипуче рассмеялся, и у Степана зашевелились волосы, дыхание перехватило. Откуда знает? Может, видел их с Мавреем тогда, у реки? Сказал ли кому?
– Что ты такое говоришь… – пролепетала Рудакова, прижимая к груди растрепанную сумочку.
– А ты не за этим к Игумену пришла? – в ответ проскрипел чужак. – Смотри, тетка, Слово не воробей, вылетит, зазвучит – в клетку не посадишь. Сын твой теперь страшным стал, распухшим. Злым будет, если вернется. Ну да мертвые всегда злые, на живых они сильно обижены. Все еще хочешь вернуть? А то ведь придет грозовой ночью и постучится в дверь. Откроешь тогда?
Рудакова заскулила и сложила пальцы в щепоть. Степан бы и сам перекрестился, только руки не поднимались, обвисли, отяжелели, будто в каждой держал по гире. А еще скрипучий, вязкий голос чужака показался ему знакомым.
«У него голос Акульки, – подумалось вдруг, и холод прокатился по спине. – Она так говорит, когда случается приступ».
А еще, вспомнилось, так говорил мертвый Захарий – утробным голосом покойного деда Демьяна. Потусторонним голосом, звучащим из мира, где властвуют мертвые.
– Сгинь! – прошептала Рудакова в страхе. – Пропади, нечистый!
Так и не перекрестилась, вместо этого подобрала сумку и бросилась прочь.
Чужак ухмыльнулся одной половиной парализованного лица и вытер губы.
– Курить охота, сил нет, – сказал он. – Мужик, у тебя есть? Всю дорогу терпел, а батя не разрешает.
– Нет у меня, – выдавил Степан. Говорить было тяжело: на зубах скрипел песок, в голове шумел ветер, перед глазами танцевали мушки. Того и гляди, свалит припадок. Степан стиснул в пальцах пояс и хмуро спросил: – Ты откуда пришел такой? Зачем бабу напугал?
– С дороги пришел, – ответил чужак, по-прежнему ухмыляясь. Под прикрытым веком ворочался глаз, ресницы трепетали, но так и не расклеились. От чужака пахло потом и гарью, на правой щеке алел ожог, и волосы над правым ухом обуглились и надломились.
– Тетке я правду сказал, – продолжил он. – Ты и сам знаешь.
«Знаешь…» – эхом отозвалось в порыве ветра. Степан поежился и сунул руки в карманы, словно боялся, что чужак разглядит на его ладонях кровь Кирюхи. Краем глаза заметил, как опасливо подошла и застыла в сторонке ведьма. Тянула носом воздух, прислушивалась, подрагивая, как зверь в засаде.
– Мальчишка только вчера пропал, – сказал Степан, – а ты его в мертвецы рядишь.
Чужак сплюнул на землю сквозь зубы, как сплевывают мальчишки, но сделал это не умеючи, и слюна повисла на нижней губе и капнула на подбородок, пестрый от запекшейся крови.
– Видел, – повторил он. – И его видел, и старика Захария, деда твоего, Демьяна, и Лешу Краюхина, и утонувшего Евсея, хоть и живы они пока, а все равно на корм пошли.
– Кому пошли? – машинально спросил Степан, и бросило в пот.
У горизонта блеснула на солнце чешуйчатая рябь воды, что-то плеснуло у берега.
– Рыбе, – ответил чужак. – В брюхе ее сидят, икринка к икринке. А я уйти смог.
И засмеялся, выхаркивая пыль и пепел.
– Как же ты ушел, Паша? – подала голос ведьма.
Она приблизилась еще на шаг, убрала кудри за розовые ушки. Солнце подсвечивало ее со спины, и казалось, охвачена ведьма золотистым ореолом. Только в глазах притаилась тревога. Слепой глаз чужака заворочался и уставился на нее.
– Изо рта выпал вместе с молнией, – глухо сказал он. – Жить захочешь – еще не то сделаешь. Отдохнуть бы мне…
Он покачнулся и опустился прямо в дорожную пыль.
– Отдохнуть бы, – пробормотал и добавил, словно в бреду: – Только зря вы меня Пашей зовете. Нет больше Павла. Я брат его, Андрей.
31. Рокировка
Спящий открыл глаза.
Последнее, что он помнил – удар и свет. Он ухнул в него, как в кипяток, но боль была только в начале, потом ничего не стало. Снаружи иногда пробивались неясные звуки, и что-то темное, огромное, как остров, проплывало над головой, сбивая исполинским хвостом звезды.
Здесь же было сухо и сумеречно. В крохотное квадратное окошко сочился золотистый свет, в котором кружились пылинки. Пахло прелым сеном, навозом, молоком, мылом, мокрыми рубахами, спящими мотыльками, собачьей шерстью и многим другим.
Пахло жизнью.
Он попытался приподняться и едва не рухнул обратно: голову обложило болью, в ладони впилось колючее сено, лицо и горло горели. Воды бы! А лучше холодного пива. И сигарету. Вспомнил, как батя после рыбалки откидывался на складном стуле и блаженно посасывал пенный напиток, с запотевших стенок пластикового стаканчика стекала влага, сонно гудела мошкара, и было спокойно и хорошо.
Вернется ли то время?
«Нет, не вернется», – ответил себе. Хорошо, что вернулся сам.
За стеной шептались приглушенные голоса.
– Убила, говоришь? Так вот он, живехонек! – говорил мужчина. Его голос хрипел, срывался на рык, вибрируя от плохо сдерживаемого гнева.
– Это не он, – отвечала женщина. – Тот не смог бы вернуться. А этот не помнит ничего. Спроси – не ответит.
– Зато знает много лишнего.
– Знает, да не скажет. А чего ты боишься, батюшка? – в голосе женщины сквозила насмешка.
Мужчина не ответил.
«Боится, – промелькнула в голове чужая, невесть откуда взявшаяся мысль. – Это Черный Игумен, он старца убил, и Слово забрать хотел».
– Пусть остается, – наконец сказал мужчина. – Нельзя отпускать, надо следить за ним.
– Думаешь, у него Слово? – вкрадчиво спросила женщина.
«Леля, – тут же подсказал невидимый собеседник. – Не то ведьма, не то оборотень. Или просто галлюцинация, как и ты, Андрюха».
– Отвали, – шепнул он, икнул от напряжения и тут же накрыл ладонью губы.
– Если и не у него, то где-то близко, – тем временем ответил мужчина.
Настала тишина, такая, что в ней едва слышались удаляющиеся шаги. Тишина была неприятной, липкой, опутывала голову, как водоросли. Он сунул мизинец в ухо, пытаясь избавиться от ватной заложенности, глубоко вздохнул, и кто-то другой, невидимый и близкий, синхронно вздохнул вместе с ним.
Скрипнула дверь.
– Кто тут? – угрюмо спросил в пустоту и сощурил воспаленные глаза. Их словно запорошило песком, вместо четких образов – расплывчатые фигуры.
– Пить хочешь, дяденька? – на этот раз тихий и высокий голос явно принадлежал ребенку.
Он приподнялся на локтях, подтянув гудящие ноги. С непривычки тело казалось непослушным, деревянным, суставы скрипели как плохо смазанные шарниры.
– Ты кто? – язык тоже не слушался, ворочался моллюском в раковине. Подслеповато сощурившись, разглядел гостью: на вид лет десяти. Взлохмаченная, лицо остроносое, бледное, а глаза как пуговки. Ну чисто гадкий утенок!
– Акулька я, – гнусаво ответила девчонка. – Видела, как тебя папка в сарай волочил. Воды принесла. На! Пить хочешь, поди.
– Хочу, – согласился он и принял из грязноватых рук Акульки граненый стакан.
Держал крепко, обеими руками, и жадно пил, стараясь не пролить ни капли. Вода была холодной, колодезной, от нее сводило зубы и пощипывало в горле.
– Тебя как звать? – спросила девчонка, забирая стакан.
Он задумался на минуту. Первое имя, родившееся на языке, сплюнул под ноги, как шелуху, нашел правильный ответ и выцедил:
– Андрюха.
– Смешно, – сказала Акулька. – Вроде дядька, а говоришь как мальчик.
– Мне шестнадцать, – хрипло ответил Андрей и поскреб ногтем рану на другой руке.
– Что это у тебя? – она взяла его ладонь, перевернула. Возле ногтя, черного от сажи и засохшей земли, коркой запеклась кровь. – И вот тут…
Провела пальцами по щеке, где цвел след ожога.
– Не знаю, – сказал Андрей и нахмурился, вспоминая.
В красный цвет окрасилось пламя, в черное – загустевшая тьма. Как долго он провел в этой тьме, подсвеченной вспышками молний? Сколько пытался пробиться сквозь плотный панцирь неверия, глодал раненое сердце брата, до капли выпивая его боль и муку. И вот – Павел уверовал, и по вере ему воздалось.
– Хочешь, вылечу? – спросила Акулька.
– А можешь?
Вместо ответа она криво улыбнулась и коснулась губами его руки…
…будто снова опустили в кипящее пламя.
Нет, нет, нет! Не надо! Только не снова!
Судорога свела мышцы, ногти свободной руки заскребли по полу. И из-за плотной завесы небытия выглянул близнец. Заскрежетал зубами, пытаясь что-то сказать, вперился взглядом в девчонку. Видела ли она? Прикрыв ресницы, дохнула на рану. И раны не стало.
– Все уже, все, – заботливо проворковала, гладя его по руке.
Андрей испустил долгий вздох. Рука не болела, не саднила разбитая губа. Он дотронулся кончиком языка – опухоли не было. Приложил ладонь к лицу и ощутил приятную упругость кожи, лишь кольнула проросшая щетина. Настоящая, живая.
– Это кто тебя научил? – спросил он.
– Никто, – чуть стеснительно ответила девчонка. – У деды подсмотрела.
И захихикала. Андрей вздохнул, снова облизал губы и спросил невпопад:
– Сигареты есть?
– Курить гадко.
– Это кто говорит?
– Папка говорит.
– Много он понимает, твой папка.
Снова попытался привстать. На этот раз тело отозвалось куда охотнее, мышцы не дрожали так сильно, пальцы слушались. Андрей сгреб солому в горсть и швырнул перед собой. Желтые остинки посыпались, ложась на дощатый пол.
– Не балуй, а то нажалуюсь! – строго сказала Акулька. – Папка здесь самый главный.
– Так уж и главный, – усмехнулся Андрей. Вспомнил гулкий шепот за стеной:
«Нельзя отпускать, надо следить за ним».
От этого «надо следить» в животе разлился холодок. Но страх был далеким и ненастоящим, как отголосок памяти.
– Правда, правда! – с жаром закивала Акулька, крутя стакан между пальцев и глядя, как солнце играет прозрачными бликами. – Папка за паствой следит и направляет на путь праведный. Он волшебную кошку приручил, и теперь она мне сказки рассказывает. Будешь меня обижать, задерет тебя кошка железными когтями.
– Не буду обижать, – с усмешкой пообещал Андрей. – Видел я ту кошку на Лешачьей плеши под железным столбом. В столб молнии бьют, и в кого молния попадет, тот упадет замертво. А кошка твоя землю рыла и мертвецов из-под столба выкапывала, а потом ела. И меня съесть хотела.
– Неправда! – подскочила Акулька, выронила стакан. – Злой ты, дядька! Зачем на мою кошечку наговариваешь?
– Если наговариваю, это тогда что? – он вынул из кармана маленькую косточку, покрутил между пальцами, подмигнул девчонке одним глазом. Второй не слушался, так и оставался полуприкрытым. – Через эту косточку я и вернулся.
– Откуда? – плаксиво спросила девчонка.
– Из рыбьего брюха. Там все мертвецы сидят, и мамка моя, и папка, и бабушка, и брат Павел.
– А вот и врешь! – вдруг спокойно сказала Акулька и лицо ее из плаксивого сразу сделалось серьезным. – Нет там брата. Тут он сидит, я видела, – она вытянула палец и ткнула Андрея в грудь. – Ждет, как ты ждал. Вернется.
Спазмом скрутило кишки. Андрей заскрежетал зубами и согнулся, хватаясь руками за живот. Косточка выпала и затерялась в сене.
«Вернусь! – закричал в голове чужой голос. – Пусти, а то хуже будет!»
– Хрен тебе, – прошипел Андрей и облизал губы. – Помнишь, Паша? Правая сторона живет, левая гниет. Теперь ты гниешь, а я за обоих жить буду.
Павел протестующе заворочался в животе, Андрей ударил себя кулаком под ребра, резко выдохнул и замер. Шевеление прекратилось.
– Акули-ина-а! – раздался за стенами взволнованный женский крик. – Где ты, доченька?
– Мамка зовет, – девчонка словно очнулась ото сна и отступила в круг света, солнце короной вспыхнуло над пушистой макушкой. – Пойду.
И выскользнула на улицу.
Андрей привстал. Колени едва сгибались, туловище шаталось, будто он, Андрей, был разумной машиной, но не мог самостоятельно управлять ею, ведь внутри на водительском кресле сидел кто-то другой, нажимающий на тормоз и время от времени дергающий ручник. Оттого и шаги получались рваными, спотыкающимися. Андрей выставил ладони и ухватился за дверь. Она скрипнула и приоткрылась.
Он так давно не видел света, что почти забыл, каким тот может быть ярким. Не белым и смертоносным, как молния, а теплым, струящимся, ласкающим кожу. Зажмурившись, Андрей с удовольствием подставил лицо солнцу. Как там сказал Игумен? Присматривать за ним будет? Плевать на него. В этой глуши Андрей пробудет недолго. Вот окрепнет, обретет силу, и уедет в большой город. Может, даже в столицу. Там много огней, девчонок в коротеньких юбочках, много возможностей и путей. Затеряется – никто не найдет. А уж если унесет с собой Слово…
Андрей возбужденно облизнулся и увидел, как на двор выходит Акулькина мать.
«Ульяна», – подсказал Павел.
Она оказалась высокой и тощей, таких в Тарусе называли «штакетина», лицом и комплекцией девчонка явно пошла в нее.
– Отец где? – спросила женщина. У нее был тревожный и надломленный голос, плечи то и дело нервно вздрагивали.
– К брату Маврею ушел вместе с кошечкой, – добродушно ответила Акулька.
– С какой кошечкой?
– С сестрицей Аленкой.
На лицо Ульяны набежала тень. Или это просто облако на время закрыло солнце?
– С кошечкой, значит, – повторила женщина.
Андрей хорошо различил эту интонацию: звенящую от сдерживаемой ярости и обиды.
Ульяна на время скрылась из поля зрения. Андрей не торопился приоткрывать дверь шире, он чувствовал себя мальчишкой возле замочной скважины, и в этом ощущался элемент игры, какой-то чистый, незамутненный восторг. Андрей чувствовал себя живым.
– Жалко курочку, мама! – снова послышался высокий голосок Акульки.
Они снова появились в поле зрения: держа в одной руке курицу, другой Ульяна вытащила из деревянной колоды топор. Легко вытащила, с одного раза.
– Ты ведь хотела на ужин куриный бульон, – возразила она, даже не оглянувшись на дочь. – А папы нет, придется все делать самой.
– Я больше не хочу бульон! – попыталась спасти положение Акулька. Курица трепыхалась в плотно сомкнутых пальцах матери, скребла когтями по колоде.
Память возвращалась, проявляясь, как старый фотоснимок. Андрею вспомнилось, как они с братом гостили в деревне у бабушки. Как и многие деревенские, она держала кур и свиней, но никогда не рубила головы сама, предоставляя эту работу деду. Каждый раз, когда дед вытаскивал топор, бабушка уходила в дом или отправлялась по делам, и к ее возвращению тушки обязательно должны были лежать в отдельном тазу, готовые к ощипу и разделке, а кровавые пятна отчищены и присыпаны песком. Втайне дед посмеивался над женой, но никогда не перечил, зато неодобрительно качал головой, когда Павел в ужасе закрывал лицо руками, бубня под нос: «Мужик ты или кто? Бери пример с Андрюхи!»
Андрею было любопытно, и он всегда смотрел, как лезвие рассекает податливую плоть и впивается в колоду. Всего один взмах – и живое становится неживым. В этом заключалась особая, смертельная магия.
– Не хочешь бульон, приготовлю котлеты, – легко ответила Ульяна, умело прижимая птицу.
Как в детстве, Андрей весь превратился в зрение и слух, Акулька же, наоборот, закрыла лицо ладонями.
Взмах!
Лезвие опустилось, вонзившись глубоко в колоду. Из разрубленных артерий брызнула кровь, и голова – серо-бурый мячик – отскочила и упала в траву.
Какое-то время Андрей смотрел на темные пятна, на безголовое тело, бегающее вокруг колоды. Потом тело завалилось на бок, подогнуло ноги и застыло, лишь изредка подергивая крылом.
«А силы Ульянке не занимать, – подумалось Андрею. – И жалости бабьей нет. Уж рубанула так рубанула».
Живот снова скрутило болью. Воздух сделался колючим, плотным. Андрей захрипел, раздирая пальцами горло. Мир потек, сворачиваясь спиралью, подернулся туманной пеленой. И вот уже, как сквозь замочную скважину, смотрел сквозь чужие глаза: деревянная колода превратилась в беленую печь, а курица – в труп Захария. Заскорузлая от крови голова тряслась, пальцы скребли по доскам. Рядом вместо топора валялось полено.
Как там сказал Емцев? Сначала толкнули, потом добили по голове…
– Вали! – прохрипел Андрей. – Сдохни… уже наконец!
И глазами Павла продолжил смотреть.
Веером развернулись страницы блокнота, замельтешили написанные карандашом имена.
Степан Черных.
Маланья.
Ведьма Леля.
Ульяна…
Могла ли нанести удар женщина? Вполне могла. У кого был мотив? У всех, кроме, пожалуй, Маланьи. Степан и Леля желали завладеть Словом, Ульяна – уехать из деревни. Затюканная, задавленная мужем, ревнующая его к чужим женщинам, и дрожащая, как осиновый лист – поди, пойми, от вечного страха перед Черным Игуменом или от страха быть раскрытой?
– У нее нет… Слова, – выдавил Андрей, в слепоте шаря ладонями по стене. Остро пахло кровью, и от этого кружилась голова и к горлу подкатывала желчь.
– А у кого есть? – жадно спросил Павел.
Есть ли у него? У них обоих? Между близнецами снова протянулась связующая нить молнии, и на одном конце нити стоял мертвый Андрей, на другом – Павел. Зазвучит Слово – и мертвые займут место живых.
Ладонь пронзила боль.
Мир перевернулся: пропала изба, печь и мертвый старик. В дверную щель снова било полуденное солнце, а по распоротой ладони струилась кровь, но боль оказалась желанной.
– Сдохни, – с упоением повторял Андрей. – Умри.
По телу волнами шла дрожь, и Павел не откликался. Только тогда Андрей выдохнул и убрал руку от острой шляпки гвоздя. Высунув язык, облизал рану, смакуя будоражащий медный привкус.
Теперь хорошо. Теперь он снова один.
А вот Ульяна была не одна: рядом с ней размахивали руками люди в белых рубахах. Пояса трепыхались как мотыли, насаженные на крючок.
Корм для рыб. Они все были кормом.
– Неужто нашли? – повторяла Ульяна, все еще сжимая в руке топор.
– Нашли, только что баграми выловили! – причитала женщина, покачиваясь и прижимая ладони к лицу. – Головушка пробита!
– С камня он сверзился, как пить дать, – сплевывал мужик. – Бегал по деревне, дебоширил, никакого покоя от него не было. Сам виноват.
И чинно целовал подвеску-рыбку.
– Михаил Иванович подозревает убийство.
– С пьяных глаз он подозревает!
– И все же, расследовать будет. В свои руки возьмет. Уж ему Рудакова черте чего наговорила!
– Я видела, она сюда приходила поутру, – сдавленно ответила Ульяна. – Что же делается, Господи?
Топор выскользнул из разжавшихся пальцев, воткнулся в мокрую от крови землю.
– Игумена уже предупредили, – мрачно сказал первый мужик. – Вместе разбираться будем. Пусть только Иваныч попробует оклеветать, я своими руками…
Люди продолжали голосить, но Андрей уже не слушал. Его внимание привлекло другое: по тропе, прихрамывая, брела безголовая курица. Время от времени она останавливалась, вытягивала вниз шею, словно пыталась склевать найденную крошку, и тогда из сырой утробы брызгала кровавая струйка. А неподалеку стояла Акулька и горящим взглядом наблюдала за птицей, губы девочки шевелились, будто повторяли заклинание или молитву.
32. За веру
После полудня разыгрался ветер. Лес шумел, и шумели собравшиеся люди. С участковым пришло с десяток деревенских и местный священник, а против них – почти пять десятков Краснопоясников, и новые все подходили.
Андрей выкрался из своего убежища и волчонком ожидал в стороне, пряча в кармане порезанную о гвоздь ладонь. На него бросали косые взгляды, но не трогали.
– Ну что, Степан, – сказал Михаил Иванович, нервно обкусывая папироску. – Арестовывать я тебя пришел.
Черный Игумен стоял, ссутулившись, раздувал крупные ноздри.
– А ну, попробуй, – спокойно ответил он.
Всхлипнула безутешная мать Рудакова, ее под локоть поддерживал священник, отец Спиридон.
– За что же арестовывать? – подала голос одна из баб, из-под платка вились неопрятные русые кудри, в глазах сверкала ненависть. Андрей чувствовал, что она трусит, но пытается храбриться. Лучшая защита – нападение. А эту только тронь, бросится, вонзит ногти в лицо, до последнего будет драться за веру. И рядом с ней такие же – напряженные, сжатые в пружину. Мужики стоят полукругом, ожидают, что скажет главный. Вот только его жены не видно, затерялась в толпе, зато Акулина стоит в сторонке, жмурит глаза и закрывает ладошками уши. Нехорошо ей, чуял Андрей, боязно.
– За убийство Захара, – ответил участковый. Он явно нервничал, руки ходили ходуном, скручивая пуговицы на пиджаке.
– Да что ж такое делается?! – выкрикнула та же тетка. – На честного человека напраслину возводит!
– Ты погоди! – прикрикнул отец Спиридон. – Пусть скажет!
– Пусть доказательства предъявит, – хмуро огрызнулся один из Краснопоясников, выдвигаясь вперед. – Впустую языком сколько угодно молоть можно, а только я сам заходил той ночью к батюшке за солью. Дома он был, с женой.
– Так и есть, с женой я был, – спокойно ответил Степан. – Ульяна подтвердит.
– Твою Ульяну тоже ночью во дворе видели, – парировал Михаил Иванович. – И тебя самого. У меня показания есть.
– Чьи?
– Чьи надо. На допросе узнаешь.
– Ты меня на допрос поведешь, что ли? – ухмыльнулся Степан. – Или ты?
Неприязненно глянул на отца Спиридона. Тот не повел и бровью, выдержал взгляд Черного Игумена, продолжая гладить по руке Рудакову. А Михаил Иванович забегал глазами, еще пуще завертел пуговицы, заговорил быстро и визгливо:
– Ты, Черных, доигрался! Все знают, что смерти Захару желал. Выяснено уже, что сначала его виском об угол печи приложили, а потом поленом по темени добили. Много ли старику надо?
Акулина вдруг тихонько заревела. Андрей окинул толпу быстрым взглядом, потом ловко, как уж, начал протискиваться к девчонке.
– Это чужак убил! – вдруг крикнула другая тетка, и Андрей вздрогнул, втянул голову в плечи, прошипел под нос:
– Сука! Припомню тебе…
Зафиксировал в памяти лицо в красных пятнах, курносый нос, вывернутые как у негра губы и маленькие глазки. Настоящий поросенок. Посмотрим, как будешь визжать, когда тебя на сало пустят.
– Его отпечатков нет нигде, – возразил Михаил Иванович. – И его самого нету, съехал от Матрены Синицыной дня два назад.
Священник завертел головой, и Андрей стушевался, отступил в тень. Зря: отец Спиридон заметил движение и слегка улыбнулся, как старому знакомому, поманил рукой.
– Иди сюда, раб божий Павел. Искал я тебя, думал, уехал, не попрощавшись. Да что же ты?
Андрей глянул исподлобья, мотнул головой – мол, понимай, как знаешь, – и бочком протиснулся в толпу, поближе к Акулине.
– А вот дети из вашей общины, – продолжил участковый, – Савелий и Егор, Матренину собаку убили.
– Так то детки, Михаил Иванович! – возразили ему. – Несмышленыши еще, Христовы ангелочки!
Андрей, наконец, прокрался к Акулине и положил ладонь ей на макушку. Девчонка не вздрогнула, только покосилась опасливо. От слез ее щеки и нос припухли, в левой ноздре надувался и опадал мокрый пузырь, глаза превратились в щелки. Андрей подумал, что учись такая в его классе, ей бы прохода не было от насмешек и издевательств.
– Не плачь, – сказал Андрей, выдавливая улыбку. В другой жизни он бы и близко не подошел, теперь же выбирать не приходилось. – Страшно тебе?
– Страшно, – шмыгнула носом девчонка. – Не люблю, когда кричат. И деда жалко.
– Захария? – понимающе спросил Андрей.
– Ага, – кивнула Акулина. – Я всегда к нему приходила, когда болела. Приду под бочок, пригреюсь, он мне ладошкой по спинке или животику гладит, в лобик поцелует, и легко становится, тепло, хорошо так…
– Не поминайте имя Господа всуе! – пропыхтел тем временем священник, темнея лицом. – Ангелы безгрешны, а эти дети уже познали вкус греха и пустили кровь из баловства.
– Кстати, – нервно произнес Михаил Иванович, – одного из Христовых ангелочков сегодня багром выловили. Кирилла Рудакова.
– Так он бесенок как есть! – не сдавалась крикливая тетка. – Не чета моему Егорке! Туда ему и дорога, сволочи малолетней!
Рудакова почернела лицом и, точно мертвая, упала в подставленные руки отца Спиридона.
– Это кого ты сволочью назвала, мразота? – подал голос кто-то из подошедших деревенских.
– Успокойся, Тань! – крикнули из мужиков.
– Сейчас, только эту чертовку успокою!
Женщина вылетели и вцепилась в обидчицу.
– Помогите! Убивают! – заголосила та, отбиваясь
Шум! Гам! Заволновалось белое море рубашек, нахлынуло, поглотило сцепившихся женщин.
– Прекратите! Прекратите! – орал участковый.
– Побойтесь Бога! – вторил священник, придерживая стонущую Рудакову.
Да кто их слушал?
Акулина снова заревела, и ветер поднялся сильнее, принес с реки серые облака.
– Гадкие тетки! – хныкала девчонка. – Наказать их надо!
Размазывая слезы и сопли, смешно грозила кулаком. Вот только Андрей не смеялся. Акулька пугала его. Вернее, не столько его, сколько затаившегося в груди Павла.
– Так же, как ты деда наказала? – сипло спросил он, словно крючок с наживкой забросил. – В ту ночь, когда пришла к нему в последний раз…
И затаил дыхание.
– Его не хотела, – сквозь слезы пробубнила Акулина. – Он сам виноват! Зачем меня больно схватил?
– Как схватил? – эхом переспросил Павел.
Облако саваном окутало солнце, и мир поблек, обрел новые очертания.
…на скамье сидит Акулька, и, похныкивая, упирается лбом в плечо Захария. Полумрак, помаргивают лучины, разбиваются о стены сруба острые тени. Ладонь старика гладит девчонку по плечам, по спине, спускается на живот…
– За ляжку схватил, – донесся всхлипывающий голос. – Потом тут…
Сухая и жадная ладонь пауком ползет по животу, ныряет между бедер.
– Больно!
Акулина вскрикивает, отпихивает старика, вскакивает сама.
– Злой деда! Пусти! Пошто Акульку обижаешь?
Толкает снова. Он падает на спину, затылком на печь. Побелка быстро темнеет…
Как говорила бабка Матрена? Захар сам из ссыльных, оттого и епитимья на нем. Одной рукой лечил, другой вредил, прикрывался благочестием, а втайне грешил. Маланья с ним добровольно сожительствовала, а он, как обессилел, без разбора к девчонкам подбирался. Может, и не раз Акульку трогал, а она молчала, но все-таки льнула к старику, подпитываясь целебным Словом.
«Так и объясним: убийство по неосторожности», – подал голос Павел.
Вот только что делать с поленом? Добил же кто-то старика у самого порога. Сама Акулина в отместку? Или кто-то еще?
– Тебе за нашего Кирилла! – как сквозь набитую пухом перину кричала боевая баба. – За своими щенками следи!
– Это Рудаков щенок, по-собачьи и утопили, – огрызались в ответ. – А я за своих Егорку и Савелку, сволочь такая, всем горло перегрызу!
И снова сцепились, и снова полетели пух и перья! Нет никого злее, чем защищающая ребенка мать. Кому горло перегрызет, кого поленом добьет…
… взмах! И отлетает голова у дергающейся птицы.
Взмах! И старик падает у порога, вывернув парализованную руку…
Озарение вспыхнуло молнией, заметались чужие мысли:
«Я знаю, кто убил!»
– Заткнись! – рыкнул Андрей, впился ногтями в раненую ладонь.
«Надо сказать участковому. Пусть Емцеву звонит, я докажу!»
– Умолкни! Я никуда не пойду!
Боль ввинтилась шурупом, пронизала руку до самого локтя, теплая влага заструилась между пальцев.
Не надо никаких участковых, никаких доказательств. Плевать на Захарку! Незаслуженно ему Слово от колдуна Демьяна досталось, назло Степану, так воздалось теперь Захарию по заслугам, раздавили, как червя, отправили в прах.
– А я жить буду! – забормотал Андрей, царапая рану. – Жить, жить!
Забрать Слово, а с ним сам черт не страшен! И никакой мертвый старик, никакой Черный Игумен, ни даже родной брат, отправившийся в небытие, не посмеют стоять на пути.
Реальность вернулась, оглушила многоголосьем, и Андрей дернул Акулину за плечо:
– Идем!
– Куда? – она непонимающе подняла припухшее лицо.
– В безопасное место. Там тебя никто не найдет, обещаю.
Он старался говорить спокойно и дружелюбно, так, чтобы девчонка поверила. Надо уходить, как можно быстрее и дальше. Нутром чуял: грядет беда. Напряжение ощущалось в ветре, поднимающем с земли пылевые смерчи, в дрожании осин, в холодном мерцании креста Окаянной церкви. И чем дольше плакала Акулина, тем темнее становилось небо, тем реже солнце выглядывало из-за облачного савана. Может, это гроза шла по пятам от самой Лешачьей плеши, чтобы забрать Андрея из мира живых.
Мертвецы не прощают предательства.
– Не пойду с подселенцем, – заупрямилась вдруг Акулька. – Боюсь тебя. Где настоящий?
Андрей заскрежетал зубами. Вот ведь поганка! Узнала!
– Я настоящий, – сквозь зубы процедил он.
– Неправда! Врешь! – заголосила Акулина, вырываясь. – Пусть настоящий дядька придет! Зачем его держишь?
– А ну, отойди! – зашипели рядом.
Андрей обернулся. К нему быстро приближалась кудрявая девица в белой рубахе.
– С какой стати? – огрызнулся Андрей. – Девчонка плачет, не видишь? Утешаю ее.
– Никудышный из мертвяка утешитель, – хмыкнула ведьма и, присев, обняла Акулину. – Не плачь, не реви, моя хорошая.
– Страшно, Аленка! – жаловалась девочка, уткнув лицо в ее плечо. – Люди злые.
– Не все злые, и хорошие есть.
– Нету, – упиралась она. – Притворяются все. Снаружи цельные, а внутри гнилушки. Даже деда был, даже папка с мамкой…
Не договорила, всхлипнула и затихла. Андрей с завистью следил, как ведьма гладит девчонку по макушке, нацеловывает в мокрые щеки, и Акулина льнет к ней доверчиво и робко. А ведь была его добычей! Несправедливо!
Андрей снова принялся ковырять рану, и в сердце копилась черная злоба.
Тем временем гомон притих, и в толпу вклинился Степан Черных.
– Довольно! – прогрохотал он, за ворот оттащив Рудакову, а от его голоса с елей шумно поднялось воронье. – На чужой беде и на чужих костях грешно ссориться!
– Не тебе о грехе говорить, – подал голос отец Спиридон, а Рудакова выстонала:
– Уби-ийца!
Кто-то ахнул. Степан шагнул вперед и отвесил женщине пощечину.
– Злость жены изменяет взгляд ее и делает лицо ее мрачным, – яростно проговорил он. – Не греши против Господа и меня, пророка, владеющего Словом.
– Говори да не заговаривайся! – прикрикнул отец Спиридон, выступая вперед и загораживая Рудакову спиной. Солнце, выглянув из-за туч, опалило крест, и тот вспыхнул золотым боком, точно занялся пожар. – Не пророк, а прохвост ты!
Андрей отошел еще, оглядываясь по сторонам, высматривая пути к отступлению, и только сейчас заметил, как клонятся тонкие осинки, как рябь бежит по траве, как с горизонта наползают чернила и вымарывают сажей крыши домов. Неужто и впрямь гроза? А ведь думал, что убежал от нее. Андрей досадливо поморщился и глянул на Акульку: та все еще подрагивала на ведьмином плече, глаза крепко зажмурены, дыхание сбивчивое. Не приступ ли?
– З-зараза! – процедил Андрей и вытер ладонью рот. Тучи густели, солнце окончательно провалилось во тьму.
– Что ты можешь дать матери, потерявшей дитя? – продолжал меж тем грохотать Степан. – Сказку о загробной жизни, о недостижимом Царстве Божием? А я могу вернуть ее сына, – и, повернувшись к Рудаковой, сдвинул густые брови: – Порою мы бываем несдержаны в словах и обвиняем необдуманно. Но я добросердечен и милостив, и если покаешься, если будешь чиста в помыслах, задуманное исполнится.
– Вернешь сына? – глаза Рудаковой фанатично вспыхнули, и она отодвинулась от священника.
– Верну, – пообещал Степан.
– Слава Игумену! Мессии нашему! – закричал кто-то из толпы.
– Сколь милостив и человеколюбив! – вторили другие.
– Как щедр!
– Одумайся, Ольга! – отец Спиридон удержал ее за рукав. – Люди, одумайтесь! – Он обернулся вокруг себя, оглядывая всех вместе и каждого в отдельности. Ветер вздымал его косматую гриву, как черную корону, рвал подол рясы. – Кому вы верите? Не пастырю, а волку в овечьей шкуре! Убийце отрока Кирилла!
– Отрок сполна получил за грехи, – сухо ответил Степан и расправил плечи. – А теперь я с помощью Господа и животворящего Слова верну его к живым для благих деяний и благочестивой жизни.
– Через несколько лет, как выйдешь, – вклинился участковый, прикуривая очередную папиросу. Его пальцы дрожали, и Андрей видел, каких усилий ему стояло перечить Игумену. – Не дури, Черных! Если не виноват в смерти Кирилла Рудакова, тебе и бояться нечего. Все, о чем прошу, поехать в город к Илье Петровичу. Там установят, причастен ты или нет.
– А если не поеду? – угрюмо спросил Степан, желваки на скулах ходили ходуном, о взгляд можно было зажигать спички.
– Силой заставлю!
Михаил Иванович швырнул в пыль недокуренную папиросу и шагнул вперед. Черных зарычал и сгреб его за грудки. Истошно заголосили бабы.
– Ты что творишь, гнида? – захрипел участковый, вращая налитыми кровью глазами. – Закон не уважаешь?
– Здесь я Закон! – встряхнул его Черных. Михаил Иванович засучил ногами, заговорил:
– Под статью меня подводишь, сволочь! Я в город материал отослал, все про твои штучки Емцеву расписал. Скоро сюда приедет, все твои грехи припомнят, и я тебя покрывать не буду. Пусть сам отвечу, но и ты сядешь, за всех тебе отдуваться, и за Захара погибшего, и за Кирилла Рудакова…
Не договорил, захрипел, закатывая глаза. Пальцы Степана сдавливали горло тисками, не вздохнуть.
– Степан, опомнись! Как друг тебя прошу! – закричал священник, стряхнул Рудакову, как пушинку, и та повалилась на землю, хватаясь руками за покрытую черным платком голову.
Бросились вперед деревенские мужики. Андрея толкнули, повлекли за собой, перевернули. Не удержавшись, он двинул плечом ближайшего к нему краснопоясника. Тот выматерился и двинул ответно. Удар пришел вскользь в плечо, Андрей отпрянул, зашипел от боли.
«Надо уходить, – запульсировала в голове единственно верная мысль. – Бежать, пока не стало совсем жарко…»
Он зашарил взглядом по толпе, выискивая Акульку. Пар поднимался над землей, насыщался бранью, чужим дыханием, воздух дрожал от ударов. Кто-то из деревенских пинал сектанта по ребрам. Другой краснопоясник уже спешил на помощь, и, ударив сзади, повалил деревенского в пыль. Не оставаясь в долгу, размахнулся и Черных, и двинул кулаком по мокрой щеке участкового. Его лицо сразу скисло, потекло вниз, из носа хлынула кровь.
– Папка!
Слабый голосок, едва слышимый в возрастающем гвалте, раздался слева и сзади. Андрей повернулся и увидел спешащую сквозь толпу Акулину, ее широко раскрытые глаза горели отчаянием.
– Акулька! Стой!
А вот и ведьма: спешила за девчонкой, вертела кудрявой головой. Потеряла? Тем лучше!
Андрей сжал кулаки и двинулся наперерез. Он все еще слышал, как отец Спиридон кричит Степану:
– Во имя Господа! Степан, давай прекратим это безумие!
И голос Черного Игумена отвечал ему:
– Здесь я Господь!
Акулька споткнулась и упала. Справа прямо на нее несся мужик: огромный, злой, встрепанный, как медведь. Андрей рванул наперерез, но не успел.
Тень подмяла под себя девчонку, швырнула в сторону. Акулина ткнулась лицом в траву и затихла.
Сначала Андрей остановился, не в силах ни выдохнуть, ни вдохнуть, будто железным обручем сдавило ребра. Потом услышал тонкий свист и удивился, когда понял, что это воздух тонкой струйкой вытекает из его рта.
Надо проверить, жива ли девчонка. Надо успеть раньше ведьмы, пока…
Акулька дышала. На платье в районе колен проступали красные пятна, волосы в беспорядке налипли на лицо, и от этого казалось, что девчонка упала носом в тину. Андрей склонился над ней, тронул за худое плечо.
– Акуль… – начал он, и не договорил.
Девчонка подняла голову. Ее взгляд, глядящий через тину волос, оказался пустым и заледеневшим. Она смотрела на Андрея или сквозь него, сквозь дерущихся мужчин, сквозь паркий воздух, сквозь лес, ожидающий непогоды. В какой-то иной мир, откуда пришел Андрей, и куда ни за что не желал бы вернуться снова.
Потом она открыла рот и…
…закричала!
…не произнесла ничего.
По крайней мере, Андрей не услышал ни звука. Но почувствовал, как под ним дрогнула и поплыла земля. Что-то бесшумно разорвалось в воздухе, и голова враз наполнилась кипящей болью.
Он упал рядом с Акулиной на колени и ткнулся лбом в траву…
…в накрывшей его тьме не было ничего – ни деревьев, ни изб, ни людей, ни неба. Лишь океан черноты. И эта чернота дышала, шевелилась, казалась живой. И, наконец, раскрыла белесый рыбий глаз и глянула…
Его стошнило прямо на брюки.
Дрожа и вытирая рот, Андрей огляделся.
На земле вповалку лежали люди. Кто-то без движения, кто-то шевелил ногами, как перевернутый на спину жук. Степан черных стоял на карачках и поводил туда-сюда тяжелой головой. Из его ноздрей текла кровь и капала на бороду.
– Папка! – сказала Акулька.
Поднявшись, она заковыляла к отцу. Черных поднялся, отхаркивая кровь.
– Что… это было? – пробормотал отец Спиридон, приподнимая посеревшее и тоже окровавленное лицо.
– Слово, – ответил Черный Игумен.
Акулька подбежала и ткнулась ему в ноги. Степан рассеянно ухмыльнулся, гладя дочь по волосам.
– Иное Слово, – продолжил он, – гладит, как отчая рука. Иное сечет, как меч. Теперь же узрите силу и уверуйте! Вот она! – Степан поднял сжатый кулак. – В моих руках окрепла!
– Веруем! – застонали, приподнимаясь, люди. – Батюшка, веруем!
– Глупцы! – через силу выплюнул отец Спиридон. – Не знаете… с чем связались. Есть силы… человеку не подвластные… прельщающие вас чудесами и знамениями… но ведущие к погибели…
– Скажи это несчастной матери, – Черных кивнул на пластом лежавшую Рудакову. – Она пришла к тебе в час горя и неверия, а ты не сделал ничего. А я – верну ей сына.
– Веру… ю, – прошептала Рудакова и поползла к Степану, извиваясь ящерицей. – Батюш… ка, спаси-и…
Андрей тоже поднялся, голова отяжелела, будто его снова шарахнуло молнией. Он коснулся щеки и захолодел – показалось, под пальцами заскрипела обугленная корка.
«Не дамся», – упрямо подумал он и, сощурившись, глянул на Акульку.
Девчонка стояла, все так же обнимая отца. А над ее головой, густея и закручиваясь спиралью, вращалось грозовое облако.
– И ныне я обращаюсь к вам! – воздел ладони Черный Игумен. – Тем, кто уже уверовал и познал Слово! И к тем, кто только что прозрел! Вот я, стоя перед вами открытый, несущий в себе Волю Божию – Альфа и Омега, последний и первый. Я есмь, и был, и буду! Верите ли мне?
– Да… – послышалось с разных сторон. – Да…
– Так дайте и Мне поверить в вас! – продолжил Степан. – Чем докажете свою любовь ко Мне?
– Да чем угодно, батюшка! – закричала женщина.
– Жизнью своей! – вторил мужчина.
– А лучше верой, – Черный Игумен показал пальцем на священника. – Вот тот, кто вечно лгал вам, вместо того, чтоб утешать в дни скорби и сожалений. Тот, кто притеснял нас, устраивал гонения и лгал на вас.
– Степан! – в страхе вскричал отец Спиридон. – Да что ты несешь? Я никогда…
– Никогда не принимал Слово Божие! – закричал Степан. – Рядился в пастыря, оставаясь внутри хищным волком! – сверкнул глазами и обратился к священнику: – Теперь я, Мессия Господень и Меч его, даю тебе шанс искупить неверие и обратиться к Истине! – Махнул людям: – Несите доски и веревки!
Белые рубахи засуетились, замельтешили. Деревенские еще лежали на земле, ворочаясь и не имея сил подняться. Лежал и участковый, Михаил Иванович, под его щекой мокро темнела трава.
– Иди ты к черту! – закричал отец Спиридон, но его тут же поймали за рясу, заломили руки, сунули кулаком в живот, в бокал, повалили.
– Помнишь Библию, Спиридоша? – спросил Черный Игумен – пугающе недвижимый, как идол. – Мы много говорили о ней когда-то. Там сказано: «Дано вам ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. И если страдаете за правду, то вы блаженны». Я познал блаженство, только пройдя через страдание. Готов ли пройти и ты?
– В последний раз прошу, одумайся! – заговорил Спиридон. – Жена у меня… дети…
Замычал, ворочая головой: кто-то засунул в рот скомканный пояс.
Застучали молотки, наспех сколачивая доски. Черный Игумен поднял голову и уставился на Андрея, словно горячей лавой окатил.
– Чужа-ак, – протянул он и поманил пальцем. – Подь сюда.
Андрея потянуло как на веревке. Этому взгляду нельзя противиться, против этой силы не пойдешь. Можно только подчиниться в надежде опять услышать Слово. И, услышав, освободиться.
– Веришь ли ты? – спросил Степан, выжигая в душе Андрея черные дыры, доставая до самого дна, где ворочалась ненасытная рыбина и ждала корма, лениво помахивая хвостом.
– Верю, – через силу ответил Андрей. – Я… слышал…
– Будешь служить мне?
Андрей опустил взгляд, но не оттого, что боялся Степана. Он смотрел на Акульку. Засунув палец в рот, девчонка сопела, с интересом поглядывая в небо.
Не человек больше – сосуд, хранящий Слово.
– Буду, – выдохнул Андрей и поднял лицо.
Краснопоясники тащили самодельный крест. Отец Спиридон, не стесняясь, плакал.
– Так докажи, – просто сказал Черный Игумен.
«Не делай!» – очнулся в голове Павел.
Висок прострелило болью, Андрей сжал зубы и упрямо пошел к кресту. Веревка сначала выскальзывала из пальцев, но потом дело пошло на лад. Когда с неба упали первые капли дождя, дело было сделано.
– По мере, как умножаются в нас страдания, умножается и утешение наше, – глухо сказал Степан, склоняясь над распятием. – Если будет на то Воля Его – спасет. Если нет – пойдешь рыбам на корм, но не воскреснешь.
Священник замычал, выгнулся всем телом. Дождевые капли стекали по его щекам, как слезы. Степан оттер их пальцами, коснулся губами лба. И, отойдя, махнул мужикам рукой:
– Спускай теперь на воду!
Крест ухнул с обрыва, и Андрей зажмурил глаза. Только услышал, как жалобно вскрикнула Акулина. Где-то прогрохотал первый громовой раскат.
33. По делам его
Сгущались сизо-багровые тучи, несли в брюхе огненные молнии. В старые времена говорили: «Илья-пророк на колеснице едет, тащит за собой грозу».
Но не было пророков в Доброгостове кроме Степана Черных, прозванного в народе Черным Игуменом. И его гроза была всегда с ним.
Присев на корточки, он положил ладони дочери на плечи, в который раз поразившись ее болезненной хрупкости.
– Не плачь, моя птичка, – ласково сказал Степан. – Не плачь, хорошая. Ну, чего разнюнилась?
Она уперлась ладонями в его грудь, быстро заморгала ресницами, и, отворачивая лицо, заныла:
– Жалко дядю, папка! Жалко-о… А тебя боюсь… ух, страшный ты! Черный, как медведь!
Дрожь ходила по телу волнами, под рубахой елозил ветер. Боится его Акулина и всегда боялась, как мать ее, как вся деревня. Степан не отпускал, разрываясь между желанием стиснуть дочь крепче и страхом разрушить этот хрупкий сосуд, в котором вызревала сила. Откуда взяла силу? И как не заметил раньше? А ведь все признаки были налицо: не зря крутилась Акулина возле старца Захария, и не припадки ее мучили, не ангина, а невысказанное Слово.
– Если жалко, в твоей власти вернуть, – тихо сказал Степан, стараясь не глядеть с обрыва, где шумный поток уносил по течению крест с привязанным к нему отцом Спиридоном. Не глядел, но украдкой вытер ладони о рубаху: все казалось, на них засохли кровавые пятна. Да стоит ли волноваться из-за этого? На руках его паствы крови теперь хватает, а кто-то и до прихода в общину осквернился и все они в одной лодке: чиновники и наркоманы, врачи и проститутки. У каждого жизнь разделена надвое, распотрошена и заново сшита Словом.
Акулина замотала головой
– Больно, папка! – всхлипнула она. – Жжется сильно, когда говорю…
Она дотронулась худой рукой до горла, и далеко над лесом, высветлив крест Окаянной церкви, полыхнули зарницы.
Се, грядет…
– Уйдем скоро, обещаю, – шепнул Степан, сжав дочери плечо, и она одеревенела под его рукой.
– Правда, папка?
– Правда.
Он выпрямился, обвел сощуренным взглядом паству. Стоя на коленях, люди молились. Шевелились сухие рты, блестели на глазах слезы. Платки и пояса вовсю трепал ветер, гнулся лес, обнажая макушку Окаянной церкви, а воздух гудел от многоголосого хора:
– Пастырь и учитель всех верою притекающих к твоему заступлению. Избавь свое стадо от волков, губящих его, от гнева Божьего и вечной казни. Повели именем Своим, батюшка! Открой наши невидящие очи, уничтожь нашу глухоту, исцели хромоту, возврати речь немоте, возврати нам здоровье, воскреси из мертвых…
– Кирилла, раба Божьего! – громче всех выстонала Рудакова, покачиваясь из стороны в сторону.
– Смилуйся, батюшка! – подхватила паства. – Возврати снова жизнь! Оборони нас со всех сторон от внутреннего и внешнего зла! Хвалу, честь и славу да воздадут Тебе всегда из века в век! Да будет так!
– Да будет так! – шептала Рудаков.
– Так! – гудели мужики.
Лица у всех потные и серые, глаза блестят, а внутри – пустота.
«Да они же мертвые все! – червем зашевелилась в мозгу неприятная мысль. – И Маврей, и Аверьян, и сестра Олимпия, и брат Арефий… умерли в тот момент, когда услышали Слово».
Сырой холодок прокрался по спине, Степан глянул на дочь. И, не сводя глаз с нее, заговорил:
– Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его! Коли праведник ты, коли следовал заповедям Моим, коли не дрогнула в сердце вера – заслужишь воскресения и жизни вечной!
Помедлил, переводя дух. Люди внимали, впитывали слова, как губка. У мужиков пролившаяся из носа кровь засохла на усах, женщины стояли простоволосые. И все неподвижны, и все бездумны. Кого оживить-то хотят? Точно ли Кируху Рудакова? Или, может, себя?
Степана обуяла тоска. Такая в последний раз накатила много лет назад, в операционной, когда он понял, что проиграл очередную схватку со смертью, и спасти пациента уже нельзя. Так и в деревне, сотрясаемой грозами, как предсмертными конвульсиями, спасать некого. Вот только ведьма – единственная живая среди толпы обреченных, – алчно посверкивала глазами, и, как Степан, ждала.
Он поманил ее взглядом. Ведьма поняла, раздула ноздри, принюхиваясь, будто дикий зверь. И бочком, бочком, бесшумно, как на кошачьих лапках, приблизилась и встала чуть в стороне.
– Что говорил Сын Божий ученикам Своим, то говорю и Я! – продолжил Степан, роняя слова, как стеклянные бусины. Они падали в землю, блестящие, но пустые. – Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой! Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее!
– Истинно так, батюшка! – закричал Гурьян, предавший свою жену и обрекший ее на безмолвие.
– Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? – поддакнула сестра Олимпия, еще несколько минут назад своими руками затягивающая узлы на запястьях священника. Будет ли ее потом глодать совесть? Будет ли казаться, что ладони вымараны в крови? Или, может, проснется однажды ночью, чувствуя, как вода заливает ноздри, как разбухают легкие, каким жгучим становится каждый вдох, и нет возможности ни освободиться, ни спастись? Нет, ее глаза чисты, как стекляшки, нет в них ни сомнений, ни сострадания, одна фанатичная вера.
– По вере и воздастся вам, – просипел Степан.
– А разве не говорится… что попросите в молитве с верою… то получите? – донесся из толпы надтреснутый голос.
Степан вздрогнул, зашарил тяжелым взглядом по белым лицам, нашел говорящего: чужак! Стоял, пригнувшись, как битая собака, один глаз по-прежнему полуприкрыт, второй опутан красной сетью капилляров. Задумал что-то и тоже выжидает. Только дашь слабину – бросится.
– Так, – хмуро согласился Степан и оглянулся на Акулину. Девчонка дрожала, обхватив себя за плечи, горло – как натянутая струна. Слово жгло ее изнутри, не давало покоя, вот только без умения скорее навредит, чем спасет. Увезти бы Акулину, спрятать от мира, пока не научится владеть силой.
– Как тело без духа мертво, – продолжил тем временем чужак, – так и вера без дел мертва. Мы сделали, как велел, теперь и ты яви нам чудо воскрешения.
– Не ради себя просим! – подала голос Маланья. – Ради матери!
– Ради матери! – эхом повторил Маврей.
– Ради-и ма-атери-и!..
Акулина заскулила в ответ, прижала ладони к ушам. Взгляд ее затравленно заметался, перескакивал с отца на Маврея, с Маврея на Рудакову, с нее на чужака и обратно. А те поднимались с колен, тянулись к Степану, словно ими водил невидимый магнит, льнули друг к другу. И вот уже встали полукругом, готовые услышать.
– Иди, – тихо сказал Степан дочери и легонько подпихнул в спину. – К Аленке иди!
Пусть ведьма, а дочери с ней спокойно. Успеть бы увести, пока никто не знает, в ком на самом деле скрывается Слово. Вот только чужак странно наклонил голову и тоже шевельнул губами, словно услышал все сокровенные мысли Степана.
– Что обещал – исполню, – сказал Черный Игумен и, подняв ладони, хлопнул над головой.
То был знак.
Люди сомкнули руки.
Притопнули, впечатав подошвы в землю, и двинулись посолонь, приговаривая на выдохе:
– Ох, дух! Дай слух! Изреки слог! Спаси, Бог!
– Спаси, Бог! – повторяла Рудакова, увлекаемая хороводом.
Текли по ветру красные пояса, мелькали белые рубахи. Изредка размыкались руки и люди расходились ручейками, чтобы сомкнуться снова чуть в стороне, притопнуть, выговорить:
– Ух, ух!
И закружиться быстрее.
– Иди же! – прикрикнул снова Степан.
Его голос потонул в далеком громовом раскате. Акулина всхлипнула и, подпрыгнув на месте, как перепуганная птичка, бросилась к ведьме. Та подхватила ее на лету и повлекла вниз по склону.
– Блаженны слышащие Слово и соблюдающие его! – закричал Степан, подняв лицо к быстро темнеющему небу. – А кто соблюдает Слово, в том истинная любовь Божия свершилась! Се, услышьте! – он поднял к небу разведенные ладони, и показалось, потекла по ним смолистая темень, а может, кровь. – То эхо гласа Его и отблеск очей Его! Грядет Господь на огненной колеснице, в левой руке его мера, в правой – меч. Так, измерит дела ваши и воздаст по вере…
– Вижу, вижу! – заголосил кто-то, и люди застонали, как один человек.
Степан тоже глянул и похолодел.
Туча накатывала на деревню, подрагивая, как студень. В ней что-то беспрестанно искрило и шевелилось, и прямо над головой Степана бессмысленно ворочался круглый и лунно-белый, затянутый пленкой глаз.
В страхе вскрикнул женский голос. Круг распался, и с десяток людей повалилось на траву.
– Ооо! – выл кто-то на одной тоскливой ноте. – Ооо…
– Ах, Боже! Благодать! – истерично смеялась Маланья, извиваясь всем телом.
Неслись молитвы и всхлипы.
Только чужак стоял неподвижно, на его скулах вспухали желваки, и даже сквозь рев непогоды и визгливые возгласы Степан слышал, как скрипят его зубы.
Черных бросился прочь.
Под сапогами скользила мокрая после ливней трава, а спину буравил взгляд… кого? Господа? Дьявола? Невиданного чудовища? Или, может, это было галлюцинацией, какие порой мучили Степана вместе с эпилептическими припадками? Он не был эпилептиком с рождения, а первый приступ случился после возвращения в Доброгостово и ссоры с дедом Демьяном. Вредный был старик, не мог простить, что внук в город подался, поэтому передал Слово первому встречному – ссыльнопоселенцу Захару, а сам Степан, не ведая того, попался на крючок нереализованной родовой силы. И это мучило его, навсегда привязав к деревне и больной дочери. Но скоро Акулина излечится сама, и излечит Степана, а он будет нести волю если не через собственные уста, то через дочь. И, как почитали Богородицу, так будут почитать его, отца новоявленного пророка.
– Акулина!
В избе тихо и сумрачно, по комнатам бродили сквозняки и шорохи.
– Акулька! Выходи, не бойся!
Из кухни серой мышью высунулась жена, голова непокрыта, волосы стянуты на затылке в пучок, а вместо белого сарафана – вязаная юбка и кофта на пуговицах. Степан мазнул по ней раздраженным взглядом и сухо спросил:
– Собираешься?
– Собираюсь, – ответила Ульяна.
– А мне не сказала.
Она сжалась, затеребила нижнюю пуговицу, того и гляди оторвет.
– Молчишь чего? – буркнул Черных.
– А что сказать? – Ульяна подняла глаза, и впервые за многие годы во взгляде жены блеснуло что-то прежнее, ведьмовское, лихое. – Ты сам уезжать не хотел.
– Тогда не хотел, а теперь надо. Дочь где?
Ульяна приподняла брови:
– С тобой…
Под ребрами завязался ледяной сгусток.
– Ты не шути так! – прикрикнул Степан, надвигаясь на жену и стискивая кулаки.
– Я не шучу, Степушка, – залепетала Ульяна, принимаясь отступать к кухне. Кожаные туфли на каблучке, долгое время пролежавшие в коробке под кроватью, гулко постукивали в доски. – Видела, с тобой она. Ждала, когда придете, а пока вещи собирала. Тебе теплый свитер, Акуленьке платьице… С кем оставил ее?
Степан вытер сухой рот и ответил:
– С Аленой, цыганкой.
– Ах, с Аленой, значит, – недобро усмехнулась Ульяна и распрямила плечи, в глазах заполыхали бесовские огоньки.
– Так не приходила она?
– Нет.
Ульяна замерла, опершись спиною о кухонный стол. Степан остановился на пороге, обливаясь холодным потом. Если Акулина так и не вернулась домой, то где она теперь? Куда потащила ее ведьма? А, главное, зачем?
«Она поняла!» – молнией сверкнула догадка.
В глазах потемнело, словно и сюда, в прикрытое ставнями окно, заглянула туча-рыбина. И на кого она глянет – то будет обречен на скорую смерть.
Степан сжал кулаками виски. И сквозь бешеное биение пульса услышал вкрадчивый голос жены:
– Тщательнее любовниц выбирай, Степушка. Поверил шалаве, а дочь потерял.
Черных ударил не глядя.
Не пощечина – звон разбитой тарелки. Удар гонга. Громовой раскат.
Из вязкой тьмы проступило перекошенное лицо Ульяны. В ее прозрачных глазах сначала отразился страх, потом недоумение, потом – злоба.
Она резко вздохнула и приоткрыла губы – из прокушенного края сочилась сукровица.
– Молодец какой, – медленно проговорила она. – Геро-ой… Горазд только бабам указывать. А собственного ребенка упустил.
– Умолкни! – зашипел Степан. Его трясло, онемевшие пальцы прокалывало иголочками. – Забыла заповеди? Да убоится жена мужа своего.
Не убоялась, не стала прежней Ульяной. Было в ней теперь что-то первобытное, дикое, что отчасти злило Степана, отчасти пугало.
– Что мне твои заповеди, – в нос засмеялась жена. – Эти сказки своим овцам рассказывай, а мне надоело. Пусти!
Она толкнула его в грудь. Степан перехватил руку, сжал, отчего Ульяна вскрикнула и заскрежетала зубами, как бешеная лиса.
– Куда, дура?
– Пусти, говорю! За дочерью пойду! Найду эту тварь, все кудри выдергаю, в глаза ногтями вопьюсь, лицо расцарапаю, чтобы ни один кобель больше не скинулся!
– Остынь! – встряхнул ее Степан, прижимая к столу. Ульяна выворачивалась под ним, упиралась грудью в живот – упругая, гибкая, непокорная. Не такую ли полюбил Степан? Не от этой ли дьявольской и грешной связи родилась и Акулина?
– Уйди! – вскрикнула Ульяна. – Не смог удержать, так и не мешайся! Всю жизнь ты мне перековеркал! Всю кровь попил! Уедем с Акулькой в город, на развод подам!
– Попробуй только!
Следом за возбуждением пришла ненависть – черная, ненасытная. Вцепилась клыками в сердце – не выдернуть
– Попробую, – сказала Ульяна. – С Захаркой справилась, справлюсь и с тобой.
Степан застыл.
– С Захаром? – эхом повторил он.
Взгляд Ульяны полоснул по лицу, будто скальпель.
– Просила тебя по-хорошему уехать. Эх, ты! Черный Игумен! Червяк ты, гнилая душонка! Перед стариком извивался, а не видел, что он к твоему ребенку льнул.
– Любил он ее, – едва ворочая языком, произнес Степан. – Как внучку свою.
– Как бабу он ее любил, – выплюнула Ульяна. С губ сорвалась нить слюны и повисла на подбородке, она не обтерлась.
– Врешь!
Степан выкрикнул это в лицо. Приглаженные волосы женщины взметнулись, выбились из прически, налипли на мокрый лоб.
– Старика прибить, что цыпленка, – спокойно сказала Ульяна, дрожа от ненависти и злобы. – Хоть топором, хоть поленом. Только тронула – и душа вон, даже руки не замарала. А тебя, сволочь, я родительских прав лишу. Знаю, где документы спрятаны, копия обвинительного заключения, выписка из анамнеза, запрет на лицензию… Все к заявлению приложу, расскажу, как людей в секту заманиваешь, как деньги отбираешь, как жизни другим отравляешь! Не получишь Акульку, понял? А я уж постараюсь, чтобы тебя и на шаг к ней не подпустили!
– С-сука-а!
Сами собою руки взметнулись к горлу Ульяны, сжали, ощущая под пальцами мышцы и позвонки. Женщина захрипела и повалилась спиной на стол, локтем сбила графин – он покатился, расплескивая воду. Съехала и повисла лоскутом расшитая скатерть.
– Убь…ю! – хрипела Ульяна. – Как… За… ха-а…
Нашарила что-то, потянула. В прыгающем свете блеснуло лезвие. Степан зарычал, одной рукой вжимая Ульяну в стол, другой выхватил из-под ее руки хирургический скальпель.
– Степ-па-а… – просипела Ульяна.
Лезвие вошло в ее горло мягко, как в перьевую подушку. Брызнуло горячим и красным, опалило Степану глаза, потекло по рукам, замарало рубаху.
– С-с…
Она засипела, как сдувшаяся шина, и грузно осела в его руках, увлекая за собой, в алую глубь. Алой волной захлестнуло окно, в алый окрасились стены. Мышцы свело судорогой, а после упали оба: Степан – в жар припадка, Ульяна – в смерть.
Когда очнулся, на лицо капало что-то теплое. Наверное, жена брызгала водой из чайника. Сейчас, Ульяна. Сейчас поднимусь, не впервой…
Она лежала неподвижно. Лицо запрокинуто, глаза распахнуты и мертвы – две стеклянные пуговицы.
Степан дотронулся до ее щеки, погладил, оставляя темные разводы. Так странно. Так трудно сохранить жизнь, и так легко оборвать.
Тоска навалилась – не вздохнуть. Степан затрясся не то в плаче, не то в преддверии нового приступа, прижался лбом к заскорузлой от крови Ульяниной груди.
Прощай. Не успела уехать, воздалось тебе по делам твоим.
«И мне воздастся», – подумал Степан и закрыл мертвые глаза жены.
Тьма погрузила Доброгостово в траур, по склону бежали белые фигурки, земля дрожала, дрожали воздух и небо.
Очнулись, гады, всполошились. Теперь будут искать его по всей деревне. А если найдут?
Степан крепче стиснул в кулаке скальпель. Нюх потомственного колдуна вел его к Окаянной церкви. Там, в осевшей могиле, под рассохшимся крестом покоился Демьян Черных, оттуда пришло Слово, и туда, должно быть, повела Акулину ведьма.
Можжевельник цеплялся за рубаху, подошвы скользили по влажной глине – здесь всегда было сыро и сумрачно. Из зарослей папоротника гнилыми клыками торчали кресты-голбцы.
– Помоги, дед! – выдохнул Степан. – Не ради меня, грешного! Ради правнучки!
Что сделает с ней ведьма? Может, вскроет, как Степан вскрыл пустое брюхо Захария? Будет сосать Слово по капле, вместе с кровью и жизнью?
Мысли кружились темные, жуткие, в груди клокотало.
Вон мелькнуло что-то меж осинами. Не белый ли сарафан?
– Акулина-а! – раскатисто прокричал Степан.
Белое пугливо метнулось в сторону. Раздвинулись и снова сомкнулись ветки осин, за ними начинался ельник, нырнут в чащу – не найдешь.
– Вон он! Держи! – ответно послышалось за спиной.
– Уйдет, паскуда!
Что-то тяжелое пронеслось мимо него со свистом, упало в подлесок, стряхнув с ветвей сухую листву. Степан не обернулся, только ускорил бег, и несся теперь широкими скачками, разом перемахивая поваленные деревья и разбитые надгробия.
За спиной хрустели и ломались ветки, слышались голоса:
– Обманщик!
– Убийца!
– Окружай! Окружай!
– К церкви идет!
Сердце прыгнуло к горлу. Степан пригнул голову и заметался между двумя крестами, зацепился рукавом за поваленную сосну. Рубаха треснула, и на сучке остался трепыхаться белый лоскут. Черных сцепил зубы: куда бежать?
Просвистело снова, больно толкнулось в плечо. Степан пошатнулся и зашипел. Еще один камень едва не задел голову, поднял волоски на макушке и тяжело плюхнулся в траву.
Кто без греха? Пусть первым бросит…
Степан ухмыльнулся болезненно и криво, повел по сторонам гудящей головой. Вот снова мелькнуло белое пятно, как заячий хвостик. В прореху между качающихся веток проглянул смоляной бок Окаянной церкви.
– Акули-на-а! – закричал Степан, уже не таясь. Переложил скальпель в другую руку, скривился от прострелившей плечо боли, потом обтер окровавленную ладонь о штаны и побрел вперед, медленно раздвигая грудью ветки кустарника. Ноги то и дело спотыкались о просевшие холмики, кресты выступали частоколом. Вон и знакомая могила – в полумраке Степан не видел, что написано на дощечках, но прочитал по памяти: «Черных Демьян Афанасьевич».
Степан заскрипел зубами от бессильной злобы. Смотри, старый колдун, к чему твое самодурство привело! Как все друг другу за Слово глотки грызут! Доволен теперь?
– А ну, стоять!
Из зарослей вышагнул Михаил Иванович. Дуло охотничьего ружья уставило на Степана пустые глаза – черные, какие бывают у акул. И сам участковый, заросший и черный, с разбитым в драке лицом, стоял, подрагивая, не то от ветра, не то от волнения.
– Скальпель брось!
– А ты ружье, – глухо ответил Степан, тяжело дыша после быстрого бега. Краем глаза заметил, как через кустарники продираются люди: рубахи темнеют грязью и прорехами, пояса кто потерял, кто дважды обмотал вокруг себя, чтобы не цепляться за ветки. В руках у многих – камни. Волки сбросили овечьи шкуры и теперь требовали свое.
– Самосуд хотите устроить? – усмехнулся Степан. – Забыли, на кого руку поднимаете?
– На лжеца, – раздался со стороны голос.
Треснула над лесом молния, осветила поваленный крест. Из-за него шагнул мертвец: голова трясется, как в припадке, зубы оскалены, глаза вытаращены и красны. Как звали его в миру? Раб Божий Павел, в посмертии назвавшийся Андреем.
– Обещал воскресить, а не выполнил, – проскрежетал мертвец. – Требовал веру, а вера без дел мертва.
– Солгал! – выкрикнул брат Маврей, выступая из тьмы, качая в ладони увесистый камень.
– Предал! – поддакнула сестра Маланья.
– Отступник! – взвизгнул брат Листар.
– Я пастырь ваш! – заревел Степан, и плывущие тучи напоролись на церковный крест, небо затрещало, ответило раскатистым эхом.
– Горе пастырю, предавшему свой народ, – сказал мертвец, – да будет он проклят во веки веков! И наказание ему…
– Смерть! – выкрикнул кто-то.
– Смерть! – понеслось над кладбищем. – Смерть, смерть!
Страхом обнесло голову. Степан зарычал и развернулся, выставив скальпель.
– Убью! – захрипел он. – Только попро…
Камень угодил между лопаток. Внутри что-то хрустнуло, отозвалось острой болью.
– Взявший меч, мечом погибнет! – прокричал мертвец и, заложив камень в пояс, раскрутил и бросил. Степан уклонился, и удар пришелся вскользь, по уху. Звоном обдало полголовы, по щеке тотчас заструилась кровь.
– Воскрес, значит? – прошипел Черный Игумен, выставляя скальпель. – Так сдохни снова!
– Степан! – запоздало крикнул участковый.
Но того уже не остановить, как не остановить летящие камни. И что терять? Почти не чувствуя осыпающих его ударов, Степан кинулся на чужака, а ветер подстегивал в спину, рвал волосы, шептал в уши голосом деда Демьяна:
– Воздай по делам! Наказание нечестивому – огонь и червь!
Лезвие вспороло воздух и, не встречая сопротивления, вонзилось в крест. Но еще раньше грянул выстрел.
Степан покачнулся.
Показалось, очередной камень ударил его в поясницу. Боль ослепила молнией. Степан повалился грудью на крест и тяжело задышал, отхаркивая густую и почему-то соленую слюну. В ушах стоял грохот и звон, в глазах расходились круги, как от брошенного в озеро камня…
…того, что пробил голову Кирюхи Рудакова…
И потащило на дно, во тьму и ил. Там, слепленная из грязи и просмоленных досок, стояла Окаянная церковь, в ее окнах тускло помаргивал свет. Там ждала его Акулина, опершись о подоконник и погрузившись в сладостную дремоту. Ждала и улыбалась во сне улыбкой погибшей матери.
– Доч…ка…
Степан оттолкнулся от креста и сделал шаг. Еще один. И еще…
Как трудно преодолевать толщу воды, как трудно дышать – в легкие словно воткнули тысячи крохотных иголок, ноги увязали в чавкающей грязи.
Он упал плашмя и не почувствовал боли. Всхлипнув, подтянулся на локтях.
Внутри владычествовала тишина. Паутины теней развешены по стенам, и запах, как в операционной – медикаментами пахнет, страданием, смертью. Ассистентка, одетая в белое, выступила в узкую полоску света. Неубранные под шапочку волосы взметнулись черным облаком, одна рука прячется за спиной, другой крепко держит ладошку девочки.
– А… кулька, – позвал Степан.
Девочка зажмурилась и будто затаила дыхание. Подняв глаза, Черных увидел деда Демьяна. Врастая косматой головой в потолок, мертвый колдун перебирал пушистые волосы правнучки и улыбался безгубым ртом.
– Дочь мою… спаси, – прохрипел Степан. Легкие горели, ног он уже давно не чувствовал.
– Спасу, – ответила ведьма и наклонила над ним лунное лицо. – Я заберу ее и увезу далеко-далеко, спрячу от всего мира, никто не найдет до времени. Обещаю.
– Научишь?
– Всему научу, – пообещала ведьма, улыбаясь во мраке. В глазах ее горели мертвые огни. – Буду поить свежим молоком и рассказывать сказки. О коте-баюне, о водяницах, что спят в глубоких топях. О черной рыбе, плывущей на запад и пожирающей мертвецов. О колдунах, встающих ночами из гроба.
– Не… хочу вста… вать, – вместе с кровью выплюнул Степан. Тьма густела, давила на грудь. – Ус… тал.
– Знаю, – улыбнулась ведьма и показала то, что прятала за спиной. Заостренное дерево кольнуло под ребро, Степан вздохнул и прикрыл веки.
– Больно… будет?
– Немного. Но потом ты заснешь и станешь прахом, а прах смешается с землей. Сквозь тебя прорастут молоденькие осинки, а весной вороны совьют в твоих ветвях гнезда.
Миг – и грудь пронзила острая боль. Степан выгнулся, ловя раскрытым ртом прелый воздух, жидкий огонь накатил волною и схлынул, очистив от страха и горя, от тоски и ненависти, от тяжести жизни. Степан обмяк и стукнулся затылком о доски.
Смерть наклонилась, поцеловала в лоб.
– Сладко ли засыпать тебе, Степушка?
– Сладко-о… – в последнем выдохе ответил он.
34. Третье доказательство
Нет страшнее и жальче людей, понявших, что их одурачили.
Они еще выкрикивали молитвы, еще катались по траве, запрокидывая к небу лица и призывая Слово, но оно не звучало, и спасение не шло.
Первым очнулся брат Маврей. Покачивая головой слева направо, как глиняный божок, он поднял на Андрея мутный взгляд и, глотая слова, выговорил:
– Кирюх… проснулсь?
– Никто не проснулся, – с затаенным злорадством ответил Андрей. – А тебе бы следовало.
– А батюшка где?
Мужик огляделся вокруг себя, его брови то приподнимались на лоб, то сходились у переносицы, и все лицо подергивалось и кривилось.
– Сбежал батюшка, – безжалостно сказал Андрей. – Бросил своих овец и смылся.
– Думай, что говоришь! Отступник!
Вслед за Мавреем принялись поднимать головы другие люди. Ползли на четвереньках, марая в грязи колени и локти. Не люди – скот. Что вложишь в их пустые головы – то и понесут в себе. Так кувшин несет воду, которая без долгого обновления тухнет, поэтому и разбить этот кувшин не жалко.
– Я-то отступник, – четко ответил Андрей. – А вы все дураки. Оглянитесь! – он широко обвел рукой вокруг себя, слова всплывали в нем, как рыбы со дна, и звучали уверенно и четко. – Где всходы, обещанные взойти за вашу веру? Где воскресший мальчик? А ваш мессия? – он пожал плечами и усмехнулся, сверху вниз глядя на растерянных людей. – Сбежал. Но разве хорош тот пастырь, который бросает своих овец? И тот пророк, который обещал, но не исполнил?
– Ушел, – всхлипнула женщина, утирая потное лицо подолом. – Батюшка броси-ил…
– Испугался наказания! – выкрикнул Андрей и ударил кулаком в ладонь. – Но тот, кто говорит ложь, не спасется и погибнет!
– А ты сам кто такой будешь? – прохрипел Маврей, наконец, поднимаясь на ноги.
Андрей вздохнул, поднял здоровый глаз к небу, второй, прикрытый, так и остался смотреть в пустоту, но полностью ослепшим не был: время от времени Андрей видел туманные образы, похожие то на телефонный номер с подписью «Емцев», то на карманный блокнот в кожаном переплете, разрисованный карандашом. Казалось, что Андрей смотрит кино с функцией «картинка в картинке».
– Может, я новый пророк? – задумчиво ответил он. – Или новый мессия.
В толпе послышался смешок. Андрей моргнул, закрыв пустой глаз, усмехнулся тоже и рывком распахнул рубашку.
– Вот печать, оставленная на мне Словом! – он дотронулся пальцами до красноватых шрамов, похожих на извилистую корневую систему, сбегающую от шеи к животу. Малую его часть убрала Акулина, остальная скрывалась под рубашкой, поэтому осталась.
– Сегодня ночью я умер и воскрес! – продолжил Андрей, пытаясь перекричать ветер. А тот взбеленился, вовсю ломал верхушки осин и лиственниц, сгонял над деревней грозовые тучи. – Помните меня? Я приехал из города и видел, как старец Захарий воскресил утонувшего мальчика! И сам тоже просил исцеления, потому что не слышал, – Андрей постучал пальцем по уху, и худощавая женщина закивала головой, бубня под нос: «Так, так! Был просящий!». Люди оживились и превратились в слух. – Но говорю с вами теперь и понимаю каждого! А все потому, что Слово, – он произнес это с придыханием, – излечило меня! Услышал Бога, который сказал мне: Иди и открой глаза заблудшим душам! Ибо сбил их с пути истинного лжепророк, чье имя Сатана, а прозвище в миру – Степан Черных.
– Ах, Господи! – пискляво выдохнула бледная тетка и поцеловала подвеску. – А ведь я говорила!
– Что ты говорила! – прикрикнул на нее рябой мужик, поднимаясь на ноги и отряхивая колени. – Черных – правая рука Захария! У кого Слово, как не у него?
– И чем он доказал? – пролаял другой, с серым и невыразительным лицом. – Угрозами? Или, может, фокусами своими?
– А этот чем докажет? – огрызнулся рябой, указывая на Андрея.
Над лесом протянулась тонкая нить молнии, ветер рванул полы рубахи, сильнее обнажая ожоги.
– В меня попала молния! – прокричал Андрей. – Я умер, но Слово оживило меня!
Он развел руки и впился ногтями в ладони. Из раны снова потекла кровь, и кто-то из женщин ахнул:
– Господи, у него стигматы!
Люди заволновались, лихорадочно заблестели глаза. В едином порыве распрямились опущенные плечи, развернулись легкие, с губ покатились вздохи и возгласы:
– Боже!
– Правда…
– Ах!
– Слышал?
Волна катилась над землей, дрожал и ежился предгрозовой воздух, и это нравилось Андрею. В его руках сейчас были нити, а люди стали куклами, послушными его воле. Пока без Слова… но лучше бы отыскать его. И как можно скорее.
– Вот причина моего пробуждения и моего прихода к вам! – возвысил голос Андрей, обводя собравшихся покрасневшим глазом. – Господь сказал: иди, Андрей, и стань для заблудших новым пастырем! Но прежде направь Мой гнев на лжепророка, чтобы очистить души грешников и вернуть Слово!
– Какое наказание будет за ложь?! – вскричал брат Маврей и потряс кулаками.
– Огонь и червь! – отозвалась толпа. – Огонь и червь…
Люди сплотились, поднялись, потекли с холма. Андрей с мальчишеским восторгом глядел на свою новую паству, и это не шло ни в какое сравнение со школьными компаниями, в которых Андрей ходил лидером. Та жизнь закончилась вместе с детскими шалостями, самым страшным из которых был побег из дома или угнанный велосипед. Здесь ждала его настоящая власть и настоящие дела, увидев которые, содрогнулся бы и сам Степан Черных.
«Убивший дракона сам становится им», – дразнящий шепоток Павла на миг омрачил его торжество, но Андрей лишь сильнее вонзил ногти в рану и сильно-сильно зажмурил полуослепший глаз.
– Ты проиграл, слабак! – прошипел он. – Сгинь!
И следом за Краснопоясниками поспешил в Червонный кут.
Правая половина тела – та, которую задела молния, – слушалась с трудом. Поэтому доковылял до избы Степана Черных последним, и на подходе услышал окрики:
– Вон он! Держи! Убег, сука!
И засвистели по воздуху камни.
Нет никого страшнее фанатиков, разочаровавшихся в своем пастыре.
«Зачем тебе это?» – спросил Павел.
Правый глаз пульсировал, словно кто-то внутри головы методично и медленно поворачивал его крючками. Андрей приложил ладонь к лицу, нажал пальцами веко. Боль утихла и стала тянущей и едва различимой, но по-прежнему неприятной.
«Ты умер, – продолжил гнуть свою линию Павел, и шепот его окреп. – Тебя больше нет. Я едва не спятил, когда ударила молния, и придумал тебя…»
– Я есть! – сквозь зубы процедил Андрей, хромая к лесу, где скрылись преследователи. – И всегда был. Вспомни, как ты пытался пригласить Юльку на свиданку? Ты хотел ее, придурок, потел и мямлил, и внутренне так завидовал мне, который мог бы подойти, схватить ее за задницу и оттащить в ближайший подъезд! Признайся, завидовал?
Павел промолчал. Молния вспорола небо, и упругая ветка едва не хлестнула по щеке, Андрей поймал ее в воздухе и в раздражении переломил. Вдалеке кричали и бесновались люди, когда-то послушные овцы, а теперь волки с одним только желанием – растерзать бывшего вожака.
– Когда бабка таскала тебя по шарлатанам, – продолжил Андрей, – жалел, что выжил ты, а не я. Совсем немного, подсознательно, но ведь жалел! Что сделал бы я тогда? Послал бы старую каргу на хрен с ее заговорами и ясновидящими! Тогда бы и слух сохранился… Правда, – Андрей сощурился и несколько раз тряхнул головой, избавляясь от проклятого звона в ухе, – ты и так иногда представлял себя мной. И когда бабка звала тебя «Паша, Паша!», притворялся оглохшим.
«Я и был таким!»
Звон в ухе стал настойчивее, злее. Гроза ворчала, сизым брюхом наползая на лес. Перед глазами замельтешили кресты.
– Вот именно: был! – процедил Андрей. – Да весь вышел.
Он с силой рубанул раненой ладонью ближайший крест. От пальцев до локтя протянулась огненная игла, Андрей взвыл и сунул ладонь подмышку. Пропал назойливый шепот, пропали чужие образы, и правым глазом он ослеп, а левым видел – Черных стоял возле могилы деда, в очередной раз пытался вывернуться, да только без толку. Удача покинула его, как раньше покинуло Слово.
Потом Андрей заговорил. И паства ему внимала…
Когда раздался выстрел, Андрей испугался. Но страх быстро прошел, а вместо него пришла уверенность: вот миг, ради которого он все и затевал! Черных упал и, оставляя влажный след, полз к Окаянной церкви. Никто не преследовал его, все замерли, выжидая. Над кладбищем витала смерть. Андрей, вернувшийся из мира мертвых, хорошо помнил ее запах: он чем-то напоминал запах операционной. Тогда не он – Павел, – очнулся под ярким светом ламп, и видел людей в медицинских масках, и чуял запахи крови и лекарств. Он надолго забыл о них, но вспомнил теперь снова. И, как собака, пошел по запаху, по кровавому следу, к разинутому зеву черной церкви.
Черных не успел уйти далеко, лежал у самого порога, запрокинув окровавленное лицо. Белая рубаха стала красной и быстро темнела. Андрей нагнулся и вздрогнул – из груди торчал деревянный, наспех обструганный кол. Он, было, отшатнулся, но заметил что-то еще, лежащее рядом.
Блокнот в кожаном переплете.
Андрей поднял его с пола. Некоторые страницы оказались спрессованы от крови, на других угадывался почерк Павла. В основном имена, кое-где рисованные наброски. Жирно зачеркнутое, но все же угадываемое имя: «Андрей Верниц…»
«Понятливый, Шерлок, – усмехнулся про себя Андрей. – Знал, что встретишь меня. И убийцу раскрыл, пусть в последний момент. Только кому это теперь нужно? Повесят все на Степана, а его Слово ко мне перейдет…»
Сложив блокнот, засунул в карман. Пригодится.
В углу шевельнулось что-то белое.
Андрей распрямился, напряженно вглядываясь во тьму. Сердце взволнованно стукнуло, но сразу же успокоилось: ему ли, мертвецу, бояться привидений? Да и не призраки это, всего лишь две напуганные девчонки.
– Кис-кис, – позвал Андрей, перешагивая через труп Степана. – Это кто у нас прячется, а?
Молчали, забились в угол. Воздух колебался от сбивчивого дыхания, в прорехи заколоченных окон тянулись серые нити. Их было три, по одной на каждого. Андрей широко улыбнулся и сжал кулак, пытаясь поймать ближайшую. Свет скользнул по ладони и нырнул под ноги. Андрей тут же наступил на него ботинком.
– Кис-кис-кис! Выходите, котятки! Я вам кое-что покажу…
Девчонка захныкала. Ведьма прижала ее к себе, кольнула яростным взглядом.
– Уходи, – сказала она. – Пока по-хорошему прошу.
– Иначе что? – улыбнулся Андрей и остановился у следующей нити, наискосок перекрывающей проход.
– Пожалеешь, – угрожающе произнесла ведьма.
– Пожалею, если не заберу Слово! – ответил Андрей и махнул ребром ладони, рассекая световую нить. Осталась последняя, третья.
Девчонка уже не хныкала. Насупившись, смотрела на него из-под белесых бровей. Нос красный, опухший, рубаха сползла с одного плеча.
– Ты больше на поросенка похожа, – улыбаясь, сказал Андрей и прижал пальцем собственный нос. – Хрю-хрю! Подойдешь сама, или пустить тебя на сало?
– Давай, малышка, – шепнула вдруг ведьма и легонько толкнула девочку в спину.
Андрей сразу все понял.
– Не смей! – вскричал он и, прыгнув вперед, дернул девчонку за руку. Она взвизгнула, вцепилась короткими пальцами в ведьмино платье. Крик получился плаксивым, детским. Но страх уже зародился в животе, и Андрей потянулся скрюченными пальцами к горлу ведьмы.
– Заткни ей рот! Сейчас же!
Рука остановилась на полпути, мышцы напряглись, но не послушались, точно какая-то сила сдерживала их. Заминка была решающей.
Ведьма перехватила его за предплечье и жутко улыбнулась в лицо:
– Дурак ты, подселенец! Как же я запрещу ей сказать, когда Слово идет не от языка, а от сердца? – И, поведя ладонью по девчоночьей щеке, тихо добавила: – Теперь можно.
На этот раз звук пришел не с неба, а из-под земли. Глухой и резкий треск, с каким могла бы рваться плотная материя. Дощатый пол задрожал, вспучился, и Андрей повалился ничком. Падая, он увидел напряженное лицо Акулины, ее плотно сомкнутые губы, и подумал: «Откуда тогда звук?»
Но чтобы произнести Слово, не нужны язык и губы, как не нужны уши, чтобы его услышать.
Гром волною прокатился сквозь тело.
На миг Андрею – Павлу, – показалось, что плоть отслаивается от костей, точно вываренное мясо. Боли не было, только внутри зародилась щекочущая дрожь.
Он попытался подняться, но снова упал, прижался щекой к шершавым доскам и четко увидел, как из отверстий на стыках поднимаются ржавые шляпки гвоздей. И сразу понял: оттуда, из темных земных хлябей пробивается наружу что-то огромное, живое, хищное.
Он приподнялся на локтях. От слабости шатало, по верхней губе сочилась кровь.
В щелях заколоченных окон сверкнула ослепительная вспышка и выбелила фигуры, застывшие в углу. Андрей задохнулся: у фигур не было лиц, а только огромные рты, растянутые в безмолвном крике.
…Пришел час гнева Моего, и кто может устоять?..
Миг – и церковь снова погрузилась в темноту. Потом гулко раскатился гром.
Стены задрожали, с ближайшего окна сорвались доски и грянули о пол. Андрей закрылся рукавом и, сдавив зубы, пополз к порогу.
Дверной проем казался светлым лоскутом на фоне выгоревших изнутри стен. Оттуда веяло предгрозовой свежестью, влажной землей, озоном.
«Сбегаешь? – засмеялся Павел. – И кто у нас трус?»
В рану на ладони вошла щепа. Андрей не вскрикнул, только втянул воздух сквозь сжатые зубы и распахнул оба глаза. И увидел: левым – огонь и пепел, изрезанное молниями небо и раскаленный добела столб на пустыре, а правым – широкую автостраду, дрожащий воздух над асфальтом, летящий с горы большегруз. Почему-то казалось очень важным успеть до того, как грохочущую фуру вынесет на разделительную полосу.
Очередной удар сотряс церковь, как спичечную коробку. Перекрытия хрустнули, надломились, и что-то рухнуло совсем рядом, обдав Андрея пылью и щепками.
Видение пропало, и вместо дороги и пустыря он увидел рядом с собой серое лицо Степана Черных. На приоткрытых губах коркой запеклась кровь, стеклянные глаза смотрели строго, будто спрашивали: «Ну что ж, Андрей, пробудившийся из мертвых. Стал ли ты мечом разящим или рука твоя ослабела? Повел ли за собой стада мои? Забрал ли Слово? Эх, ты! Не пророк, а червь жалкий! Судьба твоя стать не спасителем, но кормом…»
Дрожа от отвращения и злости, Андрей отпихнул от себя труп, и сам быстро-быстро, как ящерица, пополз к порогу. Еще немного. Вон виднеются вросшие в могилы голбцы, и белый кнут молнии пляшет над ними.
Новый толчок был такой силы, что стены церкви задрожали и хрупнули, как леденцы. Таким был удар, смявший бок отцовской легковушки…
«Пожалуйста! Только не снова!»
Зажмурившись, Андрей вывалился в прохладу и сырость. Но даже сквозь сомкнутые веки увидел, как небо раскололось надвое. И там, в прорехе, сверкнула огненная нить.
Она протянулась от самых туч до черного креста Окаянной церкви.
И крыша вспыхнула, как хворост.
– Вижу, вижу! – заверещала вдруг какая-то женщина. Поднявшись с земли, она смотрела в небо, изумленно разинув рот. – Грядет архангел Уриил с дланью пламенной! Несет нам, грешным, Божий свет! – она засмеялась, и вслед за ней двое мужчин вскинули обезумевшие лица. Отблеск огня вычерчивал на коже острые тени. – Ах, благодать! Сколь ярок свет и сколь сильна любовь Божья!
Прогоревшая крыша надломилась, и крест рухнул вниз, а лицо женщины перекосило.
– Жжется, жжется! – вдруг закричала она изменившимся голосом. – Ох, ослепла-а!
Вскинув руки, она вонзила пальцы в глаза.
Андрей отвернулся, только услышав, как воздух наполнил исполненный муки крик. Тяжело дыша, ухватился за ближайший крест. Сырое дерево крошилось под рукой, перед глазами выплясывали белые змейки.
– Ты слышал? – донесся со стороны простуженный мужской голос. – Слово-то на бабий крик похоже, когда ее того… на лавке…
– Дурак! – ответил ему другой. – То баба и орет. Вишь, спятила? Тебе бы только о шалавах думать. А Слово – что песня ангельская. Чистая и непорочная.
– Чья бы корова мычала! Ты сам ни одной юбки не пропускал! Откуда теперь праведность взялась?
– А тебе откуда про баб знать? Я слышал, ты по мужской части.
– Я? – окрысился простуженный и ударил второго в ухо. Тот зарычал, перехватил руку, вывернул. Захрустели кости, понеслись хрипы и мат.
Андрей отлепился от креста и побрел мимо могил. Ноги заплетались, цеплялись за корни и надгробия. По земле ползали растерянные люди. Смеялись, срывали с себя одежду, стонали, катаясь по мху.
– И я взглянул, – бормотал сидящий на могиле мужчина, в котором Андрей признал брата Маврея. Через порванную рубашку виднелись царапины, некоторые уже кровоточили, но Маврей продолжал скрести свою грудь и говорил, говорил: – и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «Смерть», и ад следовал за ним…
– Смерть, смерть, смерть… – бубнила молодая девушка, с каждым словом прикладываясь лбом к замшелому камню. Камень уже повлажнел от крови, и кровь текла из разбитого черепа…
…дыра в нем похожа на пробитый радиатор, с него капает и капает охлаждающая жидкость. Воет, надрываясь, сирена. Мерцает проблесковый маячок: красный – огонь, синий – молния…
– И я услышал одно из четырёх животных, – срываясь на хрип, продолжал Маврей, – говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. И я взглянул…
Он замер и уставился перед собой, широко раскрыв глаза. Андрей повернулся и похолодел: церковь теперь была вся объята пожаром, хрусткие стены ломались и падали, словно кто-то сминал их огромными пальцами. А на фоне огня стояла – вся в белом, – Акулина.
– Взглянул, – продолжал гнусавить Маврей, – и узрел архангела Рафаила, одного из семи архангелов Божиих. В одной руке у него сосуд со снадобьем, в другой – рыба.
Акулина подняла руку и ткнула указательным пальцем вверх.
И тотчас с неба, как из сита, хлынул ливень.
Земля под ногами вспучилась волдырями, вода забурлила, потекла меж могилами, таща за собой лесной сор. И чьи-то невидимые руки толкнули Андрея в спину, словно подтверждая слова обезумевшего:
– Иди и смотри!
– И я вижу целителя! – закричала женщина, поспешно поднимаясь на ноги. Ноги путались в мокром подоле, влажные волосы липли к щекам, по которым катилась не то вода, не то слезы. – Зовет, спаситель наш!
Она указала совсем не в ту сторону, где стояла Акулина, но Андрею и самому почудилось, что над верхушками осин и лиственниц, прячась в завесе туч, прошел кто-то темный и чужой, блеснул белыми глазами и скрылся. Тучи, ускорив бег, помчались за ним, и ручьи, сбиваясь в один поток, потекли следом. Так неявно потянуло и Андрея – обвило шею невидимым арканом и дернуло.
– Иду! – отозвался мужчина с рябым лицом.
– Иду-у! – эхом протянула женщина.
– Не оставляй, родненький!
– Веди на спасение!
– Веди-и!
Люди поднимались с колен, смеялись, оглаживали под дождем лица и перешагивали через тех, кто не мог подняться. Ливень стоял стеной. Лес шумел, трещал сзади непокоренный огонь, гром прокатывался над головами. Люди оглохли и ослепли. И, не разбирая дороги, шли.
Поскальзывались на глине, хватались за кресты, ветки, друг дружку. Кто-то, вскрикнув, падал в месиво, и его тут же оттирали ногами. Андрей брел вместе со всеми, почти не соображая, куда идет. Его волю отключили, как одним щелчком рубильника отключают в доме свет. Спины, обтянутые белой тканью, сливались в двойную сплошную, и он уже понял, что…
… аварии не избежать.
…она уже произошла, но Андрей все еще отказывался в это верить. Прижатый щекой к стеклу, он скреб дверную обшивку, пытаясь нащупать кнопку блокировки, но железная коробка поймала его в капкан. Быстро дышал брат и возился рядом, видимо, тоже пытаясь освободиться. Сирена выла, в ушах стоял грохот и звон…
– Вот оно, спасение наше! – ахнула молоденькая девица и сжала на груди кулаки.
Лес вывел к обрыву, внизу текла Полонь, рябая от дождя. Над рекою клубились тучи, то и дело озаряемые вспышками молний. Свет отражался в воде, волны блестели, как лезвия ножей. Аркан на шее сжался плотнее, Андрей захрипел и царапнул горло.
Воздуха бы!
Повеяло гарью…
…он не видел, где занялся огонь, но чуял удушливый дым, наполняющий изнутри кабину. Стекло не поддавалось – хоть бейся в него головой. Снаружи кричали люди, что-то методично колотилось в кузов – не то спасатели пытались пробиться к ним, не то сам Павел старался выбраться наружу. Андрей задыхался. Простреливало болью вывернутую руку. Перелом? Хрен с ним! Выбраться бы живым!
– Па… ша, – выдавил он, стекло сразу запотело от его дыхания. – Помо…
– Исцелитель привел нас к прозрению! – закричал рябой мужик, поворачиваясь к людям лицом. – Помните, как говорил старец? Чтобы познать силу Господа, надо познать и страдания Его! Нет смерти тем, кто познал Слово Божие! Мы не умрем, но изменимся!
– Господь воскресит нас силой Своею! – ответно прокричал брат Маврей. – Обетование, обещанное нам, есть жизнь вечная!
– Господь сказал: Я есмь воскресение и жизнь! – вторила, целуя подвеску, рано поседевшая женщина. – Верующий в Меня если и умрет – оживет!
– И мы изменимся! – радостно подхватила молоденькая девчонка.
– Изменимся! – эхом отозвался пожилой мужик.
– Изменимся и войдем в Жизнь Вечную!
– Слава Господу!
– Стойте! – истошно заорал Андрей, но толпа нахлынула, подхватила его, понесла.
Небо качнулось и ухнуло вниз…
…в тот же миг лопнуло стекло.
Вода хлынула в горло, залила ноздри и уши. Андрей забил руками и поплавком выскочил на поверхность. Рядом с ним, отплевываясь и хрипя, кружился в водовороте брат Маврей. Глаза безумно вытаращены, на лице – улыбка.
Люди прыгали с обрыва, бились о берега, и их уносило течением…
…духота становилась нетерпимой, легкие жгло, паника выворачивала нутро до тошноты. И брат сопел где-то наверху, елозил кроссовками по обшивке, проталкиваясь к спасительному выходу…
– Спа… сен! – прохрипел Маврей и ушел под воду.
Андрея закрутило, потащило вниз. Он все еще пытался выплыть, но течение уносило его дальше к стремнине. Вздохнув, он погрузился во тьму…
…собрав все силы, Андрей вцепился в толстовку брата.
Тот дернулся, глухо воскликнул:
– Чего?
– Не… уход…
Держался крепко, тащил и тащил вниз. Павел брыкнул ногой, пытаясь вывернуться из хватки.
– Пусти! Там люди! Нас спасут!
– Нет…
Цепляясь, как обезьяна, Андрей пополз по извивающемуся брату. Вверх! К окну! К спасению! К жизни!
– По очереди! – кричал кто-то снаружи. – Пусть первым вылезет! Потом!
– Не… – упрямо хрипел Андрей.
Страх крутился, толкал его вверх. Пальцы рвали толстовку, царапали Павловы руки, щеки, вцепились в волосы. Всхлипнув, тот пнул Андрея в грудь.
– Сдурел? Мы оба погибн…
– Нет, – прохрипел Андрей и с силой ударил брата в висок. – Только ты…
Левый глаз – видел тьму. Правый – огонь.
«Почему? – спросил Павел. – Мы могли бы оба спастись… Я любил тебя. И хотел быть как ты…»
«А я тебя ненавидел. И мечтал, чтобы ты сдох…»
Их снова выбросило на поверхность. Мокрая ладонь ливня хлестала по воде, в сплошной пелене пропал обрыв, лес и крыши Доброгостова. Все краски мира смешались до сплошной грязно-серой массы, и остались только вода и небо. Там, оголяя в прорехах туч круглые бока, медленно плыла чудо-рыба. Ее левый глаз, наполовину прикрытый бельмом, выискивал мертвецов. Когда в воде всплывала очередная белая рубаха, рыба ныряла вниз и раскрывала зубастую пасть.
«А теперь мы сдохнем оба!» – мысленно закричал Павел.
Сделав долгий вдох, он снова погрузился в воду.
«Только ты…» – отозвался Андрей…
…Павел очнулся от ощущения щекотки на лице. Что-то теплое струилось и струилось по щеке, он попробовал вытереться, но не смог. Руку зажало между сиденьем и дверью. В голове гремели барабаны, «The Bullet» исполняли любимую композицию Андрея. А сам Андрей еще карабкался по обмякшему телу брата, проталкивал тело в окно. Но ему почему-то никто не помогал.
На дороге никого не было: ни машин, ни людей. Только у обочины стояли двое – молодая девушка и девчонка лет десяти. У девочки были заплаканные глаза и платье старинного покроя. И хотя люди стояли достаточно далеко, Павел услышал.
– Кого из них? – спросила девушка.
Наверное, их услышал и Андрей. Закопошился, закричал срывающимся голосом:
– Меня! Спасите меня!
Девочка вынула изо рта палец и покачала головой.
– Нет, – сказала она сильным звенящим голосом. – Ты злой. Возьму другого.
И ткнула обслюнявленным пальцем в Павла…
Он вынырнул из воды, отплевываясь и хватая губами воздух.
Легкие горели, словно их наполнили огнем. Перед глазами тоже плавали огненные круги и поворачивались к Павлу оранжевым боком. На одном из них почему-то было написано «Плотв…»
Павел зажмурился и снова открыл глаза, но круг не пропал. Из ливневой завесы вынырнул катерок и закачался на волнах, боком наплывая на Павла.
– Спа… сен! – прохрипел он…
…Андрей упал, стукнувшись затылком о подголовник. Его глаза стали темными и непрозрачными, кожа на щеке обуглилась и пошла трещинами. Он был много лет как мертв. Мертв – и все равно пытался спастись.
– Ты не имеешь права меня оставлять! – прохрипел он. – Мы должны выбраться оба или оба сдохнуть! Кем бы будешь без меня? Как справишься с этим всем? Скажи!
– Как-нибудь справлюсь, – процедил Павел, и кто-то подхватил его под руки, вытаскивая из покореженной машины на дорогу…
– За круг хватайся! – кричала с катера одетая в дождевик женщина. Ветер все равно срывал с головы капюшон, и мокрые волосы свисали красными сосульками. – Хватайся, дурак глухой!
Павел вцепился в оранжевый бок. На том конце потянули за трос, незнакомые ребята в штормовках подхватили его подмышки, втащили на борт катера со смешным названием «Плотва».
Софья Керр что-то кричала, размахивая руками перед его лицом, потом расплакалась.
– Я боялась, что ты умер, – призналась она и принялась сбивчиво говорить. Павел кивал с дурацкой улыбкой, но смотрел сквозь нее и видел другое…
…автостраду, мокрую от дождя. По ней к горизонту уходили двое: кудрявая девушка и десятилетка в белом платье до пят. Они не оглядывались…
– Верницкий?
Павел вздрогнул и вернулся в реальность. Видение пропало, а вместо девчонки перед ним стояла Софья и, держа за пуговицу, с нескрываемым волнением вглядывалась в его лицо.
– Ты выглядишь просто жутко! – вздохнула она. – И где твой слуховой аппарат? Ты слышишь меня вообще?
Павел широко улыбнулся и потрепал Софью по руке.
– Конечно, – ответил он. – Теперь я слышу все.
Эпилог
– Страшная трагедия унесла жизни сотен обитателей деревни Доброгостово Новоплисского района, – старательно выговаривала Софья Керр. У нее новенький микрофон, вымокшие волосы аккуратно зачесаны назад, глаза сверкают от воодушевления. Действительно, не каждый день удается ведущей второсортной передачи поработать в прямом эфире государственного телеканала.
Как ей удалось? Павел уже знал ответ: «Рыбные места надо знать!»
А связям Софьи он уже давно не удивлялся.
– Среди них были женщины и дети, местный участковый и даже священнослужитель, – продолжала вещать Софья. За ее спиной работали спасатели, и оператор старательно отводил камеру всякий раз, когда вытаскивали из воды выловленные тела. – Большинство погибших были членами общины «Рыбари Господни», больше известные как Краснопоясники. Собравшись здесь, – она обвела рукой избы Червонного кута, – на окраине деревни, они принимали в свои ряды не только простых людей, но и крупных чиновников. Пытаясь познать законы мироздания, решить проблемы личного характера или исцелиться от недуга, люди оставались в секте, и это привело к массовому суициду. Но что послужило спусковым крючком? Следствие считает, что все началось с убийства лидера секты, называемого старцем Захарием…
Павел потянулся к портативному телевизору и сделал звук тише. Емцев, сидящий с кружкой чая у противоположной стены кухни в избе, любезно предоставленной Матреной Синицыной, приподнял бровь.
– Не хотите дослушать, Павел Николаевич?
– Дослушаю в записи, – ответил Павел, прихлебывая из своей кружки. Чай был горячий, травяной. Сто лет такого не пил. Он откинулся на спинку стула и смотрел, как Илья Петрович аккуратно, пинцетом, переворачивает вымокшие страницы блокнота. Можно ли хоть что-то разобрать? Павел надеялся, что его показания, задокументированные в протоколе, проливали достаточно света на происшедшие здесь события.
Конечно, следствие все перепроверит, но уже сейчас Емцев соглашался с Павлом: убийцей была Ульяна Черных. У нее достаточно мотивов: желание вопреки всему сбежать из деревни и увезти дочь, на которую старец Захарий обращал вовсе не отеческое внимание, и материнское сердце не выдержало.
Про смерть Кирилла Рудакова и священника Спиридона понятно, что это дело рук Степана Черных. Сам Павел комментировать это отказался и почти не помнил ничего за последний день, лишь краткие вспышки и образы: Акульку, дующую на его ладонь и обожженную щеку, круг сектантов, кричащих: «У него стигматы, Господи!»
– Вы вовремя приехали, Илья Петрович, – сказал Павел, отгоняя неприятные воспоминания.
– Выехал сразу после звонка вашей подруги, – ответил Емцев, протягивая пачку. – Угощайтесь.
– Бросил.
Илья Петрович понимающе кивнул и заметил:
– Убедительно говорила. Да и поведение Михаила Ивановича в последнее время было уж очень странное.
– Рука руку моет.
– Мы еще проверим его причастность к деятельности сектантов. Но вот что меня волнует во всей этой истории, – нахмурил лоб Илья Петрович и выразительно поглядел на Павла. – Ульяну Черных нашли. Степана тоже. А вот куда подевалась их дочь?
– Может, сектанты ее сбросили с обрыва? Как и других…
Голос Павла дрогнул, едва он подумал, что среди утопших были и дети.
Некоторое время они молчали, шумно прихлебывали чай. Со двора доносились голоса, бормотал телевизор, где уже кончился прямой эфир, и кадры с видами деревни сменила красочная реклама сока.
– Может, – наконец сказал Емцев и повторил задумчиво: – На свете многое быть может, друг Горацио, что и не снилось…
Вздохнул и, потрогав переносицу, спросил:
– А где же ваш слуховой аппарат, Павел Николаевич? Или мне в первую встречу показалось?
– Не показалось, – ответил тот. – Теперь я слышу и без него.
– Никак, чудом излечился? – криво усмехнулся Емцев.
Павел ответно улыбнулся и ответил:
– Чудом.
– И чем займетесь теперь? Вернетесь в журнал? Напишете обличительную статью? – Емцев сощурился. – Должен предупредить, что следствие не дает никаких официальных комментариев по случившемуся инциденту.
Павел пожал плечами.
– Мне и не надо, – ответил он. – Я другое писать буду.
Хлопнула входная дверь, зашуршал снимаемый плащ. Наверное, это вернулась Софья, успевшая не только провести репортаж, но выведать все самое интересное у местных жителей, познакомиться с половиной деревенских сплетниц, оставить свои координаты и еще прикупить билеты на обратную дорогу до Тарусы.
– Что же? – войдя на кухню, спросила она.
– Монографию, – серьезно ответил Павел. – О феномене деструктивных культов и контроле сознания.
– Сильно! – крякнул Емцев и поднял недопитую кружку. – Ну, за мечту!
– И пусть тайное всегда становится явным, – добавил Павел и выпил остывший чай.
За окном еще моросил дождь. Павел слышал, как вода разбивается о подоконник, как шелестит на ветру листва, как шумит далекая Полонь, укрывая саваном всех обманутых и погибших, как плещется у берега плотва.
«И смерти не будет уже, – подумал Павел. – Ни плача, ни вопля, ни болезни не будет, ибо прежнее прошло…»
Над крышами, покачивая хвостом, проплывала небесная рыба. Путь ее лежал на запад.
Конец
июль 2017 годВ оформлении обложки использована работа автора Евгении Сергеевой.
* * *
Эта книга – участник литературной премии в области электронных и аудиокниг «Электронная буква – 2019». Если вам понравилось произведение, вы можете проголосовать за него на сайте LiveLib.ru до 15 ноября 2019 года.
Примечания
1
Майков Л.Н. Великорусские заклинания – Свеча Времени
(обратно)


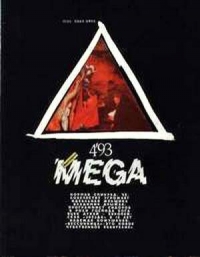




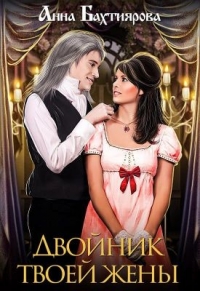

Комментарии к книге «Ихтис», Елена Александровна Ершова
Всего 0 комментариев